Ярослав Гжендович Владыка Ледяного сада: Ночной странник
Jarosław J. Grzędowicz
Pan Lodowego Ogrodu. Tom 1
Публикуется с разрешения автора и при содействии Владимира Аренева и Сергея Легезы
© 2005 by Jarosław J. Grzędowicz
© Сергей Легеза, 2016, перевод
© Михаил Емельянов, иллюстрация, 2017
© ООО «Издательство АСТ», 2017
Глава 1 Ночной странник
Прежде чем в дом
войдешь, все входы
ты осмотри,
ты огляди —
ибо как знать,
в этом жилище
недругов нет ли.
Речи Высокого[1]Рассказывали, что вышел он прямо из волн Полуночного моря и что зачала его их ледяная, яростная безбрежность, а на свет выпустила обрюхаченная морем утопленница.
Рассказывали, что вышел он из Пустошей Тревоги, где возник как плод чьей-то нечистой мысли, непохожий на другие Тени. Непохожий, ибо во всем подобный человеку.
Говорили, что был он сыном Хинда, бога воинов, зачатым со смертной женщиной во время одного из странствий бога по миру в облике бродяги.
Говорили, что породила его молния, убившая стоявшую на дюнах Сикрану Соленый Ветер, дочерь великого мореплавателя Стигинга Кричащего Топора. Стояла та на прибрежном камне, одинокая в бурю, высматривая на горизонте паруса корабля своего любимого. Мертвая, выпустила она в мир огнь и воителя.
Говорили, что появился он прямо из ночи, едучи на огромном, словно дракон, коне, с ястребом, сидящим на плече, и волком, что бежал рядом.
Говорили разную ерунду.
Было же все совсем иначе.
Правда такова, что выплюнули его звезды.
* * *
– У тебя пятнадцать минут, – объясняет Джофа. Объясняет раз в десятый. Я сижу, пристегнутый внутри кокона, чудесное мое оборудование заполняет все закутки капсулы; вокруг вертятся техники в ярко-красных комбинезонах, кто-то подсоединяет толстый кабель и сыплет проклятиями; взблескивают оранжевые аварийные огни, какой-то механизм то и дело блюет клубами густого пара. Я не готов.
Я не готов.
– Помни. Ты должен отойти как минимум на полкилометра и пригнуть голову. Взрыв не будет очень громким. Капсула испарится, но тебя может ударить камнями, кусками дерева или еще чем. Будет две ударные волны. Первая – нормальная, от взрыва, потом – возвратная, секунды через три.
Первый рык сирены. Капризный дамский голос начинает отсчет. Теперь – каждые десять секунд от шестисот. Я не готов. Сейчас меня отстегнут, а потом мы отправимся в столовую.
Не понимаю, как я мог в такое влезть. Джофа поправляет какие-то кабели снаружи капсулы и украдкой всовывает в тюк пачку табака.
– Как вы себя чувствуете? – В наушниках металлический голос Новикова. – У вас повышается пульс.
– Даже не знаю, с чего бы, – цежу я в микрофон. Глупый коновал.
Чувствую себя как древний мертвый владыка. Привязанный к трону, который через минуту охватит пламя. Передо мной шествует процессия плакальщиков с дарами. Я уже получил швейцарский складной нож и бутылку палинки от кого-то из земляков. Все нелегально. Артефакты. Анахронизмы. Руководство миссии старалось, чтобы у меня не было даже зажигалки.
Дары посмертные.
Не хватает только плакальщиц.
Они должны были побеспокоиться о плакальщицах.
Пятьсот секунд.
Я не готов.
– Ты как? – Это Дейрдре. Рыжие кудряшки спрятаны под капюшоном, красивые губы дрожат, в глазах – блеск драгоценных камней.
Все же одна плакальщица у нас есть. Не задалось наше короткое знакомство, рыжая моя Дейрдре из Дерри (что некоторые ошибочно зовут Лондондерри[2]). Да ты и сама знала, что у нас ничего не выйдет. Эдакий прифронтовой роман.
Я лишь поднимаю большой палец. Цифрал пока неактивен. Не могу отрегулировать свои эмоции и изобразить крутого. Мне тоже жаль, рыжая Дейрдре из Дерри.
Но слишком поздно, даже чтобы просто что-то говорить.
Это мой костер сейчас подожгут.
А ты не поцелуешь меня через маску.
Так уж вышло, что именно ты – настоящая коммандос, Дейрдре. Истинный «морской котик». Лейтенант Морского отряда специальных операций. А я – лишь гражданский шпак. Доброволец в разведке, прошедший годичное обучение.
Ты круче меня.
Вот только сейчас я исчезну в облаке пламени, а ты отправишься в столовую.
Протягиваю руку, Дейрдре хлопает меня в ладонь. Так между нами повелось. Нет времени для сцен.
А потом кто-нибудь умирает без прощания.
Восьмеро до сих пор не вернулись. Я должен лишь проверить, что с ними произошло. Скорее всего – идентифицировать тела. Прошло два года. Однако, если выжили – вытащить их, исправить то, что они наворотили. И вернуться.
И я вернусь, хрен вас подери.
Триста пятьдесят.
Клапан капсулы опускается под визг сервомоторов, он выпуклый, словно хитин майского жука. Слышу щелчки затворов.
Дейрдре целует семнадцатислойное стекло треугольного визора. На бронированной поверхности остается след ржаво-коричневой помады.
Красивые губы Дейрдре отпечатываются на моем саркофаге, как подсыхающая кровь.
Стальной скрежет в верхней части капсулы. Щелчок, с которым челюсти входят в причальное гнездо.
Все контрольные экраны сияют зеленью и голубизной.
– Ночной Странник, здесь Контроль. Начинаем сброс. Как чувствуешь себя, Драккайнен?
– Готов.
– Ты уже на транспортной шине, движемся в сбросовую камеру.
– Понял.
Всю дорогу Контроль опрашивает меня согласно процедуре и показаниям приборов – наверняка, просто чтобы чем-то меня занять. Это ведь не челнок.
Это посадочная капсула. Она – устройство. Я ни на что не влияю. Старт и посадка произойдут автоматически.
Я должен стиснуть зубы на капе загубника и помнить о дыхании. Максимально расслабиться, думать о Европе и стараться получить от всего этого хоть немного удовольствия. И только.
Что-то вроде пневматической почты.
– Как чувствуешь себя, Нитй’сефни?
Нитй’сефни – Ночной Странник. Мой позывной. Произнесенный на горловом наречии Народа Побережья. Кроме меня, может, человек двадцать знают этот язык. Узнаю голос. Это Лодовец. Шеф миссии. Симпатичный дядька с добродушным, совершенно гуманитарным обликом профессора философии из какого-нибудь уважаемого университета. На самом деле беспощадный, словно клубок кобр, дьявол, который и искусил меня присоединиться к программе. Теперь он решил, что должен попрощаться лично. Что это наверняка произведет на меня необходимое хорошее впечатление.
– Как груз, шеф.
– Будет как в луна-парке. Тебе понравится.
Коридор, по которому движется мой кокон, освещен флуоресцентными кольцами ламп, за мной закрываются шлюзы.
Я сам хотел этого.
Не вижу звезд.
Не вижу также и планеты, которая скоро станет моим единственным миром.
Когда отворяется шлюз сбросовой камеры, это все находится внизу, под капсулой. Я могу смотреть на стену, раз за разом окатываемую оранжевым светом аварийной лампы.
В наушниках – шум. Контроль проверяет последние параметры, напыщенная сука начинает посекундный отсчет. Что за голос – обиженная валькирия накануне менструации. Надеюсь никогда ее не встретить.
– Хочешь что-то сказать?
– Я невиновен.
Последний звук моего мира – лязг стыковочных узлов, скользящих по броне, и сдавленный рокот движка.
Я не готов…
А потом уже нет никаких звуков снаружи, кроме голосов в наушниках. Я издаю радостный ковбойский вопль и падаю.
Такое раскованное поведение – традиция. Я отважен, крут и бессмертен.
Это в самом деле начинает мне нравиться.
Почти ничего не рассмотреть. Все клокочет, звезды размазываются зигзагами, однако на миг я вижу «Манту», висящую на небосклоне подобно широкому наконечнику киберийской стрелы. Затем она моментально уменьшается и превращается просто в звездочку, не отличимую от прочих. Прощайте, налоги, процедуры и предписания. Прощай, цивилизация. Прощай, сладкая Европа. Пусть твой бык унесет тебя к чертовой матери.
Конец.
И хрен вас всех подери.
Я стараюсь дышать нормально, но мне кажется, что кишки вылезают у меня через горло. Кожа лица растягивается в гримасе, и я начинаю слепнуть. Чувствую, как кровь отливает от пальцев, как деревенеют ноги.
На треугольном визире вижу отпечатавшиеся губы прекрасной Дейрдре из Дерри. Кровавый след от поцелуя остался, но вот и его сдирает кокон яростного огня, расцветающий вокруг капсулы.
* * *
Никто меня не ждет. Высокий скалистый берег моря чист до самого горизонта. По границу поросших редкими кустиками соленых топей, за которыми маячит темная линия леса.
Полное безлюдье. Это хорошо. Если бы кто-то повстречал меня здесь – пришлось бы его убить.
И это не шутка.
Миссия сугубо секретная. Официально нелегальная. Весь этот мир – под абсолютным карантином. С момента краха исследовательской программы карантин безоговорочен. Первая антропоидная цивилизация в исследованном космосе. Бесценная. Они не должны узнать, что неодиноки во Вселенной. Нам же не позволено копаться в их культуре, что-то исправлять. Кто мы такие, чтобы судить, и все такое прочее. Все, что я делаю, само мое существование насилует предписания, торжественно заверенные в Брюсселе. Лодовец, с точки зрения идеологии невмешательства, – преступник. Рискует вызвать культурный шок, чтобы спасти нескольких людей. Нескольких личностей. Ну, может, еще хочет понять, что здесь вообще происходит.
И все – противу любых директив.
Мне это совершенно не мешает.
Я приземляюсь с точностью до одного метра в каких-нибудь пятидесяти шагах от края скального обрыва. Парашют типа «крыло» и гравитационные маневренные движки.
Жду пять минут, пока поверхность не остывает настолько, что можно выйти, а потом отстреливаю защелки крышки и отстегиваю пояс.
Капсула, стоящая в кругу выжженной травы, выглядит как треснувший плод.
У меня мало времени. Не могу глазеть на окрестности. Все следы моего прибытия должны как можно быстрее исчезнуть.
Нужно вытащить все оборудование, какое я должен прихватить с собой. Сложить парашют и затолкать его в люк. А потом нагрузиться пожитками и запустить отсчет.
Вещи я переношу в щель в скале. Набитые переметные сумы, седло, мешок, оружие. Воздух холоден и чист, просвечен яростным, невероятным пламенем заката. Это единственная чужая планета, которую я видел в своей жизни. Как большинство людей, я никогда не покидал Землю. И потому никак не могу понять, почему все выглядит так повседневно.
Обычно.
Трава как трава. Растения как растения. Слегка чужие, но не больше чем в какой-нибудь Бразилии или Австралии. Небо над головой, закат солнца, морские волны бьют в берег – все совершенно нормально. Как на полигоне в Коста-Верде. Как дома под Сплитом.
Как везде.
Мне жаль парашюта. Несколько десятков квадратных метров фольги. Прочнейшая и легчайшая, чем все, что смогу здесь встретить, ткань. Множество прекрасных веревок, сплетенных из арахнида. На каждой можно подвесить вола. И все это мгновенно обратится в пар, а месяцы убийственных тренировок выработали у меня инстинкт мусорщика: каждая найденная вещь может пригодиться. Поэтому мне нелегко расставаться с парашютом. Теряю его зря и уже вскоре, сражаясь с каким-нибудь непрочным канатом, стану о нем тосковать.
Я поднимаю крышку детонатора, поворачиваю ключ, ввожу код из шести цифр, а потом отгибаю выкрашенную в красное рукоять, поворачиваю ее и вытаскиваю на всю длину.
Ничего.
Вместо квадратных цифр отсчета вижу на экране строки машинных кодов, потом какие-то значки и – один за другим – сообщения об ошибках.
Мне делается горячо.
Одна из загадок этого мира.
Одна из тех, которые я должен выяснить.
Мидгард – смертельная зона для электроники. Здесь все барьеры, которыми дома мы окружены с момента рождения по час смерти, очень быстро начинают колебаться, затем выходить из строя, а потом – умирать.
Первая экспедиция даже не смогла стартовать. Спасательный модуль, который за ними послали, после старта сумел выйти только на орбиту, а минутой позже все оборудование сдохло. Даже свет в кабине погас, а модуль лег в дрейф. Пришлось его вылавливать. Все выжили, но потом пришлось выбросить даже часы.
Челнок, прибывший за последней экспедицией, ждал в условленном месте всего полчаса. Когда вернулся, едва не разбился о стыковочный модуль материнского корабля.
Теперь я не знаю, пущен ли отсчет и просто отказал экран, или команда на самоуничтожение не принята. Если я ошибаюсь, буду сидеть здесь и долбить в клавиатуру, пока гипертермобаррическая бомба не оживет под моими ногами.
Конец миссии.
Чувствую, что полотняная рубаха делается мокрой. Нервно стучу по мертвым клавишам, вводя процедуру задержки, потом перегружаю оборудование ключом.
Оно перегружается, но все идет в три раза медленнее, чем обычно. Снова ключ, коды, ввод. На этот раз отсчет начинается. Некоторые цифры выглядят странно, словно буквы чужого алфавита.
Удостоверяюсь, что отсчет пошел, и галопом несусь к скалам.
Взрыв догоняет меня метрах в двухстах.
Я вижу ослепительный свет и даже не успеваю упасть. Ударная волна сметает меня, будто цунами, и волочет по грязи и мху болота. Рот мой полон грязной воды, одна рука и спина горят, словно облитые кипятком.
Через полсекунды ударная волна возвращается. Воздух заполняет сферу пустоты в эпицентре.
Вывод прост: детонатор сработал после первого раза.
Едва не накрыло.
Вокруг места, где находилась моя капсула, образовалась округлая выемка, словно выгрызенная в скале, и кольцо обугленной травы. Над всем этим встает грибоподобное облако, как миниатюрный ядерный взрыв.
И приказал сжечь на берегу все корабли.
За кольцом скал, где я сложил оборудование, сажусь на плоский камень и опираюсь спиной о гранит. Смотрю в темное небо. Слушаю чужие тоскливые крики птиц.
В нашем мире непросто найти пустошь, в которой не было бы ничего, кроме природы, неба над головой и сидящего на камне человека. Человека, которого обязывает только закон, находящийся в его сердце. Всю мою жизнь, где бы я ни оказался и что бы ни делал, мною управляли миллионы правил. Тысячи чиновников форматировали любую мою мысль и поступок. Для всего находилась процедура. Меня все время пытались контролировать и оберегать от любого риска. Всю жизнь я ощущал себя так, словно мне двенадцать лет. И словно у меня миллион родственников.
Здесь меня никто не опекает. Могу напиться, подвернуть ногу, взлететь на воздух из-за собственного термического оборудования или провалиться в какой-нибудь колодец. Все – на собственный страх и риск.
Боже мой, какое облегчение!
Под кипой вещей я нахожу плоскую пластиковую бутылку палинки «Монастырь» и делаю изрядный глоток, но сперва выливаю пару капель в ладонь и прижимаю руку к земле. Жертва для Хинда, бога воинов. Теперь Побережье Парусов – моя единственная родина. Чувствую вкус слив, которые росли по ту сторону космоса, где-то под Риекой. Вкус адриатического солнца, которое здесь – едва видимая звездочка внутри скромного созвездия, именуемого Ладонь. Невообразимо далеко. Непредставимо. Человек не умеет мыслить астрономическими категориями. Меня предостерегали от этого. Это фатально для самочувствия. Можно сойти с ума.
Словно я – тот, кто собирается сделать то, что сделать надлежит, – являюсь нормальным.
Я раскладываю скромное свое имущество. Все предметы знаю наизусть, тысячи раз держал их в руках. Умею собрать и разобрать даже во сне.
Сперва я не понимал, для чего все это. Считал, что надо иметь нормальное оружие. Хотя бы пистолет. Конечно, я могу напоминать туземца, но зачем морочить голову куче людей, чтобы под руководством ксеноэтнологов шить мне сапоги из специальных модифицированных шкур с помощью клонированных сухожилий, если я могу надеть крепкие военные или туристические берцы за пятьдесят евро? Кому какое дело? Неужто я так войду в легенду как Человек С Волшебными Берцами и изменю культуру этого мира?
Почему мне нельзя забрать парашют? Я бы завернулся в тонкий полотняный платок, словно в пеленку. Несложно подпоясаться бечевкой, свисающий сзади прямоугольный кусок сложить так, чтобы образовалось два треугольника, и протянуть его между ногами, а потом завести конец под бечеву и вытащить наружу. Это просто.
И неудобно.
У меня груз, который обременил бы и крепкого коня, но нужно управиться. Меня научили обходиться без самого необходимого, но неизвестно, как долго придется здесь развлекаться. А каждый предмет увеличивает шансы на выживание.
Я буду считаться погибшим во время выполнения приказа, если меня не найдут через год на том же самом месте или если я не подам признаков жизни.
Электроника погибает тотчас же, но бионические системы как-то да действуют. Меня это не удивляет. В конце концов, люди и животные чувствуют себя здесь прекрасно.
Я вытягиваю контейнер с радиолярией. Мой талисман. Моя животинка.
Мой передатчик.
Металлический цилиндр, покрытый паутиной орнаментов. Я нажимаю несколько украшений в установленной последовательности – голову змеи, лист клена, колесо повозки, глаз жабы. Внутренний контейнер с шипением высовывается, радиолярия бессильно приподнимается в зеленоватом желе, словно большая медуза. Щупальца свободно свисают, шляпка антенн окружает ее колокол, по склизкому телу пробегают крохотные искорки люминесценции. Передатчик спит и ждет своего часа. Однажды мне придется вызывать помощь, отчитываться о завершении миссии – пересылать свой последний рапорт. Тогда радиолярия проснется. Отправит мое сообщение прямо на наблюдательный спутник. Вероятно, это будет стоить ей жизни.
Во время тренировок выяснилось, что для похода мне нужно облачиться в полный доспех. Иначе я не смогу забрать с собой все. Он не тяжелый, но сам по себе – страшно неудобный. Запихан в пузатый тюк, а мне необходимо взять еще переметные сумы, скрученный в скатку плащ, оружие, щит и седло. Будь это нормальный здешний доспех, я едва ли смог бы в нем передвигаться. Благодаря современным материалам, которые успешно пытаются имитировать кованую сталь, плетеные ремешки и крепкую кожу, во всем нем, включая шлем, едва наберется двенадцать килограммов. Полный доспех обычного воина с Побережья весит в два раза больше. Я надеваю наголенники, наплечник, кольчугу, полный панцирь и шлем. Подвязываю пояс с оружием и впервые вытаскиваю меч.
Его изготовили на предприятиях «Нордланда», выпускающих гравитационные боевые вертолеты. Он не похож на мечи Людей Побережья. Он немного длиннее, у него рукоять вдвое больше обычного и без ярко выраженного навершия, с квадратной щитовой гардой и односторонним клинком, выращенным как мономолекулярная частица. Его форма слегка напоминает синоби-кэн – меч тайных убийц старой Японии. Я предпочел бы самурайский меч катану, но мой боевой инструктор с помощью нескольких болезненных примеров доказал мне, что это глупый каприз. Вместо этого я получил более универсальный инструмент, который годится для разных техник. Могу фехтовать, сражаться в стиле кэндзюцу или рубить, словно тамплиер.
Мачете я получил дополнительно, как обычный инструмент. Оно настолько же простое и технологически совершенное, как и меч. Однако в парафеодальных культурах, как эта, меч не просто вещь. Он не только стоит
кучу денег. В нем заключена честь воителя, его удача, духи жертв, некий бог – персонально – и дьявол знает что еще. Если я начну рубить им сухие ветки для огня или копаться в земле, получу на свою голову проблемы или стану посмешищем. В любом случае – привлеку к себе ненужное внимание.
Есть еще нож, немного бивачного оборудования, теплая одежда, запасные сапоги, зимние сапоги, раскладной лук, стрелы, овальный щит из ламината и конская упряжь. Проклятущее седло. Оно совершенное и легкое, со множеством тайничков и сумочек, но для транспортировки, пожалуй, нет ничего менее удобного.
Шлем, конечно, на голове. Переметные сумы сконструированы так, что я могу повесить их на плечо – одну впереди, вторую сзади – и связать по бокам. Колчан со сложенным луком – на поясе справа. Мачете – под клапаном сумки, висящей на груди.
Седло в конце концов я гружу на загривок, уперши внутренним чепраком о щит; одна его сторона входит между сумкой и задней частью шлема.
Вот он я.
Иду.
Груженный, словно дромадер, в полном вооружении и с седлом на загривке, выгляжу как Труляля и Траляля в одном лице. Я спотыкаюсь на болотистом, полном валунов и засохших деревьев пространстве, позваниваю снаряжением и двигаюсь в сторону леса, который должен скрыть всю эту беду.
Царство за коня.
Опускается тьма. Я решаю пробудить цифрал.
Цифрал. Мой паразитарный ангел-хранитель, выкормленный в тайных лабораториях «Нисима Биотроникс» для Морского отряда специальных операций.
Единственный элемент снаряжения, который я наверняка не потеряю и без которого здесь мне будет непросто выжить.
Он превращает меня в сверхчеловека. Это благодаря ему я вижу в темноте и слышу мышиный писк с двухсот метров. Это он в минуты опасности вбрасывает в мои вены гиперадреналин, который ускоряет мои движения и реакции. Благодаря ему бряцающее лопотание Людей Побережья или горловое бормотание амитраев превращается для меня в родной язык. При необходимости он обезболит меня, вылечит, передаст карту под закрытые веки или прицел на сетчатку глаза.
Только благодаря ему за год обучения я выучил столько, сколько в стандартной ситуации изучал бы лет двадцать.
Без этого проклятущего паразитарного гриба в моем мозгу вся миссия была бы только дорогостоящим самоубийством.
Ввели мне его через нос.
Тогда он был всего лишь зерном.
Он растворил свою оболочку и превратился в личинку не больше зародыша малярии. А потом путешествовал в кровеносной системе, пока не добрался до гипоталамуса. Там он угнездился и начал расти, кормясь моей кровью.
Когда двенадцать лет назад в глубокой тайне испытывали прототип, моя любимая родина голосом некоего обезумевшего еврократа настояла, чтобы цифрал следил, дабы солдаты действовали по уставу, согласно процедурам и соответствующим предписаниям. А лучше всего, чтобы оставались послушными. Подозреваю, мечтал он о Европе, в которой нечто подобное привьют каждому новорожденному. Счастливцы-тестеры были из отряда «Фальширм’ягер». Несколько коммандос погибли во время полигонных испытаний, а двое вышибли себе мозги, прежде чем им удалось деактивировать имплантаты. Трое оказались в дурдоме.
Я панически боялся, когда его в меня вводили.
Они объясняли, что это шестая, прекрасно оттестированная версия. Что это лишь вспомогательная система, элемент, который не станет вмешиваться в мою личность. Просто внутренний компьютер. Он сделает доступными временно неиспользуемые части мозга и позволит управлять процессами, на которые обычно мы не можем влиять. Что в случае чего все можно вернуть назад. Если его деактивировать, он сдохнет и будет реабсорбирован организмом. Твердили, что они знают что делают.
Я им не верил ни на грош.
Панически боялся.
А потом цифрал активизировался и лишил меня страха.
Это первое, что он сделал. Убил во мне способность к обычному человеческому испугу. К панике или истерии. Я больше не получу милого человеческого невроза и не буду просыпаться с чувством беспокойства, ощущением неопределенного несчастья, как бывает с нормальным человеком. Перед лицом опасности я до последнего прикидываю, думаю и планирую. Я бываю обеспокоен или испуган, но не могу испытывать парализующий ужас. Не умею. Когда не происходит ничего особенного, я безмятежно спокоен. Не переживаю наперед.
Я думал, что он превратил меня в психопата, и сразу ринулся к Лодовцу.
Меня обследовали. Цифрал просто поставил мне фильтры. Я могу любить, вожделеть, сочувствовать. Мне может быть грустно. Я могу испугаться. Высшие чувства остались. Но негативные эмоции не могут вырастать во мне до таких размеров, чтобы сбить меня с ног.
Лодовец предостерегал, что это может меня убить. Что мне, получается, необходимо обрести в два раза большую рассудительность, чем остальным, поскольку эти механизмы – испуг, паника – природные предохранительные системы, вытекающие из инстинкта самосохранения.
Только и того, что с некоторого времени он у меня в дефиците.
И лучшее тому доказательство – что я согласился принять участие в миссии.
Есть и плохие стороны. Порой ускорение реакции не слишком удобно. Когда гиперадреналин попадает в кровь, можно пробить рукою дверь, которую лишь хотел открыть, и при этом сломать себе кости. Звуки занижены на несколько октав и плохо различимы. Не дай бог в таком состоянии хлопнуть в ладоши. Можно обрезать себе пальцы, просто ухватившись за шнурок.
Все мы, кто учился в замке Даркмур, после активации цифрала боялись касаться женщин. Это ведь тоже – эмоции. Мы рассказывали друг другу легенды о том, как некий коммандос якобы разорвал на куски дамочку в приливе страсти. Впрочем, в группе были и девушки. Две.
О том, что происходит, когда встречаются двое с имплантатом, ходили легенды.
Как обо мне и Дейрдре.
К счастью, это именно легенды.
Когда цифрал благословил меня даром языков, получив увольнительное, я отправился в паб в Аксенхилле – и не сумел заказать пива. Бормотал на смеси языков Побережья и кебирийского, вставляя хорватские, финские и польские ругательства. Потом как-то отрегулировалось.
Ноктолопия тоже кажется удобной – до того момента, пока не вылезешь из темноты в источник света. Зеницы реагируют мгновенно, цифрал тоже, но рисунок на сетчатке остается на пару минут. Дейрдре как-то ночью полезла в холодильник с подсветкой в глазах и отворила его. Зрение вернулось к ней только к завтраку.
С другой стороны, осознание, что, когда нужно, ты можешь голыми руками перехватить летящую стрелу или попасть ножом в осу на стволе – помогает. Позволяет выдержать. Мое задание – сбор информации. Главное мое оружие – мозг. Так меня учили. Но физическое превосходство дает совсем другое душевное состояние.
Солнце заходит. Я бреду через топь, ступая у комлей засохших деревьев, прыгаю по валунам и камням, балансируя горой груза на загривке. Рубаха под доспехом, кольчугой и кафтаном пропиталась потом. Спина, обожженная при взрыве, сильно печет. Темный густой лес, настоящая стена обомшелых стволов, маячит в нескольких метрах от меня. Я останавливаюсь на прогибающемся ковре мха, смотрю еще раз на морской горизонт над краем скалы и активирую цифрал.
* * *
Уже подступали ранние сумерки, когда Вуко Драккайнен оказался между деревьями. Лес был неприятен. Низкий, спутанный, полный рахитичных деревьев с искореженными стволами, поросшими бородатым лишайником. Где-то в ветвях покрикивали птицы.
Драккайнен двигался плавным, размеренным шагом, одной рукой фиксируя рукоять меча, а второй придерживая взгроможденное на загривок седло, цепляющееся за ветки. В этом лесу не было троп. Деревья, умершие от старости, падали в подлесок, преграждая дорогу, или цеплялись за кроны ближайших соседей, повисали, спутавшись ветвями, обрастая грибами и лишайником, пока не сгниют. Настоящие джунгли.
Через час он замерил скорость движения и решил, что так до удаленной на восемь километров исследовательской станции будет добираться еще минимум пару часов.
Конечно, существовала вероятность, что, добравшись до места, он получит чай и бутерброд с ветчиной. «Мы научились делать местный хлеб! Думали, что уже никто за нами не прилетит». Тогда миссия будет завершена в два дня, не считая времени, ушедшего на планирование, обучение и подготовку.
Дорога тянулась. Лес был монотонным и скучным. Одни и те же черные изогнутые стволы и неряшливые фестоны колышущегося на ветру лишайника. Пахло мокрой грибницей, трухой и – остро, мускусно – маленькими грызунами.
Он взглянул на мир в инфракрасном диапазоне. Немного от скуки, а немного оттого, что лес начинал тонуть во мраке. Подкрашенные зеленью деревья не стали красивее, зато проявились похожие на маленьких капибар грызуны, прячущиеся в подлеске и поблескивающие расплавленным серебром глазок, а также прыгающие по ветвям птички, снующие как зажигательные пули насекомые и змеи, таящиеся в зарослях.
Марш действительно затянулся на три часа, и, когда он добрался до места, опустилась ночь. В пейзаже вокруг Странника ничего не изменилось. Просто в какой-то момент он остановился и произнес: «Здесь».
Он знал, что находится в паре десятков метров от расчищенной площадки на вершине холма, где был построен крытый гонтом бревенчатый дом, окруженный палисадом и называемый исследовательской станцией «Мидгард-II».
Драккайнен снял с себя неудобное барахло и тщательно уложил его между двумя прогнившими стволами, маскируя разлапистыми листьями, похожими на папоротник. Стояла тишина. Птицы смолкли, только время от времени слышался протяжный рев ночного хищника.
Он сидел меж папоротников, ждал, пока высохнет мокрая полотняная рубаха, и слушал. Ветер не приносил никаких знакомых звуков. А с такого расстояния он не мог не услышать треска огня, бряцанья вилок, ложек и ножей, разговоры. Ведь самое время для ужина на исследовательской станции. Однако никто не разговаривал. Мертвую тишину прерывал лишь едва слышный странный звук. Что-то слегка постукивало и клокотало – на самой границе слышимости.
Зато был отчетливый запах падали. Острый и тошнотворный одновременно – его невозможно ни с чем перепутать.
Минуту он поводил головой, принюхиваясь, пока не установил направление. Смердело как раз со стороны станции. Не так сильно, как могли бы вонять человеческие останки, и тем более – восемь трупов, но все же.
Может, просто забытые припасы.
Он отложил щит и шлем. Перекинул меч за спину и проверил, удобно ли дотягиваться до рукояти. Затем подтянул все пряжки и несколько раз подпрыгнул на мху, проверяя, не звенит ли чего. Голову повязал косынкой, а потом, найдя под корнями лужу, вымазал лоб и щеки грязью.
Станция стояла на холме, поросшем стелющимся по земле кустарником. Драккайнен не замечал никакого движения. Видел только щербатый, не слишком высокий частокол – словно ряд испорченных зубов – и провалившуюся посередине крышу. Не было ни дыма, ни огня, ни малейшего движения. Станция выглядела давно покинутой. И все же он чувствовал беспокойство.
Во-первых, по всему склону холма, на расстоянии десятка метров от палисада лежали мертвые животные. Они окружали это место. Крысы, кабаны, олени, волки, даже птицы. В разной стадии разложения. Он видел кости, перья, куски плоти и меха. Большинство животных изрублены или разорваны. Ни одно толком не освежевано и не разделано. Зато все без голов.
Кроме того, на холме было градусов на пять холоднее, чем в других местах. Эдакое пятно холода и вьющегося лентами тумана с эпицентром на станции, выделяющееся голубоватым свечением.
Он прокрался, бесшумно идя от куста к валуну, от валуна к дереву – словно кот на охоте. Обезображенные останки лежали повсюду, некоторые светились зеленоватым фосфоресцирующим теплом, производимым процессами гниения. Он решил отфильтровать запах падали, поскольку из-за него больше ничего не чувствовал. Чем ближе к станции, тем становилось холоднее: он видел вылетающие изо рта облачка пара.
Ворота, сбитые из кривых, щелястых досок, выломали давным-давно. Вот только выломали изнутри. Он прижался спиной к частоколу и передвинулся ближе ко входу, легонько касаясь оплетенной ремнями рукояти меча. Обычно ворота запирал толстый брус – теперь подгнивший. Не меньше года назад его переломил сильный удар, будто кто-то въехал в ворота вездеходом. Но ученые не располагали вездеходами.
Он наклонился к выломанным доскам и быстро заглянул во двор. Пусто. Разгром. Руины.
Внутри палисада стоял дом, теперь пустой, частично разрушенный и темный, посреди подворья – квадратный колодец с журавлем и несколько меньших по размеру строений под самой линией частокола. Все это успело превратиться в кучу балок и камней.
Где-то капала вода, откуда-то доносился легкий перестук, наводивший на мысль о деревянных молоточках. Вне этого царили тишина и мертвенность.
Драккайнен скользнул внутрь, словно кот, осторожно ступая по дорожке, сложенной из мокрых трухлявых досок.
Затрещало снова – лишь теперь он их заметил. Они висели на стропилах дома, на ветках дерева, растущего в центре двора, на заостренных столбах частокола. Ветровые трещотки: колыхаемые ветром небольшие конструкции, сплетенные из тонких ремешков и травы.
И костей.
Трубчатые кости, ребра, черепа небольших зверьков. Они висели на ремешках, украшенные пучками перьев, колеблемые дыханием ветра, и сталкивались, издавая тихий навязчивый звук, который он слышал уже некоторое время. Постукивание в разной тональности, складывающееся в случайные мотивчики. Звук, милый слуху, если бы не его жутковатый источник.
Он скользнул в избу. Пахло старым деревом, давно выветрившимися реактивами и плесенью. Длинное внутреннее помещение делилось на несколько комнаток. Он расширил зрачки, увеличивая восприятие света, благодаря чему различил – как в сером сумраке – подробности. Если бы не цифрал, в доме было бы темно словно в колодце. Деревянные скамьи под стенами, длинный, сбитый из бревен стол посередине. Очаг.
И за этим столом, над металлической кружкой кто-то сидел. Неподвижно, как памятник, склонившись вперед и упершись локтями в столешницу, словно в раздумьях над чашкой чая. Кожа его казалась гладкой и неестественно серой, чуть лоснящейся в свете звезд, проходящем сквозь дырявую крышу.
Не издав ни звука, Драккайнен обошел стол и присмотрелся к сидящему с другой стороны: ободранный от мяса череп, ряд ощеренных зубов, лесенка ребер, кости второй руки. Труп.
А скорее – полутруп-полустатуя. Выглядел так, словно кто-то окунул его правой стороной в подобие бетона, а потом усадил за стол. Вуко протянул руку и слегка коснулся его предплечья. Оно было холодным и твердым. Монолитно серым, с примесью мелких кристалликов. Гранит.
Отполированная и тщательно вырезанная статуя правой стороны мужского тела. Левая разложилась, остался только скелет с высохшими лоскутьями кожи и мышц, кусочками скальпа с длинными светлыми волосами, все еще держащимися на черепе.
Он присел и внимательно осмотрел место, где заканчивался камень и начиналось тело. Там, где были видны кости, они постепенно переходили в камень, будто сплавленные с ним. Это и правда статуя? Кто сотворил подобное? Каким образом? И – зачем?
На столешнице перед мужчиной он заметил следы крови. Коричневые, темные кляксы, давно впитавшиеся в дерево. Он потер их, приблизил палец к носу и принюхался. Затем, превозмогая отвращение, вырвал волосок из скальпа мертвеца и тоже провел им под носом. Халлеринг. Доктор Йоханн Халлеринг из университета в Мюнхене.
Наполовину превращенный в статую.
Прими, Господи, его душу.
Он обыскал лабораторию в надежде найти какие-нибудь заметки, но внутри здания царил разгром. Его центр пострадал сильнее всего. Выглядело так, словно здесь что-то взорвалось и проломило крышу, после чего рухнули опорные столбы. Он нашел кое-какие вещи, ящики с остатками армейских рационов в пакетах, истлевшие клочья одежды. Женскую губную помаду, растоптанное зеркальце.
Они не могли пользоваться здесь компьютерами – никаких дисков и диктофонов. Приходилось все записывать на бумаге. Значит, где-то должны остаться протоколы исследований, заметки, записки. Но ничего подобного он найти не смог.
Что же здесь произошло? Нападение аборигенов?
Помещения станции выглядели специально разрушенными, но не ограбленными. Драккайнена научили мыслить категориями Людей Побережья – по крайней мере, настолько, насколько возможно. Он знал наверняка: будь он на их месте, не оставил бы, например, прекрасную стальную секиру лежать на земле. Забрал бы ее, столовые приборы, канистры, зеркало из примитивной ванной комнаты и множество других вещей. Хотя бы дамскую косметичку, в которой поблескивала горсть бижутерии. Вынес бы все, что смог, и только потом рассортировал бы, выбрасывая ненужное.
В лаборатории, кроме прочего, стоял длинный крепкий стол, освещаемый полевыми лампами на жидком топливе. На нем – коллекция разнообразнейших местных предметов.
Они были рассортированы. Отдельно пуговицы, пряжки, крючки – все, что использовалось как украшения и застежки в одежде. Отдельно украшения, мужские и женские. Ожерелья, амулеты, фибулы, кольца. Камни, серебро, немного золота. Шкатулка, полная монет. Вперемешку серебряные секанцы, грубые кроны Побережья, чеканная императорская монета из Амитрая, квадратные кебирийские тигрики. Много. Для любого местного – изрядная добыча.
Единственными записями, на которые он наткнулся, была стопка рисунков на технической кальке, изображавших орнаменты и украшения одежд. Кроме этого – ничего. Никаких заметок, протоколов. Ничего.
Когда-то здесь кто-то сидел. На складном стуле, под теплым светом спиртовки, сортируя образцы предметов. Пил что-то из металлической кружки, купленной некогда в спортивном магазине, – теперь она стала матовой и изнутри поросла заскорузлой темной массой, которая уже не была даже плесенью.
Он что-то услышал… Вдруг именно то, что произошло с Халлерингом? Может, все случившееся сопровождал такой же шум? Резко поднялся, опрокинув стульчик. Тот сложился и упал.
Части станции, которые не были разрушены, выглядели покинутыми, словно корабль, дрейфующий по Бермудскому треугольнику. Сбитая постель на гамаке, устроенном из ошкуренных жердей и матраса, сплетенного из натянутой между балками бечевки. Он обнюхал спальный мешок, закрыв глаза и глубоко вдыхая воздух.
Плесень… пыль… опилки, частички гниющих балок и где-то глубоко, едва ощутимые, частички ДНК. Несколько клеток эпидермиса. Слюна. Остатки семени. Лезерхазе. Нигель Лезерхазе.
Он тщательно обошел все жилые помещения, обнюхивая истлевшие остатки одежды, старомодные бритвенные лезвия, пришедшие в негодность вещи. Нашел следы всех восьмерых.
Но только следы.
Снаружи снова раздался гулкий звук, будто что-то прокатилось по деревянным балкам.
Он взялся за торчащую над плечом рукоять меча и осторожно выскользнул из дома, прижимаясь спиной к бревенчатой стене. По сравнению с полумраком дома ночь снаружи казалась ясной. Благодаря усилителям света он видел все почти как в серый, хмурый рассветный час, но там, куда свет звезд и рассеянное атмосферное сияние не попадали, лежали пятна глубокой темноты.
Драккайнен сконцентрировался, аккуратно ставя ноги в мягких сапогах и удерживая низкую боевую стойку. Одна ладонь – на рукояти, вторая вытянута вперед на уровне точки чудан. Рядом с колодцем, на тропке, выложенной деревянными слегами, перекатывалась пластиковая желтая емкость. Группа не была обязана настолько же жестко, как он, заботиться о врастании в местные условия. Попивали земное пиво из банок, разогревали себе ростбиф с овощами, черпали воду полиэтиленовым ведром.
Что-то мелькнуло на границе тени. Слишком быстро для человеческого существа. Словно низколетящая птица.
Решил, что оно – чем бы ни было – уже знает о его присутствии. Все эти останки вокруг холма оставили недавно. Некоторые трупы совсем свежие. А последним следам ученых уже пара лет.
Медленно, осторожно он обошел избу, но ничто не шелохнулось.
Позади дома, куда он еще не заходил, наткнулся на статую. На этот раз настоящую. Из полированного камня, видимо базальта. Несомненно, местной – и умелой – работы. В виде слегка стилизованной фигуры танцующей беременной женщины с ощеренными треугольными зубами – как у акулы. Из одной руки ее торчал предмет, напоминавший серп, всаженный в проверченную дырку так, чтобы его можно было легко извлечь. Во второй руке женщина держала каменную миску. Статуя имела метра полтора в высоту. Ее наверняка приволокли в исследовательских целях, хотя она и была дьявольски тяжела. Но под ее приподнятой в танце ногой возвышалась горка черепов. Птичьих, звериных, разной величины и формы.
И два человеческих.
Он осторожно присел – так, чтобы иметь возможность моментально броситься в бой, и аккуратно раздвинул кости. Первый череп, который достал, был небольшим, а челюсть куда-то исчезла. Прекрасно очищен насекомыми: их острое кислое присутствие он отчетливо ощущал; выцветший под солнцем, омытый дождями. Но следы аминокислот были ощутимы, поэтому он сосредоточился, стараясь выхватить дремлющие где-то под спудом, напоминающие запах горелых перьев следы нуклеотидов.
Нашел их, а потом какое-то время ждал, пока его превращенная в базу данных часть мозга различит индивидуальный рисунок. Пока знал только, что это ДНК пахнет знакомо. Мажена Завротилова… Специалистка по ксенозоологии.
Он дотронулся рукой до статуи. Миску и поднятую ногу обильно пятнали ржавые следы и потеки.
На него кинулись сбоку.
С внезапным, почти поросячьим визгом – что-то темное, размазанное, зубастое.
Драккайнен испугался, а мир внезапно замедлился, визг превратился в более низкий звук – словно от расстроенной трубы. Падая, он заметил, как растопыренная худая лапа с крупными, изогнутыми, словно крюки, когтями, пролетает мимо его лица. Воздух загустел, точно вода, он ухватил это не пойми что примерно за загривок, успев удариться бедром о землю. Подгнившие слеги уступили тяжести тела, он отклонил голову от щелкающих, словно зубья капкана, челюстей и, кувыркнувшись, ударил подошвой в бедро противника, а потом вытолкнул его над своим телом. Бросок по дуге. Выполненный из неудобного положения, но вполне результативно.
Он выстрелил вверх обеими ногами, вскакивая, словно на пружине, сразу в боевую стойку, и одновременно извлек меч – с низким скользящим звуком, напомнившим о тормозящем трамвае.
Тварь еще плыла в воздухе, боком, неловко загребая конечностями. В слабом свете ночи ее кожа слегка поблескивала. Приземистая, едва метра полтора высотой, она напоминала отвратительно человекоподобную жабу. Ударилась боком о землю, отскочила и проехала метр-другой на спине, но тут же встала – одним резким движением, которое при нормальном течении времени должно было показаться мгновенным. Широкая пасть, словно шрам на плоской голове, выраставшей из плеч, блеснула рядами треугольных акульих зубов.
От руки поднималась пульсирующая боль: краешком глаза Драккайнен заметил несколько узких неглубоких царапин, будто оставленных проволочной щеткой. Как видно, на шкуре твари имелись шипы.
Он поднял меч сбоку от головы в обычном ассо-но-камаэ. Это всего лишь зверь.
Увидел, как мышцы ног создания сжимаются, а после – как оно выстреливает в его сторону, словно гигантская жаба. Видел, как треугольные длинные стопы колышутся в воздухе, как оно раскидывает лапы с выставленными когтями.
Выждал до последнего и ушел от молниеносного удара лапы оборотом, согласно с «правилом вращающегося шара», атаковав наискось, примеряясь так, чтобы разрубить позвоночник. Клинок поплыл сквозь загустевший воздух. Драккайнен с удивлением увидел, что тварь проворачивается в воздухе, уходя от удара, и замирает, развернувшись к нему мордой, почти одновременно с его собственным движением. Феноменальная быстрота реакции.
Существо приземлилось боком, из-под когтей полетели щепки и труха, повисающая в воздухе и медленно, словно взбаламученный ил, опадающая. А тварь сразу напружинилась для следующего прыжка.
Он начал вдох, когда тварь прыгнула. Ушел с линии атаки одним плавным движением и рубанул плоско и так быстро, как только сумел, зная, что может сорвать себе мышцы бедра. По острию поплыла волна дрожи: турбулентность. На этот раз самый кончик на миг в чем-то увяз, он не заметил, в чем именно, поскольку провернул ладонь на обратный хват, острием вниз и хлестнул накрест, описывая в воздухе пологую восьмерку. Попал снова – опять самым кончиком. Отступил на шаг и снова сменил хват. Вдох завершился.
Теперь выдох. Наблюдая за миром в замедленном времени, можно забыть о дыхании.
Нечто продолговатое медленно проплыло, кувыркаясь, в воздухе, словно пребывая в невесомости. Напомнило актинию. Драккайнен взглянул пристальнее и увидел, что это отрубленная лапа. Ладонь с куском предплечья, дрейфующая в воздухе и брызгающая каплями крови, словно маленькими пульсирующими шариками.
Он выставил острие перед собой, а потом поднял над головой. Когти воткнулись в землю, тварь ощерилась в вампирской ухмылке, и внезапно вдоль ее хребта и на голове приподнялся гребень длинных шипов, похожих на иглы дикобраза. Остро запахло муравьиной кислотой и касторкой. Мерзость была еще и ядовитой. Плохо.
Нужно было взять щит и оба наплечника. Лень наказуема.
Тварь выстрелила как торпеда. Ее задние ноги наверняка обладали силой катапульты. Прыгнула, однако чуть в сторону, загребая уцелевшей лапой там, где Драккайнен должен был оказаться при круговом уходе согласно с правилом вращающегося шара. Вместо этого человек отклонился назад, со вскинутым мечом, продолжая твердо стоять на земле. Согнул колени, когти мелькнули у него перед глазами, и тогда, ощущая, как рвутся напрягшиеся до предела мышцы брюшины, он распрямился, и, выпустив воздух в жутком вибрирующем крике, звучавшем как замедленный гром, рубанул наискось, и, уйдя в другую сторону, разминулся с тварью, словно тореадор.
Тварь приземлилась на задние лапы и повернулась.
Отрубленная лапа завершила полет и с мокрым звуком ударила в землю.
Они снова стояли друг напротив друга. Драккайнен тяжело дышал, чувствуя, как пульсируют все мышцы. Не знал, куда именно попал.
Тварь распахнула пасть, и внезапно на ее груди, наискось, появилась темная, лоснящаяся, похожая на узкий шарфик змейка.
Они все продолжали стоять. Бесконечно долго.
А потом голова вместе с одним плечом начала съезжать с корпуса и через миг упруго ударилась о землю.
Время пошло нормально, свет звезд из желтоватой сепии снова сделался зеленым, а туловище свалилось навзничь, ноги задергались. Странник стоял, тяжело дыша, царапины на предплечье пульсировали болью, но действие яда он не ощущал. Все мышцы подрагивали, лодыжку свело судорогой – словно стальными клещами.
Тварь продолжала дергаться на земле, но довольно неуклюже. Конечности подрагивали, все еще дико сверкали глаза, пасть распахивалась и закрывалась, то и дело поднимался какой-нибудь одиночный шип, гребень на голове ежился и опадал. Даже отрубленная лапа продолжала царапать по земле когтями. Перерубленное туловище ритмично пульсировало струйками крови.
Он не мог вспомнить подобного зверя. Большая часть фауны Мидгарда напоминала земную. До определенной степени. Конвергенция – умение приспосабливаться к условиям. Но были это кузены из страшного сна. Медведи: стоя на задних лапах – метров трех в высоту; копающийся в земле травоядный зверь, подобие ленивца, весил почти две тонны, обладал сабельными когтями и пастью, которой мог бы позавидовать и крокодил. Словно на Земле в третичном периоде. Похоже, местный Творец не оставил интереса к зубастым, словно драконы, представителям мегафауны. Могло оказаться, что и эта тварь – прямехонько из «Садов земных наслаждений» Босха – здесь считается обычной жабой.
Нитй’сефни ударил ладонью в гарду меча. На земле перед ним появилась черта крови. Он махнул рукой в небрежном рейсики, провернул рукоять в пальцах и вложил меч обратно в ножны.
– Ульф Убийца Жаб, – произнес негромко.
Вернулся к памятнику и исследовал второй череп. Нашелся Лезерхазе. Бедолага, не вернешься уже в Кембридж.
Тварь, что все еще подрагивала на земле, не давала ответов. Была исключительно опасна и столь быстра, что человек, не обладающий цифралом, не имел бы ни малейшего шанса при встрече с ней, но наверняка это не она расправилась с Халлерингом, превратив тому половину тела в гранитную статую. Это не она прикончила Завратилову и Лезерхазе, поскольку этим людям отрубили головы с помощью острого металлического и достаточно тяжелого орудия. Позвонки сохраняли следы отсечения и дробления. Скорее всего, от плотницкого топора, все еще воткнутого в пенек подле дровяного сарая. Рядом, на куче порубленных и уже трухлявых поленьев, он нашел рассыпанные человеческие кости. Людей приволокли сюда и казнили. В слое щепок и на самом пне были следы крови обоих. И при этом – крови травматической, полной билирубина. Потом тот, кто это сделал, забрал головы и бросил их у стоп статуи. А еще собрал кровь в какой-то сосуд и наполнил миску статуи. Кто-то принес здесь жертву. Кто?
Статуя была местной, но не с Побережья. Среди местных обитателей не было паствы беременной танцующей богини с серпом. Не было таких персон в пантеоне.
Насколько он знал, богини Мореходов выглядели совершенно иначе и не требовали человеческих жертв. Возможно, это была амитрайская Госпожа Жатвы, Азина, но отсюда до Амитрая более тысячи километров, горы и пустыня. Точно не было известно, в чем состоял ее культ, но, быть может, он требовал и жертв. Только откуда здесь амитраи? Их держава – большая воинственная империя, которая подчинила немало стран, включая приморские королевства, откуда прибыли Мореходы. Они были народом беженцев. Не потерпели бы здесь амитраев. Считали их демонами и искренне ненавидели.
Одни загадки. Пока он обнаруживал только вопросы – и ни одного ответа.
Несколькосекундный бой страшно его измучил. Мышцы начинали ныть: завтра он будет ходить словно паралитик. Так уж с этим ускорением повелось. Человек не приспособлен к чему-то эдакому. Несколько минут он – сверхчеловек, а потом сутки – никакой. Он знал, что через пару часов упадет и заснет. Голова кружилась уже сейчас. У мышц – огромное кислородное голодание, он сжег почти всю глюкозу в организме, желудок корчится от голода. Наверняка надорвал мышцы. Царапины пульсировали горячей болью. Яда там почти наверняка не было, но надо их очистить. Обожженная спина, залитая потом, придавленная кольчугой и панцирем, тоже дьявольски болела.
Он обошел всю территорию, но других тел не нашел. Завратилова, Лезерхазе, Халлеринг. Не хватало пятерых. Ушли? Их похитили? Они погибли так же таинственно, но где-то за пределами станции?
Он понял, что здесь уже ничего не узнает. И отправился на поиски еды. Военные рационы не были вечными, но могли сохраняться очень долго. Увы, ученые не уважали готовые полевые рационы, которые, закрытые в герметических упаковках, на вид и вкус напоминали корм для животных, зато ничего не требовали с собой делать. Достаточно просто открыть и съесть, даже без разогрева. Вместо этих они набрали более вкусные, лиофилизованые, но в которые необходимо доливать воду. Он пожевал один всухую – все равно, что жрать гипс. К тому же порошок связал всю слюну и застыл соленой, залепляющей рот и глотку замазкой. В баке в ванной осталось немного воды: застоявшейся, со вкусом пластика и полной водорослей. Однако Драккайнен прополоскал ею рот и смешал с засохшей коркой чего-то, что должно было стать рагу из кролика с овощами, в отвратительную кашицу, которую уже смог кое-как проглотить. Нашел еще тюбик земляничного джема, батончик и запил все это конденсированным молоком. На десерт выдавил себе в рот тюбик пасты из анчоусов. В таком состоянии ему было совершенно все равно, что есть. Чувствовал себя умирающей от голода жертвой кораблекрушения. Нашел еще три целые упаковки и спрятал под нагрудник. Остальные – разодраны, раздавлены, содержимое давно смешалось с дождевой водой, сожрали его животные. Да и не много всего этого было.
Он снова обошел лабораторию и удостоверился, что здесь осталось изрядное количество предметов, которые могли пригодиться. Увы, он почти ничего не смог бы забрать с собой. И так ходил обвешанный, словно бродячий торговец. Поразмыслив, прихватил, по крайней мере, местные монеты. Украшения земной работы высыпал в банки из-под кофе и спрятал под камнем фундамента.
Вышел из здания и подумал, что противу всем соображениям здесь он не останется. Это место не подходило для точки контроля. Не подходило ни для чего. Нужно идти дальше. Куда – не имел ни малейшего представления. Решил, что, пока не найдет тела, остальных будет считать живыми. А значит, они должны были отсюда уйти. Куда? Сперва, наверняка куда глаза глядят.
У дерева, которое росло посредине двора, был странный ствол с бочкообразным вздутием посредине, напоминающим грудь мужчины. Он присмотрелся внимательнее и заметил, что вырастающие из него ветви тоже походят на абрис рук: плечи, бицепсы, даже вены на предплечьях. Чем дольше он смотрел, тем больше подробностей замечал. Ребра, соски, ключицы, кадык – наконец рассмотрел и лицо.
– Еще одна статуя, – произнес вслух. – Настоящая художественная галерея.
И тогда на деревянном лице открылись глаза.
Драккайнен вздрогнул и, отпрыгивая назад, до половины выхватил меч. Глаза смотрели на него с каким-то безумным страданием. Нормальные глаза – с белками, человеческие. У местных радужка чуть ли не на все глазное яблоко, как у лошадей.
Лицо было знакомым. Дюваль. Жоакин Дюваль. Руководитель экспедиции.
– Что с тобой случилось? – спросил и понял, что бессознательно говорит на языке Побережья. Повторил вопрос по-английски.
Глаза внезапно шевельнулись.
– Ты не можешь говорить?! Мигни два раза, если «да», и один – если «нет».
Два мигания. Очень быстро.
– Это сделали местные?
Три мигания. Что бы это значило?
– Живы ли остальные?
Три мигания.
– Это значит, что ты не знаешь?
Минута раздумья.
Два мигания.
В голове Странника пронеслись сотни вопросов, но на немногие можно было бы ответить «да» или «нет».
Что-то тихо постукивало.
Одна ветка справа слегка шевельнулась, ударяясь о соседнюю. Стук-тук… стук… стук-тук… Пауза. Стук… стук… Пауза.
Азбука Морзе? Попытался понять, что этот передает, но растерялся.
Точка, тире, точка, точка, тире, тире, точка.
L-M-E?
Тот начал еще раз.
Тире, точка, тире. Точка, точка.
Наконец он понял: KILL ME. Убей меня.
– Я должен тебя убить?
Тот перестал стучать. Моргнул дважды, закрыл глаза.
– Дюваль! Я не хочу тебя убивать! Это спасательная экспедиция! Я спущу сюда корабль! Но я должен знать! Куда они пошли? Что здесь произошло?! Кто это с тобой сделал? Как я могу помочь?!
– KILL ME KILLME KILMEKILME KILME KILL…
Ничего не получилось.
Драккайнен просил, умолял, убеждал и объяснял. Безрезультатно. Тот не отвечал ни на один вопрос – только повторял по кругу свое.
Он ощупал дерево со всех сторон, но не нашел ничего, кроме ствола. Обычного, гладкого, сухого ствола, почти лишенного коры. Ствол, ветки, ланцетовидные листья, как у оливы. Дерево, в которое был вплавлен Дюваль, как статуя в избе вплавляла в себя Халлеринга.
Дюваль, однако, был жив. Имел только глаза и возможность двигать одной веткой. Рос ли он вместе с этим деревом?
Ничего странного, что сошел с ума.
Исполненный ужаса и сочувствия, Вуко, возможно, и правда смог бы его убить, но понятия не имел как. Как быстро и гуманно убить дерево? Это ведь не так просто.
Отошел, стараясь не вслушиваться в упорный стук ветки:
– KILMEKILMEKILMEKILME…
Он подошел к лежащей на земле половине твари и решил внимательней ее осмотреть. Для начала ткнул мечом. Бледные круглые глаза внезапно раскрылись, рука воткнула когти в грунт, и голова внезапно подскочила, словно ракета, на высоту его лица. Ускорение пало, как занавес; спиной и шеей он внезапно почувствовал напор воздуха, когда отпрыгивал назад, разворачивался и размашисто пинал голову твари. Та изменила траекторию, явно ускорившись, покатилась по земле с отвратительным пустым звуком.
Драккайнен глядел на нее со страхом, тяжело дыша, а потом увидел, что рука твари вытягивается вперед, когти втыкаются в доски, затем напрягаются мышцы, подтягивая плечо и голову, и рука снова выстреливает вперед, как в плохом фильме ужасов. Ползет. К нему.
– Piczku materi! – рявкнул Драккайнен. – Да подыхай же ты, падаль!
Ухватил меч двумя руками и изо всех сил проткнул существу череп. Потом поднял удивительно тяжелые останки на острие, размахнулся и послал голову прямо в стену палисада. Аж загудело.
– Я уже пять раз тебя убил! – орал, разъяренный до предела. – Перестань ЖИТЬ! Что это, вообще, за дурость! Что за придурковатый мир! Только Бабы-яги на метле не хватает! Что, волшебный котелок прискачет и поклонится мне?!
Тварь будто послушалась: тихо зашипела и сделалась недвижима.
– Ага! – сказал Драккайнен. – И тихо мне лежать!
Его достало это место, он был разъярен, измучен и голоден. Ругаясь себе под нос, пересек широким шагом двор и вошел в дом. Через минуту вышел, неся старое потрепанное одеяло. Бросил его на землю и пинком закатил на него отрубленную лапу, после замотал в толстый тюк. Внутри материи что-то начало шевелиться, и Нитй’сефни, грязно ругаясь по-фински, несколько раз грохнул свертком в землю.
Потом собрал оставшиеся на дворе останки членов экспедиции и занес внутрь дома. Положил все, что нашел, на столе напротив статуи Халлеринга и минуту стоял со склоненной головой, немо двигая губами. Еще раз обыскал дом и наконец вышел с небольшой пластиковой канистрой, обливая стены и провалившуюся крышу. Затем присел на безопасном расстоянии и достал из мешочка на поясе кресало.
«Вы должны выяснить, что произошло, – сказал Лодовец. – А если понадобится – разгрести весь тот свинарник».
Дюваль все время монотонно стучал веткой.
Драккайнен встал, пнул колодец и пошел за топором.
Когда он спускался с холма, пламя вставало над палисадом и сыпало искрами в ночное небо.
* * *
Меня будит дождь. Отвратительное свинцовое утро среди тумана и мерзкой мороси. У меня все болит. Уже и не знаю, из-за вчерашней драки или после ночи, проведенной на толстой раздвоенной ветке. Холодно.
Развязываю веревку, которая удерживает меня на стволе, и спускаюсь на землю, завернутый в шерстяной плащ.
Чего я только не наслушался об этом плаще! Что натуральная шерсть греет, даже будучи мокрой. Что от дождя волокна сжимаются, и плащ становится водонепроницаем.
Может, оно и так.
Только вот к тому моменту он уже промокает насквозь. Как и человек, который его носит.
У меня болит ахиллесово сухожилие, все мышцы, царапины на предплечье и обожженная спина. Я мокрый, замерзший и озлобленно-голодный.
Этот, подошедший, отзывается, как раз когда я стою среди папоротников, облегчая мочевой пузырь.
Он сидит на краю леса в деревянной одноосной тележке, запряженной крупной животинкой – чем-то средним между ослом и окапи.
– Это был прекрасный бой, – говорит он. – Быть может, достойный песни.
– Какой бой? – спрашиваю я.
Он худой, в плаще с капюшоном и держит в руке ломоть солонины, от которого отрезает небольшие кусочки кривым ножом.
Я спокойно шнурую штаны. Справлюсь в случае чего. Справлюсь, прежде чем он соскочит с козел или потянется за чем-нибудь опасным.
Я игнорирую его. Здесь подкрасться к спящему человеку – поступок некультурный и опасный. По сути, он меня оскорбил.
По крайней мере, насколько я себе представляю.
Знать не знаю, как он высмотрел меня в густой листве, среди ветвей. Потому я и сердит – но исключительно на себя самого.
Собираю подходящие ветки для костра. Есть здесь парочка растений, сухостой из которых загорится и под дождем. Человек продолжает жевать свою солонину, с интересом поглядывая на меня безумными, исполненными тьмы глазами. Пожалуй, он стар. Непросто оценить. Здесь и сорокалетний – уже старик. Худое лицо испещрено морщинами и кажется измученным.
Кресало выстреливает пучками искр. Я раздуваю жар на кусочке коры, на кучке трухи и иголок, пока не появляется пламя.
Когда грею ладони у потрескивающего огня, что жрет сухие прутья, думаю о кофе. Эспрессо из крохотной чашки с капелькой крема поверху. Этот, на телеге, все сидит и закидывает с кончика ножа кусочки мяса в рот.
– Присядь к огню, – говорю я.
– Я мог бы тебя убить, – отвечает он с полным ртом.
– Но не убил.
– Это ловко – так спать на дереве.
– Как видно, недостаточно ловко. Так и будешь кричать с тележки?
– Предпочитаю глядеть на мир с козел. Выше. Лучше видно.
Я вытаскиваю из укрытия свои вещи. Тюки, сумы, наконец – седло, на котором и сажусь у огня. Хоть для чего-то пригождается. Нахожу твердые полоски соленого сушеного мяса, завернутые в пергамент. Приготовлю их в кипятке. Раз нет кофе, по крайней мере, выпью подобие бульона. Хоть что-то горячее для желудка.
– Кто там жил? – Я машу рукою в сторону холма, на котором чернеет выжженный обрубок станции. Палисад частично уцелел, но оттуда еще поднимается столп черного дыма.
Он пожимает плечами:
– Никто. Всякий знает, что это проклятое место. Урочище. Таких много. Только глупец входит в такие места.
– Я кое-кого ищу. Я чужой в здешних краях. Ищу таких, кто был бы чужим, как я, – и кто потерялся.
– Меня тоже долгонько не было. Поход.
Он использует слово «хансинг». Поход, а точнее – морской грабительский набег. Дословно «дорога за счастьем».
Вытягивает руку с ножом, указывая на лес по другую сторону поляны, где звенит ручей:
– Там дорога. Ведет к первому дворищу. Обитает там Грисма Безумный Крик.
– Знает что-то о моих родственниках?
– Нет. А может – да. Но отсюда сумеешь выйти только в ту сторону. Грисма Безумный Крик, с осени окруживший себя шипастым частоколом, сидит в доме предков и вместе с горсточкой людей трясется от страха перед тем, что выходит из леса. Он – первый, кто обитает за Пустошами Тревоги. Ступай и вручи ему подарок. Отдай ему свою добычу.
– Какую добычу?
Мужчина указывает на сверток, лежащий поодаль. Тюк из старого пледа, пропитавшийся кровью. Тюк, который все еще немного шевелится.
– Порой он посылает в лес кого-нибудь чужого. Слишком молодого, чтобы бояться, и слишком глупого, чтобы отказаться, – желая освободить его от очередных призраков. От детей холодного тумана. Пробужденных. Но они никогда не перестанут приходить. Это дурные времена. Война богов. Раньше было по-другому. Так вот: отдай ему это на память. Пусть повесит на частоколе и кричит своим людям, что он – великий стирсман.
У меня уже есть немного углей, могу поставить на них кружку с водой и наломанной мясной полоской.
– Не знаю, о чем ты говоришь. Я думал, это жаба.
Тот смеется с одобрением.
– Я – Воронова Тень. Продаю магические вещи. Хочешь кинжал, что проклинает владельца? Камень, что возвращается? Есть у меня камни дороги, амулеты черного сна, перья птицы грома. Есть у меня все.
– Мне нужен конь.
– Я не торгую лошадьми. Торгую вещами, которые деют.
– Есть у тебя что-нибудь, умеющее превратить человека в камень?
– Время? Есть у меня много времени.
– А где я могу купить коня?
– Там, где кто-нибудь его продает. Наверное, я тебя еще увижу. Отыщи дорогу.
«Отыщи дорогу» – слова прощания. По крайней мере согласно «Культуре и онтологии Побережья» Рековица.
– Называют меня Нитй’сефни, – кричу я ему вслед.
– Это заметно. Но для меня ты – Спящий На Дереве, – откликается он через плечо и съезжает на своей поскрипывающей тележке в котловину, давя колесами белые цветки папоротника.
Я остаюсь в одиночестве. Дождь монотонно шумит в листве, костерок мой неохотно шипит под каплями, падающими с веток. Где-то высоко в небе слышен клекот хищной птахи.
Я пью жиденький бульон и начинаю составлять план действий. Тщеславное и непростое занятие, поскольку на самом деле я не представляю, что делать дальше. Пойду этой тропкой. Куда бы ни отправились несчастные исследователи, они наверняка не перли напрямик через лес, потому – пойду и я. Увидим, что нам расскажет некто, кого называют Грисма Безумный Крик.
Мне нужен конь. Денег у меня достаточно, даже не считая того, что я припрятал на станции. У меня есть пояс, набитый ровно уложенными стопками золотых и серебряных монет; он висит у меня на бедрах, как сытый удав. Мне нужна только лавка с лошадьми.
И я должен узнать, что случилось. Это даже поважнее, чем найти потерявшихся.
* * *
Тот вечер в столовой в Даркмуре. Торжества. В камине пылает огонь, мы сидим вдоль длинного стола в сиянии свечей, среди серебра, жареных куропаток, картофеля с жарким и, конечно, отвратительного yorkshire pudding. Лодовец промокает губы салфеткой и повелительным жестом ладони приказывает налить нам вина.
– Условия миссии изменены. Полетит один, – говорит он наконец. – Отряд остается, подготовка продолжается, ждем развития событий. Политика, – добавляет поясняющим тоном.
Мы каменеем, сидя за столом, поглядывая то друг на друга, то на Лодовца. Он делает глоток шерри и поворачивается к одному из стюардов, который подает ему поднос с запечатанным красным сургучом конвертом и лежащим рядом серебряным ножичком. За год мы привыкли к помпезности, обрядам и чудаковатой, не то псевдосредневековой, не то масонской атмосфере. К смокингам и вечерним платьям, которые внезапно заменяют привычные шмотки. Это уже никого не смешит.
Все обращаются к усвоенным здесь умениям. Когда Лодовец с помощью острия ломает печать, Кауфман докладывает себе еды, я верчу в пальцах серебряный бокал и нюхаю шерри, Каваллино ковыряется в зубах, а Дейрдре ощипывает виноградную гроздь. Все кажутся расслабленными и свободными.
– Господин Корвино, благодарим за сотрудничество. Господин Корвино, боцман Гардинг поможет вам собрать вещи. Внизу, в холле, ждет водитель. Напоминаю, что вы обязаны хранить наивысшую степень секретности. Прошу забыть обо всем, что вы здесь слышали и видели, кроме одного. Того, что о вас не забудем мы. Спасибо – и до свидания.
В глубокой тишине слышны отдающиеся эхом под куполом шаги Рене. Когда огромные двери с гулом захлопываются, никто не произносит ни слова.
– Господа Кауфман, Нильфссон и госпожа Декруа – дублеры. Пока. Госпожа Маллиган, господин Каваллино, господин Роговский, господин Когоутек и господин Дартлоу – резервная группа.
Тишина.
– Летит господин Драккайнен.
Доля секунды, когда все расслабляются. Как на наш манер, конечно. Нильфссон с облегчением вытягивается и отпивает вина. Дартлоу сжимает зубы: видно, как у него играют желваки. Декруа застали врасплох: у нее такое выражение лица, будто в нее попала молния. Дейрдре на мгновение кажется валькирией. Сжатые губы, выставленный подбородок, в глазах – алмазный блеск. Я ничего не ощущаю. Ничего, кроме запаха yorkshire pudding.
Даже Когоутек на секунду перестает есть.
– Господина Драккайнена я попрошу пройти со мной. Остальные могут продолжать ужин в свободной атмосфере. Приятного аппетита, спасибо и доброй ночи. Прошу думать о хорошем. Миссия будет продолжена.
– Вы догадываетесь почему? – спрашивает он любознательно, уже сидя за своим столом и набивая трубку.
– Нет, командор.
– Вы самый старший. Вы еще помните мир, в котором мы были единственной жизнью во Вселенной. Вы помните времена, когда не существовало сверхгравитационного двигателя, а астронавтика была лишь экспериментом наудачу. Это еще в вашей памяти. Вы – дитя старого мира и родились убежденным, что существует лишь то, что на Земле, что мы – единственный разумный вид в космосе, а скорость света нельзя преодолеть. Мне кажется, вы лучше других приспособитесь к тамошним людям и к их ментальности, поскольку они думают точно так же – с поправкой на условности своего мира. К тому же ваша мать была полячкой, отец – финном, а воспитывались вы в Хорватии. Культурный шок для вас – повседневность. Кроме того, вы один из немногих превратили собственную независимость в религию. Вы не верите в государство, предписания и разумность коллектива. Вы – одиночка. Вы верите в свое моральное право и разум. Должна была лететь группа – тогда вы остались бы на Земле. Но нам нужно выбрать одного. Одного человека. Полагаю, вы выживете. По крайней мере шансы на это велики.
А теперь я скажу вам кое-что, о чем кроме меня знают лишь шестеро. Это даже не высшая степень секретности. Если вы хоть слово кому-нибудь скажете, хотя бы лейтенанту Маллиган, – погибнете оба. Я прошу прощения за тон, но это необходимо. Известно, что вы должны найти исследовательскую группу или установить, что произошло с ее участниками, эвакуировать, кого сможете, и ликвидировать следы, исправить возможный вред – если дошло до неавторизованных контактов с ксеноцивилизацией. Но об этом вы и сами прекрасно знаете. Зато вы не знаете, что получили официальное согласие на использование любых средств в соответствии с ситуацией. Вы понимаете, что это значит?
Я делаю глоток виски:
– Лицензия на убийство…
– Верно. Если придется убивать – вы имеете на это право. Я беру на себя полную ответственность. Есть и второе дело. Там мы столкнулись с явлением, суть которого не можем нормально описать и тем более – объяснить. Нечто, что может оказаться невероятно опасным или обладать наивысшим значением.
Я делаю глоток виски.
– Там действует магия, – говорит наконец Лодовец, будто смущаясь и в растерянности. – По крайней мере так это выглядит в рапортах, с которыми вы ознакомитесь. Вернитесь оттуда живым и расскажите мне, что мы пали жертвой иллюзии, шарлатанства или побочных эффектов неизвестного физического феномена. Я надеюсь, что именно так и будет. Или вернитесь и сообщите, что Вселенная перевернулась вверх ногами, и через минуту наш мир превратится в ад.
* * *
Тропинка узкая, каменистая, поросшая травой. Она ведет вниз. Рядом звенит ручей. Я иду. Чувствую себя туристом. Меня мучает одна мысль, что, куда бы я ни отправился, там меня не ждет убежище, ванна с горячей водой и чистая постель.
Я думаю о Дювале, вросшем в дерево. О Дювале, которого я обрек на медленное умирание в срубленном стволе. Сколько это будет продолжаться? Пока дерево не превратится в труху? Кто знает, сколько умирает дерево?
Глава 2 Двор безумного крика
Случалось, я рано
в гости являлся
иль поздно порою:
там выпили пиво,
а там не варили —
кто не мил, тот некстати.
Речи ВысокогоТракт виден плохо. Собственно, это поросшая травой тропа, но я знаю, что не погибну в непроходимой чаще. Иду все время на восток, параллельно побережью, а потому должен – раньше или позже – попасть к людям. Через некоторое время начинают попадаться кострища.
Круглые черные пятна углей и пепла. Старые, но вдоль этого ручья разбивали лагеря – время от времени. Огонь разводили у самой тропы, словно путники боялись углубиться в лес. Привалы были поспешными. Я нахожу серебряный украшенный кубок, окованный рог для пития, несколько костяных пуговиц, приличный маленький топорик, всаженный в ствол поваленного дерева.
Два раза натыкаюсь на непогребенные объеденные останки. Один раз – на высохший, лежащий тут минимум полгода труп, на котором сохранились остатки одежды и грубого кожаного доспеха. Поодаль лежит подпорченный деревянный щит и проржавевший меч с многоугольной конической гардой и таким же массивным навершием. Меч с Побережья, скверной работы. Затем – еще фрагменты старого, побелевшего скелета в русле ручья.
У обоих нет голов.
Ни один не принадлежит тому, кто рожден на Земле.
Я осматриваюсь, но вижу лишь тысячи старых стволов, что тянутся в бесконечность, как ясеневая колоннада.
Плащ мой становится жестким и, пожалуй, вправду не пропускает воду, но особого значения это уже не имеет. Я мог остаться сухим только в местах, где меня укрывают лежащие внахлест части доспеха, но там я – пропотевший, и у меня все свербит.
После полудня я чувствую дым. Где-то горят костры. Через какое-то время слышу лай собак и рев скотины. По крайней мере так я это называю. Когда вижу дерево, называю его «ясень». Или «сосна». Или «пиния». Это лучше, чем «мидгардская вельвичия» или «драгомерия». Слышу хриплое взрыкивание, завершающееся протяжным скулежом, напоминающим смех гиены, и думаю: «Собака лает». Хотя не лает, да и не собака это, а лишь существо, более всего похожее на тигра-увальня.
Я подскальзываюсь на мокрых камнях и корнях, проклиная свой скарб. Охотнее всего бросил бы все в кусты, но это глупая мысль: однажды любая из этих вещей может спасти мне жизнь.
Двор стоит на холме, перед ним виднеется излучина реки, в которую впадает мой ручей. Предполье вырублено, все покрыто пнями некогда срубленных деревьев. С места, где стою, виден частокол, венчающий вал, ощетинившийся заостренными кольями. Над ними – запавшие крыши, покрытые обомшелым гонтом. Вокруг вала, там-сям, стоят низкие темные избы из бревен, без окон, словно присевшие под тяжелыми стрехами.
Я вижу людей. Несколько человек выбегают из леса и наперегонки гонят к форту.
Крик.
В десятке метров от меня, по щиколотку в ручье, стоит девушка с белой мокрой тряпкой в руках. Я вижу бледное испуганное лицо, широко открытые глаза, наполненные чернотой. Прядки мокрых темно-фиолетовых волос приклеились к ее лицу, длинное голубое платье, тоже мокрое, облепляет тело. Она стоит так секунду, потом издает испуганный писк и в панике бросается вверх, сверкая босыми стопами. На берегу остается лишь деревянное ведро, полное мятых тряпок.
В форте уже закрывают врата, кто-то гонит внутрь двух перепуганно рычащих косматых коров, массивных как буйволы, с раскидистыми рогами. Крики, лай псов, а над всем этим встает протяжный голос какой-то трубы, что звучит будто рев мамонта.
А тут рады гостям.
Но живут здесь добрые люди. У тропы возведен кривой деревянный навес. Бревна, накрытые крышей. В нем только три стены, а перед входом виден круг камней и кучка влажных углей. Дальше выстроена полукруглая каменная стенка, чтобы отражать тепло внутрь. Есть и кучка топлива, заботливо прикрытая от дождя слоем веток. В центре стол, сколоченный из половинок балок, и две лавки. Что еще нужно?
Здесь не следует внезапно подходить к домам и стучать в ворота. Следует сесть и ждать, пока к тебе выйдут. А если не выйдут, есть где переночевать, разжечь костер, имеется крыша над головой. Отдохни, поешь, выспись и ступай себе прочь. По сути, милый обычай.
Прежде всего я сбрасываю проклятущее седло на лавку и снимаю мокрое снаряжение.
Отрубленную лапу твари я оставляю снаружи. Пусть мокнет. Ей нужно стать моим откупным, чем-то вроде «я избавил вас от чудовища». Может, разузнаю, что это вообще такое.
Разжигаю костер под навесом. Это требует бенедиктинского терпения, раздувания жара, подкладывания маленьких иголок и щепок, а потом – оберегания утлых язычков пламени от ветра.
Минут через двадцать у меня – гудящий огонь, который не боится сеющегося дождя. Сижу на столе со скрещенными ногами, курю трубку с моим бесценным табаком «Вирджиния» и мечтаю о чае. Увы. Чая мне не дали. Только сейчас до меня доходит, сколько полезных вещей могло уцелеть на станции. Хотя бы – чай. Они наверняка не выпили весь чай, а я взял и сжег.
Двор на холме кажется покинутым, темным, хмурым и тихим. Я чувствую, что за мной пристально следят, но, пожалуй, радуюсь, что меня решили игнорировать.
Меняю белье и вытаскиваю из вьюков сухое исподнее. Нахожу полукожух с капюшоном и делаю ревизию припасов.
Есть у меня бульон в кубиках, помещенный в какой-то промасленный кожаный мешочек. Есть у меня немного карпатских копченых сыров, сухая колбаса, мясо в полосках, сухари, завернутые в пергамент. Стеклянная баночка с медом, закрытая широкой крышкой. Немного запрессованных сухих фруктов с орехами, несколько батончиков халвы, но без упаковки; они обернуты в какие-то листья, должно быть виноградные.
Не могли дать мне сахара. Это было бы ужасно опасно. Зато могли – халву и прессованные фиги или кусок пробки. Насколько я знаю, ни миндаля, ни фиг, ни пробковых дубов здесь нет, так отчего пожалели немного чаю? Не могли завернуть это вот в чайные листья?
Также я нахожу вещи, которые провез контрабандой и которые мне положили тайком. Но ни следа кофе или чая. С радостью нахожу три плитки шоколада, немного табака, бутылку ракии, вторую – рома, обе пластиковые и плоские. Я скорее помру, чем выкину их. Что за чудесная вещь – пластик. Легкий, небьющийся и плотный. Сливовицу мне дал Левкович, а «Navy Rum» наверняка Дартлоу.
Я раскручиваю металлический контейнерец и монтирую удочку. Леска сплетена из конского волоса – просто беда; хорошо хоть грузило и крючок нормальные. Могло ж им прийти в голову, например, снабдить меня костяными крючками. Но не пришло, слава Богу.
А потом я вырезаю себе палицу и действительно иду на рыбалку.
Рыбу видно. Плавает у самого дна, прячется за камнями, но ее не интересуют ни дождевые червяки, ни шарики жеваного сухаря, ни кусочки мяса. Толстая и нагулявшая жирок, она лишь действует мне на нервы. Надо попытаться соорудить острогу.
Стоило бы собрать лук, но мне неохота. Я и так хожу груженный словно мул. А разобранный он удобнее.
Готовлю воду с медом, заправленную капелькой сливовицы. Кроме того, на ужин будет шоколад, кусочек колбасы и сухарь.
Я прочел миллионы книг, действие которых происходило в сказочных мирах, пребывающих, как и мой, в псевдосредневековье. И везде можно было войти в корчму, кинуть на стол монету и крикнуть: «Корчмарь, пива!» Мне всегда хотелось так сделать.
Я разжег огонь посильнее. Хочу просушить одежку и показать, что я не из тех, кто ходит, скрываясь.
В форте небось продолжается бурный совет. Если б я мог там оказаться, голосовал бы за то, чтобы оставить странного чужака в покое хотя бы до утра.
Мне нужно отыскать следы своих сироток, но прошло столько времени, что одна ночь погоды не сделает. А мне неохота навязывать контакт. Я слегка волнуюсь – и слегка устал. Нравится мне эта халабуда. В Финляндии похожие ставят на паркингах у пляжей.
Скушаю ужин, погляжу на огонь, подумаю, выпью еще глоточек сливовицы и с наслаждением вытянусь на этом широком столе, укрывшись одеялом, с седлом под головой. Кому такое помешает?
Все время я чувствую на себе чей-то взгляд. Когда помешиваю свой странный грог, подкладываю в костер дрова или режу твердую как камень колбасу. Проницательный, изучающий.
Вижу лишь иссеченные дождем кусты, молчаливый, ощетинившийся кольями темный двор да туман. Становится холодно. Потихоньку спускаются сумерки.
Должно быть, за мной следят. Поверх палисада или сквозь какую-то бойницу. Да и на здоровье.
И тогда я замечаю ребенка.
Он появляется внезапно, словно из тумана, вьющегося у земли. Парнишка лет восьми, карикатурно худой, с надутым округлым пузом. Стоит молча, совершенно голый, под дождем и на холоде, со сложенными руками, будто скрывает что-то на груди.
Забыли о нем? Не заметили, что не успел в ворота? Может, не знают, сколько у них детей? А теперь господин Грисма Безумный Крик делает вид, что его нет дома, а этот здесь мокнет голый на жестоком холоде.
– Не бойся, – говорю я ласково. – Хочешь что-нибудь съесть?
Он молчит. Стоит неподвижно и всматривается в меня теми безумными глазами, которые издалека и в сумерках кажутся пустыми глазницами. Внезапно он опускает левую руку и оказывается, что то, что он прижимал к худой груди, – лишь вторая рука с жутко измененной ладонью с четырьмя пальцами, но зато – длинными, сантиметров на двадцать, с множеством суставов, будто крабовая ножка.
Я смотрю в остолбенении, все еще держа в вытянутой руке кусочек шоколада. Внезапно его глаза взблескивают фосфорической зеленью, и мальчуган становится туманом, сгустком мглы, который незаметно развеивается.
Я отдергиваю руку с шоколадом и чувствую, как волосы мои встают дыбом. Гиперадреналин ударяет словно ток.
Я жду, удерживая дыхание ибуки, пока уровень его не спадет. И тогда снова раздается вой рога.
Он просто отступил чуток и исчез в тумане, думаю я, глядя, как отворяются двустворчатые врата, и из них выходят несколько человек. Осторожно сходят с холма, заслоняясь щитами странной формы, вызывающими мысли о контрабасе. Я вижу блеск наконечников копий.
Идут ко мне.
Я отставляю кружку и, ругаясь себе под нос, надеваю тяжелый полупанцирь, пристегиваю окованный пояс с мечом. Время трудиться.
Они идут. Медленно, достойным шагом, чтобы показать: совершенно меня не боятся. Но щиты подняты, копья готовы к удару. Всего восемь мужчин. Внутри идут двое без щитов и копий, но, подобно остальным, в доспехах.
Останавливаются метрах в десяти от моего лагеря и молча глядят. Один из двух, что в середине, – явно кто-то важный. Изукрашенный кафтан с нашитыми металлическими бляхами обтягивает полное тело; у мужчины окладистая седая борода и длинные волосы, под золотым обручем – тоже седые. Как знать, может, это сам шеф. Но он вовсе не издает безумных криков, а молчит и изучающе поглядывает.
Щитоносцы обмениваются негромкими замечаниями, убежденные, что я не могу их услышать.
«Видно, знатный. Доспех чужеземной работы. И меч какой… Глянь, человечьи ли глаза. Может – мара…»
Я жду.
Это они мокнут – не я. Тянусь за своей кружкой и делаю глоток горячего напитка.
– Того, кто в пути, кто на камне спит, далёко от дома. Вместо пива копьем привечают, не дадут снять шелома, – говорю я складно и делаю следующий глоток. Напряг все свое знание языка Мореходов, чтобы склеить тот стишок. Здесь такие вещи любят. Интересно, ответит ли старик в рифму?
Он расталкивает стоящих впереди и осторожно подходит, положив одну руку на навершие меча. Осматривает меня с ног до головы и заглядывает мне в глаза.
Это может означать, что землян здесь видели. Мои глаза были изменены и выглядят словно глаза здешних, полностью наполненные темными ореховыми радужками, как у коровы. Сколько раз ни глядел я на собственное отражение, оно все еще меня отвращает. Не могу привыкнуть. К счастью, зеркала здесь – редкость. Но ученые не претерпевали никаких операций. Их глаза должны были обращать на себя внимание.
Двое из его людей медленно, с неохотой поворачивают копья остриями вниз и упирают их в землю. Это не значит, что за мной перестали следить: достаточно одного движения руки, чтобы они метнули оружие и пригвоздили меня к стене халабуды.
– Путник беспечный стоит пред двором, где в ночи смерть пляшет, пищи желал бы, огня и пива, но лишь ворон здесь крячет, – отвечает старик. – Ежели складываешь стихи, можешь потешить короля. Ступай, ежели ты человек, а не Пробужденный. Сядешь за столом.
Я собираю свои вещи и отправляюсь с ним ко двору. Воины помогают мне нести седло и вьюки. Кто-то из них берет у меня даже все еще исходящую паром кружку. Вижу, что минимум двое из них – мальчишки. Одному хорошо если тринадцать, и он с трудом несет щит, у второго слишком большой шлем с кольчужной бармицей и «очковым» наносником шатается на голове, словно котелок. Еще одному воину идет шестой десяток, и он слегка хромает на правую ногу. Если «король» выставил против меня лучших из своей армии, дела у него и вправду плохи.
Я шагаю плечом к плечу с вельможным и двумя воинами, которые несут мой скарб, остальные окружают нас аматорским, плохо поставленным строем «ежа». Не единят щит со щитом, сбиваются с шага и сталкиваются друг с другом, но продолжают тыкать во все стороны света коваными наконечниками копий; последний идет спиной вперед, будто в любой момент ждет нападения. Если вдруг что – это не слишком поможет: в «еже» полно дыр.
Я оглядываюсь, но залитая дождем, затуманенная вырубка совершенно пуста. Только где-то на краю поля зрения стоит белая, худая фигура паренька с глазами словно выжженные окна и с длинными пальцами, шевелящимися наподобие крабьих лап.
Обе створки ворот раскрываются перед нами, и мы ступаем на заболоченное дворище. Дождь лупит по лужам, худые огромные волкодавы рвутся с цепей, пахнет дымом, затхлостью и телами множества людей. Тяжелый мускусный запах пропитывает здесь все.
Главный дом мрачен, длинен и внутри напоминает ангар. В центральной части между колоннами стоит длинный стол, за которым сидят десяток-полтора людей. В воздухе висит тяжелая – хоть ножом режь – вонь. Дым стелется слоями, зал посредине почти пуст. Несколько сундуков, несколько мехов, возле выхода – стойка со щитами и копьями. И все.
Дождь сквозь дыру в крыше падает прямо в очаг, а впереди, на широком карле, сидит укутанный в меха Грисма Безумный Крик.
Он стар. Еще не одряхлел, еще можно поверить, что массивный меч, на который он опирается, – не просто украшение, но по изборожденному морщинами лицу, простреленным сединой длинным волосам и поблекшей матовой голубизне глаз виден возраст. И Грисма здесь боятся. Это видно по тому, как они сидят, как изображают невидимость, избегая встречаться взглядом с прищуренными внимательными глазами. Это видно по упрямо сомкнутым устам. И только я знаю, что грозное лицо его таит страх и неуверенность. Грисма постоянно боится. За своих людей, за себя, за весь род, за свою честь. А в этот момент он боится меня.
Я на полголовы выше самого высокого из них, и это не замаскировать. К тому же мой полупанцирь предполагает мощные наплечники, как в футбольной униформе, что придает мне вид почти героический. Задумывалось это ради психологического эффекта – но и для того, чтобы они пружинили и принимали на себя часть удара.
Грисма меряет меня подозрительным взглядом и мямлит, словно пережевывая что-то. Я бью наручем о нагрудник – так, что звон эхом отражается от потолка; склоняю голову в скупом поклоне. Кто-то нервный из сидящих за столом явственно вздрагивает. За колоннадой таятся человека четыре, полагающие, что их не видно в полумраке. Я чувствую их пот, слышу скрип ремней, чую запах дегтя, которым пропитаны тетивы. Слышу, как у одного из них колотится сердце.
– Прости чужеземному бродяге, великий король, – говорю я. – Я потерялся в этой стране и не сведущ в придворных обычаях. Лишь немного – и не слишком хорошо – говорю на языке Побережья и не умею поздороваться, но даже я слыхал о Грисме Безумном Крике и пожелал схорониться под твоим кровом.
Могу дать ему слишком немного – вот в чем проблема. Золота – не могу. Во-первых, он считается королем, а значит, даритель золота здесь он – иначе я его оскорблю. Во-вторых, увидь он, сколько его, просто убьет меня. А я не могу решиться отдать ему лапу твари. Позволил себя уговорить, что это чудо, но мне все больше кажется, что я зарубил лесного вредителя – и только. Что бы подумали о средневековом рыцаре, который бросил бы под ноги королю кусок змеи или голову волка и назвал бы себя драконобойцем? Безумцы есть в любой культуре.
– Подойди, гость, – приказывает Грисма. – Стань так, чтобы старый человек мог тебя увидеть.
Я подступаю на пару шагов и становлюсь в месте, освещенном колеблющимся огоньком масляных светильников, коптящих рыбьим жиром. Пол там тщательно подметен и на кривых досках углем начертан круг, оплетенный письменами. Я узнаю руны Побережья из алфавита Соннермана Вайгля, считающиеся святыми. В чем дело? Тест какой-то или что?
Скорее всего, стану я здесь или нет, имеет какой-то смысл. Все склоняются в ожидании, сидят напряженные, в странных позах, будто готовы в любой момент повскакивать с лавок. Они надеются, что я какой-то там призрак, но я, увы, не ведаю, что делают привидения. Как человеку – нужно мне бояться тех зигзагов или совсем напротив? Я готов поспорить, что это охранный круг заклятий, а значит, демон должен его сторониться. К сожалению, это лишь теория. В стороне, в нише, сидит одетая в черное баба. Капюшон или платок закрывает ее лицо. Сидит она совершенно неподвижно и не сводит с меня внимательного подозрительного взгляда. Даже мне она едва видна, но не заметить ее невозможно, поскольку ужасно смердит.
– У того, кто странствовал, – в горле сушь, – говорит Грисма. – Выпей со мной, гость.
Подает мне рог, наполненный чем-то мутным, пахнущим дрожжами и ферментированным зерном. Вареное домашнее пиво. Он смотрит с неизбывным вниманием, выпью ли. Мужчина, который сидит ближе прочих, стискивает кулаки, еще один закусывает губу. В чем дело? Мне должно выпить или нет? Подумаем – человек, ясное дело, выпьет. Что, демоны у них непьющие?
В темноте скрипит тетива. Да ни за что ты в меня не попадешь, сынок. Не при таком освещении. Да и короткий лук не пробьет ламинат.
Я выливаю немного пива внутрь ладони и прижимаю руку к земле.
– Что бы я ни пил – пью в твою честь, Хинд, – провозглашаю.
Встаю и поднимаю рог к губам. Смотрят так внимательно, словно это наиважнейшее в мире дело. И только тогда я понимаю.
Что-то добавили в пиво. Что-то, чего боятся демоны, вроде святой воды, и это оптимистическая версия. А возможно – что-то ядовитое, чего человек не заметит, и тогда все хуже. Чертова логика Божьего суда. Я сдам тест, когда упаду мертвым, – словно проба водой. Баба тонет – была невиновной, баба всплывает – ведьма. Начни я капризничать – я демон. Надеясь, что они не попытаются меня отравить сразу, пью. Здесь все же не знают моментальных токсинов, потому, если что-то пойдет не так, я мигом все выблюю.
Пью одним махом, до дна, изгвазданного остатками зерна и дрожжей. Пиво густовато и омерзительно. В нем столько побочных продуктов, что трудно разобрать, что должно быть той таинственной добавкой. Следы каких-то неприятных растительных дубильных веществ – наверняка от ошибок в приготовлении. Какой-то рукосуй не выбрал сорняки из зерна. К счастью, я не чувствую метила, зато есть нечто странное, что не удается различить. Металлический медный привкус.
Рыжий с торца стола бледен как стена, а на его губах – едва скрываемое выражение крайнего отвращения. Наплевали мне в пиво, или что?
Пью.
Худощавая, богато наряженная женщина, что сидит подле короля, краснеет словно маков цвет и осматривается по стенам.
Кто-то из несостоявшихся убийц, скрытых за колоннами, выбегает на двор, и я слышу, как он блюет там. Да что с вами?
Это какие-то геммовые группы – кровь. Накапали мне туда крови. Чуть-чуть, но ощущается. Человек бы не почувствовал, потому я спокойно допиваю. Остается некий отчетливый след. Чужой и неприятный. Какие-то кислоты – молочные? Отвратительно.
Это месячные крови. Охренительно смешно.
Ладно. «Котики» не плачут.
Я лучисто улыбаюсь и с грохотом ставлю перевернутый рог на стол прямо перед рыжим джентльменом, который непроизвольно отшатывается. Куда охотнее я метнул бы это в лоб той бабе, что сидит в нише. Голову дам на отсечение – ее идея.
Король выглядит так, словно проглотил жабу. Он в ярости. Но, пожалуй, не из-за меня. Выстреливает испепеляющим взглядом в сторону невидимой старушенции.
– Садись к столу, гость, – говорит.
Я сажусь. Сосед отодвигается и судорожно вручает мне еще один рог пива. На его лице читается смесь облегчения, отвращения и сочувствия. Беру у него рог неспешно и без нервов.
– Ты говоришь, что чужеземец, но поклоняешься нашему Хинду, как человек набожный, – говорит Грисма с подозрением и озабоченно.
– Мои боги далеко, – отвечаю я и внезапно понимаю его озабоченность. Он подсунул мне спаскуженное пиво, а я его посвятил богу воинов, оружного братства, гнева, бури и чести. Сделал это искренне, а потому проблемы – как у оскорбившего бога – теперь у него. Вижу, что я подставил его в полный рост, – и настроение у меня улучшается.
Королева глядит на меня странно. Это был подарочек от вас, ваше величество?
Я делаю очередной глоток пива. Оно чуть получше, но ненамного.
Передо мной ставят погнутую металлическую тарелку, подсовывают деревянную миску, полную дымящихся кусков вареного мяса. Оно чуток с душком: сварено в последний момент. Еще не испорчено, но уже почти.
Возвращается гомон разговоров, кто-то, сидящий в нише, начинает играть на флейте.
Я прошел тщательное обучение. Мой аппетит не испортят ни тухловатый привкус жестковатого мяса, ни мутное пиво, ни черные полумесяцы под ногтями мужчины, что сидит напротив, ни жирная подливка, склеивающая редкую бороденку следующего воина. Его лицо сильно обезображено: почти нет нижней челюсти и до самой скулы тянется рваный шрам, наверняка от топора.
Я бы съел приличную pleskavicę.
С сыром.
– Ты безумен, если в одиночестве путешествуешь по Пустошам Тревоги, пришелец.
– Я здесь чужак и не знаю, что такое Пустоши Тревоги. Ищу нескольких своих и иду миром, не расспрашивая, как другие зовут леса и холмы, по которым я прохожу.
– Как тебя звать?
– Согласно вашему языку звучало бы как Ульф Нитй’сефни, – отвечаю. У них имена не всегда имеют значение, они – родовые. А вот прозвища индивидуальны и возникают наподобие индейских имен. Я хотел сохранить собственное имя – Вук, что на хорватском означает «волк», но, увы, «вук» на одном из здешних наречий – «птичий помет». Мне перевели имя на норвежский: Ульф – это то же самое и, к счастью, на языке Побережья не значит ничего, а звучит получше, чем «гуано».
– В молодости я вдоволь попутешествовал, – говорит Грисма. – Может, был и в твоей земле, пришелец. Как она зовется?
Я усмехаюсь.
– Моя земля – Хорватия, – говорю нагло и вижу, как вытягивается у него лицо. – Она так далеко, что над нею светят другие звезды.
– А бывал ли ты в стране, которую мы зовем Амистрандом?
Амитрай. Их ненавистный враг. Я сплевываю на землю и поднимаю кулак, бормоча имя Хинда. Они смотрят с удовлетворением – отреагировал я верно. Что, за дурака меня держат? Ведь будь я амитрайский шпион, поступил бы точно так же.
– Я видел ее, – отвечаю коротко. – И не хочу увидеть снова.
Не знаю отчего, но, когда я путешествую по чужим странам, по возвращении люди, прежде всего, спрашивают: «Что ты там ел?» Я и сам обычно об этом спрашиваю. Все так, словно кулинарные отличия больше других говорят о чужой культуре. Впрочем, может, так оно и есть.
Главным образом, серое вареное мясо, чуть отдающее тухлятиной и странными приправами, должными забивать вонь. Какие-то трубчатые грибы, может древесные, засоленные, скрипящие на зубах, словно резина. Немного маринованных овощей странной формы, цветов и вкусов, отдающих погребом. Соленая и сушеная плоская рыба. Мутное дрожжевое пиво. Корневища, схожие на вкус с чесноком и одновременно с луком-пореем, а выглядящие как аир. Загрызаю всем этим очередные истекающие жиром и водянистым рассолом куски. Полупропеченные коржики с отрубями, скрипящие на зубах от плохой прожарки. Лишь немногие могли бы похвастаться металлическими или базальтовыми жерновами, что мелят все в муку, но Грисма Безумный Крик, похоже, к ним не принадлежит.
В пиве – шесть процентов. При таком темпе пития за час-другой большинство за этим столом окажутся пьяными.
Они непрерывно расспрашивают о новостях из внешнего мира. Я выкручиваюсь, несу какую-то чушь. Хочу сойти за человека, который из дома прямиком попал на их берега и ничего не знает о новостях. Говорю, что мой корабль потонул и спасся только я. Слышу, что расспрашивают меня с беспокойством. Происходит что-то дурное. Знают, что нечто близится. Дело идет к войне? Их страна лежит в стороне. Остальной континент – далеко на западе, отрезанный пустыней и высокой горной цепью. Места почти безлюдные. На море нужно одолеть лабиринт опасных скалистых островков, проливов и шхер, которыми горы уходят в море. Ни один флот вторжения не пройдет. А никто в здравом уме не станет гнать армию сквозь пустыню и гору в этот медвежий угол. Зачем? Ради их окованных медью ведер? Щербатых секир?
Они спрашивают, не видывал ли я странствующих монахов в красных плащах и с лицами из серебра.
Я не видел.
А не видел ли я сумасшедших черных всадников с татуированными лицами, облаченных в черненое железо и на железных лошадях? Говорят, что они появляются все ближе.
Я не видел никого подобного.
А видел ли я Пробужденных?
Не знаю, кто такие эти Пробужденные. Я здесь чужак, а в моих краях о таком никто не слыхал.
– Война богов идет всюду, – бормочет Горелый Гнев, рыжий короткостриженный воин, сидящий напротив, рядом с тем, порубленным топором, с именем Дубовое Лицо. – Наверняка у себя вы зовете их по-другому. Дети холодного тумана.
Я отрицательно качаю головою.
Хотят знать, не видывал ли я чего-то странного во время пути через их лес.
– Я не уверен. Видел что-то странное, что на меня напало. Убил его, – говорю. – Но это, возможно, просто зверь.
Я иду к своим вещам, сложенным под стеной в аккуратную кучку, и вынимаю сверток. Они глядят на меня ошеломленно, когда разрезаю шнур и разворачиваю одеяло. Отрубленная лапа с грохотом падает на деревянный пол между святыми знаками. Пальцы ее все еще слегка шевелятся.
Крик. Они вскакивают на ноги, женщины и дети пищат, кто-то выкрикивает имя Хинда, кто-то ругается и издает полный энтузиазма боевой рык, кто-то подскакивает и пинает лапу, после чего трусливо прячется в толпе. Они озверели.
Я стою посреди этого гама и медленно, тщательно заворачиваю одеяло. Оно провоняло падалью и – слегка – чем-то вроде рыбы. Нужно будет его постирать.
Одни в ярости, другие испуганы. Королева бледна как простыня и кусает ладонь. Черные коровьи глаза стекленеют от слез.
Шок, или как?
Король требует копье. Ему подают со стойки короткое массивное древко. Расступаются. Грисма топчет лапу вышитым кожаным сапогом и, сопя, всаживает в нее кованное узкое острие. Медленно и методично. Кожа твари скользкая, твердая и эластичная, а треугольное острие недостаточно острое. Кожа уступает неохотно. Наконец Безумный Крик добивается своего и поднимает конечность, надетую на копье, – та все еще шевелит пальцами, напоминая сдыхающего кальмара.
– Воткните это над воротами. Пусть все Пробужденные увидят, что их ждет. А вы смотрите, что такое мужество. Ибо нынче пришел сюда чужой муж. Он в одиночку одолел Пустошь Тревоги и дает нам мертвого Пробужденного. А вы?
Они боятся даже взять у него копье. Некоторое время нет желающих. Наконец вперед шагает длинноволосый юноша с фиолетовыми космами и непроницаемым лицом. Кажется, он в ярости. Когда закрываются за ним окованные створки зала, слышны крики на дворе.
Понятия не имею, обрадовал ли я их, но наверняка произвел впечатление.
– Почему ты не взял голову? – спрашивает меня Грисма.
– Была тяжелой, – отвечаю я коротко. – И, кроме того, кусалась.
Он фыркает смехом и глядит на меня с подозрением:
– Как ты убил Пробужденного?
– Зарубил.
– Они умеют убивать взглядом и быть в трех местах одновременно, – кричит кто-то. – Ни один человек не может убить призрака! Железо не причиняет им вреда!
– Причиняет, – говорю я успокаивающе. – Только нужно быстро двигаться.
Они возвращаются за столы, стараясь не наступать на то место, где ранее лежал мой трофей.
Я гляжу, как они жадно пьют; пиво стекает по бородам, впитывается в волосы. Со стуком отставляют на стол кубки и требуют еще кувшины. Некоторые поглядывают на меня с удивлением, другие – с суеверным испугом, а кое-кто – с отвращением.
Королева все еще бледна как бумага, ее подбородок дрожит, но красиво очерченный рот стискивается в упрямой и яростной гримасе. Зато Грисма поглядывает на меня с надеждой. Так мне кажется.
Я не умею различать эмоции. Все из-за этих странных звериных глаз. Глаза медведей, глаза коров, белок, собак. Глаза зайцев. Полностью заполненные голубизной, бурым, чернотой или синевой.
Возвращается молодой. Должно быть, он кто-то значимый. Наследник трона? Садится у стола и, потянувшись за пивом, удостаивает меня тяжелым взглядом. Не любит меня. Посчитал своим соперником? Отобрал у него первенство?
Смотрю, как у него стискиваются челюсти, как непроизвольно раздувает он ноздри.
Я активирую цифрал. Просто так, на всякий случай.
* * *
Сделав еще глоток из слегка попахивающего буйволового рога, Драккайнен решил, что это можно пить. Не напоминало «Карловацкое», что уж там. Он протянул руку к деревянной тарелке и какое-то время шевелил указательным пальцем, двигая его от одного куска мясца к другому, пока не сделал выбор. Цапнул что-то, что решил называть огурцом.
Пир продолжался, и ничто не указывало на то, что воины собирались ложиться почивать. У кого-то закрывались глаза, некоторые подремывали над мисками, но пытались хранить сознание. Едва кто-то начинал клониться над столом, сосед, явно обеспокоенный, будил его толчком. Засыпающий тоже казался напуганным.
Уже какое-то время как его оставили в покое, и Драккайнен развлекался, наблюдая. Безумный Крик то и дело вперял в него пристальный взор и сидел, насупившись, потягивая пиво маленькими глотками. Насколько можно было судить, он что-то замышлял. Его жена хмурилась над пустой тарелкой и исподлобья глядела на товарищество за столом. Выглядела она куда младше Грисмы: оценить было непросто, но казалось, что ей нет и тридцати. Приняв во внимание, что замуж она наверняка вышла около четырнадцати, запросто могла быть матерью и надувшегося юноши с длинными волосами, и восьмилетнего ребятенка, сидящего подле нее. Оба были одеты богаче прочих: их кафтаны сшили из цветной ткани, на манжетах и по вороту украсили сложной вышивкой. У поясов висели металлические бляхи и чеканные ножи. На шее они носили золотые амулеты. Отчего же они такие хмурые? Королева могла быть разочарована жизнью в этой пустоши. А может, ее достала таинственная угроза, от которой все тряслись? Или дело в Драккайнене? Несколько раз он перехватывал долгий оценивающий взгляд, слишком навязчивый, чтобы оказаться случайно брошенным, и решил, что это древнее как мир явление. Бедная амбициозная девушка, плененная в провинции старым и более богатым мужем, – и таинственный пришелец. «Убежим вместе». Мелодраматично, но возможно. Молодой человек, в свою очередь, предположительно завидовал славе, какую Страннику дала принесенная лапа чудовища. Бедный сопляк, он понятия не имел, что без цифрала Вуко не имел бы ни малейшего шанса – как любой другой человек. Тварь слишком быстрая и умелая. Если таких зверьков тут много, обитатели двора Безумного Крика и вправду столкнулись с проблемой.
Размышлял он от скуки. Делал то, от чего его предостерегали.
«Мы не знаем этой культуры», – говорили они. Остерегали от ошибочных подобий и мышления привычными категориями. «Ты увидишь всякие вещи, но не поймешь их значения. Некоторые покажутся тебе дурными. Ты увидишь детей, пьющих алкоголь, насилие в семье, убийства, интриги, жестокость, кровосмешение и каннибализм. Не обращай внимания. Не твое дело. Это происходит по ту сторону космоса. Ты должен найти и вытянуть оттуда несколько человек. Остальное пусть идет как идет».
Баба, укрытая в нише, не двигалась какое-то время и, должно быть, уснула. Нет. Кто-то подошел к ней, невидимый для остальных в глубокой тени колоннады, и склонился к ее уху. Драккайнен напряг слух.
«Солнце наверняка уже зашло… Тьма густеет».
«Идет ли холодный туман?» – прошептала в ответ старуха.
«Пока нет».
«Ты принес?»
«Я боюсь прикасаться к его вещам, достойная».
«Глупец! Он выпил кровь и ничего не заметил! Он слаб. Должен нас покинуть».
«Наведет на нас Пробужденных».
Вот я тебе, к моим вещам лезть! – забеспокоился Драккайнен. Одетый в черное информатор отошел от бабы, но не приблизился к его скарбу – просто вышел из зала.
Старуха что-то замышляет, замышляет и Грисма, королева – тоже, молодой зыркает так, словно я у него козу выдоил… Что за компания!
– Когда началась эта «война богов»? – спросил он у Горелого Гнева.
Тот посмотрел на него словно на идиота.
– Кто может знать дела богов? Для нас важно, что Пробужденные начали выходить из урочищ. Некогда раньше о Пустошах Тревоги говорили разное, но по ним можно было ходить. Охотились мы на оленей, распахивали поля. Были мы теми, кому неведом страх, потому что умели здесь жить. Знали мы, где урочища и как их миновать. Умели мы ходить через топи и скалы. Летом спускали на воду ладьи и плавали до самого моря, а потом искали счастья в дальних странах. Уже много лет не плаваем. Вся наша земля стала урочищем. Сядь мы в ладью, возвратясь – нашли бы лишь пепелище и Пробужденных. Кто войдет в лес – уже не возвращается. Под плуг и мотыгу идут лишь те поля, что видны со стен. Дорогами никто не ходит. Нет путников, купцов или поющих. Дорога начинает зарастать. Говорят, это холодный туман и пуща, но я думаю, что так нынче повсюду.
– А что такое «холодный туман»?
Во время сбора информации важно, чтобы собеседник говорил о том, что интересно ему. Большинство людей жаждет говорить лишь о себе. Поэтому, когда нужно добыть информацию, полезно сделаться благодарным слушателем. Не пытаться говорить самому, а слушать и расспрашивать о подробностях. Горелый Гнев наклонился в его сторону и принялся шептать:
– Сперва становится холодно. Даже в солнечный день. Потом свет делается странным, и появляется туман. Иной чем обычно. Густой и холодный. Делается тихо. Даже птицы не поют. А потом приходят Пробужденные. Иной раз это умершие. Иной – чудовища. Мой свояк на моих глазах постарел и умер. А то, что умерло, продолжало двигаться. Я приколол его копьем к земле и сбежал. Когда приходит холодный туман, самое худшее, что есть у человека в голове, встает перед ним, как живое. Моя жена боялась воды. Не научилась плавать, не подходила к ручью, даже колодца опасалась. Говорила, что часто снится ей, будто она тонет. Туман настиг ее на поле у леса. Говорили, что металась, как безумная, будто напали на нее осы. А потом – начала рыгать водой. Целые ведра воды из нее выходили, пока она не потопла. В воде, которую имела внутри. На сухом, словно камень, поле.
– Отчего вы не уйдете отсюда?
– Мы – люди Грисма. Племя Безумного Крика. Не уйдем. Хотим сражаться. Это наша земля. Нам некуда уходить. Старуха говорит, что придет день, когда Пробужденные перестанут к нам приходить. Что они куда-то идут, а наш двор просто стоит у них на пути. Но однажды уйдут все – и заберут туман с собой. Из него они берут силы.
Это могут быть вулканические испарения, подумал Драккайнен. Токсические и вызывающие галлюцинации. Или подводные запасы какого-то газа, как в озере Танганьика.
– Теперь, когда ты с нами, мы справимся, – внезапно заявил Горелый Гнев. Драккайнен остолбенел. – Ты умеешь убивать Пробужденных. Научишь нас, и мы пойдем сражаться. Отгоним их, – туповатое лицо начало лучиться от энтузиазма. Горелый Гнев в своей запальчивости выглядел почти симпатичным. – Пуща снова услышит Безумного Крика. Мы вернемся на свою землю.
Это может оказаться, например, спорыш или что-то такое в зерне, подумал Драккайнен.
– Никто не ходит дорогой? Я был первым? Насколько давно?
– Порой случается так, что путник оказывается Пробужденным. Выглядит как человек, а потом становится поздно.
Драккайнен потянулся за кувшином и налил Горелому Гневу пива. От души.
– Странным человеком может оказаться чужеземец или попросту безумец. Я одного повстречал на дороге. Звался Вороновой Тенью. И это необязательно Пробужденный. Не приходил сюда никто странный? Года два назад?
Горелый Гнев некоторое время пил, затем отставил рог, снабженный посеребренными ножками, и вытер рукавом лицо.
– Теперь, что ни возьми – все странно, – ответил он неуверенно. – Война богов… Дурное время…
– Dobrodoszli. Мы пошли по кругу, – проворчал Драккайнен и сделал глоток из своего рога. Решил рискнуть и все поставить на одну карту.
– Я кое-кого ищу. Четырех людей. Чужеземцев издалека. Трое мужчин и женщина. Это не Пробужденные, но могут оказаться опасными. И – они странные. Не говорят на вашем языке, и у них слепые белые глаза.
Горелый Гнев приподнял голову над столом и сверлил Странника черным неподвижным взглядом, как у змеи.
– Один был. Прежде чем все рухнуло. С рыбьими глазами. Должен бы оказаться слеп, но видел. И говорил поганым языком, как умственно отсталый. Нос у него был странный. И черные волосы, длинные такие, зачесанные назад. И белое, словно воск, лицо. И высокий, как не человек. Еще выше тебя. Но это был Песенник.
– Кто?
– Умел сделать так, чтобы вещи появлялись. Некогда таких было много, но теперь – уже нет. Люди говорят, они друг друга поубивали. А потом другие поубивали их. Некоторые такими рождаются, но лучше их изгонять. Говорят, они приводят холодный туман.
– Почему?
– Это те, кто украл песни богов. Те, что умеют лечить, или убивать, или деять. Разное. Один знает одно, другой – десять. Когда боги об этом узнают, насылают туман, чтобы он нашел такого. Так было и с этим. Не умел много, но хватило. Пробыл два дня и ушел. А потом пришел холодный туман и появились Пробужденные. Туман пришел за ним.
– А что он сделал? – спросил Драккайнен осторожно.
– Говорил всякое. Я видел только, как он зажег огонь молнией из руки и ел песок с водой.
Бледный, высокий, с длинными черными волосами… Ван Дикен, подумал Вуко. Ван Дикен с зажигалкой и порошковым супом. Но где остальные?
Горелый Гнев кивал над столом, а его черные змеиные глаза помутнели. Снизу даже появился узкий полумесяц белков.
– Не должно об этом говорить. Нынче ночь. Дурное время… Война богов…
Происходящее напоминало неудачную сельскую свадьбу. Несмотря на усилия, часть уже засыпа́ли. Физиология и алкоголь начинали брать верх. Скручивались в клубок под стенами, падали лицом на стол между обгрызанными костями, лужами пива и остатками овощей. Те, кто оставался трезв и в сознании, присаживались поближе к очагу, где тлели балки, шипящие под каплями мелкого дождя. Драккайнен проследил за очередным вероятным информатором, с оторопью констатируя, что повседневность средневековья – это призрачная, всеохватная скука.
Тут нечего делать. Можно сидеть над пивом, рассказывать друг другу истории. Но и только. Кроме этого, был еще страх. Все тревожно глядели во тьму за дверью, стараясь держать под рукой оружие, даже во время сна. Нервно вздрагивали сквозь сон, как дикие звери; порой просыпались и поводили вокруг испуганными глазами, а потом засыпали снова. Скука и страх. Длинные периоды монотонности, прерываемые короткими спазмами ужаса и испуга.
Появился ван Дикен. Что он здесь делал? Куда ушел?
– Стирсман хочет говорить с тобой, – это был толстый старик, который к нему выходил. Странник уже знал, что его зовут Нуле Спящий-на-Льду. Стоял напротив Драккайнена, склонялся над лавкой, грызя кость. Разведчик взял рог, к которому уже успел привыкнуть, и пошел за стариком, стараясь не наступить на кого-нибудь из дремлющих на лавках и под ними, пробираясь между спинами тех, кто еще пытался беседовать.
За этим – лучшим – концом стола, за которым сидел владыка, развлечения были еще хуже, чем в других местах. Мнимая королева сидела ровно, будто палку проглотила, и смотрела стеклянными глазами прямо перед собой. Молодой пренебрежительно жевал маленькие куски мяса, а мальчишка подремывал, вжавшись в мех, покрывающий плечи матери.
Сам Грисма глядел из-под кустистых бровей и то и дело плямкал губами.
– Идет осень, – произнес он внезапно. – Куда пойдет пришелец, у которого никого нет? Ни крова, под которым спрятаться, ни огня, чтобы согреть руки, никакой еды в котелке? Останься с нами. Я дам тебе жену и дом. Их-то у меня больше, чем мужей, которые могли бы разводить там огонь. Дам тебе золота. Стань подле меня, Странствующий Ночью, и подопри слабеющую руку старца. Вместе мы отобьемся от Пробужденных, и тогда туман уйдет.
– Никто не может встать на пути у предназначения, – ответил Драккайнен. – А мое предназначение – путь. Не могу греться у костра или жить под крышей, пока не отыщу четверку чужих со слепыми рыбьими глазами. Такова воля богов.
«Когда разговор пойдет не по-твоему, взывай к высшим силам», – советовали ему.
Безумный Крик пренебрежительно фыркнул.
– Ты сам говорил, что боги твои далеко, под другими звездами. И сомневаюсь, чтобы здесь, в землях наших богов, они могли бы возразить. Теперь, когда боги ведут войну, а мир сошел с ума, никто рассудительный не станет так поступать. Кто знает, чего они могут хотеть? Зачем тебе искать что-то, чего уже нет? Кости тех, кто здесь прошел, могут давно гнить на тропах окрест.
– Это не только дело богов, – таинственно ответил Вуко. – Те чужаки прошли по твоей стране. Мне говорили, что один был здесь. Высокий Песенник с рыбьими глазами.
– Было время, когда по дороге бродили путники. Приходили и уходили. Неизвестно откуда и неведомо куда. Теперь приходят лишь Пробужденные. Ежели не останешься с нами, однажды они перейдут через частокол. Не будет уже двора Безумного Крика. Будут лишь пепелища, кости и вороны. Останься. Останься хотя бы до весны. Научи нас, как убивать детей холодного тумана. Одного ты прирезал.
– Одного, – заметил Драккайнен. – И это отняло у меня час. Будь их больше, я бы наверняка погиб. Забери людей, скарб и уходи отсюда. Найдешь другой холм и поставишь другой двор. Зачем жить в таком месте?
– Здесь земля наших предков, – рявкнул юноша. – Перестань его умолять, отец. Тебе не нужен этот приблуда. У тебя есть сын и есть верные воины. Племя Безумного Крика еще живо.
– Юноша, который ничего не повидал, должен молчать, когда говорят мужи, – процедил Грисма. – Этот чужак нынче принес лапу чудовища. Кто из вас сделал подобное? Может, ты?
– Пес тоже порой приносит руку с места битвы, но только глупец полагал бы, что пес выиграл битву. Покажи мне, как ты убил чудовище, пришелец. Покажи мне – и я поверю, что ты нам нужен.
– Молчи!
– Позволь мне с ним сразиться, Грисма Безумный Крик. Не заставляй меня слушать, как величайший стирсман и воитель, который некогда водил пять кораблей на конец мира, умоляет бродягу о помощи. Не говори с ним так, словно ты – один. Я убью его, и тогда ты поймешь, кто оборонит нашу землю. Или умру, и тогда пусть обороняет он.
– Молчи, глупец! Я хочу получить воина, а не потерять сына.
– Мы не станем сражаться, – успокоил его Драккайнен. – Это было бы глупо.
– Тогда тебе придется отдать мне это, – процедил юноша и поставил на стол металлический резной цилиндр размером с полулитровую консерву. Контейнер с радиолярией.
Драккайнен вздохнул. Один удар кончиком указательного пальца в точку между глазами и одновременно – второй, большим пальцем в сухожилие на запястье, чтобы он выпустил контейнер. Доля мгновения – и можно вернуться к прерванной беседе. Только вот стол широковат.
– И что, отец? Снова попросишь труса о помощи – труса, который боится снять оружие даже под кровом? Которому не хватает кольчуги, как мужу, и приходится обкладываться латами, словно черепахе? Потому что он бросил тебе кусок мяса?
Грисма молчал некоторое время.
– Да будет так. Тебе придется выкупить добычу, пришелец. Грисмальфи Дождевая Птица желает битвы. Потому – бейтесь. Покажи нам, как ты убил чудовище.
– Я не стану никого убивать, – прошипел Драккайнен. – Я уже сказал.
– Ну так не убивай его. Но, если хочешь получить эту вещь назад – бейся с ним. А тогда, быть может, тебе придется принести смерть.
Вуко скрежетал зубами, шагая к своему скарбу, сложенному под стеной. Быстро проверил скирду вещей, но, кажется, больше не пропало ничего. И все же он нарушил правило – не спускать глаз со своего имущества.
В зале поднялась суматоха. Воины радостно покрикивали, раздвигали столы, зажгли больше факелов, внесли еще несколько ламп на треногах.
Вуко снял панцирь и кольчугу как раз к моменту, когда Грисмальфи натянул свою. Оставил на себе только легкий нагрудник и вынул меч из ножен.
Свет был так себе, лампы коптили. Деревянный пол, покрытый тростником, мог оказаться слишком скользким. Драккайнен отстегнул пояс и встал посреди комнаты в высокой стойке с мечом, небрежно удерживаемым в руке. Противник комично сопел, из-под шлема был виден лишь рот с ощеренными, как у пса, зубами и напряженными желваками. Грисмальфи провел клинком по своему щиту, высекая пучок искр, и издал высокий вибрирующий вопль. Лицо его покраснело, а глаза в треугольных отверстиях казались безумными.
– Надеюсь, он слишком молод для апоплексии, – пробормотал Драккайнен на хорватском.
Провернул меч в руке так, чтобы острие спряталось за его предплечьем и коснулось плеча. Из ладони выступала лишь рукоять. Стоял, чуть сгорбившись, на ровных ногах и подняв левую руку на высоту солнечного сплетения. Человек в стойке айкидо совершенно напрасно кажется задумчивым или рассеянным.
Молодой кинулся в атаку совсем иначе, танцуя и подскакивая, словно боксер, меч и щит все время нервно двигались в его руках, как голова кобры. Драккайнен глядел куда-то в середину его фигуры и ждал, расслабив мышцы. Понял уже, что у Грисмальфи неплохие рефлексы. Первый удар пал бы совершенно неожиданно, если бы не подобная презрению гримаса, приподнявшая губу юноши всего на четверть секунды раньше. Это был низкий, хитрый удар в бедро, рассчитанный на то, чтобы перерубить мышцы. Хватило сделать полшага назад, а потом сойти с дуги удара. Юноша восстановил равновесие несколькими танцевальными прыжками и внезапно выстрелил коварным уколом. Драккайнен перекрутил плечи и поворотом сошел с линии атаки, после чего, все еще держа меч вдоль руки, потянулся через подмышку парня к его шее.
Молодой князь рухнул на пол с изрядным шумом, щит с грохотом поехал под стол. Стоящие вблизи отскочили в стороны.
Драккайнен подождал, пока Грисмальфи найдет щит и попадет трясущейся от злости рукой в петли и отыщет шлем, укатившийся через весь зал.
Следующая атака была еще быстрее, состояла из нескольких финтов, один за другим, пока он не дождался укола, направленного по наклоненному щиту и сопровождаемого диким визгом.
На этот раз Грисмальфи перевернул лавку и сдвинул с места стол, щит на миг увяз под мышкой, блокируя ему руку.
– «Каковы бы ни были обстоятельства, сохраняй достоинство. Достоинство – приготовиться к сражению холодно, но умело, не давая вывести себя из равновесия движениями противника. Кажущаяся кротость достоинства скрывает тысячи возможностей. Так сила может противостоять изменениям. А следовательно, достоинство и сила – едины», – процитировал ему Драккайнен, стоя посреди зала.
Еще три атаки спустя молодой князь уже покачивался от усталости, получв ушибы от падений и покалеченный краем собственного щита.
Колол, резал и рубил, но противника никогда не было в месте, которое прошивал меч. Странник был как вращающийся шар, как туман. Однако сам ни на миг не выставил клинок, все время прятал его вдоль правой руки. Ему оказалось достаточно быстрого хвата четырьмя пальцами ладони, которыми он выкрутил парню запястье, бросая его на землю, рывка спиной, шага и поднятия руки. Небрежные, ленивые жесты, будто отгонял муху.
– «Кусок коры смеется над штормом, а ива – над ураганом», – посоветовал Драккайнен, хотя на самом деле ему было не до смеха.
Парень вправду быстр и опасен, а Вуко не обучали вести бескровные дружеские поединки. Каждый миг ему приходилось концентрировать свое внимание, чтобы не поддаться инстинкту, вбитому в мозг и мышцы, приказывавшему перерезать мелькнувшую аорту; перерубить основание черепа, когда открывался затылок противника; прошить одним быстрым уколом горло и мозжечок; распороть брюхо, когда противник пробегал рядом, ведомый собственной инерцией. Каждые пару секунд случалось несколько таких моментов, когда лишь усилие, сдерживающее полубессознательное движение руки, отделяло Грисмальфи от смерти.
Тот и понятия об этом не имел. Думал лишь о собственной ярости и поражении, все сильнее битый, уставший и униженный. Становился все менее ловок и все более опасен.
Особенно для себя.
Хватит, решил Драккайнен и одним движением снес шлем с его головы, после чего клюнул парня за ухо рукоятью меча.
Грисмальфи качнулся, ухватился за край стола и свалился лицом в истоптанный тростник. Чуть дернул одной ногой и стал неподвижен.
Драккайнен отошел в угол во внезапной тишине и спрятал меч в ножны.
– Жив, – произнес, глядя Грисме в глаза. – Утром стоит дать ему воды и перевязать голову.
Потянулся к столу и взял контейнер с радиолярией.
– Это мое, – сказал. – И так оно и останется.
* * *
Баня, в которой мне придется спать, – каменная пристройка. Сарайчик три на три, приставленный к одному из домов. Есть в нем сложенный из больших камней очаг, вылепленный из окаменевшей глины пол и деревянный помост. На балках под потолком сушатся какие-то травы, дым лениво уходит в дыры на крыше. Я чувствую облегчение и злость.
Я не справляюсь. Не умею с ними договариваться. Я ничего не узнал, ничего не понимаю, дал спереть у себя радиолярию и позволил устроить драку. Браво, Драккайнен.
Зато мне не нужно лежать вповалку вместе с другими воинами в большом, вонючем зале, среди смердящих немытых тел. В косматом полумраке, где каждый миг кто-то храпит, скрипит зубами, чешется или пускает ветры.
Я сижу на своем седле, пыхая трубочкой, и смотрю на рдяные поленья в очаге.
Не знаю даже, гостеприимство это, привилегия или знак недоверия.
Ночь темна, снаружи по-прежнему сеет дождь. Слышен только кашель стоящих на стене стражников. То, что здесь происходит, – нечто вроде повышенной боевой готовности. Обычно они, полагаю, в зале не спят. Даже у рыцарей Грисмы есть женщины, дети, дома или постой. Однако сейчас – все иначе. Нынче время холодного тумана, что бы это ни значило. Женщины и дети спят в отдельной каморе, тоже с оружием под рукой, вповалку. Воины после пьянки дремлют на столах и на полу зала, охраняя доступ к их спальне. Последняя линия обороны. Прижавшись друг к другу, словно кролики. Даже по нужде они выходят, пригнувшись и со страхом, – прямо за порог. За ворота городища наверняка не вышли бы в ночи ни за какие сокровища.
Я выбиваю трубку о камни очага, потягиваюсь и выхожу наружу, набрасывая капюшон полукожуха. В колеблющемся огне ламп, что стоят под крышей на стене у ворот, капли дождя напоминают капли ртути.
Я прислушиваюсь. Доносится лишь лай собак, шаги часового, отмеряемые стуком древка, шипение масляных фитилей, скрип ремней, лязг металла и шум дождя. Ничего больше.
Стою так минуту-другую, дожидаясь, пока часовой меня приметит. Он боится оторвать глаза от тьмы за частоколом – лишь зыркает через плечо. Я всхожу по скользким деревянным ступеням, стараясь как можно больше шуметь. Слишком они тут нервные.
– Ты тот чужак, что странствует в одиночку? Тот, что убил Пробужденного? – спрашивает воин, кивком указывая на торчащее над воротами копье с насаженной лапой.
– Я. Хотел увидеть холодный туман.
– Ничего не видно. Никогда ничего не видно, пока не становится поздно.
– Ты видел когда-нибудь Пробужденного?
Он крутит головой:
– Не знаю. Что-то я вижу. Движение, туман. Порой просверк глаз. Однажды видел, как человек внезапно загорелся. Но обычно я лишь нахожу трупы. Пойдешь дальше?
– Такая судьба.
– Говорят, ты безумен. Но мне думается, ежели ты уйдешь отсюда, проживешь дольше нашего.
– Почему же вы не уйдете?
– Как уходить со своей земли? Одному легче. А целым кланом? Дома и земли не забрать. Ежели стирсман скажет – пойдем. Не скажет – останемся. От войны богов не сбежишь. Так везде. Надо выносить прочь странных детей и не красть песни у богов. И блюсти обычаи. Всегда так было, так и теперь зло минует. Ты далёко идешь?
– Ищу безумных чужаков с рыбьими глазами. Якобы здесь был один. Мне говорили, что – Песенник.
– Был такой. Давно, но был. Высокий, с черной гривой и бледный словно рыба. С месяц просидел, а однажды ночью исчез. Глаза такие жуткие, что аж ноги слабели. Такой отвратный, а бабы за ним увивались. И, говорят, Грисма хотел его убить, но боялся. Верно говорят, что был это Песенник. Сразу как он исчез – пришел туман, и восемь мужей погибли. Говорят же, что туман идет вослед Песенникам. Чтобы песни отобрать и вернуть богам. Говорят, нет ничего худшего, чем Песенник, потому как хотя песни его и деют, зато злую судьбу притягивают. Со всем прочим человек-то справится. На железо найдется клинок, на яд и болезнь – зелья и заговоры, даже на бабу способ найдется. Только с песнями богов человек ничего не поделает. А того хуже, ежели из-за этого некий бог о тебе прознает. Зачем ты его ищешь?
– Такая судьба, – отвечаю уклончиво. – Он кое-что кое-кому должен. Не здесь его место. Я должен забрать его отсюда. Мой король желает его видеть, – четыре глупых объяснения лучше, чем одно хорошее. И, как видно, хватает, поскольку стражник кивает и замолкает.
Я концентрируюсь и активирую цифрал.
* * *
В усиленной подсветке тоже видно не много. Та же вырубка и те же кусты, вьющаяся меж скал река и мрачный лес на горизонте. Он сосредоточился на температуре и тогда увидел холодный туман.
Тот и вправду был холодным – на добрых десять градусов ниже окружающей температуры. Сам эффект тумана возникал из-за конденсации, но вокруг городища удерживалось неспокойное кольцо ледяного воздуха. Еще дальше виднелись вьющиеся полосы, что дотягивались, как щупальца, до леса.
Драккайнен оперся о балюстраду и посмотрел внимательнее. Туман, который виделся ему сине-голубыми испарениями, все время был в движении. То густел, то вновь прореживался, клубился в неясных формах. Казалось, из него то и дело проступают фигуры людей и животных, какие-то совсем неопределенные формы, будто ветви, или шевелящиеся щупальца, или клубки змей. Все это находилось в непрестанном движении, перетекало одно в другое. Где-то туман сгущался в пятна, окруженные глубокой синевой, которые словно высасывали тепло из окружения. Продолжалось такое минуту-другую, после чего облако рассасывалось и казалось, что там стоит уродливая получеловеческая фигура. Он увидел нечто, напоминавшее горбатого человека с карикатурно измененными чертами, выщербленными топорами вместо ладоней и клепаным черепом, поросшим шипами, на которые надеты были человеческие уши. Нос его и подбородок напоминали крученые корни и переплетались, а глаза были совершенно круглыми, рыбьими. Кожа твари выглядела полированной ржавой жестью.
Чем дольше он глядел, тем больше замечал страшилищ – словно в какой головоломке. Казалось, фигуры подходят к стене и глядят, стоя полукругом метрах в двадцати у ворот. И все навязчиво вызывали в памяти фигуры с полотен Босха. Те самые карикатурные черты, тот самый садистский сюрреализм, только без устойчивых форм. Они постоянно росли, менялись, пульсировали. На его глазах крупная жабоголовая тварь внезапно вытянулась, распрямила худые ноги, после чего согнула удлиненное туловище, сложила под ним шипастые конечности и приподняла треугольную голову с лицом Дейрдре, Дейрдре Маллиган из Дерри, с большими, открытыми змеиными глазами и развевающейся гривой – словно клубком раскаленных проволок. Он увидел пару грудей, щелкающих зубами, и вздрогнул.
Как наркотический приход, подумал он. Этот проклятущий туман – галлюциноген.
Тварей он видел только в инфракрасном. Они ничего не делали. Просто стояли и смотрели.
Смотрели на лапу, повешенную на воротах.
Драккайнен потряс головой и взглянул нормально, без разницы температур, при усиленной подсветке.
– Видишь что-то? – спросил стражник.
– Туман, – это была правда.
Он снова видел только туман.
* * *
Проснулся он внезапно, погруженный в душную темень бани и душный запах угасшего очага. Проснулся и вслушался. Не сел – просто приоткрыл веки и медленно передвинул руку, чтобы нащупать рукоять меча. В бане не было окон, а свет, падающий сквозь дымоход, был слишком слаб, даже под усилением. Он взглянул в перепаде температур, но и так чувствовал, что комнатушка пуста. Это было нечто снаружи.
Он плавным, бесшумным движением откинул одеяло и соскользнул с помоста, на котором расстелил постель.
Снаружи тихо, успокаивающе шелестел дождь. Слышались неторопливые шаги тяжелых сапог стражника. Стукнуло древко. Мягкий, слабый отзвук растираемых мокрых, замерзших ладоней. Где-то поблизости улавливалось легкое дыхание: через нос, медленное, но ведь любое дыхание – звук. Легкий шелест одежды. Плеск грязи.
Он почувствовал мурашки на руках. Гиперадреналин. Сконцентрировался, придержал приходящее ускорение. Процесс можно задержать, но на это требуется несколько секунд. Последнее, что ему было нужно сейчас, это метаться по бане, словно нетопырь в клетке, сокрушая все вокруг.
«Единственное твое оружие – мозг, – говорил Левиссон. – Не мышцы, не меч, но мозг. Не будет как в фильмах. Тебя частенько подловят или захватят врасплох. Потеряешь оружие или не успеешь его выхватить. Узнаешь вкус паники, поражения, усталости от боя. Помни: гибнут, главным образом, те, кто перестал думать. Кто поддался. Опустил руки. Никогда не переставай планировать. Ни на секунду. Все – оружие. Крик, обморок, призыв о помощи, ложка или кусок тряпки. Любое выживание – торжество импровизации».
Спокойным движением он вытянул меч из ножен и глянул в треугольный вырез одного из дымоходов. Незакрытое пространство под крышей, слишком маленькое, чтобы там уместился человек. Снаружи снова раздался плеск грязи. Кто-то вступил в лужу.
Он огляделся снова. Погасшая лампа. Куча скарба в углу. Помост с расстеленной постелью. Каменный очаг. Все может стать оружием.
В щели двери появилось узкое острие ножа и начало приподнимать оборотную деревянную щеколду. Легонько. Так, чтобы та вышла из крюка, но не вывернулась в другую сторону. А потом хватило бы надавить на дверь. Завесы из кожаных ремней не должны скрипнуть.
Пришелец скользнул внутрь, прикрыв за собой дверь. А потом бесшумно стал красться к помосту, на котором покоилась скорченная фигура, прикрытая одеялом. В бане было совершенно темно, потому пришелец не мог увидеть Драккайна, стоящего над дверью, на косяке, прилегающем к стене. Вуко же видно было достаточно. Сунул клинок меча тупой стороной между зубов и, вытянув руки вперед, прыгнул. Все – в тишине.
Драккайнен ударил ладонями в стропила, кинул тело вниз, приземляясь на пол, после чего одним движением сунул руку под мышку пришельца, хватая его за горло, и, стиснув сонную артерию у самой трахеи, схватил меч. Подбил колени нападавшего, опрокидывая его на себя. Повернутое вниз острие коснулось сонной артерии. Теперь хватило бы одного движения.
Короткого.
Но острие не сдвинулось.
– Сейчас я тебя отпущу, – выдохнул Драккайнен ласково. – Но, если попробуешь крикнуть или я почувствую, что твой живот напрягается, перережу тебе дыхательное горло. Не сумеешь даже пикнуть… моя госпожа.
Отпустил ее.
Королева минутку кашляла и растирала горло, стоя перед ним на коленях и с опущенной головой.
Он поднял нож, который она выпустила. Узкий, не слишком длинный. Шило. Пробьет почти всякую одежду и войдет достаточно глубоко, но не оставит много следов. Оружие тайного убийцы.
Она пыталась что-то сказать, но снова закашлялась. Он зачерпнул кубком в ведре с водой, подал ей.
– Он говорил, что придешь. Говорил, что за ним придут другие. Я сразу тебя узнала. У тебя нет святых глаз, как у него, но ты – такой же. Высокий, со странным лицом. Я знала, что ты – тоже сын богов. Он точно так же сидел и смотрел. Так, словно все знал наперед. Я ждала, когда ты придешь. И ты пришел. Принеся руку моего сына.
Драккайнен остолбенел.
Надлежало задать один из миллиона вопросов, которые пришли ему в голову, но он не знал, какой именно.
Она дернула застежку, и обнимающие ее меха пали на землю. Королева задрала платье и легла на спину на краю помоста, широко разводя ноги. Протянула к нему руки:
– Возьми меня.
– Ты хотела меня убить.
– С той поры, как он ушел, я каждые девять месяцев рождаю дитя, хотя не хожу в тяжести. Я боюсь. Старуха приказывает вынашивать их втайне. В лес. В холодный туман, чтобы они умирали. Но они возвращаются. Идут к своему отцу. Однажды они отомстят мне и заберут с собой. Я принадлежу ему. Не хочу, чтобы все закончилось. Возьми меня, хочу родить больше детей холодного тумана. Однажды старуха меня убьет. Столько лет она притворялась Знающей, и только он показал, чего она стоит на самом деле.
«Что ван Дикен здесь наделал?» – с отчаянием подумал Драккайнен. Превосходно. Ему было интересно, сколько людей в истории, попав в аналогичную ситуацию, смогли воскликнуть перед смертью: «Король, это не то, что ты подумал!»
– Ты должен ему заплатить. Дай мне ребенка взамен того, которого убил.
– У тебя был ребенок с ван Дикеном?
– С кем?
– Песенник с рыбьими глазами. Это он приказал тебе меня убить?
– У меня было с ним множество детей. И множество – еще будет. С ним и с тобой. А назывался он Акен.
Акен. Иеронимус ван Акен, прозываемый Босхом.
И дети холодного тумана. Рождаемые без беременности и уносимые в лес.
Ясно.
Темнота бани скрывала эти отталкивающие мелкие отличия. Узкие крылья носа. Наполненные чернотой коровьи глаза. Волосы, растущие на загривке и в верхней части плеч, словно конская грива. Продолговатые уши. И прочие подробности, благодаря которым она казалась нечеловеком. В темноте же она была просто женщина. У нее были холодные руки и мокрые стопы.
Немного пахла конским потом, немного – мускусом и кислым молоком. Чуждо. Нечеловечески.
Он мог бы ее взять.
И понял, что мог бы ее и убить, приди ему в голову такой каприз.
Мог бы сделать все что угодно. Убить Грисму, править вместо него. Управлять толпой обезумевших, завшивленных, надышавшихся галлюциногенными испарениями дикарей. Или поубивать их всех и отправиться дальше. Не было над ним ни закона, ни религии – ничего. Был он здесь один. Мог делать все или ничего. Обе возможности казались достаточно скучными и ни к чему не приводили. Мир нигилизма.
Он взглянул в ее широко открытые коровьи глаза, раскрытые губы, мелкие зубы.
Королева…
Ему захотелось смеяться.
Это непрофессионально.
– Иди сюда… – простонала она.
Во дворе внезапно раздался какой-то шум. Стук дверей, топот множества ног, крики, что-то с шумом рухнуло, собаки взорвались яростным лаем.
Они отскочили друг от друга. Драккайнен схватил штаны, впрыгнул в сапоги, кое-как охватывая голенища ремнями, воткнул голову в шлем и с одними наручными щитками в зубах взглянул на королеву, что сжалась на помосте, глядя на него влажными глазами, словно перепуганная крыска.
За дверьми загремел яростный растущий рев. Протяжный, от которого по спине бежали мурашки. Точно такой, как издавал княжич во время поединка.
– Безумный Крик… – прошептала она. А потом ее зубы обнажились в сумасшедшей ухмылке. – Идут мои дети! Ты их призвал! Близится холодный туман!
Драккайнен смерил ее тяжелым взглядом, все еще сжимая наручные щитки в зубах, и дернул дверь.
На площади царил полный хаос. Можно было увидеть воинов в шлемах, но без штанов или полностью одетых, но без оружия. Люди бессмысленно метались во все стороны, то и дело сталкиваясь. Зажгли факелы вдоль частокола, и теперь площадь была залита нервным, как при пожаре, светом. Мокрые факелы сыпали искрами и коптили, кто-то споткнулся о бочку и упал, кто-то орал неясные приказания, но его никто не слушал. Над всем этим вставало понурое ворчание рога.
Драккайнен нашел невымощенный кусок площади и воткнул меч в землю, после чего сунул пальцы в отверстия кожаной перчатки, соединенной с наручами.
– Что за бардак… – пробормотал невнятно по-хорватски, затягивая зубами ремешки. Ударил ладонью по доспеху, вынул меч и сунул его под мышку. – Среди ночи… А у меня свиданка в самом разгаре… С королевой, piczku materi…
Кто-то выскочил из-за его спины. Вуко ударил его в грудь раскрытой ладонью, прихватил в горсть кольчугу, притянул к себе:
– Что происходит?! Куда летишь?!
– Пробужденные… – проблеял тот, дыша запахом старого пива. – Пробужденные…
– Все уже и так пробуждены, баранья голова! – рявкнул Драккайнен. Оттолкнул его на стену бани и двинулся к воротам.
Дикий боевой вопль раздался снова, замораживая кровь в жилах. Воины останавливались и стихали на миг-другой.
Княжич стоял под дождем с мечом и щитом в руках. Полуголый, только в меховых сапогах и исподнем. Драккайнен не узнал его в первый момент, потому что Грисмальфи нарисовал себе на лице и груди черные широкие зигзаги. Стоял и издавал загробный рев, от которого звенело в ушах. Ответ был хоровым, словно отзывалась шакалья стая.
Видать, я его изрядно долбанул, подумал Драккайнен с сочувствием.
– Грисмальфи, нет! – пискляво надрывалась какая-то девица, захлебываясь пронзительным плачем.
– Встану в руинах живым последним, – крикнул княжич. – Не отступлю и слез не сроню! Мир пусть рыдает, враги пусть бегут. Умершие встанут со мной пусть. Пусть помнят живые. Бога разбудит пусть песнь о последнем живом! Плачь, Хинд, над неотступившим! Иду я! Тот, кто путь преградит! Не пройдете!
Это какой-то обряд, подумал Драккайнен. Остальные расступились, дав Грисмальфи пройти. Стражники морочились с засовами на малых дверях в центре ворот – деревянных дверок размером с человека, снаружи щетинившихся железными шипами. Они чуть приотворились, Грисмальфи протиснулся в щель и растворился во тьме.
Они столпились над главными воротами, чтобы увидеть, как героический сын владыки станет смывать позор вчерашнего поражения. За ужином над ним смеялись, а теперь в их глазах стояли слезы – когда он жертвует собой в припадке мужества. Будет он там стоять и отгонять наркотические видения, размахивая своим прямым мечом. Будет колоть туман и разгонять испарения.
Герой.
Странник протиснулся сквозь испуганно сбившуюся группку воинов на ступенях и вышел на настил из мокрых брусьев над воротами.
Ничего не было видно. Даже тумана.
Только Грисмальфи, стоящего во тьме, с телом, изукрашенным черными зигзагами, высекающего снопы искр клинком о край щита.
– Там ничего нет, – сказал громко Драккайнен. – Нет чудовищ. Это мороки. Туман ядовит.
Горелый Гнев, стоящий рядом, схватил его за руку и молча указал на лежащий на навесе безголовый труп стражника. Того самого, с которым Драккайнен разговаривал несколько часов назад. Над воротами торчало обломанное копье, лапы чудовища на нем не было.
Вуко открыл рот, но ничего не сказал.
Сперва показалось испуганное стадо оленей. Самец, самка и четыре штуки молодняка. Выскочили из леса и погнали в сторону крепости, игнорируя Грисмальфи, будто он их совершенно не интересовал.
Туман внезапно затопил деревья и залил поляну, словно приливная волна. Захлестнул бегущих зверей и, прежде чем они исчезли, Драккайнен в остолбенении заметил, что мчащийся вперед рогач распадается на идеально квадратные кусочки – как проскочив сквозь сетку лазерных лучей. Встряхнул головой.
– Там ничего нет, – повторил.
А потом вспомнил существо, которое зарубил. Туман или нет, но тварь была реальна и дьявольски опасна. Царапины на коже все еще горели, словно муравьиные укусы.
Сделалось холодно. Вуко взглянул сквозь термический фильтр и увидел, как перед стоящим с обнаженным мечом Грисмальфи густеет столп тумана, как мелькает в нем нечто кривоногое, большое и человекообразное, будто разъяренная горная горилла.
Кто-то вскрикнул. В обычном зрении тварь была сгустком тьмы. Косматым мраком, в котором лишь посверкивали раскаленной краснотой глаза да палисад мощных зубов.
– Там ничего нет, – сказал Драккайнен в третий раз. – Это морок. Смотрите, это пролетит насквозь.
Вырвал из держателя факел и метнул прямо в чудовище. Рыкающий пламенем снаряд перекувыркнулся и отскочил от груди твари, рассыпая искры. Существо чуть присело и издало раскатистый инфразвуковой рык почти на границе слышимости, от которого дрогнул воздух.
Драккайнен выругался, метнул меч за стену и перескочил через барьер, стараясь не напороться на заостренные колья.
Ускорение пало на него, как завеса, превращая полет в сонное парение – словно спуск на парашюте. Он выставил ноги, напряг мышцы, стиснул зубы и подобрал язык. От настила до земли было не больше четырех с половиной метров. Он помнил также, что напротив ворот нет никаких кольев.
Земля плыла ему навстречу. Он самортизировал падение кувырком через плечо и вырвал свой меч из земли.
Поднял оружие сбоку от головы, глядя сквозь ползущие к земле капли дождя: каждая переливалась в свете факелов, словно бриллиант. В заторможенном мире гиперадреналина туман казался плотным, словно занавес. Крик Грисмальфи превратился в китовый стон.
Тварь внезапно материализовалась и двинулась вперед, как косматая гора. Напоминала пещерного медведя, чья мама покуролесила с йети. Сучковатая лапа с кривыми когтями прошла мимо его головы, разгребая загустевший воздух, словно реактивный самолет. Он ушел полуоборотом, кувыркнулся меж ногами чудовища и, встав по другую его сторону, двукратно рубанул там, где должны были оказаться бедра.
Рык боли звучал низко, вибрирующе – задрожали барабанные перепонки. Тварь повернулась, грохнула по-горилльи обоими гигантскими кулаками, взбивая фонтаны грязной воды, но Драккайнена там уже не было. Мокрая рукоять прекрасно лежала в руке, а клинок был остер, словно бритва. Слава заводам «Нордланда», выпускающим лучшие мечи во Вселенной.
Это всего лишь животное, подумалось Вуко. Большое, но животное.
Огромная голова рванулась вперед, челюсти щелкнули, словно капкан. Полетели липкие, тянущиеся нитями капли слюны; дохнуло тяжелым, почти минеральным смрадом. Драккайнен уклонился полуповоротом и рубанул одной рукой обратным хватом сразу за мощными челюстями. По глотке.
Смотрел, как из шеи твари брызгает пульсирующий поток черной крови и распадается круглыми каплями.
И тогда – огреб по корпусу.
Только когда рухнул после длинного, идиотского полета, что в замедленном времени тянулся бесконечно, понял, что у него проблемы. Боль вытекала откуда-то из костей длинной обморочной волной, но не исчезла, а осталась.
Я недооценил эту тварь, мысленно обругал он себя. Расслабился, надутый я дурак.
Попытался встать, но снова упал на мокрую траву. Сменил позу, но в этот миг корявая лапа, черная, словно кожаная перчатка, упала ему на грудь, пригвождая к земле.
Как глупо, подумалось Драккайнену. – Жаль.
«Гибнут те, кто перестает думать», – говорил Левиссон. До меча было слишком далеко. Он протянул руку, не сводя глаз с отвратительной плоской, будто человечье лицо, медвежьей морды. Из перерубленной артерии била пульсирующая струя, но часть жидкости медленно, дрожащими на ночном ветру каплями всасывалась в мех и капала на лицо Странника.
Меч лежал слишком далеко.
Не переставай думать.
Он забросил здоровую ногу на прижимающую его к земле руку и сделал двойной рычаг на локоть.
С тем же успехом можно было пытаться сломать стойку моста.
Черные губы задрались, от них оторвалась капля липкой слюны, а Драккайнен, как зачарованный, глядел на обнажающиеся клыки. Потом продолговатая, местами вылинявшая башка, крупная, словно бадья, начала опускаться прямо ему на голову.
Челюсти захлопнулись.
На скорлупе наруча, которым Драккайнен закрылся. Слой под титаном, притворяющимся железом, был модифицированным семнадцатислойным ламинатом. Основа со структурой меда, наполненная прессованным арахнидом. Интересно, какая у твари сила укуса?
Наруч затрещал. В любой миг лопнет, и тогда рука Вуко брызнет в разные стороны, как перезрелый помидор.
Он потянулся второй рукой и воткнул ее в рану на шее чудовища, после чего что-то нащупал внутри – и рванул.
Тварь внезапно распрямилась и на миг приподняла пригвождающую Странника лапу, издав гремящий рев. Но двигалась она не слишком быстро. Сокрушительный натиск сперва ослаб, лапа поехала вверх, а за это время Драккайнен успел приподнять здоровую ногу, оттолкнуться от тела бестии и проехать спиной по мокрой траве, раздирая кожу о какой-то корень.
Меч лежал в траве.
Они разминулись при атаке. В замедленном темпе ему казалось, что тварь несется, как буйвол, вырывая клочья травы и разбрызгивая грязь. Сам он провел дурацкое, неловкое уклонение, скача на одной ноге, и рубанул горизонтально, через брюхо.
Тварь обрушилась – сонно, медленно, будто взорванный дом, с грохотом, от которого затряслось все вокруг, пала на землю. По ее мышцам и меху пошла волна, вверх полетели брызги мокрой земли и кувыркающиеся веточки.
А потом капли полетели нормально, вернулся шум дождя и крики воинов, стоящих на помосте.
Он толкнул голову твари носком сапога, прекрасно понимая, что это дурость, – но ничего не случилось. Зверь как зверь. Никакой не Пробужденный.
– Ну ты и урод, – проворчал Драккайнен. – На папочку не похож, верно?
Минутку он сидел, тяжело дыша.
Недолго.
Грисмальфи одиноко стоял перед воротами с вынутым мечом, выглядел жалко и беспомощно.
На помосте установилась мертвая тишина. Страшная. Даже собаки замолчали.
Перед парнем выросло высокое худое создание в черном мокром плаще и с головой, что напоминала крысиную морду. Оно держало что-то вроде музыкального инструмента словно массивную флейту.
Очень тяжело бежать, хромая, и с обнаженным мечом. Особенно после нескольких минут ускорения.
Существо, стоящее перед воротами, подняло дудочку и издало на ней звук, что прозвучал словно женский крик. Жуткий, полный страдания и ужаса, только дольше, чем могли выдержать человеческие легкие.
Драккайнен бежал.
В воздухе замер призрачный плач, а Грисмальфи стоял, воздев меч.
И старел.
Старел с пощелкиванием. С потрескиванием, подобным звукам горящей травы. Синие волосы бледнели и покрывались серебром седины, кожа шла глубокими морщинами, меч подрагивал во все более паучьих пальцах, на кончиках которых росли сломанные желтые ногти, закручивающиеся в крюки. Из полуоткрытого рта выпадали зубы, один за другим, за ними тянулись нитки густой крови и слюны.
Драккайнен бежал. Вскидывая подвернутую ногу, хромая и подскакивая.
Даже одежда Грисмальфи старела. В один миг покрылась пятнами, металлическая оковка почернела, вышивка свешивалась клочьями истлевших ниток.
А над всем этим возносилась бесконечная жалоба, словно крик пытаемой баньши.
Вуко добежал и остановился в позиции кота, позволяя вывихнутой ноге чуть касаться земли.
Под ускорением жалоба была низким вибрирующим гудением, полным инфразвуков.
Он не успел.
Прежде чем клинок опустился, обрубая пение жуткого певца, тот внезапно оборвал музыку и начал рассыпаться.
Это не была пыль.
Музыкант с крысиной головой распадался на ночных мотыльков. Толстых, с металлически лоснящимися брюшками и крыльями, будто маленькие черные пелерины. Сотни маленьких насекомых, улетающих в ночь.
Меч прорезал пустоту.
Грисмальфи неподвижно лежал на земле с побледневшими черными глазами, смотрящими в бездонное небо. Не моргал, несмотря на мелкие капли дождя, падающие ему прямо в зеницы.
Был легок, словно пустая скорлупа. Напоминал сброшенную шкурку змеи, но черт его лица было не рассмотреть. Казался мумией.
Туман развеивался. Остался только дождь.
Вуко ударил навершием шлема в ту часть ворот, на которой не было колышков, и услышал, как внутри заскрежетали запоры.
Они расступились молча, когда он шел, прихрамывая, с мертвым княжичем на руках.
Положил его на столе в большом зале, подле угасшего костра.
Смотрел, как они входят следом, становясь под стенами, будто боясь приближаться.
– Это твой сын, Грисма! – крикнул Драккайнен. На щеках ходили желваки. – Он должен был править после тебя, но погиб, чтобы тебя защитить. Погиб, разгоняя копьем туман. Встав против бури. Коля мечом вулкан. Рубя землетрясение. Затем, чтобы ты мог говорить, что никогда не отступаешь. Он звался Грисмальфи Дождевая Птица.
Он отхромал от стола. Стоящие расступались перед ним, когда он неловко прошел на двор. Смотрели в молчании, как он что-то ищет на площади. Наконец он взял лестницу, вошел в конюшню и принес старые трензеля. Они стояли вокруг, наблюдая за каждым его шагом. Смотрели, как он обвязывал ногу ремнями и зацеплялся стопой за ступеньку лестницы. Некоторое время он искал нужное положение, а потом дернулся всем телом, с ногой, обездвиженной между ступенями. Раздался хруст, после – сдавленный крик, прозвучавший словно вой волка. Смотрящие отпрыгнули.
Драккайнен, сидя, развязал ремни и помассировал щиколотку, вертя стопу во все стороны. Потом надел сапог и вернулся в зал, расталкивая тех, кто не успел отпрыгнуть.
Нашел кость, на которой осталось порядком мяса, сохлую головку сыра, пособирал какие-то надкушенные луковицы, придвинул к себе кадку с огурцами.
Они смотрели, как он судорожными движениями рвет куски хлеба, как прямо из кувшина хлещет пиво, текшее по подбородку, как рвет зубами ветчину, вгрызается в луковицу.
Никто ничего не сказал.
Даже Грисма.
Потом Драккайнен отодвинул от себя остатки еды, встал и вышел из зала.
Они стояли на мощеном подворье, когда он вошел в баню и захлопнул за собой дверь. Слышно было, как запирает ее чем-то.
Клан Безумного Крика стоял на подворье и смотрел на баню.
Шел дождь.
Утром дождь прекратился, но все продолжали стоять, молча и беспомощно.
Наконец они разошлись. Надо же как-то жить. Открыли ворота, пастухи выводили коров и коз. Началось какое-то движение. Из-под кровель изб начал сочиться дым.
Только со двора доносились уже плач женщин и голос бубна Знающей. Княжич должен был отправиться в дальнюю дорогу.
Кто-то запряг волов к порубленному трупу чудовища и оттянул его от города. Самые мудрые и отважные воины пошли туда с рогами пива в руках, чтобы тыкать останки копьем, таращиться и обмениваться профессиональными замечаниями.
Поздним утром двери бани отворились, и показался Драккайнен. Немного хромал на одну ногу, но шел уверенно, навьюченный свертками и сумкой, в полном доспехе, с седлом на плече. У него все еще было каменное лицо, и он по-прежнему молчал.
Грисма преградил ему путь.
– Мой сын умер вчера ночью, – заявил.
– Я видел, – рявкнул Драккайнен.
– Он умер, чтобы ты с нами остался. Ты мне это должен, – начал Грисма, но, увидев лицо Вуко, замолчал.
Тот сбросил седло и быстрым змеиным движением выхватил меч. Только слегка – на пять пальцев, но Грисма стремительно отскочил назад. Остальные тоже отступили.
– Попробуй задержать меня, король, – произнес Драккайнен тихим страшным голосом. – И обещаю тебе, что еще до полудня не станет племени Безумного Крика.
Грисма молчал.
Нитй’сефни спрятал меч и забросил седло на плечо. Ушел вдоль ручья, не оглядываясь, и никто его не задержал. Говорили, что туман шел за ним.
Глава 3 Конь, ворон и человек
Хримфакси конь
сумрак несет
над богами благими;
пену с удил
роняет на долы
росой на рассвете.
Речи ВафтруднираНа первый отдых я становлюсь где-то через три часа марша от Двора Безумного Крика. Чтобы наверняка.
Сижу на валуне и макаю вывихнутую щиколотку в ледяную воду фьорда. Низкая температура приносит облегчение, да и заживлению помогает.
Дело не только в том, чтобы люди стирсмена не заметили, как я хромаю, как волокусь, опираясь на палицу, как ищу уединения в кустах, борясь с порченым мясом, что крутит кишки (в моем учебнике по выживанию явно не хватало главы «Растения Побережья Парусов, что могут заменить туалетную бумагу»). Дело было в том, что они мне надоели.
У меня накопилось достаточно материала для упорядочивания.
Я говорю сейчас о галлюцинациях. Уверен, часть того, что я видел, появилась из моей головы. Особенно призраки – те, что будто сошли с полотен безумного голландца. А еще, возможно, отравляющее воздействие тумана провоцирует нападение некоторых животных. Хотя бы того медведеподобного бигфута.
Стоило бы взять образцы и исследовать состав. С помощью цифрала, вероятно, я мог бы в некоторой степени с этим справиться, но это рискованно и глупо.
Я боюсь.
Да и туман – не мои проблемы.
Мои проблемы – четверо людей, затерявшихся в пущах Побережья. По крайней мере я знаю, что иду по следам ван Дикена.
По следам, насчитывающим два года.
Представим себе галлюциноген, который дает столь длительные видения. На моих глазах помидор превращается в паука, потом отравление проходит, но я уже навсегда вижу овощ как помидорного паука. Длительное поражение перцепции. Более того, это видят и другие, те, кто попал под воздействие яда. Но приходит кто-то новый – и для него это все еще помидор.
Княжич постарел и рассыпался на моих глазах, но, быть может, его разбил удар, а прочее – мои видения?
Река лениво катится меж высокими скалистыми берегами, меж камней растут крученые сосны, цепляющиеся корнями за остатки грунта. Мне это напоминает Финляндию.
Каникулы у дедушки Вяйнемёйнена. Будь он здесь, отправился бы на рыбалку.
Путь, что вьется меж камнями и скалами, – пытка для того, кто подвернул ногу. Из моей внутренней карты следует, что меня ждет минимум пара дней марша. А с такой ногой – все три.
Я иду, останавливаясь каждые два часа. Мог бы идти быстрее, но мне некуда спешить. Впервые в жизни я чувствую, что днем больше, днем меньше – не имеет никакого значения.
Вскоре мне придется кого-нибудь поймать или застрелить. Скромного НЗ не хватит надолго.
Я мечтаю о коне. О приземистом оленеподобном существе странной масти, на которых здесь ездят.
Царство за коня.
Золото за коня.
Мысль о коне потихоньку становится манией. На этой части Побережья нет диких скакунов. Никаких табунов. Только скалы, деревья и река. Река, что течет к морю. Мне приходит в голову сделать плот и спуститься по течению к устью, к порту. Или, по крайней мере, соорудить долбленку. Каноэ.
Но идея о строительстве лодки не заглушает маниакальные мысли.
Жажду коня.
Мечтаю о коне.
У меня есть только мачете – солидный плот я буду строить неделю. Быстрее добраться до места пешком.
Я марширую между камнями и со скуки визуализирую коня. Элемент позитивного мышления. В уме слышу цокот копыт и фырканье, вижу, как он несется рысью, вскидывая ноги, с развивающейся гривой.
Конь. Царство за коня.
На закате над рекой встает туман. Мглистые полосы и клубы; при виде их сердце мое начинает биться сильнее, но это просто вечерние испарения. Нет резкого понижения температуры, нет галлюцинаций.
Я нахожу поросшую травой вершину и строю себе шалаш на берегу. Связываю верхушки невысоких деревцев и привязываю их к изогнутому стволу растения, похожего на вербу, а потом обкладываю крышу игольчатыми ветками. Слой таких же веток я укладываю на полу шалаша.
Будь у меня хотя бы кусок моего парашюта… Что это была бы за палатка!
Через час перед шалашом полыхает огонь, кипит вода во фляге и дымится «Вирджиния» в трубке.
На берегу, вокруг моего лагеря, натянуты веревки, на которых позвякивают металлические фрагменты снаряжения. Примитивно, но, может, никто не сумеет приблизиться ко мне, пока я сплю.
Вокруг тихо. Неестественно тихо и пусто. Лишь порой плеснет вода да прокричит некая птаха. Я ловлю себя на том, что говорю сам с собой.
Пожалуй, я никогда не был в одиночестве так долго. Дома даже одинокий человек постоянно слышит разговоры. Говорят предметы, домашняя техника. «Ключи! Не взяли ключи!» – кричит чип, впаянный в куртку, когда выходишь из дому. Говорит дом, холодильник, телевизор, машина.
Когда я был маленьким, все эти вещи пытались еще и воспитывать человека, а не только следить за ним. Такие были времена. «Это четвертая банка пива! – ругал моего отца холодильник. – Одно пиво – это один процент алкоголя, эквивалент двадцати пяти сотых грамма чистого спирта! Даже такое количество может быть опасно для здоровья!» Можно было с ума сойти. Особенно посреди ночи. Поэтому отец заклеил пленкой штрих-коды на продуктах, и холодильник не мог подсчитывать для него холестерин, сахар, триглицериды и проценты алкоголя.
На ужин я жую сухую колбасу с сухарем, запиваю водой с медом и ракией. Смотрю на костер. Потом – в наконец очистившееся небо, полное чужих звезд, рассыпанных в беспорядке, как горсть пепла.
Где-то там острова Сплитского залива, горы Истрии, озера Мазурии и Карелии. Мой тройной дом. Гвар, Вроцлав и Турку. Мои города. Где-то там. Где-то там, через черную дыру в космосе плывет «Манта», а на ее борту – рыжая Дейрдре из Дерри возвращается домой.
Где-то там.
Я засыпаю, завернувшись во влажный плащ и глядя на угли костра. Вижу сны о лошадях.
* * *
Будит меня звук взрыва. Внезапный грохот, который прокатывается эхом по горам. Отличный от треска молнии, особенно учитывая, что утреннее небо не предвещает грозу.
Я выскакиваю из шалаша, будто пружина.
Продираюсь между деревьями в сторону, откуда донесся звук: осторожно, с мечом в руках. Бледный рассвет, мокрые ветви хлещут меня по лицу. Тут буквально нет ничего, что могло бы взрываться. Первое, что приходит в голову, – это какой-то фокус ван Дикена. Человек с Земли мог бы устроить взрыв, задумай он это сделать. Если нашел где-то селитру, серу, древесный уголь – мог бы сделать порох. Неважно зачем, важно, что он здесь есть.
Я ищу дым, воронку в земле, хоть что-то. Но не нахожу ничего и, замерзший, возвращаюсь в лагерь.
День начинается с отсутствий.
Прежде всего, не хватает зубной пасты. Не хватает мыла. Крема для бритья, одеколона.
Я отказываюсь от бритья. Щетина царапается и чешется, но мне неохота пользоваться архаичной бритвой в форме полумесяца, что спрятана в кожаном чехле.
Таинственный грохот не дает мне покоя. Решаю еще раз обыскать окрестности перед выходом.
Не хватает капучино, гренок и паштета из тунца или салата из осьминогов, такого, как подают в ресторане «Реди Марэ».
Зато есть горячая вода с растворенным шоколадом, полоски сушеной говядины и кусок халвы.
После купания в ледяной реке и мытья пеплом я становлюсь озябшим и мокрым, но не чистым.
А потом, когда пакую свое добро, докучает еще и то, что у меня нет коня.
Прохожу едва десяток метров и вдруг натыкаюсь на нечто, что может оказаться следом от того взрыва. Круглая проплешина странно поседевшей травы, тщательно очищенная от кустов, раскиданных вокруг, – но нет ни воронки в земле, ни следов воздействия температуры. А посредине я вижу коня. Таращусь на него в остолбенении, уверенный, что это галлюцинация. Он большой, почти два метра в холке, и шерсть странной полосатой масти, как у тигра. Стоит на идеально круглой полянке, вырезанной посреди карликовых сосенок, словно кто-то поставил там гигантский стакан.
Я отстегиваю ремни, очень медленно кладу на землю багаж и седло. Мне становится горячо. Вся упряжь у меня в одной из сумок. Лихорадочно пытаюсь вспомнить, куда я подевал веревки. Откидываю лямки, медленно роюсь в самых разных предметах, не спуская с животного глаз.
Конь неуверенно пританцовывает на странной полянке, в кругу поседевшей, пригнувшейся к земле травы. Я медленно протягиваю ладонь и дотрагиваюсь до нее. Стебли примяло, словно тут делали таинственные круги на полях, однако они замерзли и покрылись изморозью. Трава хрустит под трехпалыми копытами, будто стекло. Такой круговой заморозок с конем посредине.
Похоже, он так же удивлен и охвачен паникой, как и я. Прижимает уши к голове, издает странные ворчащие звуки. Не знаю, что они значат, – меня учили на нормальных, земных конях.
Наконец я нахожу веревку и делаю петлю на одном конце, после чего продергиваю остальную часть сквозь нее и делаю лассо.
Животное издает нервный пронзительный визг и отскакивает чуть в сторону, но лишь на край поляны, словно опасаясь ее покидать.
Мы кружим, как по арене. Я – медленными, почти гипнотическими шагами, одновременно сворачивая веревку широкими петлями, ровно, виток к витку, так, как меня учили. Петлю на конце широко растягиваю и укладываю в пальцах так, чтобы можно было выполнить широкий круговой жест над головой и бросить. Конь не спускает с меня глаз, подергивая боком и стараясь держаться на дальней дистанции.
Это не дикий конь. Кто-то обрезал ему рога – коротко; может, не настолько, как это сделал бы я, но все же. На боку виден выжженный знак: круг, прорезанный вертикальной линией, похожей на греческую фиту. У меня нет времени исследовать полянку или задумываться, откуда та взялась. Нынче важнее конь. Если уж судьба, бог или местные божки дают мне в руки сокровище, я не намерен его упускать.
Все время я ласково приговариваю: по-хорватски, по-польски, по-фински и языком Побережья. Он прядет ушами и слабо порыкивает, но не позволяет мне подойти. Меня учил индеец. Дэнни Три Пера. Заклинатель коней из Вайоминга. Учил терпению и умению вкрасться в доверие к зверю, пониманию сложной психики стадного животного.
Животного с Земли. Кроме того, у Дэнни было время. Много времени. Океан времени. Он мог позволить себе терпение. А у меня времени нет.
Мы кружим по полянке. Я не знаю, как долго. Тут необходимо терпение.
Мне необходима помощь.
* * *
Он мог быть уверен в броске. Цифрал вырисовал в его поле зрения картинку траектории, по которой полетит петля, в зависимости от положения руки и напряжения мышц. Просвечивающая кривая плавала вверх-вниз, порой накладывалась на конскую шею, а порой уходила в сторону.
Драккайнен сконцентрировался, веревка со свистом кружила у него над головой. Конь мотнул по-собачьи головой и ощерился.
Но, похоже, решил просто сбежать из круга. Вуко двинулся боком, чтобы перекрыть ему дорогу к реке и тракту.
– Хороший конек… Очень, очень хороший конек, – бормотал он, решительно и ласково попеременно. Решил, что больше нечего ждать, и бросил. Лассо свистнуло в воздухе, как змея. Конь прижал уши и рванул внезапной, панической рысью прямо на Странника.
Рывок едва не вырвал ему запястье. Что хуже, сотрясение отдалось еще и в щиколотке, Драккайнен упал на землю. Животное, перепуганно визжа, поволокло его по мокрой, покрытой тающим инеем траве, стараясь, похоже, добраться до дороги, а это означало бы, что Вуко придется волочиться по камням и скалам.
Он подтянулся на веревке, насколько сумел, после чего ослабил ее, стараясь выбросить ноги вперед. Рывок поставил его на ноги, но через миг он снова упал на живот.
Спасло лишь то, что придушенный скакун решил приостановиться на миг, встать дыбом, а потом встряхнуться и ослабить петлю.
– Плохой конь! Очень плохой конь, непозитивный! Нехороший конь! – крикнул Драккайнен, выплевывая траву. – То есть не конь даже, а этот… северный олень какой-то… или лань… черт тебя знает, плохой олень! Очень плохая верховая животинка не разбери какой породы! Плохой окапи! Жуткий жираф!
Обвязал веревку вокруг ствола и сел, чтобы проверить щиколотку. Первый этап был пройден.
Скакун рвал аркан, дергался, вставал на дыбы и вообще всеми доступными способами показывал, что ситуация ему не по сердцу, а поведение Драккайнена он считает отвратительным и потому крепко обижен.
Пока это не имело никакого значения.
Вуко приготовил все необходимое, неспешно и методично разложив упряжь в траве: узду, седло с уложенными кверху подпругами, короткий чепрак.
«Надо подходить медленно и спокойно, – объяснял Три Пера. – Животное не должно видеть, что ты боишься. Это самое важное».
Сначала нужно подойти. С широко раскинутыми руками, чтобы показаться как можно более крупным и занять как можно больше места. Медленно, но уверенно. И все время говорить.
Успокаивающим тоном.
Конек снова стал рваться на привязи и дергаться. Звуки, которые он при этом издавал, больше напоминали рык верблюда и визг свиньи.
Нужно говорить. Ласково и терпеливо.
Если идешь – должен подойти. Нельзя отступать. Если протянул руку – должен дотронуться. Должен показать, кто здесь главный. Именно в этот миг все решается – раз и навсегда. Животное не может получить ни мгновения преимущества. Потеряешь лицо один раз – и все. Окажешься существом подчиненным, навсегда. Но не дергай и не бей. Это плохой метод.
Он протянул ладонь к большой голове. Конь дернулся, дико завращал глазами и предостерегающе клацнул зубами, а потом попытался встать на дыбы, но натянутый аркан не позволил ему этого сделать.
Драккайнен моментально уклонился от клацающих челюстей, а потом дотронулся до шеи конька. Для животного такая ласка должна была стать успокаивающей.
Вуко погладил большую голову сбоку, прекрасно понимая, что успеет отскочить перед любой атакой.
Один из индейских секретов – ласково подуть коню в ноздри. В стаде это знак проявления симпатии. Пробуждает ощущение дружбы и доверия.
В совершенно другом мире, с совершенно другим зверем.
Он не заметил, дало ли это хоть какой-то результат. По крайней мере его не ударили.
А теперь – вкусняшка. Решил проверить, сумеет ли выступить в этой роли сухарик.
Когда подходил во второй раз, конь дергался уже меньше, поворачивался боком, ворчал и тряс головой, но бить копытом не пытался.
– Хороший конь, хорошая коняшка… Хороший, хороший зверик, – ему казалось, что еще миг-другой – и он охрипнет. Болтал безостановочно уже добрый час.
Сухарь был очень внимательно обнюхан, а потом исчез с хрупаньем в огромных челюстях, куда бо́льших, чем у обычных коней, – как в мельничьих жерновах.
– Ладно, – сказал Драккайнен. – Теперь зерно. Вообще-то мне это не нравится, но так должно быть, и мы это уже прошли. Нет выхода, дорогой. Я-то, скажем прямо, мало понимаю в объездке антилоп, да и ковбой из меня почти никакой. Я прошел курс, и только, но вообще не был ни любимчиком Три Пера, ни наделенным особыми талантами.
Он открыл тайничок в кожаных закоулках переметной сумы, нашел шприц и три зерна, запаянных в металлических ампулках.
– Это не будет больно, – уверил искоса глядящего скакуна, раскрывая шприц и раскручивая ампулку. – Я сам прошел через подобное и до сих пор жив.
Зерно плавало в сосудике, как склизкий зеленоватый головастик. Драккайнен сунул туда шприц и принялся накачивать воздух мерными движениями поршня.
– Будь у нас больше времени, – объяснял, – будь я лучшим говорящим-с-лошадьми, или, по крайней мере, знай я лучше твою биологию вместо общей, небрежной и неточной ерундистики, которая у нас есть… Ну у нас-то все так, как оно есть.
Он вздохнул и подошел к жеребцу, пряча поблескивающий шприц в руке.
– Чувствую себя ужасно, – уверил животинку, левой рукой поглаживая ее башку, а потом – горбатый черный хребет носа.
Конь заурчал, и звучало это на удивление приязненно. Драккайнен вздохнул и поднял вторую руку, уверенным движением сунул животному кончик шприца в ноздрю и нажал поршень.
Конь издал ужасный визг и встал на дыбы, а потом резко дернулся, натягивая веревку. Драккайнен отскочил, избегая мощного удара в голову, а потом перекатился по траве. Лассо врезалось в шею животного, и конь, вместо того чтобы реветь, захрипел. Его глаза вылезали из орбит, на морде выступила пена. Не в силах к нему подойти, чтобы снять петлю, Вуко вынул нож и обрезал веревку у ствола дерева. Конь рванулся, словно ракета, брыкаясь попеременно то передними, то задними ногами, перескочил через низкий кустарник и погнал галопом в лес.
Драккайнен спрятал нож.
Вот же я сукин сын, подумал с удивлением. Чувствую себя так, словно зарезал дельфина.
Он повернулся и остолбенел. На его сумах хозяйничала огромная, размером с гуся, черная птаха с огромной башкой и мощным, как острие чекана, клювом.
– Да этого быть не может! – рявкнул Драккайнен, преисполненный внезапным возмущением. – Пошла прочь!
Птица склонила голову, поглядывая на Драккайнена, блеснула белым веком, после чего хамским и хриплым тоном, но совершенно отчетливо повторила:
– Пошла прочь!
Разворошила клювом рассыпанные вещи и нашла кусок сухой колбасы, который тотчас же проглотила, не обращая внимания ни на крики, ни на дикий галоп Странника. Драккайнен бежал через поляну, выкрикивая самые худшие финские ругательства, но, припадая на больную ногу, не имел шанса. Птица клюнула большую кучу его вещей, что выглядело так, как если бы по ней рубанули киркой. Когда подняла голову, в ее клюве виднелась маленькая, поблескивающая металлом трубочка.
Зерно.
– Нет! – орал Драккайнен. – Сейчас же выплюнь!
Птица ударила широкими крыльями и взлетела над поляной. Не слишком быстро.
– Да чтоб тебя разорвало! – орал разведчик. – Да чтоб ты лосю в аду отсасывал, проклятущий урод!
Но ворон уже взлетел высоко над деревьями.
– Да каркни ты триумфально, сукин сын! – кричал ему вслед Драккайнен. – Каркни и вырони это! Чтоб ты им подавился, урод.
Осмотрел оставшиеся вещи. Котелок был продырявлен и, что еще хуже, вместилище последнего зерна было помято. Ругаясь, он отложил шприц и пособирал остальные вещи, а потом принялся монтировать лук.
– Никогда больше, никогда! – процедил, стыкуя обе дуги и насаживая систему блоков.
Если птица проглотит сосуд целиком, то не должно бы ничего произойти. Из-за глупой птахи человеку теперь придется убивать воронов десятками, а потом их потрошить. Занятие на годы. Разве что тварь украсит зерном свое гнездо, как это делают сороки. Безнадежно.
– И почему ты не сожрал что-нибудь другое? – крикнул он, запрокинув голову к небу. – Тебе моей охотничьей не хватило?! Не мог нажраться золота, если потянуло на блестяшки?
Была у него пара стрел, которые следовало соединить. Но все равно придется ждать. Ничего больше не сделать.
Он снова натянул доспех, разобрал свой скарб и вернулся к затоке, где все еще высился его шалаш. Казалось, что он начинает здесь врастать.
Он снова разжег костер, окончательно соединил все элементы лука, специальным ключом сократил и натянул тетиву длиной в несколько метров, пропущенную через систему блоков. Хороших стрел с выточенными древками было всего пять, но у него оставался изрядный запас наконечников в специальном мешочке.
Он подхватил мачете и отправился искать материал для стрел.
Заняло это немало времени: найти в природе достаточно ровные ветки – не самое простое занятие. Ведь, по уму, изготовление простых стрел должно длиться целую зиму: отобранные ветки, утяжеленные гирями, вешают где-то в сухом месте и ждут, пока они просохнут и сделаются идеально ровными, – и только потом прилаживают к ним оперение и наконечники.
* * *
Я сижу и делаю стрелы. Это успокаивающее занятие. Люди из примитивных культур проводят таким образом большую часть времени. Делают стрелы, чинят упряжь и доспехи, шьют одежду. Это нужно делать непрерывно, и мне необходимо к этому привыкать. Пояс, полный золота, ничего здесь не изменит. Я не могу вызвать такси, поехать в супермаркет и купить там себе вязанку стрел или пачку ризотто с дарами моря. Наверняка где-то есть базар, но в целом мало кто продает сапоги, стрелы, лук, булки или масло. Всякий делает такие вещи сам. Каждый сам кормит курей, печет хлеб, ткет одеяла и варит пиво. Ты можешь где-то купить гвозди или крючки, но здесь нет магазинов промтоваров. Это земледельческая культура.
Благодаря прогулке среди кустов я нахожу четыре пера разной величины, которые пригодятся для оперения. Разделяю их напополам, надрезаю кончики, смачиваю перья живицей, работаю нитью – и через два часа у меня есть еще шесть стрел.
Некоторое время я стреляю в кучу песка между высокими валунами на берегу. Возвращаю свои навыки. Стрелы летят по-разному, поэтому стараюсь просчитать поправку, пока – после долгого времени – не начинаю попадать всякий раз в мясистый лист, положенный на откосе в качестве цели. Мой лук с блочным натяжением лупит с силой в семьдесят фунтов, но благодаря продуманной системе воротов натягивается как тридцатифунтовый – стрелы втыкаются в песок по самое оперение. И все же, несмотря на это, после часа упражнений у меня болят мышцы правой руки и плеча. Перед глазами встают изуродованные скелеты средневековых лучников, с кривыми хребтами и следами от надорванных мышц. Я натягиваю по-английски от ноги, по-спортивному прямо и по-японски из-за головы. Чтобы наверняка – стреляю еще из подмышки и от бедра, держа лук горизонтально. С двадцати метров я сажаю стрелы почти туда, куда захочу, за исключением одной, которую явственно относит в сторону.
Втыкаю в землю у шатра стрелы, готовые к использованию. Оружие улучшает мое самочувствие. Я родом из мира, где охотнее всего убивают на расстоянии.
Перерыв в путешествии, предназначенный для ожидания.
Потому я жду.
Через какое-то время забираю меч, нож, колчан и иду на охоту.
Это не так просто. Одну стрелу я трачу совершенно по-идиотски, выстрелив в летящую птицу, которая мне показалась соблазнительно похожей на гуся. Слишком полагаюсь на помощь цифрала – и мажу на волос, но стрела лупит метров на двести вверх, а потом падает в чащу и исчезает из глаз.
Через несколько часов я теряю надежду. Окрестности словно вымерли. Нет даже чего-то вроде кроликов. Большие травоядные редки на рассвете, это для них нелучшее время. Но речь не об этом. Я не встречаю ни жаб, ни мышей, не слышно птиц, не видно даже насекомых.
В конце концов я заканчиваю тем, что брожу по мелководью с луком в руке, высматривая рыб среди камней и скал. Несколько раз стреляю безрезультатно, пока извивающееся серебристо-крапчатое тело, подобное мурене, означенное торчащей из воды стрелой – как гигантским поплавком, – завершает дело. Я несу рыбину в лагерь, меня переполняет гордость, какую и представить себе непросто. Я одновременно ощущаю себя непобедимым и смешным. Всю жизнь, когда хотелось мне рыбы, я ее покупал. Шел в «Теско» в Гваре или на набережную над портом, где стояли рыбацкие лодки на воздушной подушке, или в рибарицу и там выбирал между камбалами, сардинами и тунцами, что красиво лежали на льду, прямо с ночного улова. А теперь меня распирает гордость от одной-единственной рыбины. И только потому, что я лично добыл еду в богом забытом уголке Побережья, вооруженный луком и предоставленный природе.
После двух лет обучения, модифицированный бионически, обученный в школе коммандос, я обрел умения, которыми здесь обладает любой ребенок.
Когда наступают сумерки, я пеку над углями рыбину, нарезанную на куски.
И впервые здесь ужин приходится мне по вкусу.
Ароматные кусочки белого мяса, раздираемые пальцами на листе, кружка слабого грога.
Начинаю ощущать себя частью природы. Например, я всегда был равнодушен к погоде. Всю мою жизнь это могло быть тем, что, самое большее, заставит меня побыстрее вернуться домой. Дождь, жара или снег – просто явление-за-окном. Нужно добавить обогрев или включить кондиционер, прибрать забытую мебель с террасы.
Сейчас я буквально не имею крыши над головой и постоянно поглядываю на небо. Ничего – лишь слабый шалашик, который я возвел из веток и связанных молодых деревьев. Мне кажется, что собирается дождь, а потому я прикрываю его еще и вонючей попоной, которую прихватил со станции, чтобы унести лапу моего Гренделя. У меня нет ничего, но все же я выстроил укрытие и добыл пропитание. Чувствую себя одновременно нищим и удивительно свободным.
Будит меня холод и мигающий зеленоватый проблеск северного сияния. Половина третьего утра – время волка. Время, когда спится крепче прочего, а до рассвета еще далеко. Время, когда человек психологически слабее всего. Время засад и ночных нападений.
Потом я сижу у входа в шалаш, укрывшись за щитом, которым загородил вход, с луком в руке и стрелой на тетиве – и смотрю на реку.
Подле берега вода аж кипит от тысяч рыбин и водяных тварей, которые мечутся, словно горсть серебряных монет, и выглядят так, словно жаждут сбежать на сушу от того, что происходит на середине потока.
А оно немного напоминает северное сияние. Переливается лентами и облачками, опалесцирует голубым и салатным, отбрасывает мерцающий свет на берег. Да еще ползет по водной поверхности, как огромная змея. Это холодный туман бредет рекой. В проплывающих над водой полосах и лентах мелькают перетекающие друг в друга фигуры чудовищ и тварей, клубятся путаницы щупалец. Я вижу туманные гривы и головы лошадей, вижу ощетинившиеся колючками хребты. А посреди тумана материализуются более солидные образы марширующих зверолюдей. Уродливых, скрюченных, словно на полотнах Босха. Я вспоминаю древнее племя из кельтских верований, которое старше человеческой расы. Фоморы. Их представляли человекообразными тварями с явно звериными чертами. Чудовища, приходящие из глубин и сражающиеся с людьми за остров, который позже назвали Ирландией. Собственно, это я теперь и вижу.
Протянувшийся над рекой нескончаемый хоровод фоморов, подернутых светящимся туманом.
Я сижу, сжимаю лук и гляжу. Холод стягивает мне кожу.
Знаю, что это лишь галлюцинация, но ничего не могу поделать с тем, что сердце мое лупит, словно ошалевшее, что рука, сжимающая лук, мокра от пота, что сдерживаемый из последних сил гиперадреналин кипит под кожей.
Я смотрю на странные жабьи, рыбьи, змеиные и конские морды, на лоснящиеся хребты, покрытые шишками, колючками или гладкими язвами; гляжу на рыла и морды, полные клыков, и во мне начинает расти идиотская суеверная убежденность. Я ругаюсь мысленно, но это не помогает.
Я уверен, что Двор Безумного Крика пал.
Хоровод тянется серединой реки, и продолжается это около часа.
Потом они уходят, и снова опускается тьма. И быстро делается теплее.
Они ушли.
Я знаю, что они были галлюцинацией. Были лишь туманом. Ведь шли серединой реки, поверхностью вод. А потому – галлюцинация, либо иллюзия.
Мое стойкое «верую лишь в то, что обладает смыслом», однако, не слишком желает действовать в полчетвертого утра среди темной безлунной ночи.
Я верю в то, что я видел.
А видел я бредущую по реке армию призраков.
* * *
Очередное утро без кофе, мыла и зубной пасты. Я нахожу адски кислые, склизкие ягоды и жую их. Терпкий, сводящий скулы сок, полный дубильных веществ, чистит мне зубы. Он не токсичен, но и не вкусен. Не будет у меня кариеса, как не будет и гриппа с чумой, но день, начатый без ментоловой пены на губах и с зубами, скрипящими от осадка, сразу становится каким-то неряшливым.
Я сижу у небольшого утреннего костерка и ем вчерашнюю печеную рыбу.
Цивилизация ужасно обременительна. Суетливая, шумная, она бесцеремонно пробирается в любой закуток. И все же теперь мне постоянно чего-то не хватает. То газет, то сетевого радио, то кофе, то апельсинового сока. Постоянно чего-то хочется.
И непременно найдется то, чего у меня нет.
Здесь есть лишь кипяток с медом, который закончится через пару дней; жесткое жирное мясо, похожее на угря; небо, лес, окруженный горами, хрустальный фьорд. Я хочу почитать книжку, посмотреть голофильм, сходить в элегантное кафе на побережье и выпить капучино, глядя на белые средиземноморские яхты. Хочу чистую рубаху и белые штаны.
Интересно, получу ли это когда-нибудь?
Пока же я постоянно испытываю ужасные неудобства. Ожидание на берегу фьорда тянется невыносимо. Нужно быть терпеливым.
Я начинаю беспокоиться. Не следовало полагаться на зерно. Надо было обихаживать коня простыми человеческими методами. Как любому жителю Побережья. Но нет, я – продукт своей цивилизации и, если могу сократить путь, наверняка это сделаю. Если под рукой окажется какая-никакая технология, использую ее – нужно или нет. Потому что так лучше, вернее и научнее.
Зерно должно бы уже активизироваться. И, может, оно убило несчастное животное или довело его до безумия. Должно подействовать, но это лишь теория, выдуманная каким-то яйцеголовым. Теория, на которую я безрассудно купился, вместо того чтобы пораскинуть мозгами.
Я брожу по лесу, сильно напоминающему Карелию. Скалы, угловатые деревья, изогнутые ветви. Если уж мне нечего делать, стоит поискать еду. Я знаю несколько видов съедобных грибов и чаг, знаю, как распознать съедобные части деревьев и лесные плоды. Надеюсь на какого-нибудь кабана или оленя.
Ничего. Окрестности словно вымерли.
Нахожу лишь горсть орехов и несколько похожих на трюфели грибов.
Около полудня вижу ворона. Тот кружит по небу, как черный крест, высматривая добычу настолько же безрезультатно, как и я. Я же иду за ним следом, пытаясь не потерять из виду, пока он наконец не присаживается на дереве в каких-то двухстах метрах, – он уже мой. Я концентрируюсь и гляжу сквозь коллиматоры цифрала, пытаясь распознать, мой это ворюга или нет. А мигом позже он падает, ударяясь о ветви, и конвульсивно трепещет на земле, прошитый стрелой.
Через несколько минут я вытираю кровь с ножа о мох, уже зная, что это не моя птаха, а если и она, то не проглотила капсулу с зерном. Единственная польза – горсть черных лоснящихся перьев, которые я забираю с собой.
Когда возвращаюсь к лагерю, первое, что вижу, – моего коня. Он стоит на белой гальке пляжа и, воткнувши большую горбоносую башку в шалаш, обнюхивает постель. Ощущает мое присутствие и издает серию громоподобных взвизгов, после чего идет галопом прямо на меня. Я осторожно кладу на землю перья, орехи, грибы и стою, готовый отскочить.
Он подскакивает ко мне, прижимая уши, и, визжа, танцует вокруг, сует башку мне под мышку, едва не опрокидывая; но я вижу, что это радость, а не гнев, и мне стыдно.
Я оглаживаю бархатную шерстку на шее, обнимаю его и по-индейски прижимаю свой лоб к его лбу в плоском месте между глазами, там, где под черепом, вероятно, угнездился резонатор.
«Друг. Я тосковал, – думает конь. – Друг. Шеф. Конь был один».
Я чувствую его голос, словно вибрацию, что проникает мне под череп. Странный чужой звук, раздающийся в голове, звук, от которого ноют зубы.
Я глажу большую голову по носу, по самые бархатные мягкие ноздри и ухватистые губы, похожие на кончики слоновьего хобота.
– Твое имя Ядран, – шепчу ему. – Мое имя – Вуко.
«Ядран, – повторяет он. – Вуко и Ядран теперь вместе?»
– Верно, – говорю я. – Вместе.
* * *
Удалось. Наверное. В таком случае, он должен знать с десяток-другой команд, для безопасности произносимых по-хорватски и по-польски. Он словно цирковой конь и боевой скакун одновременно. Пяток лет тренировок, проводимых с жеребячьего возраста, закляты в крохотном скользком головастике, пробравшемся в его голову.
«Ядран теперь другой».
– Теперь все по-другому, – говорю я. – Ты уже не боишься огня, не боишься скакать, даже если не знаешь, что там, за препятствием. Не испугаешься грохота, вспышки или внезапного движения. Не станешь убегать, разве что я тебе прикажу. Теперь ты видишь в темноте и больше не заболеешь.
Я накладываю чепрак и упряжь. Наконец-то. Беру в руки седло, которое до сих пор носил на собственном загривке.
Он стоит терпеливо, только стрижет ушами, когда я затягиваю подпругу, подставляет голову под узорчатый налобник и послушно хватает зубами непривычное удило, спроектированное для челюстей, подобных его.
Потом галечный пляж на берегу фьорда превращается в цирковую арену. Конь отступает, делает повороты, встает и вскакивает по команде. Послушный, как мотоцикл. Годы тренировок в одной капсуле. Шоу Буффало Билла.
Даже жаль, что никто не видит.
На ужин я разогреваю один из военных рационов, которые собрал на станции. Выравниваю дыру в котелке и пытаюсь залепить ее глиной – в надежде, что та затвердеет в племени костра, но ничего не получается. Протекает. В конце концов приходится есть из упаковки.
Чудесно. Я ем сосиски в соусе барбекю с кукурузой, выпиваю изрядную часть ракии. Ядран получает большую порцию раскрошенных сухарей, а потом отправляется искать что-то похожее на подножный корм. Не знаю, что найдет: судя по зубам, он всеяден, а то и хищник.
Жаль, я не могу его спросить, откуда он взялся на той странной полянке и что делал ранее. У него маленький запас слов, кроме того, что на самом деле он не умеет разговаривать. Просто не знает, что начал. Произносит простые предложения, но не сумеет ничего рассказать, как и облечь свои воспоминания в слова.
Я стараюсь не выстраивать дурацких, ничем не подтвержденных теорий, но ничего не могу поделать. Мне кажется, его появление как-то связано с явлением, на которое я раз за разом натыкаюсь и которое пока считаю галлюцинацией.
Мне кажется, это дело холодного тумана.
* * *
Когда на следующее утро мы отправляемся в путь, я чувствую себя легким, словно перышко. Весь инвентарь рассован по сумам, прикрепленным у конского седла, и находится внутри скрученного одеяла, переброшенного через спину. Наконец-то на мне нет брони и кольчуги. Доспех и вещички размещены в сумах, по кобурам и крючкам, конь, увешанный пожитками, выглядит не слишком элегантно, слегка напоминает тяжеловоза и чуть-чуть передвижную лавку, но, кажется, не чувствует всего этого груза. Наконец-то можно путешествовать без шлема на голове и седла на шее.
Мы отправляемся в путь.
Ущельем вдоль фьорда, через лес, скалистыми пустошами, поросшими кустарником. Как тропинка ведет.
К югу я утыкаюсь в мост.
Собственно, в руины моста, но такие, что дух захватывает. На каждом берегу – по два огромных пилона метров тридцать в высоту. Река в этом месте широка – метров сто пятьдесят, да и скалистые берега поднимаются на несколько этажей.
Пилоны на берегах – монструозные скульптуры гигантов. На одном берегу – женщина, на другом – лишенная головы фигура мужчины. Они тянут друг к другу руки, стоя, расставив ноги, над широкой, гладкой поверхностью дороги. Мост обрывается – с каждой стороны – в нескольких метрах от берега, но в потоке не видно других остатков от сооружений.
Я слезаю с коня и обхожу руины, оглаживая поверхность скалы. Она монолитна. Никаких следов обработки, никаких стыков. Словно лава миллионы лет формировала эти фигуры гигантов, поверхность дороги и тросы, что некогда соединяли тоскливо протянутые руки. Теперь их навсегда разделила река и они никогда не встретятся.
Кто в стране, где вершиной архитектурного мастерства остаются терема из ошкуренных бревен, сумел выстроить подобное?
На моей стороне фьорда дорога вгрызается в скалистый склон и убегает в лес. Как и мост, она – тщательно отполированная скала. Почти нетронутая. Гладкая как стекло: поверхность, на которой видны хорошо если несколько трещинок, в которые пускают корни трава и деревца.
Я отправляюсь дорогой под гору. Она ведет не туда, куда нужно, но мне интересно, что там дальше. Я гляжу на огромные стволы поваленных деревьев; за поворотом одно из них – огромное, с иголками, подобными араукарии, – вырастает из идеально круглой дыры посреди шоссе. Ствол у него – метра три в диаметре. Копыта Ядрана бьют в базальтовую поверхность дороги.
Метров через пятьсот я замечаю нечто, что в первый момент кажется белыми меловыми скалами, но это строение. Острые купола, словно верхушки закопанных в землю патронов, установлены в концентрических кругах. Все в черных, похожих на мух пятнышках, которые вблизи оказываются стаей больших воронов. Некоторые из них кружат вверху, будто ожившие клочья сажи.
Я отстегиваю меч от левой стороны седла и неторопливо вешаю его за спину. Подъезжаю шагом, с луком на изготовку и стрелой на тетиве.
Вблизи строение еще больше, чем могло бы показаться. Я въезжаю в первый круг: он немного напоминает негритянскую деревню, только дома словно вырезаны из белого мрамора. Как мост и каменные гиганты, они выглядят скорее отливками, чем творением каменщиков. Тишина. И хорал карканья.
Ни живой души вокруг.
Это странно. Даже если дома эти – остатки некой древней культуры, кто-то должен здесь обитать. Это готовые дома. Хватило бы приладить двери. Есть окна, крыши, не льет на голову.
Может, место дурное? Из прочитанного мною о культуре Мореходов следует, что они неохотно оседают там, откуда не видна вода. Перед домом должно быть море или река, которая в него ведет, или хотя бы озеро.
Я соскакиваю с коня и осторожно подхожу к ближайшему дому. Лук держу в свободно свисающей руке, придерживая стрелу пальцами. Достаточно ухватить второй рукой за тетиву – и можно стрелять.
Мне не нравится тишина и это место.
Активирую цифрал.
* * *
Он умел двигаться совершенно бесшумно. Вороны расступались неохотно, некоторые при виде его взлетали, махая тяжелыми крыльями. Но за стрельчатой аркой входа была лишь темнота, запах падали и мокрой земли, что покрывала тонким слоем каменный пол.
И кипа прогнивших костей посреди округлого помещения. Перемешанных будто кривые пожелтевшие палки. Остатки бурой тряпки, грязно-желтый шар черепа.
В соседнем доме было то же самое, но костей несколько больше. Драккайнен решил, что это подобие кладбища.
В усиленном цифралом зрении были видны поблекшие полихромные рисунки, покрывавшие стены, и свежие рунические знаки, начертанные охрой либо кровью.
– Ну, получается, я попал на кладбище, – проворчал Странник, вышагивая спиральной улочкой между склепами. Середину некрополя обозначала округлая каменная плита, поросшая выстреливающими на несколько метров вверх, к небу, шипами.
В одном из склепов он нашел скелет, сидящий на полу: у него сохранились засохшие сухожилия и остатки кожи. В других были лишь кипы костей, еще в двух нашли успокоение высохшие, как мумии, трупы. Вороны собирались перед теми склепами и клубились внутри, выклевывая остатки мяса. Он разогнал их, хотя те не слишком боялись. Двое поднялись в воздух и уселись на крыше, остальные разлетелись с гневным карканьем. Он не слишком агрессивен к ним. Размах крыльев у воронов был с полтора метра, клюв каждого выглядел словно острие кирки и был длиннее ладони.
Очередной труп во вполне приличном состоянии. Сидел в той позе, что и остальные посреди помещения: со скрещенными ногами, руками, упертыми в колени, и ладонями, направленными вверх. На затылке у него даже остались длинные седые волосы – как небрежно содранный скальп.
Странник заглянул внутрь, и труп внезапно раскрыл глаза. Налитые кровью, покрытые бельмами и мутные, точно молоко с кровью. Драккайнен отскочил назад, натягивая лук и чувствуя, как гиперадреналин ударяет в его вены.
Человек раскрыл рот и издал хриплый крик, напоминающий карканье, после чего снова сделался недвижим.
Драккайнен выдохнул, медленно ослабил тетиву и некоторое время массировал руки, пережидая, пока горючее перестанет кружить в его крови.
– Ну ты, братишка, меня и напугал, – сказал он. – Кто ты такой? Больной? Помощь нужна?
Ничего.
– Хочешь есть?
Ничего.
Пугающе худой человек не отозвался и не отреагировал, даже когда Драккайнен ухватил его за плечо. Под невозможно грязными и сопревшими тряпками он казался пустым, словно восковая отливка.
Пульс у него бился слабо, но ощутимо. Единственным признаком жизни было редкое, медленное дыхание.
– Кататоник, – вынес вердикт Драккайнен. – Кладбище кататоников. Что за страна!
Смеркалось.
– Или возвращаемся на дорогу и ночуем подле моста, или остаемся здесь, – сказал он коню. – И кажется мне, что здесь путь напрямик. По крайней мере, если смотреть с этого холма. Река течет туда и делает петлю, а мы хотим добраться до устья, к порту. Этот пусть себе сидит. Он ведь никому не мешает, а я – не странствующий психиатр.
Ядран фыркнул и издал протяжное урчание.
– Значит, решено.
Некоторые дома были совершенно пустыми. Драккайнен подмел каменные плиты пола пучком веток, принес себе кучу сушняка.
– Однако умнее спать во дворе, – сказал, рубя ветки мечом и складывая костерок. – Не могу сказать, почему так. Нет, духов я не боюсь. И скажу тебе по секрету отчего. Дело в том, что духов не бывает.
И все же ему не хотелось спать внутри странного здания со шпилем. Он сидел, глядя на огонь, и слушал раздающееся время от времени хоральное карканье воронов с другого конца поселения.
Наконец он заснул, завернувшись в попону и не сводя глаз с углей.
Рядом стоял его конь, обгрызал мясистые листья с куста и, прядя ушами, глядел во тьму. Перед сном Драккайнен уперся лбом в конскую башку.
«Плохое место, – думал Ядран. – Место смерти. Вуко спит. Ядран следит. Плохое место. Ядран будет кусать и бить копытом. Кто-то придет – Ядран убьет. Вуко спит».
* * *
Сидят вокруг меня по-турецки, с руками, упертыми в колени, и ладонями, обращенными к небу. Смотрят на меня налитыми кровью, мутными, слепыми глазами. Сидят и вонзают в меня слепой взгляд, не обращая внимания на воронов, что рвут их тела.
– Тело – се тлен, – шепчет один. Его голос звучит как шелест сухих кладбищенских листьев. – Душа – се тлен. Тебе нужно быть вороном, чтобы взлететь в небо.
– Вот еще один пришел красть песни, – это следующий, он уже почти скелет. – Блуждаешь. Идешь по спирали, в никуда. Ты сам должен сделаться песнью.
– Дорога ведет внутрь, а не наружу. Но это глупец – Странствующий Ночью. Пришел извне и уйдет вовне.
– Приходят сюда за песнями. Хотят деять. Но это место, в котором деяния прекращаются. В котором прекращается все.
– Ты вор. Для чего ты нарушаешь покой Воронова Града? Мы – мудрецы. Песенники. Мы заняты. Здесь мы перестаем быть. Отчего ты нам мешаешь?
Протягивает руку и вырывает мой глаз. Показывает его плавающим в ладони, как разбитое яйцо.
– Столько-то стоит знание. Тот, кто желает деять, должен научиться смотреть внутрь.
Сам он совершенно слеп.
– Видишь? – спрашивает. – Один я отдал, чтобы деять. Второй – чтобы деять перестать. Отдал его воронам.
Я пробуждаюсь, словно по сигналу тревоги. Хмурый рассвет. Даже, скорее, посиневшая на востоке ночь. Я трезв и готов действовать. Не знаю, из-за кошмара или остерегающего ворчания Ядрана. Пиктограммы боевого состояния в мгновение ока пролетают перед моим внутренним взором, как голографические elirium tremens.
* * *
Драккайнен бесшумно поднялся, с луком в руке, и пошел, крадучись, к коню; оперся о его теплый косматый бок. Конь повернул к нему башку, и они соприкоснулись лбами.
«Человек и осел, – подумал конь. – За хребтом. Не видно. Идет. Не боится. Он врет. И знает, что мы здесь».
– Лежи, – шепнул Драккайнен.
Присел на корточки и упер ладонь с луком в колено. Конь подогнул ноги и исчез в высокой траве, послушно вытянув шею и как-то по-драконьи уложив голову челюстью к земле. «Земной конь так не сумел бы», – подумал Странник.
В термозрении вороны, сидящие на островерхих крышах, светились как неоновые попугаи, а дома торчали вокруг словно драконьи зубы. Был слышен скрип плохо смазанных осей. Из-за пригорка показалось желто-оранжевое пятно в форме шишковатой башки животного, похожего на окапи или миниатюрного жирафа. За ним – двухколесная тележка, рядом с которой ступал низенький человечек в кожаной шляпе с большими полями и ел сваренное вкрутую яйцо.
Драккайнен послюнил пальцы и поправил растрепанное оперение стрелы.
– Не можешь спать, Воронья Тень? – крикнул, натягивая лук.
– Ты тоже, если нет дерева, Спящий-на-Дереве? – крикнул в ответ тот. – Лучше отложи лук и подбрось дровишек.
– Я и так хорошо вижу, – откликнулся Вуко.
– Если отложишь лук, я сяду с тобой подле огня.
– А какая мне с этого польза?
– Завтрак. Ты дашь огонь, я дам пиво, ветчину и хлеб.
Драккайнен снял стрелу.
– У меня есть печеная рыба, – сказал.
Сидели по обе стороны от костра, глядя друг на друга через огонь. Вставал пурпурный рассвет. Вблизи оказалось, что Воронья Тень почти карлик. Мощный, кривоногий и без одного глаза. Глазницу прикрывала костяная пластина, прикрепленная к ремню.
– Ты отдал один глаз за знание? – спросил Драккайнен.
– Ага. Узнал, что, если сражаться без шлема, можно потерять глаз. А что узнал ты?
– Что это странная страна. Что здесь продолжается какая-то война богов. Что здесь непросто повстречать кого-то, у кого все дома в голове. Что в каменных зданиях живут трупы. Разные вещи.
– Твоя рыба вчерашняя.
– А твое пиво кислое. Что это за место?
– Урочище. Кладбище. Глупцы, которые думают, что они – Деятели, приходят сюда отдавать песни.
– И отдают? – спросил Драккайнен, сделав глоток.
– Песни богов принадлежат богам. Их нельзя ни отобрать, ни отдать. Самое большее – их можно забыть.
– Почему ты говоришь загадками?
– Говорю так, как ты спрашиваешь. Загадкой на загадку.
– Ты знаешь многих Песенников?
– Я знаю многих людей.
Драккайнен вздохнул:
– А сам ты – Песенник?
– Ужасно много спрашиваешь. Как баба. Спрашиваешь и спрашиваешь. Что ты делаешь со всеми словами?
– Я уже говорил, что ищу нескольких чужаков. Один из них был при дворе Безумного Крика. Здесь его называют Акен. Ты слышал о нем? Высокий, черноволосый, с рыбьими глазами. Как я их найду, если не буду расспрашивать?
– Ища, как полагаю. Коня ты уже нашел.
Драккайнен вздохнул и ткнул в костер палкой, посылая в небо снопы красных искр. Он совершенно забыл о коне. Позвал его. Ядран сразу поднялся, тряхнул головой и отошел в сторону, щипля траву.
– А может, ты хочешь поторговать? Если расскажешь мне что-нибудь полезное, я дам тебе марку серебром. Что-то, что поможет мне в поисках.
Черный мушиный глаз Вороньей Тени блеснул.
– Всегда иди вперед. Тот, кто выслеживает, должен искать перемен, а там, где он станет ждать, – ничего не происходит. Спрашивай или молчи – но всегда слушай, о чем говорят люди. Ни верь ни во что, что хотя бы на миг не побывало в твоей голове. Не доверяй новому мечу, слову девушки в постели, богам и богатым. Не верь также простецам и злым людям. Я могу так долго – и каждый совет тебе пригодится. Я уже могу получить свою марку или тебе нужно больше советов?
– Ты не сказал ничего, чего бы я не знал, – усмехнулся Драккайнен. – И я могу взять реванш таким же советом: «Доволен глумливый, коль, гостя обидев, удрать ухитрился; насмешник такой не знает, что нажил гневных врагов». Или: «День хвали вечером, жен – на костре, меч – после битвы, дев – после свадьбы, лед – если выдержит, пиво – коль выпито».
– Хорошо сказано, – ответил с улыбкой Воронья Тень. – Однако я исходил из соглашения. Ты сказал, что дашь мне марку, если я скажу тебе нечто полезное. Я сказал.
– Ты софист.
– Что оно такое: «соуф юст»?
– Это слово из моей страны. Означает того, кто врет не обманывая. Кто гнет слова, будто ивовые прутья, чтоб вышло по его. Не получишь и гроша ломаного за такие советы.
– В таком случае – сыграем на твою марку. Ты умеешь играть в короля?
– Нет.
– Я покажу тебе.
Драккайнен вынул воткнутую в землю палку, на которой пек кусочек ветчины, понюхал мясо, после чего осторожно откусил. Воронья Тень похромал к своей повозке и вернулся, неся деревянную шкатулку, в которой что-то гремело, словно в шахматном комплекте.
Набор состоял из деревянного планшета с отверстиями и пешек, которые можно было втыкать в отверстия одним или другим концом. Вставленные одной стороной, они были обычными пешками, другой – главными, как дамка в шашках. Кроме того, еще был кожаный округлый мешочек, содержащий плоские камешки с вырезанными и окрашенными краской знаками с одной стороны, которые означали временные свойства пешек или условия партии; эти камни, называемые «камнями судьбы», надлежало вытягивать из мешочка вслепую. Черные следовало показывать и использовать сразу, красные – придерживать на потом и использовать когда это выгодно. К тому же были два многогранных кубика, которые бросались в открытый мешочек. Цель игры – провести «короля» с одного края планшета на другой. Можно было сбивать пешки противника, пытаться убить или заблокировать его «короля» или сконцентрироваться на проводке его в угол быстрее, чем это сделает противник.
Игра была сложной, но понятной. Драккайнен активировал соответствующий модуль цифрала и зарегистрировал все правила, включая значения символов на шестидесяти четырех камнях. Это было тем, что без помощи он никогда бы не запомнил раньше, чем после нескольких игр. И никто бы не запомнил – собственно, это показалось ему самым удивительным.
Он сунул руку в поясной кошель с монетами, взятыми на станции, и нащупал двенадцать серебряных бляшек, каждая с полграмма. Четыре были украшены рисунком коня, другие – человеком с веткой, некоторые – почти стертыми знаками. Он вынул руку из кошеля и, не пересчитывая, высыпал монеты в крышку коробочки с камнями судьбы.
Воронова Тень воткнул в землю заостренную палочку с отходящей в сторону веточкой и на сучке повесил шнурок с прилаженным горизонтально узким кристаллом.
– А это что?
– Один из моих товаров. Это стрела правды. Скажет мне, если ты станешь меня обманывать.
– Как здесь можно обмануть? Ведь все видно.
– В любой игре можно.
Загрохотали кости. Страннику выпало играть зелеными. Он решил послать своего короля кратчайшей дорогой в компании шести пешек, поставленных охранным шестиугольным строем, а остальными выбивать пешки Вороновой Тени. Потом он вытащил «дождевую слякоть», а Воронова Тень – красный камень, который оставил себе на потом. Слякоть привела к тому, что его король застрял где-то на середине доски, а отряды разведчиков впутались в серию ничего не значащих стычек с пешками противника. Цифрал подсовывал ему возможные ходы противника и работал над поиском алгоритма его стратегии, но старикан упорно совершал ходы, отличные от оптимальных. Через несколько минут Драккайнен пришел к выводу, что противник концентрируется на атаках на его короля и только делает вид, что желает провести своего в замок.
Они не разговаривали. Слышно было лишь громыхание костей, стук камней и пешек. Каждый сбил по шесть пешек противника, но король Драккайнена находился в худшем положении. Ему досталась пара красных камней, которые он держал в резерве – «лед» и «болезнь коней», а также два черных, заблокировавших один из его отрядов. Воронова Тень вытягивал только красные и уже подсобрал из них немалую коллекцию.
Цифрал подбросил ему пару возможных стратегий на основе анализа движений Вороновой Тени, приняв за условие, что все камни судьбы у того будут обладать наибольшими и при этом неполезными для ходов Странника возможностями.
Стрела правды стала неторопливо проворачиваться, указывая одним из своих концов на Драккайнена. Воронова Тень нахмурился, но потом что-то произнес – и кристалл повернулся в его сторону, а потом начал свободно вращаться, указывая попеременно то на одного, то на другого. Так продолжалось до конца игры.
Вуко применил одну из своих систем и в результате на какое-то время получил контроль над серединой доски ценой четырех меньших пешек, принудив противника использовать три камня.
А потом решил, что хватит, и преднамеренно совершил несколько ошибок, чтобы проверить, заметит ли это Воронова Тень. Заметил. В ответ Драккайнен отплатил несколькими болезненными атаками и принудил карлика использовать два камня – «черный огонь» и «огненную стрелу», после чего проиграл, с полным осознанием того, что делает.
Воронова Тень выпрямился, хрустнул пальцами и сделал глоток-другой пива.
– Легкие деньги, – сказал, ссыпая монеты в свой кошель. – Играем еще? Хочешь отыграть свое серебро?
– Нет. Сыграем на кое-что другое.
– На что?
– На вопрос. Если выиграю, ты ответишь мне на вопрос. Если проиграю, получишь марку серебром. Ответишь искренне, – он протянул ладонь и придержал крутящийся кристалл. – Я буду знать. Ты повесил стрелу правды.
Воронова Тень задумался на миг:
– Согласен.
– Вылей немного пива на землю и возьми Хинда в свидетели.
Воронова Тень фыркнул:
– И что оно даст?
– Сделай как говорю.
Снова начали играть.
На этот раз Драккайнен ходил увереннее. Рассчитал три независимые стратегии: одну – на продвижение собственного короля, одну – на убийство короля Вороновой Тени и одну – на блокирование его посреди поля. Теперь он перепрыгивал от одной к другой, реализуя их в зависимости от ситуации на доске. Воронова Тень наверняка мошенничал – и кидая кости, и вынимая вслепую камни. Стрела правды дергалась как безумная.
Драккайнен выиграл быстро и безжалостно, атакуя короля противника, прижатого к краю поля, после чего налил себе еще пива, придержал дрожащий кристалл и лучисто улыбнулся.
– Теперь я спрошу.
– Минутку, – прервал его Воронова Тень. – А если я чего-то не буду знать?
– Тогда ты скажешь, что не знаешь, но скажешь, как оно, по твоему мнению, может быть.
– Один вопрос – один ответ.
– Хорошо. Слышал ли ты, где может быть чужой Песенник с рыбьими глазами, называемый Акен, или высокий наглый старикан с длинными серебристыми волосами и рыжей бородой, которого зовут Олаф Фьоллсфинн, или очень высокая, гибкая женщина с короткими волосами цвета соломы по имени Ульрика Фрайхофф, или невысокая полная женщина с черными кудрявыми волосами, Пассионария Калло? У всех у них глаза как у слепцов, но все они зрячие. Плохо говорят на знакомых языках, и они – странные. Кажутся молодыми и зрелыми одновременно. Их могут принимать за Песенников, но и за безумцев. У них есть странные предметы, и они странно себя ведут. Вопрос звучит: слышал ли ты, где эти люди могут находиться?
– Я слышал разные рассказы о странных людях. Часть из того – сказки. Часть – не касается тех, кого ты ищешь. Возможно, я слышал о высоком худом Песеннике со слепыми глазами и волосами как уголь. Но видели его то здесь, то там. Во многих местах, но никогда не на одном и том же. Якобы был он Деющим. И эти истории – всегда страшные.
– Почему?
– Один вопрос – один ответ.
– Я не задаю нового вопроса. Спрашиваю о твоем ответе, поскольку я его недопонял.
– Как ты там говорил, «соуф юст»? Играем дальше?
– Играем.
На этот раз Драккайнен проиграл. После яростной схватки, но окончательно и без малейших сомнений. Потерял короля за два поля перед замком. Сунул руку в мошну и принялся, не глядя, отсчитывать деньги.
– Нет, – сказал Воронова Тень. – Я выиграл свой вопрос.
Придержал стрелу правды и заглянул Драккайнену в глаза:
– Ты ищешь этих чужеземцев. Что сделаешь, когда их найдешь?
– Заберу их отсюда. Заберу домой.
– А если они не захотят идти с тобой?
Вуко замер на миг:
– Как они могли бы не хотеть? Они потеряны здесь и хотят вернуться домой. Ждут кого-то, как я. Однако, если бы кто-то не захотел… Если так случилось бы, я все равно их заберу, хотят они того или нет. Силой. Я ответил тебе на дополнительный вопрос, что касался того, о чем ты спросил.
– Это твое дело. Играем?
– Что такое «холодный туман»? – спросил Драккайнен получасом позже.
– Фатум. Стихия. Возможность. Завеса. Вопрос и ответ одновременно.
– И это твой ответ?
Воронова Тень мотнул головой в сторону окружающих их островерхих домов:
– Те, кто в них сидит, всю жизнь пытались найти ответ и, увы, не нашли его. Холодный туман – лишь туман. Но появляется он в урочищах и везде, где кто-то пытается деять. Делать так, чтобы вещи начинали быть. Но порой деет и сам туман. Появляется следом за тем, кто знает песни богов, а порой и сам по себе. Лучшего ответа нет. Говорят, холодный туман живет. Другие считают, что это дыхание богов или врата той стороны мира. Был он всегда – и всегда будет.
Воронова Тень играл чуть слабее и, похоже, подустал – или Драккайнен с помощью цифрала справлялся все лучше.
– Что такое «война богов»?
– Ты задаешь все худшие вопросы. Скоро, глядишь, захочешь узнать, что такое солнце или почему на небе только две луны. Война богов – это война богов. Боги сражаются друг с другом. Конечно, так было всегда, но они держались правил. Представь себе двух поселян, что обитают на побережье. Таких, что не любят друг друга. Однако каждый следит за собой. Когда их люди встречаются в лесу или на море, они могут подраться, но могут и не обратить друг на друга внимания. Порой крадут друг у друга корову или рыбу из сетей, порой кто-то получает по голове. Но однажды их обоих охватывает безумие. Горят избы, гибнут девицы, соседи вырезают друг другу скот, люди при любом удобном случае убивают себе подобных. Никто не охотится, потому что страшно. Никто не трудится на полях и не варит пиво, потому что интересует их только железо, кровь и огонь. Избы, почерневшие и сожженные, на пляже лежат трупы, на лугах – вздувшиеся мертвые коровы. Точно так же и с богами. Только когда они гневаются, дело не заканчивается метанием железа.
Времена бывают хорошие, когда богов встречают изредка и лишь там, где им быть должно. Это значит, что в мире царит равновесие. Какое-то время происходит множество странных вещей. Некогда холодный туман был только в урочищах. Если появлялся глупец, который желал сделаться Деющим и шел в урочища, обычно он погибал: порой встречался с богами, а порой его выбирал туман. Теперь же туман возникает в разных местах. Он движется. Появляются умершие, появляются чудовища или разумные животные. Слишком часто. Равновесие пало. Появились новые враги, а старые ведут себя как одержимые. Мир сошел с ума. Так бывает, когда боги начинают сражаться друг с другом. Я дам тебе один настоящий совет. Держись подальше от богов, Деющих и холодного тумана. Найди тех, кого ищешь, и уезжай себе за море. Когда случается чудо, дураки подходят и таращатся с раскрытым ртом. Человек рассудительный берет руки в ноги, потому что из таких дел никогда не выходит ничего хорошего. Это был дельный совет. Запомни его, Спящий-на-Дереве, он тебе пригодится.
Иди в порт, который зовут Змеиной Глоткой. Там, где встречаются три фьорда. Наступает осень. Корабли возвращаются с южных путей на зимние лежбища. Будет большая осенняя ярмарка и тинг. Куда бы ни направлялись те, кого ты ищешь, если они шли по Пустошам Тревоги, то рано или поздно должны были туда добраться. Потом – уже не знаю. Взошли на корабль и уплыли, или отправились каким-то из трех фьордов на юг к стране Огня, или ушли дорогами через Соленые горы, или побережьем, в страну Ремней. А может, в пущу. Но они наверняка проходили через Змеиную Глотку. Ступай туда и ищи. Сегодня я больше не хочу играть. Ты меня и так постоянно обманываешь.
– Меньше твоего, – ответил Драккайнен.
Старик собрал вещи и взгромоздился на козлы своей повозки.
– Найди дорогу, Воронова Тень, – сказал Драккайнен.
– Абы не твою, – рявкнул тот и чмокнул ослику.
– Я всего лишь хотел быть вежливым, – крикнул ему вслед Странник.
Скрипенье колес стихло, и Драккайнен остался на холме один, в обществе коня, трупов, сидящих в каменных шалашах, да воронов.
– Ну, значит, едем к порту на осеннюю ярмарку, – сказал он Ядрану. – Куплю там тебе баранок или чего-нибудь такого.
Он свернул попону и одеяло, после чего стал упаковываться, пряча припасы и разбросанные вокруг костра мелкие вещички. Ядран внезапно поднял уши и издал предупреждающее рычание.
На седле расселся ворон размером с орла, антрацитово лоснящийся. Чистил большой клюв о луку и смотрел нагловато.
– Пошел прочь! – каркнул триумфально.
– Я сейчас тебе дам «пошел», ворюга! – рявкнул Драккайнен и ухватился за лук, но ворон рванул в небо, махнув огромными крыльями, и смешался со стаей птиц, что обсели высокие крыши домов.
– Ловкач, – процедил Странник и снова спрятал лук в сагайдак. Все равно ничего бы с того не вышло. В месте этом крутилось минимум двести воронов, летающих, топчущихся по крышам, словно мухи по говну, и громко каркающих, – и все были совершенно одинаковы.
Он позвал Ядрана и оседлал его, потом нагрузил остальным добром и уехал. Каменная древняя дорога закончилась, словно спряталась в траве. Дальше вела узкая заросшая тропа, та самая, которой уехал Воронова Тень, и вела она более-менее в нужном направлении. Когда Драккайнен исчез в лесу ниже покрытого порыжевшей травой луга, с одной из островерхих крыш снялся большой черный ворон и полетел за ним.
Глава 4 Перевернутый журавль
Молодые лисы спят в норе,
Молодые пантеры резвятся средь трав.
И лишь щенки владык
Ночь сторожат, щеря клыки.
Кремень, сын Пращника – каи-тохимон клана Скалы, Кодекс Владыки– Открой глаза, ленивец, день наступил! – Так начиналось каждое мое утро с той поры, как исполнилось мне пять лет. С первым проблеском синеющего небосклона, резким, хриплым голосом Учителя, привычным к командам, выкрикиваемым в строю атакующей тяжелой пехоты и более подходящим для военного лагеря, а не для императорского дворца. Так он пробуждал меня и моих братьев, чтобы гнать нас на тренировки еще до скромного завтрака.
Дождь ли, снег ли, бежали мы садом в сероватом свете утра, чтобы поднимать тяжести, преодолевать препятствия и учиться бою на палицах и голыми руками. Лишь когда вставало солнце, озябшие или запыхавшиеся, возвращались мы в баню, чтобы омыться в нескольких ведрах ледяной воды. После надевали мы на покрытые синяками и замерзшие тела простые одежды из сурового полотна. Штаны, рубаха и куртка. Войлочные сапоги с плетеными подошвами. Выглядели мы как солдаты или простецы. Только одежда наша была чиста, цела и комплектна. Была она практичного бурого или серо-синего цвета, с несложным узором.
Все время: спешка и трость в руках Учителя, скромная одежда, скупая, простая еда. Наша баня выстроена была из лучшего красного дерева и полированного мрамора. Ведра, из которых поливали нас водой, изготавливали из панцирей огромных черепах и оправляли в лунное серебро. И все же не получали мы и малого избытка. Никаких изысканных мыл, никаких духов и ароматных масел. Обычная вода, притом холодная как лед.
На завтрак садились мы в зале, полном бесценных ваз и статуй, среди простой кирененской мебели, сделанной так, как если бы создавал ее сам Бог. На столе появлялись чудесные хрупкие тарелки из драгоценного, покрытого лаком дерева, фарфора или раковин, но в тарелках и мисках лежало лишь немного хлеба, паста из гороха или рыбы, горсть каши либо пара ложек супа. И все. По крайней мере обычно так. Когда же отцу не приходилось править, он сам выходил из императорского дворца и возвращался в свой павильон. Тогда мы ели с ним ужин при свете огня в очаге либо в саду, среди скал, ручьев и изогнутых драгомерий, на столе же появлялись десятки изысканных блюд. Тогда возвращалось наше детство. Мы слушали, как мать играет на синтаре и поет кирененские сказки и как отец рассказывает нам свои забавные историйки. Но видели мы их не всегда. Обычно был с нами лишь Учитель, ледяная вода, грубая одежда и скромная пища. Бесконечные часы тренировок. Каллиграфия, языки, стратегия, история, поэзия, политика, конная езда, стрельба из лука, бой копьем, палицей, мечом, ножом, двумя саблями, бой рукопашный и плавание.
До десятого года жизни я даже не ведал, что я – будущий владыка. Жил я при дворе, состоящем из множества павильонов, выстроенных моим дедом среди садов, называемых Облачными Палатами. Двор был точной копией обычных поместий высоких родов из страны, откуда мы происходили. Где-то там, над ним, возносился императорский дворец, но там мы бывали нечасто. Мы даже не глядели в его сторону. Всем нашим миром был двор и Облачные Палаты. Здесь у нас были деревья и цветы, текущая вода и пруды, напоминавшие озера, скалы и дорожки, посыпанные белым щебнем. Ни двор, ни такой сад не могли бы здесь возникнуть, прежде чем установилась наша династия. Прежде чем первый из моих предков воссел на Тигрином Троне. Сад был чисто кирененский. Должен был он пробуждать в человеке спокойствие и равновесие духа, существующие в полной гармонии. Выглядел он как дикий уголок, но был одарен совершеннейшей красотой. Являл собой гимн в честь Творца. Всякое дерево было словно скульптура. Каждая скала и каждая капля были на своем месте. Дикие, но преисполненные равновесия. Для нас, кирененов, красота – это приморские горы, ручьи.
Амитрайские императоры всегда обитали во дворце, сад же их был почти пустой территорией, на которой деревья, кусты и цветы росли ровными квадратными отрядами, словно узор на ковре. Сад их выглядел как степь и как преисполненный роскоши ковер одновременно. Служил он для конного выезда и должен был выглядеть красиво, если смотреть из окна дворца. Для них красота – открытая, голая степь, где цветут цветы.
Порой же, в Праздник Лошадей, ставили огромный, пахучий войлочный шатер, расставляли в нем искрящуюся золотом и каменьями безвкусную мебель, а император сидел там, ел жирное мясо сусликов, печенное на углях, и пил молочное пиво из чары, слушая, как играют ему Песни Земли.
Амитраи никогда не могли решить, они – народ диких кочевников или империя, покорившая мир и сделавшаяся его сердцем.
Род мой не имеет ничего общего с Амитраем. Мы в нем – элемент чуждый. Подобно, впрочем, половине граждан. Как такое случилось, я расскажу в другом месте.
Детство же мое было именно таковым, поскольку происходили мы из Киренена. Далекого королевства, которого нынче уж нету. Был я сыном владыки. А сыновья владык должны уметь больше, быть мудрее и благороднее прочих людей, ибо ожидает их проклятие власти. Они должны уметь, если потребуется, отказаться от себя. Должны держать себя в узде, поскольку, когда станут владыками, не будет никого, кто сумеет сдержать их. Они должны нести судьбу всех прочих на своей шее. Потому нельзя было нам относиться к себе снисходительно. Нельзя было нам руководствоваться гневом, капризом, желаниями и прихотями. Для нас могли существовать лишь честь, отвага и служение.
Так гласили кирененские кодексы, согласно им нас и воспитывали.
* * *
Так много вещей нужно мне вспомнить!
Тут, где я нынче нахожусь, только это и имеет значение. Я должен помнить.
Киренен, который я никогда не видел, но который должен нести в себе, чтобы тот не погиб окончательно. Песни моей, неизвестной мне, земли… Мою мать, конкубину моего отца… Самого отца, благородного и справедливого человека, который мог бы править миром. Моего Учителя. Мою учительницу Айину. И даже моего брата Кимир Зила. Облачные Палаты.
Должен я помнить и великие мечты моего рода. Моего несуществующего клана. Мечты об Амитрае – таком, каким мы должны были его сделать. Медленно и последовательно, поколение за поколением. Об Амитрае, каким создавал его мой отец. О стране, в которой стоило жить и которой никто не должен бояться. О стране, в которой стоило быть важным человеком.
Он стал первым императором, которому было дано увидеть результаты своих трудов. Он видел, как все возникает.
И видел, как рушится в море огня и крови.
Я должен все это спасти.
Всего этого так много, что я не знаю, с чего начать. Расскажу обо всем, не позволю этому умереть. Затворю это в словах и пронесу сквозь времена огня. Времена войны богов.
Однако сперва я расскажу о своем детстве.
* * *
Родился я в Год Воды. Это скажет вам не много, но довольно и того, что было это не слишком давно. Первые пять лет я провел, главным образом, в Доме Киновари вместе со своей матерью, конкубинами, няньками и мамками. Я был ребенком. Осыпали меня поцелуями, давали лакомства, учили говорить и ходить. Не многое из этого помню. Некие тени, отброшенные на ширму, чей-то голос, поющий мне монотонную печальную и красивую колыбельную. Женские голоса и смех. Детские годы, плывущие в безвременье, как в лихорадке. Золотые, мягкие, теплые и липкие, словно мед.
Потом мне исполнилось пять лет, и я почувствовал, как жесткие, твердые, но осторожные руки мужчин забирают меня из Дома Киновари – из мягких и благоухающих женских объятий. Сперва я этому радовался. Я уже не был ребенком. Личинкой, бесполым существом, ведущим бессмысленную жизнь, лишенным значения. Стал я мальчишкой. Ждали меня десять лет в Доме Стали должные перековать меня в мужчину. Я быстро затосковал о теплом Доме Киновари, о его удобствах и беспечности, о ласках и сладостях, которыми нынче одаряли меня столь скупо.
Однажды Учитель увидел, как я плачу украдкой, спрятавшись в уголок. Он сел рядом и сидел так, молча и попыхивая маленькой трубочкой, а потом сказал мне:
– Первые пять лет ты провел в объятиях женщин и теперь тоскуешь о них. Ничего странного, каждый тоскует. Но я скажу тебе: когда ты перестанешь быть мальчишкой, снова в них вернешься. Но тогда ты станешь искать чужих женщин.
Конечно, я его не понял.
Впрочем, среди слуг и учителей и вправду были женщины, но речь шла не об этом. Дом Стали был не монастырем, но местом научения. Там нас перековывали, делая из нас владык. Там Учитель был самым главным.
Некогда он был стратегом. Возможно, и продолжал им быть. Некогда он был командиром. Некогда был еще и тайным убийцей. Мой ментор. Ему позволялось все.
Он мог нас наказывать. Даже розгами, хотя делал это редко. Мог нас учить и воспитывать. Мог нас стыдить и морить голодом, если считал необходимым. Не должен был сгибаться пред нами в поклонах, как другие, или разговаривать с нами коленопреклоненно, со взглядом, устремленным в землю.
Я его боялся.
Кимир Зил – нет, но он не боялся никого и ничего. Я же боялся не наказаний. И не того, что поставят предо мною поднос с кубком воды и миской сухой каши, и не порки розгами. Не того, что с утра до ночи стану я чистить конюшни. Боялся я, что взглянет он мне в душу своим пронзительным взглядом и обожжет ее. Взглядом, который еще долго будет болеть внутри меня и который я не смогу забыть.
Я злился на него. Ненавидел беспрестанные тренировки, ледяную воду и скудную еду. Возмущался постоянными неудобствами, недосыпами и дисциплиной. Но чувствовал, что он – справедлив.
Он был суров, поскольку ему приходилось.
Не всегда обращался к нам «сиятельные принцы». Чаще использовал он неизвестное тут слово «тохимон», означающее на кирененском «избранный из равных».
Однажды, уже перед смертью, сказал он мне так, как в Киренене вассал обращается к владыке: «ромассу» – «моя жизнь».
«Уезжай, моя жизнь», – сказал он.
Звался он Хатир Санджук. По крайней мере официально. В поколении моего отца все более открыто использовали кирененские имена. Кирененцы учили детей языку, появлялись в своих клановых одеждах на улицах. Тогда это уже не имело значения, поскольку сделалось модным. Во времена моего отца можно было позволить себе, чтобы те, кто полагал себя кирененами, публично носили клановые ножи. Так было и с прочими древними народами, покоренными империей. Ходили они по улицам в своих одеждах, как помнили их. Именно потому мы знали, что наш Учитель зовется Ремень, сын Седельщика из клана Журавля.
Мы все были из клана Журавля.
Вернее, были бы, если бы и дальше существовала наша страна.
Если бы не родовой позор из-за предательства, на которое нас вынудили, чтобы страна выжила. Если бы мы не были потомками предателя, который, чтобы покарать себя, взял амитрайское имя Тахалдин Тенджарук, что значит Перевернутый Журавль. Именно так, с глифом «перевернутый друг», что в кирененском письме значит «предатель».
Он подвел свой род, предал собственную страну и помог ее уничтожить. И все для того, чтобы один из его потомков надел Тигриную Шапку. И превратил обезумевшую, дикую тиранию в новый Киренен. И назвался «предательским журавлем», чтобы помнить.
Но я говорил об Учителе.
Он никогда ничего мне не давал. То есть давал он мне множество вещей, но никогда ничего такого, что не послужило бы обучению. Однажды я получил железный шар. Отполированный железный шар. Похожий на небольшой мяч.
– Что это, Учитель? – спросил я. Надеялся, что это игрушка.
– Шар желаний. Когда тебе будет слишком плохо, и ты захочешь что-либо получить, сожми его в кулаке. Сжимай так долго, пока отчаяние не пройдет. Однако это будет означать лишь, что ты не желал этого слишком сильно. Если действительно чего-то возжелаешь, сумеешь сделать так, что шар станет мягким, будто глина. Тогда желание твое исполнится.
Одному Создателю известно, как часто я сжимал шар. Одной и другой рукою. Давил и давил его. Порой засыпал с шаром в руке. И Учитель был прав. Со временем печаль проходила.
Но исполнил шар лишь одно пожелание, да и то – не мое. Пожелание Ремня.
Он хотел, чтобы у меня были сильные пальцы.
А однажды я получил остров.
Это был один из наиболее важных опытов моего детства, и потому я о нем расскажу.
На озере, в нашем саду. Было там несколько искусственных островов, покрытых скалами, на них росли деревья. Хвойные, сливы и чудесно цветущие по весне кусты. Однажды оказалось, что в саду полно слуг, которые несли туда множество ящиков из полированного дерева. В стенках ящики имели ряды дырочек, а внутри что-то двигалось. Между ними стоял Деющий. Мастер Зверей. Острова тоже изменились. Высадили на них множество тростника, по берегам лежали скирды палочек и самых разных предметов. Посредине же каждого острова возвели восьмиугольную беседку.
В тот день мы также получили и новые куртки. Были те схожи с имевшимися у нас, но совершенно разных цветов. Я получил куртку цвета темной желчи, Кимир Зил – карминовую, а третий наш брат, Чагай, – голубую.
Интригующие ящики были раскрашены в сходные цвета. В желтый, карминовый и васильковый.
– Что это? – спросил Чагай Мастера Зверей.
– Быстрейки, благородный принц, – ответил тот, сцепив в поклоне руки.
Мы ничего не поняли.
Быстрейки оказались небольшими зверьками, похожими на мангустов, но с короткими хвостиками и хваткими, словно руки у людей, лапками. На каждом острове поселили отдельную стайку. По одному острову для каждого из нас.
Зверьки были чудесными. Они не только играли сами с собой, позволяли их гладить, брать на руки, но и благодаря искусству Мастера Зверей делали дивные вещи. Это создания, которые обычно строят сложные норы с многими выходами, соединенными коридорами. Вылепливают над ними башни из глины, в которых сидят их стражники, предупреждающие об опасности. Но наши быстрейки строили куда большие и куда более сложные здания, чем обычные. Также они умели работать на крохотных полях, где выкапывали насекомых, личинки и съедобные корни. Но, вместо того чтобы пожирать это на месте, как делают в диком состоянии, сносили запасы в норы.
– Се – ваши царства, – сказал Ремень. Над беседками трепетали флаги: желтый, карминовый и васильковый. – И теперь вы станете править.
Получили мы еще свирели, раскрашенные в соответствующие цвета. Мы умели играть, это входило в наше обучение, но эти свирели появились благодаря искусству Мастера Зверей. Они умели говорить с быстрейками.
Мастер Зверей обучал каждого из нас отдельно, будто свирели разговаривали тайными языками, которые понимали лишь мы и наши зверики. Впрочем, полагаю, так оно и было.
Я сидел в отдельной комнате напротив Мастера Зверей, на ковре, со свирелью в руке и пытался повторять мелодии, которые он играл. У него был собственный инструмент. Обычная жестяная дудка, на какой играют моряки. Мелодии были простыми. Они немного напоминали сигналы коннице, издаваемые рогом (несколько навязчивых нот – «строй клином!», «поворот», «атака», «бычьи рога»), и должны были служить примерно той же цели. Однако звучала в них странная гипнотическая нота, как в музыке, исполняемой пустынниками. Говорят, кебирийцы умеют музыкой вводить себя в транс, в котором они не чувствуют боли, танцуют несколько дней без отдыха или протыкают тело наконечниками стрел, не страдая от боли и кровотечения. Я видел такие вещи, когда во время праздников бывал во дворце, сидя ниже трона моего отца. Однако я не был ни пустынником, ни командиром кавалерии.
Я сказал об этом Мастеру Зверей и спросил, отчего они слушаются моей игры.
– Ты уместно вспомнил кебирийцев, благородный принц, – сказал он. – И ты наверняка видел, как музыка флейты заставляет змей или ядовитых пустынных ящериц танцевать. Твари слушают и, кажется, спят с открытыми глазами. Тогда заклинатель может дотронуться до них, ничего не опасаясь. Инструмент, который я тебе даю, господин, будет действовать сходным образом, но в нем скрыта истинная сила. Там – всего лишь фокус. Умелый заклинатель просто знает, что не звук действует на рептилию, а движения кончика инструмента. Музыка же твоей свирели влияет на волю быстреек, однако лишь на тех, кто принадлежит к твоей стае. На Желтых. Благодаря им ты можешь заставить зверей делать вещи, которые в другое время они делать не смогут. Будут почти как крохотные люди, но полностью подчиненные твоей воле. Это, – поднял он дудку, – инструмент власти. Власти абсолютной. Сперва ты сможешь отдавать лишь простые команды. Но это азбука. Учись, благородный принц, пока не станешь играть так, чтобы не думать об отверстиях свирели, собственных пальцах и звуках. Пока музыка не станет передавать твои мысли. Тогда ты сумеешь заставить зверей делать неслыханное. Может, они сумеют построить плоты и плавать на них на рыбную ловлю; может, создадут искусство или выстроят замки? Это будет зависеть лишь от тебя.
– Как животные могут быть настолько мудры? – спросил я. – Даже лучшие из дрессированных собак или боевые леопарды не умеют подобного.
– Они умнее, чем обычные. Твой благородный отец, Пламенный Штандарт, владыка Тигриного Трона, Господин Мира и Первый Всадник, приказал мне их вывести. – Мастер Зверей склонился в мою сторону, взяв кубок с вином двумя руками, и огляделся. – Я получил его доверительное согласие, чтобы использовать силы земель урочища. Я изменил их в лонах матерей так, чтобы были они умнее, чем дано это животным.
Я слушал в остолбенении. С детства я жил, слушая жуткие рассказы о силе урочищ и о чудовищах, которые выходили оттуда еще во времена моего деда. Предыдущие императоры держали при дворах Деющих и Ведающих, пытались использовать силу урочищ в политике и войнах, но это всегда кончалось страшными несчастьями. То и дело случались авантюристы, утверждавшие, будто нашли они утраченные имена богов и что сила урочищ станет им послушна. Раз они привели к поражению в битве, другой – к эпидемии, а потом мертвые начали восставать из могил. Дед в конце концов запретил даже приближаться к урочищам и грозил смертью всякому, кто осмеливался разыскивать утраченные имена богов. В правление моего отца запретов становилось все меньше, но этот оставался в силе. Дозволялись мелкие фокусы; я догадывался, что при дворе было несколько истинных Деющих, работавших в глубокой тайне, хоть и не знал ни одного, кроме Мастера Зверей. Что до остальных, я никогда не узнал ни кем они были, ни чем занимались.
– Это совершенно безопасно, – сказал Мастер Зверей, заметив выражение моего лица. – Мое искусство подконтрольно. Я сделал лишь то, что умел, а это и вправду совсем немного, по сравнению с истинной силой урочищ. Уверяю тебя, благородный принц: меня контролировали двое Ведающих, и, если бы я не устоял перед искушением использовать мощь этой силы, имперские лучники мгновенно превратили бы меня в ежа. Не опасайся ничего, благородный принц, и тренируйся. Пока ты не можешь ступить на свой остров. Неловкая игра ввела бы твоих зверей в безумие.
Все говорило о том, что я получил сверхъестественную, чудесную силу власти над стаей желтых зверьков, бегающих по овальному острову, который прогулочным шагом можно было обойти за время, меньшее, чем полный огонь свечки.
Конечно, это меня очаровало. Я радовался куртке цвета осенних листьев, собственной беседке и свирели. Часами наигрывал в комнате мелодии, и уже через несколько дней случилось так, как предвещал Мастер Зверей. Тоскливые, беспокойные звуки сходили с моих губ и пальцев, и я даже не чувствовал, что держу у губ свирель. Не думал о том, когда дуть и какие дырочки закрывать. Со временем я начал соединять мелодии, а было их немало, и я полагал, что понимаю, о чем говорил мастер. Это и вправду была лишь азбука, я же учился складывать ее в слова и фразы. Не мог дождаться минуты, когда выйду на остров и начну испытывать свои умения.
Единственным, кто не скрывал недовольства от всего этого, был мой старший брат Кимир Зил. Каждый из нас происходил от разных матерей. Это не правило, но так сложилось. Согласно обычаям императорского дворца, мы должны были считать главнейшей из матерей императрицу, которая являлась матерью Чагая.
Дело в том, что мы сильно отличались друг от друга, сильнее, чем это обычно случается в семье. Кимир Зил был самым старшим, самым высоким и долгое время самым сильным. Маленьким я его любил и восхищался им. Когда стал чуть взрослее, заметил, что он жесток и высокомерен. Казалось, он презирает меня и ненавидит Чагая. Никогда не упускал случая выказать свое превосходство хоть в чем-то. Если выпадало мне с ним тренироваться, я знал, что мои ноги и руки станут багровыми от синяков, что если он придавит меня и выкрутит руку, то будет делать вид, что не замечает выставленного пальца моей свободной руки – знака, что я сдаюсь, – и не отпустит, пока Ремень этого не заметит. Он во всем должен был оставаться лучшим, и ничто не пробуждало в нем такой ярости, как малейшее поражение. Он единственный часто повторял, что будет делать, став императором. Мне и Чагаю казалось совершенно очевидным, что так оно и случится. Кимир Зил рвался к этому. Меня же обязанности властителя пугали. Быть тем, от кого зависит судьба всех обитателей империи, стоять где-то на фоне всего, что происходит, – такое казалось мне слишком тяжелым грузом. Чагай же всегда повторял, что мечтает лишь о том, чтобы вернуться в Дом Киновари, делать то же, что и обитающие там женщины, жить в спокойствии. Играть на синтаре, рисовать и заниматься написанием стихов или созерцанием прекрасного. Кимир Зил в связи с этим, естественно, интересовался, не желает ли в таком случае Чагай сделаться его конкубиной, и постоянно подсмеивался над ним. На самом же деле могло оказаться, что никто из нас не подойдет на роль властителя, и Тигриную Шапку наденет кто-то из трех наших младших братьев, что проводили беззаботные годы в Доме Киновари.
Я любил Чагая как младшего, глупенького брата, немного жалел его. С Чагаем была та проблема, что само существование мира его ранило. Он казался мягким и плаксивым, но я знал, что для того, кто так страдает по любой причине, поспевать за толстокожим Кимир Зилом и мной – настоящее геройство. Порой Чагай, всхлипывая и жалуясь, мог достигнуть того, чего ни мне, ни моему брату, несмотря на гранитное лицо и сжатые зубы, достичь не удавалось. Однако чаще ему это не удавалось – да и не слишком оно его интересовало. Он не мог уразуметь простейшей интриги, не мог верно обучиться ни военному фокусу, ни стратегии. Зато любил музыку, танец и веселые истории. Мне думается, он и вправду должен был оказаться в чем-то вроде Дома Киновари и сидеть там на подушках с синтарой в руках.
В тот вечер за ужином я и Чагай радовались новому заданию. Ведь были мы детьми, и нам подарили не котенка или щенка. А даже это для ребенка – целое сокровище. Здесь же каждый из нас стал властелином более сотни пушистых созданий, немного напоминающих выдр, а немного – маленьких собачек: мы этим восхищались. Более того, каждый из нас получил собственное маленькое королевство.
Только Кимир Зил с кислой миной на лице и нескрываемой яростью слушал нашу болтовню.
– Потеря времени! Проклятая потеря времени! – рявкнул он, кроша хлеб на стол. Внезапно устремил палец прямо в Ремня. – Мы должны получить отряды войска! Мы должны стать командирами!
– Не кроши хлеб, тохимон, – спокойно сказал Ремень. Он всегда был спокоен. – Подумай о людях, которые с радостью съели бы то, что ты нынче разбрасываешь.
– И что с того, – буркнул Кимир Зил. – Однажды я стану императором и смогу хоть купаться в хлебе. Я сын императора, Учитель. К чему мне уважать хлеб? Я ведь не стану ни печь его, ни сеять. Для того существуют селяне. Я же стану заниматься тем, чтобы они вообще могли этим заниматься. Ты должен подготовить нас к битвам во славу империи. Это наше предназначение. Ты же приказываешь нам терять время в опеке над зверьми. Это сумеет любой пастух. Мы должны играть им на свирелях?
– Большая часть империи – именно хлеб, тохимон. Если его будет не хватать, чем обернется вся слава империи? Тебе надобно есть как и пастуху. Ты – лишь человек, как и он.
– Я – другой человек. Я сын императора. Никто не сажает пастухов на троны. Было бы больше смысла, дай ты нам по сотне пехоты.
Ремень старательно вымакал соус в миске кусочком хлеба и расселся на лавке, вынимая свою трубку и рог с зельями.
– Помнишь, как я учил тебя плавать, тохимон? – спросил он.
Кимир Зил окаменел, а его зубы заскрипели от ярости. Он боялся воды, словно кошка. Последним из нас научился плавать, когда я и Чагай уже вовсю плескались в озере, ныряя, словно выдры. Он не мог забыть этого унижения.
– Ты плакал, тохимон, когда вода омывала тебе подбородок, и нужно было окунуть в нее лицо. Твои братья садились к завтраку в одних набедренных повязках и жаждали бежать к пруду, а тебе приходилось идти в ту сторону, преодолевая корчи от мыслей о воде.
– И что с того? – рявкнул Кимир Зил, трясясь от злости, и особенно от того, что Чагай начал хихикать. – Я преодолел свой страх! Ты сам сказал, что всякий человек должен познать собственные ограничения и что лишь глупцы ничего не боятся!
– Это правда, – сказал Ремень. – Ты превозмог себя, и я гордился тобой больше, чем твоими братьями, которые справились с этим без труда. Но что было бы, Молодой Тигр, благородный принц, если бы я учил тебя плавать, как это делают варвары из устья Горькой Воды, – просто бросив тебя в море? Ты утонул бы. Их дети тоже порой тонут. Они верят, что каждый родится для моря, как и ты веришь, что каждый родится, чтобы быть предводителем. Потому, если ты желаешь когда-нибудь править людьми, у которых есть душа, мечтания и близкие, покажи мне сперва, что можешь справиться с животными.
* * *
В первый день я не мог дождаться окончания завтрака. Отрывал кусочки хлеба, мочил их в подливе, заедал маринованными овощами, быстренько выпил пальмовый сок и, едва Ремень позволил, помчался в сад. Меня ждала лодка с желтым, как солнце, флагом на мачте и корзинки с едой. Одна – для меня, а вторая, наполненная зерном дурры, орехами и полосками сушеного мяса, – для моих быстреек.
В моей беседке имелся теплый плащ и корзина с угольями, поскольку стояла ранняя весна, а еще – складной стул с подлокотниками и стол. К тому же корзина с пищей и кувшин пальмового сока. И все. Еще за пазухой была моя желтая свирель.
Правила были таковы, что я не мог помогать своим зверям иначе, как играя на свирели. Я не мог ни к чему притрагиваться или делать что-то сам.
Однако в тот первый день я не сыграл и ноты. Просто смотрел, что делают мои быстрейки. Мне ужасно хотелось, но я решил, что сперва должен их понять. До полудня они попросту казались мне забавными. Эти создания и минуты не способны усидеть на месте. Они все время суетятся, кувыркаются и гоняются друг за дружкой или с комичной серьезностью осматривают землю в поисках вкусностей. Я следил напряженно, потягивая сквозь тростниковую соломинку пальмовый сок и интересуясь их неестественными способностями, что вдохнула в них сила урочища, заклятая искусством Мастера Зверей.
Я не заметил ничего особенного, кроме того, что порой они брали в лапки палочки, чтобы выковырнуть из ствола насекомое или до чего-то дотянуться; еще я заметил, как они разбивают скорлупу улиток, держа в лапках камешки, подложив второй под низ. Однако я никогда не видывал диких быстреек и понятия не имел, делают ли они так же без помощи урочищ и подобных вещей.
Беседка моя стояла на столбах и окружена была деревянным помостом, а потому я видел с нее все, что делается на острове, кроме разве что тех мест, вид которых заслоняли купы кустов, кроны цветущих слив и тростник. Я провел там много времени. Знаю, что мой остров был восемьдесят шагов в длину и двадцать – в ширину. Я ходил там, порой присаживаясь на складном стуле, и наблюдал за зверьками. Те рылись в земле и лепили из глины купола, соединенные коридорами и выглядящие как толстые корни деревьев; среди них возносились и башни, напоминавшие термитники или высокие колонны. На вершине почти каждой сидел один зверек, выставив голову и высматривая угрозу.
В следующие дни зверушки приветствовали меня, стоило мне появиться на острове. Едва я высаживался из лодки, они сбегались со всех сторон и становились полукругом на пляже, разглядывая меня черными глазенками, а после принимались со мной здороваться, виляя крохотными хвостиками и совершая движения головками, что выглядело как комические поклоны.
На третий день я начал с того, что высыпал им немного корма, а после впервые сыграл им на свирели. Зверьки сбежались к моей беседке и остановились, увидав кучку зерен и кусочков сушеного мяса, которая там лежала. Через миг-другой самая смелая зверушка высунула мордочку и принялась обнюхивать вкусности; наконец схватила сушеный плод, лежавший сверху, и принялась его грызть, присев на хвостик.
Увидав это, следующая быстрейка вышла из толпы заметно осмелевшей, потом еще одна, а через минуту перед моей беседкой образовалась огромная толпа зверушек, которые дрались, кусались и кувыркались меж сморщенных зерен дурры и кусочков мяса.
Мне же хотелось не этого.
Совершенно не этого.
Я поднес к губам свирель и начал играть. Не сумел бы сказать, какие сигналы, данные мне Мастером Зверей, я играл в тот момент: просто выражал, что чувствовал и думал тогда. А хотел я, чтобы зверушки успокоились, пока не передрались окончательно. Продолжалось это минуту-другую, пока наконец быстрейки не перестали драться и замерли с поднятыми головами, глядя на меня сверлящими глазками – одни еще лежа и сплетясь в убийственных объятиях, другие – застыв в странных позах. Я играл еще какое-то время, прежде чем зверьки поняли. Они подходили по очереди, каждая брала немного корма в пасть, немного в лапки – и отходила прочь. Продолжалось это довольно долго, пока быстрейки не подобрали все, что я высыпал, и оказалось, что есть группка, которой не досталось ничего. Я высыпал еще немного, чтобы ни одна быстрейка не ушла голодной, пока не понял, что все накормлены, а некоторые подходят к беседке по несколько раз.
Я приказал им отойти и заняться собственными делами.
В следующие дни я с удивлением заметил, что мои быстрейки перестали искать пищу и играть. Даже забросили свои селения и сторожевые башни и не делали ничего, а лишь сидели вокруг мой беседки, ожидая, пока я брошу им немного корма. Когда я их отгонял, они прятались в траве и среди кустов, следя за каждым моим движением и ожидая, брошу я или нет им немного пищи.
Через несколько дней мех их свалялся, молодняк исхудал и жался к матерям да сидел, пяля на меня темные глазки, но явно не намеревался искать насекомых или корни на пляжах и в траве, как прежде, – как если бы они позабыли, как это делается. Зрелище было ужасающим, и у меня сердце кровью обливалось, когда я на это глядел. Однако больше я не давал им ни куска. Пришло мне тогда в голову, что нечто, всегда казавшееся мне простейшей вещью на земле, которую должен делать хороший владыка – вдосталь обеспечивать подданных едой, – не работает как нужно. Я вовсе не желал, чтобы мои быстрейки стали полностью зависимы от содержимого моей корзины. И я не понимал, отчего так произошло. Думал, что, возможно, еда моя пришлась им по вкусу так сильно, что теперь они не хотят ничего другого. Однако в один из дней несколько зверей умерли от голода. Сородичи притащили их тела под самую беседку и положили на песке, словно желая вызвать у меня угрызения совести. При виде бедных созданий, что лежали неподвижно, будто желтые пустые мешочки, я почувствовал слезы на глазах, но не потянулся к крышке корзины. Вместо этого я взял флейту и заиграл им о голоде и печальной судьбе умирающей от голода быстрейки, а сразу после – об обилии пищи, скрывающейся на пляжах и в траве. Это дало не много. Лишь несколько зверьков покинули молчащую группку, ожидающую моего дара, и принялись что-то искаться в траве. Я играл дальше и добавил ноты, рассказывающие о гордости свободной быстрейки, что сама умеет заботиться о себе и о молодежи, которая не зависит ни от чьей милости. Потом я зачерпнул из корзины горсть вкусняшек и отошел на ближайший песчаный берег, где разбросал еду и закопал в песке, после чего вернулся и продолжил играть то же самое.
Я играл и играл, глотая слезы, а когда горло мое совсем пересохло, а пальцы заболели, я увидел, что это понемногу начинает приносить результат. Некоторые зверушки стали возвращаться на луга и прибрежные пляжи, чтобы выкопать из земли насекомых и вытащить из воды ракушки. В конце концов осталось лишь несколько зверьков, а когда я перестал играть, отошли и они.
Я сидел потом и размышлял, что теперь делать. Понял, что с помощью свирели и корзины я могу не только ими править, но и убивать. Три зверушки, что лежали перед моей беседкой, погибли не только из-за своих способностей. На самом деле убила их моя глупость.
С этого времени я играл намного осторожнее. Жизнь зверьков, казалось, подчинилась природным ритмам, и я боялся их сбить. Однако они были очень податливы моей музыке. Потихоньку мои приказы начали их изменять.
Изменилась форма селений. Это все еще были куполообразные курганчики из утрамбованной глины, соединенные туннелями и перекрытыми стропилами коридорами; все так же вставали над ними сторожевые башенки, но я решил, что им нужно строить концентрическими кругами, с лучеобразно расположенными коридорами и норами, чтобы зверушкам проще было выходить и входить. Посредине же я приказал возвести больший купол с двумя уровнями. На верхнем я приказал сделать склад живности, а нижняя яма, достаточно большая, чтобы вместить всех зверушек, должна была стать схроном.
Я выдумывал разные вещи. Научил их делать загородки из плетеных прутьев и ставить их на мелкой прибрежной воде так, чтобы те создавали сужающиеся коридоры, что заканчиваются округлыми бассейнами, а потом загонять туда разных созданий, речных насекомых и мальков.
Не все, что я делал, имело смысл. Однажды я решил разделить их на группы и раздавать задания. Одни должны были собирать коренья, другие – охотиться, третьи – заниматься молодняком. Но оказалось, что тем самым я внес в их жизнь слишком много замешательства и к тому же отбираю обычную живость. Они становились апатичными и исполняли мои приказы без убежденности, пока наконец не выяснилось, что все делается абы как и куда хуже, чем без моих приказаний.
Похожее случалось и когда я приказывал им отдавать на склад слишком много добычи. Подумывал, что они станут сносить все зерна, плоды и насекомых мне, а я буду делить их так, чтобы вышло по справедливости. В результате быстрейки лишь бродили полями и пляжами и приносили очень немного. Отдавали добычу, поскольку из-за флейты воспротивиться этому не могли, но было всего куда меньше, чем ранее. Словно они полагали, что получаемое зависит не от их усилий, а исключительно от моих капризов.
Также я узнал, что не могу беспрестанно отдавать им приказы свирелью. Им нужно немного времени, чтобы делать то, что пожелают, иначе они тоже делались апатичными и начинали болеть.
А вообще, я постоянно беспокоился, в состоянии ли остров предоставить им достаточно еды. Мастер Зверей вспоминал, что во время голода быстрейки начинают убивать и пожирать друг дружку. Конечно, я не хотел допустить подобное. Поэтому приказал им собирать коренья и научил сушить моллюсков и насекомых на камнях. Знал, что позже, когда минует середина лета, пригодятся орехи и сливы. Раз в несколько дней я получал корзину с едой, которую украдкой разбрасывал в траве и закапывал в песок.
Мне было страшно интересно, что на своих островах делают мои братья. С верхней платформы своей беседки я видел оба острова, но лишь как купы деревьев и кустов на озере. Видел я и флаги, висевшие над крышами далеких беседок, но – ничего более.
Однажды я отправился в Комнату Свитков Дома Стали. Я очень любил туда ходить. Когда мы учили историю, стратегию или политику, свитки приносили нам в Комнату Работы, и у каждого из нас был там собственный стол, на котором мы их складывали. Однако в Комнату Свитков я всегда ходил и один – когда не было у меня работы. Я клал на стойку свитки, описывавшие далекие страны, невероятные истории о духах и демонах или рассказы о странных созданиях, обитающих во всех концах земли. Я часами сидел при свете ламп и потихоньку вращал верхний захват, двигая перед глазами бесконечную ленту бумаги. Однако в тот день я заметил там кое-что странное. В Комнате Свитков имелись небольшие лавочки, на которые можно было присесть и отдохнуть, а также стол, позволяющий просматривать большие карты и картины на полотне и пергаменте. На столе кто-то оставил предмет, который наверняка служил в качестве прижима для особенно большой и непослушной карты. И был это не просто предмет, а Предмет. Одна из тех дорогих и редких вещей, которые насыщены силой. Этот я знал достаточно хорошо, поскольку всегда мечтал сам иметь такой. Был это «длинный глаз» – кристалл, закрытый в длинном, с ладонь, цилиндре из красного дерева и оправленный в золото. Позволял он рассматривать виды на расстоянии, почти на границе видения, причем как днем, так и ночью. Достаточно взглянуть сквозь него на то, что хотелось рассмотреть, и картинка приближалась, будто смотрящий летел прямиком к своей цели. Предмет чувствовал, когда хозяин желал рассмотреть нечто в подробностях: нужно лишь напрячь зрение, и картинка приближалась еще сильнее. При некоторой сноровке можно было приближать и удалять образы как угодно. Я же никогда не был настолько глуп, чтобы пытаться достать рукой то, что в «глазе» приближалось к моему лицу.
Я недолго боролся с соблазном. Решил просто, что, если кто-то станет расспрашивать о «глазе», я тотчас его отдам, не выдумывая сказки и не пытаясь врать. Успокоило это меня вдвойне. Во-первых, признание в чем-то подобном с открытым лицом: «Это я разбил вазу. Слишком хотел испытать свое копье, а знал, что мне нельзя выходить в сад. Я хотел лишь провести несколько уколов и сразу повесить его на место. Но – так случилось», – как правило, позволяло избежать наказания. Во-вторых, таким образом я начинал верить, что ничего не краду. В конце концов, я ведь лишь одалживал вещь, которую нашел в собственном доме и которая была мне нужна.
Я привез «глаз» на остров и стал подсматривать за своими братьями. С навеса веранды, из куп прибрежных кустов и из-за стены тростника, даже с противоположного берега озера, скрытый меж скалами и кустарником.
На острове Чагая я увидел засохшие и раскрошившиеся остатки куполов на берегу и новые, большие купола, построенные вокруг его беседки. Были они слишком велики, и я опасался, что завалятся при первом серьезном дожде. Его пятнисто окрашенных быстреек не было видно на острове – лишь на песчаной поляне перед беседкой, где возносились купола. Они не искали пропитания, почти не выходили на берег, а лишь танцевали.
По крайней мере так это выглядело. Чагай играл на свирели, а все зверьки, украшенные пестрыми полевыми цветами, топтались на месте и крутились, стоя на задних лапках вокруг горки корма, насыпанного большой кучей посредине.
Не думаю, чтобы так происходило всегда. Во-первых, так Чагай выплюнул бы свои легкие через свирель, а, во-вторых, быстрейки пали бы от измождения. Но часто, глядя на его остров сквозь «глаз», я видел именно такие образы. Обратил еще внимание, что фронтон беседки увит цветущим плющом, а стены больших куполов украшены цветными камешками и блестящими раковинами. Недели игр со своими зверьками выработали во мне хозяйский взгляд, а потому я глядел на голубой остров скорее критически. Ко́рма изо дня в день становилось все меньше, быстрейки почти не искали пропитание, а если и пытались, то съедали все на месте. Главным же образом, они сидели у беседки, спаривались либо танцевали. Когда я глядел на их обычные занятия, казалось мне, что они ненормальны.
Остров Кимир Зила выглядел совершенно иначе. Колония быстреек имела округлую форму, как у меня, но больше напоминала военный лагерь. Лишенные отверстий купола внешнего круга были соединены вылепленной из глины стеной, и там стояли высокие башни. Кроме этого, в поселении были выкопаны немногочисленные выходы, большинство из которых оказались завалены камнями. Перед беседкой находился очищенный от травы песчаный плац.
Часть зверьков занималась неустанной работой, но лишь некоторые искали пропитание. Часть срезала молодые стебли тростника, но не зеленые, годные в пищу, а желтые, одеревеневшие и весьма твердые. Отрезали ровные кусочки длиной до двух ладоней и сносили их в кучи под беседкой.
Вторая часть рыже-коричневых быстреек моего брата, и, как я заметил, самые крупные из них, то и дело маршировали перед его беседкой в четких квадратах, держа в лапках дубинки и перестраиваясь в боевые порядки. Квадрат, пятиугольник, «копья» или «бычьи рога». Я не удивился, поскольку ничего другого от Кимир Зила и не ожидал. Но меня удивило то, что однажды я увидел посредине плаца небольшой костерок. Представления не имел, как ему удалось заставить зверьков высечь огонь. Подозревал, что он нарушил запрет и сам его развел. Подле огня стояли три его рыжие быстрейки и сгрызали наискось кончики палочек, после чего легонько их осмаливали, чтобы сделать твердыми от пламени.
И это было то, чего я от него ожидал, но с этого момента я каждый день наблюдал за ситуацией на обоих островах.
Забеспокоился я, лишь когда однажды увидел совершенно новую сцену. Кимир Зил сидел на стуле на террасе своей беседки и играл, а все его зверьки: и те, что с копьями, и те исхудавшие, что обычно все время работали, стояли перед ним широким полукругом. На свободном месте перед беседкой, как обычно в последнее время, горел костер.
Только через некоторое время я понял, что зверьки не стоят в случайных группках: «собиратели» сбились в бесформенную кучку посредине, а «солдаты» окружали их, стоя на задних лапках и с опущенными копьями.
Меня это заинтересовало, а потому я спрятал «глаз» за пояс куртки и взобрался на самое высокое дерево острова. Оттуда, скрытый в листве, я имел куда лучший вид на то, что происходило на острове моего брата.
Несколько быстреек, исполняющих роль солдат, отложили палочки и галопом ворвались в толпу «собирателей», после чего вырвали оттуда двоих исхудавших, перепуганных зверьков. Эти быстрейки, похоже, ударились в панику и попытались сбежать внутрь круга, но всюду наталкивались на линию солдат с наставленными копьями. После короткого момента паники они оказались согнаны на самый центр плаца, как овцы, гонимые пастушьими собаками. Зверьки сгрудились на минутку, после «солдаты» отступили, а выхваченные из толпы «собиратели» остались на песке, дергаясь и извиваясь на месте. Я сконцентрировал взгляд и увидел, что они крепко привязаны за шею шнурком, скрученным из лыка, к небольшой палочке, торчащей из земли.
Потом я увидел, что «солдаты» подходят и останавливаются подле связанных зверьков, которые уже перестали биться на земле, дергая лапками душащие шнурки и пытаясь их перегрызть. Обе группы встали на задние лапки, обнюхиваясь и смешно двигая носами, а Кимир Зил играл, словно безумец. Затем самая крупная быстрейка моего брата выступила вперед и внезапно воткнула копье в живот привязанного зверька.
При виде крови, брызнувшей на песок, я чуть не свалился с дерева и едва не выпустил «глаз». Я был потрясен, но снова приблизил цилиндр к лицу. Просто-напросто не мог поверить в увиденное.
А видел я, как все новые зверушки подходят и колют несчастных созданий копьями, пока на песке не остались неподвижные тела, покрытые слипшимся, красным от крови мехом, которых очередные «солдаты» продолжали протыкать своими копьями, хоть нужды в том уже не было.
Согнанные в кучу между копьями, «собиратели» в панике рвались прочь, но ряды «солдат» удерживали кое-какой порядок.
После того как зверьков закололи, «солдаты» набросились на трупы и разорвали их. Быстрейки при этом выглядели и вели себя словно стая крыс. Вьющиеся ржавые хребты быстреек на том месте, где миг назад еще были их собратья, вызвали у меня волну тошноты.
Короткое время спустя от заколотых и разобранных зверей не осталось ничего, кроме пятен крови, впитывающейся в прах, и двух откушенных головок, которые мой брат приказал насадить на копья на плацу.
Когда я спустился с дерева, моя голова кружилась от эмоций.
Сперва я хотел обо всем рассказать Ремню, но быстро понял, что, по логике Учителя, именно я могу оказаться тем, кто нарушил правила игры, а не мой брат. Я украл «глаз» и подглядывал в него. Тем временем брат лишь сидел и играл. Конечно, он приказал своим зверям прибегнуть к бессмысленной жестокости, но нас никто в этом не ограничивал. Нам дали быстреек, остров, корм и свирели. А дальше позволили делать что угодно, управляться самим. Если мой брат хотел, чтобы его звери проводили бессмысленные казни, он имел на это полное право.
Я поглядел на своих собственных желтых зверушек, что бегали по острову и кувыркались в траве, и внезапно ощутил в душе какую-то тень.
Несколькими днями позже я прибыл на остров пораньше и сразу после того, как выпил кубок теплого орехового отвара, принялся наблюдать за багряным островом. В тот день я увидел кое-что новое. Увидел я две маленькие лодки, едва видимые в утреннем тумане, пристающие к пляжу и исчезающие в тростниках. Может, это не были какие-то совершенные корабли – скорее, плоты, напоминающие двойные связки тростника, плотно связанные с обоих концов, но плавали они достаточно хорошо, и я заметил, что на каждом плыли несколько быстреек Кимир Зила. Не заметил я, каким образом они плывут, однако они не дрейфовали, гонимые ветром, а двигались одна за другой в сторону некоего прохода в тростнике – и пропали с моих глаз.
Заинтригованный, я взобрался на свое дерево и поднял «глаз». Мой брат сидел в беседке подле стола и что-то лениво жевал. Через минутку-другую экипаж его лодок появился на плацу. Быстрейки карикатурно прихрамывали на трех лапках, в четвертой держали копье, положив его на загривок. Выглядели они неловко, но я заметил, что перемещаются они довольно умело. Среди рыжих хребтов зверушек Кимир Зила я заметил несколько пепельных. Его быстрейки гнали между собой серых зверьков, что ковыляли на двух лапках, неся охапки корма, который они высыпали в кучу, а потом сбились на плацу беспокойной группкой.
Кимир Зил отставил поднос, снял ноги со стола и взял свирель, а затем принялся играть.
В результате две пепельные испуганные быстрейки Чагая были заколоты, а у беседки брата появились две новые головки, надетые на колышки; троих уцелевших погнали на работы с остальными «собирателями».
Я спустился на землю и долго бродил по своему острову, погруженный в раздумья. Сосчитал своих зверьков, и мне показалось, что их столько же, сколько и раньше, хоть я не мог быть уверен.
Насколько смог, я заполз в главную нору и попытался проверить, столько ли запасов корма, сколько было прежде: проверил и скромные запасы в корзине в моей беседке. Вроде и здесь ничего не убыло. И все же я начал испытывать страх.
У Кимир Зила была армия быстреек, вооруженных копьями, вышколенных и наученных убивать. Его зверьки также умели высекать огонь, и у них были лодки, на которых они каким-то образом научились плавать. Остров Чагая находился ближе к багровому, чем мой, а потому у меня была надежда, что он представляет собой лучшую цель для грабительских походов. Но я знал, что это обманчиво. Кимир Зил готовился к войне. Он считал, что победа в этой игре состояла не в мудром правлении стаей зверюшек. Наверняка воображал себе момент, когда на всех трех островах будут развеваться багровые флаги.
Я ходил по острову и осматривался. Нашел большой поваленный ствол восковатки, покрытый толстой корой, заметил также охапку тростника на берегах, а еще нашел неиспользованное месторождение глины на высоком южном берегу.
Потом я вернулся в беседку и вытащил свирель. Нужно было сочинить для моих зверьков совершенно новые песни.
И я чувствовал, что осталось мало времени.
Сперва я вызвал всех зверюшек. Когда они вприпрыжку сбежались, кувыркаясь и играя, перед моими глазами вдруг встали сцены казни, которые я видел на багровом острове.
Сперва я играл моим зверькам песнь ужаса. Играл им о багровом острове и об идущей оттуда угрозе. О больших, откормленных рыжих тварях, держащих несущие смерть копья. Я вогнал своих зверюшек в остолбенение, а затем и в панику.
Я их успокоил и принялся по очереди играть песни о героизме. О мужественных, свободных быстрейках, которые встают против врагов и обороняют свой остров. О развевающемся над ними желтом стяге, что означал свободу и безопасный дом. Я играл, сколько было сил в груди, вкладывая в игру весь гнев и ужас, которые чувствовал.
Какое-то время мои быстрейки сидели и слушали, как зачарованные, пока сам я под влиянием собственной игры не почувствовал себя отчаянным и мужественным.
Тогда я приказал им приступить к работе.
Огласил, что пришло время войны. Разделил их на группы и выбрал сильнейших из зверюшек, из которых решил сделать основу армии. Остальных отправил на рубку прутов из одеревеневшего тростника, укрепление селения и срывание коры со ствола упавшего дерева.
Мне казалось, что время утекает сквозь пальцы и что у Кимир Зила надо мной серьезное превосходство.
К счастью, с того времени, как нам подарили зверушек, у нас было не много прочих занятий, и мы могли много времени проводить на островах. Кроме того, мы почти не виделись. Пищу принимали отдельно, первый завтрак – кому где придется, а второй – чаще всего на острове.
Кимир Зил посвящал время муштровке своей армии, Чагай – сну в беседке, игре на синтаре и распитию пальмового сока, я же – отчаянной подготовке к обороне острова.
Я знал, что не смогу сформировать такую же армию, как у Кимир Зила, из построенных в четырехугольники быстреек, вооруженных копьями в две ладони длиной. Такая, равная по силам, битва стала бы резней с неясным исходом, и, более того, могло оказаться, что армия моего брата, проводящая все время, обучаясь бою, казням и нападениям на остров Чагая, будет просто-напросто более умелой. Мне требовалось придумать нечто, что дало бы моим зверушкам преимущество.
Во-первых, я приказал моим быстрейкам приготовить пики подлиннее, чуть ли не в локоть длиной, приспособленные к упору в землю. Во-вторых, я возлагал надежду на кору восковца. Зверушки мои сорвали со ствола несколько пластов этой коры, толстой и гибкой. Я намеревался склонить их к разрезанию ее на прямоугольные кусочки, которые, будучи изогнутыми, могли бы превратиться в щиты. Я приказал им тыкать копьями в кору, и оказалось, что тростник не может ее пробить, а заостренный кончик соскальзывает по изгибу.
Однако изготовление щитов оказалось сложным и изматывающим. У быстреек острые зубы, однако они не умеют обгрызать дерево, как бобры. Вырезая щиты, им приходилось часто меняться, пасти их кровоточили, однако я не отказывался от этой идеи и постоянно играл, принуждая к усилиям.
Пытался также научить их высекать огонь, но, хотя на острове и нашлись кремни, это мало помогло. Я понял, что на это жалко тратить время.
Однажды я заметил интересную штуку. Один из моих зверьков нашел на берегу закрытую раковину моллюска и, подняв ее над головой обеими лапками, внезапно метнул ее в дерево. Скорлупа мелькнула в воздухе и лопнула, ударившись о ствол. Я вынул свирель и приказал быстрейке повторить сделанное с подобранной на берегу галькой. Камешек свистнул в воздухе, и я понял, что у меня есть новое оружие.
Вскоре вокруг поселения вырос вал из утрамбованной глины, а на ближайших трех пляжах, скрытых в кустарнике, стояли засеки из заостренных крестовин, соединенные поперечинами, и ждали кучки округлых камешков. На каждом пляже день и ночь, спрятавшись в камышах, сидели зверушки и высматривали врагов. На скрытой от взгляда того, кто мог воспользоваться «длинным глазом», площадке мои сильнейшие из быстреек бегали строем, ощетинившись длинными, в локоть, пиками и прикрытые рядами «щитоносцев». Другая группка метала камешки в дерево – так, что от того отскакивала кора.
Однажды я нашел на берегу выброшенный водой, разлагающийся труп крупной щуки и, поскольку вонючие останки уже не пригодились бы для еды, приказал быстрейкам разрезать их раковинами и отволочь в муравейник. Благодаря этому я получил горсть острых, словно иглы, костей длиной с мой палец, три колючки из плавников и еще несколько фрагментов скелета, что могли пригодиться в качестве оружия. Получили их в большинстве своем «щитоносцы» и «пращники», чтобы иметь хоть что-то для собственной защиты, если строй сломается. Это требовало особых умений, а потому я сидел и играл, выдумывая все более сложные сигналы, а зверьки мои тыкали костяными кинжалами большую привезенную с берега дыню. Я заметил, что они имеют склонность отбрасывать оружие и кидаться на дыню с зубами и когтями. Поэтому, когда я вбил уже в их головки, для чего служат кости, ограничился простыми категорическими сигналами, которые означали что-то вроде: «Атакуй! Коли!»
Все это время я наблюдал за остальными островами. Вокруг беседки Кимир Зила появлялись все новые головы, надетые на колышки, а шерсть на них была как серой, так и рыжей. Я раздумывал над тем, что сделал бы, увидев там головы желтых зверьков, и чувствовал, как меня охватывает ярость.
На острове Чагая изменилось немногое, и, кажется, он даже не заметил исчезновения части зверьков. Однако там появилась одна вещь, которая меня поразила: куча корма, насыпанная на пляже восточного берега. Тогда я понял, что Чагай предпочитает платить дань, в надежде, что Кимир Зил оставит его в покое.
Однажды я осторожно спросил Ремня, что, собственно, нам дозволено в такой игре, а что не дозволено, и можно ли – пусть теоретически – допустить, чтобы между зверями случилось пролитие крови. Он некоторое время молчал, пыхая своей трубкой.
– Однажды ты, быть может, сядешь на Тигриный Трон, – сказал наконец Учитель. – Если тебе удастся завершить великое дело своего рода, Амитрай не будет больше нападать на чужие страны, но предпочтет с ними торговать, обитатели же его станут наслаждаться свободой, которую мы им дадим. Начнут строить – для себя и своих детей, вместо того чтобы уничтожать. Однако может прийти и день, когда появится сильный враг. Прибудут варвары, чтобы уничтожить все, что мы построили, покорить страну, а жителей превратить в рабов. Что тогда ты сделаешь? Кого попросишь, чтобы они прервали развлечения и не допустили пролития крови?
Я ничего не ответил. Но понял, что иного выхода нет. Я мог платить, как Чагай, и ждать, пока старший брат начнет от скуки уничтожать и моих быстреек. Или мог принять бой и победить.
Поэтому я пошел в Комнату Свитков и стал искать вдохновения в писаниях старых кирененских стратегов. Однако я вспомнил падение страны, в которой они обитали. Рассказ, передаваемый в моем роду из поколения в поколение. Рассказ о временах, когда через перевалы Острых гор обрушилась волна амитраев, и тогда то, что мои предки считали великими и победными битвами, оказалось ничего не значащими стычками с отрядами разведчиков. О большой объединенной армии, собранной со всех кланов. О воинах в прекрасных доспехах, на огромных, будто драконы, лошадях, и отрядах вооруженной до зубов пехоты, состоявшей из свободных землепашцев из их родов. О прекраснейшей армии в мире, которую стоптали неисчислимые отряды амитрайской тяжелой пехоты. Простые, низкие, недоедавшие люди в примитивных дешевых доспехах, которых, однако, были тысячи и которые равнодушно умирали под ударами кирененской стали. Предки мои сражались и гибли, каждый убивал десятки врагов, но амитраи все прибывали. Бесконечно. Похожие друг на друга, как фигурки из терракоты, в дешевых кожаных доспехах, прикрываясь деревянными щитами, но ползущие бесконечными рядами, словно муравьи. Не было у них никакой стратегии или мужества. Лишь грохот тысяч пар тяжелых сандалий, тянущийся до горизонта лес копий и бесконечная стена щитов. Они шли и умирали. А защитники бились три дня, тая, словно весенний снег.
Битва в долине Черных Слез.
Конец моей страны, которой я никогда не знал.
Которая потонула в Амитрае, словно в море, растоптанная ордой варваров.
Я знал, что войну выигрывают умением, а потому искал вдохновения в писаниях старых мастеров.
Я сомневался, чтобы Кимир Зил намеревался выполнить быстрый грабительский набег на меня, как на остров Чагая. Скорее, я подозревал, что он пожелает занять мою территорию, сокрушить сопротивление и вывесить на моей беседке багровый флаг. Потом он без труда покорит Чагая и победит.
Я украдкой ходил по саду и пытался увидеть, что происходит на острове Кимир Зила. Если он хотел на меня напасть, ему следовало строить лодки. Наверняка он держал их скрытыми в тростнике. И я обнаружил целую полянку скошенного тростника и камыша, что означало: он готов их строить.
Единственное, что я отметил еще, была большая куча глины, которую его зверушки насыпали посредине плаца, перед его беседкой. Крутились они при ней, словно муравьи подле дохлого вола, а я не мог понять, в чем там дело.
Несколько дней не происходило ничего особенного, и мне казалось, что я заболею от напряжения. У зверьков моих было не слишком много времени, чтобы работать. Они учились бою в строю и метанию камней, разучивали, что каждый должен делать во время тревоги. Небольшая часть продолжала собирать еду, но теперь все шло в камеру амбара, как запас на время войны. Они ежедневно получали скупые рационы корма и постоянно ходили голодными.
Приходило мне в голову, что, возможно, я дал разыграться фантазии, и Кимир Зил вовсе не собирается нападать.
Я не мог уснуть, спал плохо, то и дело просыпаясь и выбегая на террасу, чтобы проверить, спит мой остров в темноте ночного озера или раздаются оттуда отголоски битвы, не пылает ли там огонь.
Я не мог есть и был не в состоянии ни на чем сосредоточиться. Кимир Зил же лишь смотрел на меня исподлобья и таинственно улыбался. Такую физиономию он имел, когда готовил исключительно злобную интригу или когда ему удавалось досадить кому-то из нас. Я тогда свирепел, и мне многого стоило не выдать, что я в курсе его замыслов.
Однажды утром за завтраком меня зацепил Чагай.
– Есть у тебя корм для животных? – спросил он.
– Может, есть, а может, и нет, – ответил я неопределенно.
– Одолжи мне немного, где-то с полкорзины. У меня закончился. Как только Ремень даст мне новую, я тотчас тебе отдам.
– Твои звери могли бы выживать и сами, собирая насекомых, семечки, моллюсков и коренья, – ответил я. – А у меня недостаточно корма, чтобы тебе одалживать.
В глазах Чагая стояли слезы. Он отвернулся, чтобы я их не заметил. В Доме Стали не хвалили за слезы, несмотря на причину, по которой те пролились. И уж наверняка не перед лицом поражения, разочарования или проблем. Даже не по причине боли, разве что она и вправду была сильной.
– Я дам тебе за это перстень моей матери, – сказал он. – Или что захочешь.
Он действительно был в нужде, но я ничем не мог ему помочь.
– Нет, Чагай, – ответил я. – Я не желаю твоих вещей. У меня просто нет лишнего корма. Его у меня ровно столько, сколько нужно для моих животных.
Чагай без слов отошел, разочарованный и расстроенный, сглатывая слезы, я же остался на веранде, ужасно себя чувствуя.
Было мне его жаль. Впрочем, так бывало часто.
Будто и этого мало, Ремень придумал еще одну вещь.
Однажды утром мы сидели за завтраком, но перед каждым поставили разные порции. На моем подносе стояла миска с небольшим количеством красной дурры, приготовленной на подсоленном молоке, и ничего больше. Чагай получил лишь миску каши и стакан воды, а Кимир Зил, безжалостно издеваясь над нами, поглощал кусочки вяленого цыпленка, макая его в острый соус, заедая солеными грибами и черпая коркой хлеба рыбный паштет из мисочки. Наливал себе из кувшина ароматный ореховый отвар, от которого щипало в носу из-за обилия приправ, – и притом чуть не лопался со смеху.
Я съел свою пищу, выслушивая его издевки, а после отправился искать Ремня. Совсем уж чистой совести у меня никогда не было, но в последнее время я не сделал ничего особенного. С другой стороны, я предпочитал знать, какие из моих темных делишек раскрыты.
Он сидел на веранде, читая небольшой свиток, прижатый чашкой горячего орехового отвара, и попыхивал трубочкой. Увидав меня, поднял чашку и позволил бумаге свернуться, скрывая содержимое.
– Учитель, за что меня покарали?
– А отчего ты полагаешь, что тебя покарали? – ответил он вопросом на вопрос.
– А как еще можно понимать завтрак, который я сегодня получил? Разве есть смысл в наказании, если все знают о своих проступках, а я – нет?
Ремень вздохнул:
– Я тебя не наказывал. Теперь ты – властитель. По разным причинам твои подданные едят куда как скромно, поскольку ты им так приказал. Считаешь ли ты нормальным объедаться вкусняшками в такой ситуации? Если так, я сразу прикажу подать тебе второй завтрак, такой, какой получил твой брат.
Я скрестил руки на груди и поклонился:
– Я понял твою науку, Учитель. Мой завтрак был совершенно достаточен. Прошу прощения, что помешал тебе в это утро.
– Это честь для меня, тохимон, – ответил он равнодушно. Казалось мне, что он думает о чем-то совершенно другом.
– Учитель, я хотел бы несколько дней ночевать на своем острове. Прошу, чтобы выдали мне одеяло и теплый плащ, корзину с угольями, лампу и немного масла, а также доску для свитков. Еще прошу выдать мне запас еды, который ты посчитаешь достаточным.
– Это здравая идея, – только и сказал он.
Когда я сел в лодку, куда навалили несколько корзин с разными вещами, некая невысказанная мысль крутилась в моей голове, мешая, как мешает заноза, воткнувшаяся под кожу. То, что делал и говорил Ремень, нечасто оказывалось тем, чем оно казалось. Выглядело так, словно он что-то дает мне понять, но я не мог уразуметь, что именно.
На острове, едва слуги установили в беседке мои припасы и разожгли огонь, а после отплыли второй лодкой, я сразу заглянул в корзины.
Припасы, которые я получил, состояли из полосок твердого сушеного мяса, кусочков сыра и хлеба с длинным луком. К тому же – горсть сушеных плодов медовой сливы и жбан пряного пива.
Завтрак мой был скромен, однако не была это порция голодающего, как у Чагая.
А потом я вдруг все понял.
Дурра, приготовленная на молоке. Такой завтрак получили солдаты пехоты в утро перед битвой в долине Черных Слез.
А к тому же – сушеное соленое мясо, копченый сыр, хлеб, пиво и лук. Это были обычные военные рационы.
По спине моей побежали мурашки.
Что в таком случае означали деликатесы, которыми набивал брюхо Кимир Зил?
Время, проведенное тогда на острове, словно растянулось. Я обходил берег, выстраивая планы обороны, муштровал своих быстреек, и мне казалось, что они справляются все лучше. Я придумал несколько маневров, в зависимости от развития ситуации, и тренировал их, пока губы мои не одеревенели от игры на свирели. Потом я решил проверить, как они справятся, и начал вплетать между приказами песню страха. Так получалось хуже. Часть зверушек сбежала, кинув копья, строи перепутались, а вместо маневров получилась паническая беготня. Я заиграл им песнь о героизме. Раз, второй, десятый – и это помогло. Снова встала стена щитов, копья опустились, и мелодия страха, которую я заиграл после этого, уже не вызвала особого замешательства. И все же я тренировал их до тех пор, пока зверьки не повалились от усталости, а я не понял, что должен дать им отдохнуть, иначе они ничего не смогут.
Я дал им поесть.
Немного почитал, но был не в силах сосредоточиться. Сеял холодный весенний дождик. Я наблюдал за голубым и багровым островом, но, кроме моментов, когда мои братья туда приплыли, ничего странного там не происходило. Вечером я видел, как Чагай возвращается домой, но не был уверен, вернулся ли к себе Кимир Зил.
Ночью я сидел подле лампы, прислушиваясь к ночным птицам и глядя на рдяные уголья в корзине, а потом заснул, укутанный в плащ и одеяло. То и дело я просыпался от любого всплеска и треска во тьме, полагая, что началась атака, – но ничего не происходило.
Следующий день был подобен предыдущему. После полудня небо затянуло серыми тучами, и снова пошел дождь. Однако нынче я решил поступить иначе. Подождал до сумерек, когда поднялся ночной туман, густой и непроницаемый.
Тогда погасил угли, задул лампу и ударил в гонг. Когда слуги приплыли, я увидал лодку лишь на расстоянии броска камня.
– Возьмите эти три пустые корзины и поставьте в мою лодку, одну на другую, – сказал я. – Потом прикройте их моим плащом и плывите к берегу. Там спрячьте корзины и не говорите никому, что я остался на острове.
Тому, кто никогда не был императорским сыном, кажется, что это просто. Что его окружает толпа слуг, готовых в любой момент исполнить любой каприз. Ничего подобного.
– Но, Молодой Тигр, благородный принц! – охали они коленопреклоненно предо мной, с глазами долу. – Что сказал бы твой благородный отец, владыка Тигриного Трона, Пламенный Штандарт, Господин Мира и Первый Всадник, узнай он, что мы лишили тебя лодки?! Как мы могли бы вернуться на берег? Позволь нам ожидать здесь, пока ты не пожелаешь вернуться назад.
Я им отказал.
– Позволь, по крайней мере, остаться нам на другом берегу, ожидая твоего сигнала.
В конце концов я их убедил, но это заняло много времени.
Наконец я остался один, но мне пришлось сидеть в холоде и абсолютной темноте, не зажигая даже лампы, укрывшись одним одеялом. Я понял, что Кимир Зил не ударит, зная, что я сижу на острове. Я понятия не имел, купился ли он на мою хитрость, однако ничего другого придумать не сумел.
Как и в первую ночь, я таращился во тьму и туман, но шум дождя, бьющего по крыше, все же усыпил меня, несмотря на холод.
Кимир Зил напал в час шакала. В час, когда рассвет еще не наступил, а ночь – темнее всего.
Не знаю, что меня пробудило – писк часовых или треск пламени.
Когда я вскочил, даже не понимал, где нахожусь.
Схватил свою свирель, но мог извлечь из нее лишь отдельные писки. Первые плоты показались из клубов тумана; они двигались прямиком на пляж моего острова, а я наконец увидел, благодаря чему они плывут. За каждым плотом, в воде, гребла пара зверушек: плывя, они толкали его перед собой, вцепившись в вязанки тростника. На каждом плоту сидели, сбившись в кучу, рыжие быстрейки с поднятыми копьями.
Из темноты и тумана то и дело выметывалось, посверкивая, нечто горящее, рисуя огненную полосу и таща за собой полосу дыма. Тростник с треском загорелся, и сделалось светло.
Я наконец заиграл, но мои быстрейки уже высыпали из нор и разбегались во все стороны.
Я играл.
Зверушки мои встали в строй. «Щитоносцы» – впереди, «пикинеры» – сзади, «пращники» – по бокам. Более-менее. Оказалось, что некоторые солдаты не нашли свои копья, а некоторые сбежали в главную кладовую, с молодняком и самками, которых должны были защищать.
Я поднял свирель и приказал им бежать к кучам гальки, скрытой в траве у берега. «Пращники», однако, помчались лишь к одной из них, поскольку боялись гудящей стены огня, в которую превратился сухой тростник. Часть сбежала.
И все же, когда лодки прибило к берегу, на них обрушился град камней.
Это была лучшая из моих идей.
Быстрейки бросали не прицельно, но, поскольку камни метали одновременно десяток-другой зверьков, на сгрудившихся и лишенных защиты нападавших упало достаточно много снарядов. Первые быстрейки шлепнулись в воду, и появились на ней первые пятна крови.
Я услышал свирель и увидел моего брата в нескольких шагах от берега. Он играл дикую мелодию, на носу его лодки горела лампа и виднелись ряды плотов, выстроенных подле нее. Один из плотов подплыл к лодке, и было видно, как стоящие на ней зверушки поджигают от фитиля лампы свои снаряды. Новые огненные полосы, рассыпая искры, прочертили мрак, падая между моими быстрейками, что все время метали камешки.
Заливчик был уже забит лодками; из них, ощетинившись копьями, на берег хлынула рыжая волна зверушек моего брата.
Я поднял флейту и сыграл «пращникам» сигнал отхода, одновременно приказав «копейщикам» стоять неподвижно, а «щитоносцам» – лечь в траву.
Слишком поздно. Часть моих «пращников» были моментально заколоты – еще до того, как они успели потянуться к оружию. Те, кто стоял впереди, были сбиты с ног и стоптаны, остальные бросились бежать.
Я играл.
Кимир Зил тоже грянул своей свирелью, и две мелодии смешались.
Мои зверушки с разбегу ворвались в редко расставленный строй «копейщиков», но каким-то чудом не смешались, а отошли в тыл, где и было их место.
У меня в голове мелькнуло, что эта часть маневров, состоящая в отступлении, получается у моих зверушек лучше всего, а потом я заиграл следующий сигнал.
«Копейщики» сомкнули строй, и перед бегущей фалангой рыжих внезапно выросла стена щитов из твердой коры восковника, поднялся ряд длинных копий.
Очередной сигнал – и концы копий уткнулись в землю.
Обе армии с треском столкнулись. Раздался чудовищный писк сотен маленьких глоток. Визг, заглушивший голос моей свирели.
Рыжие зверьки из первой шеренги наделись на пики, пригнув их к земле, но задние продолжали напирать, давя на моих «щитоносцев», которые своими телами упирались в куски коры. Казалось, на пляже столкнулись две плоские бесформенные твари. Одна – желтая, вторая – ржаво-красная. Длинные пики моих зверьков, однако, позволяли сражаться и задним рядам, а потому яростная атака быстреек Кимир Зила стала терять напор.
Некоторые зверьки из первых рядов начали впадать в бешенство и, кинув копья, бросаться на соседей, пока первые линии обоих строев не превратились в общий клубок. Зверьки, неделями бывшие веселыми, кувыркающимися мохнатыми созданиями, теперь рвали друг другу горло и царапались так, что мех моих сделался рыжим, как у противников.
Я играл, сколько было силы в легких, стараясь пробиться сквозь яростный визг и вопли зверей, звучавшие так, будто сражалась гигантская стая диких котов.
Я играл попеременно песнь битвы и приказы.
Бросил в бой скрывавшиеся в кустах два засечных отряда, по одному на каждый фланг, и приказал им сформировать «бычью голову».
Центр, прореженный и ослабленный битвой, начал отступать, но оба засечных отряда с яростью бросились на вражеские фланги и захлопнулись на них, как челюсти.
Я услышал новые приказы, которые играл мой брат. Хриплая, дикая мелодия с беспокоящим ритмом. И сразу затем – писк забытого часового с другой стороны острова.
Я выбежал из беседки и помчался в ту сторону. Когда добежал, увидел в неярком отблеске далекого огня, горящего вокруг места битвы, новые лодки, бороздящие носами прибрежный песок.
Я не мог понять, откуда у моего брата столько быстреек. За тростником заметил свет лампы, стоящей на носу лодки, а потом появился Кимир Зил. Он отложил весла, поднял свирель и начал играть. Я узнал навязчивые, повторяющиеся тона приказов, а еще – некую беспокоящую писклявую мелодию, которую он играл своим зверушкам перед атакой.
Они выскочили на пляж и бросились в атаку, выставив копья, но строй их был скорее беспорядочен и нисколько не походил на элегантные четырехугольники его отборной армии.
Я вызвал свой последний отряд – два десятка «копейщиков», что находились в поселении, приказал им создать неподвижный «наконечник» и удерживать атаку, а сам побежал взглянуть, что происходит на пляже у селения.
Прибежал я как раз вовремя. Мои быстрейки почти опрокинули нападающих в воду, а весь луг перед пляжем был устлан неподвижными кровавыми ошметками меха. В этот момент из сгрудившихся в заливе тростниковых лодок ринулась новая фаланга.
Я не мог понять, что происходит. У нас были стаи примерно равные по величине, тем временем Кимир Зил буквально заливал мое войско новыми и новыми отрядами, которые брались не пойми откуда.
И вдруг в свете угасающего тростника и слабом отсвете первой зари я увидел, что спины новых атакующих быстреек имели пепельно-серый цвет.
Быстрейки Чагая с голубого острова.
Кимир Зил стоял в свой лодке и хохотал.
Я заиграл «Все в поселок, оборонять норы!», и мои зверушки начали отступать, удерживая, однако, строй.
Армия моя вошла сквозь главный проход в стене, который я приказал сразу завалить камнем и сбросить засеки. Шипастые «ежи» из острых веточек скатились со стен и легли у их подножия.
Я сыграл для уцелевших «пращников», и на бестолково приближающуюся армию, состоявшую из быстреек Чагая, и на уцелевшую часть первой фаланги посыпались камни.
Когда я поднял свирель, что-то резко ударило в столп беседки, вминая дерево. Я обернулся и увидел Кимир Зила с чем-то, напоминавшим резную палку. Он наклонился и поднял гальку со дна лодки, после чего разместил камень в чаше на конце палицы. Парган. Оружие для метания камней, которое используют на охоте кебирийские пастухи.
Кимир Зил размахнулся, камень мелькнул в воздухе и пролетел совсем рядом с моей головой. Я присел за балюстрадой веранды и осмотрелся. У меня не было никакого оружия. Буквально – ничего.
Мои зверушки отчаянно сражались на стенах крепости, а я должен был проверить, что происходит с «пехотой» по ту сторону острова.
Камень снова свистнул в воздухе, и сторожевая башня моего поселения разбрызгалась облачком сухой глины.
Я выскочил из беседки, но очередной камень ударил меня в бок. Я почувствовал боль, как от сильного пинка, в глазах у меня потемнело, и я рухнул на землю, в бархатную тьму.
Очнулся я быстро. Бой на стенах поселения все еще продолжался, мои зверьки остервенело тыкали копьями, порой несмотря на засеки, ссыпались со стен и бросались на врага с когтями.
Некоторое время я крутился по земле от боли, но потом собрался, чтобы встать. Бок болел, словно нашпигованный иглами, но я хотел встать на ноги.
Когда поднял голову, увидел Кимир Зила, нагло стоящего на моей земле, с свирелью за поясом и парганом в руке. Он приветствовал меня сильным пинком в голову, а когда я снова упал – забрал у меня свирель и широким махом бросил ее в воду.
– Приветствую тебя на войне, братишка, – захохотал он. Подошел к поселению, пнул стену.
Это дало не много, поскольку глина высохла и превратилась в камень. Он взмахнул парганом, сметя нескольких моих быстреек со стен, и вернулся в лодку.
Я попытался встать, подтянув колени: бок ужасно дергало, я же чувствовал, как опухает мое лицо. Из носа текла кровь, капая на песок: черная в синем отсвете зари.
У меня уже не было флейты, и я не мог отдавать приказы. Кимир Зил каким-то чудом подчинил зверьков Чагая.
Теперь я мог лишь сидеть и смотреть на резню моих быстреек.
Бессильно.
Зверушки все еще сражались. Я не отдавал им приказов, не подсказывал, что они должны делать, но несмотря на это осажденный поселок держался. Я сидел на ступенях беседки и, сдерживая слезы, ждал неминуемого поражения.
Навязчивая, играемая Кимир Зилом мелодия звучала у меня в ушах; казалось, в ней есть что-то гипнотическое.
Собственно, я не видел уже стен поселения – лишь холмик, покрытый пепельными и рыжими хребтами. Однако я заметил, что быстрейки Чагая не настолько упорны, как рыжие и мои воины. Они почти не имели оружия и могли лишь бессмысленно переть на стены. Однако момент, когда мои защитники окажутся залиты волной нападающих, был уже вопросом времени.
Я плюнул кровью и сел, обнимая руками поврежденный бок. Казалось, что при каждом вдохе внутренности мои рвутся, – словно там проросли тернии.
И тогда случилось нечто неожиданное. Над шумом и писком битвы, над фырканьем и криками разъяренных зверей, пронзительными тонами свирели Кимир Зила прорвался новый звук. Он шел с другой стороны пляжа, и его наверняка издавали быстрейки. Однако не был это писк боли или ярости. Мне показалось, что я слышу в нем мелодию, звучащую так, как если бы много существ высвистывали ее хором.
Со стороны второго пляжа бежали мои быстрейки. Две десятки моих «копейщиков». Нынче, с забрызганным рыжим мехом, они напоминали зверьков Кимир Зила. Никто ими не предводительствовал, свирель моя лежала на дне озера, да и с изувеченным боком я бы все равно не сумел играть. Но, несмотря на это, зверьки сами мчались на помощь осажденному поселению.
И высвистывали песню о героизме, которую я для них сложил.
Они атаковали осаждающих, мчась строем с выставленными копьями. Я смотрел, онемев, как они втыкаются в кольцо нападающих и прорубают себе дорогу к воротам.
Вскоре атакующие зверьки, сильно прореженные рыжие и бестолково бегающие серые, запаниковали. Мои, едва стоящие на лапках, зверьки вдруг взбодрились и бросились в нападение.
Быстрейки Кимир Зила убегали к заливу, где их ждали лодки, пытались столкнуть их в воду, топча и давя друг дружку. Но мой брат продолжал играть сигнал к атаке. Упрямо, монотонно, словно не видел, что битва проиграна. Может, не мог, как и я, понять, как это произошло.
Зверьки, издерганные противоположными сигналами, метались по берегу, бегая по кругу и попадая под копья моих солдат. Пока наконец те, кто не погиб, не разбежались по острову.
Осталась лишь покрытая стоптанной и разодранной травой полянка и разбросанные повсюду неподвижные тела быстреек. Ржавых, желтых и серых.
Я сумел подняться, прижимая к боку ладонь.
Кимир Зил смотрел на меня, бледный от ярости, а потом заткнул свирель за пояс и уселся за весла.
– Приветствую тебя на войне, брат, – прохрипел я и сплюнул кровью.
Вставал рассвет.
* * *
То, что происходило после, я помнил словно в тумане.
Я ударил в гонг и ждал лодку. Слуги смертельно испугались, увидев синяк на моей щеке, забрызганную кровью куртку и мое перекошенное от боли лицо.
Потом меня плотно перевязали – так, что боль лишь усилилась. Медик дал мне отвар, после которого колотье в боку уменьшилось до приемлемого. Ремень выдавил проклятие, вскочил в лодку и тотчас поплыл на мой остров.
Меня положили на веранде в шезлонг, среди множества подушек. Я получил теплый ореховый отвар с медом и поднос засахаренных плодов. Слушал пение птиц, смотрел на миниатюрный водопад, плещущий среди белых скал напротив моей веранды, и начал дремать, но никак не мог уснуть по-настоящему.
Чувствовал я себя странно. Что-то висело в воздухе. Я нигде не видел Кимир Зила, но, когда Ремень вернулся с моего острова, я мельком взглянул на его лицо – и сон тотчас испарился. Я испугался. Редко можно было заметить на лице Ремня гнев, но в тот день сказать, что он разгневан, было все равно, что назвать дракона ящерицей. Конечно, он не багровел, не метался и не вел себя как простец. Было у него бледное лицо и стиснутые зубы, но в его глубоких, словно колодцы, карих глазах бушевало пламя. Он сочувственно улыбнулся мне, и я понял с облегчением, что не я – причина его гнева.
В пылу общего замешательства никто не заметил, как Чагай съел свой завтрак и как ни в чем не бывало отправился на свой остров.
Вернулся он почти через час и прибыл к берегу почти одновременно с лодкой возвращающегося Кимир Зила, который не вызывал слуг, а греб сам с хмурым выражением на лице. Чагай выскочил из своей лодки будто ошпаренный, разбрасывая слуг, бледный от ярости и залитый слезами, после чего помчался прямиком на брата и неожиданно пнул его в лицо.
Никогда ранее не случалось, чтобы в любых обстоятельствах, пусть и в драке, пусть во время тренировок, хоть кто-нибудь сумел дотронуться до Кимир Зила, однако на этот раз брат повалил его на землю. Никогда еще я не видел Чагая в такой ярости. Прежде чем слуги оттащили его, он вскочил брату на грудь и, схватив Кимир Зила за волосы, принялся бить его головой о землю. Длилось это очень недолго. Старший брат вывернулся из хватки Чагая и выкрутил его руку, а через миг их разняли.
Как я узнал позже, дело было не только в том, что Кимир Зил сумел захватить часть его зверушек. Не знаю, как тот сумел это сделать, но я помню, как видел его много раз подплывающим к голубому острову и сидящим на расстоянии броска камня от берега. Теперь я знаю, что он подслушивал сигналы Чагая. Должно быть, каким-то образом сумел разгадать язык его свирели и сделать так, чтобы быстрейки слушали и его, Кимир Зила, как своего хозяина. В ночь нападения на мой остров он сумел забрать лишь часть зверей, а тех, кто не желал его слушать, отравил.
Ремень нашел кучу корма, а вокруг – скрюченные мертвые тела животных Чагая с желтой пеной у пасти. Никто не знал, откуда старший взял отраву, пока не обнаружили выломанные двери в садовый склад: Кимир Зил использовал порошок из ягод ревеня, которыми травили крыс в каналах и амбарах.
Ремень не произнес в его сторону ни слова. Даже не взглянул на него. Отвернулся и вошел в павильон. Потом я видел, как он выходит, одетый в неприметную куртку с капюшоном, что означало, что он отправился повидаться с нашим отцом, владыкой Тигриного Трона.
Несколько дней я лежал в постели или на веранде, слишком занятый болью, чтобы заметить, что в доме происходит нечто необычное. Я ждал, пока треснувшее ребро не начнет срастаться. Болело, когда я вдыхал и когда пытался повернуться; тесная повязка тоже доставляла мне страдания.
Я часто пил настои и большую часть времени спал, не зная, что происходит вокруг.
Но все же обратил внимание, что мой медик, Хачин Тестугай, взволнован. У него тряслись руки, когда он отмерял мне лекарства и возжигал курения, молясь о моем здоровье амитрайской Госпоже Жатвы и новым богам, которым нынче молились в Амитрае и которые были божествами нашими, кирененскими, но здесь носили другие имена.
– Заботься о теле и духе сыновей Тигра, о Идущий-в-Гору, дай им свою силу, не позволь им уехать Лунной Повозкой, молю тебя…
– Ты сказал «сыновей»? – прервал я его. – Кто-то еще болен?
– Твой брат, Молодой Тигр, принц Кимир Зил лежит больным уже пару дней, – ответил он. – Его тошнит, и он не может есть. Бредит в горячке. Может так случиться, что…
– Что «что»? – спросил я, испуганный. Я был зол на Кимир Зила, но все же он был моим братом.
– Мы не станем об этом говорить, благородный принц. Не когда черные птицы кружат вокруг нашего дома.
– Но что с ним случилось?!
– Благородный принц Кимир Зил играл с ревенем, мой господин. Это страшный яд. Когда не знаешь, как его использовать, можно и самому отравиться. Порошок может остаться на руках или на одежде. Обещай мне, Молодой Тигр, что ты никогда не возьмешь его в руки.
Кимир Зил умер следующей ночью. Провалился в сон и больше не проснулся.
Я плакал так, что думал сердце разорвется. Мир изменился. Я был ребенком и до той поры никого не терял. Казалось мне, что смерти нет доступа в Облачные Палаты. Это было нечто, о чем лишь читали или слышали в рассказах.
Я то и дело натыкался на что-то, имевшее отношение к моему брату, и не мог поверить, что кто-то, недавно сломавший мне ребро, сидевший в этом кресле или читавший этот свиток, может исчезнуть, словно его никогда не существовало, а следы его поступков – остаются, будто ничего не случилось. Даже такие личные, как надкушенный плод. Казалось мне, что он должен где-то остаться. Что ходит коридорами или покинул комнату минутой раньше, до того как я туда вошел.
Торжества похорон длились трое суток, и, как всегда бывает на кирененских похоронах, проходили они в полной тишине. Костер погас, а единственным следом от моего старшего брата была каменная лампа на верхушке небольшого кургана, и рядом с ней – резная миска для жертвенных благовоний, украшенная барельефом маленького конька. Мне вспомнилось, как Кимир Зил любил лошадей и как ребенком он часто изображал жеребенка. Глядя на барельеф, я словно видел его самого, тем мальчишкой малых лет, – а не того, кем он был несколько дней назад: высокого, худого, с жестокими узкими глазами, почти мужчину.
Тот его любимый конек, вырезанная из мыльного камня фигурка, с которой он не расставался, стоял перед моими глазами. И лишь тогда я понял, что мой брат – умер.
Я поплыл на его багровый остров. Быстреек уже забрал Мастер Зверей: впрочем, рыжих зверьков уцелело всего несколько. Я ходил по острову, осматривал руины поселения, глядел на черепа убитых во время казней животных, надетых на колышки вокруг беседки, и вдруг вскрикнул от ужаса. На миг мне показалось, что я увидел моего брата. Был он призрачен, бледно-желт и злобно улыбался. Только через минуту я понял, что смотрю на последнее произведение его быстреек. Эта странная куча глины, которую я увидел перед самой войной. Он сумел заставить меховых зверушек, которыми правил и которых убивал, построить ему памятник.
Через несколько недель, однако, я заметил еще одну вещь, которую запомнил навсегда, хотя, на первый взгляд, она не имела ни к чему из этого отношения. И тогда я снова понял, что я – сын императора и что кирененские кодексы применяют ко мне, тохимону, Первому Среди Равных, специальные законы. Я понял, что у меня нет шанса на спокойную, беззаботную жизнь, и по спине моей поползли мурашки.
Мы сидели в Комнате Научения с Чагаем и Аасиной – младшей сестрой, которая как раз покинула Дом Киновари. Мы слушали Мастера Зверей. Он рассказывал об обычаях разных созданий. Он говорил о больших, словно телята, скальных волках, живущих в лесах севера. В какой-то момент двери отворились, и в комнату тихо, как дух, вошел Ремень, чтобы забрать забытую трубку.
– Они заботятся друг о друге и не причиняют себе вреда, если они – из одной стаи, – говорил Мастер Зверей. – Если они сражаются друг с другом, то лишь пока один из сражающихся не упадет на землю и не обнажит живот. Так же происходит и когда молодые сражаются для забавы. Однако порой рождается волк, который зол и слишком жесток. Он грызет, несмотря на то что противник уже открыл живот и горло. Если такое случилось, его собственный отец, который издалека следит за игрой, подходит и убивает такого щенка. Иначе молодой вырастет и окажется для собственной стаи тираном и погибелью. Волки должны доверять друг другу. Так вот животные следят за своими волчьими законами.
Ремень встал будто вкопанный, слушая Мастера. Потом потянулся за своей трубкой и вышел так же тихо, как и появился. Никто не обратил на него внимания, лишь я заметил, что он стиснул зубы и что по щеке его покатилась слеза.
Глава 5 Змеиная глотка
Вытянув шею,
орел озирает
древнее море;
так смотрит муж,
в чуждой толпе
защиты не знающий.
Речи ВысокогоГород было видно со взгорья. Собственно, точнее было бы сказать «поселок» или «селение». Просто крупное сборище дворов, хаотично разбросанных по обеим сторонам фьорда и окрестным холмам. Дома были похожи друг на друга. Деревянные, длинные, с резными столпами, выстроенные четырехугольником. Но в поселении были собственные земляные валы, а между хозяйствами вились выложенные деревянными жердями улочки. Вдоль всего фьорда тянулась деревянная же набережная и поставленные на столпы пирсы, на пару десятков метров врезающиеся в воду. Потому – пусть будет «город».
Ворота были отворены, и никто их не охранял. Никто не остановил странно одетого рослого мужчину, едущего на большом полосатом скакуне с подрезанными рогами.
Некоторые таращились на него, поскольку человек был высок, а скакун его – обвешан сумами и свертками. На мужчине был бурый шерстяной плащ с глубоким капюшоном, и держал он во рту странную изогнутую свирель, из которой выпускал клубы дыма, как делали обитатели юга.
Миновал он привратную башню и прямиком отправился на берег.
– Сперва ночлег, – сказал коню. – Крыша над головой. Это главный порт в окрестностях. Здесь должны быть приезжие, а значит, существуют и какие-нибудь постоялые дворы. Едут сюда купцы, моряки, вагабонды вроде нас. И кто-то должен делать на этом деньги. Понимаю, что они не изобрели ни паровой машины, ни душа. Но неужели никто не заметил, что странник заплатит звонкой монетой за крышу над головой, толику воды и какую-никакую пищу? Моряк, сходящий на берег, должен прежде всего что-то съесть – что-то, что не будет паршивой корабельной пайкой. И, конечно, он должен напиться. И ему, несомненно, нужна женщина, и за все это он тоже заплатит. А где девки, там и мотели. Quod erat demonstrandum. Я не выношу культурных стереотипов. Просто верю в законы прибыли. Универсальные в космическом масштабе, мой северный олешек.
Дорога вилась между дворами, но вела к берегу. Он проезжал мимо людей, одноосных повозок на деревянных колесах, груженных товаром, коров, собак и свиней. Миновал местных, одетых в крашеные плащи и кожаные бесформенные шапки, а еще каких-то оборванцев, увешанных оружием, – вероятно, моряков. Видел женщин в простых платьях и соломенных шляпках, бегающих детей. До сих пор он не видал столько людей в одном месте.
– Ах, это шум большого города, – процедил он, проводя Ядрана сквозь стадо шестирогих овец.
Дорога вела вниз, и тогда, стоя на обочине между домами, он увидел корабли. Те стояли у берега и плыли серединой широкого фьорда, покачивались на якорях. Несколько десятков. Не пойми отчего воображал он себе, что станут они напоминать драккары викингов, но они скорее походили на джонки среднего размера. Были у них высокая, задранная корма, двойной киль и странные паруса, напоминающие жалюзи или веера. Три корабля расходились в речном русле, и было видно, что на парусах начертаны несложные геометрические распознавательные знаки.
Некоторое время он доброжелательно поглядывал на них. Всю жизнь любил корабли, особенно парусники. Эти здесь казались солидными и красивыми. Небольшие, скорее для каботажного плавания, но ведь и «Санта-Мария» произвела бы точно такое впечатление.
На набережной он сошел с коня и повел его за упряжь у морды. Ядран прядал ушами и мурлыкал с неудовольствием.
Наверняка его потерпевшие кораблекрушение коллеги поступили так же. Цеплялись к местным и расспрашивали о ночлеге. Это тоже, вероятно, космическая постоянная. Шли они сюда через леса, спали под голым небом. Наверняка знали язык, по крайней мере знал его ван Дикен. Были у них какие-то деньги. Они должны были искать ночлег, какую-нибудь корчму. Происходили они с Земли. Прежде всего – горячая вода, приличный горячий ужин и ночлег. Ванна, бочка – что угодно. Лишь бы умыться и поспать под крышей.
Стоило поискать что-то вроде отеля.
Он нашел его через час. Это не был постоялый двор или хотя бы корчма. Скорее – караван-сарай. Построенный подковообразно домище, подобный сараю, где животинку держали внизу, а спать – вповалку – можно было на сеновале, куда поднимались по лестнице.
В одном из домов был очаг, а хмурый, неразговорчивый хозяин одалживал котелки и продавал дрова. Никакой кухни, никакого бара, никакого: «Хозяин, пива!»
Вблизи порта было с пяток таких мест, и все до предела забиты телегами, конями, мулами; везде толпы людей. Приближалась осенняя ярмарка. Купцы сидели и спали на своих повозках, что загромождали подворье, а даже если нет – неподалеку крутился эскорт, включавший типов из темных закоулков, в шлемах и с оружием. Не отходили они от товаров ни на шаг и хмуро таращились сквозь визиры в черненых шлемах.
– Не верю, – сказал Драккайнен. – Я что, не найду ночлег, потому что не забронировал номер?
Он вернулся на набережную и высмотрел солидного с виду рыбака, скорее всего, владельца пузатой лодки, который как раз выгружал корзину небольших серебристых рыбок, похожих на сардины.
Переговоры не затянулись.
Рыбак минутку стоял, разглядывая солидный кусок серебра на вытянутой руке Драккайнена, и почесывал лысину, сбив на затылок кожаную шапочку, похожую на миску. Его экипаж – худой подросток с нервным тиком и обиженный на весь мир да жилистый худыш средних лет, тоже ждали в молчании, глядя на серебро, словно никогда дотоле не видывали такого богатства.
– Постой для коня и какая-нибудь крыша для меня, – повторил Драккайнен. – Баня, сарай, кладовка. И какие-то двери, чтобы меня никто не обворовал.
Рыбак скреб голову; девушка, ждущая погрузки рыбы, сетей и такелажа с лодки, сидевшая на козлах повозки с подоткнутой с одной стороны за пояс юбкой, равнодушно жевала соломинку. Худыш ворчал под нос, критически осматривая подвязанные вонючие сети. Подросток держался кормы, трудолюбиво почесывая пяткой лодыжку. А время шло.
Драккайнен сжал ладонь, но старик внезапно сплюнул на землю и ухватил его за запястье.
– Договорились, – сказал. – Одна восьмая марки серебром, как ты и сказал. У меня есть сухой сарай с баней. Большой. Поместишься и ты, и конь. На три дня. Потом я отплываю, потому что луна пойдет в рост. Захочешь жить и дальше – еще одна восьмая.
– Договорились, – подтвердил Драккайнен и стиснул в ответ запястье рыбака.
* * *
Весь дом, весь сарай, в котором мне жить, да и вообще все – пропитывает запах рыбы. Я ощущаю вонь рыбной гнили и слизи, дымный аромат копченых тушек, пропитанный солью и йодом смрад сохнущих сетей.
Прежде всего я снимаю седло с Ядрана и вытираю его шерсть клочком соломы. От хозяина получаю старый, воняющий рыбой мешок, полный сморщенных оранжевых зерен. Корм.
Кладу свои вещи под стеной – и вот я уже дома. Сарай мрачный, совсем немного света вливается сквозь щели в балках и дыры под крышей. Но это, по крайней мере, крыша.
Чувствую облегчение и усталость. Я добрался до какой-то цели. Реализовал некий этап. И вот я в порту Змеиная Глотка и нашел крышу над головой, несмотря на пик сезона. Собственно, конец сезона. Моряки возвращаются домой из своих грабительских исследовательско-торговых странствий. Большинство идет в этот порт, и через пару дней здесь будет непросто найти место для стоянки корабля, а о нормальной швартовке можно только помечтать. Корабли со сложенными вдоль бортов мачтами появятся даже на пляже с одной и другой стороны фьорда, словно выбросившиеся на берег киты. Начнется большая ярмарка. Добыча, товары, рабы, оружие, серебро, пряности, меха станут переходить из рук в руки. Купцы, прибывшие сюда со своими повозками из глубины материка, заключат прекрасные сделки и отяжелеют от товаров сильнее, чем моряки, – притом не подставляя шею во время путешествий.
Местные обитатели продадут все мясо, пиво, хлеб и рыбу, какие найдутся; те, кто пожаднее, выберут даже собственные зимние припасы и останутся с горстью серебра, но без муки, рыбы и рыбьего жира. А позже состоится тинг.
Станут решать споры, совещаться, составлять союзы и усмирять кровные мести.
Это все, что я узнал за время дороги в этот дом.
А теперь не представляю, что мне делать дальше.
Прежде всего, я не знаю, отчего мои лишенцы покинули станцию и отправились в странствия. Скажем – убегали от холодного тумана и его феноменов. Скажем – добрались сюда. Будь я на их месте, постарался бы оставить весточку? Вырезать где-нибудь надпись вроде «Тут был Драккайнен»? Умнее всего им было бы поселиться здесь и ждать. Не исключено, кстати, что так они и поступили.
Разве что их похитили, атаковали, или они иным образом встряли в какую беду.
Так или иначе, очередность неизменна: локализовать – возможно, отбить – эвакуировать.
На подворье жена рыбака заканчивает вязать сети, прихватывая шнурами деревянное пряслице, и входит в дом. На старом, растущем посреди двора дереве, серебристом и почти лишенном коры, сидит огромный черный ворон и таращится на меня черным, словно агат, глазом.
– Ты мне надоел, – говорю я.
Мне не хочется уже ни стрелять в него, ни бросать чем-то, ни пытаться поймать. Он настолько же быстр, как и я, более того – чувствует мои намерения. И всегда неподалеку. Когда я просыпаюсь у костра, он сидит где-нибудь на куче вещей или на ветке. Крадет остатки моей пищи. Но я должен признать, что однажды он принес большую рыбину, а в другой раз – создание, похожее на кролика, и оставил рядом с моей постелью. Ядран его игнорирует, я, собственно, тоже.
Рыбак стоит, опершись о столб, подпирающий крышу его дома, ест кашу из деревянной миски и тоже глядит на ворона.
– Твой? – спрашивает.
– Трудно сказать, – отвечаю я. – Постоянно его встречаю.
– Злой знак. Это птица смерти. И посланник богов.
– Это только птица. Спасибо за ночлег.
– Мы – спокойные люди, – цедит он. – Страндлинги.
Цифрал дуреет на миг, подсовывает мне неологизм «берегари», потом исправляет на «живущие-на-берегу».
– Если бы не то, что происходит в последнее время, я бы тебе отказал. Не люблю чужаков в доме. Но нынче – война богов. Сам Скифанар Деревянный Плащ не принял однажды странного путника – и вот чем все закончилось. Нынче странное бродит по миру. А ты странен. Ну и дал мне два шекля чистым серебром.
– Я иду в город, – говорю ему. – Ты спускаешь на ночь собак или что-то вроде того?
– Постучи, и я тебя впущу. Зовусь Лунф Горячий Камень.
Смотрит, как я пристегиваю меч и надеваю плащ.
– Чужакам нельзя носить оружие в кольце валов. Только нож можешь взять. Нынче мир осеннего тинга. Если убьешь человека, будешь утоплен в сети с огненными угрями. Таков закон Страндлингов, Людей Берега. Однако, если кто-то нападет на тебя первым и прольет твою кровь или возьмет оружие, пусть просто кружку или кость, ты имеешь право защищаться. Под Древом Огня. Но не в кругу частокола. Говорю это тебе я, Лунф. Человек Берега. Прими добрый совет – и доживешь до времени, чтобы заплатить мне еще два шекля.
– Благодарю, Горячий Камень. Я оставлю меч. Скажешь, что еще нельзя делать?
Он пожимает плечами:
– Можно все, что рассудительно. Не обижай мужей, женщин и богов.
Я даже рад. Меч тяжелый, путается у меня в ногах, цепляется за плащ и обращает на себя внимание. А потом я выхожу за ворота. Ныряю в толпу и не намереваюсь обижать мужей, жен и богов.
Нужно идти туда, где людей больше всего. На набережную. Это широкий деревянный помост, что тянется вдоль фьорда. Лодки причаливают к кнехтам, грубо украшенным узорами, похоже означающими постоянные родовые места. На деревянных балках, с ногами над водой, сидят люди, пьют из рогов, играют в «короля» и какую-то другую игру, что состоит в метании горсти резных кубиков.
Это странно, но они уже не кажутся мне слишком экзотическими. Все такое обыкновенное. Носят штаны, шнурованные свободные рубахи, обшитые бахромой и затянутые тяжелыми поясами, а еще кафтаны из толстого сукна. Порой – застегиваемые серебряными шпильками короткие плащи. Если бы не эти пряжки, застежки и красочная тканевая бахрома, выглядели бы совсем привычно. Эдакие мужики в штанах и полотняных блузах. Слегка грубоватых, может, но и только. Даже на Земле не вызвали бы ажиотажа. Женщины носят широкие, затянутые в поясе платья, похожие на греческий пеплум, но из толстого полотна. Порой те, кто побогаче, носят на головах свободно наброшенные платки и ключи у пояса. Все: и женщины, и мужчины, и дети – не расстаются с ножами.
Я машинально оглядываюсь. Не уверен, узнал бы я своих так уж легко. Одетых как местные и в других нарядах. Узнаю ли я, скажем, побритого Фьольсфинна с бакенбардами? Бородатого ван Дикена со стрижеными волосами? Длинноволосую Фрайхофф?
Мне нужна какая-нибудь ярмарка или корчма. Место, где вдоволь людей, лучше бы – местных. И мне надо купить здешний кафтан, а может, и такую вот кожаную ермолку. А еще я бы охотно что-нибудь съел.
Наконец я нахожу площадку между дворами, заставленную деревянными прилавками. Здесь есть и ряд столов на козлах, и человек, продающий пиво прямо из бочек, поставленных на повозке. Однако нужен собственный кубок.
Под ногами трава утоптана до болотистого мочала, вокруг крутятся худые псы. Есть костер, подле которого какой-то добрый человек продает печенные на железной, подвешенной на цепях сетке куски нанизанного на палочки мяса и квадратных рыбин, похожих на камбалу. Все выглядит как праздник. Космическая постоянная.
Я покупаю себе окованный рог для питья, снабженный внизу драконьими ножками, и сажусь за стол – там, где еще есть немного места. Скромно и с краю.
Жую кусок мяса, запиваю сладковатым мутным пивом и смотрю. Такая работа.
Местные отличаются от моряков. Они не столь крикливо одеты, кажутся более спокойными, держатся на обочине, сидят за собственными столами. Молчаливы и расчетливы в движениях. Моряки выглядят и ведут себя вызывающе. У них коротко обрезанные волосы и стриженые бороды, на щеках и плечах вьются сложные татуировки. Часто одеты только в штаны, иногда в кожаную жилетку на голое тело. Их поведение и внешний вид что-то мне напоминают. Эти громкие крики лицом к лицу, когда встречается пара приятелей, удары кубками в столы, эта показная веселость… Рев – так, что багровеют лица и выступают вены на висках, жадное питье прямо из кувшина.
Я делал в своей жизни много разных вещей. Часто вращался среди специфических людей. Перегонял контрабандой машины через Сахару, ходил по морю, жил на корабле, ездил на мотоцикле. Бывали периоды, когда меня можно было повстречать там, где жизнь полна адреналина и не делают одно и то же по часам.
Они танцуют.
Только мужчины, всего несколько женщин, тоже татуированных и настолько же диких, как остальные. Это не дружеский танец. Топают по кругу, взбивая тучи пыли. Время от времени пара наскакивает на пару, они сшибаются в воздухе торсами, порой лупят друг друга предплечьями в предплечья. И все – под дикий ритм барабанов и какой-то флейты. Крики. Даже не понять – это еще пение или уже только энтузиазм.
Я начинаю чувствовать себя как дома.
Достаточно припарковать рядом несколько мотоциклов или переодеть здешних в мундиры Иностранного легиона.
Они выжили.
И радуются этому.
Совсем недавно их тошнило желчью на колышущихся палубах «волчьих кораблей», они сикали в штаны от страха, прячась под щитами, секомые дождем стрел на каком-нибудь пляже, – или бежали горящими, чужими городами, с руками, дымящимися от свежей крови и человеческого жира. Нажрались этого под завязку. По горло. Оплакали многих товарищей и десятки раз – самих себя. Но выжили и вернулись домой. И теперь они бессмертны.
У них есть добытая где-то горсть золота, они все еще видят небо над головой и чувствуют вкус пива. Теперь весь адреналин, который они жрали, которым дышали и которым их тошнило все месяцы экспедиций, горит у них в венах и парит со лбов.
Я бы тоже орал.
Но от них я ничего не узнаю.
Мой сосед наваливается на меня теплой тяжестью. Я придерживаю его за кафтан на спине и осторожно укладываю лицом на стол между рыбьих костей. Я не ищу ссоры.
Я совсем не хочу, чтобы меня утопили с огненными угрями.
Расспрашивать нужно местных. Они сидят за отдельными столами, с мечами на поясах, молчаливые и какие-то мрачные. Поглядывают на орущих моряков исподлобья. Но не с неприязнью, а испытующе. Не хотят стать очередным разоренным городом, потому не пускают чужаков с оружием, а сами постоянно держат под рукой мечи и топоры.
Я прислушиваюсь.
Это непросто при том шуме, который здесь царит. Нужно отфильтровать писклявую музыку, несколько сотен случайных разговоров, которыми кипит площадь. Я умею вылавливать из гама одиночные фразы, почти как направленный микрофон. Концентрируюсь на словах-ключах: «чужеземцы», «чужаки», «Акен», но и «война богов», «слепые», «рыбьи глаза», «Делатель», «песни богов», «два года назад».
Слушаю.
«Не знаю, к чему возвращаюсь. Отец был уже стар, может и умер, но тогда брат примет все наследство, а мне ничего не оставит. Может оказаться так, что придется идти на свое, только не знаю, куда…»
Нет.
«Я уже больше не поплыву. Делается все горячее. Приходится плыть все дальше, а времена все хуже. Некогда, при сыновьях Кричащего Топора, раз поплыл на дело – и мог поставить двор. А теперь… За горсть серебра рисковать шеей…»
Нет.
«Первый и последний раз плыву с Черным Лисом. Худшая штука – такой стирсмен, у которого нет счастья. Говорю, он оскорбил богов, плывя с женщинами. Деющих возил… Из этого лишь ссоры на корабле, как не жалятся, так бьются, к чему бы такой поход…»
Нет.
«Три вола пятнистых, восемь шеклей серебра, а к тому же двенадцать фунтов воска, по две и восьмушку дубовый бочонок, таких четвертьквартовых, где-то две повозки и…»
Нет.
«А он всаживает руку под юбку и орет: „У нее кинжал“!»
Нет.
«Пара железных котелков, кольчугу дешевую и порванную, какой-то лук, такой, что аж жалость брала, горстка четок – и ничего больше. Вот такая добыча. А бились три дня…»
Нет.
«Не спорю, он смел. Но теперь уже не так: что, если кому дома скучно, он отправляется в мир и только там находит золото для пояса или железо для брюха. Нынче война богов, даже в собственном доме не ведаешь, доживешь ли до вечера. Так вот оно сделалось… Так случилось и с твоим дядюшкой».
Сейчас.
Это уже чуть интереснее.
Это один из местных, но разговаривает с моряком. Местный – среднего возраста, а моряк молод и слегка презрителен. Одет богато, длинные волосы связал на затылке ремешком в конский хвост и заплел в косицу, напоминающую палку. Судя по амулетам, оковке ножа и мастерским вышивкам, обрамляющим богатый зеленый плащ, – знатный. Все у него изукрашено, даже мягкие кожаные сапоги. Ношеные, но наивысшего качества.
Пьют за его деньги. Странные квадратные монеты с отверстием, наверняка кебирийские. Старик – наверняка кто-то из его родственников и должен сказать ему что-то печальное, а молодой это чувствует.
– Я думаю, это был просто Песенник, но хороший, – продолжает местный. – Такой, каких уже годы здесь не видывали. Твой дядюшка был слишком горд. Самый богатый, самый сильный, у него был наибольший двор во всей Змеиной Глотке… Когда человек хвастается богатством, в конце концов его заметят боги – и готово несчастье…
– Я знал дядюшку, Адральф, – цедит молодой.
Похоже, хочет, чтобы все закончилось побыстрее.
– Песенник хотел у него погостить, а дядя приказал ему ступать прочь. Трудно такому удивляться. Тот вошел к богатейшему властителю в окрестностях и обратился к нему, словно к рабу: «Я стану здесь спать и есть. Давай пива». Твой дядя приказал его вышвырнуть, а сам схватился за топор. Тот повернулся без слова и вышел в ворота. Моя старуха говорит, что проклял двор одним словом. Просто поднял руку – и все случилось. Люди делают вид, что его не замечают. Даже подходить туда боятся.
– Так жив мой дядька или нет? Его тот чужак убил? А моя тетя? А дети? А их люди?
Мужчина растерянно почесывается под ермолкой:
– Трудно сказать. Может, и живы, но хорошо бы им тогда умереть. Лучше тебе самому увидеть.
* * *
Я допиваю пиво и вешаю рог на пояс. Мой хозяин, Горячий Камень, тоже вспоминал об этом. О ком-то по имени Скифанар Деревянный Плащ, который напросился на проблемы, не приняв странника.
Местный, которого я выбираю в качестве информатора, стоит, опершись о прилавок, с шерстяными попонами и с большими пальцами, заложенными за пояс; глядит на «волчий корабль», что как раз входит в порт, галсуя на похожем на веер фоке.
– Добрый человек, жил ли здесь когда-то хозяин, звавшийся Деревянным Плащом?
Тот плюет сквозь зубы и не сводит глаз с корабля.
– Рассудительный человек такими делами не интересуется. Хочешь потешить глаза бедой проклятого человека? Хочешь увидать Двор Железных Терний? Надобно идти вверх, на склон. До места, где растут сливы и стоит самый красивый резной двор, какой ты в жизни своей видывал. Там, откуда видны весь залив и море. На взгорье. Там, куда никто не ходит и где даже дорога прогнила. Тропой глупцов.
Стало быть, я иду тропой глупцов. Вверх, между стен, выстроенных из балок четырехугольных домов. Некоторые довольно стары, а в некоторых ремонтировали и меняли отдельные балки, которые теперь выглядят как заплаты молодого светлого дерева. Но почти все идентичны. И те, что казались многолетними, и те, что поставлены недавно. Никакого прогресса, никакого желания что-нибудь улучшить, никаких попыток использовать новые материалы. Я начинаю сомневаться, опознаю ли тот «наибольший двор» в городе. Единственная разница – в размерах, а кроме того, это убожество крыто гонтом или соломой, те, что побогаче, – кусками дерева. На оконницах домов побогаче – больше орнамента. И только.
То же касается и кораблей. Они почти близнецы, словно изготовленные на конвейере. В целом – не такие уж и примитивные. С низкой посадкой, стабилизированные подвижными рулями, что ближе к берегу маятниками поднимались на борт. Одинаковая парусная оснастка, одинаковые кормовые надстройки, одинаковые катапульты в носовой части, приспособленные для метания копий. И одинаковый затес на правом носовом релинге чуть пониже бушприта. Повторенный с бессмысленной подробностью в каждом корабле. Словно класс регаты. Почему? Ведь каждое изобретение – это преимущество над противником, большая скорость и маневренность. Шанс на победу или сохранение жизни.
И те дома, и корабли, и подвижные рули не были придуманы недавно. Это довольно смелые изобретения, они прошли долгую эволюцию. Должно быть, хорошо выполняют свои функции, но, похоже, в этой форме используются уже несколько сотен лет.
Выглядит так, будто техническая мысль развивалась до какого-то момента, пока кто-то не произнес: «Стоп». И все остановилось.
Напоминает мне это средневековую Японию. Такие консервативные культуры существовали, но не до такой степени, чтобы воспроизводить щербину на борту каждого корабля.
Я вижу купу деревьев на вершине холма и крыши поместья. Дом как дом, но и правда поставлен он в месте, из которого открывается наилучший вид. Видно отсюда и край обрыва, а за ним море, видно и порт, и город внизу. Городской вал тянется в сотне метров отсюда до самого склона, но здесь он ниже и более запущенный, чем внизу.
Когда-то здесь было больше домов, но теперь они заброшены. На самом берегу стоят остатки круглой конструкции: от нее остались лишь каменные обломки, вырастающие по кругу, словно дольмены. Старый храм?
Я встаю перед прогнившими воротами, которые закрывают фронтальную стену.
Некоторые балки полностью истлели, крыша над створками с одной стороны перекосилась, сквозь щели виден заросший кустами двор. Вдоль стен вьются жесткие черные лозы, похожие на плющ. Они обильно затянули все стены, влезли на крышу, лежат на камнях подворья.
Я зря теряю тут время.
Вхожу на мостик, переброшенный через обводной ров, что ведет к воротам. Старые гнилые балки поскрипывают под ногами.
– Прочь! – крик.
Знакомый каркающий голос.
Мой ворон.
Бьет крылами, вися на месте над подворьем, как чайка, сражающаяся со штормовым ветром.
А потом пикирует прямо на меня. Словно ястреб, увидавший кролика.
Он большой, на глаз весит килограммов семь: у него клюв размером с ледоруб и когти с мои пальцы.
Когда такая птичка летит кому-то прямо в голову, это производит впечатление.
* * *
Драккайнен непроизвольно присел и вскинул руку, желая заслонить лицо и соскочить с мостка, когда пикирующий, словно камень, ворон ударил крыльями и, крутанувшись на месте, снова выстрелил вверх.
Откуда-то неподалеку до Странника донесся странный металлический звук и грохот – словно от раскручивающейся цепи.
Плющ начал двигаться.
Это напоминало гнездо внезапно проснувшихся змей.
Отростки двигались с мягким шумом, вились по стенам, из-под крыши выстрелили вверх еще лозы, изгибаясь, словно кончики кнута.
Ворон молотил крыльями, минуя очередные метры, а сразу под ним разворачивался отросток черного плюща. Среди замедленного времени был слышен свист, с каким стебель, листья и тернии резали воздух.
Резкий металлический свист.
Еще удар крыльями – и ворон ушел от одного стебля, но второй перерезал ему дорогу перед самым клювом. Был намного длиннее.
Драккайнен услышал собственный предупредительный возглас, который разлился протяжным басовым громом.
Очередные отростки метнулись прямо в его сторону – слишком быстро, чтобы отреагировать осмысленно.
Странник уклонился и увидел, как ветвь пролетает у него перед лицом, а потом выпрямился и, глядя на сворачивающийся, словно кончик кнута, побег, сделал с двух ног тяжелое полусальто назад.
Еще в воздухе почувствовал, что получил самым кончиком стебля в бедро. Запекло отчаянно, будто его хлестнули расплетенным стальным тросом.
Он приземлился, покачиваясь, за мостиком и отскочил на несколько шагов назад. Едва залеченная щиколотка отреагировала резкой болью растянутых сухожилий.
Лиана втягивалась волнообразным змеиным движением. Он поднял ногу, чтобы наступить на нее, но в последний миг отказался от этой идеи. Пучок черных как сажа листьев прошелся по балкам мостка, оставляя на них глубокие шрамы – будто стальным клинком. Вторая ветка проползла рядом и посекла на мелкие кусочки маленькое деревце, росшее во рву.
Он взглянул на свое бедро. Штаны висели клочьями, ровно прорезанные в нескольких местах; кожа под ними тоже была рассечена, вся боковая сторона бедра уже пропиталась кровью.
– Мои лучшие штаны! – рявкнул он.
В воздухе кружилось несколько черных перьев. Ворон триумфально закаркал, кружа вне пределов достижимости плетей, рубивших воздух над подворьем.
– Этого только недоставало. Кажется, ты спас мне жизнь, – сказал Вуко. Поднял небольшой камешек и бросил.
Тот пролетел над мостиком и был ударен в воздухе небольшой веткой. Раздался металлический бряк, блеснули искры.
– Понимаю, – процедил Драккайнен. – Реагируют на движение.
Плети снова принялись виться в отвратительном щупальцеобразном ритме, отдирая щепки от балок и выцарапывая шрамы на камнях.
И тогда из поместья донесся крик. Отчаянно хоральный ор нескольких мучимых людей. Крик не был артикулированным, было слышно и мужчин, и женщин, что орали хриплыми голосами.
Драккайнен отступил еще на несколько шагов, ругаясь по-фински, и тогда щупальца перестали двигаться. Крик сменился хором стонов и плача, после чего постепенно стих.
Странник остолбенел.
– Нужно бы им помочь, – проворчал. – Только как, если не подойти?
Он обошел двор на безопасном расстоянии, но ничего не придумал.
– Взорвать его к чертям? – задумался. – Въехать на танке?
Ворон закаркал, кружа над ним.
– Что за ухреначенный мир, – вздохнул Драккайнен. Взглянул вниз и увидел, что трава вокруг двора покрывается инеем. – Dobrodoszli. Снова то же самое.
Двор опять взорвался воплями. Лианы, которыми заросли стены с тыла, принялись виться. Он слышал звон ползущих по балкам лоз и сталкивающихся листьев, скрежет сжимающихся побегов, скрипящих, будто стальные канаты. И вой мучаемых людей внутри. Ужасающий, словно из ада.
И еще один крик человека, от ворот.
Он побежал туда и увидел молодого моряка, того самого, который разговаривал с местным у прилавков: тот лежал на спине и беспомощно дергался, с белым, перекошенным лицом и ногами, тесно оплетенными лианами. Те медленно волокли его по мостку прямо на подворье.
Вниз, по покрытой подгнившими бревнами дороге, убегали его товарищи.
– Не двигайся! – крикнул Драккайнен. – Замри – совершенно!
Волочимый моряк с отчаянием и удивлением поглядел на него, но будто послушался. Держащие его лианы немного замедлились, но продолжили волочить жертву по бревнам – только чуть ленивее.
Вуко отчаянно осмотрелся, но не увидел ничего, что можно было бы использовать. Более всего пригодился бы дорожный спасательный набор. С гидравлическими ножницами для резки металла и лебедкой.
Он побежал к ближайшему дому, одному из покинутых, что спокойно клонился к упадку в двухстах шагах поодаль. Там не осталось ничего – только провалившаяся крыша, бурьян и поросшее кустами подворье. От черного плюща не было и следа.
Поразмыслив, он подхватил сбитые из досок двери, висевшие на одной кожаной петле, и вырвал гвозди, удерживавшие их у фрамуги. Вскинул двери над головой и побежал обратно.
К кладке подходил осторожно. Все медленнее, пока не встал, замерев совершенно неподвижно на самой границе, за которой лианы начинали реагировать. Несколько отростков предостерегающе приподнялись, но тут же сделались неподвижны. Драккайнен стоял минуту-другую с дверями над головой, ощущая, как дрожат мышцы, а потом сделал глубокий, очень медленный вдох и метнул доски прямо в ворота.
Отростки с визгом ударили и оплели дверь еще в воздухе. Ветки сжались змеиным движением на досках, выцарапывая на них глубокие следы – как цепь бензопилы.
– Не двигайся, – повторил Драккайнен. – Даже не дыши.
Гиперадреналин тек в его венах, однако он должен был этим овладеть. Мог опередить движение щупалец и выдернуть лежащего, но оторвал бы ему ноги.
Он склонился плавным, почти незаметным движением, будто в сонном кошмаре. Как если бы двигался, погрузившись в застывшую смолу. Медленно. Очень медленно. Миллиметр за миллиметром. Так, чтобы не шевельнуть воздух. Согнул колени, его правая рука двигалась к ножнам у пояса. Медленно. Очень медленно.
Так медленно, как растет плющ.
Не сумел бы сказать, сколь долго это продолжалось.
Казалось, что недели. Что солнце зашло и встало, прежде чем он наконец присел над лежащим моряком с ножом в руках и сумел приложить острие к отростку, оплетавшему тому щиколотки.
Где-то далеко раздавалось пение и удары барабана. Шумело море. Кричали чайки.
Трещали и лопались доски двери, разрываемые лианами у самых ворот.
Кончик ножа уперся в бревно, образовав рычаг, и очень медленно, но с постоянным нажимом, острие придвинулось к отростку, оплетавшему щиколотки морехода. Теперь требовалось движение вниз.
Мономолекулярное острие, изготовленное на авиазаводах «Нордланд», против железного отростка черного плюща. Материал с твердостью алмаза против усиленной холодным туманом магии заклинания. Миллиметр за миллиметром.
Волокно за волокном.
Кричали чайки.
Ему казалось, что он слышит, как волокна растения постепенно уступают натиску острия, издавая тихие мелодичные звуки рвущихся струн.
Лиана поддалась.
И тогда одна крупная капля пота оторвалась от переносицы Странника и полетела вниз, на балки, разбрызгавшись на скользком дереве и сдвинув миниатюрную волну воздуха.
Щупальца выстрелили с хрустом раскрученных цепей.
Время рванулось вперед и затормозило, утонув в водопаде гиперадреналина, который наполнил его вены.
Очень много вещей произошло одновременно.
Он бросил нож за спину, ударил ладонями в бревна, подбрасывая тело в воздух и ухватив моряка за пояс, стараясь при этом не вырвать ему внутренности.
Ворон пал с неба с карканьем, растянутым в мычание трансформатора.
Отростки прорезали воздух тысячью черных лезвий, колеблясь, словно водоросли в приливе.
Какой-то темный вращающийся предмет пролетел совсем рядом с головой Странника и с грохотом воткнулся в балки помоста, прибивая к ним летящие лианы.
Оба, Драккайнен и моряк, повалились на спину на траву и камни.
Он услышал крики нескольких человек и внезапно с удивлением понял, что слышит понятные слова и что время течет нормально. Свет казался ему удивительно ярким, звуки – ненормально резкими.
Он сел в траве.
Один из прибывших, жилистый моряк с красными волосами, резал штаны сотоварища и пытался остановить повязкой кровь.
– Кости целы. Ходить сумеешь, – заявил.
– Я думал, мой кум сбежал.
– Он побежал за нами. Мы бы тебя вытянули.
– Нет, – коротко ответил моряк. – Вы бы туда даже не вошли. Оно порезало бы вас в клочья. Это сей муж меня спас.
– Как он это сделал? – спросил огромный тип без рубахи и с татуированным черепом.
– Осторожно, – ответил Драккайнен и встал, ища нож. – Зачем ты туда полез?
– Никто, у кого есть хоть капля ума, не разговаривает таким тоном с Атлейфом Кремневым Конем, стирсманом Людей Огня!
– Никто рассудительный не станет обижаться на рассудительное замечание, Грунф, – ответил юноша. – Я пошел, потому что услышал крик страдающих людей. Я не любил дядюшку, но жизнь бы отдал за Хродин, мою тетку. Думаю также, что даже такой козел, как Скифанар, не должен так страдать. Никто не должен.
– Я тоже их слышал, – сказал Драккайнен. – Но мне пришло в голову, что люди не могут жить без еды и воды, мучимые несколько лет.
– А то, что ветки обычно не двигаются, не пришло тебе в голову?
Драккайнен нашел нож и спрятал его в ножны.
– Сожжем это, – сказал рыжий моряк, обвязывая приятелю лодыжку. – Будешь хромать, опираясь на костыль, как дед… Сожжем весь двор.
– Думаю, оно не захочет гореть, – заметил Вуко с сомнением. – Оно как железо.
– Мы это так не оставим, – заявил Атлейф, пытаясь подняться.
– Тут дело не только в твоей тетке, – отозвался молчавший до тех пор старший моряк с постриженной оранжевой бородой и связанными на затылке волосами. – Страндлинги станут делать вид, что здесь ничего нет, в лучшем случае – брать деньги за то, чтобы показывать это любопытным. Если это растение, оно может разрастись. Был у меня когда-то жгучий куст в саду. Забыл я о нем и пошел в море. Через год пришлось выжигать все, потому что заросло до роста взрослого мужа. Но этот человек прав. Это может не захотеть гореть. Это семя песни богов.
– Принесите сюда несколько якорей, – посоветовал Драккайнен. – Железную перекладину, много цепей и четверную запряжку волов.
– А кто ты таков, чтобы нам советовать?
– Тот, кто спас жизнь другому человеку, хотя не должен был, – заметил молодой Атлейф.
– Когда умный муж советует, лишь глупец не слушает, – поддержал его оранжевобородый. – Попытаемся сделать, как он сказал, – поджечь можно всегда. Я – Грунальди Последнее Слово. Как тебя зовут?
– Ульф Нитй’сефни, Ночной Странник.
– Ходить лучше днем. Ты чужеземец?
– Издалека. Ищу моих земляков, исчезнувших пару лет назад.
– Однако зовешься ты – по-нашему.
– Называюсь по-своему. Говорю, как бы это звучало на вашем языке.
Молодой моряк подошел, хромая, с вытянутой ладонью и поприветствовал Драккайнена так, как здесь было принято: сжимая бицепс и хватая второй рукой за загривок.
– Ты спас мою жизнь. По-моему, это значит, что ты – хороший человек, Странствующий Ночью. Я – Атлейф Кремневый Конь.
Привели волов, принесли якорь, цепи, даже какую-то драгу для вырывания водорослей. Вокруг уже собрались десятка два зевак.
– Из того не выйдет ничего хорошего, – кричал кто-то.
– Нужно все крюки бросить одновременно – и сразу погонять волов, – сказал Драккайнен. – Я видел, насколько быстры эти отростки. Порежут цепи и железо раньше, чем вы оглянуться успеете.
– А я бы все поджег, – предложил Грунальди. – Взял бы с корабля две бочки горючего для катапульты. Может, это их, по крайней мере, ослабит.
– А как подожжешь?
– Ты не видал «драконьего масла»? Оно само загорится на воздухе.
Отростки схватили бочонки, едва те полетели, один – еще в воздухе. Доски моментально треснули, расплескивая вокруг грязно-желтую мутную жидкость, которая тут же начала дымиться, а через несколько секунд взорвалась ревущим, коптящим, густым черным дымом и пламенем, что встало под самую крышу.
Двор взорвался воплями мучаемых внутри людей.
Отростки начали скручиваться и бить воздух, волоча за собой ревущие веера огня, но было не понять, насколько это им вредит.
– Якоря! Сейчас! – заорал Атлейф.
Крюки полетели, волоча за собой цепи, и упали в клубок вьющихся отростков.
– Погодите, пока они натянутся, – закричал Драккайнен. – И тогда погоняйте волов!
Волы напоминали скорее мастодонто-буйволов, скрещенных с носорогами, но выглядели мощно, как подвижные горы жилистых мышц, пульсирующих под бронзовой шкурой.
Странник глядел, как мощные тройные копыта погружаются в траву, как из ноздрей животных вырывается пар. Запряжка двинулась.
Медленно, метр за метром, отростки натянулись, звенья цепей начали трещать.
– Вперед! Вперед! Хоооо! – надрывались погонщики, охаживая зверей кнутами.
Один из стеблей, растянувшийся до предела, внезапно лопнул и мелькнул в воздухе. Зеваки упали на землю.
Очередные отростки стеганули в натянутую цепь и закрутились вокруг звеньев. Потом следующие и следующие: вскоре уже все отростки, сколько их видел глаз, держались за крюки. Запряжка встала. Волы продолжали тянуть. Копыта вбивались в землю, с морд и боков падала пена, но черный плющ не давал себя вырвать.
За впутавшиеся в ветки натянутые цепи цеплялись уже все стебли.
Одна из цепей внезапно издала тонкий звук.
– Все внутрь! – заорал Атлейф.
Они припустили галопом, доставая ножи, и только Грюнальди одним незаметным движением выдернул из рук местного зеваки копье.
Драккайнен бежал вместе с остальными, но пожалел об этом уже через миг. Это была глупая идея.
Сарай горел с ревом, столп темного дыма валил в небеса.
Отростки черного плюща стегали вокруг, но вели себя слегка дезориентированно. Молотили горящий дом, секли клубы дыма и скачущее по крыше пламя, резали падающие вокруг горящие балки. Внутри их росло намного меньше, чем вокруг двора.
Драккайнен, ругая на трех языках собственную глупость, проскочил над вьющейся по земле веткой, Грюнальди ткнул в клубок лиан копьем, и отростки моментально оплели древко.
Моряк дернул, и ему удалось освободить оружие, хотя теперь все оно было в насечках и с гнутым острием.
При виде женщины все на миг замерли.
Она лежала на крыльце, оплетенная черным плющом. Листья, словно вырезанные из прокоптившейся жести, покрывали ее голову как парик, тонкие отростки втыкались в сморщенную восковую кожу. Было видно лишь половину лица и один страшный вытаращенный глаз, из которого тек ручеек слез. Из открытого рта несся непрерывный горловой крик, слышный даже сквозь гул пламени.
– Хродин! – крикнул Атлейф.
– Не прикасайся к ней! – рыкнул одновременно Драккайнен, хватая его за плечо.
Молодой моряк смотрел беспомощно, а его руки опустились. Женщина кричала все время, подергиваясь под вспарывающими ее кожу черными листьями.
Большой лысый моряк с татуированным черепом растолкал их и молниеносным движением воткнул клинок женщине под подбородок. Хродин дернулась, напряглась, а затем обмякла.
Нашли еще двух людей в разных местах. Один был давно мертв, не осталось и следа от опутывающих его веток, от второго уцелела лишь голова, но голова эта, оплетенная ветвями и листьями, словно ужасающий плод, продолжала кричать. Атлейф без слов ткнул ее ножом за ухо, и крик через минуту стих.
Главный зал напоминал оранжерею. Лианы вились по полу и стенам, а на противоположном конце стола в большом резном кресле сидел Скифанар Деревянный Плащ. Плющ оплетал его руки, входил под сгнившую кожу, обвивал кости и двигался вокруг головы.
– Убей меня! – крикнул он поразительно ясно при их появлении. – На милость Скинги и мужество Хинда, Атлейф, сын Атли, убей меня!
– Не пройдем, – сказал Грюнальди. – Они уже нас видят.
Лианы на стенах и полу уже приподнялись, скрежеща листьями, звеневшими словно кусочки жести.
– Позади тоже худо, – проговорил он тем самым деловым тоном. – Все уже на подворье.
Драккайнен повернулся и плавным движением забрал у него копье.
А потом развернулся и взял замах.
Все длилось мгновение. Грюнальди не успел и рта раскрыть.
Странник одну секунду еще держал оружие в руках, а в следующую – оно уже вырастало изо лба Скифанара, наполовину выйдя из спинки кресла. Хозяин подворья миг-другой вздрагивал, стискивая выгнутые пальцы, потом напрягся на сиденье и обмяк.
Отростки выстрелили из стен и оплели древко, режа его на куски, но вдруг сделались недвижимы.
Раздался странный глухой звук, словно скрип гигантских железных дверей в гараже, а потом грохот, словно в бочку просыпались гвозди.
Установилась тишина. Слышен был лишь рев пламени.
Плющ обвис и перестал двигаться.
Драккайнен молчал, глядя на неподвижное тело, оплетенное черным плющом. Молчал – только желваки ходили.
– Принцесса заснула, – процедил. – Убираемся отсюда.
Огонь уже достиг крыши, и всюду длинными тонкими лентами тянулся дым.
Стебли лежали на земле или оплетали стены, но в них было не больше жизни, чем в обычных растениях.
Странник пнул лежащую поперек дороги ветвь, взбивая облако рыжей пыли.
– Уже ржавеет, – сказал.
Они вышли из ворот совершенно спокойно.
Зеваки радостно вопили и рассматривали огромный клубок отростков, выволоченный волами.
Атлейф оглянулся и в молчании смотрел на горящий двор. По щекам его текли слезы.
* * *
Молодой плачет. Ничего странного, ему ведь лет двадцать, а то и меньше. А один из его людей убил женщину, которую он любил. По его просьбе. Кем она была для него? Любовницей? Опекуншей? Не понять было, сколько ей лет.
Не могу отогнать картинку копья, плывущего в воздухе и с отвратительным звуком пробивающего череп старика. По сути, тот уже был мертв и не было времени на что-то еще. Но это ничего не меняет.
Это уже второй.
Тот был деревом, этот – живым трупом, вросшим в железный плющ.
Не знаю, что я вижу.
Не понимаю, что я вижу.
Но я знаю, что убил уже двух человек, поскольку иначе не мог им помочь. Если бы не цифрал, пришлось бы совсем худо.
Я сажусь на земле и дрожащими руками вынимаю трубку. От усталости мне плохо.
Изнутри горящего двора выходят еще двое. У них серые окаменевшие лица.
Грюнальди вытирает нож о траву и медленно поднимается.
– Это все, – говорит коротко.
– А… дети?
– Все.
Двор горит.
Криков уже не слышно.
– И часто такое у вас бывает? – спрашиваю я, ставя на стол жбан пива.
– Чем к дому ближе, тем рассудительнее доблестный муж серебро достает, – отвечает Грюнальди Последнее Слово. – Но и у нас случается, что один другому покупает пиво.
– Спрашиваю о движущихся терниях из железа. О призраках в холодном тумане, которые могут убить. О странниках, что могут запереть двор живыми оковами. Единственным словом, как я слышал. О людях, которые тонут в сухой земле, остаются превращенными в камень или врастают в дерево. О коне, что появляется в грохоте среди пустоши. О говорящих воронах.
Он наливает себе до краев и пьет без слов, а потом вставляет рог в округлое отверстие в столешнице.
– Когда я был моложе, говорил, что все это сказочки. Байки, которые рассказывают от скуки среди зимы. Но теперь я – муж в расцвете сил и много повидал. Не знаю, что из этого было правдой, но даже если лишь половина, значит, то, что болтают о войне богов, – истинно. Откуда ты прибыл, что спрашиваешь о таком?
– Издалека. Из такого далёка, что у нас такое – лишь сказки.
Он пожимает плечами.
– Чем дальше ты от дома, тем дольше его не видишь. Откуда ты знаешь, что там теперь происходит?
Он мочит палец в пиве и рисует им бессмысленные черты на столешнице.
– Некогда случалось, что бога встречали лицом к лицу. Раз-два в жизни. Мой отец встречал, когда был молод. Едва не помер тогда от страха. Боялся, что станет избранником. Был то Урд Ловец. Знаешь, как оно бывает с богами. Странствуют по миру и кажутся нормальными людьми. Этот выглядел как ребенок. Двенадцатилетний парень, одетый в шкуру горного волка, с его клыками на шее и рогом шипастого оленя в руке. Старик был не дурак, а потому сразу дал деру. И тогда тропку ему перегородила лавина, а по камням съезжает тот парень, только в три раза больший. Вокруг сияние, и идут отовсюду звери. А он смотрит на отца и спрашивает: «Не хочешь быть героем сказаний?» Старик – мол, ни за какие сокровища мира. Известно ведь, чем все заканчивается, если бог тебя заметит и что-либо захочет. Так ему отец и сказал. А тот смеется и говорит: «Ладно, значит, ты со мной не сыграешь. Уходи». Отец ушел и жил себе дальше. Но клянусь: за всю жизнь не случилось с ним ничего интересного. Ничего. Ни хорошего, ни плохого. Когда шел на охоту, длилась та до полудня. Всегда кто-то выходил и подставлялся под выстрел. Такое – не большое, не маленькое. Среднее. Хотел он поплыть за море, и удалось ему это чуть ли не с пятого раза. Поплыли же едва-едва за отроговые острова, и попалась им дрейфующая купеческая галера. Куча товара и трое больных амитраев. Они забрали все – и домой. Не было смысла искать чего-то еще. Поплыл и еще раз, и куда бы ни отправлялся – там стоял туман. Никуда не мог попасть, потому вернулся. Еще пара таких происшествий – и разошлась весть. Никто не хотел брать его к себе на борт. Такая жизнь была у моего старика. Пошел свататься, так его сразу приняли. Девица – не умная и не глупая, не красивая, не страшная. Ну скучная. Так вот и жил. Только поле, бараны, рыба, баба и детишки. Всю жизнь только и смотрел, как дождь каплет с крыши, как мелются зерна да как растет урожай. Стал от тоски пить. Когда умирал, сказал, что теперь с ним хоть раз что-то случится.
– Славная история. Скажи мне, Грюнальди, где я могу повстречать Песенника?
– А зачем тебе Песенник? Мало проблем?
– Я уже говорил тебе, кого ищу.
– А отчего бы Песеннику о них знать?
– Потому что есть у него та… сила. Пусть бы для чего-то пригодился.
– Скажу тебе кое-что о Песенниках. Самый лучший из них – тот, кто слишком мудр, чтобы творить. Полагаешь, тот, кто так ловко управился со двором Скифанара, был силен? Я тебе говорю, что он до сих пор и ведать не ведает, как все сделал. Разозлился слегка, да пошел себе. А оно случилось само. А двумя днями позже потерял он перочинный нож и разозлился на самого себя, а потому – и сам он теперь лишь куча того плюща. Так оно и случается с теми их песнями. Был у нас один, который хотел, чтобы девки не могли ему противиться. Обычная штука – песни богов, они как золото, особенно те, о которых рассказывают в сказочках о богах. Что-де посмотрит на любую, побормочет – та и станет его любить. Нашел какого-то странствующего одноглазого деда, который сказал, что его научит. Потом полез в урочище. Обычно урочище таких убивает, но этому – удалось. Получил свою песнь богов. Забыл только научиться, как такое снимать. Девки ходили за ним по хате, сидели на яблонях, но не уходили. Он сбежал наконец – так его достали их родные, придушили, перерезали глотку, бросили в трясину и проткнули колом. А те женщины так его и ждут. Их даже силой оттуда не уведешь. Постарели уже, а все ждут. Стоят у дороги и смотрят. Нет, брат. Песни богов – они для богов. Человек над этим не властен. Бывают такие, что берут Песенников на корабли. Пусть, мол, отводят копья и стрелы врагов, отгоняют огонь и зовут ветер. Такие редко возвращаются. Даже доски от такого корабля потом не сыщешь. Потому что, видишь ли, стрела, которой ты изменил полет, должна куда-то упасть. Ветер, который прибудет на зов, приведет шторм или штиль на пару дней. Песенник гнет линии судеб, а те сразу превращаются в узел. Все, что ни вычаруешь, возвращается после дважды – и всякий раз в худшем виде, или мир вокруг становится хуже. Ничего не бывает задаром.
– Хочу только такого увидать. Хочу понять, что оно такое.
Грюнальди отпивает еще глоток и почесывает под ермолкой. С огненной бородой и желтыми волосами, он должен бы выглядеть как клоун, но не производит на меня такого впечатления. Разве что я пообвыкся. Славный парняга, может, мне и поможет.
Я их не найду. Нужен след. Камешки на дороге. Но у меня нет ничего. Нужна гипотеза. Рабочее объяснение. Без этого я просто стану таращиться с открытым ртом на все более странные происшествия. Ищу я четырех человек среди тысяч на диком континенте. Миллионы гектаров леса, гор и пустошей. Тысячи селений и ни одной карты. Нет ни документов, ни властей. Человек зовется как представился. Здесь, если никто тебя не запомнил, ты не существуешь.
Вокруг нашего столика то и дело проходит некто, кто, с точки зрения местных, чудаковато одет и не знает языка. Огромный детина с растянутыми ушами и выпуклыми узорами шрамов на медных щеках, одет лишь в вышитый жилет и шаровары. Потом проходит некто в белом плаще, скрывающем тело; он очень высок и худ, но не понять, какого он полу. Глазную щель закрывает сетка из висюлек, не видно даже глаз, из клубов белых складок выступает лишь худая рука, держащая резную костяную тросточку, что заканчивается пучком красных конских волос. Никто не обращает на них внимания. Моим ученым, чтобы их запомнили, пришлось бы въехать сюда на розовом кадиллаке 1957 года.
Слишком много здесь суеты.
– Езжай с нами, – предлагает Грюнальди. – Если не найдешь своих, то перезимуй у меня. Поплывем вверх Драгорины в страну Огня. Может, и Атлейф захочет, чтобы ты остался при его дворе?
Я улыбаюсь:
– Поглядим.
– Немного нас возвращается в этом году, – говорит он неожиданно. – Выплыли мы тремя кораблями. Три прекрасных траккена, по пятьдесят парней на каждом. Возвращаемся одним и вдвадцатером. Это не будет веселая встреча.
Я поднимаю бровь, но он одним глотком выпивает содержимое рога и больше ничего не говорит.
Я оставляю его на время и иду чего-то искать. Сам, собственно, не знаю чего.
Меня учили множеству вещей. Я могу разговаривать на шести местных языках, могу видеть в темноте, исчезнувших землян сумел бы даже вынюхать. Но не через пару лет.
Кружу вокруг прилавков. Их становится все больше. Рядом со стационарными конструкциями, сбитыми из бревен и прикрытыми навесами, у которых торгуют местные, встают повозки, с которых продают шкуры, оружие, украшения, гвозди, всякий товар. На пустом еще утром лугу, рядом с устьем, стоят шатры и ограды, в которые сгоняют скот и лошадей. Во фьорде то и дело появляются новые волчьи корабли. Сворачивают свои похожие на жалюзи паруса, бросают якорь и встают, где кто сумеет. Толпа растет с каждой секундой. Горят костры, слышны барабаны и песни. Куда ни глянь, даже на дальнем противоположном берегу моряки ставят шатры. Достаточно двух козел у бизань-мачты, на которые кладется бом и сверху набрасывается парус.
Берег и границы лагерей патрулируют группки вооруженных людей, следящие, чтобы ни один моряк не прихватил в город оружие посерьезнее. Сами же – чуть ли не сгибаются под тяжестью. Шлемы, щиты, копья, топоры, мечи, панцири. Полный набор, что грозно похрустывает и сверкает на дневном солнце.
Между прилавками уже приходится проталкиваться. Я осматриваюсь. Все время проверяю сотни лиц вокруг – женских, мужских, белых, медных, с кожей зеленовато-оливковой и сине-голубой, – регистрирую сотни косиц, бород, усов, хвостов, чубов, татуировок; вижу наполненные бронзой, синевой и чернью нечеловеческие глаза, пропуская сквозь уши тысячи слов на нескольких языках. Выслеживаю.
Почти бездумно, но знаю, что довольно услышать знакомое слово или увидеть человеческий глаз с круглой радужкой в обрамлении белка, округлое лицо, нос картошкой или оттопыренные уши.
Места, которые можно принять за стационарные магазины, склады и конторы, находятся там, где дома стоят у самого берега фьорда. Это мрачного вида бревенчатые строения, полные товаров либо заставленные тяжелыми столами. Здесь – резиденции самых серьезных купцов. Они сидят на табуретах перед своими зданиями или на краю помоста, пьют пиво, болтают либо играют в плашки. Единичных рабов, коней и скот покупают на площади. Там правит деталь. Здесь же торгуют стадами, десятками людей и целыми кораблями товаров. Это заметно.
Вот престарелый человек сидит на бочке и смотрит из-под прищуренных век на идущие по реке «волчьи корабли». Соседи его суетятся у прилавков и выкатывают бочки, полные пива, туда, где более всего жаждущих глоток, выкладывают кипы курей и рыб или торгуются за заморские товары. Там сплошные крики и театральность, споры из-за каждого коня и круга воска, из-за каждого комочка благовоний и отшлифованного кинжала. Но там текут медяки, самое большее – тонкие серебряные бляшки. Из рук в руки переходят горсти монет, «раковин», в лучшем случае – марки и шекли.
Здесь по-иному. Этот даже задницу не оторвет. Сидит и обрезает ножичком кусочки сыра. Но достаточно взглянуть на вышитый шелк его кафтана, на сапоги с серебряными украшениями, на пучки охранных амулетов, привезенных со всего мира, на лоснящийся серебром мех, который он подложил себе под зад. Взгляните на выложенные снаружи магазина товары, прикрытые куском сукна, увидьте прекрасно выполненные весы из полированного золота, серебра и кости, что все время у него под рукой. На них взвешивают золото и драгоценные камни. Здесь звенят тяжелые кроны, денары и гвихты.
Посмотрите на скользящих внутри магазина мужчин, ни на миг не откладывающих топоры и не спускающих с него глаз. Позади дома, там, где складируются товары, их еще больше. Хватит и одного свиста.
Взгляните на маленькие сбитые из толстых досок тяжелые двери, покрытые полосами железа и бляхами оковки. Они подперты колышком, а значит – закрываются сами по себе, достаточно пнуть деревяху. Мощные крюки монструозного засова.
Ибо здесь продают целые стада животных, торгуют вывезенными с другого конца мира принцессами, продают регалии и магические мечи. Здесь меняют владельцев целые корабли и фургоны товаров.
Там, на площади, свои дела проворачивают моряки и рулевые. Сюда приходят торговать стирсманы.
Оттого он сидит неподвижно, пока остальной город крутится в поте лица, желая использовать эту единственную в году страду. Осенняя ярмарка. Время, когда «волчьи корабли», наполненные добычей, возвращаются и когда приезжают истосковавшиеся, голодные моряки с поясами, набитыми серебром. Весь город закатывает рукава и бросается зарабатывать. Кто чем сумеет. Котелком, бочкой пива, руками, ртом, дыркой. Всем можно заработать в осеннюю ярмарку.
Лишь эти несколько десятков человек сидят в лучах дневного светила и ждут, пока клиенты сами к ним придут.
Здесь нет отрядов полиции, нет и короля. Высшая власть – именно они, сидящие под стенами на резных табуретах из благовонного дерева. Если кто-то и вправду знает что-то об этом месте – именно они.
Я нахожу корчму. Мрачную будку, перед которой стоит несколько лавок. Они почти пустые. Там, у устья, можно присосаться к бочке пива, размахивая рогом и звеня монетами.
Здесь жбан пива стоит двенадцать «рубленых». Заградительная цена. Равноценна четырем жбанам пива и нескольким бараньим бокам там, подальше.
Наконец: «Хозяин, пива!» Бросаю целую марку.
Покупаю и сажусь, как они, глядя на движущиеся по реке корабли, которые обгоняют друг друга, стараясь не сталкиваться с плывущими на якорную стоянку подле другого берега весельными лодками, полными моряков, и со все большим трудом ищут место для причаливания.
Пиво здесь и вправду намного лучше, но все же это не «Карловацкое», не «Хайнекен», не «Тысское».
Не видно, чем занимаются отдельные купцы. Я сижу и пытаюсь вычислить, кто из них самый богатый. С которым я захотел бы поговорить, будь брошенным в чужую культуру ученым.
Ученые не забрали всех денег со станции. Забыли? Не нуждались в них? Убегали слишком поспешно? Посчитали, что у них достаточно много, и не захотели вспомнить о сундучке нумизматов в лаборатории?
Эти сидящие на побережье люди – элита. Даже если мои лишенцы не искали у них помощи, любая значимая весть должна была до них дойти. А это товар, который я хочу купить.
Попиваю пиво и кривлюсь. Набиваю трубку и поигрываю тяжелым золотым гвихтом. Он размером с пять евро, только раза в три толще. Где-то тридцать граммов золота. Продай я его на mjenjačnicy на Хваре, мог бы на вырученные деньги позволить себе хороший ужин. Или даже два.
Здесь на это можно прожить полгода.
Погано обработанная монета мало пригодна для жонглирования. Я вращаю ее между костяшками пальцев и приказываю ей кувыркаться к мизинцу и назад. Это одно из упражнений, которое, повторяемое до изнеможения, по мнению Левиссона, готовило меня к обучению драке на ножах.
Я обращаю на себя внимание. Это-то мне и нужно.
Никто на меня здесь не нападет. Не на этом берегу, не между изысканными «бутиками» уважаемых купцов.
Корабли крутятся по фьорду все беспомощнее. Крики, нервные маневры на парусах и веслах, проклятия.
Беда, парни, тут – жопа. Придется вытягивать корабли на пляж. Тяжелая работа, но она – ничто по сравнению с тем, как придется их подкапывать и буксировать назад в море. Можете пойти дальше, вверх по реке, но течение там сильнее, а дно – мельче и каменистее. Но это ничего, «волчьи корабли» умеют плавать по мелкой воде и по рекам.
У нас причаливание в сезон – бизнес. Здесь – сплошная партизанщина, наверняка они даже не придумали портовый сбор.
У меня есть время.
Играю с золотой монетой.
Потом оставляю дорогое пиво в жбане и вхожу в одну из контор.
– Да благословят тебя боги, и да не увидят тебя притом, добрый человек, – кричу я и продолжаю поигрывать гвихтом. Оглядываю оригинальное оружие, висящее на стенах; тюки ценных шкурок кажутся призраками снежных лисиц.
В воздухе витает запах каких-то экзотических благовоний и смол.
Он встает и легонько улыбается, пряча ладони в подмышках. Стоит в дверях, загораживая мне путь. В глубине комнаты, за грудой окованных сундуков, два потных и пахнущих свежевыпитым пивом мужика встают с табуретов и стискивают короткие, удобные в тесном бою топоры. Я их вижу. У одного изжога, второй прихрамывает на левую ногу – может, тесный сапог.
– Хорошо сказано, пришелец, – говорит купец ласково. – Хочешь что-то купить у Копченого Улле?
– Кое-кто говорил мне, что у тебя есть деющие предметы. Но я говорю об истинных. Тех, что прибыли издалека и вправду что-то делают.
– Ступай на площадь. Там полно тех, кто их продает. Спроси у моряков. Они привозят разные вещи и даже не знают, что оно такое. Я в такое говно не играю.
– Мне нужно кое-что особенное. А площадь я уже видел. Прибыл издалека, но даже я знаю, что стоящие вещи не продаются на прилавках. Ищу то, что появилось уже давно.
– Тогда ступай двумя домами дальше, где обитает Груль Соломенный Пес. Может, у него что-то найдется. Это золотой гвихт?
Я делаю простенький фокус с монетой и дую себе в кулак. Показываю ему пустую ладонь.
– Нет торговли – нет золота.
Поворачиваюсь к дверям, но на самом пороге останавливаюсь:
– А может, Копченый Улле, кто-то продает невольников, но – особенных? Я ищу двух чужеземных женщин: одна – повыше рослого мужа, но худая, с волосами как солома, а вторая – нормального роста, но с волосами цвета сажи и кудрявыми, будто овечье руно…
Я описываю других оставшихся в живых членов экспедиции, не забыв упомянуть о «слепых» рыбьих глазах, которые, однако, видят, и о шершавом языке. А еще о том, что они могут сойти за безумцев или Песенников.
Он придвигает табурет и садится передо мной, смотрит глазами, похожими на капли смолы, в которых я ничего не в силах прочесть.
Я присаживаюсь на столе, на котором высятся рассортированные в деревянные коробочки безделушки.
– Есть и еще одна вещь, которой обладает всякий хороший купец и за которую я тоже отдал бы золото. Это известия. Известия о людях, которых я описал. Может, они появлялись здесь или в каком другом месте? Может, продали или совершили нечто странное? А может, это их продали? Знаешь что, Копченый Улле? Я дам тебе этот гвихт. Как аванс. Если не узнаешь ничего, отдашь его мне, – я улыбаюсь так сладко, всеми зубами, словно волк. А потом мечу монету в бревенчатую стену.
На самом деле это несложно. Вопрос стабилизации броска и начальной скорости. Ну и запястье. Еще нужно знать, что золото – мягкий металл. Монета никоим образом не перерубит древесные волокна. Просто нужно метнуть в горизонтальную балку – тогда она войдет между волокнами.
Однако произвожу впечатление. Добрые люди из другой комнаты сталкиваются в дверях, но замирают при виде повелительно воздетой руки владельца конторы.
– Пряного пива, – говорит Копченый Улле. – Холодного. Прямо из колодца.
Значит, мы уже друзья. Попиваем напиток, в котором драгоценные приправы перебивают сивушный дух.
Улле вынимает нож, и через некоторое время ему удается выковырять гвихт из балки. Внимательно осматривает его, после чего бросает на чашку весов и постукивает базальтовыми гирьками.
– Если в будущем станешь мне платить, не втыкай всего в стены, – бормочет.
Потом ведет меня узким проходом между избами. Здесь смердит мочой, прогнившие доски под ногами чавкают в грязи.
Потом он приказывает ждать. Я стою на маленькой улочке, слушаю псов, что лают за частоколом двора, и меланхолически раздумываю, происходит что-то или Копченый просто пытается меня надуть.
Наконец открывается одна из створок, и меня приглашают внутрь.
На подворье растет несколько плодовых деревьев, на траве поставлены стулья и столик. Копченый ждет вместе с приятелем – сморщенным дедуганом с кадыком, так сильно торчащим из обвисшей шеи, что на нем можно повесить шляпу. Это Мальфаст Летящий Камень. Честной муж, который знает все о странных невольниках.
Я сажусь с ними, получаю зеленоватую чару из толстого, пузырчатого стекла, мне торжественно наливают что-то отчаянно зеленое и пахнущее, как сироп от кашля.
Мальфаст хлопает в ладоши, и двое слуг отворяют врата дома, который я сперва принял за исключительно длинный сарай. Выводят довольно высокую женщину, по самую макушку закутанную в красный плащ с глубоким капюшоном.
Я молчу.
С нее снимают плащ. Под ним – девушка голая; у нее совершенно белая кожа, покрытая сложной геометрической татуировкой, черной и красной. Длинные волосы цвета снега, завязанные узлом. Она открывает татуированные веки, и я вижу белые глаза; сквозь белизну просвечивает красная радужка. Ровный хребет узкого носа тянется почти вертикально, девушка выглядит совсем как змея.
– Она слепа, – отзывается хриплым, очень громким голосом Мальфаст. – Как ты и хотел. Слепа, но видит, как ты и говорил. Ее свет – тьма. Днем едва видит, однако ее стихия – прикосновение. Не переносит света, даже кожа ее этого не любит. Нужно держать ее в темноте и закрывать от света. Происходит из далекой страны. Она – жрица чужеземной богини, которая зовется Иррханна. Храмы ее – темные пещеры, а культ состоит в общении с мужчинами и женщинами. Ей все едино. Видит в темноте и видит прикосновением. А прикосновение ее – нечто, что невозможно забыть. Мало ест и поет своей богине, но это безопасно, потому что она очень издалека. Зато совершенно не говорит. Пять гвихтов золотом. Истинное сокровище.
Я делаю глоток напитка и понимаю, что его – при определенной жалости – можно посчитать вином. Пахнет как жидкость для ванны.
Качаю головой.
Молча. О чем тут говорить? Теперь я – богатый извращенец, любитель странностей.
Тогда, возможно, горбатый меднокожий дедок с длинными, до пояса, серебряными волосами и одной рукой? Стоит, ничего не говорит и поигрывает камешками, что держит в ладони.
– Этот родился совсем без глаз и притом – Деющим. Можно держать его дома без опаски. Неопасен для людей и скота. Благодаря своему искусству словно видит. Может прочесть скрытые вещи, если дать ему предмет, который кому-то принадлежал. Однако правда в том, что он из Кебира, и лучше его понимает тот, кто знает тамошний язык. Есть у него и еще одна песня – если дашь ему некую сломанную вещь, сумеет сделать так, чтобы части срослись. Это песни чужих богов и у нас не приведут ни к какому несчастью. Этого отдам за двадцать марок серебра.
Очередная невольница облачена во что-то, напоминающее золотистый облегающий комбинезон для ныряния, покрытый рыжими зигзагами. Приседает у стоп стражника, облизывая губы и опираясь руками в землю. У нее острые зубы и черные губы. На шее защелкнут ошейник с пристегнутой цепью.
– Эта, может, и не слепа, как ты хотел, но безумна. Богачи из далеких краев растят таких, как она, силой Деющих – для украшения и в собственную охрану, а еще ради охоты. Мех, которым она поросла, настоящий. Зимой будет гуще, а потому одежду ей можно не давать. Ей достаточно отдать приказ, и она станет сторожить двор. Но придется держать ее отдельно от собак, потому что погрызутся. Не будет иметь потомства с обычным мужчиной, но трахать можно, ежели кому нравится. Стоит тридцать марок серебром.
Я потираю лоб. Начинаю чувствовать усталость.
Однако продолжаю осматривать парад уродов. Есть странные мутации, но случаются и персонажи, странно искалеченные, будто специально деформированные. Однако ни у кого нет человеческих глаз, широких зубов, шарообразного черепа и оттопыренных ушей. Никто не напоминает Олафа Фьольсфинна, Ульрику Фрайхофф, Пьера ван Дикена или Пассионарию Калло.
Никто.
Это просто цирк уродов.
Как там говорил создатель одного такого цирка, некий Барнум? «Каждую минуту рождается лох»?
Появились обычные невольницы, только первосортные. Гибкие красавицы с разным цветом кожи, мускулистые мужчины. Я не умею читать по их глазам. Глаза белок и змей. Лишенные выражения камешки. Они в отчаянии? Равнодушны?
Это культура без технологии. С пленниками что-то нужно делать. Может, лучше приставлять их к работе, чем потрошить на ступенях пирамиды и выпускать кровь во славу Солнца и Пернатого Змея? Везде было так.
На Земле тоже.
Космическая постоянная.
Однако я чувствовал бы себя лучше, переполняй меня святое возмущение и чувство гуманистического превосходства. А я начинаю ловить себя на мысли, что меня тянет кого-нибудь купить. Например, эту стройную, как танцовщица, девушку с пурпурными волосами, клубящимися, словно облако. Она стоит, прикрывая рукой грудь, легко вздрагивая от холода или страха. С расстояния в пару метров и под солнцем она кажется красоткой. Несмотря на немного узковатый череп и слишком вытянутое лицо, как у всех здесь. У нее маленькие вытатуированные знаки на лбу и щеках, тонкие брови.
Представляю себе святое возмущение по ту сторону Вселенной.
Если ее не куплю я, купит кто-нибудь другой. Станет ее бить, морить голодом, унижать, вероятно, мучить и, может, убьет ее. Она станет вести жизнь домашнего животного. Ее станут гонять бабы, владелец или хозяйка – все. Она находится внизу иерархии, чуть выше коровы. Ее мир ограничится до одной из здешних вонючих хибар из бревен, кожухов, вшей и скользкого рыбьего жира. Она забудет, кем была. Потом состарится и перестанет быть красоткой. А значит, и дорогой.
При мне роль ее ограничится сопровождением. В постели тоже – не будем ханжами. Иногда – поможет мне. Я научу ее разным вещам, цивилизую. Это займет несколько месяцев, самое большее – год, даст бог. А потом, когда я отправлюсь домой, дам ей золота и помогу осесть. Станет большой госпожой и выстроит свою жизнь.
Когда я был ребенком, после шторма бегал по пляжу и собирал выброшенных волнами крабов. Собрал их штук сто, не меньше. Хватал и уносил в море за волны прибоя. Заняло это несколько часов, прежде чем я поднял глаза и увидел, что пляж по самый горизонт устлан умирающими крабами. Прошло столько лет, а я ничему не научился.
И вдруг я слышу, что ей – четырнадцать.
Пожалуй, я далековато от дома.
– Я ищу конкретных людей, а не похожих или вообще странных, Мальфаст Летящий Камень. Однако вы чрезвычайно мне помогли. Я не куплю ни одного из этих невольников, но дам вам еще марку серебром, если позволите мне осмотреть всех рабов, которые есть в городе у других купцов. Я не говорю о тех, кого моряки станут выставлять на площади, но об остальных.
Копченый Улле поглаживает щеку.
– Нынче невольников мало. Дурные времена, война богов. Все меньше походов отправляется по морю. Мужи сидят дома и сторожат. Но можем увидеть, что есть.
Вечером чувствую, что с меня хватит. Осмотрел еще с две сотни человек и пытался расспрашивать на шести языках тех, кто понимал, что я говорю. Никто никогда не видел моих лишенцев. Ни здесь, ни в странах, где их похитили. Молодые девицы льнули ко мне и обещали чудеса в постели, если я их куплю. Несколько более быстрых разумом рассказывали сказочки, в надежде, что это им поможет. Дети, стоящие в углу помещений, смотрели на меня перепуганными глазенками зверушек в норе. Хватали меня за руки и ноги. Девичьи руки скользили по завязкам ширинки, обвивали мою шею.
Некоторые, услыхав родной язык, впадали в истерику и выкрикивали известия, которые я должен был передать их родным. Проклинали Людей Побережья, собственных и чужих богов. Молили о помощи.
Но там не было того, кого я искал.
Паршивый день.
Я возвращаюсь на площадь. Та трещит по швам от криков, барабанов и флейт, все лавки и столы уже заняты; горят костры, на вертелах шкворчит мясо и рыбины, мутное пиво льется пенистой волной в кубки, рога, жбаны и горла.
Айтлеф и Грюнальди сидят на кусках меха у береговых скал, у них собственный костер и собственные бочонки с пивом. Кричат мне издалека.
Сидят там еще несколько похожих на них. Сдержанных и молчаливых. Но меня приветствуют с теплотой. Уже все наслышаны о черном плюще. Мы стискиваем друг другу бицепсы и загривки.
Мне подходит их компания. Вокруг – вопли, дикие танцы, какие-то чудаки догоняют хихикающих девиц, кто-то рыгает в волны. Здесь же сидит банда хмурых мужиков и смотрит в огонь. Обменивается ленивыми фразами.
Они потеряли сто тридцать человек и два корабля. Из них только пятьдесят в битвах и заморских приключениях. Остальные пропали недалеко от Побережья Парусов, на каком-то проклятом острове. Из-за некоего проклятия. Только и понятно из их разговоров, скупых и неохотных, а я не допытываюсь.
У меня есть собственные проблемы.
Куда ни гляну, вижу пляж, заваленный крабами.
Миллионами крабов.
* * *
Дурные намерения прохожего можно распознать сразу. Видно это по тому, как он идет в твою сторону, как смотрит, как держит руки. Миллионы знаков.
Мне вбивали это в голову.
И несмотря на это, по дороге к дому Лунфа Горячего Камня я позволил себе миновать одного сидевшего под стеною человека и напороться на двоих других, хотя фигуры их аж лучились от избытка адреналина и жажды убийства.
Даже трудно было назвать это улицей. Просто узкий проход между двумя частоколами. Под ногами – грязь, лужи, в конце улочки мелькает пес, сгорбленный, словно гиена.
Они выглядят заблудившимися моряками. Идут прямо на меня, дружески сплетясь руками. Тот, что слева, держит в ладонях узкий глиняный кувшин. Расцепляют руки, чтобы пропустить меня посредине. Так себе, двое покачивающихся пьяниц.
Меня ничто не оправдывает. Ни усталость, ни задумчивость, ни легко шумящее в голове пиво. Меня обучали именно для таких обстоятельств. Левиссон меня убил бы, увидь подобное. Никогда нельзя проходить между двумя людьми. Нельзя смотреть под ноги и раздумывать.
Не на темной улочке.
Тот, что справа, хватает меня за руку повыше локтя, а тот, что слева, выстреливает коварным низким ударом прямо в корпус. Удар идет крюком, не между ребер, но под лопатку. Тревожному режиму нужно две десятые секунды для активации.
* * *
А потом я стою на темной улочке среди смоляных теней и серебристого света одной из лун. В ладони моей лежит тяжелый серповидно изогнутый кинжал, который принадлежит не мне. Боль стекает от разреза в трапециевидной мышце – медленно и словно неуверенно. Двое лежат передо мной: один упирается в стену странно искривленной головой и невозможно изогнутой ногой – как тряпичный паяц. За мной третий стоит на карачках в грязи, словно бьет поклоны.
Он жив.
Дрожат мои ноги, и я совершенно не помню, что произошло.
Слышу хрип.
Это тот, что сидел под стеной, а потом внезапно вырос за моей спиной. Владелец кинжала. Теперь он стоит на четвереньках, отчаянно пытаясь зажать рассеченную сонную артерию; пальцы скользят в крови, что льется обильно, как вино из распоротого меха.
Тот, который меня ударил, как раз умирает. Его пальцы подрагивают все слабее, кажутся лапками растоптанного краба. Глаза движутся под веками, видна даже узкая полоска белка. Шансов у него нет. Как это было?
Помню, что прежде всего я ушел от клинка, который в растянувшемся времени словно затормозил, воткнувшись мне в бок, у лопатки. Словно погрузился в смолу, что внезапно залила весь мир. Все замедлилось, и лишь я проскользнул между секундами, слез с железа, которое уже начало меня убивать, и сплел свою руку с его, ставя рычаг на локоть.
Это было раньше, чем я сломал колено второму, или позже? А может, одновременно?
Наверное, раньше, потому что, услышав за спиной скрежет вынимаемой стали, вторую руку имел уже свободной. Мог сделать атеми – отвлекающий внимание удар в кадык и послать полуоборотом прямо под удар того сзади. Косой, быстрый удар двумя руками, который должен был перечеркнуть мне спину наискось, а развалил грудь человеку с ножом.
Потом я забрал у третьего саблю. Убил его тогда – или сперва того, со сломанной ногой?
Не знаю.
Он падал, поэтому я пнул его, и падение его изменило направление: он подлетел вверх, словно поднимался, только шея у него была уже сломана, а голова гротескно покачивалась, словно шея была лишь набитым песком рукавом.
Затем поворот и удар. Тот все еще стоял, не веря собственным глазам. Смотрел на приятеля, который внезапно вырос на пути его сабли, и на собственные руки, из которых исчезло оружие.
Тогда я перерубил ему шею и сбежал, запаниковав, из боевого состояния, словно оно было в чем-то виновато.
И тогда кувшин раскололся о землю.
А теперь я стою с чужим железом в руке, а вокруг умирают люди. И я уже кто-то другой, чем пять минут назад.
Теперь я убийца.
Чувствую скверную рвущую боль, напоминающую, что я еще не труп. Это не было нападением грабителей и не было пьяной дракой. Это было покушение.
Кто-то хотел меня убить.
Тот, с разрубленной шеей, мягко валится в грязь и большую лужу собственной крови.
Здесь воняет кровью, мочой и бойней.
Я обыскиваю тела. У них нет ничего характерного. Штаны, рубахи, куртки. Амулеты.
На поясах – небольшие кошели, ножи, какие-то ложки на цепочках. А чего я ожидал?
Документы?
Может, фирменные спички из ночного клуба с вручную написанным имейлом?
У всех – геометрическая татуировка на руках. Зигзагообразные узоры, напоминающие стилизованную колючую проволоку. Из-за этого их руки кажутся змеями.
И амулеты. Все здесь носят целые коллекции украшений из металла, кости и камня. Панически боятся проклятий и холодного тумана. Эта лубочная бижутерия должна их охранять. Однако шеи моих клиентов украшают лишь одиночные серебряные висюльки. Одинаковые. Две сплетенные змеи, напоминающие спираль ДНК.
Я срываю шнурок, прячу висюльку в карман, а потом мою окровавленные руки в луже.
Чувствую, как начинает деревенеть бок, а рубаха – липнуть к телу. Под мышкой вижу крупное пятно. Погано. Теряю много крови. Она уже пропитала кожух.
Серп я вкладываю назад, в ладонь владельцу. Могли ли они поубивать друг друга? Господин номер один ломает шею господину номер два. Господин номер три благодарит его серпом через грудь, а господин номер один в ответ хлещет его ножом по шее. Скверно. Зачем сворачивал шею, если имел нож? Но придется так оставить. Здесь, надеюсь, нет следственного эксперимента. Главное, чтобы меня здесь никто не видел.
Осматриваюсь, не оставил ли я следов. Разрываю рубаху и засовываю под мышку клубок полотна, прижимаю его локтем. Не хочу оставить за собой кровавый след и закончить в сети с огненными змеями, или чем там. Выходя из переулка, ступаю по камням.
Лунф Горячий Камень открывает мне сразу, будто ждал под дверью.
– Вор! – кричит. Я чувствую, как останавливается сердце. Ядран! Вещи! Лунф аж подпрыгивает от эмоций. У него в руке короткий широкий топор. – Отравил пса и перелез через частокол! По крыше! Мы уже спали!
Вор лежит навзничь на подворье, разбросав в стороны руки. Лицо его размолочено в кашу.
Я расталкиваю группку перепуганных домашних и распахиваю дверь. Засов чем-то перерезан. Ровно и гладко, словно лазером. Внутри меня приветствует глубокое урчание Ядрана.
Я прижимаюсь к большой башке и приставляю лоб к его лбу.
– Плохой человек, – слышу в голове. – Пришел плохой человек. Ядран не пойдет. Ядран и Вуко вместе.
– Все хорошо, – глажу его по шее.
– Твоя птица выклевала ему глаза, – рассказывает хозяин. – Едва он вошел в сарай. А потом конь оборвал постромок и лягнул его в голову. Убили его твои звери, – качает головой с тревогой и недоверием.
– Прикажи дать мне воды. Лучше горячей, – говорю я со все большим трудом, и мне кажется, что сейчас упаду в обморок. Мои колени трясутся. Посттравматический шок, потеря крови и усталость от битвы. Я хватаюсь за притолоку. Бок болит дьявольски.
Пальцы не слишком желают меня слушаться, когда я вытаскиваю огниво.
Лунф кричит, чтобы принесли воды, сам зажигает лампу.
– Теперь оставь меня на минутку.
Он уходит, а мне кажется, что на его лице я вижу страх.
Роюсь в сумах, сидя посреди рассыпанных вещей, но мне страшно хочется упасть в них лицом и уснуть.
Потом стою голый над ведром и подбиваю баланс потерь. Снова колет мое ахиллесово сухожилие, ожоги на спине еще болят, но нет открытых ран, на бедре – с десяток глубоких царапин от встречи с черным плющом, плюс этот удар в бок. Он неглубокий, мышца порезана, может, на полтора сантиметра. Плевра не задета. К тому же коллекция из нескольких более мелких повреждений, потертостей и синяков в разных местах. Я снимаю заскорузлую повязку, которой перемотал мне ногу один из Людей Огня, потом беру контейнер и забрызгиваю все раны пенным бинтом, который застывает в белые кляксы. В нем – клеточный клей, обезболивающее, энзимы, помогающие заживлению, и иммуноглобулины. Но при таком темпе придется недели через две пользовать жеваный хлеб с паутиной.
Я кидаю в кубок холодной воды две таблетки регенерационного комплекса, и в воздухе разносится запах цитрусов. Свежевыжатые апельсины, лимоны и мандарины. Выпиваю пенистый напиток, в ушах звенит мелодия из рекламы «Оранджина», и я чувствую, как на глаза наворачиваются слезы. Хочу домой.
На балке под потолком сидит огромная черная птица, похожая на ворона, и поблескивает на меня белым веком на черном, словно гагат, глазу.
– Тебя зовут Невермор, – говорю ему. – И ты остаешься со мной.
– Невермор! – каркает он. – Никогда!
– Наконец ты это сказал, – киваю довольно.
Моюсь, насколько удается, надеваю другую рубаху и штаны. Цифрал заливает меня потоком эндорфинов. Мир делается пастельно-плюшевым, тупая боль угасает, но резко и коротко простреливает при неосторожном движении. Жуткая тень в душе прячется по углам. Ну что ж. Так случилось. Такова жизнь. Не твоя вина. Могли тебя не убивать, тогда остались бы живы. Таков уж этот мир. Что поделаешь?
Исповедуешься? Позвонишь в полицию? Пойдешь на терапию?
Лунф приносит мне миску какой-то приготовленной темно-красной фасоли из крупных зерен, копченую рыбу и жбан пива. Молча смотрит на пропитанную кровью рубаху, проткнутую под рукавом, и столь же подпорченный камзол.
– Дай, – говорит. – Женщины постирают.
Я вытаскиваю отобранный у убийц амулет и показываю ему. Он сплевывает с отвращением и поднимает кулак, бормоча имя Хинда.
– Не носи это. Это знак Смейринга. Бога Змея.
– Кто это?
Он пожимает плечами.
Я высасываю зерна, выплевывая толстые шкурки, рву рыбу и стараюсь не есть как зверь.
– Бог земли Змея. Избегай Людей Змея. Это дурные люди. Нападают на всех – не только на врагов. Живут в горах. Хватают людей и отдают их Змею. Умеют свалить человека взглядом. А с того времени, как пришла война богов, говорят, их охватил холодный туман, и они обезумели. Откуда это у тебя? Они в этом году не появлялись.
– А появляются?
– Нынче мир осенней ярмарки. Все Люди Побережья тут. Но может так случиться, что в этом году стирсманы решат напасть на них. Всем уже надоело. Я слышал, что люди из страны Огня, и из страны Коней, и из Земли Соленой Травы жалуются, что смейринги крадут женщин и детей. Те отрицают и утверждают, что их забрал туман. Якобы нынче у них есть король, словно у чужеземных дикарей. Один, который над всеми и может всякому приказывать. Глупость. Помни, что я тебе скажу, чужеземец. Если пойдешь на море и увидишь черный парус с серебряным знаком танцующих Змеев, готовь катапульту и сражайся – или ставь все паруса и беги. Иначе похитят тебя и отдадут Змею. Ты кого-то убил? – спрашивает внезапно с интересом.
Я смотрю на него пустыми глазами. Молчу, а на губах моих расцветает ухмылка.
– Ты же видишь, у меня нет меча.
– Вора уже забрали, – говорит он. – Его голова окажется на копье под огненным деревом. Ради устрашения и чтобы напомнить о мире.
– О мире? – смеюсь я.
– Будут знать, что происходит с теми, кто нарушает мир.
Я криво улыбаюсь.
* * *
Рано утром я отправляюсь к Копченому Улле. На этот раз я наготове. На левой руке поблескивает браслет, нож я подвесил в шелках под мышкой, заслонив его полой кафтана. Предпочел бы прихватить и меч, но не рискую.
По дороге широкой дугой обхожу проклятущий переулок. Сомневаюсь, чтобы напавшие до сих пор лежали на улице, но неохота мне там шляться.
Двери в контору закрыты.
Копченый Улле для меня – первый подозреваемый, хоть я и понятия не имею, в чем тут дело. Приказал меня обокрасть? И только?
Непросто сориентироваться в архитектуре этих домов. Внутренние дворики, патио, одно подворье переходит в следующее, все закрыты стенами домов или палисадами из бревен. Не понять, где кончается один и начинается другой.
Подумаем. Взглянем, где заканчивается стена конторы. Каков наклон крыш.
Я сижу в той же корчме, что и до того. Дома прилегают один к другому, застройка побережья идет одной линией.
Я смотрю на кружащих по набережной людей и вижу: что-то изменилось. Исчезли все дети. Не бегают уже по набережной с деревянными мечами, не юркают меж юбок и штанинами прохожих, не сидят, замурзанные и голодные, на порогах домов. Исчезли бесследно.
Изменился и вид городских патрулей.
Кажется, их стало больше, но наверняка из-за того, что все теперь крутятся у берега. И нынче у всех в руках луки, а из-за спин торчат пучки длинных стрел. И стражники, и обычные прохожие полуукрадкой зыркают на реку.
На два «волчьи корабля», что колышутся посреди течения борт в борт. Прибыли ночью. На корме обоих вьются зубастые черные флажки, обшитые серебром, с символом, напоминающим спираль ДНК или обозначение медслужбы. Танцующие Змеи.
Похоже, никто не рад их прибытию. Ни обитатели Змеиного Горла, ни другие моряки. Между кораблями и стоящими на берегу людьми продолжаются переговоры. Но легко заметить, что все прибывшие на осеннюю ярмарку стоят на стороне обитателей порта. На кораблях не видно излишней нервозности, но отчего-то у катапульт в корзинах горит огонь, и словно невзначай рядом стоят по два человека: один при натяжном механизме, второй – возле установленных на стойке копий. Те толсты, смазаны чем-то, напоминающим смолу, и заканчиваются странными веретенообразными наконечниками, из-за чего похожи на противотанковые гранаты. На палубах все случайно одеты в кольчуги и шлемы, у всех под рукой луки и дротики.
Нет нужды быть мастером в оценивании сил. Если Люди Змея не перестанут задираться, осенняя ярмарка завершится резней, из которой ни один из них не уйдет живым.
Солидно выглядящий бородатый человек в синем плаще, стоящий на пирсе в окружении воинов, снова что-то рычит, указывая рукой. Ясно.
Люди Змея должны причалить к противоположному берегу в самом дальнем месте, а в сторону порта и к холму, на котором будет ярмарка, им придется плыть на лодках. Они чувствуют себя оскорбленными и уперлись – хотят оставаться на якоре там, где стоят.
Напряжение растет. Полагаю, все окрест стоят на берегу или на порогах домов и глядят на корабли Змеев. Все ждут. Посыплются ли вмиг стрелы? Хрупкий мир осенней ярмарки может лопнуть, как мыльный пузырь.
Змеи стоят, небрежно опершись о борта и ванты, развлекаются сжимаемыми в руках топорами и дротиками.
Когда я вхожу в корчму, одновременно активирую помощь.
* * *
Внутри было пусто. Драккайнен прошел мимо длинных лавок и проскользнул за кусок шкуры, что заслоняла вход. Сделал это мягким кошачьим движением, почти не качнув завесу. Сзади, в узком помещении, были навалены кучи почернелых бочек и несколько сломанных табуретов. Скрипнула дверь на подворье, и владелец корчмы прошелся коридором, неся по два пустых жбана в каждой руке. Прошел к дверям напротив и распахнул их пинком, после чего исчез внутри комнаты. Пятно тени между бочками вдруг приобрело человеческие очертания, и оттуда выскользнул Вуко. Бесшумно прошелся коридором и вышел во двор. Двери, посаженные на деревянные колышки, лишь слегка скрипнули.
Красноволосая девочка, что сидела с той стороны на крыльце с деревянной лошадкой в руке, окаменела при его виде, но Странник приложил палец к губам и без усилия перескочил на крышу сарая, что прилегала к каменной стене, оттуда – двумя длинными прыжками перебрался на крышу дома и исчез по другую его сторону. Все еще было тихо. Неестественно тихо во всем городе; только от набережной, где жители торговались со Змеями, доносились окрики.
Драккайнен съехал по крыше на спине и соскочил на мощеное подворье, после чего упал на четыре кости, словно кот; встал, кривясь и слегка прихрамывая на левую ногу.
Копченый Улле сидел неподвижно на лавке с разложенной копченой рыбой на коленях и смотрел на него с открытым ртом. Кусок кожи с плавником повис у него в бороде.
Скрипнули двери.
Странник уклонился полуоборотом, пустив вдоль тела руку с топором, заблокировал сверху запястье нападавшего, треснул его локтем в лоб и уложил неподвижного на землю. Все длилось не дольше моргания глаза и произошло в полной тишине.
– Ты убил моего сына, – прохрипел Улле. Рыбий плавник так и висел у него в бороде.
Драккайнен подошел к нему быстрым шагом, взбежал по ступенькам веранды и наступил купцу на грудную клетку, приперев его к стене.
Дунул на пальцы, в которых внезапно появилась серебряная монета.
– Вчера я заплатил тебе гвихт, – сказал. – Сегодня дам марку. Серебро тверже золота, и полагаю, на этот раз доставать его станешь изо лба.
– Ч-ч-что… – произнес Копченый Улле.
– Их было трое, – рявкнул Драккайнен. – Меня в этом городе никто не знает, и все же они меня ждали. Теперь лежат под забором, а я хочу знать, что ты с этим имеешь общего. Носили они вот это, – показал амулет. – Все трое. Водишься со Змеями?
Он протянул ладонь к его лицу. Улле выкатил глаза, показав узкий поясок белка, словно перепуганный конь, но Вуко только сдернул рыбий плавник, который начал его раздражать.
– Был только один, – выхрипел Улле, не спуская глаз с монеты, которую Драккайнен держал между большим и указательным пальцами. – Один, не трое. И пришел на набережную, едва ты ушел. Расспрашивал точно так же, как ты. Был ли здесь кое-кто странный, и спрашивал о высоком слепом муже с волосами как вороново крыло. Я не помню, что сказал, клянусь. Помню лишь его глаза. Они сделались золотыми. А вокруг встал туман. Через миг я сидел в конторе совершенно один. Из носа лилась кровь. Хиндом поклянусь, если пожелаешь. А теперь дай мне подойти к сыну.
– Твой сын сейчас придет в себя, – сказал Драккайнен. – Может, его станет тошнить, но не больше того. Пусть прикладывает ко лбу мокрые тряпки и проспится. Лучше всего приложить лед.
Убрал ногу, позволяя Улле отклеиться от стены и откашляться.
– Я тебе верю, – продолжил Вуко. – Только зачем какому-то Змею меня знать?
– Он тебя не знал, – ответил Копченый Улле. – А знал того черного, которого ты искал. Расспрашивал о ком-то странном, а ты – странен.
– Я нисколько не странен, – надулся Драккайнен. – Просто я не пил сегодня капучино.
– Чего? – переспросил Улле, остолбенев.
– Неважно. Этого у тебя нет. Дай-ка мне пива со специями.
– Когда захочешь еще раз меня проведать, – заметил Улле с неудовольствием, – не съезжай больше по крыше.
Сын Копченого Улле охнул и сел, болезненно потряхивая головой.
Глава 6 Огонь пустыни
Не презри шепот и шелест травы,
Не презри искр, несущихся по ветру.
Пожар мимолетен,
И бессмысленен гнев.
Останется серый пепел пожарища,
И лишь боль будет гореть бесконечно.
Кирененская книга пословицГоворили, что пришла она из пустыни. Прямиком из безводного ада Нахель Зим, где нет ничего, кроме камня, песка и кустов железной травы. Одинокая женщина, укрытая свободным красным плащом, какой носят в пустыне, с лицом, спрятанным под глубоким капюшоном. Пророчица, которая поведала, что подожжет мир. Оглашала, что была она прислана древней богиней Амитрая, Подземной Матерью. Богиней, от которой народ отвернулся.
По крайней мере так оно выглядело в сплетнях, которые повторяли во дворцах и на базарах всей империи.
Случилось это во время исключительно жаркого сухого лета. Небо горело, в южных провинциях пересыхали реки, а земля покрывалась растрескавшейся скорлупой. Жарило изо дня в день, а с весны в центральных провинциях не выпало и капли дождя. Отец мой призвал к себе Ведающих, но что они говорили, осталось мне неизвестным. Думаю, ничего важного. Есть вещи, с которыми даже лучший из правителей не многое может сделать, и к оным принадлежат сушь, наводнения или мор. Даже мудрейший из императоров не удержит ураган, и даже лучшая из армий не одолеет грозу. Так уж оно есть.
Тогда я уже входил в пору юности. Мой старший брат Кимир Зил был мертв, я же освоился уже с мыслью о мире, который выглядит иначе. Порой я навещал его могилу в Саду Молчания и зажигал лучинки в каменной миске, украшенной рельефом в виде лошадей. Но я не думал о нем слишком часто. Привык.
Впрочем, мой Учитель не оставлял мне слишком много времени на раздумья. А поскольку беспрестанные тренировки и учебу, которым нас подвергали в Доме Стали, я воспринимал как тяготы, к которым следует привыкнуть, постольку с возрастом я получил и дополнительные задания. Мой брат и две сестры сиживали в Комнате Науки над свитками и слушали Учителя. Я же часто выходил в компании Ремня. Петляли мы тайными каменными коридорами до самого дворца. Раньше я почти никогда не покидал Облачные Палаты. Его сады и дома были для меня всем миром. Вздымавшиеся, сколько видел глаз, стены Тигриного дворца означали для меня то же, что для кого-то другого – горизонт.
Во время праздников и торжеств нас порой брали, чтобы мы глядели на мистерии из-за колонн Тигриной Залы или смотрели на хороводы танцоров на Площади Тысячи Лошадей перед дворцом, порой же водили нас в государственный храм, и все это были экзотические путешествия, точно такие же, как редкие выезды в Орлиный дворец в Морских горах.
Мое знание о мире происходило из свитков и повестей. О базарах и улицах Маранахара, которые я мог бы навестить сразу после завтрака, знал я столько же, сколько о кебирийских горных городах Саурагара или реках и каналах Ярмаканды.
Единственные простые люди, которых я видывал, были дворцовые садовники, слуги и невольницы. Сытые и здоровые, они производили впечатление совершенно счастливых, и казалось мне, что точно так же выглядят все обитатели империи и вообще все люди на свете.
Однако, когда я вошел в пору юности, этому суждено было измениться. Ремень брал меня во дворец, чтобы я следил за народом и наблюдал из укрытия за прибывающими к моему отцу посольствами. Ежедневно по утрам должен был я выслушивать отчеты о состоянии державы. Узнавал я о штормах, бунтах, неурожаях зерна и дурру, кораблях, налогах, нестроениях и религиозных раздорах. Ремень безжалостно переспрашивал меня, проверяя, понимаю ли и помню ли я все эти вещи. Приказывал мне говорить, как я поступил бы в той или иной ситуации, и не приветствовал бессмысленных абы каких ответов. Я должен был дни напролет проводить в бесконечных дискуссиях. Ответ вроде «я бы передвинул тумен пехоты к Кебзегару» или «я бы поднял налог на пять дирхемов от лавки» всегда был недостаточным. Непрестанно раздавались очередные «как» и «почему». Я должен был придумывать решения и отстаивать их. Это измучивало меня сильнее, чем обучение искусству боя.
Другим изменением в моей жизни было именно то, что для меня закончилось время фехтования на палках. Я получил собственные меч, нож, лук и копье. Простые и дешевые, такие, какие выдают в армии. С клинками из хорошей стали, но оправленными в обычные кость и дерево.
Синяки и кровоподтеки, которые украшали меня до этого момента, пополнились неглубокими шрамами и ранами.
Однажды я спросил у Ремня, когда наступит хоть какая-то передышка.
– Легкий день был вчера, – отвечал он мне на это, смеясь. – Теперь так будет всю твою жизнь. Запомни это, тохимон.
Непросто было на этом сосредоточиться, поскольку начал меняться и я сам. И мне мнилось, что это продолжается изо дня в день.
Казалось, совсем недавно весь мой мир ограничивался стремлением получить крохи свободы, чтобы я мог бегать по саду, стрелять из лука в мишени или плавать по озеру, но вдруг оказалось, что нет для меня вещи более интересной под солнцем, чем тот момент, когда горничная Хафма стоит против света на террасе, и сквозь одежды виднеется абрис ее тела.
Когда моя учительница Айина объясняла мне творения древних вождей и излагала основы современной политики, я видел лишь ее шею, а точнее – то место на затылке, где начинались высоко подколотые волосы. Слушал, как объясняет она мне основы торговли, ее тайны и особенности, но мечтал я с открытыми глазами, не в силах отвести взгляд от таинственного затененного места между ее грудей, видимого между застежками кафтана.
Мы часто занимались игрой, которая была тренировкой торговых умений. Называлась она тарбисс. Я любил в нее играть, но с некоторого момента постоянно проигрывал. Меня меньше интересовало, могу ли я выторговать у Айины редкий черный камень и какую расстановку выдаст мне судьба, чем то, удастся ли мне увидеть в разрезе юбки ее бедро или внутреннюю часть стопы.
Я ведь в общем-то знал, что подрастаю и начинаю становиться мужчиной, но не предполагал, что будет это подобно пожару в степи. Думал, начну желать женщин так, как желал получить собственного коня или поглядеть на выступления акробатов. Такое желание, из-за отсутствия возможности его реализовать, легко будет игнорировать и подавлять. Не понимал я, чем являются все те огненные эмоции, о которых я читал у поэтов. Не думал, что это будет словно обезоруживающая тоска по дому – и горячка пополам с жаждой посредине пустыни одновременно.
Я знал, что ожидает меня женитьба на одной из княжон из старых амитрайских родов, может на дочке владыки какого-то чужеземного края. Что кроме этого будет у меня несколько конкубин. Но знал я и то, что ни одну я не выберу сам согласно приказанию сердца и что совершенно нет способа, чтобы одной из них сделалась Айина, моя учительница.
Так вот вся страна умирала от жажды – и я тоже. Только что люди мечтали о воде, а я сох, вожделея тела Айины.
Мой отец повелел выделять корм для скота и подвозить воду из рек в некоторые города. Из прибрежных провинций двигались наполненные водой бочки, целыми обозами, чтобы выдавать ее людям по подойнику ежедневно.
Азиль – река, текущая через столицу, выглядела уже мельче чем обычно и лениво несла свои воды руслом, как широкий пояс серого, растрескавшегося под солнцем ила.
Не мог я вспомнить лица Айины, едва лишь та исчезала с моих глаз. Знал, что глаза у нее синие, чуть раскосые, и что есть сплетающиеся в кольца и локоны волосы цвета ночного летнего неба. Иссиня-черные. Помнил ее нос, узкий, словно нож, и полные губы с легко опущенными уголками, но это были лишь слова. Не мог я увидеть этого глазами души, хотя очень старался. Казалось мне, что лицо учительницы находится за некой завесой и что вот-вот я сумею его увидеть, но едва представлял себе ее глаза, как исчезали губы, а когда вспоминал ее волосы, исчезало все лицо. Я лежал ночами, сжимая железный шар желаний, полученный от Ремня. Шар, к которому настолько привык, что, едва мне становилось плохо, тянулся я к нему совершенно непроизвольно. Порой он выпадал из моей руки, только когда я засыпал.
Колодцы на дорогах приходилось окружать отрядами, чтобы не вычерпали их до дна. Повозкам, груженным бочками, тоже приходилось ехать под защитой всадников. Дурра сохла на полях, а початки были размером не больше детского кулачка.
Я старался победить сжигающее меня желание и заняться чем-то другим. Но даже наука сделалась монотонной. День за днем дворец жил лишь дождем, водой и урожаем. Беспрестанно пересчитывались стратегические запасы и решалось, как стране дожить до следующего года. Поскольку, как и другие, сам я не мог отыскать ни одного доброго совета, чувствовал себя измученным этим.
* * *
Все чаще мы получали беспокойные донесения. От комендантов военных гарнизонов, от городской стражи, от чиновников и шпионов. Повторялась в них одна-единственная фраза, что ее шептали на базарах, в придорожных корчмах, на шляхах и площадях: «Гнев богов». Не было ничего странного в том, что, когда происходит нечто дурное, люди подозревают в этом волю богов. Но в империи моего отца сплетни о старых богах были действительно опасны и, как ни крути, политичны.
Мне следовало бы рассказать, как выглядел Амитрай во времена, когда мой дед воссел на Тигрином Троне. И постепенно – но не сейчас – я об этом расскажу. Хватит вам знать и то, что, когда на базарах шептали о гневе богов, имели в виду богов старых. Великую Подземную Мать и ее слуг. Азину, которой перед каждой страдой приносили десятки жертв кровью пленников. Двух Лунных Братьев, которые были патронами мужчин. Кодекс Земли, который регулировал не просто каждый шаг человека от рождения до смерти, но и почти каждое слово, которое тот произносил.
В том Амитрае человек почти ничего не имел в собственности. Все было посвящено богам, и все им же принадлежало. Конечно, их видели настолько же редко, как и теперь, здесь либо где-то еще. Однако амитраи верили, что они – народ, который является собственностью Подземной Матери, и что все покорения земель – суть восстановление ее наследства. Верили, что, когда они покорят весь мир и отдадут его Матери, возвратится Золотой век. Век избытка, счастья и любви. Время, когда люди не обладали плотью и всё – и все – были единым. Тогда-то расколовшийся надвое мир срастется наново. Не будет дня и ночи, мужчин и женщин, добра и зла, но настанет гармония единства.
Мы, кирененцы, верим в кое-что иное. В упорное Странствие-Вверх к просвещению и гармонии с Творцом. Верим, что существуют разные дороги, и многие из них, которые ведут Вверх через непростой труд бытия справедливыми, милостивыми, свободными и добрыми, являются верными. Однако всякий идет сам и должен выбирать свой путь. Боги – странные создания, появляющиеся на земле, – тоже движутся своими путями, как и прочие создания. Одни идут Вверх, а другие утрачивают свой путь, как и люди, но это не имеет значения. И мы заставили Амитрай принять эту философию.
Постепенно, шаг за шагом, мы позволили людям соединяться в семьи, жить вместе, строить дома, копить достаток и самим воспитывать детей. Мы позволили им идти Вверх и выбирать пути. Мы позволили им помнить о древних языках и обычаях стран, из которых они происходили, прежде чем были покорены империей; позволили им поклоняться старым богам, если только они оставались послушны нашим законам и Тигриному Трону.
Но пришла сушь, а с ней голод и болезни, и на базарах принялись шептать о гневе богов.
Старых богов. Тех, кого оскорбили.
И о пророчице, называемой Огнем Пустыни. Высокой женщине, скрывавшей свое лицо под капюшоном и присланной разгневанной Подземной Матерью, бичующей непослушный народ огнем суши.
– Отчего это имеет такое значение? – спросил я у Ремня за завтраком. – Ропщут, поскольку страдают. Дождь пойдет раньше или позже. Это жестоко, что некоторые умрут, что год окажется хуже, но ведь мы можем поднять налоги в провинциях, которые не пострадали. Можем вырастить там стада, которые отдадим страдающим во Внутреннем Круге. Дождь когда-нибудь да пойдет. Мы ведь привозим воду, раздаем ее. Раздаем и пищу. Они видят, что отец им помогает. А дождь пойдет. Пройдет время, они забудут о суши. Точно так же, как и о пророчице.
– Хотел бы я, чтобы ты оказался прав, – сказал Ремень и хмуро взглянул в свою чару с ореховым отваром. – Скажи, какова самая ценная вещь, которую мы дали амитраям?
– Мы, – рассмеялся я. Он дал мне подзатыльник, но тоже улыбнулся. – Мы дали им свободу, – я сделался серьезен. – Есть ли сокровище больше? Они могут общаться друг с другом, невзирая на касты, но никто их к этому не принуждает. Старые рода все еще держатся своих каст, если того желают. Мы дали им закон. Каждый может выбирать дорогу. Может работать в поле или торговать, или вступить в армию.
– Каждый? – спросил он насмешливо. – Тогда как же происходит, что все хируки трудятся на полях синдаров? Ни один из них не любит торговли?
– У них нечем торговать. Однако некогда за то, что они покидали свое село, ожидала их смерть, а теперь они могут идти, куда захотят, и делать, что пожелают.
– Тогда отчего они этого не делают, Молодой Тигр?
– Потому что не умеют! – разозлился я. – Ты снова перекручиваешь слова. Ясно, что, если сотни лет каждый мог их убить, поскольку были они низшей кастой и ничем не отличались от рабов, они еще долго пребудут во тьме. Однако, насколько я знаю, синдарам нынче приходится им платить. Во всех селениях есть имперские учителя. Может, их дети…
– И наверняка синдары этому радуются.
– Полагаю, что так и есть, поскольку теперь они могут богатеть. Когда заплатят людям и отдадут налоги, что останется, берут себе. Тогда же они не обладали ничем.
– Уверяю тебя, что и тогда они умели обогащаться. У них были свои способы. Жрецы не держали все в тех своих Красных Башнях. Потому мы пришли к мысли, что хирукам мы не дали ничего. А что мы дали синдарам?
– Ты прекрасно знаешь, что мы еще не закончили! Миновало всего три поколения! Мы же пытаемся вылечить всю страну! Ты должен обладать большим уважением к тому, чего достиг мой отец и твой повелитель!
– Хо-хо, Молодой Тигр будет пугать меня изменой. Это так, как если бы я бил тебя, тохимон, всякий раз, когда не знал, что сказать.
– Я спрашивал лишь, отчего Тигриная Империя должна бояться одной безумной женщины. Мало ли пророков странных культов, что орут на площадях? Мы настолько слабы? Хватит нескольких недель жары?
– Она – другая. Где бы она ни появлялась, там остаются ее соратники. Надевают кастовые одежды, снова строят Красные Башни. Отдают свое имущество храму.
– Почему?
– Известно немногое. Ритуалы ее тайные. Ее речь – обычные угрозы, старые сказки о Подземной Матери, которую дети ее должны накормить, и все те же картины нового, сросшегося мира единства. Без разделений, без несправедливости, и все такое. Есть у нее и новые вещи, которые она добавила к старой вере, но и это ничего не объясняет. Значимо лишь то, что она раздает воду и еду. И, согласно тому, что присылают мне в рапортах, дает людям источники.
– Как это «дает источники»?
Ремень открыл толстый футляр и извлек оттуда пачку свитков:
– Прошу: кишлак Кахир Дым в Стервятниковых горах. Ударила она кулаком в камень, стоящий посредине базара, а потом вывернула его. Из-под него пробился источник. Небольшой, но он бьет уже месяц и все еще дает воду. То же самое – в предместьях Баусобада. Оставила после себя источник, который бьет из скальной стены, а на пригородном базаре подбила народ к тому, чтобы люди отобрали товар у купцов. Тех было немного, не сумели воспротивиться, а после она раздавала дурру женщинам и детям. Черпала зерна из бочки при помощи деревянного ковшика и раздала около… Вот, прошу: «больше, чем пять раз по пятьдесят медимнов». Вышел бинхон дурры из одной бочки! Дальше: останавливается в пещерах или подвалах и там исцеляет больных. У меня есть рапорты об исцеленных переломах, устранении огневых язв, вылеченной гнили дыхания и болотной горячке.
– Значит, она Деющая. Мы можем ее арестовать.
– Ты не должен говорить быстрее, чем думаешь, тохимон. Арестовать за то, что она напоила жаждущий народ? Что сделала то, чего не сумели сделать мы? Может, нам еще завалить те источники? А потом повесить исцеленных? Дело в том, что выздоровевшие, едва встав на ноги, начинают бредить о Подземной Богине, раздают имущество и отстраивают Красные Башни.
Я некоторое время слушал в молчании, поигрывая чарой.
– Я перестаю понимать твои уроки, Ремень. Не понимаю, чему ты хочешь меня обучить? Каков ответ?
Учитель вздохнул:
– Для тебя понемногу заканчивается время готовых ответов, которые можно найти в свитках и кодексах. Я просто учу тебя мыслить. Пользоваться тем знанием, которое Дом Стали сумел разместить в твоей пустой голове за столько-то лет. Потому что может наступить время, когда именно я буду ждать от тебя ответа на вопрос, что делать, Молодой Тигр, а ты должен будешь такой ответ дать. Однако, прежде чем этот день наступит, ты должен узнать мир.
– Как это?
– Ты должен выйти из дворца. Без свиты, Тигриной Повозки, эскорта и всего того искусственного мира, который ты носишь с собой, как черепаха свой панцирь. Время выйти из панциря. Ты должен стать Тигром – не черепахой.
* * *
Так и пришло время, когда я получил одежду простого синдара. Темно-желтую куртку с черной тесьмой, широкие штаны и валяные сапоги с плетеными ременными подошвами. Застало меня врасплох то, что они были несколько лучшего качества и выглядели дороже тех, которые я носил каждый день.
Обучили меня, как обычные люди, такие как молодой человек, недавно сдавший экзамены в императорской управе, могут себя вести, как надлежит здороваться с другими и что в городе такому человеку можно, а чего нельзя.
И однажды утром Учитель представил мне человека, который должен был стать для меня очередным важным в моей жизни другом.
Был тот высоким и худым, производил впечатление сплетенного из перепутанных, высушенных на солнце ремней. Носил он косичку ветерана, и я заметил, что на плече его есть татуировка четырнадцатого тимена, называемого Молниеносным. Был он несколько младше Ремня, но мне казался не молодым, а лишенным возраста – словно конь.
Звался он Брус сын Полынника и происходил из клана Ручья.
Приветствовал он меня сдержанно, прикрывая кулак ладонью, и, прикладывая его на мгновение ко лбу, буркнул:
– Тохимон, господин мой.
– Не жди коленопреклоненности, Молодой Тигр, – сказал мне Ремень. – Брус должен помочь тебе остаться живым-здоровым на улицах города и вернуться во дворец. И только. Это не твой слуга, он – твой опекун. Отныне ты можешь выходить тайным ходом и гулять по Маранахару, однако Брус всегда должен тебя сопровождать. Без исключений. Станет он учить тебя миру, но там, снаружи, никто не имеет права подумать, что он твой слуга. Официально он зовется Тендзин Бирталай, и ты должен обращаться к нему «ситар Тендзин», никак иначе. Ты же станешь называться Арджук Хатармаль, однако Брус станет называть тебя Арджук, Арки и даже Рыжая Башка. Так, словно он является кем-то старше и важнее тебя. Порой станет говорить с тобой пренебрежительно или высмеивать тебя. Это – часть притворства, как куртка или фальшивые имена.
* * *
Когда я впервые должен был покинуть Облачные Палаты, то радовался, но где-то внутри был испуган.
Шагали мы длинными мощеными коридорами, которые освещали лишь необычные масляные лампы в нишах. Слышны были только наши шаги и странный отзвук вдали. Я спросил Бруса, что это такое.
– Город, – только и сказал он.
Через какое-то время мы добрались до крутых ступеней, а после и до дверей. Брус, которого отныне я должен был называть «ситар Тендзин», вынул из рукава ключ, привязанный к ремешку, и отворил их. Оказались мы в каком-то небольшом помещении без окон. Проводник мой тщательно провернул ключ, а потом отворил очередную дверь. Попали мы в следующее – заставленный бочками и свертками склад; миновали еще одни двери, взошли по ступеням и, отведя завесу из стекляшек, вышли в тесную, неприметную комнатку, где седой, сгорбленный старец корпел над конторкой и что-то карябал тростниковым пером по небольшому свитку. На полках лежали сотни свитков и тубусов для хранения документов. Деревянных, кожаных и крашенных смолой. Старик не обратил на нас ни малейшего внимания, словно бы нас здесь не было. Макнул стило в разведенной туши и продолжил чертить ровные ряды букв.
– Это контора писаря, – сказал Брус. – Стоит она на улице Ворожеев, в торговом квартале. Писаря зовут Шилган Хатьезид, и ты должен запомнить это на всякий случай, если тебе придется возвращаться домой одному.
– Шилган Хатьезид, – повторил я. – Писарь с конторой на Ворожеев, в торговом квартале.
Шилган Хатьезид потянулся за костяной печатью и прокатил ее по листу. Мы были для него невидимками.
– Что он делает?
– Пишет людям правительственные письма. Просьбы, решения и заявления. А также частные письма, завещания, разводные листы и всякое такое. Такая у него работа.
Брус развел кожаные завесы и вышел на улицу, я вышел за ним следом.
И чуть не упал, когда залило меня сияние солнца, гомон, толкотня и теснота. Я уже видел много людей сразу, но отряды войска или толпы верных издали напоминали цветочные клумбы. Здесь же люди буквально клубились. Я глядел на тесные квадратные дома из желтоватого цвета сухой глины, что напирали один на другой, на цветные одежды, выставляемые перед входами кипы товаров, вьющиеся флажки профессий – и закружилась моя голова.
Было грязно и шумно.
Мы протискивались между людьми, сидящими в тени, курящими трубки или попивающими отвары, бродили в насыпанных горах фруктов, лавировали между пирамидами глиняной посуды или проталкивались в залитой солнцем толпе. Никто не уступал нам место, никто не помогал пройти. Нужно было пробиваться силой, слушая проклятия и снося толчки. Я обонял запах пота, смешанный с ароматом скворчащего на противнях мяса и специй, добавляемых в зеленое кебирийское вино. Город одновременно пах и вонял, был интересным и пугающим, притягательным и отталкивающим.
Я запомнил только хаос и толчею. И ошеломительное чувство, что никто не обращает на меня внимания, сплетенное с жесточайшим страхом, что через миг я буду раскрыт. Толпа производила впечатление, что все идут во все стороны сразу. Еще я заметил, что некоторые болели или носили следы болезней перенесенных. У них не хватало зубов и имелись шрамы, попадались люди без руки или ноги, порой с выкрученными ладонями или мокрыми язвами.
Когда мы одолели часть пути, я почувствовал себя ужасно уставшим и захотел вернуться в Облачные Палаты, переодеться и сесть в саду. Сказал об этом Брусу, но тот лишь фыркнул:
– Ты еще не видел города, Арки. Нужно к нему привыкнуть. Такова жизнь. Эта вонь, шум, эти люди. Твой сад – лишь сон. А ты должен проснуться.
Поэтому мы шагали по улицам, а у меня кружилась голова от тесноты, жары, а вскоре еще и от усталости.
– Когда ты устал, можно присесть где-нибудь в тени на земле, но там тоже будет душно и тесно. Всякий желает усесться в тени. Остальные прохожие станут тебя пинать и толкать. Если же имеешь какие-то деньги – другое дело. Тогда можешь отыскать корчму и там отдохнуть, напиться чего-то и удобно расположиться на табурете. Однако это стоит денег. Как и всякий фрукт, всякий кусок жареной черепахи и вообще все, что ты видишь. В городе все имеет свою цену. Клочок тени, миг отдохновения, кусок еды. Если хочешь где-нибудь присесть и отдохнуть, придется платить. В городе платят каждый миг и за все подряд. И еще – за каждый глоток воды. Тот человек, идущий со странным сосудом на спине, продает именно воду. Когда мы станем выходить в следующий раз, ты получишь немного меди – чуть больше дирхана. Столько, сколько составляет дневной заработок столяра. Когда пожелаешь что-то купить или съесть, тебе придется обращать внимание на цены и проверять, можешь ли ты это себе позволить. Помни, что с начала суши дороже всего в этом городе стоит утоление жажды. И все же в столице с этим еще нормально.
Через какое-то время и сам Брус запыхался, и мы уселись в тени некоего мрачного помещения на деревянных твердых стульях, а толстый трактирщик принес нам кубки орехового отвара.
– Отчего мы сели здесь, ситар Тендзин?
– Потому что «У Кошака» хорошие отвары. Куда хуже тех, что ты пьешь обычно, но это хоть можно проглотить.
– Но ты заплатил половину тигрика. В том трактире напитки дешевле. За те же самые монеты кроме напитка мы получили бы еще по тыкве пряного пива.
– Откуда ты знаешь? – нахмурился он.
– Цены написаны мелом на ставне, ситар Тендзин, – заметил я.
Позже я полюбил вылазки в город. Мы ходили по улицам, время от времени присаживаясь в тавернах, проходили по базарам и площадям. Брус вообще позволял мне ходить где захочу, противясь лишь, когда я желал войти в некоторые кварталы.
– Там слишком опасно, – ответил он коротко.
Я полюбил наблюдать за людьми и слушать их разговоры. Высматривал экзотически выглядящих чужеземцев и чувствовал радость, видя проталкивающегося сквозь толпу человека в кирененской куртке, с клановой вышивкой на рукавах и с ножом на поясе. Любил я и бродить без цели. Пройти сквозь рынок, взвесить в руке кебирийскую саблю, купить печеного кальмара с уличного лотка и запить тыквой пряного пива, поторговаться за нитку кораллов, а потом подарить их первой встречной красотке. Однако я был достаточно сообразителен, чтобы не приближаться к женщинам в кастовых одеяниях с татуировкой на лбу.
– Мужчинам запрещено заговаривать с ними неспрошенными, – заметил Брус. – Родственники могут тебе накостылять, а то и кто-то ткнет ножом в уличной сутолоке.
Несколько раз он строго отчитал меня, когда я хотел идти в какие-то подозрительные места.
– С тобой-то ничего не случится, – сказал он. – Вернее, не с тобой, раз уж я здесь, и, когда они попытаются к тебе прицепиться, мне придется их убить. Таким образом, ты обрекаешь их на смерть. Это бессмысленная жестокость.
Я посчитал это похвальбой, но однажды меня обокрали.
Я даже не заметил этого. Мы протискивались через базар. Брус, идущий за мной, внезапно резко развернулся, я услышал крик и увидел, что мой попечитель сжимает запястье худого подростка с крысиным личиком и красными глазами, что держал кошель, невесть как срезанный с моего пояса. Вор издал пронзительный высокий писк и хлестнул по ладони Бруса узким острием, в мгновение ока оказавшимся в его второй руке. Не сумел. Брус настолько же быстро отдернул руку, и парень чуть не перерубил собственное запястье.
Когда мы отходили, проталкиваясь сквозь толпу, подросток корчился на земле среди собравшихся зевак, скуля, как раненый пес, а кровь из рассеченной руки хлестала на песок.
В результате Тендзин присвоил себе мой возвращенный кошель.
– Ты проведешь этот день без гроша, Рыжая Башка. Может, это научит тебя быть начеку. А тот маленький крысеныш заплатит жизнью за твое ротозейство.
– Но ведь это лишь рука, – заметил я.
– Руку ты заметил, потому что она болит, и потому что он сам ее поранил, – процедил Брус и задвинул клинок, размером с малый листик, в ножны, что, словно амулет, висели у него на шее.
Мне сейчас непросто думать о Маранахаре моей молодости, поскольку города этого уже нет и, возможно, никогда не будет. Поэтому я помню. И этот город я тоже должен – вместе со всем остальным – нести в себе. Вместе с моей неуничтоженной страной, Кирененом, всем моим кланом, Облачными Палатами, Айиной, отцом, братьями, матерью и Ремнем. Так много всего!
Так много сгорело!
Маранахар.
Тогда он жил. Был вульгарным, шумным и крикливым, но веселым, словно девка под хмельком. Все здесь можно было продать и купить, стояли здесь купеческие караваны со всего мира. Здесь танцевали, играли в кости, пили зеленое вино и амбрию. До самого прихода жаркой синей ночи на улицах клубилась толпа. В квартале резиденций было спокойнее. Там раздавалось пение птиц. Я ходил туда порой, чтобы посмотреть на белые купола дворцов и кипень зелени внутри оград. Я любил поглядывать на окруженный садом храм Далии, где в беседках сидели нагие длинноволосые жрицы, прекрасные, словно нимфы, и продавали свои татуированные тела за золотой шекль в казну храма. Я смотрел на их украшенные цветами и листьями гибкие бедра и похожие на плоды груди и чувствовал, как мое вожделение выстреливает языками пламени, высокими, словно олива, подожженная молнией. Однако ничего не говорил Брусу, молчал и он. Я же частенько прикидывал, где бы достать золотой шекль.
Но больше предпочитал я спутанные, как лабиринты, улочки торгового и портового кварталов. Речной порт вонял тогда ужасно; корабли, барки и галеры стояли порой в десятке-другом шагов от сходней, на борта экипажам приходилось восходить по лестницам, а товары носили, бредя в толстом слое ила, прикрытом растрескавшейся коркой. В грязи гнили отбросы и вились миллионы мух.
Во время этих прогулок я часто слышал об Огне Пустыни – Нагель Ифрии. И о гневе старых богов. И о проклятой чужеземной династии, которая низвела на империю кару, гнев и опустошения.
Когда я слыхал те шепотки, меня охватывал страх и предчувствие некоего несчастья.
Что бы ни происходило, имя пророчицы упорно возвращалось в сплетнях, будто фальшивая монета. Когда в городе начали роиться мухи, я слышал: «Нагель сказала, что придут мухи. Что сожрут глаза врагам Пламенной. Зарождаются они из грехов против Кодекса Земли. От этих свобод. От этой торговли. Из нечистоты. Всякий только для себя, а для Матери – ничего. Потом будет еще хуже…»
Торговый квартал, однако, жил торговлей, свободой перемещения и вольностями, которые предоставляли наши законы. Там россказни о чудесах пророчицы повторяли неохотно и с опаской. Не говорили, что «все вернется к старому; миска дурру каждому и Кодекс Земли; закончатся кирененские порядки; снова станет как при дедах; жрецы наведут порядок, и вернутся дожди». А если и говорили, то с ужасом. На базарах работали свободные люди. И не тосковали о возвращении Красных Башен, а потому на улочках торгового квартала я чувствовал себя лучше.
* * *
С того времени, как я начал выходить в город, уже по-иному глядел я и на Облачные Палаты. Они все еще казались мне прекраснейшим местом на земле, моим домом, но я начал подозревать с беспокойством, что, возможно, оно и вправду – лучшее место на земле. И что дома других людей не только не являются его уменьшенными версиями, но даже не напоминают ничего подобного. Я начал лучше понимать мир.
Когда я слушал рапорты о товарах, сборах и налогах, перед моими глазами вставали корзины красной дурры, горы фруктов, пучки длинного лука и стада красных волов, ревущих в загородках. Я понимал, что такое пять галер с грузом кож или тимен пехоты. И я понял, что мир велик.
А весь остальной мир наполнял для меня запах Айины, ее волосы, ее длинные ноги, мелькающие в разрезе платья, как ножницы, и это тоже переполняло мою голову, в которой делалось столь же тесно, как в наибольшем базаре Маранахара.
Порой я погружался в печальные размышления. Вечерами сидел в своей спальне или на террасе и глядел на сад. Слушал крики ночных птиц, смотрел на лоснящиеся воды озера. Искал молчания и одиночества. Айина…
Думаю, это не была любовь. Пожалуй, нет. Но наверняка было это жадное, огненное вожделение. Когда бы я мог иметь другую женщину, которая привлекала бы меня настолько же сильно, как Айина, учительница быстро выветрилась бы из моей головы. Но в мире моем существовала, главным образом, Айина, оттого я воспылал к ней.
Не знаю, заметила ли она, что со мной происходит. Наверняка – сразу же, поскольку не ругала уже меня настолько сурово, как некогда, несмотря на то что я, вместо того чтобы слушать, что она говорит об интригах и торговле, наслаждался лишь мелодией ее голоса или вдыхал аромат аира, которым пахли ее волосы. Казалось, она не обращает на это ни малейшего внимания.
Одной жаркой ночью я не выдержал и отправился вокруг Дома Стали, чтобы отыскать ее спальню, патио которой, как и у всех, выходило в сад. На самом деле я не знал, зачем это делаю. Хотел лишь посмотреть. Знал, что ее вид может принести мне хотя бы иллюзию облегчения. Я крался по кустам, пока не наткнулся на ее патио. Посредине возносились небольшие белые скалы и росла невысокая изогнутая сосна. Я присел за цветущим кустом мальвы, с цветами огромными, как моя голова, и ждал.
Стояла жара, а потому учительница приказала сложить стену, обращенную к саду, и свернуть занавеси, чтобы получить малейшее дуновение прохлады.
Она сидела на толстой подушке и пила нечто из малой чарки. Служанка ее неподвижно сидела под стеной, а на помосте уже был разложен матрац из толстого войлока, обшитого мягкой прохладной тканью. Горели две лампы, и стояла тишина.
Я смотрел.
Потом Айина отослала служанку и встала. Подошла к самому краю спальни, почти на террасу, и медленно развязала тесемки, препоясывающие домашний халат. Тонкий, лоснящийся материал стек с ее плеч и бедер, как вода, я отчетливо слышал легкий шорох, с каким он скользил по коже.
Я едва не охнул от восторга.
В один момент все тайны, которые я так тщательно выслеживал, предстали предо мной сразу и так подробно, что о большем я не мог и мечтать. В тот момент я хотел иметь сто глаз, чтобы видеть одновременно ее узкие стопы, гибкие бедра, упругий плоский живот и покачивающиеся груди с торчащими темными сосками, а прежде всего – опрятный треугольник между ногами, где две морщинки, бегущие к низу живота, встречались, словно дельта реки.
У нас, кирененцев, нагота не является чем-то особенным, хотя никто с ней не носится. Она – природна. Я видел ранее нагих женщин. В бане, в Доме Киновари и над озером. Видывал я и танцорок, на которых не было ничего, кроме масла, цепочек и золотой пыли.
Но это было нечто другое. Это была Айина.
Моя учительница. Богиня.
Когда еще действовал старый амитрайский кодекс, за подглядывание за нагой женщиной, когда она об этом не знает, мужчина мог быть ослеплен. За выказывание вожделения, непристойные предложения или прикосновения грозила кастрация. На женщин из высших каст нельзя было даже глядеть. Это они имели право входить в места, где находилась Подземная Богиня, поэтому мужская похоть, проявленная к ним, считалась преступлением. Мужчина мог подступить к женщине исключительно по согласию богини и только будучи призванным. Однако и тогда должен был относиться к этой чести с покорностью и благоговением.
В тот момент я чудесно понимал эти правила. Когда Айина медленно натиралась маслом.
А потом она сняла со стены кебирийскую саблю и приступила к упражнениям.
Это было еще хуже.
Одновременно чудесное и дикое зрелище, и настолько болезненное, что я чувствовал, как вожделение распарывает мне когтями брюхо.
Я смотрел, как змеиное тело Айины двигается и лоснится от масла, как напрягаются мышцы под тонкой кожей.
Это было как танец. Айина двигалась словно кобра или вьющаяся в воде рыба. Щит и изогнутый клинок плавали в ее руках и двигались вокруг ее тела, я слышал топанье босых ног по коврам, свист стали и грохот собственного сердца.
А позже учительница отложила оружие и вошла в ванную. Я видел ее фигуру в приглушенном свете одной лампы и через тонкий слой муслина, заслоняющего комнатку. Она вынула заколки и шпильки из волос и позволила им опасть гривой на спину, а потом сошла по ступенькам в бассейн с холодной водой.
Я сидел и смотрел.
Айина не позвала служанок, сама легла в воду, лениво водя губкой по поднятой ноге или вдоль руки.
Много бы я отдал тогда, сидя, ошалевший и вожделеющий, за цветущим кустом мальвы, чтобы быть той губкой.
Потом она снова вынырнула из-за стены, влажная и нагая, вытираясь толстым белым полотенцем, и села свободно на ковре, скрестив ноги в лодыжках. Потянулась за узким кувшином с пальмовым соком и, наполняя чары, произнесла своим низким, мелодичным голосом:
– На ковре куда удобнее, чем в кустах. Войди и сядь подле меня, тохимон.
Меня учили множеству вещей, но не тому, как сохранить лицо в подобной ситуации. Я встал, пурпурный и онемевший, и пробормотал лишь:
– Айина, я…
– Садись, Молодой Тигр, – ответила она.
Я сел, изо всех сил стараясь не трястись.
Моя учительница Айина, доселе излагавшая мне основы политики, торговли и интриги, склонилась ко мне, подавая чару с пальмовым соком, а округлая грудь, заканчивающаяся острым соском, колыхнулась, мелкие капли воды искрились на натертой маслом коже, словно бриллианты.
– Скажи, что бы ты дал за то, чтобы до меня дотронуться?
Я откашлялся:
– Не знаю… У меня нет ничего, что ты могла бы захотеть.
– А если бы было? И что бы ты дал за то, чтобы я дотронулась до тебя?
Я не знал, но чувствовал, как на кончике моего языка крутится слово «все»…
– То, что существует между мужчиной и женщиной, не слишком отличается от того, что происходит где бы то ни было в жизни. Это часть Дороги Вверх. Может получиться хорошо, может – плохо. Как в битве, торговле или политике. Впрочем, в этом содержатся законы и войны, и политики, и торговли. И отношения эти настолько же сильны. Это одновременно нечто, чего мы так сильно жаждем, что сама жажда может оказаться опасной. Если кому-то повезет, он сумеет прожить без битв или политики. Но никто не хочет – и мало кто сумеет – жить без этого. Ты встретишь в жизни множество женщин, Молодой Тигр. К некоторым останешься равнодушен, на некоторых обратишь внимание, а других – полюбишь. Некоторых даже будешь вожделеть, возможно, так же, как ты вожделеешь меня в эти минуты, – она чуть улыбнулась. – Хотя, может, и нет, потому что я первая. Я еще являюсь тайной. Пока ты в силах лишь воображать себе, что я могу дать и каково это на вкус.
«Пока».
Она сказала «пока»?
– Если ты заглянешь внутрь себя и подумаешь, как много хотел бы дать за то, чтобы мной обладать, ты поймешь, насколько большую власть может иметь женщина над мужчиной, – продолжала учительница. – Поймешь также, насколько опасным это может оказаться для империи. Возможно, ты станешь императором, Молодой Тигр. Никто не должен иметь над тобой такой власти. Помни, что это – сражение. Только то, что в сражении является оружием, служит для причинения боли. Здесь же оно – умение давать наслаждение. То, что в сражении – угроза страдания, здесь – обещание экстаза. Однако эффект один и тот же. Это власть, которую дает победа над побежденным.
Ты сам решил, когда пришло время, чтобы ты об этом узнал. Взгляни: ты был должен войти сюда и сказать: «Айина, я твой владыка и жажду твоего тела. Желание мое – обладать тобой». Ты же притаился в кустах, чтобы взглянуть на меня издали и искать облегчения в своей тоске. Разве не знаешь, что, возможно, ты – будущий владыка Тигриного Трона? Или тот, кто стоит за троном правителя? Так или иначе, судьба империи будет в твоих руках. Ты – мой суверен. Один из могущественнейших людей на свете. И все же ты ведешь себя как обычный юноша, которого ослепило тело привлекательной женщины. Ты уже мужчина, тохимон. А в этих делах мужчины слабы и беспомощны. Они ничего не могут поделать с огнем тоски и вожделения, который постоянно в них пылает. Это словно пожирающая тебя болезнь, лекарством от которой обладает женщина. И которым она оделяет тебя чрезвычайно скупо. А мы не можем позволить, чтобы ты был слаб, Молодой Тигр. Мы не можем позволить, чтобы ты позабыл, в отчаянии взыскивая лекарства, кто ты таков. Сними одежды.
– Что?! Айина, я… – Не знаю, зарделся ли я, но переполняли меня такие эмоции, что охотнее всего я дал бы деру. Чувствовал, как дрожу и как трепещет мое сердце.
– Ты слышал. Сними одежды. Да… Пояс тоже. В этих соревнованиях оружия нет. Есть голое тело против голого тела. Как в момент рождения.
Я сидел нагой напротив моей учительницы, и ее тело, о котором я так долго мечтал, было передо мной. Я видел каждую деталь ее кожи и не мог отвести глаз, но одновременно знал, как выгляжу я сам, и старался скрыть это, насколько мог.
– Сейчас же перестань стыдиться! – призвала она. – У тебя нет для этого причин. А эта часть твоего тела не умеет врать. Она живет собственной жизнью. Ты можешь желать хранить холодность и достоинство, но этот червячок обладает собственным мнением. Жаждет быть горящим копьем. Будет случаться и так, что ты захочешь действовать, в то время как он пожелает спать или будет печален. Потому что не умеет врать. Ты умеешь скрывать испуг, обеспокоенность или вожделение. Можешь действовать вопреки своим желаниям и даже вопреки самому себе. У тебя есть характер. У этой части тебя всего этого нет. Она словно животное. Поэтому ты не можешь отдаться на волю его капризам, и он не может иметь над тобой власть. Голод его не может отбирать у тебя рассудок. А теперь дотронься до меня. Дотронься до моей груди.
– Айина… Ты меня учишь?
Айина взяла меня за руку и направила ее на свое тело:
– А что ты думал? Так лучше всего. Научу тебя побеждать. Ты уже умеешь справляться с мужчинами, но это легко. Теперь ты должен научиться справляться с женщинами. Они сильнее и куда опаснее. Но я обучу тебя и этому. Однако сперва мне надо справиться с твоим безумным вожделением. Нельзя обучить застольным манерам умирающего от голода. Пока ты не в состоянии ничего ни понять, ни сделать.
Она толкнула меня на ковер, и я почувствовал легкую щекотку гривы ее волос на своем животе. А потом нечто, чего я и назвать тогда не сумел бы. Мир вспыхнул в один момент. Я крикнул, не понимая, что я кричу.
Мне казалось, что время остановилось, а весь мир ограничился единственной точкой на моем теле. Хотел я, чтобы это продолжалось вечно, но на самом деле был это лишь единственный миг.
Айина позволила мне лежать неподвижно, после чего прижалась головой к моему животу и отерла губы.
– Видишь, как просто? Теперь ты чувствуешь облегчение. Впервые с давнего времени. И это то чувство, за которое ты мог бы отдать очень много. Сообразительная женщина могла бы получить немалое влияние, власть или богатство взамен на этот крохотный момент счастья. Дурная женщина могла бы использовать твою безоружность и обидеть тебя на долгие годы. Сделать так, чтобы ты всегда чувствовал себя униженным. Если бы успокоила тебя проститутка или случайная женщина, ты бы посчитал, что она единственная в своем роде, и почти наверняка сразу в нее влюбился бы. Но сделала это всего лишь я. Это было очень легко, тохимон. Любая могла бы это сделать, пожелай она, ибо здесь мало труда. Я просто знаю, как это сделать, и знаю, что умею это делать хорошо. Так безопаснее для всех. А теперь отдохни. Потом начнем сначала, но теперь по-настоящему. Начнешь с того, что узнаешь мое тело.
Это действительно была наука. Точно такая же, как танец или искусство сражения. Я наведывался в ее спальню чуть ли не ежедневно. Приходил, когда опускались сумерки и зажигались лампы, а уходил в час вола в середине ночи. Были задания, было знание.
И были наказания.
Когда я делал нечто исключительно неловкое, жадное или поспешное, получал по лицу. А потом она объясняла мне еще раз, указывала, вела мои пальцы или сама показывала то, что нужно усвоить, – так, чтобы я понял. И приказывала повторять снова и снова, до изнеможения, пока не решала, что я все усвоил. Нынче я знаю, что есть женщины, которые во время любви желают властвовать, издавать приказы, подчинять мужчину или причинять ему боль. Только тогда они чувствуют удовлетворение. Но Айина к таким не принадлежала. Она действительно учила меня. Старательно и со всем тщанием, шаг за шагом.
Точно так же, как учила меня политике, дипломатии, интригам или торговле. Я даже опасался, что утрачу к этому тягу и интерес, но ничего подобного не случилось. Это были лишь уроки, и их я не покинул бы ни за какие сокровища мира. Несмотря на то что Айина была исключительно требовательной учительницей.
Когда она впервые пережила со мной спазмы наслаждения, я чувствовал себя гордым, как никогда ранее в жизни, но она быстро опустила меня на землю.
– Я сама сделала это, используя тебя, – сказала она. – Нет в том ничего плохого, и так должно быть. Это как игра на синтаре. Ты играешь на мне, я – на тебе. Я вела тебя за руку, и я получила что хотела. Но ты меня не победил. Случится это, лишь когда я не смогу тебе сопротивляться. Когда отдамся тебе, хотя не буду этого хотеть, когда стану стонать и молить о большем. Когда ты добьешься того, что я утрачу над собой контроль и не смогу притворяться. Возможно, этот миг еще наступит, но не сейчас. Тебе нужно больше умения и самоконтроля. Ты часто будешь приносить мне обычное наслаждение, но сам поймешь, когда наступит этот момент. Когда захочешь ты, а не когда буду хотеть я. Тогда ты победишь меня, как всякий момент я могу победить тебя. А теперь возьми побольше масла и намажь им здесь. Положи пальцы на Крышу Света…
Днем она была привычной Айиной с искусно заколотыми волосами и в застегнутом вышитом кафтане. Раскладывала свитки, карты или доски для тарбисса и учила меня. Однажды утром я взял ее за ягодицу и погладил ее так – знал это, – как ей нравится, после чего крепко получил по лицу – так, что потемнело в глазах.
– Этот урок будет ночью, ученик! – рявкнула она. – Я не твоя любовница, тохимон, и никогда ею не стану. Я – учительница и хочу, чтобы ты показал мне новый торговый путь из Наргина в Акасан и объяснил, что мы получим, если установим над ним контроль.
* * *
Благодаря вечерним урокам, которые я учил истово, снизошли на меня спокойствие и рассудительность. В действительности я часто возвращался к себе уставшим и с болью в лядвиях, однако чувствовал огромное облегчение. Я продолжал чувствовать вожделение, и мне начало казаться, что чувство это не так-то просто успокоить, однако это было нечто иное, чем дикая одержимость, какую я испытывал ранее. По крайней мере я начал воспринимать то, что происходило вокруг меня.
– По крайней мере ты не таращишься в последнее время на женщин, как скальный волк, Рыжая Башка, – проворчал однажды во время нашего похода в город Брус. – Тут становится опасно. Аразимы уже бродят где ни попадя, закутанные в кастовые тряпки, и начинают открыто преследовать за выступления против богини. Наши по городу ходят уже по четверо. Несколько дней в каналах и в реке находят трупы людей, носящих национальные одежды. В том числе кирененцев.
С каждым днем чувствовалось все большее напряжение. У городских колодцев постоянно толпились люди с ведрами и баклагами, сердитые и уставшие, покрытые противосолнечными плащами. То и дело вспыхивали драки.
Патрули городского гарнизона, которые доселе ходили, вооруженные лишь бичами и деревянными палками, толкаясь в толпе и перешучиваясь с торговками да зацепая куртизанок, теперь выглядели опасно. Выдавали им железные шлемы, которые ввели несколько лет назад, также у них были мечи и копья, а еще с каждым патрулем шла пара лучников.
Все чаще слышал я в толпе проклятия в адрес «чужеземной династии», все чаще кто-то пытался взывать к Подземной Матери, хотя, пожалуй, от страха. Красные одеяния и серебряные маски жрецов Подземной еще недавно мелькали здесь редко. Они скромно протискивались сквозь толпу, порой пытались напоминать о себе и метать громы, но раньше их высмеивали и толкали. Теперь же их стало полно, и они ходили гордо в окружении аколитов с бритыми головами и палками в руках, а толпа перед ними расступалась. Купцы закрывали товары, люди в национальных одеждах, пары и женщины, наряженные не по Кодексу Земли, внезапно исчезали с улиц, скрываясь в подворотнях и закоулках.
На стенах начал появляться странный знак, нарисованный углем или охрой, а несколько раз – чуть ли не кровью. Круг, разделенный волнистой линией.
Я спросил Бруса, знает ли он, что это такое. Он сплюнул на землю:
– «Подземное лоно», знак того проклятого культа.
Мне хотелось сказать, что лоно, например, Айины выглядит совершенно иначе, но я знал, что это глупая похвальба. Смолчал. Пытаясь таким образом хвалиться перед Брусом, я выглядел бы жалко.
* * *
И вправду началось нашествие мух. Были они всюду. Огромные, толстые и обезумевшие, словно перед грозой. Лезли в глаза и рот, обсаживали еду. Мы жгли благовония, но это не слишком помогало.
В северных провинциях, наоборот, свирепствовал шторм, какого не видывали годы, наводнение затапливало поля, и рыболовство замерло.
В провинции Ярмаканда высушенные, как бумага, леса охватывали пожары. В Саурагаре и Кангабаде началась эпидемия.
Слова «гнев богов» и «Огонь Пустыни» возвращались, как обезумевшее эхо. Пророчица то и дело появлялась не пойми откуда. И где бы она ни возникала, там пробивались источники, сухие деревья убирались цветами и плодами, слепые обретали зрение, а хромые вставали на ноги. Она смывала людям язвы обычной губкой, словно те были комками засохшей глины, а кожа под ними оказывалась здоровой и гладкой, даже без шрамов. И везде люди отдавали то, чем владели, в пользу культа и строили Красные Башни. Жрецы Подземной Матери роились словно крысы. Вокруг храмов строили Дома Женщин. Матери, любовницы и жены внезапно переставали замечать своих мужчин и входили туда, чтобы жить под боком у Азины. Проводили таинственные мистерии в пещерах, во время которых, говорят, обезумевшие мужчины лишали себя гениталий. Начали находить трупы с перерезанными глотками и вырванными сердцами. В пещерах обнаруживали жертвенные столы, залитые кровью. Несмотря на то что за кровавые жертвы закон наш карал смертью, похоже, некто начал подкармливать Госпожу Жатвы.
* * *
Мы стояли с отцом и Ремнем в Зале Света – огромной комнате дворца, где мозаика изображала весь известный мир. Амитрай и все его провинции, Северное море, Всеморье и море Внутреннее, а также Кебир, Нассим, пустыни, чужеземные страны – все.
Специально украшенные точки представляли города, другие – горы, которые выступали над полом.
Над городами и селениями, в которых видели Нагель Ифрию – Огонь Пустыни, – император приказал ставить выкрашенные красным фигурки из терракоты. Женщина в капюшоне заняла уже все пространство империи: от селений на границе Нахель Зима по самый Кебзегар. И приближалась к провинциям Внутреннего Круга.
– Она просто не может быть везде! – злился отец. – В один день отворяет источник на площади в Кангабаде, а в следующий делает так, что пахан-дей из Хирмиза охватывает пламя. Двенадцать стайе за один день! А идет она пешком. Всегда пешком.
– Ее сопровождают шестеро учеников, – заметил я. – И несут проклятущий таинственный сундук. Вшестером – следовательно, он весьма тяжел. У них нет припасов, воды и пищи. Только сундук. А, есть еще два слепых боевых леопарда, которые бегут с ней рядом. Отчего мы не можем узнать больше? Хотя бы что там, в сундуке? – спросил я Учителя. Но спрашивал не как ученик. Мой вопрос был не проявлением беспомощности. Я жаждал ответа.
– Мы уже потеряли четырех шпионов, – ответил Ремень глухо. – Они просто не вернулись. Я даже не знаю, убиты ли они.
– Были ли они кирененцами?
– Это не имеет значения, – резко обронил император. – Ты будешь править не Кирененом, но Амитраем. Все люди будут твоими подданными. Если пожелаешь думать таким образом, вскоре не будет должностей, на которых нет наших земляков, и тогда вспыхнет бунт.
– Ты плохо меня понял, отец, – ответил я. – Речь о том культе. Сторонник Идущего Вверх и дороги к Творцу не пожелает перейти на сторону Пламенной. С амитраями же – все иначе. Они могут знать эту религию и бояться ее. Могут тосковать о ней или уважать ее.
– Они были проверены с этой точки зрения, – ответил он спокойнее. – Я доверял бы каждому из них настолько, насколько вообще можно кому-либо доверять. Люди эти подбирались из рассудительнейших и обучались с самого детства. Их нельзя обмануть глупыми фокусами. И они не станут тосковать о тирании Красных Башен.
Я взглянул на пол. Красные Башни стояли уже во многих городах, фортах, поселениях и даже крохотных кишлаках. Выглядело так, словно они пришли из пустыни и теперь окружали Внутренний Круг.
– Все зашло слишком далеко, – сказал я. – Мой благородный отец должен был выслать наемных убийц.
– Это было сделано, – проворчал Ремень. – С тем же результатом, что и отсылка шпионов. Не так просто убить кого-то, кто чудесным образом появляется то тут, то там. Мы не знаем, где она ночует и где появится завтра. И дело не только в пророчице. Высшие касты начинают открыто поддерживать жрецов. Ничего удивительного. Они вернули бы старые позиции.
– Нам нужно ударить по жрецам. Исчезают люди, приносятся кровавые жертвы. У нас есть причина.
– Проблема в том, Молодой Тигр, что истощенный, умирающий от жажды люд льнет к Башням. И получает там пищу, воду, место для сна. Я понятия не имею, откуда они это берут. Внезапно в подземельях Красных Башен отворились магические сусеки, полные дурры, лука, муки и воды. К тому же у нас есть наш закон. А он гласит, что всяк может поклоняться своим богам.
– Если не нарушает права других людей! Нельзя приносить кровавые жертвы, а нам нельзя смотреть на это сквозь пальцы. Они призывают к уничтожению всех прочих культов и убийству людей, которые сопротивляются Праматери и Кодексу Земли, к бунту против Тигриного Трона! Не скажешь же ты, что это согласно закону? У нас есть причина ударить по ним, и причина серьезная!
– У нас была бы причина, когда бы не сушь.
– Учитель, – сказал я. – Пророчица, называемая Огонь Пустыни, вызвала источники сладкой воды там, где их не было и где даже глубинные скважины пересохли. Она лечит смертельно больных. Появляется каждый день в новом уголке империи, преодолевая целые стайе во мгновение ока. Размножает пищу. Вызывает огонь. Случалось, что те, кто ей возражал, загорались живыми факелами и горели так долго, что тела их превращались в пепел. Якобы тот, кто узрит ее лицо, слепнет, и глаза его выглядят золотыми. Почти каждый, кто столкнется с ней, становится сторонником Подземной. Я здесь повторяю базарные сказки или говорю о том, что видел в императорских свитках, написанных стратегами и шпионами?
– Так говорится в императорских свитках, – ответил Ремень неуверенно.
– К тому же весь Внешний круг страдает от засухи, какой никто ранее не помнит. По неизвестным причинам пересыхают колодцы. Весь край страдает от болезней, на севере безумствует шторм, несмотря на лето, сыплется снег и встает лед. При этом разбойники на «волчьих кораблях» каким-то чудом тревожат побережье. Я все верно говорю?
– Да.
– Так скажи мне, Ремень, поскольку я – простой принц и не понимаю: что еще должно случиться, чтобы мы поверили, что это гнев старой богини? Может, Подземная Мать и вправду хочет получить назад Амитрай, которым завладели чужеземцы?
– Боги не могут действовать таким образом. Ты хоть раз встречал бога, тохимон?
– Нет.
– А я встречал. Раза четыре. Скажу тебе, как оно происходит. Ты видел когда-нибудь соревнования боевых леопардов, где хвастаются их дрессурой?
– Ты знаешь, что видел.
– Дрессировщик сидит в кресле, и ему можно лишь свистеть, верно? Леопард пробегает через препоны, уничтожает цели, валит манекены, выслеживает и убивает кролика, а потом приносит его дрессировщику. Скажи, что это были бы за соревнования, если бы дрессировщик сам застрелил кролика, сам свалил цели, а в конце убил своего конкурента? Тут все точно так же. Боги являются в человеческом облике и порой, как говорят, завязывают некие интриги, а порой подталкивают избранных людей, чтобы те что-то сделали. Но они проведывают свои святые места в божественной ипостаси, например – как лучи лунного света или столп дыма, и порой они что-то говорят верным. Непонятные, странные или жуткие вещи. Темные люди зовут их богами. Но я не знаю, кто такие эти существа. Согласно нашей вере, единственным Богом является Создатель, который не появляется нигде и никогда. Этих же других мы зовем надаку – духи стихий. Они не могут наводить сушь, лично выигрывать битвы или давать чудесные силы избранникам, потому что тогда все начали бы так делать. Наступил бы конец света. Подземная Мать не может приказывать солнцу, потому как не она его создала. И потому, что оно светит и над другими странами, у которых есть свои надаку.
– Я это знаю, но полагаю, что надаку – создания из нашей страны. В Киренене у нас были различные надаку, а еще – Идущий Вверх и Создатель. Может, здесь все иначе? Впрочем, амитраи верят, что Подземная дала жизнь всем существам. А потому она не может быть надаку – поскольку те не творят. И, насколько я знаю, над другими землями солнце светит как обычно.
– А откуда ты знаешь, что она что-то сотворила? Потому что она так им сказала?
– Неважно. Вероятно, мы должны найти способ, чтобы поговорить с этой Подземной Матерью? Амитрай нынче наш.
– Во-первых, – сказал мой отец, – это не так просто. Она не служанка. Не придет по щелчку пальцев. Чтобы призвать бога, надаку или как там его назвать, нужно сделать в их честь нечто, чего они желают, и еще оставаться искренне верующим, желать им служить. Я не хочу совершать кровавое убийство в какой-то пещере, особенно если все это может оказаться зря. А во-вторых, что бы мы могли ей предложить? Что сами себя истребим, а потом введем Кодекс Земли?
– Тогда нужно попросить Идущего Вверх. Или другого кирененского надаку. Вызовем Камарассу.
– Его давным-давно никто не видел. Да и боги не могут вести войны, тохимон. Просто не могут. Уничтожили бы мир и себя.
– Согласно Книге Дороги, иногда так случилось, – заметил я.
– Да, сын. И согласно Книге, тогда был уничтожен мир.
* * *
Дни проходили, а засуха длилась. Казалось, никто не помнит, когда шел дождь. Даже озеро в Облачных Палатах сократилось, вокруг островов и на берегу появились большие языки песка, из воды теперь вырастали скалы, которых ранее не было видно. Наши ручьи превратились в ленивые, едва сочащиеся водяные нити.
Отец решил вывести армию, чтобы та обеспечивала порядок. Амитрайская тяжелая пехота, которая поколениями покоряла свет, теперь должна была установить мир в собственных городах. Дорогами всей империи, изо всех провинций тянулись ряды повозок с бочками воды и пищей. В прибрежных провинциях налоги достигли почти двадцати от сотни, а купцы впали в ярость.
В столице пока было безопасно, но везде виднелись отряды армии с большими щитами и боевыми копьями – в полном вооружении. Горожане, которые никогда не видели собственную армию в боевой готовности, смотрели на происходящее с испугом и недоверием.
Меня же пугало кое-что другое.
Мы шли с Брусом краем улицы, чуть менее забитой людьми, чем обычно. Чем дольше продолжалась засуха, тем отчетливее было видно, что город изменился. Много лавок и контор закрыто. Овощи и фрукты на прилавках были мерзкими, сморщенными и покрытыми коричневыми пятнами. Над берегом реки, под стенами с ревом горели высокие костры. На улицах, везде, где лежала тень, отдыхали изможденные люди, невзирая на мух, которые садились на их лица. Всюду можно было повстречать тех, кто выпрашивал глоток воды.
По улицам толкали повозки на высоких колесах, в них забрасывали тела тех, кто умер от жары или от жажды, поскольку случалось теперь и такое. Также забрасывали на повозки трупы тех, кого находили после восхода солнца. Лежащих на улицах, синих и одеревеневших, с перерезанными глотками и вырванными сердцами. Тех, кто нарушил один из многочисленных законов Кодекса Земли.
Тела сжигали под стенами, чтобы не допустить эпидемий. У костров постоянно кружили группки рыдающих женщин в черных повязках, выглядящих как вороны. Всюду витал смрад жженой плоти и летали мухи. Миллионы мух.
Мы с Брусом смотрели на это и молчали. Отец специальным эдиктом приказал представителям всех культов выдавать пищу и воду, опекать страждущих, но двери большинства храмов были затворены. На стенах же их охрой или сажей рисовали знак Подземного Лона.
– Напьемся чего-нибудь, – сказал Брус. – Пусть бы это и стоило дирхан. Я угощаю.
Работающую таверну мы нашли с трудом. Пальмового сока здесь не было. Мы сидели над кубками разведенного, теплого пряного пива, смотрели на стену напротив, где углем было накарябано: «Близится Огонь Пустыни».
– Если бы только пошел дождь, – процедил глухо Брус. – Обычный дождь. Лучше всего – сейчас. Еще мог бы поспеть второй летний урожай. Тогда мы сразу загнали бы голытьбу в кровавых тряпках назад, под землю, где им и место. Вместе с Подземной Сукой, огнями и пустынями. Город бы ожил. Снова заиграла бы музыка на площадях.
Он отпил теплого напитка и скривился:
– Попахивает гнилью. Мерзавец разводит его водой из реки. Если пойдет дождь, знаешь что я сделаю, Рыжая Башка?
– Что, ситар Тендзин?
– Подарю тебе золотой шекль, ситар Арджук. Да и себе возьму один.
Серединой улицы прошли шестеро солдат. «Двенадцатый тимен, „Канадирский“», – подумал я машинально, глядя на знак на их щитах.
– Что означает этот символ над знаком «черной руки», ситар Тендзин?
– Какой символ?
– Тот, что выглядит как пересекающиеся полукруги.
Брус заиграл желваками:
– Сами себе намалевали. Это «два месяца» – знак Лунных Братьев. Двоих жеребчиков Толстой Бабы, сидящих подле ее засратого подземного трона, – последние слова Брус произнес громко, словно бы прямо в лицо патруля. Раздался хруст, и солдаты остановились, а потом со стуком поставили на землю копья.
– Ты к нам обращался, селюк? – спросил командир и подошел к нашему столику. Солдаты встали кругом, заслонив нас и командира от остальной улицы.
Брус чуть улыбнулся, потянувшись под полу куртки. А потом рука его внезапно выстрелила вперед, а два пальца ухватили кадык командира, словно когтями. Брус вынул из-под куртки тяжелую железную печать и сунул под нос главному. Солдаты замерли. Брус отпустил горло командира и привстал с табурета.
– Очистить щиты, – сказал. – Сейчас же!
– Да, ситар бинхом-пахан, – прохрипел командир. – Это всего лишь чтобы проще с жителями…
– Ты был сотником, ситар Тендзин? – спросил я, когда они ушли.
– Я много чего делал, Арки. Но то, что сделал только что, было глупо. Лучше пойдем отсюда. Мы привлекаем внимание.
Прогулки в город перестали быть развлечением, разбавляющим монотонность моей жизни. Сказать честно, я бы и вовсе предпочел не смотреть на него в таком состоянии. Но мы продолжали ходить. Разговаривали с людьми, прохаживались пустынными улицами, на которых, главным образом, был слышен грохот тяжелых солдатских сапог. Под стенами все так же горели костры. Отец сумел провести большой транспорт воды речными баржами, и потому всякий житель получал ежедневно свое ведро воды. Кроме того, мы доставили воду и пищу во все храмы, кроме Красных Башен, и приказали раздавать их страждущим. Мы постарались, чтобы все об этом узнали. Благодаря этому ходу, щедрость жрецов Подземной перестала быть чем-то особенным. Нескольких жрецов и монахов, пойманных на краже еды, казнили.
Питие илистой, вонючей воды из реки вызывало жестокие болезни, горячку и вздутия, что часто заканчивались смертью. И все же, несмотря на это, ежедневно были те, кто продолжал пить из реки.
А дождь все не хотел идти. День за днем вставало раскаленное, пышущее жаром солнце, и даже безоблачное небо казалось выцветшим.
Предчувствие несчастья висело и над страной, и над Облачными Палатами. В нашем храме день напролет были слышны гонги. Непрестанно возносили молитвы к Создателю, Идущему Вверх и ко всем надаку. День и ночь горели пучки жертвенных лампадок и печально свисали в безветрии молитвенные флажки.
Единственной светлой стороной моей тогдашней жизни были уроки, которые давала мне Айина. Ночами жара донимала еще сильнее, к тому же над нами постоянно висел фатум Гнева Богини, и мы день за днем получали дурные вести. Даже Ведающие были согласны, что засуха, длящаяся так долго, противоестественна. Среди этого постоянного напряжения мы оба старались забыться в бесконечных состязаниях.
Однако однажды ночью она застала меня врасплох.
Я пришел как обычно и скользнул из сада прямо в ее спальню. Айина сидела на ковре в своем вечернем платье, а рядом скромно стояла на коленях гибкая, неизвестная мне девушка. Она держала руки на коленях и неподвижно глядела большими, темно-зелеными глазами. Была моего возраста либо чуть старше и, как и я, имела красные волосы – разве что чуть темнее.
– Это Мирах, – отозвалась Айина. – Нынче ночью ты столкнешься с настоящим противником. Самое время проверить, чему ты научился.
– Айина, – возразил я ласково, – Мирах красива, но я ведь нисколько ее не знаю. Я бы предпочел урок с тобой.
– Я сказала, – отрезала она. – Таково нынче твое задание. Это всего лишь умение. Как езда верхом или сражение. Ты не знаешь, какой конь тебе достанется, и не будешь всю жизнь сражаться со своим мастером войны. Нынче ты померяешься силами с Мирах. И победишь ее.
Она взяла в руки синтар, и через момент уже казалось, что не обращает на нас ни малейшего внимания, поглощенная тихой игрой.
Мирах взяла меня за руку и проводила на возвышение ложа Айины. А потом опустила муслиновый балдахин.
– Не обращай на нее внимания, – шепнула мне. У нее был мелодичный, приятный голос. И она чудесно пахла. – И не слушай, что она говорит о битве. Это никакая не битва, это лишь любовь. Я докажу тебе, что она не имеет ничего общего с войной. Неважно, хотела она тебя унизить или испытать. Пусть получит что желает. Может, мы никогда уже не встретимся, оттого можем оставить друг другу на память немного счастья. Обними меня, господин, и забудь обо всем, а я сделаю так, чтобы ты не забыл эту ночь.
Однако я поверил Айине и решил не дать у себя выиграть. Мирах была чудесна, но я умел вернуть каждую из ее ласк многократно. Я уже научился владеть собой и не сгорать преждевременно. Когда я достиг пика, то почти тотчас сумел ответить и увидел удивление в ее изумрудных глазах. Это было нелегко и продолжалось часами, но наконец я достиг своей цели. Услышал горловые крики, совершенно другие, нежели утонченные притворные оханья, которые она издавала до того; смотрел, как она вьется подо мной, судорожно хватаясь за все, за что удастся, на ее дикие глаза и спутанные волосы, падающие на лицо. Она не притворялась. Айина научила меня, как распознать, когда женщина притворяется.
Когда она вышла, я долго лежал навзничь, не в силах шевельнуться от усталости. Чувствовал себя пустым и легким, словно облако, но притом каким-то образом грязным и униженным. Чувствовал злость на учительницу.
– Полагаю, она позволила тебе выиграть, – сказала Айина. – Но ты все равно справился неплохо.
– Ты хотела моего поражения, – рявкнул я.
– Нет, – прошептала она печально. – Я хотела вернуть мою холодность. Я – учительница.
Часто потом бывало так, что мы встречались вечером, оба печальные и полные дурных предчувствий, поскольку нам надоели засухи, угрозы, замешательства и крики завернутых в ткань жрецов на улицах. Надоели карты, стратегии и грузы воды и зерна, которых уже было неоткуда взять.
А потом мы обнимались, и не было уже ничего другого, кроме наших тел, шелка простыней, запаха ароматных масел и благовоний и черной ночи за окнами спальни.
Именно тогда я ее и победил.
В первый и последний раз.
Позже она лежала совершенно неподвижно, залитая потом, с раскинутыми ногами, дыша тяжело. Не сказала ничего.
Через какое-то время встала на постели на колени и обняла меня.
– Должен был прийти этот миг, – сказала она. – Это конец твоей учебы, Молодой Тигр. Теперь ступай, став богаче знанием, которым владеют немногие, и не забывай, чему я тебя научила. Ничему больше я не сумею тебя научить, тохимон.
Подумать только, еще три удара сердца назад я был горд собой и счастлив. Теперь же я чувствовал себя так, будто остался один в черной пустоте. Словно у меня вырвали сердце, оставив зияющую кровавую рану. Внезапно. Как провалился под лед.
Остолбенев, я глядел на ее смуглое тело и не мог поверить, что вижу ее в последний раз. С этого времени она будет лишь учительницей. Взлохмаченная грива иссиня-черных волос станет для меня лишь искусно заплетенной прической, полной шпилек и заколок, а грудь и лоно с шелковистым треугольником навсегда исчезнут под сверкающими тканями платья.
Горло мое перехватило. Я откашлялся:
– Айина… Это надо бы наконец сказать. Я…
Не сумел. Она закрыла мне рот двумя пальцами и погладила по щеке:
– Нет, тохимон. Ты будешь правителем. Я – учительница императорских детей и стратег. Я научила тебя кое-чему, чтобы ты не стал игрушкой собственного вожделения. Научила тебя танцу тел. Но разве ты не заметил, мой красавчик-тигр, что я не научила тебя тому, что такое любовь? Научила лишь, как с ней справиться. Был только танец. Соки наших тел, пот и страсть. Стоны, а не любовные заклинания. Здесь не было чувств. Разве ты этого не заметил? Мирах, которую ты видел всего одну ночь, дала тебя в тысячу раз больше чувств, чем я за все это время. И теперь я знаю, что ты можешь меня взнуздать и победить. Ты сумел бы сделать это еще много раз. Из-за этого между нами проявились бы чувства, а этого нельзя допустить. Были бы поцелуи, разговоры, слезы и смех. Уже не было бы соревнований – только взаимные подношения. Вместо того чтобы дать тебе свободу выбора, я бы сама тебя оседлала.
– Айина, я помню, что когда-нибудь буду императором. Через много лет. Отец еще молод, и пусть Дорога позволит ему сохранить здоровье. Я неглуп. Но ведь у меня могут быть конкубины…
Она зашипела будто со злостью:
– Что за искушение! Я жила бы рядом со своим принцем, спрятавшись в тень, оседлав его с молодых лет. Первая женщина, давшая ему счастье. Первая, которой он обладал. Та, что учила его с малых лет. А теперь – первая конкубина! А некогда, завтра, через год или десять, я встала бы в тени трона. Скрытая в безопасности, обладая властью над правителем в его спальне. Нет, тохимон. Я не стану подвергать Тигриный Трон такой опасности. Тебе шестнадцать лет, мой принц. Я же уже стара. Мне вдвое от тебя лет. Теперь ты должен искать девушку соответствующего возраста. Свежую, красивую и ласковую. Такую, как Мирах. Забудь о моих поредевших волосах, обвислой груди, морщинистой коже, венах на руках и ногах.
– Но, Айина, ты прекрасна! Мужчины пылают, когда тебя видят. Ты как созревший плод. Сладкий и налитой солнцем…
– Ш-ш-ш… Скажи мне это через десять лет, мой принц. Через десять лет, когда ты все еще будешь очень молод. Тогда я тебе поверю. Теперь же ты говоришь лишь с тем огнем, что я вырвала из твоих потрохов.
Я молчал, пытаясь задавить в себе отчаяние, но чувствовал, что она права, несмотря на то что все во мне против этого бунтовало.
* * *
Потом я пережил черные мрачные дни, ища одиночества, сидя над кубком отвара и глядя перед собой стеклянными глазами. Айина вела себя как всегда. Спокойно, естественно, совершенно как раньше, до того, как мы соприкоснулись в первый раз. Мне казалось, что ей было все равно и что она совершенно не страдает, как страдаю я. И от этого я чувствовал себя еще хуже. Сам ее вид был мне невыносим.
Несколько раз, одинокий в своей спальне, когда я был уверен, что никто не может меня видеть, я позволял себе освободить пожирающее меня отчаяние и горько плакал. Рыдал, как ребенок, но это не принесло мне сильного облегчения. Рыдал, сжимая в руках тот самый железный шар, который получил от Ремня еще ребенком. Мой волшебный шар желаний.
Отчаяние дало мне лишь усталость, благодаря которой я уснул.
Прошла неделя, и мое тело пробудилось. Печаль не прошла, но огонь вспыхнул снова, и тот самый неутолимый голод снова принялся докучать мне.
Ранее, вечерами, я сидел в своей комнате или на террасе, читал при свете ламп, играл на синтаре или флейте. Потом почти каждый вечер принадлежал Айине. Теперь я не мог вернуться к собственным занятиям. Страна распадалась от засухи, везде поднимали голову бунтовщики и враждебные жрецы, а ко всему прочему я потерял Айину. Не было ничего – только поражение, беда, тоска и отчаяние. Весь мир казался мне пепелищем, и я начал мечтать о том, чтобы умереть и уйти к Творцу. Подальше от Огня Пустыни, засухи и Айины.
Именно в такой вечер, душный и печальный, я сидел на подушках, глядя в сад, над которым закатывалось солнце. Я пожелал, чтобы мне принесли пальмовое вино, и ударил в гонг.
Двери отворились, и в них вошли три девушки, которых я никогда ранее не видел. Они несли на подносах вино и миски с фруктами, а одна держала синтар. Они не были похожи друг на друга. У одной – иссиня-черные волосы, у другой – цвета красной меди, у третей – почти белые. Они были молоды, примерно моего возраста.
– Благородный господин, Молодой Тигр, – они склонились в поклоне и замерли.
– Нас прислала фадира Айина, – сказала темноволосая. – Мы – твои новые служанки. Должно нам сделать так, чтобы ты отдохнул от трудов дня и нашел силы и желание на завтра, чтобы заниматься своим благородным трудом. Я – Фиалла, эта, с красными волосами, зовется Тахелой, а беловолосая – Ирисса. Ирисса прекрасно поет и играет на синтаре. Мы все умеем это, но она – несравненна. Голос ее можно слушать часами, забыв обо всем на свете. Я же умею танцевать, и, хотя это не слишком серьезно, но твой отец, владыка Тигриного Трона, однажды милостиво пошутил, глядя на мои неловкие усилия, что ему захотелось бросить все и сбежать со мной на край света. Тахела же умеет рассказывать так, будто ее слова накладывают на слушающего чары, и ей известно больше историй, чем есть звезд на небе. Они веселые и героические, удивительные или смешные. К тому же мы все – мастерицы любовного искусства и умеем сделать так, чтобы ты позабыл обо всем на свете, а утром проснулся новым человеком. В добром настроении и полным сил. Мы знаем еще множество фокусов. Умеем массировать и превращать страдающее тело уставшего мужчины в пружинистое и быстрое, словно у молодого жеребчика. А еще мы умеем молчать и быть невидимыми, если ты того пожелаешь. Умеем также найти совет в печали и успокоить боль. Все что пожелаешь.
– Оставьте вино и ступайте себе, – сказал я деревянным голосом. – У меня уже есть слуга, и ничего более мне не нужно. Я совершенно не в настроении для развлечений, танцев или историй. Что до любви, я сам решу, захочется ли мне когда-либо это делать и с кем. Вы и вправду красивы, а потому передайте фадире Айине мою благодарность. Теперь оставьте меня.
– Мы сделаем как скажешь, благородный принц, – сказала Фиалла, склоняясь еще глубже. – Фадира Айина предвидела, что может случиться именно так, и рассказала, что с нами делать в такой ситуации.
– В какой?!
– Если мы не сумеем, господин, исцелить тебя от печали. Это будет означать, что мы ничего не стоим, и тогда нас отдадут в воинский дом утех при форте в Саурагаре, чтобы развлекать солдат.
– Ты издеваешься, Фиалла?
– Нет, господин. Мы уедем с транспортом и рекрутами через три дня. Фадира Айина составила для этого сопроводительное письмо.
– Ладно, – обронил я со злостью. – Фадира Айина привыкла стоять на своем. Можете остаться моими служанками. А теперь налейте мне вина и отправляйтесь в свои комнаты.
Я взглянул на нее снова и быстро сменил решение:
– Впрочем, мне как раз нужна женщина. Ты останешься, Фиалла.
– Прости меня, господин, но ты был слишком долго погружен в печаль.
– И что это должно значить?!
– Ты болен от огорчения, господин. Одна девушка не справится с такой болью. Нынче тебе нужны мы трое, и нам придется отдать тебе все. Позволь нам заняться тобой и не думай ни о чем. Я обещаю, утром ты проснешься улыбающимся.
Утром выяснилось, что Айина снова оказалась права.
Я продолжал ощущать потерю и тосковал о моей учительнице, но девушки сумели сделать так, что боль с каждым днем уменьшалась. Я чувствовал себя восковой табличкой. Их руки, губы, языки и лона постепенно стирали с меня Айину и вписывали себя. Но, как она и предвидела, ни то ни другое не было любовью. Мудрая Айина знала, что была для меня ментором и мастером. Поверенной. Кем-то, кого я мог узнать равной себе и полюбить всем сердцем. Отдать ей не только вожделение, но и уважение, чувственность, заботу и приязнь. Разделить всякий секрет и выслушать каждый совет. Она знала об этом и потому старалась не выказать мне ни капли чувств.
Мои девочки были сладкими и чувственными. Засыпали меня изобретательнейшими ласками и прибегали на малейший кивок. Исполняли глупейшие мои пожелания. Чего бы я ни пожелал, они непременно горели страстностью и запалом. Комнаты мои были полны хихиканья, словно я держал в них стайку певчих пташек. Однако оставались они служанками и выказывали это на каждом шагу. Я был принцем. Будущим императором. Они – горничными. И так оно и должно было остаться.
Я не выходил тогда в город.
Ситуация же не менялась. Караваны обеспечивали минимум потребностей, под стенами пылали костры, патрули удерживали какой-никакой порядок в главных городах. Всякое утро на улицах собирали по несколько повозок трупов. Казалось, следует просто ждать дождя.
Но дождь не хотел идти, словно небо забыло, как это делается.
Во дворце непрерывно говорили о старой идее, которую давным-давно хотели реализовать: о подведении в города чистой воды из горных речек и ледников, которая потекла бы каменными руслами, подпертыми колоннами. Столбы эти должны были постепенно снижаться, и вода, благодаря наклону, сама бы текла в города. Русла эти тянулись бы на сотни стайе. Мой дед пытался построить нечто подобное, но случилось землетрясение небывалой силы, и строение пало в руинах. Кроме того, надлежало построить во всех городах цистерны для дождевой воды, как в пустынных селениях. Но, пока продолжалась засуха, о том, чтобы начать подобные работы, нельзя было и мечтать.
– Последний дождь был ранней весной, – сказал Ремень, укладывая на столе свитки докладов и рапортов. – Это уже шесть месяцев назад. Ровно через десять дней после того дождя из сердца Нахель Зим пришла Огонь Пустыни. Нагель Ифрия.
– И тогда началось, – ответил я. – Я все еще утверждаю, что это гнев богов.
– Подобная мысль ничего не дает. Особенно учитывая, что пророчица хотела бы, чтобы так думали.
– Кто повстречал ее первым?
– Армия. Десятка пехоты из тринадцатого тимена, называемого «Солнечным», из Камирсара. Это был пост у колодца на торговом пути перед кишлаком Шилгириз. Лучники и пустынная колесница. Она сказала им: «Я прихожу из-под земли и прихожу из пустыни. Приношу вам слово гнева. Потому что вы нарушили закон Подземной Матери и разорвали мир. Заразили святое лоно земли эгоизмом, насилием и похотью. Теперь вы отправитесь со мной или сгорите, ибо я – Нагель Ифрия, Огонь Пустыни, и несу святой огонь гнева. Огонь, который очистит мир и отдаст его Матери. Так, чтобы все сделалось единым».
– И что случилось с теми солдатами?
– Уцелел командир. Потому мы знаем. Увы, тот человек после сошел с ума и повесился. Там были еще купцы, которые пришли к колодцу. Некоторые нынче – ее соратники, другие сбежали, остальные погибли – якобы в пустынной буре, что прибыла на ее гневный зов. Вихри раскаленного песка, которые ободрали их плоть, оставив лишь кости. Но сперва они приняли ее за сумасшедшую. Когда некто приходит с востока на Нахель Зим, да еще в одиночку, понятно, что он может оказаться жертвой солнечного удара. Хотели дать ей воды, но она начала обзывать их, пока командир не натравил, наконец, на нее своих боевых леопардов. Якобы тех самых, которые ей постоянно сопутствуют. Только теперь у них странные золотые глаза. Одни утверждают, что они слепы, другие – что видят теперь куда больше. Это неважно, Молодой Тигр. Я не знаю, что такое та женщина, но все, что нам известно, перемешано со сказками. К тому же часть из них распускает она сама. Полагаю, она просто Деющая. Истинная Деющая, как в старых сказаниях. Такая, что, возможно, нашла исчезнувшие имена богов. Ее нужно убить хотя бы поэтому. Она опасна, как бешеный пес, и столь же непредсказуема.
– Но говорят, что Деющие привязаны к урочищам, – заметил я. – А она, кажется, ходит где пожелает.
– Бывали Деющие, которых урочища изменяют и делают так, что те могут нести часть силы в себе. И снова я повторяю старые сказки. Сам я никогда ничего такого не видел. Зато видел, что происходит, когда некто начинает творить. Появляются призраки и твари, рожденные кошмарами, и потом существуют некоторое время, словно бы они – настоящие. Происходят чудеса. Расцветают камни, вещи меняют форму и природу. Больным, безумным образом. То же самое случается с людьми, которые находятся в окружении Деющего. Они умирают, меняют свою природу и болеют странным, удивительным образом. Все заканчивается, когда это затрагивает самого Деющего. Обычно – быстро. Увы, все Деющие, каких я знавал, были безумны. Дед твой хотел использовать их силу в армии, но ничего не вышло. Они не умели сделать простейшие вещи два раза подряд. В один раз – получалось, в другой – нет, а то и выходило наоборот. Мы несли от этого больше потерь, чем враги. Но здесь мы имеем дело с чем-то другим. Похоже, Нагель Ифрия делает что пожелает, и ей это удается.
– Может ли Деющий вызывать засуху?
– Нет. Это слишком трудно. Мы ведь не знаем, отчего дождь идет или нет. Деющий может что-то поджечь, изменить или создать, но не поднимет гору и не превратит ее в вулкан.
– А боги… то есть надаку?
– Тоже нет. Наверное. Они никогда такого не делали. Наверное, не могут – или им не позволено.
– Я думаю… Может, надаку тоже рождаются, и эта Нагель Ифрия – просто новая разновидность? Неопределенная, потому что молодая.
– Тогда отчего она призывает Подземную? Если бы сама была надаку, желала бы почестей для себя. Впрочем, я никогда не слыхивал, чтобы появлялись новые надаку. Вот уже сотни лет они – одни и те же. Кажется.
Так выглядели наши утренние рапорты о состоянии государства. Вместо того чтобы анализировать торговлю, политику и армию, занимались мы засухой и пророчицей. От этого было не сбежать.
В городе улицы почти опустели. Мы шли с Брусом через залитые солнцем площади и смотрели на немногочисленные работающие лавочки. Прохожие шмыгали, согнувшись, в тенях и по боковым улочкам. Все носили куртки и портки в бурых кастовых цветах. Таверны прятались за закрытыми ставнями, и было нелегко сказать, открыты они или нет. Приходилось стучать и ждать. Порой дверь открывали, и можно было проскользнуть сквозь щель в мрачное, душное нутро, где сидели молчаливые люди с лицами, закрытыми капюшонами пустынных плащей или под полями шляп.
На стенах то и дело встречался символ Подземной Матери или надписи вроде: «Глядите на пустыню! Грядет Огонь!»
Но, кроме этого, в Маранахаре царило спокойствие. Везде, кроме площадей и храмов, где выдавали воду, потому что там всегда клубились толпы. Однако было это странное спокойствие, мертвое и страшное. В воздухе висело некое ожидание. Словно близилась гроза или готовился взорваться вулкан.
На перекрестках стояли палатки из копий и плащей, в них сидели солдаты с красными лицами и обожженными солнцем спинами, без шлемов и с головами, накрытыми мокрыми платками.
Было не только горячо, но и душно, а воздух был сер от мух.
* * *
А потом пришла та ночь… Страшная ночь второго полнолуния. Я спал легким, болезненным сном, мокрый от пота, многократно просыпался, и мне казалось, что я вообще не сплю, а просто лежу в темноте, глядя на ночной сад и вслушиваясь в легкое дыхание моих девочек. Но я наверняка видел сны, потому что казалось мне, что я вижу фигуру в капюшоне, которая приближается со стороны озера. Был на ней исключительно широкий плащ, сияющий яркой краснотой, расширяющийся книзу, а ладони спрятаны в широкие рукава. Я не видел лица – лишь овальную дыру капюшона, наполненную чернотой. Плащ легко покачивался и приподнимался, будто тончайший муслин или измятый тончайший свиток. И отсвечивал темно-оранжевым блеском, отбрасывая тошнотворный рыжий свет на озеро, траву и кусты. Все вокруг мигало, а на патио стояла мрачная фигура в капюшоне, одетая в плащ из пламени.
Я знал, на что смотрю. Это Нагель Ифрия. Огонь Пустыни. Она пришла за мной.
Я проснулся с таким чувством, будто падал. Снова лежал в спальне, весь мокрый от пота. Услышал шепотки моих девочек. Столь тихие и легкие, что я принял бы их за шепот ветра в листьях – только уже месяцы, как ветра не было. Кроме того, я чувствовал щекотку на груди, словно по ней ходила муха.
– Придержи ему ноги… Ляг на них… – узнал я голос Тахелы. – Может, он вообще не проснется…
Еще никогда в жизни я так не пугался.
– Ты сядь у него на спине, – шептала Фиалла.
Я услыхал тихий скрежет ножа, вынимаемого из ножен.
Я открыл глаза, и слишком многое произошло одновременно. Во-первых, на груди моей находилось отвратительное насекомое, шагающее на восьми согнутых ногах и покрытое бронзовым панцирем, с поднятой плоской головой, которое заканчивалось изогнутыми клешнями. Было оно размером с мою ладонь. Я взглянул прямо в отливающие золотом четверо глазок, кажущихся драгоценностями.
Прежде чем я успел шевельнуться, Ирисса всем телом бросилась на мои ноги, а Тахела внезапно выросла из тьмы за моей головой и уселась на моих плечах, присев на лицо и сжимая голову бедрами.
Я вздрогнул, ощутив прикосновение холодной стали к груди, но через миг понял, что они не хотят меня заколоть. Фиалла всунула клинок под сидящее на моей груди насекомое и молниеносным движением послала его в воздух.
Тахела поднялась с моего лица, и я успел увидеть, как насекомое извивается в воздухе, словно змея, и тяжело падает на пол. Упало навзничь, резко перебирая ножками, после чего выгнулось молниеносно и оттолкнулось клешнями от пола. Тахела прыгнула, словно ласка, подхватила хрустальную чашу, полную фруктов, высыпала их, после чего бросилась на пол и накрыла насекомое.
– Зовите стражу! – крикнула. – И зажгите свет. Их может оказаться больше!
Я услышал треск огнива, и в комнате вспыхнул мигающий огонек лампы. Ирисса скатилась с моих ног.
Я уселся на постели и стал смеяться.
И тогда увидел его. Одетого в темно-красное, остававшегося, пока мы не зажгли свет, лишь пятном темноты посреди мрака. Даже лицо его было закрыто тканью. Стоял он неподвижно у садка – точно в том месте, где во сне высилось видение в капюшоне.
Я крикнул, вскакивая на ноги и подхватывая меч со стойки.
– Стража! Шпион в замке! – дико заорала Тахела.
Я сбросил с меча ножны, но в тот же момент нападавший встал и резко махнул рукою. Что-то свистнуло, Ирисса прыгнула, заваливаясь на меня спиной, и толкнула назад, так что я не сумел атаковать.
– С дороги, девушка, не то он сбежит! – крикнул я, отскакивая, и бросился в погоню.
Одеяния нападавшего захлопали, когда он мгновенно, словно лис, развернулся и прыгнул в сторону. В воздухе блеснул узкий клинок. Я отбил его и рубанул нападавшего через лоб, но тот сумел уклониться и молниеносно нанес укол мне в глаза. Я не сумел бы его отразить, пусть бы даже тренировался всю жизнь. Но в тот миг из комнаты вылетел большой темный диск и ударил с жестяным грохотом его в руку. Было это лишь мгновение, мне подаренное, но я сумел его использовать, воткнув клинок глубоко ему в живот. Почувствовал, как тот пробивает слои материи и погружается в его внутренности.
Серебряный поднос со звоном покатился по камням террасы и упал в траву.
– Ифрия… – прохрипел человек и навалился на меня, надеваясь на меч по самую рукоять. Клинок вышел у него из спины с треском разрываемой ткани. Я отпрыгнул, не сумев освободить меч. Наемный убийца шагнул, вихляясь, в мою сторону, протянул руку, но лишь проехался пальцами по моей груди, оставляя на коже полосы крови.
Тахела ударила в него всем телом с диким писком, и они свалились с террасы. Я прыгнул за ней, но она уже сидела на его груди, раз за разом втыкая удерживаемый двумя руками меч.
Я перехватил ее руки, крепко обнял и аккуратно вынул оружие из рук.
– Все… все… – прошептал я, прижимая ее. У нее были дикие глаза и пена на губах.
– Ириссаааа! – завыла она страшным голосом.
Я обернулся.
Ирисса стояла почти в том же месте у постели, где она столкнулась со мной. Глаза ее были широко распахнуты, кулачки сжаты, а точно между грудями торчал рукоятью вниз какой-то нож с широким клинком, словно приклеенный к телу.
Я бросился к ней и схватил за плечи. Ирисса внезапно кашлянула и плюнула красным, а через миг ручеек крови потек из уголка ее рта. По подбородку и вниз по животу. Я положил ее на землю и удерживал в объятиях. Услышал страшный дикий визг: «Стража! Медика!» – и понял, что воплю я сам.
То, что торчало из ее груди, имело рукоять, оплетенную ремнем, и странный клинок, разветвляющийся во все стороны острыми гранями, как лист. Одна из этих граней теперь торчала в теле моей сладкой Ириссы – вместо моего тела.
Когда наконец к нам прибежали, я продолжал стоять на коленях, прижимая Ириссу, весь забрызганный кровью, и издавал дикий хриплый вой, что звучал будто голос волка. Я долго не позволял оторвать себя от тела, несмотря на то что оно успело остыть.
* * *
– Он прошел через стену. Не знаю, каким образом. Троих стражников мы нашли с перерезанными глотками, одного – с ранами от клинка, которым он убил наи Ириссу. – Ремень говорил твердо и по делу, но было видно, что он в ярости.
– Хватит, – процедил император. – Говорят, что наемный убийца умер с именем пророчицы на устах. Это покушение на Тигриный Трон. Сейчас же приготовить план удара по Красным Башням. Все жрецы должны быть арестованы. Где обнаружатся следы кровавых человеческих жертв, там казнить всех жрецов. Башни разрушить, все богатства и припасы конфисковать. Послужат для жертв засухи. За пророчицу, называемую Огонь Пустыни, назначить награду. Тысячу дирханов за мертвую, и только за мертвую. Культ Подземной будет объявлен преступным. Всякий, кто станет носить его знаки, одежды или станет взывать к надаку публично, будет арестован и отправлен на военные галеры на три года. За обращение к Кодексу Земли и угрозу кому-либо смертью или проклятием – пять лет.
Он встал.
– И еще одно. Я запрещаю почетные самоубийства. Командир надомной стражи пал на свой меч. А он между тем мне нужен. Всякий мне нужен.
– Отец, – прохрипел я. Чувствовал себя так, словно в глотке моей была пустыня. Уже не ощущал печали – один лишь тупой гнев. Холодный, словно лед. И я знал, что гнев этот останется во мне надолго, а может, и навсегда.
– Да, Молодой Тигр?
– Наи Ирисса спасла мне жизнь. Заслонила меня от клинка. Прошу, чтобы похоронили ее в Саду Тишины с ритуалом, надлежащим военному герою.
– Хорошо. Она получит посмертное звание пахан-дея надомной стражи. Ее семья получит обычную выплату, как за гибель офицера на войне. Она была твоей наложницей?
– Отец, я покорнейше прошу, чтобы ты официально сделал ее моей первой конкубиной.
– Согласен.
– Теперь еще то насекомое, – сказал Ремень. – Мастер Зверей утверждает, что выглядит оно как пустынная сколопендра, только в пять раз больше и что оно бронзово-красное, а не золотое. Говорит, таких насекомых не бывает. Обычно сколопендры обитают подобно муравьям и предельно ядовиты. То, что вползло в комнату, согласно расчетам Мастера Зверей, могло бы убить шесть лошадей или двух каменных волов. Это было настоящее орудие убийства. Если бы этой твари повезло чуть больше, она убила бы не только Молодого Тигра и его служанок, но и половину обитателей Дома Стали. Мы не знаем, откуда взялся убийца, но, увы, он может оказаться предателем. На теле у него есть свежие шрамы там, где ветераны носят татуировки. И еще одно. У него на глазах бельмо.
* * *
Тело Ириссы облачили в доспехи пахан-дея надомной стражи, прикрыли щитом и положили ей на грудь сломанный меч. Погребение происходило в тишине, как все кирененские траурные церемонии. Только когда костер погас, Фиалла тихо запела «Долину Черных Слез». Я слышал ее пение и тихие мерные удары военного барабана. И тогда я заплакал, но плакал как взрослый. Как солдат. Беззвучно и без гримас – только по щекам моим текли слезы.
Она получила простой военный курган из диких камней, с каменной лампой, освещающей Дорогу.
На жертвенной чаше я приказал вырезать, кроме символа Тигра, изображение синтара.
Ирисса ушла Дорогой Вверх.
А мы остались одни.
План был подготовлен. Заняло это всего несколько дней, как если бы стратеги уже имели его в ящичке и лишь ждали нужного момента. Ночью раздались сигнальные барабаны. Их грохот несся от дворца к гарнизонам на путях, передаваемый от одного к другому, через города, транспортные узлы, до самых дальних прибрежных и пустынных фортов.
Все гарнизоны получили приказ готовиться к выступлению и собирать силы. Каждый должен был ударить по Красным Башням в своем городе. Собрали боевые колесницы, а перепуганные горожане впервые услыхали нечто, что до того времени пугало лишь жителей покоренных земель, – подобное слоновьему рыку пение рогов загонщиков.
Ночи напролет было слышно, как форты и отдельные отряды разговаривают друг с другом при помощи барабанов.
В столицу вошел семнадцатый тимен пехоты, называемый «Каменным», с осадным оборудованием, груженным в фургоны.
Через три дня после получения приказов из дворца, когда стало бы ясно, что они добрались до всех гарнизонов и отрядов, армия должна была создать кольцо вокруг Красных Башен и ударить по всем одновременно. Ровно в час волка, между полуночью и рассветом.
На третий день в час волка.
Но в ту ночь пошел дождь.
Тучи натянуло на закате, а ночью разразилась гроза. На растрескавшуюся от жары землю обрушилась стена воды. Молнии били, не переставая, а когда грянул первый гром, я вскочил с постели. Дождь лил так, что было ничего не видно на расстоянии вытянутой руки. С крыш вокруг патио рушились водопады, а по саду текли ручьи.
Мы долго сидели, обнимаясь втроем, вслушиваясь в столь желанный дождь и непрестанный треск молний. Призрачный, фиолетовый свет выхватывал из мрака наши сплетенные тела, я видел лица Тахелы и Фиаллы, и мне казалось, что в свете молний я вижу еще и Ириссу.
Такими я их запомнил. В сверкании молний, в грозе и порывах столь желанного влажного воздуха, в плеске дождя. На миг мне захотелось выйти прямо под ливень, но давным-давно забытое чувство холода привело к тому, что на меня опустилась усталость, и я крепко уснул, несмотря на грозу. Пожалуй, так крепко я не спал уже несколько месяцев.
* * *
Разбудил меня рывок за плечо. Я неохотно очнулся, завернутый в простыни. Было темно, за окном продолжала буйствовать гроза. Девушки ходили по комнате, Фиалла высекла огонь, и тогда я увидел Бруса. Он стоял над моей постелью в темно-желтых одеждах касты синдаров и держал какой-то сверток.
– Одевайся и ни о чем не спрашивай! – обронил он столь напряженным голосом, что я испугался. Кажется, он сказал что-то еще, но слова его заглушил гром, что долго перекатывался над дворцом и городом, словно по крышам ездили боевые фургоны.
Кто-то с топотом пробежал по коридору. Я услышал отдаленные крики.
Почувствовал, как холодеет у меня в животе, словно внутренности мои стянуло морозом. Брус бросил мне одежду для переодевания – ту, в которой я ходил в город. В Доме Стали никто не бегал по ночам. Никто здесь не кричал. Никогда.
Надевая штаны и неловко завязывая вокруг голеней ремни подорожных сапог, я уже знал, что-то случилось, только не знал, что именно. Фиалла встала передо мной на колени и пыталась мне помочь, но руки ее тряслись. Я приподнял ее лицо и увидел, что щеки девушки мокры от слез.
– Рубаха! Быстро, нет времени! – потребовал Брус.
– Мы идем в город? Ты хочешь увидеть сражение? Удар по Красным Башням, – осенило меня. – Мы там нужны?
Я был еще сонным, потому говорил такие глупости. Я надел рубаху и взял из рук Тахелы куртку.
– Предательство! – крикнул Брус. – Армия перешла на сторону Подземной! «Каменные» штурмуют Тигриный Дворец! Твой отец мертв! Молю, одевайся, Владыка Тигриного Трона!
Таким образом, ошеломленный и охваченный страхом, застегивая трясущимися руками крючки кафтана и набрасывая плетеный соломенный плащ, подхватывая дорожную корзину и посох путника из рук Бруса, я узнал, что стал императором.
– Одевайтесь! – крикнул я девушкам.
– Мы встретимся позже, – крикнул Брус. – Найдите фадиру Альхаму, она скажет, что вы должны делать. Бегом! Благородный господин! Мы должны добраться до Ремня!
Без разницы, что ты – император, владыка мира, Пламенный Штандарт и Первый Всадник. Если некто разбужен посреди ночи огня, хаоса и грозы, чтобы узнать, что мир рушится, куда правильнее некоторое время попросту не командовать.
Я помню все как сон. Дурной сон, словно бред от болотной лихорадки. Множество хаотичных картин, одна на другой.
Помню рыжий мерцающий проблеск на мокрой траве патио, такой же, как в моем сне. Помню непрестанный шум и грохот, доносящийся издалека между ударами грома. Помню шум дождя, бьющего в крышу.
Мы бежали коридорами. Меж комнат, мебели и ковров тянулись полоски седого дыма. Коридор, которым мы не могли пройти, потому что в нем толклась надомная стража. Помню сомкнутые спины в броне и стену шлемов, словно уличная брусчатка. И жуткий грохот откуда-то спереди. Крик, оглушительный крик множества глоток. Вонь дыма и крови.
Комната Птиц, в которой уже стояла ревущая стена огня и откуда нам пришлось отступить. На полу и коврах, среди оранжевых стреляющих под потолок языков пламени, лежали тела.
Какое-то патио, куда падали стрелы. Дождь горящих стрел, которые жужжали, словно гигантские пчелы, и тянули за собой ленты дымов.
Брус тянул меня за плечо, мы пробегали очередными коридорами, а потом, в потоках дождя – напрямик, через сад.
Вдали вставал Тигриный Дворец, напоминавший вулкан. Словно темная гора, увенчанная ревущим столпом огня.
– Огонь Пустыни… – прошептал я тупо.
Мы миновали несколько слуг, бегущих куда-то с копьями в руках и звенящими полупанцирями с расстегнутыми ремнями, кое-как наброшенными на тело.
Коридор, в котором несколько наперсников, забрызганных кровью, безрезультатно атаковали в бешеной ярости стену щитов, ощетинившихся копьями. Шли они по трупам своих товарищей и гибли один за другим, валясь на баррикаду из тел.
Болотная лихорадка. Дурной сон.
Помню это как сон.
Снова залитый дождем сад и капли, будто искры, посверкивающие в сиянии пожара.
И моя Айина.
Нагая Айина, танцующая с круглым кебирийским щитом и с саблей в руке среди дождя и атакующих солдат. Такая, какой я запомнил ее в ту ночь, когда впервые увидел ее тело.
Только теперь были дождь, огонь и кровь.
Я помню черные доспехи «Каменного» тимена, прямоугольные щиты, на которых нарисованы «два месяца», и сверкающие наконечники копий.
И тела, лежавшие вокруг.
И Айина. Я видел, как она цепляет краем щита выпуклый гоплон солдата и отводит его, как рубит его по горлу, как отскакивает назад, пружинисто, словно пантера, чтобы через миг снова подскочить и рубануть – плоско, по ногам, толкнуть падающее тело и отскочить снова, в то время как два копья прошивают воздух и землю в том месте, где она только что была.
Я видел.
В кошмарном сне.
Мою Айину.
Она танцевала. Клинки с грохотом отскакивали, соскальзывали с кебирийского щита; я видел, как «Каменные» опасливо отступали, глядя на нагую воительницу, залитую кровью и дождем. Я видел, как Айина дико улыбается и проводит кривым хребтом сабли по губам, слизывая с нее кровь, а потом – прыгает снова, и голова в черном шлеме кувыркается в воздухе. Как она прыгает ногами на щит, опрокидывая сгрудившихся за ним людей.
И я видел, как смыкается вокруг нее круг щитов, как она танцует посредине, звеня саблей о стену гоплонов.
Круг сомкнулся и сжался.
Потом я видел лишь спины в черной броне, что как стая крабов рвали нечто друг у друга.
А еще позже – крик радости и руку, возносящуюся над толпой, держащую за иссиня-черные волосы голову моей учительницы. Моей Айины.
Вижу красное от крови лицо и глаза, словно дыры, сквозь которые видна ночь.
Слышу триумфальные крики: «Ифрия! Ифрия! Ифрия!»
Я видел это.
В моем сне.
Кажется, я кричал и порывался броситься в битву. Помню, как искал оружие, как удалось мне свалить Бруса и как в следующий миг он повалил меня. По крайней мере мне кажется, что я помню.
Как бред от болотной лихорадки.
Очнулся я в Комнате Свитков возле одного из входов в тайный коридор.
Среди полок, наполненных кодексами, стихами, трактатами, картами и сказаниями.
На Ремне были наголенники и панцирь из кожи каменного вола, лоб он покрыл перевязью с бляхами и как раз застегивал под подбородком кованые нащечники.
Видел я его неясно, как сквозь туман. Мне казалось, что Комната Свитков полна дыма. Голос Ремня доходил до меня будто сквозь подушку:
– Он ранен?
– Нет, ситар Ремень. Я оглушил его, поскольку он рвался в бой.
– Ты правильно сделал.
Отзвуки сражения доходили сюда приглушенными, словно отдаленная гроза.
– Ремень… – пробормотал я. – Отец мой мертв… Айина мертва…
– Знаю, благородный император.
На миг я пришел в себя:
– Моя мать! Мой брат! Мать-императрица! Мои сестры! Бежим! Дом Киновари на юге! Нужно собрать людей! Прикажи бить в барабаны и призывать помощь!
– Благородный господин, твой брат, благородный князь Чагай, погиб на пороге Дома Киновари, обороняя вместе со стражей вход в комнаты. Погиб с мечом в руках, сражаясь подле своих сестер и учителя. Дом Киновари уже занят и разрушен. Все его обитатели убиты, а павильоны подожжены.
– Ремень! Что он говорит?! Это невозможно!
– Он говорит правду, тохимон, – Ремень застегнул щитки, упер ногу в бесценный стол и принялся затягивать ремешки наголенников.
– Тогда дай мне оружие, – сказал я. – Как видно, пришел день, чтобы умереть. Старый мир закончился, а нового я не хочу видеть.
– Благородный император, кай-тохимон клана Журавля, последний правитель династии Тенджарук, вот последний приказ твоего отца. Он звучит: ты не можешь умереть.
Он взял меня за плечи и заглянул в мое каменное бледное лицо. Я трясся.
– Неси в себе наш мир, тохимон. Ты не можешь нынче погибнуть в сражении, как нельзя было прадеду твоему погибать в битве в долине Черных Слез. Уйди в изгнание и выживи. А потом возвращайся и верни Тигриный Трон. Вернись, когда подданные твои узнают, что такое власть Подземной Матери и Красных Башен. Собери кирененцев из всех кланов. Собери всех свободных людей среди амитраев. А потом повали Красные Башни в пыль и положи голову Нагель Ифрии на моей могиле. Так сказал твой отец.
– Я не уроню чести своего клана! – крикнул я. – Мы – кирененцы! Мы – Клан Журавля! Ты же помнишь?! «Никто не останется в одиночестве, во власти врагов. Мы не отдадим ни его тела, ни его души. Где сражается один, туда придут и все остальные! Никто не будет оставлен, никто не будет забыт!» Ты помнишь, Ремень? Там сражаются наши братья, а ты хочешь, чтобы я сбежал?!
– То же самое кричал твой прадед. Но он послушался, благодаря этому мы получили Тигриный Трон и возродились из пепла. А сейчас ты уйдешь, тохимон. Помни, чему я тебя учил. Брус тебя поведет. Он знает, куда идти и что делать. Неси в себе все, что прекрасно и что убивают нынче ночью. Помни обо мне, об Айине, об Ириссе, о твоем брате. Помни обо всех. Помни о Маранахаре, который нынче умирает. Помни. Ты теперь – живая память. Если погибнешь или забудешь, мы все тоже погибнем по-настоящему. Ступай, Молодой Тигр. Иди Дорогой Вверх. А потом вернись и отстрой Киренен.
Ремень уложил на стол два узких нарукавных щита. Сунул руку по локоть в первый и поднял его тройным острием вверх, а потом прижал им второй щит и сунул туда вторую руку.
Крики и топот в коридорах раздавались все ближе.
Брус взял меня за плечо. Аккуратно, но решительно:
– Уже пора, господин.
– Нет! – крикнул я. – Еще нет! Все погибли! Позволь мне хотя бы попрощаться с ними. Я не могу потерять еще и Ремня! Я – император! – Я внезапно выпрямился. – Сын Седельщика из Клана Журавля, я не нарушу приказ моего отца, но ты отправишься со мною.
– Не только ты получил последний приказ, тохимон. Мой звучал: проследи, чтобы они убежали.
Раздался грохот выламываемых дверей. Доски полетели на самую средину, между свитками и коврами. Сквозь щель были видны черные лоснящиеся от дождя и крови доспехи, словно там клубились насекомые.
Ремень махнул руками и со скрежетом скрестил клинки, высекая пучок искр. А потом повернулся и внезапно обнял меня – осторожно, чтобы не перерезать мне глотку торчащим из щита острым как бритва трезубцем. И поцеловал в лоб. Сказал:
– Уходи, Ромассу.
«Уходи, моя жизнь».
Брус потянул меня за руку.
Глава 7 Танцующие змеи
Долог твой путь – и опасный, и дальний, —
Но держится дольше любовь!
Доблестен будь – и желанное сбудется,
Если не враг тебе Рок.
Песнь о СвипдагреКорабли Змеев отплыли. Не знаю, на другую сторону фьорда или вообще убрались. В любом случае, в порту их не видно. Все указывает на то, что, даже если всякий может приехать на осеннюю ярмарку, Людей Змея здесь не любили. Что мне крайне невыгодно, поскольку это единственный след, на который я пока напал. Надо бы прижать какого-нибудь Змея. Проблема в том, что они не выглядят душой компании.
Прохаживаюсь по набережной и захожу в богатые конторы. Кроме прочих, к высоко мною ценимому Грулю Соломенный Пёс. Ищу вещи.
Просматриваю целые кучи мелочовки, при виде которой у любого антиквара запотели бы контактные стекла. Запонки, шпильки, ножи, кубки, огнива, амулеты, бижутерия. Некоторые грубые, другие удивительно искусные. Плетеные петли, наводящие на мысль сложные узлы на ремнях или спутанные корни. Стилизованные звери, человеческие фигуры и знаки страннейших алфавитов. Литые, кованные, гравированные и шлифованные. Просто чудеса.
Но я ищу зажигалку. Итальянскую бижутерию. Губную помаду. Швейцарский ножик. Компас. Простые туристические гаджеты из спортивного магазина. Мегапирные ампулы. Бинокли. Складные столовые приборы из нержавеющей стали. Зубные щетки. Все, что может встретиться. Поскольку оно не содержало никакой электроники, будет здесь действовать и удивлять. Что угодно, хотя бы нож ныряльщика, могло вызвать фурор и быть продано за немалые деньги. Нож ныряльщика – острый как бритва, плавающий, в ножнах из черного и ярко-желтого пластика.
Ничего.
Когда я спрашиваю о плавающем ноже, который не надо затачивать, о металлических, но легких бутылках, в которых горячий напиток остается горячим, а холодный не нагревается, пусть бы бутылка лежала на солнце, или о стеклянном забрале, в котором видно под водой, – я встречаю взгляд, полный сочувствия, и от меня слегка отступают. Никто не делает жестов около лба, но это, наверное, потому, что у них безумие не до конца ассоциируется с мозгом.
Вместо этого мне показывают камень, который, подброшенный вверх, всегда показывает дорогу; барабан, призывающий волков, или топор, который, стоит положить его перед отъездом под кровать, неминуемо низведет смерть на любовника жены.
Я благодарю.
Я разведен, как-то обойдусь без стаи волков и остаюсь глубоко убежденным, что камень, подброшенный вверх, прежде всего, упадет мне на голову.
Напоследок я прохаживаюсь среди лотков. Осматриваю чудаковатые одежды, высматривая джинсы, полярные парки и куртки из термотекса.
Вместо этого есть мечи, опущенные в пустые бочки, словно зонтики, или подвешенные на колышки за ножны; кольчуги, висящие на палках, вставленных в рукава; ряды шлемов, целые заборы копий и луков.
Я покупаю толстый пучок стрел. Целую вязанку, насчитывающую пятьдесят штук. Однако не натыкаюсь ни на один полезный след и в конце концов оказываюсь за столом в компании печеной половинки какой-то птахи и краюхи хлеба.
Отрываю кусочки мяса, запиваю пивом и мечтаю о круассанах с джемом. Или о гренке с salata iz hobotnice. Я высматриваю Людей Змея. Те, на корабле, имели татуировки не только на руках, но и на лицах. Одевались, скорее, в черное и имели черные же, чем-то смазанные – будто смолой – волосы. Они отличались.
Однако те, которые на меня напали, выглядели как типично местные. В коричневом, алом и в оливковой зелени, как все здесь. Портки, длинные блузы, какие-то куртецы. Когда б не татуировки и кулоны, непросто было бы распознать в них Змеев. К тому же они появились до того, как приплыли те корабли.
Были у них бороды, а Змеи бреются. Однако обычно здесь носят короткую щетину. Такую бороду можно отрастить за неделю. Не понять, свежая она или постриженная. Похоже, мои мертвые приятели старались раствориться в толпе.
– Купи мне пива, Спящий-на-Дереве, – слышу я скрипящий, резкий голос.
– Я рад тебя видеть, Воронова Тень. Что, дела идут плохо?
– Нет, но, уж если я тебя повстречал, пусть с того будет хоть какая-то польза.
– А что получу я, кроме того, что переведу здесь немного скверного пива?
– Когда глупец встречает мудрого, с этого всегда бывает польза. Люди могут подумать, что у него есть маленько мозгов, раз он сидит с мудрым.
– Это снова польза для тебя.
Однако я купил ему пива.
– Раз уж ты настолько бывалый, не скажешь ли мне, что ты знаешь о Людях Змея, или мне нужно для этого выиграть в «короля»?
– У них две руки, две ноги. Когда приходит ночь, они спят, а когда встанут, идут в кусты помочиться. По воде идут под парусом, по льду ездят на лыжах. Лучше всего убивать их железом. Глупца легко узнать по тому, Спящий-на-Дереве, что он задает глупые вопросы.
– Где они живут?
– На востоке, за Землей Огня. Можно приплыть туда, идя вдоль побережья, или с другой стороны фьорда Драгорины, или срединой – идя горами. А зачем тебе они?
– Может оказаться, что один из тех, кого я ищу, попал к ним.
– Ну тогда проблемы нет. Поставь ему где-нибудь у дороги поминальный камень и выпей за его упокой.
– Нет, пока я не увижу труп.
– Ты скорее увидишь свой собственный.
– Меня не так легко убить.
– Что ж, я слышал об этом. Слушай, что я тебе скажу, Спящий-на-Дереве. В такой край, как Земля Змеев, не входят трактами, прося о ночлеге. Говорят, он охвачен холодным туманом, а потому не верь ничему, что тебе там скажут, или даже тому, что сам там увидишь. Но здесь не будь так подозрителен. Рассудительный муж знает, кого опасаться, и умеет отличить врагов от друзей. Если некто предложит тебя подвезти – соглашайся. Если найдешь друга, не бросай его неосмотрительно, если он захочет с тобой идти. Не отказывайся и от гостеприимства. Идет осень, лучше иметь над головой крышу, чем тучи. Лучше сидеть у огня, чем брести по мокрому снегу. И, прежде всего, не позволь отобрать у тебя то, что ты приобрел. В Земле Змеев не принимай неосмотрительно ни глотка воды, ни куска мяса, ни тела женщины. И следи за ногами. Змей кусается.
Он заглядывает в кувшин и кривится, после чего решительно переворачивает его вверх дном. Я киваю и иду за следующим. Мне интересно, что старик расскажет мне еще.
Когда возвращаюсь, буквально через три секунды, лавка у стола пуста. Осматриваюсь, но Вороновой Тени нет нигде в поле зрения. Зато я вижу Грюнальди Последнее Слово, что стоит в обществе с молодым Атлейфом. Машут мне радостно. Хорошо. По крайней мере кто-то выпьет это пиво.
– Куда пошел тот, с кем я говорил?
Грюнальди приподнимает брови:
– Ты сидел в одиночестве. Смотрел перед собой, а затем встал и пошел за пивом. Я с тобой поздоровался, но ты не услышал. Не видел, чтобы ты с кем-то говорил.
Я смотрю на них, остолбенев. Атлейф кривит губы в гримасе типа «не смотри на меня, я ничего не видел» и тоже качает головой.
Я сажусь и сразу отцепляю от пояса рог. Грюнальди снимает крышку с кувшина и нюхает содержимое.
– После месяцев в море, – говорит, – любое пиво хорошее. Даже то, которое страндлинги варят на осенний тинг из козлиной мочи, рыбьих костей и помоев. Знают, что мореходы осушат все бочки.
– Когда начнется тинг? – спрашиваю я.
– Не знаешь? Он уже идет.
Чувствую себя как в школе. Отчего все вокруг откуда-то всё знают, а я – нет? Словно дурной сон. «До какого нужно сдать химию?» – «Ты что, не знал? До вчера!» И потом так всю жизнь.
Я встаю.
– Я должен туда пойти! Говорил вам – кое-кого ищу. Хотел о нем там провозгласить.
Атлейф качает головой:
– Это так не делается. Не позволят тебе ничего оглашать в Кругу Камней. Там происходят большие советы стирсманов и важнейшие суды. Там разрешают споры между целыми землями. Нельзя просто войти и что-то оглашать, тем паче что ты – чужеземец. А малых кругов, где разрешают обычные споры, слишком много. К тому же там полно зевак. Сидят даже на скалах и деревьях, потому что хотят наблюдать за поединками. А может, случится и казнь. Найми крикуна.
– Кого?
– Он прав, – говорит Грюнальди. – Крикуна. Того, у кого хорошая память и громкий голос. Дашь ему пару медяков, и он станет ходить по селению и ярмарке, выкрикивать тех, кого ты ищешь, кричать, что ты здесь сидишь. Сюда приезжают люди искать тех, кто поплыл за море и не вернулся, женщины расспрашивают о своих мужьях, люди и сами по себе теряются каждый миг. Тут же моряков как сельди в бочке. Легко найдешь крикуна: те одеваются пестро, и у них палка с петушиными перьями на конце.
* * *
Ну я и нанимаю крикуна, одетого в яркую куртку, обшитую заплатами разнообразнейших цветов и колокольчиками. Выглядит он как шут, но действительно обладает прекрасной памятью. Понятия не имею, как он это делает. Главное, что при виде серебряного секанца он аж кипит от энтузиазма. После нескольких попыток выкрикивает полное описание разыскиваемых с чуть обезображенными фамилиями, а вместе с ними – вполне понятное сообщение на английском: «Эвакуация! Возвращайтесь домой! Спасательный отряд на месте! Ищите Ульфа Ночного Странника. Станция Мидгард-II, возвращайтесь домой!» Голос у него словно иерихонская труба. От первой же попытки у меня звенит в ушах.
Формулировка «rescue team is here» по отношению ко мне одному, вероятно, несколько громкая, но я не хочу отбирать у моих потерпевших катастрофу душевные силы. Пусть воображают эвакуационный отряд из десятка человек, обвешанный оборудованием. Если поймут, конечно, что значит: «Грюбба запысательная ест дут!»
Теперь могу вернуться к столу и продолжить попойку, поднимая рог с чувством исполненного долга.
– Ты хотел идти с нами, когда мы станем покупать рабов, – замечает Атлейф. – Нам придется купить человек двадцать мужчин и несколько девушек. Я двух, Грюнальди двух. Нужны и на весла, и в дом.
– Пойду. Дело в том, что те, кого я ищу, могли попасть в неволю. Откуда берутся рабы?
– Ну, прежде всего, какой-то раб встречает рабыню, а потом… – Похоже, несмотря на коровьи глаза, на моем лице видны какие-то эмоции, поскольку Последнее Слово внезапно умолкает.
– Я спрашиваю, охотится ли кто здесь на людей, чтобы потом их продать?
– Нет. Их родичи убили бы тебя. У вас так делают? Все друг друга хватают и продают? Это пленники из чужих краев, порой – узники. Случается – после родовой распри. Есть и закон, по которому преступник может быть отдан пострадавшему, чтобы отработать вину. Но так случается не всегда: пленники идут в неволю на десять лет, узники – на двадцать, а осужденные – сколько присудят.
Я хочу еще о чем-то спросить, но внезапно у нашего стола встают двое местных в полных доспехах, один с топором в руках и со щитом, второй – с коротким копьем.
– Ты – странный чужеземец, называющийся Ночным Странником, который живет у Горючего Камня?
– Да, – говорю я, чувствуя беспокойство. – В чем дело? На него снова напали?
– Надобно тебе идти к суду. Под Боярышник Истины.
Моментально перед моими глазами встает картина улочки и лежащие там три трупа Людей Змея, а затем – перспектива утопления в сети. Цифрал реагирует на удар страха и моментально активируется.
* * *
Драккайнен окинул стражников долгим взглядом, прикидывая силы. Несмотря на приготовленное оружие, они не казались ему опасными.
Атлейф отставил рог и очень медленно встал с лавки, глядя на пришлецов. Грюнальди сунул в уголок рта большой и указательный пальцы и оглушительно свистнул.
На одном из «волчьих кораблей» раздались крики и топот ног.
– Никого, сидящего за столом с Людьми Огня, никуда не уволокут, – сказал Атлейф решительно. – Он – чужеземец. Прибыл на Побережье недавно и не может иметь здесь ни с кем ссоры, поскольку никто его не знает, кроме нас. Не может иметь спора в стране, куда только прибыл.
«Ой, могу», – подумал Драккайнен, более-менее замешанный в – легко подсчитать – пять разных убийств.
– Кроме того, он не знает наших законов, а потому нельзя его винить в их нарушении.
– Есть законы, которые во всем мире одинаковы, – флегматично ответил тот, что с топором. – А к ним принадлежит и закон насчет воровства. А нынче Лифдаг Кормитель Рыб, торговец лошадьми из Земли Соленой Травы, говорит, что сей украл у него лучшего в табуне коня, которого он вел на ярмарку.
– Тот Кормитель Рыб должен лучше охранять свой товар и не морочить голову мужам на ярмарке, – процедил Грюнальди. После чего обратился к Драккайнену: – Ты украл коня у того Лифдага?
– Нет, – ответил Драккайнен. – Но, правда, я повстречал одинокого коня в лесу и поймал его. Видел, что есть у него на шкуре некий знак, но там никого не было. Хорошо, я пойду. Поглядим. Заплачу тому Кормителю Рыб – и дело с концом.
– Один ты не пойдешь. Ты один из нас, и в таком случае все Люди Огня пойдут под Боярышник Истины.
– Как гласит ваш закон? – спросил Вуко моряка, когда они шли – с десяток – в сторону толпы на отдаленном лугу. – Если у коня есть знаки, но он сбежит от владельца, надобно его отдать?
– С чего бы! – возмутился Грюнальди. – Я вообще не слыхивал, чтобы кто-то отдал найденного коня.
Лифдаг Кормитель Рыб сразу произвел отвратительное впечатление. У него были круглые бледно-голубые глаза и редкая бороденка, выглядящая словно куча водорослей, а кроме того, был он какой-то бледный и тестоватый, словно непропеченная булка. Вокруг стояла пара человек, но, похоже, этот суд не считался очень зрелищным.
– Я Йольгвир Луна-на-Лице, глашатай закона, – объявил старик, сидящий подле костра на высоком белом камне. – Сей стоящий здесь Лифдаг Кормитель Рыб огласил, что ты отобрал у него коня, который должен был быть пожертвован богу моря Медиру. Говорит, один из его людей узнал животное, на котором ты въехал в город. Выбрал он меня, дабы я рассудил спор, поскольку утверждает, что он должен тебя убить, и хочет, чтобы с тебя сняли мир осеннего тинга. Что ты на это скажешь?
– Уважаемый Йольгвир, – начал Драккайнен. – Я не знаю Лифдага, и никогда его не видел, и ничего у него не крал. Этого коня я повстречал далеко отсюда, в лесу, когда шел над рекой от Пустошей Тревоги. Был я один и заплутал в лесу. Я поймал его, и теперь он мой. Но, если Лифдаг докажет, что на самом деле конь был его, я готов ему заплатить обычную цену, которую он берет за лошадей, добавив несколько как возмещение убытка. Поскольку коня я не отдам.
– Так из Земли Соленой Травы он гонит стада вдоль реки Вларины? Ты шел через Пустоши Тревоги? – спросил Грюнальди.
– Я шел прямо вдоль берега, – взял слово Лифдаг. – Конь был украден ночью на дюнах, семь дней дороги отсюда к северу. Забрали его силой Деющих. Услыхали мы грохот – и коня не стало. Исчез он в середине табуна. Должен был быть пожертвован в важном морском деле Медиру, а потому я понес тройную потерю. Раз – поскольку потерял коня, стоящего три гвихта. Два – поскольку пропало обещанное приношение богу. Три – поскольку тот приблуда посмеялся надо мной, въехав на моем коне в город. Два последних условия бесценны. Скажу тебе, Йольгвир, что этот бродяга должен умереть, а я должен получить назад свою собственность. И скажу еще, что у человека этого лживый язык, поскольку конь этот выбран для жертвы по жребию жреца Медира, и есть он дичайший из диких. Не знает он седла, и никто бы его не взнуздал.
– Ты сам сказал, что Ульф оскорбил тебя, поскольку ездит на этом коне, – оборвал его Грюнальди. – Что-то странное ты нам рассказываешь. Человек этот, похоже, слаб на голову, законник. Мы зря поднимались от пива.
– Пожалуй, мы должны увидеть этого коня, – сказал Йольгвир. – Пусть кто-нибудь пошлет стражника в дом Лунфа и приведет животное сюда.
– Лучше этого не делать, – сказал Драккайнен. – Этот конь убьет любого, кроме меня, если тот попытается его отвязать. Прошлой ночью он убил вора, который напал на дом Лунфа и хотел его украсть. Я сам должен его привести. Пошли меня вместе со стражником.
– Ты тогда сбежишь! – крикнул Лифдаг.
– Так пошли с ним десяток стражников, а то и пойдемте все! – вышел из себя Грюнальди. – Я и сам не прочь увидать коня, который стоит три гвихта, поскольку никогда такого не видывал. Может, он срет золотом? Плавает по морю? Пердит громче грома? И как оно случилось, что одновременно его можно и нельзя взнуздать?
В результате Драккайнен совершил прогулку к дому Лунфа под присмотром стражников и вернулся, едучи на Ядране. При виде огня и собравшихся людей, особенно Лифдага, скакун принялся фыркать и порыкивать, идти боком и танцевать, а потому Страннику пришлось его успокаивать. Он сошел на землю, погладил коня по шее и прижался головой к его лбу.
– Ядран и Вуко вместе, – прозвучало в резонаторе. – Ядран не пойдет. Плохой человек не заберет. Ядран и Вуко вместе.
Нет, я так не могу, подумал Драккайнен. Не отдам его.
– Конь как конь, – огласил Грюнальди. – Стоит, может, три шекля, не больше. И все видели, как Нитй’сефни на нем ездит.
– Твой ли это конь, Лифдаг? – спросил Йольгвир.
– Всякий видит, что Лифдага! У него наши знаки на боку! – орали люди Кормителя Рыб.
Глашатай закона встал с камня, кривясь и хватаясь за спину на высоте поясницы, а потом стукнул палкой о землю:
– Скажу так: вы, люди Соленой Травы, шли побережьем. Ночного Странника видели, как он въезжает южными вратами, а значит, шел он западным берегом Вларины. Не могло быть иначе, поскольку ни у одного из вас нет лодки. А отсюда следует, что не мог он украсть у тебя этого коня на дюнах, поскольку его там не было. Следовательно, он не отобрал у тебя имущество силой и не оскорбил тебя. С другой стороны, не подлежит сомнению, что это твой конь и что ты понес урон. Все указывает на то, что все произошло из-за силы Деющих, а закон гласит, что подобные случаи истолковываются так же, как те, что случились из-за богов или судьбы. Как удар молнии, волна на море или шторм. Разве что Деющий будет схвачен. Оттого спрашиваю вас: Ульф Ночной Странник – Деющий?
Люди Огня переглянулись, но не ответили ничего.
– Он Деющий! – орали сторонники Лифдага. – Говорили, что он избежал смерти от черного плюща в доме Скифанара.
– Он быстр и ловко владеет мечом, – громовым голосом произнес Грюнальди. – К тому же у него есть голова на плечах! Если это значит, что он Деющий, то у нас, на Земле Огня, одни Деющие! Скажи мне, глашатай закона, какой закон нарушает муж, который справляется с несчастьем? Странствующий Ночью не сажал тот живой плющ из железа, а всего лишь помог нам его вырвать, и еще убил Скифанара, что сняло заклятие. Все мы это видели. Будь он Деющим, не стал бы рисковать, вырывая плющ якорями и рубя его ножом, а испепелил бы его песней богов.
– А значит, является ли Ульф Нитй’сефни Деющим, установить невозможно, – огласил законник. – Поэтому полагаю, что дело должно закончиться возмещением убытка. Однако, когда в дело вмешивается оскорбленная честь, возмещения не хватит. Нельзя покарать Ульфа, поскольку он ничего не сделал. Однако спор остался. А потому вам придется решить его здесь, под Боярышником Истины. Довольно обычного поединка. Такого, где проиграет тот, кто переступит обозначенную границу, бросит на землю меч или сбежит за камень. Тогда нельзя его убивать, но он утратит и коня, и возмещение убытка, которое я назначаю в пять марок серебра.
– Не желаю такого поединка! – крикнул Лифдаг. – Тут, перед судом осеннего тинга, я имею право требовать поединка в Кругу Огня!
– Ну нет! Это ерунда! – кричал Грюнальди. – Чего ты от него хочешь? Он семью у тебя убил или что? Ты ведь его до сегодняшнего дня даже не видел! Круг Огня – для мстителей! Позволишь, законник, чтобы кто-то требовал права мести из-за коня за пару шеклей?
– Закон лишь говорит, что всякий имеет право требовать Круга Огня.
– Что за «Круг Огня»? – спросил Драккайнен, склоняясь к Атлейфу.
– Поле означивается кострами, – ответил молодой. – А бьются любым оружием, каким кто захочет. Входят двое, выходит один или никто. Просто нельзя по-другому. Если оба порубят друг друга так, что не смогут дальше сражаться, их оставляют в круге, пока один не умрет или не придет в себя настолько, чтобы добить другого. Так долго, сколько понадобится.
Драккайнен стиснул зубы. Значит, снова – или убьет, или умрет. Из-за коня. Что за дернутый мир!
– Рассуди, законник. Стоит ли, чтобы кто-то погибал из-за коня? – спросил Драккайнен. – Я никогда не видел этого человека. Ничего он для меня не значит. Я не хочу его убивать. Предлагал я ему отплату. Чего он еще хочет от меня?
– Если он жаждет Круга Огня, у него есть на это право, – решил Йольгвир. – Поскольку тогда любой рискует одинаково. Поэтому вот мое решение: Круг Огня!
* * *
– Я не могу отдать ему коня, – рассерженно рявкнул Драккайнен Грюнальди. – Сам я его взнуздывал и знаю, что конь убьет его и сбежит ко мне.
– Скорее он убьет коня, чтобы тебе досадить. Впрочем, он коня и не желает. Ему хочется драться. Должно быть, ты залил ему за шкуру, – отвечал Грюнальди. – Заруби его – и дело с концом. Ты ведь справишься с таким толстым скунсом?
– Не хочется иметь его смерть на своей совести.
– Такие вещи, скорее, не выбирают. Да и жизнь такого червяка – небольшой груз. Мир сразу станет лучше.
Когда принесли мешок с оружием, и рассерженный Драккайнен надел полный доспех, включая шлем и полупанцирь, костры уже разожгли. Было их восемь, на расстоянии трех метров один от другого. Новость о поединке в Круге Огня уже успела облететь толпу, и скучный спор об украденном коне внезапно стал популярен. Поле схватки окружила немалая толпа, и приятелям пришлось силой прокладывать Драккайнену дорогу.
Его противник уже стоял в кругу, и, к оторопи Странника, это был не Лифдаг. Между кострами стоял какой-то высокий и худой мужчина в черном плаще с капюшоном. Руки его были сложены на груди, лицо же пряталось в тени. Не видно было никакого оружия.
– Кто это?! – Вуко спросил сидящего на камне Йольгвира, указывая мечом. – Где тот, что меня вызывал?!
– Оружие Лифдага – его боец. Если он захотел войти в Круг Огня вместо того, это его дело. Теперь вы оба переступили Круг, и выйдет только один.
Делать было нечего.
Драккайнен подтянул ремни и поправил на голове шлем. Шум толпы, приглушенный шлемом, звучал как шум прибоя.
Были у него дурные предчувствия. И, прежде всего, он не хотел никого убивать.
Вынул меч и воткнул его в землю, после чего присел на минутку в позиции дзадзэн, пытаясь очистить мозг и превратиться в машину для убийства. Чувствовал себя уставшим и раздраженным. Фатальное состояние для такой ситуации.
Не удавалось. Мысли трепетали в голове, будто стая ворон.
Противник стоял на расставленных ногах и смотрел из-под капюшона, неподвижный, как скала. Где у него оружие? Почему он хотел войти в Круг Огня? Это серьезное дело. Почему же он так спокоен?
В чем тут дело?
Вуко вдохнул носом и выдохнул ртом. Ибуки. Энергия ци. Дорога восьми колец. Дорога воина. Бла-бла-бла.
Херня.
Он подскочил, выпрямляя ноги, выхватил меч и воткнул ладони в держатели щита.
«Ты не выбираешь ни времени, ни места, ни противника – это они выбирают тебя», – сказал Левиссон.
Собственное дыхание шумело под шлемом, словно в ведре. Противник все еще не двигался, только поглядывал хмуро. Были у него доходящие до локтей железные рукавицы. Душитель какой, или что?
– Ты не знаешь мощи темной стороны Силы, Люк, – сказал ему Драккайнен. Заметил, что, пожалуй, он разозлен, если начал невольно насмехаться. Всегда так было.
Тот без спешки расстегнул плащ и позволил ему медленно опасть на землю. Были у него зигзаговые татуировки на лице и руках, а зачесанные наверх головы длинные волосы, заплетенные в узкие косички, были пропитаны дегтем. Одет он был в черную кожаную жилетку, а кроме того, на груди у него висел амулет, подобный спирали ДНК или символу медицинской службы. Танцующие Змеи. Он со скрежетом расправил пальцы в металлических перчатках, а потом ударил кулаком в ладонь и сунул руку в кожаный полукруглый мешочек у пояса, откуда достал посверкивающий диск размером со среднюю пиццу. Толпа зашумела.
Противник прищурил скверные желтоватые гляделки и зашипел, показывая надрезанный на кончике раздвоенный язык, окрашенный чем-то черным.
– Клево. Ты, я и фрисби, – процедил Странник. – На жизнь и смерть.
Ускорение ударило в его вены еще до того, как тот выпустил диск. И правда, движением запястья, совершенно как на пляже.
Гул толпы растянулся в глухое ворчание, а диск резал воздух, вращаясь вокруг оси. Летел он несколько быстрее, чем должен был, и направлялся в сторону Драккайнена по пологой восходящей траектории. Человек Змея продолжал стоять неподвижно, с вытянутой рукой и растопыренной ладонью.
Драккайнен рассчитал траекторию полета диска и вывернулся в обратную сторону. Такое уклонение – лучше всего, хотя и трудное. Не от нападения, а к нападающему. На мгновение опасность больше, а потом траектории расходятся.
В теории.
Диск явственно задрожал в воздухе, после чего начал крениться и сворачивать в сторону Странника.
Тот не успел испугаться, но еще один уворот сделал в последний момент. Вращающееся острие лизнуло его в щит, оставляя заметную щербину, снова задрожало в воздухе и отклонилось вверх, прошло по параболе и упало прямо в металлическую рукавицу противника. Удар в щит чуть не повалил Вуко на землю.
Он этим управляет, подумалось Драккайнену. Я вывернулся, поскольку я пока далеко. У него их еще несколько. Не даст мне даже подойти. Можно в жопу засунуть айкидо и фехтование. Тут нужен револьвер.
Диск вылетел из руки Змея и полетел – теперь плоско, почти на уровне коленей. Толпа отреагировала растянутым басовым громыханьем, с опозданием почти в три десятых секунды.
«Думай, – сказал в его голове Левиссон. – Кто не думает, тот труп».
Змей стоял с вытянутой рукой, плоско распрямив рукавицу. Управляет ладонью, понял Драккайнен. Как, милость божия?!
Пришлось реагировать перед самым попаданием, так чтобы не оставить тому времени для корректировки. Когда тарелка была в паре шагов, он ударил сверху.
В последний миг круг развернулся по вертикали и разминулся с его клинком, после чего отскочил от земли и, крутясь, словно оторванное колесо грузовика, прыгнул ему прямо в лицо.
Драккайнен заслонился, продираясь сквозь загустевший, превратившийся в ртуть воздух. Подставил плоско свой щит и позволил снаряду прокатиться по нему. Промелькнуло у него, что чуть раньше он выщербил защиту, потому что крутился в другую сторону, словно циркулярка.
«Циркулярка, потому что это какой-то цирк», – подумал глуповато, ударяясь о землю.
Сотрясение вырвало у него держатель из рук, и щит оторвался от руки как в состоянии невесомости, приземляясь среди вырванных кусков дерна.
Он выбросил вверх ноги, пружиной вскидываясь над землей. Ахиллесово сухожилие отозвалось протяжной волной знакомой тошнотворной боли.
«Таким-то образом оно никогда не выздоровеет», – мелькнуло у Драккайнена в голове.
Диск вылетел из Круга Огня и ворвался между зрителями, волоча красное облако распыленной крови. Толпа взорвалась криками.
Драккайнен выстрелил прыжками в сторону Змея. Плыл сквозь масляный воздух, видя, что тот быстрее, чем должен бы, тянется в свою сумку. Оттолкнулся правой ногой, впереди был еще десяток метров, и поплыл снова, когда пальцы противника вынимали новый снаряд. Ударил другой ногой в землю, зная уже, что не добежит, когда согнутое запястье противника распрямилось и снаряд скользнул в его сторону.
Времени не было.
Драккайнен раскрыл кулак и позволил мечу выпасть из руки.
А потом ударил рукою в диск сверху, прихлопывая второй снизу, и поймал его между двумя ладонями. Нога Странника ударила в землю. Драккайнен развернул бедра, крутя в воздухе пируэт, переместил верхнюю руку, стараясь не дотрагиваться до острого, как бритва, режущего края, после чего схватил диск между большим и указательным пальцами и, продолжая вращение, выстрелил им из-под мышки.
Разминулись они едва-едва, почти отершись плечами, а потом оба остановились на миг-другой в неподвижности.
Толпа молчала.
Пальцы на металлической перчатке распрямились, и очередной диск выскользнул из них, воткнувшись в траву.
Откуда-то донесся тихий жемчужный шум, словно из садовой поливалки.
Из перерубленной наискось шеи Человека Змея бил фонтан светлой пульсирующей крови.
Кроме этого, оба не двигались.
А потом у человека в черном камзоле подогнулись колени, и он внезапно упал на землю, бессильно, как марионетка. Драккайнен вышел из боевого состояния.
Прямо в вопли толпы, рев пылающих костров и рыжий свет позднего дня.
– На пляже мне равных нет, – процедил Странник и поднял лежащий в траве меч. Он нашел и щит и, расталкивая толпу, покинул Круг Огня.
Не стирая кровь, что сочилась из носа по губе, дошел до того места, где лежали его вещи и стоял Ядран, и только там потерял сознание.
* * *
Просыпаюсь я в полной, душной тишине.
Я лежу, дыша и глядя в темноту. Прямо из кошмара, полного змей, крови, трупов и вины.
Истинный ад. Это цифрал чистит мой мозг. Я могу ходить и смотреть в зеркало, могу снести собственную личность, несмотря на то что я только что убил человека; могу подсмеиваться над собой из посттравматического шока, но цена этого – кошмары, достойные Данте.
Я ничего не вижу.
Я не связан, но на мне только штаны. Щиколотка явственно распухла, на ладони у меня любительски выполненная перевязка из каких-то пропитанных кровью тряпок.
Где я? Это подвал? Подземелье?
Пахнет солью, затхлостью, копченым мясом и смолой. Помещение резонирует деревянными отзвуками, словно внутренности гитары. Слышу где-то недалеко плеск воды, дальше – протяжный скрип линей, чьи-то шаги, звучащие звонко, словно конь переступает по мостику из дерева.
Корабль.
Я на корабле.
Лежу на деревянном полу, на нескольких толстых, но грязных шкурах, брошенных одна на другую.
Обостряю зрение и вижу, что чуть поодаль, между шпангоутами и под выгнутым бортом, лежат мои тюки, седло и сумки.
Нахожу мазь против ушибов, а еще аэрозольную повязку, а еще регенерационный комплекс. К счастью, перевязанные вчера раны не открылись. Белые полосы перевязки держатся, питают рану, проводят воздух и лечат. Зато на руку я заработал косой шрам от основания большого пальца до середины кисти. Должно быть, зацепил о диск.
Как всякий вечер. Переносная клиника. Вуко Драккайнен – единоличный отряд медпомощи.
Накладываю еще жесткую повязку на щиколотку и, почти не хромая, нахожу себе свежую одежду, а потом выхожу на палубу.
Я на «волчьем корабле» Людей Огня. На палубе в железном котле ярятся уголья, на лежащей поперек решетке шкворчат куски мяса.
– Это было нечто! – кричат, увидев меня.
Кто-то вручает мне рог. Я пью. У меня кружится голова и болят все мышцы, словно я разгрузил прицеп песка вилами.
– Но я уржался, когда та штука полетела в толпу!
Да, у вас, люди, есть чувство юмора.
– Мы думали, он тебя ранил, – объяснял Атлейф. – А потому принесли тебя сюда. Все твои вещи от Лунфа мы забрали. Конь тоже под палубой. Там, на носу, есть такое место. Привязан и получил пищу. Не хотел от тебя отходить. На корабль мы сперва внесли тебя, а потом он сам взошел по трапу. Верный конь. Стоило за него биться с тем Змеем. Оставайся с нами, Странствующий Ночью. Если захочешь искать своих, то стоит иметь место, куда можно вернуться и где можно развести огонь. В моем дворе достаточно места.
– Спасибо, Атлейф, – говорю я. Потому что – а что здесь сказать? Все равно я собираюсь в Землю Змеев, а это по дороге.
Сажусь на свернутом парусе под поставленной у форкаштеля платяной палаткой.
Грюнальди выходит по широкому трапу и ловко перескакивает на палубу. Садится и протягивает руку, ему тут же всовывают полный рог.
– Благослови тебя боги, Спалле, – говорит он с преувеличенной напыщенностью, после чего тычет критически в кусок мяса, лежащий на решетке. – Цел? – спрашивает меня, отрываясь от рога.
– Выживу.
– Я пошел поговорить с добрым Лифдагом, который первый вызывает кого-нибудь на Круг Огня и последний, когда нужно драться. У меня есть новости, – он тянется за мясом, надкусывает кусочек, жует минутку, потом перегибается и выплевывает все за борт. Снова кладет мясо на решетку и тычет кончиком ножа.
Я терпеливо жду.
– Его люди и правда узнали твоего коня. Лифдаг пришел в ярость. Поскольку любит считаться крутым и полагает себя великим стирсманом. Жаловался за пивом, и тут к нему подсел какой-то Змей и говорит, что у него тоже есть к тебе дело, поскольку ты убил его кровника. Это он подсказал Лифдагу вызвать тебя в Круг Огня и поклялся, что станет сам биться. Более того, заплатил ему за это. Кстати, это твои пять марок возмещения с извинениями от Лифдага. Просил, чтобы я тебе их передал.
– И все это Лифдаг рассказал тебе по-дружески? – машинально я принимаю горсть серебра.
– Мы подружились, потому что я предложил ему Круг Огня. Сказал, что есть у меня к нему дело, поскольку знавал я его шурина, который некогда должен был помочь мне в морской битве. Обманул меня и уплыл, а я потерял людей и вернулся без добычи, раненый, на корабле с течью. Получили мы из баллисты, чуть ли не все нам пожгли. Поскольку тот шурин уже мертв, я сказал, что будет по-честному ему самому разрешить это дело. А разговаривали мы над пропастью, где людям легко стать друзьями, даже если кто-то из них зовется Кормителем Рыб.
– А что бы ты сделал, согласись он?
– Тогда бы тинг оказался не настолько скучным.
Грюнальди вгрызается в репу и хрупает, словно конь, а я не знаю, благодарят здесь в подобных ситуациях или можно проигнорировать это. Все же благодарю его. Он смеется.
– Это не первое мое дело со Змеями, – говорю я. – Вчера один из них расспрашивал обо мне, хотя не мог меня знать. Сегодня другой хотел меня убить. В предыдущий вечер – тоже, трое напали на меня в городе.
– Так это ты убил тех троих?! – Грюнальди хихикает, лупя ладонью в колено, и давится репой. – Змеи жаждали мести, но им сказали, что те сами поубивали друг друга по пьяному делу. Хорошо иметь на борту того, кто убивает Змеев!
– Похоже, их никто не любит. Я начинаю их жалеть.
– Потому что ты их не знаешь. Живут они на горных пустошах и развлекаются знанием Деющих. Уподобляются гадам и живут так же. Говорю тебе, Нитй’сефни, ежели какой Змей скажет тебе, что день хорош, сразу проверь, день ли вообще, и что он хочет таким образом получить. Мы тут все парни не ласковые, но Змеи – нечто особенное. Они хуже амитраев. Мы, Люди Огня, живем от них близко, через горы. Ничто их не интересует – только золото и тот их безумный бог, которого они зовут Смейрингом. Похищают людей и на море, и в чужих странах, и дома и режут их в храме Змея. Говорят, приносят в жертву даже собственных детей. Их бабы пытаются колдовать. Скажу тебе так: мы лучше других знаем, каковы они, Змеи.
– Мне придется отправиться к ним. Те, кто исчез, могли попасть к ним.
– Прими хороший совет от того, кто многое видывал и желает тебе добра. Плыви с нами. А когда будешь в Земле Огня, найдешь себе славное местечко над нашим озером и построишь дом. Оплачешь тех, кого ты ищешь, и поставишь им камень, чтобы память не исчезла. А если вновь придет к тебе охота идти в Землю Змеев, то ступай в сарай да повесься на вожжах.
– У нас так не поступают, – говорю я ему. – Мы никого не оставляем. Я обещал, что найду их, освобожу, если понадобится, и приведу домой. Так оно и будет. Стану их оплакивать, только когда увижу мертвые тела.
Грюнальди вдруг свешивает голову, хмурится и отпивает пива. Потом долго глядит за борт на дома, лодки у причалов и горящие везде огни. С берега доносятся песни и крики. Он с трудом сглатывает слюну.
– Я понял, что ты говоришь, – произносит. – У нас – все так же, и некогда мы тоже вернемся в Ледяной Сад за нашими.
Потом он замолкает и больше не говорит на эту тему. Я понял уже, что не стоит расспрашивать о болезненных вещах. Захочет – сам мне о том расскажет, сам начнет. А нет – придется отнестись к тому с пониманием. Расспрашивать нельзя.
Я слышу басовое карканье.
Невермор сидит на верхушке мачты и чистит клювом перья.
Ну, значит, мы в комплекте.
На берегу вдруг раздаются резкие крики и смех, смешанные с несколькими пугающими криками отчаяния. Одни кричат с радостью и энтузиазмом, другие посылают в небеса отчаянные жалобы.
– Что происходит?
– Приплыл «волчий корабль». Тот, что подходит к берегу. Он из Земли Орлов, судя по знакам. Женщины Орлов приехали в Змеиную Глотку встретить своих мужей. А некоторые как раз узнали, что вернутся, как и приехали, – в одиночестве. Это те, кто кричит. Увидели перевернутые щиты своих мужчин, повешенные на борт. Они уже никого не поприветствуют.
– Зачем вы отплываете?
– Кто знает? Кто-то рождается бедным и может либо жаловаться на судьбу, либо взяться за меч и искать удачи. Нужно торговать, сражаться или наниматься к чужим правителям. Затем, чтобы купить невольников, коров, земли, выстроить дом, дать приданое дочерям, обеспечить богатство женам. Мы ведь – странники моря. Не умеем иначе. Некогда война изгнала нас из нашей земли. Пришел Амитрай и сжег наши дома. Остались мы, потомки тех, кто обитал на берегу. Когда невозможно стало драться, мы взошли на корабли и нашли новую землю здесь. Но с кораблей мы не сойдем. Такова наша судьба. Порой кто-то перестает плавать. Остается в доме, глядит, как растут деревья, качает детей, ведет плуг. Но проходит год-два – и он больше не может. Выходит на воду и смотрит на волны. Отчего гуси странствуют? С нами точно так же. Баба, которая обычно тоскует, теперь не может снести, что не правит домом по полгода. Носит ключи, но ей приходится считаться с тобой. И без передыха приходится глядеть на твою морду. Смеется над тобой, что ты гол и боишься встретиться в бою с судьбой. Что стал ты женовиден, и всего толку с тебя, что со старого вола. Некоторые пьют, топят свой разум в пиве. Всякий день – одно и то же…
…И вот берут щит, шлем, меч и поднимаются на доски палубы. Не знаю отчего, но иначе мы не можем. Может, потому, что отобрали у нас истинную землю? Но ты всходишь на «волчий корабль» – и все становится по-другому. Заплесневелая лепешка, которую дома ты и псу не кинешь, на корабле – царская еда. Все может случиться. Воздух вновь легок, пахнет солью и смолой. У тебя меч в руке, звезды над головой, и ты снова свободен. Пытаешь счастья. Может, воротишься богатым, словно король, а может, не вернешься вовсе. Потом тысячи раз говоришь себе: больше – никогда. Проклинаешь собственный разум, что не мог усидеть на суше. Бьешься не пойми с кем, тонешь в штормах, порой попадаешь на такую землю, которую лучше бы обойти стороной. Но потом возвращаешься. Твоя жена кажется тебе лучше всех принцесс юга, а дом – красивее дворцов. А потом проходит полгода, наступает весна, и снова в доме делается тесно, потолок низок, воздух густ, а пиво слабо. Дни снова становятся короткими и одинаковыми. И ты снова начинаешь глядеть на воду. Так уж оно повелось. Бывают женщины, у которых – все так же, они плавают с нами. Но редко. Обычно предпочитают править домом, невольниками, детьми, торговать. Когда нас нет, всем управляют женщины.
– Я понимаю, что ты говорил о волнах, – отвечаю я ему. – В моей жизни было точно так же.
Я набиваю трубку и смотрю во тьму. Сколько у меня домов? Сколько женщин? Сколько лет? Столько раз я чувствовал себя старым и уставшим от жизни, но там, дома, не было «волчьих кораблей», на которые можно было бы взойти. Никакой смены судьбы простым мечом.
А потому: водитель гуманитарных конвоев, контрабандист, бизнесмен, военный корреспондент, ныряльщик на буровой платформе, искатель затонувших кораблей, бродяга, наемный шкипер. Чего я только не делал! Десятки профессий. Только никогда не был в силах сесть за то, что неизменно изо дня в день. Никогда ничего дольше чем несколько лет. Необходимость изменений. «Adrenaline addicted», – говорили доктора. Недоразвитая личность. Кризис среднего возраста. Только в моем мире средний возраст может тянуться и сто лет.
Понимаю вдруг, что хочу лечь в ванне, сходить по магазинам, пропылесосить пол, найти Дейрдре, забрать ее домой, просыпаться рядом с ней и видеть в окно Адриатику и Палмизану по другую сторону пролива. Хочу напиться капучино и пойти в театр. Я тоскую о спокойствии, коллегах, по улице, на которой никто и ничто не становится мне на пути. Но действительно, пройдет несколько месяцев, и я затоскую по рукояти меча, простым и темным людям в кольчугах и дрожжевому пиву. И я снова сяду за баранку. Тоже начну «смотреть на воду».
Мы молчим.
Мы понимаем друг друга. Я и дикарь, не то викинг, не то пират с другого конца Вселенной.
И это хорошо.
* * *
Утром, после ночи, проведенной в переполненном, тесном трюме, экипаж сходит на сушу на торг невольников. Но сперва большой подсчет серебра и потрясание кошелями. Всякий по пять раз осматривает каждую монету, подсчитывает, помечает что-то на кусочках коры.
– Зачем нам самим управляться с веслами, – говорит кто-то из них. – Да и дома они пригодятся. Мне придется освободить троих в этом году, а потому нужно докупить, ибо некому будет работать.
– А что с ними будет?
– Получат браслет свободного по моему знаку и марку серебром и пойдут себе. Хотя Кидылай наверняка останется. Он уже старик. Привык к Побережью Парусов. Привык говорить что пожелает и пользоваться своим умом. Выстроит себе дом и дальше останется у меня, но тогда мне придется что-то ему платить. Договоримся. Посмотрим, что скажет женщина.
На торжище – толпа. Рабы сидят в палатках, скованные железом по рукам и ногам. Некоторые больны, некоторые ранены. Между загородками ходят покупатели, осматривают, дергают за волосы, ощупывают мышцы, заглядывают в зубы. Женщины сидят уже голыми – нет смысла то и дело срывать одёжки и сражаться с цепями. Кошмарное зрелище. Во мне все переворачивается, когда я на это смотрю.
Вспоминается послевоенная Африка.
Меня к этому приготовили. К публичным казням, к виду рабов, к разным вещам. И я знаю, что ничего не изменю.
Мне нечего предложить им взамен. Сами толкайте свои плуги? Изобрести им трактор?
А потому интересуют меня исключительно лица. Я ищу.
Человеческие глаза, рты, в которых сидят в два раза меньшие, но в два раза более крупные зубы, округлые кончики ушей. Волосы, которые заканчиваются над затылком, а не тянутся между лопатками, словно конская грива.
Я ищу людей.
Десятки раз нахожу тех, кто свернулся в клубок, со взглядами, устремленными в землю, и осторожно приподнимаю им голову. Продолговатое лицо, влажные глаза, как овальные капли смолы, нос узкий, будто плавник, и мелкие белые зубы, подобные зернам риса.
Ничего.
Зато встречаю Людей Змея. Видимо, полные экипажи тех кораблей, которые приплыли ночью. Не вижу, чтобы они что-то покупали. Однако крутятся среди палаток и заглядывают рабам в лица, словно кого-то ищут.
Так же, как и я.
Не нравится мне это.
Но я не нахожу моих пропавших и никакого от них следа. Никто не реагирует на крики по-английски, никто ничего не знает.
Камнем в воду.
* * *
Послезавтра мы отплываем. Я хожу среди прилавков и ищу что-то, что может заменить мне кофе, чай и табак. Нюхаю какие-то семена, большие овальные орехи, похожие на миндаль-переросток, разнообразные травы. Показываю купцам трубку и объясняю, чему именно она служит. В конце концов получаю мешочек неких таинственных листьев. Покупаю ради эксперимента, как и орехи, потому что у них славный освежающий запах. Получаю также спрессованные липкие фрукты, очень сладкие, которые заменят мне заканчивающийся мед. Покупаю также новый плащ и штаны, новый котелок. Возобновляю припасы, но нигде не нахожу предметов с надписью «Made in Taiwan», никаких земных артефактов.
На борт всходят купленные экипажем рабы. Более пятидесяти человек. Обычно – молодые мужчины в призывном возрасте. Мне они кажутся детьми. Станут жить в трюме между палубами и обслуживать узкие, почти четырехметровые весла, опускаемые через клюзы в бортах.
Моряки снимают с них оковы, что я воспринимаю с облегчением.
Один из моряков, по имени Этиль Крылатый Щит, покупает стадо коров и сходит с корабля. Останется в городе, собирается гнать стадо домой сушей.
Во время своего хождения между домами и прилавками я натыкаюсь на мастерскую резчика по камню, который делает памятные надгробные плиты. Это кусок скалы, где сложены слои светлого и темного камня. Мужчина отбивает кусок скалы, оставляя светлую плоскую поверхность, на которой вырезает разные картинки, представляющие сценки из жизни мертвеца, украшает их узорами и вырезает надписи:
ВУНЛИФ НОСИТЕЛЬ ВОЛКА. ТОТ, ЧТО НЕКОГДА
СОВЛАДАЛ С ТРЕМЯ АМИТРАЯМИ СЛОМАННЫМ ВЕСЛОМ И КОТОРЫЙ УМЕЛ СОКРУШИТЬ СЕРДЦЕ
ТВЕРДЕЙШЕГО ИЗ ВОИНОВ ПЕСНЕЙ. ПЛАЧЬТЕ ПО НЕМУ
Буквы пробивают светлый слой и доходят до темного минерала под низом, а потому они очень отчетливы. В мастерской все время слышен грохот долота и молотков. Корабли возвращаются, у резчика полно работы. Я покупаю себе два крупных куска доски и роюсь в кострищах, подыскивая соответствующие куски угля. Когда делаю набросок, вокруг меня собирается небольшая толпа. Дети заглядывают мне через плечо, зеваки смеются и дают добрые советы.
У резчика больше заказов, чем времени, потому мне приходится убеждать его золотым гвихтом. Тогда он бросает все, и я для него – клиент года. Он даже перестает помогать мне советами, соглашается и на то, что камни должны стоять у дороги, а не на обрыве.
Образец несложен, а потому не отнимает у него много времени. Две плиты. Одна с выразительной надписью по-английски:
ДЛЯ УЦЕЛЕВШИХ СО СТАНЦИИ МИДГАРД II. Я ПРИБЫЛ ДЛЯ СПАСЕНИЯ. СПРАШИВАЙТЕ УЛЬФА НОЧНОГО СТРАННИКА.
НАПРАВЛЯЮСЬ В ЗЕМЛЮ ЗМЕЕВ ЧЕРЕЗ ЗЕМЛЮ ОГНЯ.
ТАМ ТОЖЕ МОЖНО ОСТАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ИЛИ
ПОДОЖДАТЬ ВО ДВОРЕ СТИРСМАНА ПО ИМЕНИ
АТЛЕЙФ КРЕМНЕВЫЙ КОНЬ. ВУКО ДРАККАЙНЕН
Надпись на второй выполнена рунами Побережья и сообщала, что некий Ульф Нитй’сефни заплатит серебром за известия о четверке Деющих с рыбьими глазами, которые… и так далее. Над этим выбиты четыре лица, которые я набросал на доске, пользуясь цифралом и высвечивая себе их образы на изнанке век. Картинки были стилизованы и упрощены так, чтобы нарисовать их углем на доске, а потом вырезать в камне, но я сохранил характерные черты. Если мои лишенцы увидят их и вернутся на Землю – подадут на меня в суд.
Я стоял у каменщика над душой, пока тот резал глаза. Предупредил, что, если сделает тем демонам нормальные глаза, они начнут видеть и наверняка призовут холодный туман.
Он резал и ни о чем не спрашивал.
Ты можешь быть безумцем, если богат.
Проведал я и Копченого Улле. На этот раз я не падаю с крыши и ничего не втыкаю в стены. Просто оставляю ему еще один гвихт на будущее и напоминаю, что именно я ищу.
– Один Змей снова расспрашивал о тебе, – говорит он. – Не люблю такого. Не люблю, когда они ко мне приходят. Мешают делам. На этот раз он спрашивал именно о тебе. Об очень высоком рослом муже, называемом Странствующий Ночью. Я сказал ему, что пару дней тебя не видел, но слышал, что ты бился в Кругу Огня из-за какого-то коня. Только это и сказал ему. Я так думаю, потому как после снова очнулся, будто от сна, а Змея не было.
Я киваю и даю ему тот гвихт на всякий случай.
Люди Змея начинают всерьез меня интересовать. Проблема в том, что их нигде не видно. Напрасно искать их на улицах, на ярмарке или на холме советов. А потом выскакивают, словно чертики из коробочки. В закоулке. В Кругу Огня. На торге невольников. Знают, что их не рады видеть, но и не скрываются. Просто появляются, где захотят, решают свои дела и внезапно исчезают.
Как змеи.
Последние часы я провожу на набережной, попивая дорогое, по идее хорошее, пиво, и осматриваясь. На самом деле – просто сижу и думаю. Уже чувствую, что ничего не решу в порту Змеиная Глотка. Пришло время дороги в страну Змеев. Знаю, что путешествие на корабле вверх по реке сохранит мне массу времени, но все равно меня охватывают сомнения, которые мой знакомый капитан называл «портовостью». Это психическая болезнь, связанная с невозможностью выйти из порта. Потому что авария, потому что нужно поменять чип на моторе, потому что кто-то не вернулся. Потому ходишь туда-сюда и ждешь. В порту.
Я снова проведываю базар. Покупаю черную куртку с капюшоном: увы, тех, с эмблемами Змеев, никто не продает. Моток приличной веревки и вязку заморских зелий, которыми женщины чернят брови. Деготь или какую другую мазь найду сам, пусть бы и на корабле. Краску, которой можно имитировать татуировку, сделаю из сажи, смешанной с жиром, красную – из охры. Амулет у меня есть. В случае необходимости издалека могу сойти за одного из них.
За единственным исключением, о котором Лодовец как-то не подумал.
Нужно было выслать недомерка.
* * *
Отплываем на рассвете, когда я еще сплю. Никто меня не будит и ничего от меня не хотят, но я чувствую, что-то изменилось, и сразу вскакиваю. Слышу топот ног на палубе и шуршание разнообразных предметов, как причальный канат с хлюпаньем падает в воду, а потом глухие удары барабана и весел. Скрип держателей, неровный плеск воды. Скрип, плеск.
Река плещется в борта. Не слышно, слава богу, ни свиста бича, ни стонов.
Мы плывем.
Я одеваюсь, пристегиваю пояс с мечом и ножом, после чего выхожу из-под палубы и смотрю на уплывающие берега; мы минуем десятки «волчьих кораблей» идентичной, словно регатного класса, конструкции. Идентичных, вплоть до глубокой щербины на релинге правого борта. Минуем побережье с конторами, и я смотрю на дом Копченого Улле, на корму стоящих подле пирса кораблей.
Я только привык к этому городу, а теперь снова в неизвестность.
Они приветствуют меня, радующийся пути Грюнальди подает мне рог с приправленным специями пивом.
Пиво на завтрак, обед и ужин. Оно питательное, кроме того, в процессе изготовления его проварили, а небольшое количество алкоголя еще и дезинфицирует, потому оно безопаснее воды, зараженной всем, что в нее упало: навозом, просачивающимся сквозь землю, бактериями холеры, дизентерии и невесть чего еще. Вот только мы эдак посадим себе печень и помрем от алкоголизма.
А больше всего мне хотелось бы почистить зубы.
Спрашиваю его, что делать, если нужно по нужде, а мы на корабле. Получаю очевидный ответ: Грюнальди кивает на воду за бортом.
Сомнения у меня возникают только при виде некой женщины, что прохаживается по бревнам причала и глядит на наш корабль из-под ладони, прикрывая глаза от утреннего солнца. В результате я встаю на противоположном борту, поскольку мне кажется, что экипажи кораблей, стоящих на якоре на противоположном берегу фьорда, скалистом и безлюдном, – суть мужья бывалые, которых не оскорбит такой вид.
В этот момент мы минуем пару кораблей, стоящих рядом на якоре, кормой к скалистому берегу. Я вижу лениво развевающиеся зубастые флажки с рисунками танцующих змей и худого человека, что опирается о борт с кубком в руке, а потом бессмысленно перевожу взгляд на полосу пены, которую мы оставляем вдоль борта.
Длится это мгновение, и вдруг я понимаю, что не стыкуется в этой картинке.
Вероятно, поблескивающие синевой стекла спортивных противосолнечных очков марки Visconti Vector, господин разведчик?
Сразу перевожу на него взгляд, приближаю картинку, но вижу, что это не ван Дикен. Этот вообще не из моих. Он низкий, я вижу узкую крысиную мордочку, счесанную назад, мелкие косички открывают продолговатое узкое ухо; он щерится плотным частоколом мелких зубов, словно мятными тик-таками. Ногу упирает в рычаг аркабалисты и потягивает из оловянного кубка.
Местный.
Прыгать в воду? Обыскивать корабль?
Просить, чтобы мы задержались? Это не такси.
Атаковать в одиночку два корабля, полные Змеев?
Нереально.
Узнаю только, что очки эти он получил от кого-то, кто получил их еще от кого-то, и вероятно, когда-то их просто отобрали у одного из моих лишенцев. А скорее всего, не узнаю ничего.
Это просто очередной след, ведущий в Землю Змеев.
Миг-другой я сражаюсь с мыслями.
И думаю очень быстро.
Ответ звучит: вперед. В страну Змеев, как можно быстрее. Речь о риске, связанном с массовыми жертвами среди людей. О прославленном гуманизме его обитателей. О ненасытном аппетите бога Смейринга. О холодном тумане. Если потерявшиеся попали в руки Людей Змея, вероятно, они уже мертвы либо умрут очень скоро.
Если сейчас я выйду на берег, попытка добраться до этого конкретного персонажа займет у меня несколько дней. Мне придется за ним следить, нужно подобраться к нему незаметно, когда он окажется в одиночестве, – или создать такую ситуацию. Я узнаю что-то, а может, не узнаю и окажусь в исходной точке, на коне, отправляясь в горы. Потеряв неделю или две.
К тому времени на корабле я уже миную половину дороги.
А потому стоит взять себя в руки, не дать увлечь чувствам и спокойно сесть на свернутых канатах или подумать о завтраке. Это лишь маленький предмет, который можно носить в кармане, содрать с головы пленника одним движением, поскольку он вызывает интерес и притягивает внимание, а понять его назначение можно самому и без особого труда. Мелочовка, которая почти за два года могла десятки раз перейти из рук в руки. Могла быть отобрана силой, проиграна в досочки или камни, снята с лица мертвеца, подарена родственнику как часть долга или куплена в лавке.
Эти очки за пятьдесят евро могли бы рассказать мне захватывающую историю, но допрашивал бы я не очки, а крысоподобного Человека Змея, который носит их сейчас на носу.
И все же я знаю порядком. Знаю, что никто не любит Змей, а потому между ними и остальными не слишком много контактов. Вещи, которые переходят из рук в руки, а к таким несомненно принадлежат и противосолнечные очки с антибликовым покрытием, автоматической поляризацией и фильтром УФ Visconti Vector, странствуют от одного Змея к другому. А значит, я – в нужном месте.
На корабле, что плывет в Землю Змеев.
Как можно быстрее.
Мне дают кусок сыра и кубок скисшего овечьего молока, а еще кусок лепешки. За бортом проплывают скалистые берега фьорда, над ними встают обрывы и пуща. Снизу непрерывно доносится скрип и плеск пятнадцати пар весел. Неравномерно. Гребцы еще неловкие, наверняка некоторые впервые в жизни держат весла.
Мы плывем.
Я схожу под палубу на носу, чищу Ядрана и позволяю ему упереть свою большую башку в мое плечо. Глажу его по выгнутой шее, приговариваю успокаивающие банальности на польском и хорватском. Хорошо порой произнести несколько слов на нормальном языке.
Рулит большой лысый мужик, с которым я познакомился в доме Скифанара, сражаясь с черным плющом. Грунф Колючее Сердце.
Что за имя!
Он неразговорчив и крайне скептичен, но, похоже, меня уже принял. Сидит на деревянном релинге кормового отсека и упирается ногой в кожаных чижмах в изогнутый румпель. Это главный рулевой Атлейфа, как я слыхал. У Грюнальди был собственный корабль, но его нет. Пропал корабль и весь экипаж, кроме восьми человек. Я все еще не знаю, при каких обстоятельствах.
Я сажусь рядом с рулевым и гляжу на реку. Наш молодой капитан закрылся в кормовой каюте со своими новыми невольницами. И теперь мы слышим выразительные ритмичные девичьи стоны. И длится это с утра.
Грунт усмехается в усы и топает:
– Ну-ка, тихо там! Править невозможно!
Ради эксперимента я раскуриваю зелья, которые купил, но закашливаюсь и выбиваю все за борт. Щиплет язык и пахнет как паленый майоран. К счастью, он не ядовитый и не наркотический – просто бессмысленный.
Лодка плывет излучинами, из воды торчат белые острые скалы, над нами встают обрывы с деревцами, цепляющимися за скалу.
Невермор парит, раскинув крылья, посреди ущелья и оглушающе кричит – аж разносится эхо.
Я осматриваю свою экипировку, наполняю стрелами колчан, остальные связываю в пучок и обертываю одеялом. Делается холодно.
Невольники за веслами начинают петь что-то монотонное и печальное, сперва тихо, потом все громче.
Я забираю на палубу бутылку палинки.
Мы плывем. Скрип, плеск!
В Землю Огня.
* * *
Мимо первого трупа мы проплываем пополудни. Он плывет лицом вниз, в первый момент выглядит как кусок дерева, но вскоре оказывается, что это человек. Дрейфует по течению, широко раскинув руки, а посредине спины его вышита округлая эмблема: три эс-образные формы, вписанные в круг.
Точно такая же, как на нашем парусе.
Мы становимся на дрейфе, но проплывает он довольно далеко. Спалле Рыбий Нож бежит вдоль борта с копьем и пытается притянуть тело, но ему удается лишь перевернуть его лицом кверху.
У трупа лицо объедено до голого черепа рыбами, от остального остались лишь синие размоченные ошметки. Нельзя узнать. Никто не знает, кто это.
Минует он нас и исчезает за поворотом.
На палубе все смолкают и лишь с беспокойством глядят на нос, словно опасаясь того, что может выплыть из-за излучины.
– Никого нет, – говорит Грунф мертво и неуверенно. Он приподнимает кожаную ермолку с окованным ободком и чешет лысину. – Нет охотников, нет рыбаков. Река пуста. Мне это не нравится.
Никому это не нравится.
За час мы минуем еще два трупа, при этом один – лишенный головы и руки, другой – с тремя длинными стрелами, торчащими из спины.
Зовут Атлейфа, который все еще сидит в каюте, с самого утра не выходил даже подкрепиться глотком пива.
Он молча глядит на трупы и кусает губы с беспокойным выражением лица.
– Нехорошо выглядит, – говорит равнодушным голосом.
Все расходятся по кораблю, будто это «нехорошо» было командой или паролем. Без беготни и поспешности – это не кажется тревогой. Кто-то приносит охапку щитов и устанавливает их вдоль релинга, кто-то уже раскатывает кольчугу и помогает товарищу натянуть через голову кафтан, кто-то вынимает меч и делает несколько резких махов над головой, после чего критично поглядывает вдоль клинка, кто-то уже стоит с поясом в зубах и затягивает ремешки шлема.
Я тоже схожу под палубу и надеваю кольчугу, прихватываю наплечники и шлем. Меч перевешиваю через спину, беру еще сагайдак с луком и колчан.
Они глядят с интересом, как я сокращаю ключом тетиву и проверяю, как ведут себя тали на грифах. Кто-то примеряется к нему, но шесть тетив перед глазами их смущают – не знают, какую натягивать.
Плывем дальше почти без слов, на палубе установилось молчание. Нервозности незаметно. Это не приготовление к атаке – просто никто не знает, чего ждать. Такой вот полубоевой кураж. На корме готовят копья, щиты и топоры, один из моряков снимает веревки, которыми найтовилась аркабаллиста, и разблокирует рычаг, но потом садится у изножья машины и грызет, хрупая, какой-то фрукт. Остальные опираются о деревянные релинги и вглядываются в берега.
Вокруг пусто.
* * *
К вечеру мы вплываем в небольшую заводь, справа распахивается большой пляж, засыпанный скальным щебнем, окруженный лесом. На мысе видны небольшие каменные застройки, прикрытые низкой стрехой, да старый деревянный помост. Вокруг тихо, даже псы не брешут.
Мы причаливаем правым бортом так, чтобы нос смотрел на озеро. На помост соскакивает сперва Спалле, потом еще трое, все со щитами на спине и луками в руках. Только потом еще двое принимаются вязать причальный канат. Четверо лучников осторожно сходят на берег.
– Я с ними? – спрашиваю Атлейфа не то с предложением, не то с просьбой о приказе. Он тут стирсман, я должен его уважать.
– Иди, – отвечает он коротко.
Я перехватываю лук и соскакиваю на старые балки причала.
Они несут луки точно так же, как я. Одной рукой, стрела на тетиве, придерживаемая пальцем. На пляже они идут врассыпную: Спалле – впереди, трое остальных – широкой линией позади, я замыкаю. Готов поспорить, что они знают – это охранное построение, а потому я перевешиваю щит на спину и разворачиваюсь, как пристало замыкающему.
Тишина.
Слышен лишь скрежет камней под подошвами.
Может, это излишняя предосторожность, но я активирую цифрал.
* * *
Подходили осторожно, мягко ставя ноги, так, чтобы окатыши не скрежетали под стопами. Драккайнен, идущий последним, старался смотреть с утроенным вниманием. Не мог все время идти спиной вперед, потому зашагал боком, зыркая попеременно то в одну, то в другую сторону, с луком в опущенной руке, со стрелой на тетиве, придерживая ее пальцем. Поглядывал термозрением на край леса, но там никого не было видно.
Дом стоял на мысу, втыкающемся в озеро, в прекрасном месте для небольшой яхтовой пристани и кафешки, или хотя бы закусочной.
Было тихо.
Когда они приблизились к строениям, Спалле перевесил лук за спину, снял щит и тихо вынул меч. Вложил клинок под мышку, после щелкнул пальцами, показал два, а потом – вправо за дом.
Двое моряков моментально двинулись в том направлении, Драккайнен занял их место в строю, справа от Спалле. Тот прокрался к двери и постучал рукоятью меча.
– Эй, Дрофнир, вставай! Это я, Спалле Рыбий Нож! Мы приплыли!
Ничего. Через некоторое время Спалле прижался боком к двери и толкнул ее плечом, но ничего не случилось.
– Закрыто изнутри, – прошептал.
Драккайнен снял стрелу, сунул ее в колчан, а потом вложил лук в сагайдак и хлопнул моряка по плечу, показывая на пальцах, чтобы тот отошел от двери.
Осмотрел кованые завесы из подржавленного железа, осмотрел косяк, потом легонько обстукал доски, взялся за железную рукоять и дернул дверь.
Засов, как он полагал, находился где-то на высоте в метр двадцать и был деревянным.
Драккайнен отступил на шаг, несколько раз глубоко вздохнул и закрыл глаза, освобождая гиперадреналин. Очень осторожно передвинул ноги по гальке, после чего напряг диафрагму, выбрасывая воздух в резком вскрике, и воткнул прямой пинок туда, где должен был находиться засов.
Двери отворились с пугающим грохотом, который раздался в его ушах, словно протяжный рык грома. Засов треснул, но не распался; удар вырвал крюк, за который он заходил, и выстрелил им внутрь помещения. Вуко убрал ногу, чтобы удержать равновесие, одновременно тревожно проверяя состояние сухожилий и мышц. Казалось, что все в порядке.
Спалле и второй моряк стояли по бокам, как на стоп-кадре с полуоткрытыми ртами, когда он наклонился и шагнул внутрь, двигаясь максимально плавно. Ему казалось, что они притворяются, и он хотел уже вернуться в нормальное состояние, крикнуть что-то вроде: «Добрый день, прошу прощения за дверь!» Но в воздухе висело нечто такое, что ему не хотелось снимать боевой режим. Он лишь пытался двигаться естественно, а не метаться, словно кузнечик.
Не успел он переступить порог, как увидел в темноте комнаты что-то горячее и поросшее мехом, размером с теленка, нечто, оттолкнувшееся от земли и выстрелившее в него, как заряд катапульты.
Это было еще в воздухе, когда ему удалось сдержать движение тела вперед и развернуться, пропуская это не пойми что рядом с собой.
Рядом с лицом мелькнула ощеренная зубастая пасть в обрамлении шевелящегося меха; с морды тянулись липкие нитки слюны. Драккайнен сумел ухватиться большим и указательным пальцем за рукоять торчащего над плечом меча и потащить его вверх. Тварь уже миновала его, словно обросшая мехом торпеда. Он сомкнул на рукояти всю ладонь и ударил, протискивая клинок сквозь превратившийся в масло воздух, чувствуя, как турбулентность вибрирует на поверхности стали.
Меч ударил, словно в мокрый снег, перерубая цель, несколько раз зацепив по дороге что-то твердое. Дрожащий в воздухе львиный рык сменился протяжным стоном, словно сигнал корабельной сирены, а потом смолк.
Он выскочил в реальный мир и одновременно услышал, как два тяжелых предмета падают на землю с мокрым хлюпаньем, и почувствовал липкие, горячие брызги на лице.
– Вот и зарубил собачку da piczki materi, – рявкнул Драккайнен. – На хрена ж ты на меня бросался?
– Говорили, ты быстро двигаешься, – сказал Спалле. – Но это, пожалуй, слишком. Я не сумел заметить, как ты выхватил меч.
– Да ладно, – легкомысленно ответил Драккайнен. – Ничего сложного.
Над входом обрушился кусок стрехи, как по линейке отрезанный кончиком клинка. Моряки взглянули на него в молчании.
– Чуть промахнулся, – сокрушенно признался Вуко.
Внутри было темно. Они вошли один за другим в густой, почти горячий смрад гнили. Спалле раскашлялся.
– Нечего здесь искать, – сказал глухо Драккайнен откуда-то из темноты. – Выйдите, я его отрежу.
– Что отрежешь?
– Этого твоего Дрофнира. Повесился на притолоке.
* * *
Висел тот уже пару дней. Труп был одеревеневший, с широко расставленными руками, рот заполнял распухший фиолетовый язык, лицо почти полностью почернело.
– Руки у него были свободны, двери – закрыты изнутри, – сказал Драккайнен. – Сам повесился.
– А где его женщины? Его невольники? Дети?
– Внутри был только пес.
– Мне думается, – сказал неторопливо Спалле, – что ты – Деющий. Знаешь такую песню, чтобы он говорил?
– Я не знаю никаких песен.
– Я слышал, как ты говоришь с конем на его языке.
– Это мой язык. Странствую в одиночестве, потому говорю со всеми подряд, даже с вороном. Я не Деющий, Спалле. Знаю искусство меча своей страны, поэтому двигаюсь быстро.
– Там, за домом! – крикнул один из воинов, высланных на зады строений. Побежали все.
– Головы эти – старше его смерти, – сказал Драккайнен, приседая подле трех женских голов, старательно уложенных на кучку камней. – Как минимум, на несколько дней.
– Убил всех, а потом повесился? А где остальные?
– Сколько с ним жило?
– Он не был богат. Имел четверых невольников, двух женщин и трех детей. Была еще его мать. Это – она да еще его бабы. Остальные исчезли.
Драккайнен осмотрелся:
– Думаю, не он их убил.
– Почему? Может, он сбрендил?
– Там, на земле, лежит лук и колчан. Рядом мертвый козел. Сразу возле леса. А здесь, глядите: три заостренных колышка. На кончиках кровь. Кто-то надел головы на колышки. Если бы это сделал Дрофнир, так бы все и оставил. Но он нашел их на колышках. Вышел из лесу, увидел их, кинул что было в руках и подбежал. Снял головы с колышков и уложил их. А потом повесился.
– Смотрите, здесь! – крикнул кто-то из-под дома.
Вернулись к хате. Там уже стоял весь экипаж, глядя на труп, убитую собаку и выломанную дверь.
– Посмотрите на балки и ставни.
На стенах и деревянных ставнях было полно свежих шрамов, которые он не заметил сразу. Были они не слишком глубоки, но зато многочисленные. Выглядело так, словно гигантский кот точил о дом когти.
– На дверях, изнутри, – указал Грюнальди.
На двери изнутри виднелся ряд знаков, выцарапанных криво и поспешно кончиком ножа. Надпись гласила:
ВОЗВРАЩАЮТСЯ С ТУМАНОМ, ВО ТЬМЕ ИЛИ С РАССВЕТОМ
– Все же заговорил, – сказал Спалле.
Атлейф сплюнул сквозь зубы:
– Внесите его внутрь. Головы и собаку – тоже. Сожжем дом. Потом приготовим еду для себя и невольников, возьмем воду из ручья. В одиночку никто не ходит, даже по нужде. Ночью спим в ладье. Встанем на якорь подальше от берега.
Комнату наполнили хворостом, кто-то нашел бочонок рыбьего жира, который разлили по веткам и полу, потом кто-то сунул факел под крышу.
Дом горел почти всю ночь, заливая ржавым светом пляж, край леса и озеро.
Дежурили посменно по двое, глядя на берег и воду, с луками под рукой, но ничего не случилось.
* * *
Плывем с рассвета. Фьорд тянется между скалами, но стены его сделались намного ниже. Невольники напуганы. Слышу, как перешептываются под палубой. Слышу амитрайские и кебирийские слова. По кругу – одно и то же: о проклятой земле и каких-то именах богов, а еще об урочищах. Стерегущий их моряк наконец начинает орать и лупит кого-то обрезком линя, потом слышны лишь плеск весел и удары барабана.
Делается холодно. Холодной была и ночь, да и утро не лучше. Около полудня мы вплываем в туман. Густой, как сметана, плетущий полосы над водой, берега едва видны в белых испарениях, скалы по курсу появляются внезапно, словно духи, метрах в двадцати по носу.
Грунф устал, то и дело протирает глаза, но не позволяет никому встать у руля.
Мы плывем.
У всех неспокойно на душе, все торопятся.
Я сижу на большом луке аркебаллисты на носу, со своим луком на коленях и трубкой в зубах, высматриваю скалы. Потом кричу, указывая Грунфу направление.
Мы плывем сквозь туман.
Порой минуем некие темные формы, возносящиеся над водой, но непросто понять – это очередные трупы или нечто другое.
На ночь становимся в очередном озерке с каменистым островом посредине. Жжем на нем костер из выброшенных водой, выбеленных стволов. Туман клубится вокруг. Я всматриваюсь в него термозрением, но не вижу никаких чудовищ, как на Пустошах Тревоги или на Вларине. Туман как туман. Осень близится.
Ночью раздается крик. Высокий, писклявый, словно крик ребенка или страдающей женщины. Доносится из испарений. Все вскакивают на ноги, хватаются за оружие, зажигают фитили ламп, кто-то раздувает огонь. Ничего не видно. Только крик. Высокая писклявая жалоба. Сперва один, потом целый хор принимается пищать – как стая шакалов.
Мы сидим, глядим во все стороны, стискивая в мокрых ладонях перехваты луков и топорища. Выпускаем несколько горящих стрел, но пламя их тотчас гаснет, будто попав в молоко. Ничего не видно ни в усиленном зрении, ни в термовидении, ни нормально.
Слышны только крики.
* * *
Утром туман все еще стоит. «Волчий корабль» тихо движется рекой, посреди белых испарений едва мелькают абрисы скал, веток, торчащих из берега корней. Странные писки с берега раздаются то и дело. Звучит немного как крик хищной птицы, немного – как крик испуганного ребенка. Ужасный звук.
Все стоят у бортов, не откладывая луки даже на миг. Кто-то теряет спокойствие и на очередной крик стрела со свистом улетает в клубы тумана.
– Вслепую не стрелять! – рычит Грюнальди.
Меня же беспокоит то, что ничего не вижу. Для термовидения туман не должен быть препятствием. Замечаю какие-то пузатые небольшие фигуры, время от времени мелькающие, словно тени среди теней. Однако они не горят видимыми цифралом красками, характерными для живых существ. Не отличаются от окружающих скал. Только порой между камнями мелькают точки и полосы, наполненные оранжевым.
Мы плывем. Нос режет воду, ряды весел опускаются с плеском, а я сражаюсь с иррациональным чувством дежавю.
То и дело Спалле пускает с носа горящую стрелу. Она летит с шипением сквозь белую пустоту и исчезает. Если уткнется в берег – мы это увидим.
Это выглядит как сцена, взятая из «Сердца тьмы». Через миг в кого-то попадет копье, что вылетит невесть откуда и прошьет ему грудь, а мы примемся отчаянно шить из луков во все стороны. Кто-то доберется до баллисты и примется метать в берег один за другим дротики, а тот, в кого попали, умрет на палубе, плюясь кровью, а из тумана по обеим берегам будут доноситься отчаянные вопли. Ощущаю я это словно фатум или дурную ворожбу. Что-то неминуемое.
Кто это будет?
У Конрада погиб капитан. Значит, Атлейф? А может, стоящий у руля Грунф? А может, Грюнальди, поскольку он, пожалуй, нравится мне больше остальных?
Я должен сделать что-то совершенно противоположное тому, что сделал Уиллард. Что-то, чтобы отвести проклятие. Что угодно, только бы переломить это параноидальное настроение тумана, безумия и непокоя.
Я начинаю во все горло петь старую, двадцатого столетия, песенку, которая кажется мне достаточно боевой:
I see a red door and I wanna paint it black No other colors, I just wanna turn it black I see – girls are walking, wearing summer clothes I need to close my eyes until my darkness goes…Вопли на берегу смолкают. Устанавливается полная концентрации тишина. На корабле тоже. На меня внимательно смотрят, будто я рехнулся.
Около полудня туман постепенно расползается, зато начинается дождь.
Мы ставим на палубе палатку и сидим там, замерзшие и мокрые, глядя, как дождь стекает по линям и сечет воду. Я закутываюсь в плащ. Все, что на мне надето – и напоминающий свободный свитер кафтан, и безрукавка, и плащ, – влажное и воняет мокрой шерстью.
Днем вы заплываем в большое озеро между зелеными холмами, за ними раскидывается лес, а еще дальше маячат в тумане заснеженные горы. Над озером, вдали, виднеются темные плоскости пологих крыш и частоколы нескольких больших усадьб.
– Земля Огня, – шепчет Грюнальди, и его глаза, похожие на зеленые карбункулы, наполняются слезами.
Крик.
Мы бьем топорами и рукоятями мечей в щиты, кто-то приносит огромный волнистый рог с окованной горловиной и упирает его в плечо, словно базуку.
Пугающий вой взлетает к небесам и катится по озеру.
У воды странный смарагдовый цвет, и пахнет словно хлебом из далекой пекарни.
Подгоняют невольников под палубой. Барабан бьет быстрее, весла уходят дальше вперед и энергичнее ударяют в воду.
Видны уже крохотные фигурки людей, бегающих по берегу и по причалу.
Я концентрирую взгляд и вижу, как они вскидывают руки к небу; какая-то женщина в синем платье падает на колени на берегу, в неглубокой воде, и дергает себя за распущенные волосы, кто-то забрел уже по пояс, словно хотел пойти нам навстречу, и, похоже, он что-то кричит.
Не так я представлял себе приветствия. Мне это не нравится, но я ничего не говорю. Мои моряки еще ничего не видят. Слишком далеко. Не видят обломки корабля, затонувшего у самой пристани, с обугленными обрубками, торчащими над водой.
Мы плывем почти час. Начинает веять какой-то легкий ветерок, а потому ставят тот странный фок, похожий на веер, и корабль идет быстрее – на веслах и под парусом.
Когда мы уже в пятидесяти метрах от берега, все уже видят: что-то не так, и смолкают.
Бегающие по берегу люди, как женщины, так и мужчины, одеты в панцири и кольчуги; у женщин юбки закатаны до половины бедра и заткнуты за пояс, они не расстаются с топорами и мечами.
Наконец мы пристаем среди криков, плача, воплей, паданья друг другу в объятия. Женщины и девушки то дергают своих мужчин, то льнут к ним – попеременно.
Я собираю свои вещи, потом свожу Ядрана на берег. Стою скромно сбоку от вопящей толпы, беготни и лающих псов, неловких и коренастых, словно гиены.
Чувствую себя алкоголиком на арабской свадьбе.
Неадекватно.
И одиноко.
Я измучен путешествием и охотно бы что-то съел. А прежде всего мне не помешала бы бочка горячей воды и ведро побольше. А еще котелок мелкого пепла и жира, из которого я сделаю мыло.
Ну и сортир.
* * *
– Сходят с гор, – резюмирует Атлейф. Мы сидим в большом зале за столом. Помещение куда больше и даже немного светлее, чем зал дворца Безумного Крика. – Сходят с гор и нападают на хутора. Главным образом, Змеи. Появляется и холодный туман. Идет фьордом, ползет по лесу. Как в урочищах. Бывают видения, странные вещи. Вместе со Змеями приходят странные существа. Маленькие и все из железа. Словно крабы. Вместо рук у них – клинки, и их непросто убить. Жгут хутора и берут людей в неволю. Но хуже всего – дудочник.
Я замираю с бедрышком в руках. Сглатываю:
– Дудочник?
– Ночами подходит под стены селений и стоит во тьме. Никто никогда не видел его близко. Только фигуру в капюшоне. Говорят, у него морда крысы. Играет на костяной флейте. Страшная и странная музыка, от которой дети сходят с ума. После бегут в лес и исчезают.
– Откуда они приходят? – спрашивает Грюнальди изменившимся голосом.
– Со стороны Скальных Верхов или через Медвежий перевал. И вдоль Драгорины.
Последнее Слово глядит миг-другой перед собой, потом осторожно откладывает надгрызенную лопатку и утирает уголки губ кусочком хлеба. Неторопливо встает:
– Еду сейчас же.
– Бери лошадей, – отвечает ему Атлейф. – А когда будешь дома, грузите пожитки, запасы, берите скот, всех домашних и спускайтесь сюда на зиму. Говори это всем, кого встретишь. Пусть идут на озеро, за частокол Дома Огня. Пусть никто в эту зиму не остается один.
Я допиваю пиво и отставляю рог вверх ногами на стол. Купания не будет.
– Поеду с ним, – говорю.
Атлейф кивает.
* * *
Льет дождь. Мы едем вдоль фьорда, что тянется над озером. Река здесь немного у́же, шумит понизу ущелья. Мы молчим. Слышно только постукивание капель на мокрой тропке и хруст доспехов. Сверху доносится карканье Невермора.
Едем мы вдевятером: я, Грюнальди, Спалле и еще шестеро моряков с погибшего корабля. Время от времени приходится сходить с седла и вести коней под уздцы. Дорога идет над обрывом. Потом, через пару часов, горы делаются немного ниже.
Дважды мы натыкаемся на головы, насаженные на колышки над тропой.
– Бралли и Бралунд, – внезапно говорит Спалле. – Отец и сын. Я их знал.
Вечером дождь перестает.
Потом мы едем в темноте. Медленно, осторожно, но кони спотыкаются, с них спадают уже клочья пены.
Мы разжигаем костер над рекой, на пляже, покрытом галькой, между скалами.
Последнее Слово молчит – просто сидит, смотрит на огонь и с треском выламывает пальцы. Спалле водит маленьким оселком по клинку меча. Мерно и сосредоточенно. Кроме этого – стоит тишина.
Шшшшшзгрииит!
Шшшшшзгрииит!
Мы прислушиваемся, не раздастся ли в темноте вопль, но ничего не слышно. Никто не вопит, ничто не подкрадывается между кустами.
Только «шшшшзгрииит!» оселка Спалле. Стук копыт, порой мурчанье и фырканье коня.
И треск огня.
Я концентрируюсь и впадаю в двухчасовую регенерационную летаргию. Обернувшись плащом и упершись в седло.
Выступаем мы с первым светом.
Собираемся еще по темноте. Столько времени, чтобы отойти на минутку в кусты, все время с мечом под рукой, потом омыть лицо ледяной водой из фьорда.
Уже в седле мы жуем кусочки мяса и копченого сыра.
Девушка лежит на тропе совершенно нагая. У нее раскинуты руки и присогнута нога. Ей вырвали глаза. По светлой бледно-голубой коже, контрастирующей с пурпурными волосами, рассыпавшимися вокруг головы, ползают мухи.
Грюнальди останавливается и не может ехать дальше. Один из моряков соскакивает с седла, на миг присаживается около девушки, придерживая меч, после чего поднимает лицо и отрицательно качает головой.
Последнее Слово на миг прикрывает глаза с хорошо заметным облегчением.
Мы едем дальше.
Через несколько часов мы выезжаем из леса и попадаем в очередную долину с озером. Над берегом стоит окруженный частоколом двор. Издалека видно, что ворота заперты. Фрагмент частокола и один из домов снаружи черны и сожжены.
Грюнальди каменеет в седле. Стискивает пальцы на луке седла и нервно закусывает губу. Это длится лишь несколько секунд, после чего он поднимает коня на дыбы и гонит его диким галопом вниз.
Подъезжая, мы все уже со шлемами на головах и луками в руках.
Внутри, на подворье слышны лай и рычание собак и крики нескольких человек. Значит, они живы, слава Богу. Не попали мы на очередное место резни.
Ворота отворяются, и внезапно из них выходит Грюнальди. Он белый, как стена, и шагает будто слепец – куда несут ноги, не пойми куда. Идет, отираясь о скалы, а потом садится над озером и медленно стягивает с головы шлем. Тот выпадает у него из рук и с лязгом катится по камням, а Последнее Слово мертво глядит перед собой.
Мы спускаемся с коней. Я иду в сторону Грюнальди, но Спалле хватает меня за плечо.
– Не сейчас, – ворчит. – Сейчас нельзя, оставь. Пойдем, узнаем, что случилось. Ему сейчас нужно найти силы жить.
Мы вводим коней на мощенную камнем площадь между плачущими людьми. Кто-то принимает у нас вожжи, какая-то женщина со сплетенными на затылке волосами и с мечом на спине подает нам по рогу пива. Руки ее трясутся.
Мы опоздали на два дня. Девушка рассказывает спокойно, но каким-то деревянным голосом. Посттравматический шок. Началось с нападений на охотников, поселенцев, живущих выше в горах, и на пастухов. Убили несколько человек, сожгли пару домов. Что-то убило в лесу охотников, одного нашли полностью сгоревшим на нетронутой огнем траве. Потому она собрала их сюда, на двор.
Сторожили. На ночь закрывали частокол. И сторожили ворота.
Выслали одного конного ко Двору Кремневого Коня, но он не вернулся.
Потом несколько раз появлялись Змеи на странных лошадях. Они отгоняли их стрелами. Нападали лишь под прикрытием ночи, чаще под утро. Но не слишком яростно. Лишь тревожили.
Удалось убить троих или четверых.
Она решила, что поселенцы приготовят лодки, спустятся Драгориной до большого озера и схоронятся на дворе Атлейфа. Но в следующую ночь Змеи подожгли лодочный сарай.
Появились страшные туманные твари и невиданные ранее существа, выглядевшие немного как морские крабы из железа, а немного – как люди. Слышали, как ночами они кричат нечеловеческими писклявыми голосами.
Потом они услышали музыку флейты. Очень печальную и странную. Собаки выли, когда она раздавалась. Один раз они увидели дудочника, стоящего на краю леса в плаще с капюшоном и держащего длинную флейту. Пытались его застрелить, но он принялся крутиться и танцевать среди падающих вокруг него стрел.
Дети Грюнальди и еще несколько детей рыбаков и пастухов, которые были тогда в городке, сделались больными. Не отзывались – просто стояли на палисаде и смотрели в лес. Лишь те, кому было больше восьми и меньше четырнадцати.
А позавчера их атаковали. Жители оборонялись целую ночь и сумели отбросить нападавших, даже погасить сарай. А утром оказалось, что все те дети отворили ставни, вышли из дома, в котором их затворили, приставили лестницы к частоколу и ушли.
В лес.
* * *
Я перекладываю вещи, часть из них придется здесь оставить. Готовлю минимум. А потом иду к Грюнальди, что погружен в отчаяние над озером и пытается собрать силы для жизни. Бесцеремонно хватаю его за плечо:
– Собирайся, Последнее Слово. Времени у нас нет.
Он поднимает на меня мертвое, мокрое лицо.
– Мы не нашли ни одного трупа ребенка, – говорю ему. – Ни в реке, ни в лесу, нигде. Они их похищают, но не убивают. Это было позавчера. Мы их догоним.
Он поднимает брови, словно не понимая, что я говорю:
– Как?!
– Я умею идти по следу. Даже нюхом, словно пес, если понадобится. Не отступим. Бери пару человек и оружие. Не будем терять время.
– Ты пойдешь со мной? – спрашивает он. – В Землю Змеев?
– Да. Я все равно шел в ту сторону.
Глава 8 Сожженная земля
Нынче солнцу – не встать
В мертвых зеницах отцовых.
Дом под стервятником пал.
Надо уйти, надо укрыться.
В сжатой пясти – отчаянье,
В сердце – вражеский нож.
«Песнь Преданного», Киренен, автор неизвестенБежали мы коридором в абсолютной темноте. Я уже перестал протестовать. Когда Брус потянул меня в ямину туннеля, я услышал, как Ремень захлопнул дверь и закрыл засов с той стороны. Я оказался во мраке, что скрывал мои слезы и испуг. Казалось, что мы бежим бесконечно, а где-то высоко над нашими головами шла война и перекатывался пульсирующий отзвук, словно отголосок далекого обезумевшего океана.
Вокруг и внутри меня царила одинаково черная пустота. Я перебирал ногами, поскольку приказано мне было идти. Но я понятия не имел, куда и зачем.
Мне всегда казалось, что внезапно встать перед лицом собственной гибели – нечто отвратительное. Знал я, что никто не может быть уверен, как тогда станет себя вести и не проснется ли в нем ужас и животная жажда жизни. Но я не допускал, что можно избегнуть смерти и ощущать после необходимость жить дальше как страшное бремя.
Моя мать, императрица, которая считала меня сыном, отец, Айина, Чагай, Мастер Зверей – все умерли. Не существовали. Даже Ремень, Фиалла и Тахела наверняка были мертвы к этому моменту. Умерли все, кого я знал. Мой мир, мои Облачные Палаты пожрал ревущий пожар.
Я остался один в душной тьме.
И завидовал им, ушедшим. Хотел и сам пойти Дорогой Вверх, куда и они, или исчезнуть в пустоте, черной и глубокой, как та, что меня окружала.
Тем временем мне приказали жить.
Император. Владыка Тигриного Трона без трона. Кай-тохимон клана Журавля, но без клана. Один. В темноте. Последний из живых.
Если бы не Брус, который меня вел, полагаю, я сполз бы под стену и лежал, пока не умер бы от голода.
Мы бежали длинными коридорами. Когда горели в них лампады, казалось, что путь в город длится мгновение. Когда же проходил им в последний раз, в темноте, казалось, что они бесконечны.
Наконец я услыхал скрежет ключа и тихий скрип двери. Мы вошли в склад почти настолько же темный, как и коридор, только где-то снаружи трепетал слабый свет, в котором видны были абрисы бочек и тюков, хотя, возможно, это просто мои глаза привыкли к темноте.
Мы крались в тишине, молча. С корзинами путников за спиной, в плетеных плащах от дождя. Брус очень медленно раздвинул завесу из бисера, и до нас донеслись голоса:
– Что ты там говоришь?! Что у тебя под рукою, пес?!
Что-то с грохотом упало на пол.
– Не трогайте мои стихи… – Тихий голос, которого я никогда не слышал.
Брус снял ремень с корзины и медленно поставил ее на землю. А потом взял свой посох и прокрутил его кончик. Посох распался, а между частями блеснула сталь. Брус высунул клинок и аккуратно прислонил вторую часть палки к стене, после чего сунул руку за пазуху и вынул нечто, напоминавшее толстый гвоздь.
А потом его широкие плечи заслонили мне вход, и я не мог видеть, что происходит снаружи.
– Еще раз говорю тебе! Золото, деньги и вино, чужеземный червяк. И письма. Отдавай письма! Жрецы хотят знать, кто стелился перед чужеземцами, кто хотел знаться с грязью не из своей касты и кто нарушал Кодекс Земли! Все!
– Письма – нельзя… – забормотал Шилган Хатьезид, писарь, сидевший за столом, все еще с тростниковым каламом в руке. Свободной рукой он прижимал карточку, скрывая ее содержимое, словно ученик, пойманный на рисовании каракулей.
Два пехотинца низкого звания из «Каменного» тимена разоряли помещение. На полу стояла круглая корзина, в которую они сбрасывали то, что снимали с полок. На них не было тяжелых панцирей – только простейшие сегменты доспехов, они не носили и шлемы – только повязанную вокруг лба защиту головы и щек. Один из них держал старика за волосы и прикладывал кинжал к его горлу.
Столько-то я и успел рассмотреть, прежде чем Брус вошел в помещение.
Он махнул рукой, и короткий клинок прошил воздух. Сам же Брус одновременно молниеносно ударил странным мечом – собственно, куском посоха с клинком. Второй солдат непроизвольно заслонился рукой, но Брус перерубил ее до половины, вырвал клинок из кости и с отвратительным хрустом воткнул его солдату между железными полосами панциря. Провернул меч и вырвал его. Первый крутился по конторе, держась двумя руками за горло, а между пальцами его текли ручейки крови, капая на покрывающие пол листы.
– Мои стихи… – прошептал писарь.
Брус осторожно выглянул на улицу и осмотрелся.
– Пусто, – прошептал. Потом вернулся, подхватил одного из солдат под мышки и выволок его на улицу. Вернулся, подхватил второго за узлы панциря на затылке и поволок его по земле, не обращая внимания на то, что тот еще жив и умирает, давясь собственной кровью и поводя глазами.
Я забрал обе наши корзины и посохи из коридора, после чего втиснулся в комнату писца.
– Добрый вечер, ситар Шилган, – поздоровался я со стариком, который, как обычно, сделал вид, что меня не видит, только поднял с пола чистый лист, орошенный капельками крови, и макнул калам в тушь.
Я не мог избежать впечатления, что вот-вот проснусь.
– У нас есть шансы, только пока ночь, – заявил Брус, оглядываясь через плечо с порога. – Пойдем, Арджук.
Я подал корзину и посох со шляпой, которая было упала с его головы.
Мы вышли в ночь, первую прохладную ночь за много месяцев. Дождь еще хлестал, но это уже не был пугающий ливень. Канавами текли потоки мутной воды, и было почти светло из-за ржавого зарева, что вставало над низкими крышами со стороны дворца.
– Нам нужно добраться до реки, – прошептал Брус. – В самый конец торгового квартала за портом.
Я равнодушно кивнул.
Мы пробирались под стенами. Порой доносилось до нас тарахтение колес, порой – стук конских копыт по мокрой брусчатке. Мы тогда прятались, выискивая темнейший из углов в переулках, подворотнях или за кучами мусора.
Несколько раз улочкой пробегали солдаты с пиками в руках, тогда мы ожидали, пока не стихнет хруст железа и грохот тяжелых, подбитых гвоздями сандалий, надетых на обычные полотняные тапочки с плетеными подошвами.
Мы продрались сквозь пустой, вымерший город, освещенный лишь мглистым отсветом, что казался рассветной зарей – но зарей не бывший.
Через такой город надо идти совершенно иначе. Никогда не знаешь, что повстречается за углом. Брус заглядывал за дома, следил за окрестностями и показывал мне очередное укрытие, до которого я должен был добежать и там присесть. Стоящая под стеной перевернутая тележка для овощей, несколько бочек, подворотня.
Лишь когда я пробегал этот участок и укрывался, он добирался до меня и высматривал следующее укрытие. Ночью опустошенный город казался чужим, и я давно не мог сообразить, где я, собственно, нахожусь.
Однако Брус знал дорогу и вел меня уверенно, обходя стороной все окрестные храмы и пустые площади. Проходили мы какими-то подворьями, подворотнями и закоулками. Он не останавливался ни на миг, как если бы проходил этим путем ночью сотни раз.
Одну площадь мы видели издалека. Там было полно солдат в красной броне «Пламенного» тимена: пирамиды установленных копий, окрашенные в черное широкие мископодобные шлемы с номерами бинхонов, надетые на охранные повязки, охватывающие лбы и щеки.
Они выгоняли перепуганных людей из домов и разделяли их на площади. Я видел, как отрывают жен от мужей, как сгоняют детей в отдельную, сбитую, группку. Рядом стояли три высоких жреца пророчицы в красных плащах и серебряных масках, в которых отражались языки пламени.
Я видел, как выволакивают какого-то мужчину из толпы и растягивают его на камнях колодца, выкрутив руки, а потом перерезают ему глотку. Как жрец собирает кровь в жертвенную миску и вытягивает кремневый серп, а потом склоняется над умирающим.
Брус потянул меня за плечо.
– А в моем посохе странника тоже есть оружие? – спросил я его, когда мы спрятались в очередном закоулке среди кип гниющих тряпок и старых досок.
– Там есть много оружия. Это посох шпиона. Меч и нож, цепь и копье. Днем я покажу тебе, как их там найти. Нынче должно бы хватить и меча. Вверху есть медное кольцо. Выше него посох – рукоять меча, только нужно его провернуть.
Видели мы и трупы. Порубленных серпами конницы, с перерезанными горлами и повешенных, колышущихся с черными лицами под дождем.
Что-то сломалось во мне, лишь когда я увидел насилуемую девушку, бьющуюся, в клочьях рубахи, растянутую на прилавке. Ее держали четверо солдат – за руки и ноги. Девушка выла и звала на помощь.
Я успел вынуть меч только наполовину, когда Брус схватил меня за запястье и обездвижил, выкручивая руку.
– Нельзя, тохимон, – выдохнул мне в ухо. – Все они погибли не для того, чтобы ты отдал жизнь в схватке с первыми попавшимися солдатами. Это их ночь гнева. Возвращается Кодекс Земли. Нынче они сорвались, чтобы завтра целый мир трясся от страха. Они правят страхом, Арджук. Ты еще увидишь и худшие жестокости и тоже ничего не сможешь поделать. Теперь они заняты. Это хорошо, поскольку означает, что мы можем пройти незамеченными.
Он тянул меня через умирающий город и не позволял мгновения передохнуть. Даже когда мы увидали наших солдат. Мы тогда перебегали по плоским крышам близких домов, и я все видел сверху.
Наших. Из маранахарского «Молниеносного» тимена, в желтых панцирях, с черным тигром на щитах, без пририсованных двойных лун или знака Подземного Лона.
Их было не много. Неполная сотня. Обороняли лестницу в храме. Даже не знаю, что это был за храм, но наверняка не Подземной Матери. Белый, украшенный колоннами и барельефами на фронтонах. Я видел ровную стену желтых щитов, ощетинившуюся копьями в несколько рядов, баррикаду из повозок, прилавков, бочек и разбитых памятников у ворот храма, последней линией обороны. На ступенях перед ними лежали завалы трупов в черных и красных панцирях.
По улочкам вокруг храма толпились уже щитоносцы, присев за своими большими щитами, а за ними виднелись готовящиеся лучники. Пехота поднимала мечи, а дикий визг: «Ифрия! Ифрия!» – летел под небеса.
– Это наши люди! – кричал я на Бруса. – Наши! Мы должны быть с ними! Должны собирать их вокруг себя, они ведь сражаются за то же самое!
– Они погибнут! – рявкнул Брус. – Взгляни на лучников. Сосчитай их. Взгляни на колесницы на той улице. Взгляни на «Каменных», что строятся в онагр на той стороне площади! Увидь зажигательные снаряды на тех повозках! Чем им помогут двое людей?!
Потом повлек меня дальше.
Тех, кто сражался, в ту ночь мы видели еще несколько раз. Они всегда были немногочисленны, и против них всегда стояли многие.
Тогда-то я впервые увидел истинное мужество.
Десяток-полтора солдат, собравшихся посреди площади, закрывшись чуть наклоненными щитами и щетинясь во все стороны копьями, в строю «раковина» – и кружащая вокруг конница, засыпающая их дождем стрел.
Видел я и тех, кто бежал. В изрубленных доспехах, ведя под руки хромающих товарищей, с мечами в другой руке, зарубленных внезапно бесчисленными ударами пролетающих мимо всадников. Людей, которые продолжали стоять, хотя тела их выглядели посеченными.
Видел я и наступающие пустынные колесницы. Надвигающиеся, как скорпионы, выставив колючки. Впервые в жизни тогда я услышал страшный свист вращающихся кос, приставленных к осям колес. Увидел, как убегающий человек, мимо которого проносится колесница, распадается на бегу на кусочки в облаке крови, что забрызгивает все вокруг. Стены, брусчатка, мое лицо. Я смотрел на это, сидя за какой-то бочкой, и чувствовал, как дождь стекает у меня по щекам вместе с его кровью и моими слезами.
И совершенно неожиданно мы увидели Нагель Ифрию. Огонь Пустыни.
Она танцевала на каменном мосту над каналом. Кружилась, словно веретено, с широко расставленными руками и склоненной головой, с которой спал капюшон, а красный переливчатый плащ, как в моем сне, взлетал вокруг нее, будто светящийся сноп или крылья насекомого. Была она самим движением.
По обе стороны от нее сидели два боевых леопарда, что неуверенно облизывались и осматривались.
Брус ухватил меня за воротник и затянул за стенку, вниз.
– Я должен увидеть ее лицо!
– Ослепнешь! – прошипел он.
Кто-то бежал вдоль канала.
Пророчица задержалась и открыла рот, а потом издала страшный высокий звук, разодравший мне уши; затем он стих, хотя рот ее все еще был распахнут. Она кричала, но крик ее я слышал где-то внутри. Я зажал уши.
Бегущий человек внезапно вспыхнул, словно его облили маслом из лампы, и превратился в пламень. Кричащее, изгибающееся пламя, с огненными руками и ногами, металось с минуту по берегу, после чего с шипением рухнуло в воду.
И все же сквозь полыхание я видел ее лицо.
Страшное лицо не то женщины, не то мужчины, безумное и с горящими золотом глазами.
Я не ослеп. Может, оттого, что она не взглянула на меня.
А потом – она окрутилась вновь, набросила капюшон и растворилась во мраке улочки, а оба леопарда побежали за ней.
Я вырвался из хватки Бруса.
– Я мог ее убить, сын Полынника! – рявкнул ему. – Я мог закончить все здесь и сейчас!
– Ты даже не добежал бы, – сказал он. – Если бы удалось ее так убить, я бы сам это сделал, принеся тебе ее голову. Уже давным-давно.
Мы продолжили продираться сквозь страшный чужой город. Видели мы, как то здесь, то там вспыхивали пожары, как гудящие шары зажигательных снарядов посылались один за другим через небо, слышали крики сотен глоток. Не знаю, сколько это продолжалось. Не знаю, спал я или бежал наяву.
Наконец мы добрались до реки.
Это уже была не та полупересохшая речушка, превратившаяся в ленивый ручеек, что тек сквозь разливы грязи.
Нынче неслась она темной, вспененной массой, с плеском волоча бочки, мусор, сорванные лодки и тела убитых. Вдали было видно, как в порту горят, сшибаясь друг с другом, корабли, слышались отзвуки битвы.
Брус нашел какой-то каменный сарай, обросший на крыше травой, и захрустел ключом, отворяя малые дверки. Загрохотала цепь. Ближайшие дома стояли тихие и темные, будто их обитатели спокойно спали.
Я вошел – вернее, вполз – внутрь, между побекивающими в темноте овцами; слушал хруст, с которым они жуют сухое сено. Брус разгреб говно и прелую солому на полу, а потом поднял крышку люка и внезапно погрузился куда-то под землю. Я пополз следом, волоча обе корзины, цепляясь за все подряд посохом, шелестя плащом и то и дело теряя шляпу.
Мы шли каменными ступенями. Стены тоже были каменными и влажными. Каждый шаг отбивался от них эхом. Потом мы остановились. Было темно, но я чувствовал, что это некий обширный подвал, в котором стоит вода. Слышал, как в нее падают с потолка капли.
Затрещало огниво, потом, щурясь от света лампадки, я увидал орлиное лицо Бруса и его ладони, а через миг и все помещение. Было оно достаточно велико, с дугообразным потолком; весь пол занимал бассейн, в котором колыхалась весельная лодка, такая, с каких селяне на реке ведут торговлю. Длинная, с крышей, растянутой на бугелях от носа, и с квадратным балдахином на корме.
– Ступай на нос, господин, – шепнул Брус. – Ляжешь под полотном и поспишь. Там есть сухие одеяла, полотенца, даже еда и напитки. Нужно отдохнуть. Станем плыть до самого рассвета.
– И куда ты хочешь плыть в этом погребе?! – спросил я.
– Поверь мне, Арджук. Мы поплывем. Поспеши, лампадка сейчас погаснет.
Я взошел на лодку и вытянул ноги. Ткань на носу была натянута столь высоко, что там удавалось даже сидеть, не упираясь головой в крышу.
Брус отвязал швартовы и взял стоящее под стеной весло. Тогда лампадка и вправду погасла. Темнота, которая установилась, была еще непрогляднее, чем ранее. А после Брус потянул за какую-то цепь. Раздалось тарахтенье и шум воды, перед нами появилась щель, через которую ворвался слабый ночной свет.
Передняя стена подвала отворилась неторопливо, и заполнявшая его вода с шумом потекла наклонным каменным желобом, выстроенным из квадратных плит, прямо в реку. Выглядело это как отлив дождевых вод. До реки было не высоко и не далеко. Благодаря грозе. Мы спустились едва на несколько шагов, и нос нашей лодки ударился о воду. Двери в каменной стене над рекой вдруг затворились, и я бы не сумел сказать, где они находятся. Видел только стену, растущие из нее кусты и кисти трав.
Брус толкнул руль, и лодка пошла по течению.
Некоторое время я сидел, глядя на разливающиеся по берегу огни, слыша взрывающиеся где-то во тьме крики, и раздумывал, увижу ли этот город когда-нибудь.
Где-то все время был слышен равномерный рокот сигнальных барабанов. Он несся над водой и пульсировал в воздухе.
Брус выругался.
– Изменили язык барабанов, – сказал. – Ничего не понимаю. Это не наши коды.
Он был прав. Я тоже ничего не понимал, хотя знал язык барабанов лучше многих офицеров. Я знал три языка барабанов, в том числе самый тайный, но все равно ничего не понимал. За исключением одного слова. Они не изменили одно слово, которое то и дело повторялось в сообщении. «Тенджарук». Перевернутый Журавль.
Это я.
Мое имя.
* * *
Лодка вертко плыла по течению. Брус правил, почти не используя весла. Время от времени он позволял ей крутиться в потоке и бесконтрольно дрейфовать кормой вперед, чтобы она не обращала на себя внимание среди стволов и досок, плывущих бочек и всяко-разного мусора, влекомого рекой.
Однажды поверх нас пролетело несколько случайных стрел, с плеском втыкаясь в воду; в другой раз в реку недалеко от нас ударил с шипением зажигательный снаряд из катапульты, разлив на поверхности пятно огня. Но не думаю, чтобы стреляли по нам.
На этот раз, впервые за долгие месяцы, погода была на нашей стороне. Там, куда не добиралось ржавое зарево пожаров, стояла смоляная тьма, беспрестанно льющий дождь скрывал плеск воды, а сделавшаяся широкой и быстрой река, полная мусора, делала невозможным любой контроль.
В какой-то момент нас отнесло под левый берег, где пылал огонь, и на его фоне были видны солдаты в шлемах и с копьями в руках. Однако Брус лишь набросил на себя подмокшую тряпку, лежавшую на паланкине, и лег навзничь. Завешанная темно-коричневой тканью, лодка наша превратилась в продолговатую бесформенную тень, схожую со стволами, вздувшимися трупами коров и телами мертвецов, плывущими вниз по реке.
Солдаты не удостоили нас даже взглядом.
Через какое-то время я перестал выглядывать из-под навеса. Лег на дне, положив голову на свернутое одеяло, и решил поспать – но так и не сумел.
Чувствовал, что нынче лучше не думать. Ни о чем, что не является моментом здесь и сейчас. Так, как это делал Брус. По крайней мере такое он производил впечатление. Когда встретим патруль – думать лишь о том, как пройти мимо него, спрятаться или поубивать солдат, и что – если до этого дойдет – сделать с телами. Пока у нас есть лодка, плыть и думать только о воде, реке, руле и веслах. Когда станем голодны – о том, как добыть еды. Никогда о том, что будет дальше. Никогда о том, что прошло. Ничего этого не существует. Существует лишь то, что сейчас. Я нынче не император, не владыка мира: сирота или беглец, за которым гонятся орды обезумевшего войска. Я лишь тот, кто плывет по реке. А потом, вероятно, тот, кто идет сквозь лес.
Не больше.
Брус тоже утратил целый мир. У него тоже были друзья, он тоже был кирененцем, как и я. Но казалось, что его интересует лишь то, как идти сквозь город. Как найти лодку. А теперь – как незаметно проскользнуть рекой и выбраться из зоны схваток. И ни о чем другом он не думал.
Мы плыли вместе с течением на запад. Я знал, что селения, постройки и имения тянутся за городом на мили по обеим сторонам. Но течение было быстрым, и я надеялся, что до рассвета мы сумеем доплыть до безлюдных районов.
Я не знал, где мы находимся, не знал и как далеко до рассвета.
Чувствовал себя словно сидел на корзине, полной диких зверьков. Знал, что достаточно одного неосторожного движения, и крышка упадет, а ужас вырвется наружу. Теперь голова моя и была такой корзиной. Та стояла где-то в моем сознании, а зверьки вились внутри, толкались и поддевали крышку.
Не думать. Не подпускать к себе весь ужас того, что случилось. Не охватывать этого разумом. Не думать ни о ком из близких. Пусть они живут в моей голове, пусть в памяти моей дворец еще стоит, пусть птицы еще ходят по траве, пусть девушки мои все еще сидят на террасе с синтарами в руках. Пусть настаивается отвар в изогнутых медных чайниках.
Где-то в моей памяти.
Где-то в моей голове.
Существует только это да хлюпающая вокруг мутная вода, полная обломков, да еще платяное покрытие над головою.
И – ничего больше.
Мы проплывали мимо мостов, бульваров и трактов, что спускались к реке, а еще водопои и маленькие пристани. Здесь нас наверняка никто не мог заметить, а потому Брус заблокировал руль и греб, словно безумный, то с одного, то с другого борта. Сражался он за каждый момент темноты и за каждый очередной шаг, удаляющий нас от города.
Наконец движение, плеск и мрак одолели меня, и я провалился в неглубокий сон, хотя мне казалось, что я не сплю и слышу каждый всплеск, шум дождя и крики ночной птицы.
* * *
Пробудил меня резкий шорох и шуршание о борта. Наша лодка глубоко вошла в тростник. Вода здесь была мелкой, а небо уже светлело. Я внезапно сел и повернулся. Брус оттолкнулся веслом от дна, а на крыше паланкина лежали охапки свежесрезанного тростника.
Нос лодки раздвинул стену светлых стеблей, а за кормой река уже едва маячила между тростником.
Я открыл рот, но Брус жестом приказал мне молчать. Лодка наконец остановилась. Мой проводник снял штаны и сапоги, после чего в одной набедренной повязке сошел в воду, пробуя дно посохом, и исчез в тростнике.
Вернулся через какое-то время и вскарабкался на борт.
– Нужно было проверить, нет ли здесь кого, – заявил. – Становится светло, мы переждем здесь день. Когда придет ночь, снова двинемся. Чем дальше сумеем уплыть на лодке, тем лучше для нас.
Он сел и вытер ноги.
– Есть вещи, которые тебе нужно запомнить. Твое имя Арджук Хатармал, как и во время наших вылазок в город. Я же, как и тогда, зовусь Тендзин Бирталай, и я – твой дядя. Мы оба – обедневшие синдары из небольшого городка. Мы никогда не использовали этих имен, потому они безопасны. Оба мы родом из Камирсара, что у подножия гор Камир. Ты едва закончил обучение у писаря Шилгана Хатьезида, которое позволит тебе сдать экзамены на чиновника низкого ранга. Но твои амбиции – служить писарем и служащим Красной Башни и храма Подземной Матери. Потому что наиважнейшее для тебя – истинные амитрайские традиции. Я выбрался в город, поскольку твой отец болен, а теперь мы возвращаемся в Камирсар. Если удастся. Революция застала нас в городе.
– Как зовут моего отца? – спросил я деловито, изо всех сил стараясь не думать об отце собственном.
– Узир Хатармал. Мать зовут Уфия Кидиржим, но она уже мертва. Умерла, когда ты был ребенком. У тебя есть еще брат и сестра. Вот письмо, которое написал к тебе твой отец. Там, под разными предлогами, перечислены все имена и фамилии остальных членов твоей семьи. Ты должен заучить их так, чтобы помнить даже во сне. Еще ты должен помнить о многих вещах. С этого момента я не стану разговаривать с тобой как должно. Не назову тебя благородным принцем, тохимоном, императором. Есть вещи более важные, чем культура и вежливость. Знай, что, несмотря на то что порой мне придется тебя ругать, высмеивать, а может, и наказывать, я остаюсь твоим подданным и вижу в тебе только императора. Если ты получишь трон назад или если мы окажемся в безопасном месте, можешь отдать мне приказ, и я расплачусь смертью за все проявления неуважения, какие допущу. Однако нам нужно оказаться умнее наших врагов. А потому мы ни слова не произнесем по-кирененски. Не станем выполнять цивилизованных обычаев, таких как купание, отдых после завтрака, созерцание природы или чтение. Не станем молиться Создателю и благодарить его, даже когда увидим красивейшие виды на свете. Мы – амитраи из Амитрая, полагаем все это чужеземными слабостями и чужими обычаями, которых не понимаем. Красотой мы считаем степь, конный галоп и победу Подземной Матери, которая уберет все различия и приведет к тому, что все сделается единым. Все, чего нет в Кодексе Земли, мы полагаем излишним и дурным. Потому у нас и мускул не дрогнет, когда мы увидим, что кто-то рушит любой храм, сжигает книги или разбивает памятники. Мы не обратим внимания, когда при нас станут отбирать у людей свободу и человечность. Мы даже не поймем, что это такое. Для нас свобода – это послушание Праматери, а честь – истовость в исполнении обязанностей. Помни об этом. Помни все время.
…Теперь мне нужно уйти, оставляю тебя здесь. Я должен взглянуть, где мы находимся и что происходит. Стоят ли на дорогах патрули, идут ли еще сражения. Удастся ли купить еды. Я вернусь. Самое позднее – к полудню. Однако, если не вернусь до ночи, столкни лодку на воду и плыви по течению. Остановки делай только в укромных местах: в тростнике, на островах или в узких рукавах. Не разводи огонь. Пищу ешь холодной или подогревай над фитилем лампы. Днем спи, плыви или иди ночью. Не разговаривай ни с кем и не позволяй себя увидеть. Если заметит тебя один человек – убей его. Если больше – убегай. Если ничего не случится, через десяток ночей ты должен добраться до Саурагара. Тогда найдешь путь и отправишься на восток. В стенке моей корзины найдешь полый прут, внутри описаны места, к которым тебе нужно дойти, и люди, которые могут тебе помочь. Это все. Но я вернусь. Вернусь до полудня. Не сходи на берег. Если кого услышишь, не двигайся. Каждый, кто живет над рекой, распознает звук, какой издает человек в лодке. Если надо будет оправиться, делай это тоже в лодке. Если захочешь пить – есть запасы. И не пей воду из реки. Гроза вызвала подъем воды, а война сбросила в реку слишком много трупов. В воде может быть зараза.
После этих слов он взял посох, узелок, сделанный из штанов, сапог и носков, который подложил под жесткую шляпу путешественника, и накрыл меня старой рыбачьей сетью от паланкина до самого носа, после чего вплел в нее стебли тростника.
– Если, однако, тебе понадобится выйти, сеть надрезана с одной стороны, – сказал, а потом, неся шляпу, наполненную как мешок вещами, и посох, заброшенный на плечи и оплетенный одной рукой, вошел в тростник.
Я остался один.
На лодке было достаточно места, чтобы осторожно пройти на нос и там присесть под защитой паланкина и сети на удобной лавочке. Я мог смотреть между стеблями на реку, закрытую стеной тростника, а захоти лечь, мог бы вползти под паланкин на носу и заснуть.
Я нашел несколько больших кувшинов с водой и пальмовым вином, сушеное козье мясо, копченые сыры, хлеб, медовые сливы и прочие вещи.
Немного подкрепился, но не чувствовал себя голодным. Скорее – больным. Хотел кубок орехового отвара, но не был уверен, есть ли здесь орехи, кубки и тигель. И не хотел разводить без нужды огонь.
Сидел я на лавке, словно в тростниковой беседке, жевал сливы и ничего не мог поделать с тем, что наконец до меня дошел весь ужас ситуации. Крышка корзины отлетела, и мои кошмары выбрались наружу. Я видел их всех. Целый хоровод лиц. Таких, какими я их запомнил, и то, какой должна была оказаться их смерть. Голову Айины, которую держали за волосы сражающиеся солдаты. Моего бедного брата, привыкшего, скорее, к синтаре, чем к мечу, заколотого копьями; моих несчастных служанок, насилуемых десятками воняющих хуже козлов, хрустящих забрызганными кровью доспехами солдатами, а потом зарезанных тупыми, щербатыми мечами пехоты. Горящие занавеси Дома Киновари, чернеющие цветы и лианы, пестрые птички, улетающие вместе с сажей и языками пламени.
Не будет уже Праздников Ветра? Тысяч воздушных змеев, запускаемых в первых теплых порывах? Не будет Праздника Прихода Солнца в самой середине морозной зимы? Огромных костров, горящих на снегу? Танцев вокруг огня? Не будет Дня Летних Празднеств? Ничего, лишь бесконечные кровавые жертвы и молитвы у оснований Красных Башен? Только праздники плодородия и праздники Подземного Лона при любом случае?
Отчаяние мое длилось недолго. Оно словно выгорело – раньше. И потом все мое нутро будто замерло. Я не знал, прав ли был отец, полагая, что я смогу вернуться через какое-то время и вернуть к жизни ушедшее. Но я был уверен, что попытаюсь или умру, пытаясь.
От скуки я осмотрел посох, но мне не удалось до конца раскрыть, как он действует. Я умел вынуть меч, удалось мне также сделать так, чтобы из другого конца выскочило узкое острие, превращая посох в копье. Но больше я ничего не нашел.
Также я осмотрел свою дорожную корзину. Там можно было найти то, что люди обычно берут в путь и с чем мог бы странствовать Арджук Хатармал, синдар из Камирсара. Немного белья, теплый кафтан, плащ, сапоги – одни запасные и вторые войлочные, на зиму; сельские окованные сандалии для надевания на обувь; полотенце, одеяло, ложка, металлические щипчики для еды, маленький нож, кубок, шкатулка для письменных приборов. И мой железный шар желаний. Подарок Ремня, который Фиалла и Тахела уложили в мою корзину. На случай, когда б мне стало печально, а их не оказалось рядом, чтобы меня утешить.
И только тогда я расплакался, сидя над открытой корзиной и сжимая шар в руке, как делал это сотни раз ранее.
Даже если я вернусь во главе войска, свалю Красные Башни и положу мерзкую голову Нагель Ифрии на могилу отца, отстрою дворец и Облачные Палаты, разве вернутся они? Выйдут друг за дружкой из тумана и усядутся у меня в патио?
Встало туманное солнце, а я сидел в лодке.
Ждал.
Когда наступило утро, я внезапно услышал пение.
Какой-то селянин, может рыбак, плыл на лодке вдоль тростника. Я слышал, как скрипят его весла и как сам он напевает простую, грубую песенку о ловле рыбы и о том, как лучшую из них он отнесет домой, своей любимой. И что рыбы те прекраснее драгоценностей, которых у него нет и быть не может, потому что он беден. И еще: что рыбу можно съесть, а драгоценности холодны, тверды и не наполняют живот.
Я улыбнулся, расчувствовавшись. Там шла война, жрецы перерезали людям глотки, горели города и падали троны, ночи напролет под небеса неслась чужая песнь барабанов, а он был занят своим. Ловил рыбу. Кормить свою любимую и нести остальное на базар. Те набьют животы и примутся дальше бить, разрушать и жечь и не поймут никогда, что могут себе это позволить только потому, что он никого не убивает и не жжет, а лишь ловит рыбу.
Я чуть раздвинул тростник, вплетенный в сеть, чтобы на него взглянуть.
Он же сложил весла и вынул длинную жердь, заканчивающуюся крюком, которую погрузил в воду. Мне сделалось жаль бедного темного дурня, который ищет свои ловушки на крабов и моллюсков, хотя прошла гроза, рекой прошла вчера волна наводнения, волоча военный мусор, а те его ловушки и сети разрушены либо плывут теперь к морю.
Однако рыбак что-то нашел и теперь волок это к своей лодке, продолжая напевать сквозь стиснутые зубы.
Я присмотрелся внимательнее, и оказалось, что веселый рыбак волочет труп. Ему удалось подтянуть останки к борту и прихватить за шею, после чего он, постанывая, перевернул его и расстегнул пояс; забросил тело в лодку, обыскал одежду, ощупал шею и нашел какой-то амулет, который через миг тоже стукнул о доски лодки, а потом снял еще и сандалии – и оттолкнул труп своей жердью, отсылая его в дальнейший путь по течению.
Мне сделалось дурно. Я увидел, как он, все еще напевая, пошел на веслах к следующему дрейфующему по реке телу, увенчанному, словно мачтой, торчащей из спины длинной стрелой. Вынул складной ножик, после чего срезал стрелу и снял с мертвеца желтую куртку маранахарского тимена пехоты. В задумчивости вложил палец в дыру от стрелы, словно прикидывая, имеет ли смысл ее зашивать.
Я долго смотрел, как он плавает туда-сюда по реке, глядел на него со смешанным чувством презрения и сочувствия.
Он обворовывал трупы, но что для него какие-то сражения в городе? Что ему до того, будет ли и дальше править император, какой-то там кирененец и который желал построить лучшую страну, или же отныне над ним встанет какой-то там Кодекс Земли, подземный культ, а властью теперь станут не императорские чиновники, а жрецы в масках? И значит ли это, что дармовые сандалии и куртка должны уплыть по реке? Ни император, ни жрецы никогда не давали ему сандалий. Дал их ему мертвый солдат. Теперь он наденет их на старые полотняные сапоги и не только сделается элегантнее. Теперь сапоги эти прослужат ему намного дольше. Остальное он продаст и сумеет купить себе дурры, хлеба или мясных грибов. Или древесного угля на зиму. Или масла.
Так это выглядело, и не было никакой разницы, нравится это мне или нет. К тому же мне казалось, что знай этот славный рыбак, кто сидит в нескольких шагах от него, в тростнике, то и ловля его закончилась бы совсем по-другому. Оттого я держал в ладони свой посох путника с чуть выставленным острием.
Рыбак через какое-то время уплыл, и я снова остался в одиночестве. Чем дольше я так сидел, тем сильнее ощущал, как растет во мне беспокойство. Боялся я и за Бруса, и за себя. Не мог сказать, как долго его уже не было, но мне казалось – долговато. Но, что бы ни случилось, мне все равно пришлось бы ждать ночи, чтобы отплыть.
Только я понятия не имел, куда именно.
Через какое-то – довольно длительное – время я вновь услышал шум, плеск воды и стук шагов по палубе. На этот раз по реке плыла двухпалубная галера. Я лежал совершенно неподвижно, глядя сквозь тростник. Отчетливо был слышен барабанный бой и свист бича под палубой, ряды весел двигались ровно, как плавники какого-то морского создания, а нос резал волну, то и дело открывая направленный вперед железный таран. На верхней палубе стояли солдаты с луками, готовыми для стрельбы, и всматривались в берега. В корзинах пылал огонь, а подле двух баллист на носу и корме экипаж ждал лишь сигнала.
Я лежал, словно заяц, убежденный, что грохот моего сердца на миг заглушает их барабан.
Один из солдат внезапно натянул лук, и стрела свистнула в тростнике, попав во что-то, что показалось ему подозрительным. Стрелок указал на то место второй стрелой, удерживаемой в руке, а его сосед рассмеялся.
Еще вчера все эти галеры принадлежали моему отцу. Нынче они были кораблями врага.
Галера плыла быстро, и прошло совсем немного времени, как барабан и плеск весел стихли, а стали слышны посвистывание птах, шелест тростника и плеск воды.
Может, Брус бросил меня одного?
Моя важность самому мне казалась смехотворной. Имелась она, пока стоял Тигриный Дворец и вокруг меня крутились сотни верных людей. Были у меня гвардейцы, кодексы старых мастеров, советников. Но теперь?
Я был лишь недорослем. В действительности мог стать писарем в храме. Как мне не допустить случившегося? Кого я мог увлечь с собой и к чему повести?
В одиночку Брус сумел бы где-то спрятаться и выжить. Я же был для него обузой.
Я долго сидел, погруженный в состояние душевного упадка, а потом мне стало стыдно. Стыдно от того, что сказал бы отец, услышь он мои мысли.
Что сказал бы Ремень? Неужто десять лет в Доме Стали ни на что не пригодились?
Нагель Ифрия тоже не имела ничего. Вышла из пустыни, где не смог бы выжить ни человек, ни зверь. И за полгода развалила тысячелетнюю империю в пыль, победила нас всех, скрытых за стенами дворцов, богатых знанием сотен кирененских мудрецов, окруженных вооруженными до зубов солдатами.
А было у нее меньше, чем нынче у меня.
Быть может, она умела деять. Быть может, отыскала утраченные имена богов. Была у нее эта ее Подземная Мать. Но у меня тоже были мои надаку. Была у меня и мудрость неизвестного Творца и Дорога Вверх. Там, на севере, где некогда был я кирененцем.
Я решил, что Брус не вернется. Значит, я пойду его искать. Я – кирененец. Я – из клана Журавля, а потому не оставлю его. Так велит мне честь воина. Если он погиб, вернусь сюда, взойду на лодку и поплыву дальше. А потом брошу ее и пойду на север. Ночами, как он советовал. Через Острые горы. Увижу собственными глазами долину Черных Слез. Найду место, где некогда стоял замок Журавля – Владыки Огня, поместье моего рода. Даже если нет там уже кирененцев, духи местности уцелели. Дремлют в горах, скалах и ущельях. Призову наших надаку и от них почерпну силу. Скроюсь в горах и стану искать имена богов. А потом вернусь и уничтожу Ифрию.
Я решил ждать до сумерек, а потом отправиться следом за Брусом.
После полудня я услыхал голос барабанов. Снова ничего не понял, кроме трех искаженных слов, которые показались мне похожими на «река», «три» и «цепь».
Я настолько убедил себя, что Брус погиб, что, когда тот вернулся, не мог поверить, что это он. Тем более что проскользнул он между тростником почти бесшумно. Внезапно у носа лодки выросла темная фигура, и я подхватил посох, выдвигая клинок, ударил его в шею и под подбородок.
Он отбил удар собственным посохом и плашмя упал в воду. Тотчас вскочил, поймал уплывающую шляпу и с яростью воззрился на меня:
– Это лишь я! Будь у меня дурные намерения, ты наверняка уже был бы мертв. Меня ведь было слышно шагов за десять!
Забросил в лодку мокрый узелок, который нес в другой руке, и залез внутрь.
– Ты слышал барабаны?
– Да. В сумерках я хотел идти за тобой.
Он замер со штанами в руках.
– А как ты собирался меня искать? И зачем? Если я не вернулся, значит, я мертв или – что хуже – предал. Вероятно, меня схватили, а это значит, что через какое-то время я все расскажу под пытками. В любом случае, ты должен был тотчас убегать.
– Отчего ты говоришь, что предал бы?
– Ты не видел пыток, а я – видел. Люди могут продержаться дольше или меньше, но глупо ставить свою жизнь против того, что они останутся несломленными. Когда некто близкий тебе попадает в руки врага, сразу принимай мысль, что он расскажет все, что знает. Так безопаснее. Будут они стараться, если сумеют, погибнуть, но ставить на это невозможно. А теперь попробуй поспать. Впереди целая ночь. Что хуже, она последняя, которую мы проведем в лодке.
– Почему?
– Куда ушел доклад, если его шлют?
– Мог быть общим. «Всем ушам». Если Нагель Ифрия захватила власть, она разошлет множество таких приказов.
– Он был для этого слишком коротким. Другой вариант?
– Значит, ушел к устью. К форту в Ченджабаде.
– А это значит, что они хотят закрыть реку.
Я рассмеялся:
– Как можно закрыть реку?
– Хватит трех галер, вставших на якорь одна неподалеку от другой. Поставят их носом по течению и бросят якорь. А потом соединят борта цепями. Между бортами кораблей, полных лучниками, живым никто не проплывет.
– Вверх одна галера уже проплыла… – сказал я. – Ты что-то узнал?
– Тут недалеко есть селение. Я наблюдал за ним из укрытия. Это свободные из низких каст. То есть были свободными вчера. Главным образом, хируки и карахимы, две сильные семьи афраимов. Дошли до них только слухи. Что возвращается Кодекс Земли. Жены родовитых амитраев сразу принялись выходить и устраивать себе Дом Женщин. Другие грузят вещи на повозки и готовятся убегать. Говорят также, что гнев Подземной Матери еще не успокоился и что у тех, кто поддался чужеземным модам и религиям, кто нарушает Кодекс Земли, есть последний шанс, чтобы обратиться. Если опоздают, суша вернется, а их сметет Огонь Пустыни. Но все это – лишь сплетни. Никто не знает, что будет дальше. Некоторые готовят припасы, чтобы отдать их жрецам, другие закапывают их в землю. В любом случае, корчмарь уже разбивает бочки с пивом и пальмовым вином. Жрецы еще не прибыли.
– А что они будут пить?
– Воду и молоко. Подземная Мать не позволяет ничего, что дает «неестественную и грешную» радость. Даже приправлять ничего нельзя. Нельзя и облегчать себе жизнь. Ты должен сосредоточенно и в поте лица работать во славу земли и готовиться к битве, чтобы отвоевать ее наследство.
– Так, чтобы все стало единым, – закончил я.
– Хафрам акидил. Ты сказал правду, – ответил он и улыбнулся с удовлетворением. – Я думал, ты лучше знаешь религию империи.
– Я знал. Но именно это – не слишком хорошо. На них я не обращал внимания, потому что полагал, что это уже не вернется.
– И ты ошибся, – печально заметил он и лег. – Теперь нужно спать.
– Ситар Тендзин?
– Да?
– Куда мы направляемся?
– Как можно дальше. А куда бы ты хотел отправиться?
– За Острые горы. В Киренен. Домой.
Он уселся в лодке:
– Это дурная идея. Там тебя ждут. Это было бы легко предвидеть. Более того, в этом нет смысла. Там только дикая занюханная провинция, где не живет почти никто из наших земляков. Немного плантаций, несколько дорог и один город-порт. Кангабад. Выстроенный сызнова, по-амитрайски. Всех выселили. В Кандар, над рекой Фигисс, в степи Оссира. В Киренен пригнали других. Теперь это кангабадская провинция. Уже нет Киренена.
– Тогда куда?
– За грань известного мира. Туда, где заканчиваются карты. Туда, где никто тебя не найдет.
– Не скажешь мне?
– Скажу. Но не сегодня. Чем меньше знаешь, тем лучше.
Ночь напролет мы осторожно плыли под самым берегом, тихо и медленно. От поворота к повороту. Мы все глаза высмотрели, чтобы проверить, не колышутся ли на реке галеры, соединенные цепями. Через какое-то время глаза мои привыкли к темноте, но все равно я начал видеть задранные носы кораблей в каждой кипе тростника и высокой волне.
Светила лишь одна луна, Тахим, а потому ночь была темной. Мы прислушивались, сами общаясь жестами либо тишайшим шепотом. Голос разносится по воде, потому мы хотели уловить шаги на палубе, плеск воды возле цепей якоря, звон доспехов, ворчание разговоров.
Когда небо на востоке начало сереть, мы вплыли в укрытие на какой-то небольшой речушке и спрятались под навесом высокого берега. С другой стороны должны были заслонить нас ветви ивы и тростник, но мы все равно задернули лодку сетью, в которую вплели ветки и стебли тростника, пока та сделалась невидима. Куда проникал взгляд, не было никого, а по берегу тянулись болота, кипы деревьев и трав, порыжелых и сожженных засухой.
Я настолько устал, что едва сумел что-то съесть. Кусочки сушеного мяса и сыр будто росли у меня во рту, а когда я глотал из баклаги, веки мои сами опускались. Я вполз под полотно и заснул, прежде чем взошло солнце.
На следующий день – вернее сказать, на следующую ночь, – сразу как опустились сумерки, мы проплыли всего ничего, может милю или две, пока не нашли заросли тростника и соответствующий плоский берег. Мы вынесли наши корзины, в которые переложили часть припасов. Брус приказал мне раздеться, сам тоже снял одежду, и нам пришлось бродить в тростниках в одной набедренной повязке, без сапог.
– Если кто-то тебя повстречает, то сразу увидит, что ты мокрый, и будет знать, что ты бродил в реке. Любая вещь, которую о тебе могут понять, просто глядя на тебя, может для кого-то стать подсказкой.
Потом приказал мне подождать, лежа на берегу, и сел в нашу лодку. Я старался ни о чем не думать и не задумываться над своей судьбой, сконцентрировавшись на том, что делаю, но, когда я глядел, как он выплывает на реку, мне стало жалко. Ведь все время я только и делаю, что теряю. Мой мир становится все беднее. Некогда, месяцы и годы назад, я думал, что ничего не имею. И вправду сам я не имел ничего, но достаточно было мне чего-то захотеть, как оно появлялось. Лодка, галера, флот, конь, табун лошадей – что угодно. Я словно и не имел ничего, даже собственных денег, но одновременно у меня было все.
Теперь все имущество мое умещалось в дорожной корзине. А потому лодку мне было жаль. Везла она меня, давала убежище и позволяла спать в безопасности даже во время ливня.
Брус выплыл на середину реки, сидя голым, даже без набедренной повязки, после чего потянулся и вынул деревянную затычку. Лодка наполнилась водой и погрузилась в глубины, а проводник мой подплыл, тихо пофыркивая, к берегу, почти невидимый в темноте.
С этого момента единственным укрытием для моей головы стала жесткая, словно миска, шляпа странника, плетенная из коры и пропитанная смолой, а еще – соломенный плащ от дождя.
– Запахни куртку наизнанку, как я, – сказал Брус. – Этот кастовый желтый слишком яркий, ты светишься, как факел.
Внутренняя сторона куртки была обшита неброским темно-коричневым материалом, который и вправду был едва заметен в темноте.
– Теперь подтяни ремни корзины так, чтобы она сидела уверенно, как седло на конской спине. Она не должна тебе натирать. Старательно завяжи тесьму шляпы. Затяни ремешки сапог. Лодыжки должны быть стиснуты.
Вынул из-под рубахи Предмет – «глаз севера». Стеклянный шар, в котором плавал погруженный в воду камень, напоминавший глаз: поворачивался зрачком всегда на север. Я обрадовался, что у Бруса он есть.
Мы зашагали через пустые заводи, которые еще недавно были опаснейшими из болот. Теперь здесь зияли лужи да неглубокие ямины. За месяцы суши ушла отсюда почти вся вода.
Брус двигался ровным, ни слишком быстрым, ни слишком медленным шагом. Посох забросил через плечи и перебросил через него руки.
– Я думал, посох странника служит, чтобы подпираться, – заметил я.
– Дело привычки, – пояснил он. – Многие годы я носил так копье. Во время марша руки устают не меньше ног.
– Но так в тебе за милю заметен солдат, – сказал я. – А может, и бинхон-пахан-дей.
– Сотник не носит копье сам, – сказал он. – Сотник возит свою жопу на конской спине.
Однако посох он снял и стал опираться на него, словно настоящий путник.
Когда странствуешь ночью, время течет медленнее и тянется немилосердно. Не на что смотреть. Везде лишь тьма разных оттенков. Пятна, на которые перемещается взгляд, быстро начинают выглядеть как угроза. Мы шли и шли, пока от корзины у меня не начали болеть плечи и я не почувствовал, как она тяжела.
А потом мы шли дальше.
Наконец я спросил Бруса, когда мы отдохнем.
– Полночь еще далеко, – ответил он. – Ночь только началась.
То есть не прошло даже часа. Я был уверен, что уже почти час волка и что скоро рассвет.
Порой ноги наши начинали погружаться в чавкающую грязь: приходилось обходить такие места. Болота воняли, над ними кружили стаи невыносимо жалящих москитов.
До утра мы прошли еще довольно долго, а место для остановки нашли, когда уже развиднелось.
Мы пригнули верхушки нескольких молодых деревцев, связали их шнуром над местом, где было чуть больше травы, чем грязи. Внутри шалаш мы выложили ветвями и охапками камыша.
Мне казалось, что болота бесконечны.
Следующие ночи были подобны первой. Что хуже, мы петляли вокруг похожих озер и среди подобных друг другу куп деревьев или одинаковых кустов. Я начал подозревать, что мы давно потеряли направление и ходим кругами. Я боялся, что будем так ходить, пока у нас не останется воды, потом еды – и тем-то наше бегство и закончится. Примемся пить рыжую воду из болотных ям, пока не падем оба от голода и болотной горячки.
Потом я стал бояться, что, бродя болотами, мы наткнемся на урочище. Я старался высматривать его знаки: поставленные в круг древние камни, странно изогнутые деревья, растущие кругом, густую растительность – или же круглые площадки лысой земли, на которой ничего не растет.
Но ничего такого мне не попадалось.
* * *
Когда через несколько дней болота наконец закончились и начался сухой, пропахший смолой лес, я почувствовал сильное облегчение. Однако быстро выяснилось, что путешествие лесом настолько же изматывает, как и путь в болоте – хотя здесь идти несколько быстрее. Нам не приходилось обходить трясины, зато отсутствовала вода. У нас осталось только по одной баклаге, что означало: вскоре мы будем страдать от жажды. К тому же я чувствовал, что весь покрыт пылью и высохшим потом, что кожа моя свербит от грязи.
Когда горизонт засерел, Брус показал мне, как находить деревья, в которых есть немного воды, и как собирать ее, надрезая ветви. Показал, как выглядит ядовитый плющ, которого лучше избегать, как находить коренья и орехи, пригодные для питания, и какие листья лечат воспалившиеся раны.
Я потерял ощущение времени.
День, ночь, день, ночь.
Мне казалось, что я не помню света солнца. В одну из ночей пошел дождь. Мы мылись под его струями, растянули плащи так, чтобы те впитывали воду и позволяли ей стекать в подставленный котелок. Мы потеряли изрядно времени, но, по крайней мере, наполнили баклаги.
Однажды ночью мы вышли на бегущий сквозь лес тракт и решили пройти по нему хотя бы часть пути, пока не сориентируемся, где находимся. Брус вынимал «глаз севера» через какие-то промежутки времени, но мне не нравилось его непроницаемое выражение лица, когда он поглядывал то на амулет, то на звезды.
Идя вдоль тракта, мы наткнулись на солдат. Было их двое, и сразу стало понятно, что это не патруль, и они не принадлежат к победителям.
Это были наши солдаты.
Встретили мы их перед самым рассветом.
Они стояли на дороге. Один с копьем в руках, второй с мечом. Не было у них ни щитов, ни панцирей, голова одного перевязана пропитанной кровью тканью.
– Кто вы такие? – крикнул тот, что с копьем, едва нас увидав.
– Сворачиваем в лес, – прошипел Брус.
Из леса, однако, вышли еще трое, ровнехонько из того места, куда мы собирались свернуть.
Эти носили фрагменты доспехов, но настолько ржавые и грязные, что их цвета было не разобрать. Выглядели они так же несчастно. Я уже знал, что они не перешли на сторону Подземной, а потому обрадовался, увидев их.
– Я спрашивал, кто вы такие? – закричал копейщик. – Селяне?
– Да получше тебя, солдат, – рявкнул Брус. – Отряд, звание, имя?!
Они встали вокруг нас. Как-то нагловато, с мечами в руках. Это мне не понравилось.
– Нынче, – отозвался один из них, с перевязанной рукой, носивший погнутый шлем, – это, пожалуй, тимен «Мертвяков», нет?
– Позвольте нам пройти, – попросил я. – Мы тоже убегаем от армии Нагель Ифрии.
– А разве мы куда убегаем? – сказал другой солдат. – Куда бежать? Мы уже трупы. Где ты был, когда нас били? Когда свои бьют своих, миру, думается, конец. Теперь только своя задница важна.
– Что у вас в корзинах? – Копейщик нервно облизал губы. – Поставьте их на землю и ступайте себе.
– Не, – отозвался еще кто-то. – Оне нас видывали. А бают, шо таких, как мы, господин, жертвуют на Башнях. И платят за вести.
Брус отстегнул корзину и поставил ее на землю.
– Делай, как я, – сказал. – Сними корзину, Арджук.
Я снял корзину и едва успел ее поставить, как раздался свист.
Когда поднял глаза, копейщик шагал вслепую, с расставленными руками, а из его рта текла кровь.
Я видел, как Брус поворачивается с мечом в одной руке и посохом во второй, как на него обрушиваются двое солдат, размахивая мечами, а остальные бросаются в мою сторону. Я провернул кончик посоха и взмахнул им, чувствуя, как клинок высовывается с другого конца и блокируется защелкой. Солдат, стоявший ближе ко мне, закрылся мечом, а потому я ударил его другим концом повыше локтя и ткнул копьем в лицо.
Закрутил посох вокруг тела и воткнул клинок ему в живот раньше, чем он успел понять, что я делаю. Я тысячи раз делал это разными копьями или палицами с обернутым кожей концом, но впервые почувствовал, как острие входит в тело.
Солдат вытаращился, глядя в остолбенении, как красная сталь выскальзывает из его внутренностей, а потом я влупил ему в висок вторым концов посоха, чтобы убрать его с дороги. Второй, стоявший за ним, успел, однако, заслониться от удара копья и оплел его рукой, поймав клинок где-то у себя под мышкой.
Я провернул свой конец и выхватил меч, после чего ударил его в висок. Он заслонился своим щербатым клинком, и в этот момент раздался металлический лязг, и шею его внезапно оплела цепь с мелкими звеньями. Я отскочил в сторону, воткнув меч ему глубоко под мышку.
Брус стоял над подергивающимися на тропке солдатами, а цепь спускалась из конца его посоха странника. Он дернул им назад, опрокидывая солдата, и расплел цепь, втянувшуюся внутрь, после чего надел деревянную заглушку и закрутил ее. Спрятал с другой стороны меч, и посох вновь стал лишь посохом.
– Я забыл тебя спросить, как вынимать цепь, – сказал я.
– Спрашивать не стоит, – ответил он. – Посох шпиона дает массу возможностей. Нужно немало тренироваться, чтобы быстро выбирать.
– Я думал, ты хочешь отдать им корзины, – сказал я. У меня начали подламываться ноги.
– Нет. Просто с корзиной за спиной неудобно драться.
Мне пришлось присесть на землю. Я чувствовал себя слабым и ужасно измученным, словно вышагивал без передыху пару дней. Смотрел на своих собственных солдат, которые не перешли на сторону врага, не сдались, а теперь в награду за это сделались добычей в лесах, а после оказались убиты тем, кому они сохранили верность. Мир стал слишком сложным и непонятным.
Я смотрел на серое лицо с застывшим выражением страдания – на того, которого я ударил в живот. Глаза его были широко раскрыты.
Солдат, которого я проткнул мечом, был жив, хрипел и сражался за каждый вдох. Еще один чуть шевелился, царапая пальцами песок, а другой отчаянно стонал. Брус вынул из-под полы короткий, широкий кинжал и подошел к нему.
– Брус! – крикнул я.
Он не отреагировал. Присел у солдата, бережно обнял его за плечи, а потом резко уколол в затылок. Тот отчаянно дернулся, его стопы задрожали, царапая подкованными подошвами траву и утоптанную землю тракта.
Стоны прекратились.
Я воткнул взгляд в землю, видя, что мой товарищ склоняется над следующим умирающим.
– Нет… молю… нет… мама… – услышал я, а потом раздался короткий отчаянный крик.
Ранее мне казалось, что побежденные в бою умирают моментально и без лишних страданий. Я не понимал, что, даже пробитый мечом насквозь, человек может умирать часами.
Я слышал, как сапоги солдат скребут по земле, пока Брус – одного за другим – волочет их в лес. Потом он обыскал кусты и бросил на тропу два подранных, многократно залатанных мешка.
Я молчал. Брус высыпал содержимое мешков, но там было немного: какие-то тряпки, погнутый кубок, заплесневевший кусок сыра, обернутый промасленной бумагой. Нашел он плоскую, почти пустую баклагу и, держа ее между коленями, облил водой окровавленные ладони и нож.
– Война – это триумф необходимости, – отозвался он, смывая кровь и методично протирая руки. – Слишком часто ты делаешь не то, что правильно или благородно, а то, что необходимо. Они решили, что могут нас ограбить и убить. Были голодны, растеряны и брошены. Поэтому нам пришлось их убить. И поэтому пришлось все закончить, когда они были побеждены. Взять их в плен невозможно. Оставить же умирающими на дороге – слишком жестоко и опасно.
Я молча кивнул.
Чувствовал лишь усталость.
Мешки и мечи мы выбросили в кусты, пятна крови на дороге присыпали пылью.
Шли мы дорогою ночь напролет, потом нашли ручей и, идя его берегом, углубились в лес, чтобы умыться, напиться и передневать в густых зарослях. Следующей ночью мы вернулись на дорогу.
Тогда впервые встретили мы обычного путника. Едва установились сумерки, мы услышали топот и сразу отпрыгнули за деревья, где упали плашмя на землю, пережидая, пока путник проедет.
Это был одинокий всадник, быстро скачущий на большом пятнистом коне. Только это я и успел заметить. Мы обождали, пока не стихнет топот копыт, затем еще немного, а позже двинулись дальше. Ради уверенности – через лес.
Полагаю, мы были попросту уставшими. Другое дело, что, опередив нас и притаившись в кустах в двухстах шагах дальше, он сидел совершенно тихо. Даже конь его не издал ни единого звука.
– Добрый вечер, путники, – раздалось из темноты.
Мы оба замерли, приготовившись к прыжку и стискивая пальцы на древках посохов странников. Он сидел на лежащем коне. Зверь дернул головой и встал на ноги, а всадник лишь покачнулся в седле, съезжая на тропу.
Была на нем кирененская куртка с клановой оторочкой, шляпа путника, напоминавшая плоскую миску, нож на левом бедре, меч у седла и лук на спине. Мы смотрели на него в остолбенении.
– Я заметил, что вы спрятались, когда я проезжал мимо. Идете ночью и прячетесь от каждого, а потому вы наверняка неопасны. Позвольте взглянуть вам в лица. Чуть приподнимите шляпы, спасибо. Я Лемех, сын Корабела, кай-тохимон клана Гусей.
Мы молчали.
Он казался нереальным. Это был сон или сказка. Он просто не мог существовать на самом деле.
– Я взглянул в ваши лица. Теперь знаю, что могу вам доверять. Вижу лица людей светлых и бывалых. Но вижу и усталость, вижу долгую дорогу, вижу страх преследуемого. Оттого скажу так – посетите мой дом. Единственный в этой пустоши. Отдохните, поешьте и искупайтесь. А взамен расскажете мне, что происходит в мире. Я был в селении Хазил Гир за лесом, но там все как с ума посходили. Бредят, словно у них горячка. Вы идете издалека, а потому наверняка что-то знаете.
– Благодарим, господин, – ответил Брус. – Мы – синдары. Я зовусь Тендзином Бирталаем, а это мой племянник Арджук Хатармал. Вскоре будет чиновником. Мы возвращаемся домой.
Дальше мы пошли, держась за упряжь его коня. В сторону от дороги каменистой тропкой, потом через рощу. А потом я чуть не вскрикнул от удивления.
Дом Лемеха выглядел как кирененское имение с картинки. Выстроенное четырехугольником, с покрытыми черепицей, четырехскатными двойными крышами, стоящее над ручьем. Я видел теплый свет, бьющий из окон, и дым, поднимающийся из труб.
Мне казалось, что я вижу сон, когда проходил двухскатными воротами и смотрел на домочадцев, вышедших навстречу. Последний раз такие платья и кафтаны, покрытые вышитыми листьями и геометрическими узорами, я видел в Облачных Палатах.
– Приветствуем в нашем доме, странники, – сказала темноволосая женщина, держа поднос, на котором стояли две маленькие чары с ореховым отваром и два пирожка.
Брус поблагодарил, беспомощно осматриваясь вокруг, после чего понюхал отвар, словно видя его впервые в жизни. У меня была роль попроще, не приходилось даже притворяться. Я просто таращился широко открытыми глазами, как одуревший.
У нас забрали корзины, а потом провели в баню, выложенную светлым отполированным камнем. Везде были лампы, на гладких досках стояли декоративные деревца в керамических горшках. В бане приготовили два огромных ведра, полных парящей воды, на столе лежали полотенца, стояла миска с вытяжкой из мыльянки и губки.
Когда из боковых дверей вышли две служанки, голые и лоснящиеся от масла, и принялись разводить мыльянку, я почувствовал, как во мне что-то расслабляется от восторга.
Брус вскрикнул и вытолкнул меня из бани, после чего развернулся к двери, сжимая в ладонях шляпу.
– Нельзя… Нехорошо… – бормотал смеющемуся хозяину. – Нам нельзя смотреть на тело женщины без согласия Подземной… Нельзя обнажаться, очень худо…
– Непросто с вами, – сказал Лемех. – Но, если девочки выйдут, вы согласитесь помыться? Мы хотели бы разделить с вами трапезу, а без этого… по разным причинам это невозможно. Такой у нас обычай, извините. Но мы не хотим навлекать на вас гнев вашей богини.
Мы согласились, что-то ворча себе под нос и глядя в землю, словно парочка простаков. Мы были амитраями. Возвращались домой, в пустынное сельцо. Если бы не Брус, я совсем позабыл бы об этом.
* * *
– Я ему не доверяю, – пробормотал Брус, когда мы сидели уже в воде. – Никогда не слышал ни о каком клане Гуся. Никогда не знал кай-тохимона, обитающего в хижине бедняка. С другой стороны, откуда бы здесь вообще взялась клановая постройка.
– А где его клан? Все обитают в этой избе? – спросил я. – И все же я жалею, что тебе пришлось отослать девочек.
– Жена его сама встречает гостей, и у нее, словно у актрисы, подкрашенное лицо. Тот, что принял коня, был ее сыном. Мне это не нравится. К тому же все: мужчины и даже слуги – носят праздничные одежды. Их клановые знаки странны. Не касайся мыльянки, ты даже не должен знать, что оно такое.
– И что мы сделаем? Вдруг это ловушка?
– Этот дом стоит давно. Эти праздничные одежды много раз чинены и латаны. Они ее носят довольно долго. Невозможно, чтобы они появились здесь исключительно из-за нас.
– Я должен взять немного мыльянки. Иначе этого не смою.
* * *
Все здесь было странным. Мы сидели в большой гостиной, как важные гости. Восседали на подушках, глядя на деревянные подносы и тарелки с едой, которую обычно дают на поздний завтрак. За окнами была ночь, а в очаге в углу комнаты потрескивал огонь.
Вокруг низкого столика сидели все домашние, а еще слуги, за исключением старухи и мальчишки, которые подавали к столу, но потом уселись и они.
Брус старался накладывать себе соленья ложкой, неуверенно принюхивался к пастам, словно не понимая, что это такое, покорно позволял хозяину учить, как накладывать пасту кусочком хлеба. Лемех был в восторге. Объяснял нам предназначение каждого предмета и рассказывал о каждом блюде так, словно сам их придумал.
Маринованное мясо было излишне сладким, рыбная паста – слишком острой, и все же я чувствовал себя так, словно никогда в жизни не едал ничего вкуснее.
Дочка Лемеха по моей просьбе принесла синтару и заиграла. Было это ужасно, но все равно я словно попал домой. Мог бы слушать ее часами.
После еды Лемеху принесли кисет с зельем и трубочку. У Бруса было каменное лицо, он даже не сглотнул и не взглянул на зелья.
Хозяин не скрывал нетерпения в ожидании новостей, но не подгонял нас. Наконец спросил, что происходит, спросил мельком и как бы не настаивая, а потому мы – коротко и хаотично – рассказали ему то, что могли знать двое провинциалов, пойманных переворотом в столице.
Эффект был подобен молнии. Жена Лемеха побелела, как стена, что было видно даже под странным макияжем. Сам же он сидел неподвижно и слушал, стискивая кулаки и зубы.
– Повален… Тигриный Трон? – спросил бессильно. – Император мертв? Возвращается Кодекс Земли?!
– Пришел день гнева Подземной Матери, – сказал Брус. – Она наслала на нас сушу, чтобы мы опамятовались. А потом пришла из Нахель Зима пророчица, называемая Огнем Пустыни, что захотела смести чужеземную династию и выжечь ее святым пламенем. Так нам было сказано.
– Значит, то, о чем я думал всю жизнь, правда, – процедил разъяренный Лемех. – Мы, амитраи, глупцы! Правы варвары, которые плюются при одном нашем виде. Мы – лишь рабы, и единственное, что нам известно, – рабство. Для нас и для всех. Лишь единожды попалась нам династия, которая принесла нечто большее, чем кнут. Мы могли научиться жить, как цивилизованные люди. Научиться у тех, кого мы когда-то уничтожили. Мы могли иметь закон, дороги и музыку, мыться, строить и торговать. Мы могли, наконец, понять, что такое честь и свобода. Мы могли научиться Дороге Вверх, как и все существа в мире. Но нет. Зачем? Не лучше ли снова отдать себя в рабство дуракам в масках и книге, в которой нет ничего, кроме бессмысленных запретов? Снова стать бандой дикарей, бросающихся на весь мир, как бешеные псы? Снова начать рыть землю когтями там, где нормальный человек взялся бы за лопату. Снова начать жечь все, чего мы не знаем из книги, и уничтожать все, чего мы не понимаем. Потому что так гласит древний варварский кодекс. Закон диких пустынных кочевников!
– Нам нельзя это слушать… – пробормотал Брус, глядя в землю.
– Ох, услышь в последний раз, что говорит тебе свободный человек! – заорал Лемех. – Послушай то, что ты больше не услышишь и что зовется правдой! Я – амитрай, как и ты. Но я не хочу отныне об этом помнить. Отныне я стану только Лемехом, сыном Корабела из клана Гуся. Я и вся моя семья. Будем сидеть здесь. Не наденем клановые лохмотья, не позволим себя разделять и окормлять священников, словно домашняя скотина. Может, позабудут они о нас в этой пустоши. А если нет – мы станем сражаться. Сделаем то, что сделали бы на нашем месте кирененцы. Знаешь почему, ситар Тендзин? Потому что мы – последние кирененцы. Запомни нас. Запомни, как выглядит этот дом. Запомни, что ты ел и как принимали странника, когда он одинок, голоден и устал. Все это называется цивилизация. Запомни, мой бедный темный друг, и тогда мир не умрет окончательно.
* * *
Я долго лежал, глядя в потолок. Может, потому, что отвык спать ночью, а может, из-за мягкой постели и светлых стен. Или потому, что я не мог забыть слова амитрая, который притворялся кирененцем. А я был кирененцем и изображал амитрая. Оба мы были совершенны в своих ролях. И я отдал бы все, чтобы суметь поменяться с ним местами.
Утром мы как ни в чем не бывало съели завтрак. Получили отвар, горячие краюхи хлеба и пасту из творога. Лемех дал нам припасы в дорогу, заботливо завернутые в платочки.
– Вы не принесли мне добрых вестей, – сказал он. – Но то, что вы сказали, было важным. Теперь мы будем готовы.
– С гневом богини ничего не поделать, – сказал ему Брус. – Нельзя его сдержать, как нельзя сдержать грозу.
– Это никакая не богиня, друг, – сказал Лемех. – Это всего лишь один из стихийных духов. Надаку. Одно из странных существ, которые обитают в мире вместе с нами. Ничего не создает и ничего не дает. Запомни, друг мой, если когда-нибудь ты увидишь настоящего Бога, сразу его узнаешь. Это тот, что дает жизнь, создает мир, и к которому все мы стремимся. Он куда больше твоей богини, он больше, чем весь мир. И величие его не зависит от таких глупостей, как то, что ты съел, как оделся, на ком женился или с кем спал. И он не требует никаких кровавых жертв, ему не нужны шуты в красных плащах и масках, чтобы быть понятым.
– Благодарим тебя за гостеприимство, – тихо сказал Брус. – Прошу тебя, собери своих и уезжай отсюда. Как можно дальше. Я слышал, что киренены тоже предпочитали бежать, скрываться и сражаться исподтишка, когда враги оказывались слишком сильны.
– Нет, ситар Тендзин, – ответил Лемех. – Этого нам не позволит честь. Поверь мне, я лучше знаю, что сделали бы настоящие кирененцы. Остались бы в своей родовой усадьбе и жили бы спокойно, разумно и цивилизованно. А когда б на них напали, то сражались бы до последнего. Я знаю, потому что и сам я – кирененец.
* * *
Мы долго молчали, ехали трактом, впервые за много дней – при свете дня. Не знали, что сказать.
Около полудня добрались мы до широкой дороги, но я бы не сумел сказать, тот ли это путь, которым мы шли через лес, или другой. Однако думаю, что другой, потому как тот был почти пуст, а здесь нам уже дважды приходилось прятаться, слыша топот коней. Раз это были пятеро всадников, во второй – двое.
– Наверняка это армия, – сказал Брус. – Если уже успели вернуть Кодекс Земли, никому, кроме армии и жрецов, нельзя будет свободно путешествовать иначе чем пешим ходом, да и то – лишь по позволению.
– Отчего мы не переждали день?
– Мы приближаемся к реке. Там есть небольшой город и мост. Наверняка он перекрыт, на нем – отряды, а потому нам нужно найти способ перейти его: это возможно только днем. Это не очень важный мост, потому я надеюсь, что мы что-нибудь придумаем. Помни, в городе всегда проще укрыться. На пустошах мало людей, но именно потому каждый бросается в глаза.
Через какое-то время нас миновала двуколка, запряженная волами. Селянин, везший на нем кипу обвязанных полотном свертков, шел сбоку от повозки, с палицей в руках и не поздоровался с нами, не предложил и подвезти.
– Будет блокада и патрули на дорогах, – сказал Брус. – Этого не всегда удастся избежать. Поэтому ты должен запомнить о правиле четырех подобий. Если тебя ищут, получают описание. Простое, какое сумеют понять и выучить наизусть обычные солдаты. Если ты совпадаешь с этим описанием в одном пункте, они обращают на тебя внимание. Если в двух – делаются подозрительными. Если в трех, ты подозреваемый, и тогда, согласно правилам, кто-то из офицеров должен принять решение, что делать. Если твой вид совпадает в четырех пунктах, ты – тот, кого они ищут, и будешь задержан. Их не касается, задерживали ли этого человека ранее. Это армия. Они уверены, что если им нужно доставить юношу соответствующего возраста, должным образом выглядящего и ведущего себя как наследник Тигриного Трона, то чем больше таковых доставят – тем лучше. Лучше найти пятерых императоров, чем ни одного. Поэтому, чтобы преодолеть заставу на мосту, нужен фортель.
– А нельзя ли обойти мост?
– У нас уже нет лодки, а эта река слишком быстрая и предательская.
Дорога снова вела сквозь лес, но не такой дремучий, как раньше. То и дело мы выходили на скалистые вересковые распадки да в заросли кустарника.
Когда вышли мы из-за очередного поворота, наткнулись на странное зрелище.
На дороге стоял, накренясь, деревянный двухколесный возок, на котором, едва удерживая равновесие, сидел жрец Подземной в красном плаще, заслоняясь от солнца зонтиком. Подле оси возка копошился храмовый аколит с бритой головой, тоже в красных одеждах, но состоящих из широких штанов, плотно перевязанных вокруг лодыжек черной лентой, и странной куртке, прикрывающей только одно плечо.
Увидев нас, жрец сбросил капюшон и одним движением натянул блестящую, словно зеркало, маску.
– Эй, вы, там! – Голос жреца звенел, словно в горле его были металлические струны. – Бегом сюда! Помогите этому рукосую!
* * *
– Не найдут их? – спросил я позже, сидя на деревянных козлах и глядя на задницы ослов.
– Раньше или позже – найдут, – ответил металлический голос из-за зеркальной маски. – Найдут два голых безымянных трупа. Эти их маски – удача для нас, Арджук. Когда мы доберемся до города, тебе придется слезть с козлов и идти рядом. Ни одному солдату аколит, идущий пешим ходом и везущий удобно устроившегося жреца, не напомнит убегающего наследника престола. Но город и патрули – это всегда риск. Пришло время узнать тебе, куда мы направляемся. Случись что со мной, любой ценой доберись до Саурагара. Оттуда – до небольшого городка на краю пустыни, который зовется Нахильгиль. А там – присоединись к каравану контрабандистов соли, что пойдут через Пустыню.
– Но куда?!
– За пустыню Конца Мира и Барьерные горы. В страну чудовищ, варваров и бестий. В страну, откуда прибывают «волчьи корабли».
Я молчал.
– Но ведь там я не проживу и минуты. Люди-Медведи – людоеды, а экипажи «волчьих кораблей» – мертвецы и призраки!
– Сказки. Это единственное место на земле, где Нагель не сумеет тебя найти и до тебя дотянуться.
Мы проехали еще немного.
– Но почему ты говоришь об этом именно теперь?
– Потому что не знаю, что произойдет через минуту. В этой одежде мы можем и переехать через мост, но, вероятно, нам придется ночевать среди жрецов в Красной Башне.
Мы как раз выехали из-за поворота: Красная Башня, огромная и старая, предстала перед нашими глазами.
Глава 9 Сад земных наслаждений
Гибнут стада,
родня умирает,
и смертен ты сам;
но смерти не ведает
громкая слава
деяний достойных.
Гибнут стада,
родня умирает,
и смертен ты сам;
но знаю одно,
что вечно бессмертно:
умершего слава.
Речи ВысокогоКроме Грюнальди, он сам выбрал еще пару человек. Приказал им надеть черную, самую черную одежду и вымазать волосы дегтем. Соорудил краситель и нарисовал черные зигзаги на руках и лице. Повесил на шее амулет Танцующих Змей. Они молча смотрели на то, что он делал.
– Дайте мне то, что принадлежало детям. Одежду, одеяла, гребень.
Принесли. Нервно, с беготней, неспокойным обыскиванием углов, поисками по закоулкам. Но все же нашли. Какую-то шаль, что-то похожее на свитер, костяной гребешок. Деревянную лошадку. Драккайнен взял шаль и прижал ее к лицу, глубоко втягивая воздух.
Они стояли тесным кругом, вперив в него темные звериные, невыразительные глаза, и молчали в остолбенении.
Он закрыл глаза, стараясь выделить характерный, чужой запах пота, олифактные группы, но не знал, удастся ли. Запах был слишком чужим, слишком отличным. Его не удалось ни к чему присоединить. Цифрал работал на полных оборотах, но программирование не было приспособлено к распознаванию чужих.
– Кто это? – спросила одна из женщин тревожным шепотом.
– Чужеземец. Зовут его Ночным Странником.
– Это Деющий?
– Не знаю.
– Меч, нож, лук, стрелы, – сказал Драккайнен и встал. – Другого оружия не брать. Нас маловато, чтобы вступать в битву. Возьмите лошадей, которые не боятся огня и скачки в горах. Немного еды. Остальное, что бы ни понадобилось, придется добывать самим. Если увидим Змеев, шум не поднимать. И быстро собирайтесь, нам дорога каждая минута дня.
Он вышел на площадь и проверил упряжь Ядрана. Темноволосая женщина с мечом за спиной стояла, опершись о столб галереи, и смотрела на него изучающе.
– Я их найду, – сказал он. – Есть надежда. Если они живы, мы их отобьем и приведем назад.
Взглянул в темные, словно у белки, глаза, но, как всегда, не различил в них эмоций. Отчаяние? Отторжение?
– С какой стороны частокола была лестница?
Она указала рукой.
– Шел дождь. Мы пытались с собаками, но те потеряли след.
– Мы не потеряем.
Они глядели в молчании, скептично, на то, как он приседает у частокола, щупая траву и мокрую землю. Нашел один след, потом второй. Отпечатки нескольких собак и многих людей.
– Тут все затоптано, – сказал осуждающе. – Пока туда, – указал направление. – Не садиться на лошадей, идем напрямик, через лес.
Они побежали следом. Сам он двигался трусцой, то и дело приседая, чтобы ощупать – аккуратно, почти лаская – грязь, развести и понюхать подлесок, осмотреться и глубоко вдохнуть воздух. Они не могли за ним поспеть. Драккайнен перескакивал стволы и камни, взбирался по склону.
– Не ведите коней точно за мной! – рявкнул внезапно твердым голосом. – Обходите преграды! Важно, чтобы вы меня видели, а не топали за мной по пятам.
Следы вели до небольшого ручейка, шумящего среди камней. Драккайнен вошел в воду и смотрел какое-то время.
– Тут собаки потеряли след, – сказал он с раздумьем, словно сам себе. Опустил голову и оглядел дно, ища камни, перевернутые светлой стороной вверх, корни и ветки на берегу, за которые кто-то хватался, чтобы устоять на ногах. Потом зашагал по колено в воде вверх по ручью. Через какое-то время вновь остановился и стал разглядывать воду под своими ногами, потом оглядывать высокий берег.
– Здесь, – сказал. – Вверх по склону.
Один из них хромает, – обронил вскоре. – Парень.
– Тарфи, – глухо ответил Спалле.
Склон оказался слишком отвесным для лошадей, поэтому им пришлось его обходить, карабкаясь между вывороченными стволами, яминами и скалами, чтобы зайти с другой стороны.
– А ведь здесь есть тропинка, – пробормотал Спалле с неудовольствием. – Мы могли нормально доехать в седле.
– По следу идет он. Откуда мог знать, куда этот след приведет?
– Если он и вправду идет по следу после таких дождей, значит, он тот, о ком я сразу говорил. Деющий.
– Но – наш Деющий.
– Ладно, но, если это не так, мы зря здесь лазим.
С другой стороны и вправду была тропинка, но Драккайнен довольно быстро с нее сошел и отправился вниз по склону. Видно было, как он скачет между серебристыми стволами и то и дело припадает к земле. Внизу, между деревьями, было куда светлее, там открывался горный луг. Они видели, как Вуко выходит на траву и снова исследует на четвереньках землю.
– Мы туда лошадьми не пойдем. Он-то пропрыгал, словно козочка, а лошади переломают ноги.
– Тогда что?
– Сухим желобом, чуть дальше. Я с Гьяфи возьму лошадей, а ты давай за ним.
Драккайнен терял след минимум трижды. Мог полагаться лишь на следы, да и то – размытые, потому что запах смыли дожди и перекрыли другие ароматы, настолько же чуждые и неотчетливые.
Когда они его повстречали, он сидел на корточках и прикладывал к земле меч, чуть вынутый из ножен. Кончик ножен оставался неподвижен, но рукоять меча в руках Странника вертелась по земле: он прикладывал ее то туда, то сюда.
– Сбрендил.
– Я меряю длину шага, – рявкнул Драккайнен. – Потерял след и потому ищу от последней точки. Не мешай.
Через какое-то время они снова его догнали. Стоял и смотрел на землю.
– Тут их встретили.
– Кто?
– Несколько мужчин. Пять или шесть. И восемь странных созданий. Наверное, это те самые крабы, о которых все говорят. Следы необычные, похожи на человеческие, но узкие и длинные. И эти острия – все вокруг порублено. Листья, стволы. Как если бы ими бессмысленно размахивали. Узкие, длинные лезвия. Очень острые. Но крови нет. Никому здесь ничего не сделали. Это не был бой.
Он выпрямился.
– У тех были лошади. Тяжелые и странно подкованные. Туда ли ведет дорога на Скальный перевал?
– Нет.
– А куда в страну Змеев?
– Через Медвежьи холмы, может. Там невысоко, лошадьми можем пройти.
– Тогда покажи мне дорогу.
Ехали без передышки до самых сумерек. Где-то по дороге Драккайнен внезапно соскочил с коня и присел в траве. Потом встал и подал Грюнальди маленькую кожаную шапочку:
– Держи. Кто-то из них потерял. Теперь видите, что мы идем верно?
Потом они снова сошли с лошадей и, несмотря на темноту, пошли дальше. Драккайнен пер вперед уверенно, как по ровной дороге. Кони спотыкались, люди цеплялись о ветки.
– Нужно сделать остановку, – сказал кто-то.
– Нет времени! – рявкнул Грюнальди. – Ульф как-то идет, значит, и мы можем!
Шли в совершеннейшей темноте вверх, спотыкаясь среди скал. Спалле слегка подвернул ногу, а второй воин по имени Гьяфи Железное Утро принялся блевать от усталости.
Однако в конце концов встали на постой. На три часа перед рассветом, на каменистом склоне чуть выше линии леса. Огонь Драккайнен разжигать запретил.
– Слишком плохо уже вижу, – объяснил. – Могу потерять след. Нужно ждать до утра, потому что, если пойдем в неверную сторону, придется возвращаться.
Они свалились друг подле друга на мокрую траву, тяжело дыша. Ни у кого не было сил сказать и слова. Баклага с водой переходила из рук в руки.
Потом Гьяфи и Спалле заснули. Драккайнен сидел, укутавшись плащом, и прислушивался, а Грюнальди сидел рядом и нервно хрустел пальцами. Было видно, что охотнее всего он отправился бы дальше. Кожаную шапочку, найденную по дороге, все время держал в руках.
– Ты правда видишь след? – спросил наконец. – В этой темноте?
– В темноте – уже нет. Потому-то мы и встали. И вторая луна зашла. А вообще – что-то да вижу, но по следу идти не могу.
– У тебя глаза светятся в темноте, как у волка, – хмуро заметил Грюнальди. И через миг: – А что делать, когда дойдем? Вчетвером-то?
– Наверняка не станем с рыком бросаться на них. Посмотрим. Устроим засаду, повыбиваем их по одному, может, устроим саботаж. Важнее всего – отбить детей.
– Что такое «заботаз»?
– Увидишь.
Вышли в путь, едва небо посерело.
Вверх, вверх и вверх. Между камнями. Цепляясь за скалы и таща за собой все сильнее упирающихся лошадей. Не было здесь никакой тропинки – только каменистые осыпи. Над ними вставали серые стены, наполовину еще погруженные во тьму.
Драккайнен внезапно остановился, поднял ладонь:
– Стоять! Тихо, слышите?
Они не слышали ничего.
– Тот же вой, что мы слыхали в Драгорине. Не слышите?
– Кажется, я что-то слышу, – неуверенно сказал Гьяфи.
– А я ничего.
– Дальше. Нет времени.
Через несколько часов они прошли перевал и стали спускаться, пока дорогу им не перегородил ручей. Здесь не было ни дороги, ни тропы. Ничего. Только ручей, скалы и купы карликовых сосен. Смотрели с надеждой, как он ползает среди скал, пока наконец не указал направление.
– Вверх. Всадники ехали ручьем, остальные шли рядом, по скалам.
Они побежали вдоль ручья. Потом на другой берег и вниз по долине. По скользким, влажным скалам, едва видной тропкой. Конь Гьяфи запаниковал. Храпел, танцевал и издавал дикие визги. Моряк некоторое время сражался с ним, понимая, что все стоят и смотрят на него с осуждением, потом набросил животинке плащ на голову и повел ее, спотыкающуюся, в конце короткой цепочки.
– Не выдавайте, где находимся! – рявкнул Драккайнен.
Остальные поглядели на него в молчании.
На дне долины Странник внезапно остановился и беспомощно огляделся.
Они стояли спокойно, ожидая, пока он отыщет след. Всегда отыскивал. Сидели тихо и старались не мешать. Грюнальди поднял баклагу, сперва попив, а потом плеснув в лицо горсть воды. Спалле сидел у ног коня, свесив голову. Снял шлем и приторочил его к своему поясу, после чего помассировал уставшее лицо.
Ждали.
Драккайнен осмотрел ветки, потом отступил на обочину и, отстегнув меч, принялся проверять следы.
Они ждали, пока он отыщет желаемое. Уверенные, что будет как всякий раз до того.
Драккайнен встал, пнул скалу и разразился чередой ужасающих финских проклятий, звучавших так, словно кто-то погрузил раскаленное добела острие в ледяной ручей с ледника.
Моряки молчали и слушали с уважением, хотя не могли понять ни слова.
– Конец, – сказал Странник. – Теперь мы и правда их потеряли. Тут был последний след, – пнул в землю. – А дальше они словно в воздух поднялись. Теперь начнутся эти ваши дурацкие холодные туманы и всякое там магическое говно, которое я терпеть не могу! Вот правда, jebem ti duszu, da piczki materi, ненавижу это! Мешает оно мне работать! Может, кто знает, куда они полезли? Туда?! Туда?! А может, вон туда?! Или они улетели на диких гусях?! В этом кретинском мире наверняка часто так путешествуют!
Выпрямился и сделал несколько глубоких вдохов.
– Дайте воды, – сказал внезапно вежливым тоном, перевешивая меч за спину.
Грюнальди подал ему баклагу. Драккайнен выпил, вытер губы и отдал ему мешок.
– Спуск с горы, – сказал спокойно, – было траверсом в ту сторону. То есть за тебя. Там следов нет, значит, идем прямо.
Но прошли они едва десятка полтора шагов.
– Стоять! – заорал Спалле.
Драккайнен, который прошел школу Морского отряда специальных операций, замер с поднятой ногой. Такое внезапное и громовое «стоять!» означало для него мину. Растяжку, фотоэлемент или лазерный фугас. Потом понял, что противопехотных мин здесь нет, и очень медленно поставил подошву сапога на тропу.
– Что случилось? – спросил терпеливо.
Спалле указал на что-то рукой:
– Не видишь?
– Спалле, – выцедил Драккайнен. – Прошу по сути. Я вижу много вещей, но не знаю, о чем ты. Вижу горы, кусты, скалы.
– Урочище. Смотри на эти скрученные кусты. На круг мертвых птиц вокруг. На труп козы, который зарос какими-то шипами. На скелеты скальных псов.
– Я так понимаю, – начал Драккайнен, – что в связи с этим мы не можем идти дальше?
– Видишь, как дрожит воздух?
– То есть мы должны обойти.
– Как? Слишком отвесно. И вниз, и вверх. Кони упадут.
Драккайнен сел на траву, достал трубку:
– У кого какие идеи?
Высек огонь, раздувая угли на скале в сухой хвое карликовых сосен; наконец блеснуло пламя. Драккайнен очень осторожно зажег маленькую веточку, приложил ее к трубке.
Остальные молчали, поглядывая на него с интересом. Драккайнен выпустил клуб дыма, потом прикрыл на миг глаза.
– Прошу прощения, – сказал. – Похоже, я немного устал. Сейчас что-нибудь придумаю.
Сидел так какое-то время, попыхивая трубкой и осматриваясь.
– Прррочь! – каркнул внезапно Невермор, присев на скалу на границе урочища.
– Это-то я и сам знаю, – сказал ему Драккайнен. – Дальше-то что?
Ворон пролетел у него над головой и сел на другую скалу.
– Траакт!
– Чудесно, – процедил Драккайнен. – Отчего бы и нет? Это ведь совершенно рационально. Идем за вороном. А словарь у тебя расширился, как я слышу.
– Траакт! Траакт! – каркал Невермор.
– Я бы предпочел, чтобы ты говорил «путь», «туда» или что-то в этом роде – то, что меньше прочего кажется карканьем. Тогда я не чувствовал бы себя так по-идиотски.
С этого момента они шли куда быстрее. Не было нужды то и дело останавливаться и искать следы.
Так продолжалось несколько следующих часов, и моряки начали приходить к мнению, что птица гонит еще быстрее, чем Драккайнен.
Сошли в какую-то долину, потом взобрались на очередной, не слишком высокий горный хребет.
Внизу, между островерхими елями, тянулось русло реки, а сразу подле нее стоял четырехугольный двор. Из дымовых отверстий под крышей сочились синие полосы дыма, а вокруг крутились несколько человек, отсюда казавшиеся крохотными, словно мураши.
– Коней назад! – крикнул Драккайнен. – И все – на землю! Не стоять на фоне неба!
Повернулся и увидел, что все и так уже лежат, а Гьяфи придерживает за узду у морды всех коней – с присогнутыми ногами.
«Перестань изображать коммандос, – обругал он себя мысленно. – Они не глупцы и в эту игру играют всю свою жизнь».
Он подобрался к краю и очень осторожно выглянул, осматривая окрестности.
– Двое людей гонят куда-то коз. Перед воротами сидит один с мечом, но не знаю, охранник или сидит просто так. Жрет что-то белое из миски. Под рукой у него лук, а потому полагаю, что все-таки часовой. Все – Змеи. Прически, татуировки и все такое. Теперь наружу выходят какие-то животные. Свиньи? Нет, это не животные. Один из тех крабов, как вы их зовете. И вправду весь в броне, клинков я не вижу. Словно одно туловище, без головы. Выглядят, скорее, как глубоководная рыба на ногах, а не как краб. Ну ладно.
Отполз задом и спустился на другую сторону, между валунами:
– Сделаем так. Я сейчас туда пойду. Разнюхаю, что оно такое, и проверю, не там ли ваши дети. Посмотрю, сколько воинов и как охраняют. Вы – ждите здесь. Не ходите за мной, ничего не предпринимайте. Мне не поможете. В одиночку у меня шансов больше. Если они меня схватят, вы это увидите. Какие-то радостные крики, беготня и вообще шум до небес. Но это может означать, что я сам решил устроить какой-то бардак. Ждите терпеливо. Если не вернусь до утра – со мной кончено.
– Лучше мы пойдем с тобой, – сказал Грюнальди.
– Во-первых, ударим ночью, когда они будут спать. Нас маловато, чтобы атаковать сразу и все проверять боем. Они прикончат нас в пять минут. Во-вторых, кто-то останется с лошадьми, а за детьми мы отправимся втроем.
– На конях быстрее убегать, – несмело заметил Спалле.
– Нельзя нам пользоваться этой тропой, той, что здесь проходит. Это их тропа, и они все время за ней приглядывают. Это единственный выход из долины, которым могут пройти вооруженные, – по крайней мере, они так считают. Найдем себе другое место, чуть поодаль. Там меня и ждите, и там будет ждать Спалле с лошадьми, когда пойдем отбивать детей.
– Почему Спалле?! – запротестовал названный.
– Потому что ты вывихнул ногу, а кто-то должен остаться с лошадьми. Потому что это единственный шанс для бегства. Когда мы будем близко, тебе придется стрелять в погоню и бросать им на голову камни. У нас не будет на это времени.
Они отошли немного в сторону по склону и нашли котловинку между скалами, в месте, не видном из городка.
Драккайнен выполз на хребет и выглянул на другую сторону.
– Превосходно, – сказал. – Невысоко, но отвесно.
На дно долины и вправду вела белая меловая скала высотой, самое большее, метров пятнадцать.
Внизу шумел поток.
Спалле стреножил лошадей, позволил им щипать сухую горную травку и обгрызать желтый мох со скал. Драккайнен развязал свой мешок и сосредоточенно раскладывал перед собой разные предметы. Меч, моток веревки, нож, лук в сагайдаке и колчан. Огниво. Большой швейцарский складной нож, который он торжественно водрузил посредине.
– Не нравится мне это, – заявил Грюнальди.
Драккайнен макнул палец в разведенный на плоском камне черный краситель и подправил зигзагообразные узоры на своих руках и лице.
– Отчего всегда в такой ситуации найдется тот, кому «не нравится»? Вас что, нанял кто-то? – спросил Вуко, вытирая краситель о траву и роясь в сумах в поисках карабина со спусковой «восьмеркой».
– Не нравится мне, что все зависит от тебя и что именно ты танцуешь со смертью. Воин не сидит и не ожидает подле лошадей. Мы не боимся.
– Ты ошибаешься, – ответил Драккайнен, пристегивая карабин к поясу и проверяя, не станет ли нож цепляться за веревку. – Это именно проблема риска. Воин летит с рыком, размахивает топором, после чего ему всаживают пару-тройку стрел в жопу и насаживают его воинственную башку на кол. Я ударю под защитой темноты. Убью в тишине. Буду знать, куда пойти и где искать. Мы не пришли устроить Змеям сражение. Мы пришли вернуть ваших детей. Может так случиться, что нас убьют, и ничего не удастся. И не рассчитывай, что ты тогда будешь прославлен песней, – разве что петь умеет твой конь. Потому что из людей не уцелеет никто.
Он надел на голову свой черный платок и повязал его на затылке.
Смотрели в молчании, как он фиксирует стрелы в колчане, чтобы не выпали и не шумели. Он попробовал несколько положений сагайдака с луком, так, чтобы ни о что не цеплять, перекинул через спину меч и распустил моток веревки.
Нашел над обрывом кривое деревцо, похожее на березу, и изо всех сил толкнул ствол, а потом повис на нем над пропастью.
– Выдержит, – решил он, завязывая морской узел у комля. – Туда мы будем спускаться.
Кинул веревку вниз, выглянул за край, кивнул:
– Хватило. Даже с запасом.
Щелкнул карабином, дернул им для контроля и перебросил веревку за спину.
– Иду, – обронил Драккайнен. – Ждите, пока я вернусь.
– Найди дорогу, – сказал Спалле.
Драккайнен перевернулся лицом вниз и зашагал по скальной стене под свист веревки, проскальзывающей между тормозными звеньями «восьмерки».
Через миг-другой они выглянули за край, но Странника там уже не было. Веревка, вплотную прижатая к меловой стене, тоже была едва заметна.
* * *
Он лежал под прикрытием густых зарослей карликовой сосны и наблюдал. Делал наконец то, к чему его готовили. Вооруженное освобождение и эвакуация пленных. Правда, не тех, что нужно, но для начала и так неплохо.
В лесу он отыскал поросшие листьями побеги плюща и увешался ими, создав подобие маскировочного костюма снайпера. Теперь знал, что пока он не сделает какую-нибудь глупость, его не должны заметить. Напротив ворот был один большой дом, стоящий перпендикулярно частоколу. По бокам – пара хозяйственных пристроек.
По двору крутились с десяток-полтора вооруженных Людей Змеев, вероятно, тех, кто прибыл ночью с пленниками в сопровождении «крабов».
Кроме них, были здесь еще какие-то постоянные обитатели. Видно было, как они бродят по подворью; за час трое проехали мимо на небольшой телеге, груженной сеном. Была здесь и пара пастухов, которых он увидел несколькими сотнями метров дальше, над запрудой. Прокрался в их сторону. Мальчишка лежал на траве, с руками под головой и травинкой в зубах, и предавался наблюдению за облаками. Девчонка же сидела на корточках чуть поодаль, под каменной стеной, с которой падал небольшой водопадик. Вода пенилась, наполняя округлое естественное озерцо, и впадала в ручей. Идиллия.
Сидящая на корточках девочка была голой, только на голове – венок из ветки кустарника, обсыпанного мелкими красными ягодками. Зигзагообразная красно-черная татуировка покрывала не только ее руки, но и плечи, и бедра. Она поднимала ладони и пела, но в шуме водопада не было слышно ни слова. Он видел только ее спину – широковатую, кстати сказать, – с рядами мелких складочек над бедрами, и руки, которые она поднимала вверх, запрокидывая голову. Потом привстала на коленях, несколько раз качнула бедрами, потом руками, словно разучивая танец живота. Он пригляделся и заметил, что на коленях девочка держит козленка. Положила его перед собой на землю и снова принялась танцевать на коленях.
Ему подумалось, что, может, стоило бы этих двоих чем-то напугать, но он не мог сообразить, чем именно. Мог бы убить их и оставить здесь, тогда жители форта вышли бы на поиски, потом нашли бы тела и сбежались к водопаду, оставив фланг незащищенным, но ему ужасно не хотелось этого делать.
Уже принялся отползать, когда увидел, как в белой пене под водопадом появляются темные формы, пересекающие водную поверхность изгибающимися движениями; потом понял, что вокруг девочки вьются огромные черно-красные змеи. Связанный козленок отчаянно дернулся, головы змей ударили в него, словно кнуты, и животинка пала, содрогаясь. Сразу была оплетена гадами и исчезла под клубком тел. Несколько змей взобрались и на девочку, оплетясь вокруг ее ног и рук. Они были разной длины и толщины: от маленьких, с большой палец и длиной в полметра, до двухметровых, с руку мужчины.
Драккайнен принял к сведению увиденное, после чего отполз и через рощицу вернулся к форту. Более всего его раздражало, что при таком движении вокруг он не сумеет пробраться внутрь.
Таился по нескольку часов в паре мест, но возможность не представилась.
Видел «краба», который снова вылез и прохаживался перед самыми воротами. Часовой что-то буркнул ему и ткнул в броню кончиком копья. Краб внезапно показал руки с кривыми клинками, которые дотоле были тесно сплетены на бочкообразной груди, и зашипел.
Стражник крикнул и вмазал крабу древком поперек плоского лба, после чего что-то вынул из-за пазухи. Краб издал ужасающий протяжный крик, отвратительно высокий, и отступил в ограду.
Это какое-то животное, думал Драккайнен. По крайней мере стражник именно так к нему относился. Однако эта броня выглядела искусственной. Слабым доспехом странной формы из подржавевшего металла. Только на что этот доспех надет? На гигантского цыпленка?
Он решил переползти на другую сторону форта и послушать, что происходит под частоколом.
В полдень вдруг раздался протяжный звук рогов, и ворота отворились. Оттуда вышли рысью несколько всадников, за ними ровно, двумя шеренгами, маршировали крабы.
Драккайнен тогда был на половине пути через поле, прямо перед городом. Старательно оплетенный клубком лиан и сухой травой, он выглядел скорее как холмик или охапка сена, упавшая с повозки. Двигался так медленно, что нужно было оказаться воистину внимательным наблюдателем, чтобы заметить хоть какое-то движение.
Но когда отряд вылетел прямо на него, единственное, что оставалось сделать, – медленно опустить лицо к земле и ждать.
Кони, на которых ездили Змеи, выглядели странно. Носили полный доспех, но все были в каких-то странных чешуйках и отростках, напоминая, скорее, ящериц или морских коньков. Та же эстетика, что и на панцирях «крабов».
Что-то ужасно раздражало в их виде, но он не мог понять, что именно. Что-то не на месте. Что-то типа: «Чем различаются эти картинки?»
Окруженное колючими сегментами копыто ударило в землю рядом с его головой, вздымая облачко пыли. В метре от него маршировали, хрустя свободно прилегающими бляхами, странные твари. Почти без голов – только плоские вздутия с чем-то вроде широкого клюва спереди и узкой щелью над ним. Напоминали шлем «жабья морда» из земного шестнадцатого века.
Конь ударил копытом рядом с его бедром, еще один прошелся сразу над головой. Драккайнен даже не дрогнул, хотя тело желало с воплем вскочить на ноги.
Всадник, может, тебя и не видит, но конь чувствует: что-то не в порядке. Потому не желает сюда становиться. Кони ценят равновесие и ненавидят топтаться по не пойми чему. Однако он подозревал, что лишь утешает себя. Ведь они-то и конями настоящими не были.
Проход отряда над его головой длился не более тридцати секунд, но Драккайнену казалось, что этот кошмар никогда не закончится. Когда все прошли, ему даже не пришлось заставлять себя остаться на месте. Был изможден.
Полежу здесь, подумалось ему. Может, и вздремну.
Начало сереть. Солнце спряталось за край хребта, и долину залили длинные тени.
Нужно поспешить.
Он переполз на другую сторону форта – болотистый луг, отделяющий его от склона долины, и, выждав, прокрался к частоколу. Тот оказался не таким уж и высоким.
* * *
– Руку подай, – сказал Драккайнен, внезапно высовываясь из-за края пропасти.
Грюнальди, несколько часов сидевший у обвязанного веревкой деревца, отскочил назад:
– Откуда ты взялся?! Минуту назад я смотрел вниз – тебя там не было.
– Смотрел на меня – просто не знал, на что смотришь.
– Дети у них?!
– У них. Их держат в сарае у самого частокола. Если смотреть от ворот, справа. Это длинный дом. Первые двери – седельная, вторые – сарай для коз и хлев, третьи – помещение, где закрыли детей. Только не открывайте следующую дверь. Там ограда, где они держат крабов. Это дикие звери. Не знаю какие, но важно, что они целиком из железа и очень быстры. Теперь их всего трое, остальные вышли из форта по дороге, вместе со всадниками. Я видел, как их кормят. Полагаю, сами Люди Змеев их боятся. Один подошел к ограде и бросил туда четверть свиной туши. Потом было слышно только ор и свист клинков, а мясо пропало. Имейте это в виду. Сейчас внутри где-то полтора десятка Змеев. И мужчины, и женщины – вооружены. Собирайтесь. Мы должны укрыться в роще, прежде чем они приведут коз с пастбища.
– Почему?
– Расскажу по дороге. Подайте мне шлем и наплечники.
* * *
Началось с того, что молодая жрица и парень, который пас с ней коз, на закате ворвались в форт – испуганные и с отчаянными криками. Возвращаясь из-под водопада и гоня стадо, наткнулись на четырех священных змей. Те были мертвы, с отрубленными головами, а тела их святотатец натянул на колья, как перчатки, и установил среди скал.
Никому о подобном слышать не приходилось, и уж совершенно нельзя было понять, как это могло произойти под фортом, посреди их долины с видом на Окаменевшие Чудеса, по дороге к святому водопаду. Буквально в нескольких шагах от них. Поверить в это было невозможно, а потому из форта выбежали почти все, кто был на расстоянии голоса.
Стражник тоже побежал, так как позвали и его. «Гляди, что ты за охранник! Как это возможно! Под самым фортом! Кто это мог сделать?! Только посмотри!»
Ну он и посмотрел.
Зато не увидел человека с мечом за спиной, который, словно тень, проскользывает внутрь форта.
Сразу за воротами Драккайнен свернул вдоль частокола, где под стеной сарая стояла повозка с сеном. Он присел на миг у ее передних колес и с широкой улыбкой на лице вытащил свой многофункциональный швейцарский нож, провезенный против всяких правил. У самой рукояти находилось стальное кольцо. Странник потянул его, вытягивая тридцатисантиметровую струнную пилу. Мономолекулярный волос с остротой алмаза и крепостью, сравнимой с причальным канатом большого корабля. Перекинул струну через балку дышла и отрезал ее тремя длинными движениями.
– Никогда не используй все эти гаджеты, говорили, – заворчал себе под нос, неся дышло на плече переулком между частоколом и стеной сарая. Шел, считая шаги, пока не оказался на уровне помещения, из которого недавно доносились испуганные детские голоса. Какие-то сонные, как в лихорадке.
«Где музыка? Хочу, чтобы снова была музыка! Мама… мама… мама… Хочу к змее…»
У него мурашки шли при одном воспоминании.
Упер дышло в палисад, после чего подскочил и расставил ноги между частоколом и стеной, взобрался на крышу сарая.
Где-то вдали люди орали друг на друга, ругались и грозили невидимому врагу. И все из-за нескольких змей. Для них это было как для араба – голый канкан на молитвенном коврике.
Драккайнен втянул дышло наверх и внезапно замер в очень неудобном положении. За сараем появился высокий Человек Змеев и, опершись спиной о стену, расшнуровывал штаны.
Потом раздалось журчание и беззаботное насвистывание. Драккайнен терпеливо ждал, держа дышло в воздухе. Змей облегчился, после чего, копаясь в штанах, вдруг взглянул на нижний конец дубины, что висела в метре от его головы. Повел за ним взглядом и на фоне темнеющего неба увидал сидящего в паре метрах выше Странника.
– Не ссут за сараем, – проворчал Драккайнен с отвращением, а потом рубанул Змея концом дышла в лицо. Поднял дубину и перебросил ее за палисад, уперев одним концом между заостренными кольями.
Достал меч и воткнул его в стреху, разрезая веревки и распарывая пахнущие пылью старые слои соломы. Труха посыпалась и за сарай, а Странник снова потянулся за складным ножом и вынул струну, чтобы перерезать балки крыши. Потом склонился и, лежа на крыше, оторвал доски пола на низком чердаке. Заглянул внутрь и увидел пятерых детей, сбившихся в углу и глядящих на него ошалевшими глазками. Первый этап завершен.
Где-то далеко раздались крики. Резкие и истеричные. Не было времени. Этап второй – саботаж. Несколько стрел, посланных из рощи Грюнальди, удержали толпу от того, чтобы обыскивать ближайшие кусты. Стражник пал на тропу со стрелой в глазу, на него свалилась толстая бабища с высоко присобранными волосами, похожими на камыш. Кто-то еще, с ногой, прошитой навылет, хромая и воя, искал убежища, остальные бросились прятаться за камнями.
Драккайнен, согнувшись, пробежался крышей и перескочил на кровлю дома. Теперь нужно было отвлечь внимание обстрелянных Змеев от рощи и купить немного времени обоим морякам.
Он втянул воздух и сконцентрировался, активируя цифрал, а потом расстегнул сагайдак и, стоя на крыше, вынул лук.
В зубах мог удержать лишь пару стрел. Потому извлек еще пять и воткнул их в стреху, активировав термозрение. В подступающей тьме бесформенные пятна тени превратились в холодные скалы и притаившиеся за ними фигурки, пылающие горячими цветами. Драккайнен наложил стрелу и прицелился в небо, следя за параболическими линиями, что высветила программа. Тот, постарше, согнувшийся за рахитической защитой из карликовых сосен. Указывает рукой на место, где может скрываться Грюнальди, и что-то орет. Спасибо. Не станешь мне здесь ни на что указывать. Второй, бегущий с криками в город. Следующий. Следующий. Очередные стрелы он выпустил в воздух одну за другой, прекрасно зная, куда те попадут, и соскочил с крыши.
Съехал по скользкой соломе на площадь, аккурат чтобы столкнуться с толстым Змеем, что поспешно выходил из дому – с топором в руках.
Длилось все долю мгновения. Драккайнен воткнул ему колено в печень, большой палец в глаз, после чего рубанул лобной частью шлема в лицо. Придержал падающего и с трудом толкнул на следующего господина, что как раз показался в дверях. Тот открыл рот – заорать – и утонул в медово-густом воздухе ускорения.
Странник рубанул его запястьем пониже виска, после чего подскочил и воткнул ребро стопы в грудную клетку падающего верзилы. Оба Змея поплыли назад, падая внутрь дома. Он услышал, как тела ломают там что-то с бесконечно тянущимся протяжным звяканьем.
Драккайнен захлопнул дверь и осмотрелся. Нашел взглядом забытое, опертое о стену копье и воткнул его в доски двери, уперев второй конец в землю. Потом вырвал пучок соломы из стрехи и присел, чтоб высечь огонь.
Грюнальди и Гьяфи ворвались сквозь широко отворенные ворота, громко дыша и размахивая луками.
– Грюнальди, тебе не сюда! – заорал Драккайнен. – За частокол! Будешь принимать детей. Там, где упирается дышло, бегом!
Грюнальди крутанулся на месте и побежал, словно за ним гнались демоны.
Драккайнен поджег стреху. Вырвались веселые оранжевые огоньки и клубы густого, как сметана, седого дыма. Он схватил еще какую-то лавку и несколько бочек, свалил все это в кучу, баррикадируя дверь.
– Гьяфи, закрывай ворота! – рыкнул. – На засов!
Гьяфи уперся в створки, а потом опустил кованый железный засов.
Стук в двери изнутри становился сильнее.
– За мной! – крикнул Драккайнен. – На крышу!
Сплел руки и, едва сапог Гьяфи уперся ему в ладони, вытолкнул его в воздух.
Стреха пылала просто замечательно. Где-то над ручьем Змеи принялись панически орать, но боялись выглянуть из-за камней, уверенные, что их обстреливают с нескольких сторон. Он выпустил еще пару стрел в небо, наобум, просто чтобы удержать их в этом настроении.
Гьяфи беспомощно съехал назад с крыши и грянулся оземь.
Двери с треском раскололись, ударенные чем-то изнутри. Потом в них ударили еще раз. Несколько досок, крутясь, полетели на подворье.
Драккайнен всадил три стрелы, одну за другой, в дыру от выломанных досок. Оттуда раздался дикий крик.
Гьяфи поднимался с земли, шипя и прихрамывая.
Двери сарая медленно отворились, и оттуда вышли два краба. Выглядели они отвратительно. Словно карлики в пластинчатых доспехах пятнадцатого века или как морские твари – демоны с картин кого-то из обезумевших голландцев. Босх? Брейгель? Да запросто.
Поверхность панциря была испещрена узорами и напоминала отполированную ржавчину.
Кто-то принялся молотить снаружи в закрытые на засов ворота.
Гьяфи вынул меч.
Ревущее пятно огня разлилось уже на половину крыши и пожирало стреху с оглушительным треском. Кто-то из плененных внутри людей метнул лавку в узкое окно, выбивая раму, но лишь заблокировал его окончательно. Лавка высунулась наполовину – торчала теперь наружу.
Первый краб бросился на него внезапно, расплетя тесно сплетенные на груди руки и высвобождая две сабли, скрытые дотоле за спиной. Чуть привстал и из плоского, прорезанного лишь щелью визира шлема, ударил писклявый вопль.
Тварь была удивительно быстра. Попеременные удары саблей падали со скоростью винтов вертолета. В ускорении Драккайнен видел, натягивая лук, как выстреливают один за другим удары и как Гьяфи, одаренный феноменальными рефлексами, отбивает три из них, а потом – как его рука подлетает вверх, кувыркаясь и увлекая за собой ленты крови.
Сам он трижды выстрелил прямо в щель шлема краба, что был сзади, одновременно видя, как Гьяфи распадается, будто попав в вентилятор. Во взрыве крови, теряя конечности, разлетаясь в воздухе еще до того, как он упал на землю. Те три стрелы были уже на гране возможностей лука; выстрелил ими меньше чем за секунду, последняя разлетелась в воздухе от удара тетивы. Инструмент мог не выдержать стрельбы в ускорении. Он подбросил лук в воздух и выхватил меч, после чего отбил два из тех судорожных мгновенных, словно скорпионий удар, перехлестов саблями и всадил два укола между сегментами панциря. Первый краб, в которого он попал из лука, крутился вслепую по площади и рубил все, что попадалось под лапы.
Драккайнен выскочил из боевого режима, но для Гьяфи было слишком поздно. Выглядел он так, словно наступил на мину. Странник спрятал меч и взглянул на краба, который вдруг уселся и опустил лапы, лишь скребя землю клинками. Все вокруг было забрызгано кровью Гьяфи, который подрагивал на земле. Ему уже нельзя помочь, и нельзя его отсюда вынести.
Не было времени. Но с этим он должен был разобраться.
Второй краб свалился на площадь с ужасным грохотом, вызывающим в памяти мысли об автомобильной аварии.
Непросто было найти застежку на панцире. Наконец он отыскал соединение и с силой развел его, раня ладони. Потом, уже таща вверх изрядный кусок металла, услышал, как одна за другой выскакивают нити, – и шлем сразу легко откинулся. Внутри, под броней, виднелось что-то мясистое, как тело моллюска, полное склизких щупалец и сосудов, залитое воняющей слизью, а во всем этом открылось худое бледное тельце.
И кровь.
– Мамочка, болит… – Вуко услышал изнутри металлический голос и заорал. Отскочил назад, теряя меч и продолжая отступать. – Хочу к змее…
Голос смолк, а Драккайнен отступал, пока не уперся в стену и не съехал по ней на площадь. Сидел так некоторое время, пока не раздался очередной сильный удар в ворота. Странник вздрогнул и пришел в себя. Ворота вздрогнули снова, дверь пылающего дома расселась наполовину, и было видно, как несколько человек изо всех сил ее толкают.
Он встал, пошатываясь, поднял лук, нашел где-то меч и спрятал его в ножны. А потом с совершенно мертвым, неподвижным лицом подскочил, схватился рукой за балку и вскарабкался на крышу.
Нашел место, где вырезал кусок стрехи, и скользнул внутрь.
Действовал как автомат.
Вытягивал детей одного за другим на чердак, потом на крышу, не позволяя им расползаться в стороны и придерживая их, словно котят. Потом спустил их по дышлу прямиком в объятия Грюнальди.
Спрыгнул с крыши, оттолкнулся от кола и полетел в темноту. Земля пришла ему навстречу. Амортизировал падение переворотом и пошел за Грюнальди.
– Где Гьяфи?
– Мертв. Краб.
Они растворились в темноте, волоча детей, что вышагивали как сомнамбулы.
Змеи орали, занятые штурмом собственных ворот и спасением от пожара дома, ослепленные огнем и оглушенные собственными воплями и паникой.
Как в Африке, мелькнуло в голове Драккайнена. Точно так же было в Африке. Точно так же выглядели армии военных вождей. Офицерам – по четырнадцать, остальным – от восьми и выше.
Он подхватил двоих детишек под мышки и побежал, стараясь ступать как можно тише.
Когда добежали до веревки, Драккайнен схватил Грюнальди за плечо.
– Полезай первым, – сказал. – Будешь вместе со Спалле вытягивать детей, а я буду их привязывать.
– А потом вылезешь? – спросил Грюнальди требовательно.
– Нет. Потом мне придется пойти дальше.
«Мамочка, я хочу к змеям…»
– Побереги моего коня. Он станет тосковать. Держи его и не выбрасывай мои вещи. Я вернусь.
– Ты не можешь идти один.
– Отведи детей домой. Следите за ними. Они будто отравлены, но полагаю, что рано или поздно это пройдет. Могут опять сбежать. И – спешите. Посадите их на моего коня и на коня Гьяфи.
Драккайнен вынул несколько стрел и воткнул их, одну подле другой, в землю. Колчан был почти пуст.
В темноте, из гудящего, сыплющего искрами пожара слышались крики и топот ног.
– Ульф, мы будем тебя ждать.
– Я услышал, – ответил Драккайнен твердо. Нельзя расклеиваться. «Морские котики» не ломаются.
– Грюнальди?
– Да?
– Мой конь… Прижмись лбом к его лбу и скажи ему, что я вернусь, хорошо?
– Хорошо, друг. Если нет – я сам за тобой вернусь. А… знаешь, что это за крабы?
– Ты не захочешь узнать.
Они пожали друг другу бицепсы и затылки, а потом Грюнальди начал подниматься. Остановился на миг.
– Нитй’сефни?
– Да?
– Отыщи дорогу.
– Boh, – ответил Странник на хорватском.
Драккайнен поднял лук и выпустил в темноту первую стрелу. Ему ответил крик.
Потом выстрелил еще дважды и привязал первого ребенка морским узлом под мышками. Еще один зашагал куда-то во тьму, и ему пришлось ухватить его за загривок, словно котенка.
Он снова натянул лук и снова выстрелил. Осталось трое преследователей, которые наконец сообразили, что остальные лежат, прошитые стрелами, или умирают на земле, – а потому отступили.
Сверху с визгом полетели еще стрелы. Грюнальди и Спалле. Он улыбнулся.
Когда последний мальчишка поехал вверх, всхлипывая и отираясь о скалу, Драккайнен спрятал лук и растворился в темноте.
* * *
Темнота дает мне ощущение безопасности. Когда я прохожу через рощу, натыкаюсь на троих Змеев, что тычут копьями в зарослях травы и кустов. Девушка всхлипывает от ярости, остальные – стиснули зубы. Найдут.
Хотят найти мерзавца, который убил святых змей, поджег их дом и украл их рабов. Который убил столько братьев. Будут искать. Ничего, что дом горит, ничего, что всякая пара рук нужна для ведер и тушения пожара.
Ничего, что вокруг совершенно темно.
Не отступят. Будут искать. Ничего, что в месте, где они бродят, меня давно не может быть.
Они наталкиваются на деревья, влезают в кусты, цепляются копьями за ветки.
И проходят мимо меня с двух сторон. Только потому, что я сижу совершенно неподвижно, с опущенным лицом и держу руку на мече. Мой абрис не напоминает человеческий. Я – просто темное пятно. И кроме всего прочего – пятно неподвижное. Во тьме глаз, главным образом, регистрирует движение. Я терпеливо сижу, пока они не отойдут, а потом выжидаю еще немного.
Затем покидаю их долину.
Восходит первая луна, и для меня становится достаточно светло. Я останавливаюсь в закрытой долинке на склоне небольшой отвесно вздымающейся горы.
Дело не в темноте. Дело в пятнах перед глазами, голоде и усталости. Несколько десятков секунд боевого режима принесли свой урожай.
Я изможден.
У меня немного припасов. Узелок с горстью полосок сушеного мяса, две колбаски халвы и сушеные фрукты, похожие на большие фиги. Только то, что я распихал по карманам.
Нет у меня и баклаги.
Я недавно пил воду из ручья, но то, что нет посудины, может обернуться проблемой. Нужно было захватить как минимум пластиковую бутылочку из-под сливовицы. У меня там было еще с половину ракии. Могла бы служить и для промывки ран, а потом бутылочка стала бы прекрасной флягой.
Ну что же…
Имею что имею, а чего у меня нет – несущественно.
Я чувствую, что надо спешить. Это инстинкт. Знаю, что я уже у цели.
И знаю, что, пожалуй, поздно.
Я надеваю капюшон полушубка и тесно обхватываю себя руками, после чего нахожу место, защищенное от ветра.
Сейчас двадцать минут третьего, среда, двадцать четвертое октября согласно условному местному календарю. Температура воздуха – шесть градусов, сила ветра – тридцать километров в час. Спокойной ночи, Мидгард.
* * *
Побудка на рассвете. Собираю острием ножа росу с травы. Капучино а-ля Побережье Парусов. Съедаю кусочек мяса, полпалочки халвы и финик.
А потом покидаю свою котловинку и отправляюсь наверх.
Сижу на вершине как раз перед восходом солнца.
Время для утренней экскурсии, осмотра окрестностей в первых лучах солнца и планирование действий на ближайшие шестнадцать часов. Действий рациональных и осмысленных.
Всходит солнце. Прекрасный момент, когда первый оранжевый лучик солнца пробивается сквозь вершины и обрисовывает передо мной панораму горной цепи.
Это полное безумие.
Меня обучали именно под таким углом, чтобы я не сошел с ума, глядя на детей, превращенных в боевые машины, что выглядят как адские карлики. Чтобы не ел себя поедом, вспоминая, как печь говорит человеческим голосом, или когда законы физики отправляются на прогулку.
Но все это – проблема масштаба.
Я смотрю на гору, встающую над длинной и широкой равниной, и чувствую пустоту. Что-то вроде контрольной картинки или сообщения panic screen. «Разум выполнил недопустимую операцию и будет закрыт. Если проблема будет повторяться, обратитесь к производителю».
Я вижу гору, узкую, встающую ласковыми линиями до того самого места, где ее обрезало словно ножом, а на вершине стоит идеальный сверкающий шар размером с административное здание. Если считать от основания, во всем этом метров шестьсот. Шар стоит на воде. Воде, которая неторопливо вращает его и омывает поверхность, а потом вытекает на пять сторон водопадами.
Я вижу вершину – как конус. Идеальный островерхий конус, пробивающий в половине высоты еще один шар, словно глобус размером со стадион и в лигу диаметром.
Они не все геометричны, но почти всякая вершина – скульптура. Целенаправленные, титанические формы без следов обработки.
А в долине видны еще какие-то более безумные абрисы, хотя и значительно меньших размеров, напоминающие фонтаны, дома и беседки; среди них снует туман.
У меня открыт рот, вытаращены глаза, и я молчу.
Молчу внутри и снаружи себя.
Внезапно я вспоминаю, каким образом можно прервать галлюцинацию.
Невозможно.
А значит – я отравлен.
Здесь что-то в воздухе.
Но рука моя выглядит как рука.
Стайка птиц, пролетающих ниже, не превращается на моих глазах в лещей или блинчики. Растущие вокруг кусты и травы тоже в совершенном согласии с «Атласом определения флоры Северного Континента».
Когда нечто не имеет права существовать, но все же существует, я принимаю это к сведению и не задаюсь вопросами «как» и «почему». Так уж я обучен.
Я спускаюсь в эту долину.
Длинной, овальной выпуклой гранью, что тянется пониже наклонной нависающей над долиной скалы.
Гора, которой я схожу в долину, тянется пологим снижающимся хребтом каких-то полкилометра.
Скользко.
Пригодились бы крюки и ледоруб.
Через некоторое время туманы внизу немного расступаются, и я вижу, как они текут долиной, словно реки, скользя между хребтами и соединяясь в один долгий поток. Несмотря на это, начинает развидняться. Встает солнце.
Я смотрю, куда направляюсь, и внезапно останавливаюсь в остолбенении.
Потому что отчетливо вижу, куда направляюсь: к стопе.
Стройной женской стопе, плоско лежащей на земле перед вытянутой вперед ногой. К стопе длиной каких-то сто пятьдесят метров.
А иду я – по руке.
И приближаюсь к локтю. К локтю, что упирается в колено.
Каменный мост, соединяющий две вершины пониже, – предплечья, лежащие друг рядом с другом. Я иду по телу гигантской женщины, что сидит с вытянутыми вперед ногами, свешенной вниз головой и локтями, упертыми в колени.
Подхожу очень осторожно, насколько возможно по округлой поверхности, и заглядываю вниз.
Вижу гигантские круглые груди, увенчанные сосками размером с приземистые несколькометровые угловые башни. Склоненное лицо отсюда не очень хорошо видно. У девушки опущена голова, опирающаяся на руку, и она смотрит вниз.
Худший момент спуска – переход ладонью. Тут отвесно, нужно осторожно соскальзывать с фаланги на фалангу. К счастью, средний палец и мизинец немного оттопыриваются и создают почти ступеньки. Восьмиметровые ступеньки, но хоть так.
Я чувствую себя Гулливером, хотя с женщиной таких размеров и Гулливер не совладает. На ее ладони можно было б разыграть баскетбольный матч, да еще и разместить зрителей.
Счастье, что она сидит, далеко вытянув ноги. Таким-то образом, спуск по голени опасен, но возможен.
Путешествие завершается сходом с пальцев стопы. Оказывается, ноготь мизинца не ниже остальных пальцев, и что с его поверхности, на которой можно было б припарковать пару автомобилей, до земли – три хороших этажа.
Я схожу желобом между пальцами. И оказываюсь в безумной долине, окруженной странными памятниками. У стоп девушки, что уселась и свесила голову на сплетенные руки.
Счастье, что она сидит. Сейчас в ней метров четыреста до макушки. Когда встанет – будет в ней с километр.
Я чувствую настрой безумия, пропитывающий всю долину, и мне кажется, что меня ждет непростой день.
На всякий случай я активирую цифрал.
* * *
Он решил, что не откажется прогуляться по котловинке, которую создавали ноги девушки, накрытые сверху головой и сплетенными руками.
– Я устал, моя дорогая, – заявил Драккайнен. – Мне очень нравятся длинные ноги, но по твоим я спускался полтора часа. Это, полагаю, перебор.
Под вздымающимся в двухстах метрах выше гигантским лицом находилось круглое озерцо, в которое сверху, журча, падала вода. Вытекала из уголков глаз.
– Ну это тоже перебор, – крикнул Драккайнен. – Сколько нужно реветь, чтобы у тебя выросли пятиметровые сталактиты из носа? Миллион лет? Что за истеричка! Возьми себя в руки, девушка. Утри свои сталактиты и улыбнись.
Он обошел озерцо и посмотрел вдоль ног.
– Я так и знал. Достойный удивления реализм. Однако большая же у тебя пещера! – крикнул он, желая вызвать эхо. – Теперь я должен идти, но на обратном пути навещу тебя. Всегда любил пещеры.
* * *
Дно долины было плоским. Там росли трава и деревья, ее прорезали ручьи, разливаясь круглыми запрудами. Но только это и выглядело нормальным.
Ненормальными были, например, длинные реки тумана, что текли через долину.
Холодного тумана, наполненного меняющими форму созданиями, которых он видел термозрением.
За поросшими лесом холмами маячили какие-то застройки. Но не обычные деревянные дома из бревен, к которым он привык. Клубневидные строения – не то гигантские дыни, не то амбары, не то пузатые кувшины.
Где-то он уже видел подобное. Это мучительное чувство давно его не покидало. Что-то знакомое, но дотянуться невозможно. Песочные, странные строения и квадратная башня, что увенчана тонкой черной виселицей.
Словно дежавю. Странное предчувствие, что мучило его уже несколько дней. Казалось – сидит за ближайшем поворотом в мозгу. Почти можно рукой дотянуться.
Эти ярко-розовые психоделические фонтаны, выглядящие как изготовленные из препарированных, разрезанных органов и фрагментов колючих панцирей омаров.
Эти животные, мелькающие то здесь, то там.
Черная трехглавая ящерица, выползающая из пруда.
На Мидгарде нет трехголовых ящериц.
Нет и жабоподобных черных созданий, покрытых лоснящимися, словно кораллы, бородавками, что пекут себе на решетке человеческую стопу.
Нет шестиногой крысы в очках, что тащит, будто черепаха, панцирь, особенно если панцирь этот подобен вогнутой миске и если его украшает приколотая ножом человеческая ладонь.
Это немного напоминало безумный парк развлечений.
Он смотрел на гигантские розово-салатные цветы, скользкие на ощупь и напоминающие тело. Смотрел на мясистые белые шары, похожие на гигантские фрукты, в которых неторопливо копошились какие-то просвечивающие сквозь стенки человекоподобные формы.
Он шел.
Нужно найти хоть кого-нибудь, у кого можно что-то узнать.
Он поднялся на холм, увенчанный странной скульптурой из переплетенных розовых форм, которые невозможно описать. Через отверстие в одном из элементов все время – по кругу – пролетала стайка черных ошалелых пташек. По кругу, по кругу – так, что начинала кружиться голова.
На верхушке холма он заметил очередной круглый пузырь, похожий на тонкостенный белый фрукт. Был он размером с шатер, внутри – пара Людей Змеев механически, но истово трахалась, погрузясь в раздавленную в розовую кашицу мякоть плода.
Он тупо смотрел сквозь разорванную сбоку и подобную белому пергаменту кожицу фрукта, видел залитую потом спину мужчины, покрытую зигзагами красно-черного татуажа, и такие же татуированные лодыжки и стопы женщины, сплетенные на его ягодицах.
Смотрел молча, как фрукт внезапно выпускает шипастый вьющийся отросток, который расцветает огромным, словно поднос, белым лотосом, разворачивает плоско лепестки, а отпочковывает огромный переливающийся пузырь, который улетает с ветром.
– Что же я съел, da piczki materi, – пробормотал Драккайнен.
У подножия гор клубились сотни нагих тел Людей Змеев. Именно клубились. Совершенно бессмысленно. Это даже не была конкретная оргия. Просто клубились, словно черви, ворочались бессмысленно в садке вокруг телесного вертящегося фонтана.
Не обращали на него внимания. Он ходил между ними, разгоняя странных птиц и ящериц, что путались под ногами, и держал ладонь на рукояти меча, торчащей из-за спины.
Они и правда не обращали на него внимания. Лазили то тут, то там, словно одуревшие или загипнотизированные. Не отреагировали даже, когда он разогнал такую группку, опрокинув некоторых на землю. Кто-то встал и пошел дальше, а некоторые так и остались бессмысленно лежать, пока кто-то еще не прилег на них сверху, так же сонно и без интереса.
– Знаю! – сказал внезапно Драккайнен проходящему рядом Змею. – Это Сад Земных Наслаждений!
Это, – указал он на телесный фонтан, – Фонтан Жизни или Радости, уже не помню. Понимаешь? – Очередной проходящий мимо посмотрел на него бессмысленным взглядом и вернулся к жеванию красных ягод. – Вы не могли этого придумать, морды! – крикнул Драккайнен. – Не могли видеть картины Босха, а значит, у меня все-таки галлюцинация!
Он зашагал дальше и внезапно остановился возле очередной группки.
– Акен, – сказал. Они замерли и взглянули на него. – Иероним ван Акен. Босх.
– Акен, – ответил ему хор тупых голосов.
– Классно с вами говорить. Так, может, теперь Пьер ван Дикен?
Установилась внезапная тишина.
– Шип, – ответил неуверенный голос. А через миг второй, будто с опаской: – Шип!
А через миг скандировали хором:
– Шип! Шип! Шип!
Они кричали, указывая куда-то пальцами. Вверх по долине.
– Я тебя уже видел! – крикнул Драккайнен монаху в капюшоне, с тонзурой и крысиной мордочкой, украшенной очками, что держал оправленную в сафьян книжку. – Я тебя уже видел в музее!
* * *
– Подведем итоги, – сказал Драккайнен. – Босх. Прозвище Акена. Холодный туман. Очки на лице Змея. Стилистика оружия и доспехи, характерные для пятнадцатого века. В мире, где вершиной технологии остается полузакрытый шлем с носовой стрелкой. Дальше – Сад Земных Наслаждений, а значит, здесь, за тем холмом, у нас будет…
Он поднимается на холм.
– О, Христос милосердный. «Музыкальный ад».
Над равниной было явственно темнее. Над ней собирались темные тучи, а вдали, среди разрушенных домов, пылали пожары, подсвечивая виселицу.
Что-то зазвонило.
Драккайнен оторвал взгляд от раздираемых, прокалываемых и мучаемых нагих Змеев и раздергивающих их приземистых демонов с жабо-мертвецкими мордами. Смотрел на людей, вплетенных в огромную лиру, на гигантскую куполоподобную волынку, что выглядела как вырванный из тела кровавый орган, нашпигованный великанскими флейтами.
Под его ногами шел шлем. Округлый, с закрытым забралом, на двух кривых карликовых ножках. На верхушке шлема подрагивала отрубленная человеческая стопа, прошитая стрелой.
– Тебя я тоже где-то видел.
Пытуемые выглядели настолько же заскучавшими и сонными, как и те, что принимали участие в оргиях. Так же, главным образом, клубились и вились по земле и друг по другу.
Только сплетенные из холодного тумана твари, крысожабные гибриды и карлики, обладали крохами жизни.
– Прошу прощения, может, кто-то видел здесь Пьера ван Дикена?
– Шип! Шип! Шип!
Драккайнен растер лицо и пошел дальше, проталкиваясь сквозь толпу. Недалеко.
До большой повозки, запряженной крабами и сопровождаемой очередными одоспешеными детьми.
Драккайнен сразу напрягся и схватился за рукоять меча.
Крабы окружали его, издавая свой ужасный писк, от которого в ушах звенело.
Он присел в низкой боевой стойке, но те обходили его кругом, словно бронированные жабы; в узких прорезях, что прорубали широкие металлические морды, была лишь тьма. Он поворачивался какое-то время с ладонью на рукояти и с другой – выставленной перед собой, пока все крабы не расплели свои конечности и не зазвенели клинками. Вокруг Странника замерло кольцо кривых лезвий, словно терновая корона.
Он выпрямился.
– Не могу, – прошептал. – Не могу. Знаю, что вы такое. Я ребенка даже ударить не в силах. Извини, командор. Все извините. Не могу.
Крабы вдруг с металлическим посвистом спрятали клинки.
– Шип! Шип! Шип!
– Ладно, – сказал с трудом Драккайнен. – Шип.
У повозки были утыканные шипами борта из почерневшего дерева, укрепленного железными полосами. Шипы были даже на колесах. Откинулся клапан и раскрылся ему под ноги. На его внутренней части были железные ступени.
– Ладно, – повторил Драккайнен. – Поехали.
С высоты ему открывался хороший вид на скопления тел, пытки, гудящий огонь и клоачные ямы и на ворочающихся между всем этим татуированных несчастных. Крабы впряглись и потянули скрипящую повозку через ад, полный шума, писклявых, какофонических тонов флейт и волынок.
– В музыкальном аду никак не обойтись без аккордеонов, – пробормотал Драккайнен.
Повозка ехала среди безумия, Змеи цеплялись за спицы и обода колес, пытались взобраться на борт, распарывая тела о шипы, после чего отпадали, и колеса катились по ним.
Шип показался за изгибом долины. Окруженный горами, под мрачным небом. Напоминал немного гигантскую вьющуюся стаю птиц – или торнадо. Великанское, торчащее в небо веретено.
– Милость Божья, что оно такое? – прошептал Драккайнен.
– Шип! Шип! Шип!
Вблизи, когда он вылез из повозки, оказалось, что Шип и вправду был лишь движением. Гигантским фракталом из железа. Вращающимися обручами, косами, маятниками, зубчатыми колесами и эксцентриками. Все это вертелось вокруг себя и друг друга, с шумом, который напоминал о гигантских роторах. Порой это напоминало астролябию, порой – веретено, а иногда – какой-то часовой механизм.
– Шип! Шип! Шип!
– Вы сбрендили? Я туда не пойду, оно ж меня порубит, – рявкнул Драккайнен.
И тогда что-то изменилось.
Обручи начали приостанавливаться, косы и маятники – раскачиваться, и объект принялся менять форму, словно монструозный пазл из кованого железа и мостовых элементов. Гигантские формы проворачивались с шумом воздуха и оглушающим скрежетом, а потом, одна за другой, замирали, выстраиваясь плоскими ощетинившимися огромными шипами уровнями и создавая своего рода мост. Он был недвижим, но поверхность его в любой момент могла разделиться и распасться, превратясь в путаницу крутящихся элементов.
А по этому мосту вышагивал высокий мужчина с зачесанными на затылок темными волосами, одетый в темный костюм и черную рубаху, с наброшенным на плечи плащом.
– Кто ты! – крикнул он на языке Побережья. – Откуда знаешь слово «Акен»? Что делаешь на Земле Змеев?!
– Доктор ван Дикен, я полагаю? – сказал Драккайнен по-английски и спрятал меч в ножны.
Тот окаменел.
– Грим! – сказал. – Загримировали тебе глаза! И нос! И даже уши!
Развернулся:
– Прошу за мной.
За спиной Драккайнена раздался слитный скрежет десятка клинков.
Первый шаг решил дело.
Ван Дикен вышагивал, вея полами плаща, а мост распадался сразу за Драккайненом, разделялся снова на маятники, шестерни и вращающиеся, будто лопасти, клинки. Там, где они шли, были видны железные стены и коридоры, но за спиной все было движением, вращением, свистом и скрежетом вертящихся частей.
Комната была округлой и стальной, как и все здесь. Вызывала мысль о викторианском пароходе или локомотиве. Кованая железная мебель, украшения, а между ними – шипы, пол, похоже выложенный из треугольных элементов – будто стальных зубов. Все это могло в любой момент распасться в хаос и движение обращающегося железа.
– Господин ван Дикен, – начала Драккайнен. – Я – спасательная группа. Приехал вас эвакуировать.
– Эвакуация… – сказал ван Дикен. – Через четыре года, четыре месяца и двадцать два дня. Эвакуация.
– Где остальные?
– После происшедшего на станции нас уцелело четверо. Мы пошли каждый своей дорогой.
– Почему?
– Было слишком опасно. Каждый продолжал миссию, как ему казалось правильным. Присаживайтесь, господин…
– Драккайнен.
– Драккайнен. Скандинав?
– В некотором смысле, я из средней Европы. Финляндия, Польша, Хорватия.
– Средняя Европа… То есть Восточная, верно? Непослушные провинции России. Изменчивые, прокапиталистические, ксенофобские, шовинистические, недисциплинированные. Такие себе сельские мудрецы из страны медведей. К счастью, это другой конец космоса, господин Драккайнен. Мы можем не обращать на это внимания.
– Что произошло на станции?
– То, что всегда происходит, когда темные люди оказываются перед лицом прогресса. Открытия, которые делают возможным все, а они их прячут в свой консервативный ящик. Будущее принадлежит отважным. Тем, кто не боится менять мир. Изменения – соль жизни. Мой дом – исключительно изменения. Он их символ. Вы заметили?
Драккайнен поднялся.
– Расскажете мне об этом по дороге. Собираемся.
– Выпейте коньяка. У меня здесь есть все, в том числе коньяк. Ох, прошу прощения, вы наверняка предпочтете водку. Посмотрите только.
Ван Дикен отворил шкафчик и достал две хрустальные рюмки.
– Этот мир дает неограниченные возможности. Парадокс состоит в том, что те, кто здесь живет, слишком темны, чтобы ими воспользоваться. Однако некогда они это умели – вы видели, что они сделали с горами? Захватывающе! Magnifique! Только взгляните: поднимаю рюмку – видите, как она потеет? Как орошается изнутри? Это делаю я. А propos, вы ведь видели моих «сверчков»? Видите, как она делается тяжелой? Наполняется. Я создал водку. Холодную. Прошу, не бойтесь. Как там у вас говорится? «На здоровье»?
Драккайнен взглянул на рюмку:
– Отсюда и Босх? Вы его создаете? Зачем?
– А вы не понимаете? Создаю, потому что хочу. Потому что этот мир дает мне такую власть. А Сад – чудесная аллегория власти, какой, по мнению Босха, Господь обладает над людьми. Ад и Небеса. Сад наслаждений и Сад страданий. У меня есть мой народ. Народ, из которого я выковываю нечто новое. Я делаю так, что они проходят исторические изменения. Из средневековых троглодитов с мечом – в Новых Людей! В этой долине вы видели процесс воспитания. Награда и наказание. Те, кто наказан, мечтают о награде. Те, кто был награжден, знают, за что сражаются, у них есть мотивация.
– Но зачем?
– Потому что это власть, господин Драккайнен. Я – власть. Я – бог. Так неужели вы полагаете, что я дам себя увезти на ту тесную, грязную, перенаселенную планету, чтобы там кто ни попадя говорил мне, что я должен делать? Размахивая заплесневевшей буржуазной демократией? Затхлыми понятиями добра и зла?
Он сплел руки на покрытом узорами стальном столе и склонился к Драккайнену:
– Скажите мне, где я ошибся? Вы должны были попасть в Змеиную Глотку. Отчего мои люди там вас не нашли?
– Они нашли.
– Тогда почему вы живы?
– А вы приказали меня убить, ван Дикен? Земляка? Землянина? Европейца? Того, кто прибыл вас спасать?
– Спасать? От чего?
– Вы приказываете похищать детей? Превращаете их в чудовищ?
– Насколько мы далеко? Как долго летит сюда свет, Драккайнен? Сто тысяч лет? И вы влечете сквозь весь космос свои идиотские, ничего не значащие нормативы? Абсолюты, в которые никто, кроме вас самих, не верит? Здесь и добро, и зло – лишь в вашей голове. Что вас так возмущает? Что я делаю воинов из людей, которые слишком молоды? Они в том возрасте, в котором лучше всего для этого подходят. Их мозги не затемнены сомнениями, и они еще не знают страха. Не боятся смерти, потому что ее не понимают.
Драккайнен встал и поднял рюмку:
– Знаете что? Вы арестованы, доктор ван Дикен. Я арестовываю вас за нарушение конвенции о невмешательстве в ксеноцивилизацию, а также за убийства и военные преступления.
– Как вы смешны! Как ужасно гротескны! Я боюсь, Тото, что ты уже не в Канзасе.
Драккайнен наклонился и медленно вылил водку перед ван Дикеном на стол.
– В Канзасе ты, самое большее, получил бы пожизненное, Волшебник из страны Оз. Проблема в том, что сюда прислали не Дороти. Я должен был тебя эвакуировать. Но приоритет звучит: убрать бардак. А ты, ван Дикен, просто квинтэссенция бардака.
Ван Дикен тоже встал.
– Славно поговорили, честное слово. Я с радостью услышал язык родной планеты и снова ощутил вонь буржуазного ханжества. Прекрасное лекарство от ностальгии. Увы, разговор этот делается досадным, потому будем прощаться. Прощайте, господин Драко. La conversation est finis.
* * *
Все происходит мгновенно. Часть комнаты, в которой сидел ван Дикен, провернулась внезапно вокруг оси, заслоняясь стеной. Одновременно пол разъехался на треугольные части, и вся комната разложилась, распадаясь на фрагменты, ставшие частями гигантских кос, обручей и маятников.
Только вот Драккайнен уже был в боевом режиме. Элементы, из которых состояла крепость Шип, были достаточно велики. Они равнялись фрагментам авианосца и не могли разогнаться до большой скорости с нуля. Даже если не понять, что их разгоняло, они были материей. Сталью, железом или каким-то сплавом.
Двигались быстро, но Драккайнен двигался быстрее. Когда пол распался, он сделал шаг к одному из вращающихся фрагментов и поехал вместе с ним в хаос клубящегося железа. Прежде чем элемент, на котором он стоял, перевернулся вверх ногами, он перескочил на пролетающий рядом шатун, потом – на острие маятника и стоял на нем, держась за ось, на полукруглом фрагменте под ногами, потом перескочил на титанические спицы какого-то колеса, оттуда – на огромные, словно крепостные стены, зубья великанской шестеренки, с которых соскочил до того, как они сплелись с другой шестеренкой, пробежал по какому-то монструозному рычагу, проскочил над огромной, словно крыло самолета, косой, проехал кусок пути на другом клинке – и двигался так, на одном инстинкте и чувстве равновесия, все ниже и ниже. Знал, что хватит одной ошибки, чтобы он оказался перемолот и распылен на кусочки, словно утка в турбине. Это был пазл. Чисто мануальное искусство. А он был в этом хорош.
И был куда быстрее механизма.
Цифрал рисовал ему движение следующих частей, но было видно, как те распадаются. Хуже всего были обручи. Каким-то невероятным образом они могли вертеться одновременно в нескольких направлениях, словно у них сразу две оси, и все складывалось и раскладывалось плавно, вертясь быстрее, но для боевого режима это было сонное, неспешное движение. А все, что наклоняется в одну сторону, должно повернуться и в другую; что возносится, должно пасть, а что закрыто, в условиях постоянного движения должно раскрыться. Это был пазл, а у пазлов есть правила, даже если они состоят из невозможных фигур.
Поэтому он его решил.
* * *
Когда он соскочил с полного язв гигантского кулачка на землю и позволил ему отъехать, сразу же прянул, словно кролик, зигзагами. Должен был скрыться и подождать момента или способа. Бежать или таиться?
Должен был придумать что-то и вернуться сюда через какое-то время.
Мог также воспользоваться убежденностью ван Дикена, что он мертв, и подождать, пока тот покажется.
Надлежало прибраться. Только хватит ли убийства ван Дикена? Как остановить Механический Ад? Как разогнать Сад Земных Наслаждений?
Однако удержание доморощенного бога должно стать лишь началом. Остановкой механизма.
Ему надо отдохнуть и собраться с мыслями.
Он прошел сквозь Ад, сняв одежду и инвентарь. Держал все это при себе и лез голым, как одержимый, между такими же голышами, столь же неторопливо перебирающих ногами. Оставил на себе лишь шлем и сапоги.
Миновал виселицу, а потом большую арфу, с которой как раз снимали полуживого Змея, порезанного струнами почти на кусочки. Он жил и слабо стонал: было видно, что его глубокие шрамы начинают зарастать. Толстая тварь, поросшая бородавками, внезапно схватила Вуко за плечо. Вторая, прикрытая почерневшим шлемом и с хвостом ящерицы, что подрагивал между ногами, схватила его с другой стороны, и обе стали удивительно сильно волочь Странника в сторону арфы.
– Нет, спасибо. Может, в следующий раз, – сказал он вежливо и обронил узел на землю, вместе с мечом, седлом и всем прочим.
А потом сломал жабе обе руки и вбил шлем в голову ящеру сильным ударом с разворота. Схватил тварь за затылок и ногу, после чего метнул ее в струны арфы. Раздался мелодичный скрежет всех струн, а потом ужасный, свиной визг ящера, когда струны принялись врастать в его тело.
Драккайнен поднял свой узелок с земли и возобновил петляющий марш подобно остальным зомби.
В Саду Земных Наслаждений было полегче: здесь больше бродящих без цели, и никто не мешался, предлагая пытки.
При виде прохаживающихся «сверчков» он опустил узелок на землю и сунулся в клубок нагих ползающих друг по другу тел. Утонул в них, в путанице скользких от пота рук и ног, среди губ и пальцев.
А потом поднялся и выпутался. Несколько рук потянулись за ним, хватая его за лодыжки и обнимая бедра.
Драккайнен склонился и нанес сокрушительный короткий удар в самую середину лица слишком настойчивого Змея.
– Я же говорил: никаких обжимашек. А вы… Ну не то чтобы вы мне не понравились, но нынче у меня и правда нет времени.
Он отправился дальше и за холмом остановился, глядя на Сидящую Девушку, что возносилась на фоне неба.
– Ты даже не представляешь, как я рад, что вижу тебя, малышка, – сказал, надевая штаны.
Отправился дальше, в сторону гор.
– Где-нибудь здесь нужно затаиться, – пробормотал.
Однако в следующий миг перед ним распустился гигантский округлый плод. Белый и просвечивающий, с присевшей внутри фигурой.
Плод распался, и показался ван Дикен, драматическим жестом откидывая плащ.
– Ладно, – сказал Драккайнен. – Ты и я. На кулаках.
Ван Дикен зааплодировал. Медленно и издевательски.
– Я впечатлен. Вы словно прыщ на заднице, mynheer Драко. Не знаю, как вы это сделали, но было эффектно. И вы саркастичны. Эта ирония перед лицом смерти, как это по-нормандски! Вам все кажется, что это какая-то там песнь о кольце Нибелунгов? Знаете, сделаем иначе: нынче именно дракон убьет Сигурда.
Внезапно он взмахнул рукой, и длинное ясеневое копье мелькнуло в воздухе.
Одновременно с боевым режимом.
Время замедлилось как раз в тот момент, когда треугольное острие вошло в грудь Драккайнена и пошло так, сонным движением, пока не пробило рубаху и не вышло с другой стороны, из спины.
Он ухватился за древко и попытался вырвать оружие из тела, но это было невозможно. Он пошатнулся, чувствуя, как копье проходит внутри и шевелит стальным зубом в его тканях при каждом ударе сердца.
Легкие, должно быть, наполнились кровью. Он ощущал ее медный запах и металлический соленый вкус.
Он закашлялся, выплюнул кровь на древко и свои руки, древко обхватившие. Упал на колени. Поднялся.
– Скажем так, копье Одина, – произнес ван Дикен. – Ясеневое. Властелина воронов и повешенных, друга людей. Что-то вроде тебя. Но ты опоздал. Рагнарёк уже случился. Сумерки богов были на прошлой неделе. Теперь – рассвет новой эры.
Драккайнен, хрипя, сделал с усилием шаг в сторону ван Дикена, но тот аккуратно его отодвинул.
– Знаешь что? Мне не нравится, что тебе осталось две-три минуты агонии. Да и к тому же часть этого времени – без сознания. Немного продлим. Прими это как подарок.
Ван Дикен взял лицо Драккайнена в свои ладони и немного приподнял его, после чего сложил губы трубочкой и издал тихий свист. Странник схватил его за запястья, щерясь пурпурными зубами, как умирающий волк.
А потом закашлялся снова, фыркая кровью, и отпустил руки ван Дикена, оставляя на них красные полосы.
– Ну вот, – сказал ван Дикен. – Теперь иди домой. Иди, если сумеешь. Сразу ты не умрешь. Еще немного. Дай мне порадоваться.
* * *
Я умираю.
И все же иду.
Чувствую это. Чувствую этот проклятый железный прут в себе; как он проходит между ребрами, пробивает перикард и прокалывает легкие, как вылезает через эс-образную трещину на лопатке.
Не знаю, почему я до сих пор жив. И почему иду.
Это начинается от ног. Они отсутствуют. Даже не холод, а словно бы исчезли. Словно бы я сам исчезаю, сантиметр за сантиметром. Исчезают мои ноги, исчезают охватывающие древко пальцы. Весь я стану так исчезать, растворяться в темноте, до самых глаз. Они исчезнут последними.
Собственно, я не боюсь. Не знаю почему. Тону в боли и не боюсь. И все еще иду.
Падаю, встаю.
И иду.
Но не боюсь.
Мне лишь жалко. Неба, утреннего света, бульваров, губ девушки, полета птицы. Тех, кого я люблю. Боже, мне так жаль! Мама…
Будь, Боже. Будь на той стороне. Я так далеко…
Я на другом конце космоса.
Найдешь ли меня здесь?
Я иду.
Отчего так долго?
Я вижу траву под ногами, вижу все перечеркнутым, забрызганным древком.
Ноги у меня деревенеют, и все же я иду. Как это возможно, что сердце мое все еще работает? Каким образом заполненные кровью, разорванные легкие все еще качают воздух?
Шаг за шагом.
Я иду.
И понимаю, что, должно быть, начинаю терять зрение: руки мои выглядят странно. Кожа делается серо-серебристой; ничего странного, но кажется мне, что пальцы, которыми я обхватил древко, становятся все длиннее.
Я иду.
Поднимаю одну руку к глазам и вижу, что они вправду стали длиннее. И что средний палец расщепился надвое.
Ноги у меня словно колоды, я все хуже их ощущаю. Делаю шаги, но неуверенно, как идя на ходулях.
Еще пара шагов. Еще чуточку.
Уже не держусь за древко, потому что мои пальцы спутались. Кожа уже не просто серо-серебристая: она облазит длинными полосами, как кора ясеня. Пальцы и руки все длиннее. Кончиками пальцев я дотрагиваюсь до земли.
И ноги мои пухнут. Неподвижные и толстые, словно колоды.
Как стволы.
Я не могу идти дальше, останавливаюсь.
Теперь я упаду, и все закончится.
Но не падаю. Слышу треск и хочу увидеть, что оно, но не могу пошевелить головой. Смотрю краешком глаза и вижу, что это разорванная одежда лежит вокруг ствола. Моего ствола.
С гладкой серебристой корой, как у ясеня.
Я – ясень.
Мировой ясень, словно Иггдрасиль.
Вижу, как торчащее из моей груди копье выбрасывает маленькие веточки, как руки мои растут и удлиняются.
Дерево.
Я становлюсь деревом.
Как Дюваль.
Кто меня срубит? Сумею ли я передать – KILL ME – одной веткой?
Боже, я становлюсь деревом.
Хребет мой внезапно распрямляется и деревенеет, странная судорога задирает руки вверх: руки, которые становятся ветвями.
На плечо мое садится ворон. Мой ворон.
– Невермор, – каркает ворон, сидящий на моем плече. – Никогда!
Я кричу, хочу кричать, но слышу, что крика уже нет. Из моего одеревеневшего горла не вырывается ни звука.
Только шум листьев.
Конец первого тома
Примечания
1
Цитаты из песен «Старшей Эдды» даны в переводе А. И. Корсуна.
(обратно)2
Приставку Лондон- к ирландскому городу Дерри своим указом добавил Яков I в XVII веке. Ирландские националисты поныне настаивают на названии Дерри – в отличие от юнионистов, сторонников политического союза с Великобританией, использующих название Лондондерри
(обратно)

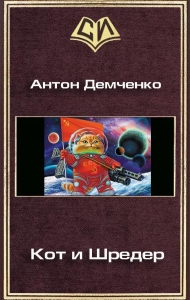
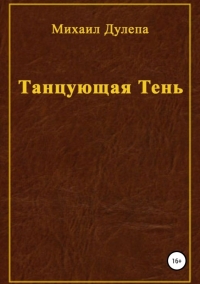



Комментарии к книге «Ночной Странник», Ярослав Гжендович
Всего 0 комментариев