Роман Злотников Элита элит. Кадры решают всё
1
Корпус крейсера мерно сотрясался от одновременных залпов множества орудий. Где-то там, далеко внизу, сейчас творился настоящий ад, в котором каждую секунду сгорали тысячи и десятки тысяч жизней. Такая большая цифра получалась потому, что вместе с крейсером нашего батальона по наземным целям работало еще почти полторы сотни крейсеров третьего, четвертого и нашего, седьмого, гвардейских корпусов. Так что десантные силы остатков шести экспедиционных флотов К’Соргов, стянутые на Тамолею Цируту, после того, как их выбили со всех остальных планет, заселенных только или преимущественно людьми, в настоящий момент чувствовали себя куском мяса в мясорубке. Ибо прицельно-навигационное оборудование гвардейских крейсеров даже с тех высот, где они находились, способно было не только различить каждую отдельную травинку на поверхности планеты, но и засечь любой источник энергии размером с батарейку для пальчикового фонарика на глубине сотни метров под поверхностью. Так что К’Соргам сейчас приходилось очень туго. Но они не собирались сдаваться. Тем более что часть их позиций оказалась очень хорошо прикрыта от нашего огня. Причем самой лучшей из всех имеющихся броней – заложниками. А это означало, что примерно через пятнадцать минут обстрел прекратится, и монады нашего батальона устремятся вниз, на поверхность. Вследствие чего у К’Соргов появится шанс устроить нам ничуть не меньший ад.
Тамолея Цирута была независимым окраинным миром, еще не так давно являющимся значимым членом Содружества Свободных Миров – мелкого недоразумения, включавшего в себя четыре системы и пять обитаемых планет. Впрочем, таковых здесь, на окраинах человеческого ареала расселения было большинство. Причем все они, поголовно, носили столь же претенциозные и помпезные названия. И так бы и пребывать ей в безвестности и далее, но… именно ее К’Сорги выбрали в качестве и первого объекта атаки, и планеты, на которой они решили устроить свою передовую базу. Именно поэтому, когда эти Неразумные (несмотря на то, что в каталоге-классификаторе они относились к разделу «разумные виды»), получив по зубам от Империи, покатились обратно, остатки шести экспедиционных флотов, которые были выбиты с других захваченных планет, но не уничтожены полностью, оказались стянуты на Тамолею Цируту. Эту планету оккупанты удерживали дольше всего и потому сумели укрепить ее лучше любой другой.
Это было мое первое боевое десантирование. Я вообще только семь месяцев назад стал полноправным гвардейцем, перейдя из кандидатов в собственно Гвардию, то есть в ее штатный состав. И, в связи с этим, у меня, естественно, родился тщательно лелеемый план взять месяца два отпуска, во время которых в удовольствие попутешествовать. Оклад гвардейцам был положен не очень большой, зато все наши перемещения император оплачивал из своего кармана. Так что много путешествовать было в традициях Гвардии. Но… не срослось. Потому что именно в тот день, когда я подал рапорт на отпуск, К’Сорги решили снова, так сказать, пощупать человечество за вымя. И в этот раз подготовились к данному мероприятию куда лучше, чем в прошлый. Потому что сейчас в человеческий космос вторглось сразу одиннадцать экспедиционных флотов. Причем атаковали они отнюдь не Империю, а окраинные образования (язык не поворачивается назвать их государствами), большинство из которых включало в себя всего по одной планете, а самое большое – Народная демократическая республика Миры свободы – всего восемь. Так что уже через полгода К’Сорги захватили двадцать семь миров, населенных преимущественно людьми (преимущественно, потому что население окраинных миров – такая солянка). Впрочем, это было вполне объяснимо. По уровню технологического развития К’Сорги относились к поколению 7А, то есть опережали окраинные миры ареала расселения человечества как минимум на одно, а кое-какие и на пару поколений, а десантный наряд стандартного экспедиционного флота этой расы насчитывал более двадцати миллионов особей. При этом территориальные силы обороны большинства окраинных планет не превышали миллиона человек, и вооружены они были соответственно уровню технологического развития той планеты, которую они обороняли. Ах да, было еще и так называемое ополчение – охотники, трапперы, поселенцы дальних кордонов, да и просто горожане, любящие пострелять, объединенные в стрелковые клубы и владеющие теми или иными стрелковыми комплексами – от древнейших пороховых до вполне себе современных импульсных или гравиконцентратных. Короче, «свободные люди, взявшие в руки оружие, чтобы защитить свою свободу»…
Я вообще поражаюсь, насколько в обществах, которыми управляют и манипулируют с помощью «демократического» пула управленческих технологий, модно использовать прилагательное «свободный». Нет, «народный» или «демократический» используется тоже весьма широко, но «свободный» – это просто какой-то фетиш. Чуть ли не треть очень жестко управляемых олигархией приграничных лимитрофов имеет в своем названии слово «свободный». Содружество Свободных Миров, Народная демократическая республика Миры свободы, Свободная демократическая республика Обол, Союз свободных граждан планеты Квея – перечислять замучаешься!..
Так вот, были еще и ополченцы. На разных планетах их число составляло от одного до семи процентов населения, что для Тамолеи Цируты составляло, например, около двух с половиной миллионов человек. Их уничтожили практически молниеносно. Ну да, боевой особи К’Соргов в полном оснащении, включенной в полноценную командную сеть, даже тысяча-другая подобных, с позволения сказать, «бойцов», облаченных в гражданский «камуфляж» и оснащенных примитивными ручными комплексами, была только смазкой для жвал. Так что первое время вторжение К’Соргов напоминало парадный марш.
Кто знает, возможно, остановись К’Сорги на окраинах – им удалось бы какое-то время повластвовать на этих планетах. Вряд ли большое. Несмотря на принцип Империи защищать только своих, совершенно ясно, что оставлять под властью враждебной человечеству расы столько заселенных людьми планет, предоставляя этой расе практически неограниченные возможности по изучению противника – его физиологии, соционики, типа и особенностей мышления и так далее, равнозначно пилению сука, на котором сидишь. Так что император точно нашел бы причину, чтобы вышвырнуть К’Соргов обратно. Но какое-то время у них было бы. Однако после того как им удалось так легко захватить почти три десятка заселенных людьми планет, К’Сорги почувствовали себя круче вареных яиц. И очередной раз совершили свою самую большую ошибку – атаковали планеты Империи.
«До выброса четыре минуты!» – негромко раздалось из динамиков. Я покосился на соседей. Все пока сидели с открытыми забралами и деактивированными латами. На сей раз доставку нас на планету должны были осуществлять десантные челноки, которые, после сброса бойцов, брали на себя роль артиллерийских платформ поддержки, так что активировать боевые латы пока смысла не было. Незачем зря гробить ресурс… Прямо напротив меня, подремывая, привалился к борту Кра Эмерли, великий актер, комик, по слухам получивший за последнюю роль около восьмидесяти миллионов. Рядом с ним сосредоточенно рылся в ГИ-сети сеньор Эклауилио Веласкес, председатель Совета директоров и основной владелец «Веласкес системас индастриалес», входящей в первую двадцатку крупнейших корпораций Империи. Он торчал в сети каждую свободную минуту, утверждая, что его время стоит слишком дорого, чтобы тратить его на пустяки. Когда я впервые узнал кто он такой, то пару суток ходил под впечатлением. Нет, всем известно, что гвардейцы – элита империи, но на кой черт идти в рядовые гвардейцы человеку, стоящему более пятисот миллиардов?! Впрочем, когда я собрался с духом и спросил его об этом, Веласкес на пять минут вынырнул из сети и усмехнулся:
– Не понимаешь?
– Нет, – совершенно искренне мотнул я головой.
– Все очень просто, – спокойно пояснил один из самых богатых людей человечества. – Для того чтобы стать командиром гвардии, надо посвятить ей жизнь. А я слишком люблю то дело, которым занимаюсь, чтобы уделять чему-то еще большую часть своего времени. Поэтому я был и буду рядовым гвардейцем.
Он замолчал и окинул мою еще более озадаченную физиономию насмешливым взглядом. Озадаченную, потому что после его слов мне стало еще более непонятно, что он вообще делает в гвардии. Если ему так нравится заниматься бизнесом – занимался бы им. Ну вот никогда не поверю, что человеку с таким уровнем доходов и связей требовался еще и официальный статус гвардейца. У него и так до хрена влияния. Или я чего-то не понимаю?.. Как выяснилось – да, не понимаю.
– А в гвардии я потому, что считаю: я достоин быть элитой элит. Но это невозможно, если не служишь. И дело тут не только в том, что так устроено в Империи, где именно гвардейцы не только считаются, но и по-настоящему являются элитой элит. Это всего лишь констатация реальности. Реальность же состоит в том, что любая другая элита – великие артисты, гениальные инженеры, уникальные программисты, талантливейшие финансисты, спортсмены, промышленники и так далее, могут быть наняты. Причем откуда угодно – из другого народа, с соседней планеты, из чужой страны. Но элита высшей категории, то есть элита элит или знать, – может быть только создана, воспитана, выращена внутри самого государства. И создана она может быть только через служение. Поэтому я здесь.
– А… если вас убьют?
– Тебя, кандидат, – снова усмехнулся Эклауилио. – Тебя. Ты уже оттрубил в нашей монаде больше года (этот разговор состоялся почти полтора года назад). И, как мне кажется, имеешь все шансы стать полноправным гвардейцем. Так что пора перейти на «ты». Что же касается твоего вопроса… – он задумался. – Ну, во-первых, убить гвардейца очень и очень непросто. А, во-вторых – за все надо платить. В том числе и за принадлежность к элите элит. То, что достается бесплатно – иллюзорно, и даже не заметишь, как оно утечет сквозь пальцы. Вот, например, ты интересовался тем, сколько людей, ставших миллионерами в результате выигрыша в лотерею, осталось таковыми спустя хотя бы пять лет после выигрыша?
– Нет, – мотнул я головой.
– Ноль, – жестко усмехнувшись, ответил сеньор Веласкес[1]. А затем продолжил: – К тому же, опасность погибнуть – тоже фильтр. И эта опасность отпугнет от гвардии себялюбивых, циничных, жадных и малодушных. Империи нужна здоровая элита. А то, что при этом погибнет какая-то часть стойких, честных и талантливых – куда меньшее зло для Империи, чем элита элит, состоящая из этих самых себялюбивых, циничных, жадных и малодушных. Что же касается конкретно меня… – он на мгновение замолчал, качнул головой, и закончил, как припечатал: – Я – имперец. И если моя гибель поможет Империи продлить свое существование хотя бы на год – так тому и быть. Империя – главное наследство, которое я могу и должен передать моим детям. А «Веласкес системас индастриалес» – это так… семейная скобяная лавка.
Он погиб там, на Тамолее Цируте. Как и Кра Эмерли, и Жардин Семеркин, талантливый биолог, открывший целый подкласс двоякодышащих растений, и Микола Жовтний, чрезвычайно одаренный кутюрье, только за четыре месяца до десанта на Тамолею возглавивший модный дом «Плесси», один из трех крупнейших модных домов Империи, и кандидат в Гвардию Герхард Циммерман, на тот момент просто весьма одаренный инженер, только полгода назад с отличием окончивший Цюрихскую высшую техническую школу. Кем он мог бы стать? Кто его знает… Но уж точно не унылой серой посредственностью. Но он так же заплатил своей жизнью за то, чтобы в Империи по-прежнему была здоровая элита… И вообще седьмой гвардейский корпус понес на Тамалее Цируте самые большие потери за всю свою историю. Но именно на этой планете были перемолоты остатки сил вторжения К’Соргов. Так что за следующие одиннадцать месяцев объединенные вооруженные силы Империи сумели продвинуться до их планеты-столицы…
* * *
Я открыл глаза и несколько мгновений прислушивался. В землянке стояла полная тишина, нарушаемая только легким сопением Нечипоренко, прикорнувшего в углу, рядом с телефонным аппаратом. Он спокойно дрых, не опасаясь случайно пропустить звонок, потому что хитрый хохол умудрился примотать телефонную трубку к своей голове медицинским бинтом. Я несколько мгновений полежал, пытаясь понять, что же меня разбудило. Причем основательно, сон как рукой сняло. Но так и не понял. Поэтому я откинул шинель, которой укрывался, сел, засунул руку под нары, нащупал там сапоги с намотанными вокруг голенищ портянками и принялся тихо обуваться. Раз уж все равно не спится – стоит выйти на воздух, подышать, послушать…
Выбравшись из землянки, я некоторое время постоял, прислушиваясь и осматриваясь по сторонам, а затем вздохнул и, прикрыв глаза, попытался напрячь все органы чувств и… ну… не совсем органы. Пару мгновений ничего не происходило, а затем… я широко раскрыл глаза, усмехнулся и, развернувшись, снова нырнул в землянку.
– Нечипоренко!
– Ась! – рядовой испуганно вздрогнул и заморгал сонными глазами. – Товарищ капитан, я тут трохи…
Я оборвал его испуганное бормотание коротким жестом.
– Вот что – давай, буди всех командиров. Пусть поднимают личный состав и организуют завтрак. А сами, как поедят, – ко мне. Минут через сорок-пятьдесят. А я пока сбегаю в штаб корпуса.
– Так точно, товарищ капитан, – обрадованный тем, что не получил вполне заслуженный нагоняй (а как вы думали – за сон на посту… ну ладно, на дежурстве, в военное время можно и под трибунал пойти), Нечипоренко принялся одной рукой споро разматывать бинт, а второй ухватился за рукоять индуктора. Я же развернулся и вышел из землянки.
До штаба корпуса я добрался минут через двенадцать. Мой батальон дислоцировался на опушке леса, со всех сторон окружившего деревеньку Масенево, в которой и размещалось все корпусное управление – то есть штаб, тыл, политуправление, особый отдел и остальные службы. Кроме того, на противоположной стороне деревеньки располагался корпусной полевой госпиталь, куда мои подчиненные после передислокации батальона сюда, в Масенево, поближе к штабу корпуса (то есть всю последнюю неделю), регулярно бегали «женихаться». Хотя все удивлялись, как у них еще силы-то остаются после нагрузок, которые я им обеспечивал.
Часовой у штаба бдел. Относительно. То есть он не спал и даже почти не дремал, и на стену тоже опирался очень слегка. Но полноценно исполнять обязанности часового в таком состоянии он, конечно, не мог. Хотя даже если бы он исполнял их полностью по уставу, для меня это ничего бы не изменило. Для любого гвардейца абсолютно одинаково, спит или нет одиночный человек, не освоивший даже первую степень антропрогрессии. С ним можно делать все что угодно – можно убить, можно захватить, можно просто игнорировать. Но это был не враг, поэтому я ограничился минимальным воздействием – рывком приблизился к часовому и, прежде чем он успел осознать, что кто-то внезапно возник прямо рядом с ним, легко стукнул пальцем в точку под основание черепа. После чего спокойно взбежал по ступенькам на широкое крыльцо деревенской школы, в которой и размещался корпусной штаб…
Нет, можно было проникнуть в штаб и обычным способом, так сказать, по уставу, но это означало бы вызывать начкара, объяснить ему, зачем мне понадобилось ни свет ни заря тревожить генерала, затем все то же самое объяснить дежурному по штабу, потом, возможно, начальнику штаба и лишь после этого меня, скорее всего, допустят пред светлые очи комкора. А времени не было от слова «совсем». Судя по тому, что я смог ощутить – немцы начнут с рассветом. И хорошо бы нам к тому времени не только проснуться, но и хоть как-то подготовится. Хоть как-то, потому что хорошо подготовиться мы просто не могли. За время, пока длилось затишье, корпус немного пополнили людьми и вооружением, вследствие чего боеспособность он, конечно, восстановил, но – весьма относительно. Все равно в подразделениях личного состава было дай бог на две трети от штата, с вооружением так же все обстояло далеко не радужно, особенно с тяжелым, а уж о боевой слаженности говорить вообще не приходилось. Ну что можно сделать за неделю-полторы? Собрать отделение, взвод, роту? Даже насчет отделения – не уверен. Тем более с помощью используемых здесь методик и учитывая уровень подготовки самих командиров.
Впрочем, в своем батальоне я все-таки что-то сделать сумел. Хотя, с другой стороны, и пополнения у меня было, дай бог, процентов двадцать, причем сразу же попавших в жесткие руки моих ветеранов… А что? Только так их и стоит называть. На общем фоне мои ребята смотрятся ой как грозно. И не зря: в конце концов, мы – единственное подразделение РККА, которому в этой войне массово сдавались немцы. О других я пока нигде не читал и не слышал. А вот о нашем батальоне уже не только писали в армейской газете, но и репортаж был по радио. Сам репортаж – так себе, нечто типа: «Умело бьют врага бойцы Н-ского отдельного батальона под командованием капитана Куницына. За время боевых действий в тылу врага батальон уничтожил обалдеть сколько танков и самоходных орудий, умереть не встать сколько солдат противника и просто охренеть сколько пушек. Кроме того, подорвано опупеть сколько мостов и убиться б землю сколько складов с оружием, боеприпасами и военным снаряжением…». Вот только склады эти почти все как один – бывшие наши. Да и остальные успехи, по моему мнению, выглядят таковыми только на фоне неудач всех остальных…
Комкор спал. Ординарец тоже, но его я поднял с лежанки недрогнувшей рукой. Мордатый младший сержант вскинулся было спросонья, но, разглядев, кто его сдернул с постели, тут же притих и забормотал виновато:
– Так это, спит он, товарищ капитан… Спит товарищ генерал-то… За полночь лег.
– Поднимай, пора, – оборвал я его сбивчивую речь и вышел на улицу. Того, что этот сержант не отреагирует на распоряжение какого-то левого комбата, я не боялся. Сложилась у меня тут кое-какая репутация, позволяющая мне в любое время дня и ночи и по любому вопросу напрямую заходить как к комкору, так и ко всем нижестоящим начальникам, начиная от начальника штаба корпуса и заканчивая последним начальником службы корпусного управления. Это не означало, что все мои просьбы и требования принимались к немедленному исполнению, отнюдь нет. Но игнорировать меня после пары-тройки случаев уже никто не пытался.
Часовой, уже оправившийся от моего легкого удара, удивленно уставился на меня, не понимая, как это я мог появиться изнутри штаба. Впрочем, недоумение быстро ушло. Кто меня знает – может, я прибыл в штаб в предыдущую смену или вообще с вечера тут заночевал… Удар в ту точку никакого особенного вреда прямо не наносит, но, если этот удар нанесен правильно и точно – человек на пару мгновений просто выпадает из реальности. Не знаю точно, что кому кажется – кого-то может просто замутить, у кого-то на несколько мгновений может закружиться голова, а у кого-то, возможно, дыханье сдавит и в глазах звездочки появятся. Но через пару мгновений все проходит. А вот что в эти пару мгновений творится рядом с ним – человек не воспринимает, поскольку в этот момент полностью сосредоточен на своих ощущениях. И то, что с ним творилось за пару мгновений до этого, как он считает, приступа, тоже помнится как в тумане. То есть – то ли было, то ли это просто глюк. Так что даже если часовой за мгновение до того, как я ткнул ему пальцем под основание черепа, и успел меня идентифицировать, сейчас он об этом, скорее всего, не помнил. Или считал, что ему просто почудилось. Ибо будь я каким-то образом причастен к тому, что ему стало плохо, – разве ж стоял бы я так спокойно на крылечке, глядя на звезды?
Я же, пока еще было некоторое время, решил провести ревизию того, чего мне удалось достигнуть за то время, что прошло с момента прорыва моего батальона через линию фронта. В принципе, я провел это время довольно продуктивно. Во-первых, я… учился. Секретная часть штаба корпуса оказалась для меня настоящей «пещерой сокровищ». Приказы, наставления, руководства, боевые уставы, директивы и распоряжения, технические справочники и обзоры, секретные и несекретные военные журналы, с которыми я получил возможность ознакомиться, дали мне такой объем информации, что осваивать ее, проводить анализ и выстраивать логические цепочки предстоит еще месяца полтора. А то и больше. Все зависит от того, сколько времени я смогу выделить для погружения в состояние разделенного сознания. Впрочем, судя по тому, что меня сегодня разбудило, в ближайшие дни этого времени у меня будет очень мало… Но на чисто армейской информации я не остановился – я еще основательно прошерстил и школьную библиотеку: учебники, подшивки газет и журналов, справочники, таблицы, методички и тому подобное… Так что я читал все, до чего мог дотянуться – и открытые источники, и ДСП[2], и секретные. Ну, те, до которых меня допустили. Тем более что секретная часть располагалась именно в помещении школьной библиотеки. А кроме того, важнейшим источником информации были и сами люди. Разные – от офицеров управления корпуса до ездовых второго разряда, от госпитальных санитарок до местных колхозников. Вступать в долгие разговоры с людьми я уже не боялся, потому что усвоенной информации было вполне достаточно для того, чтобы где надо – вздохнуть, где надо – поддакнуть, а где надо – сокрушенно произнести что-то типа: «Как я вас понимаю…». А этого в девяносто девяти случаях из ста вполне достаточно для того, чтобы люди сами рассказали тебе все, что ты хочешь узнать… Так что все это время и каждую свободную минуту я жадно поглощал информацию.
Во-вторых, я учил. Учил своих бойцов, учил пополнение, учил командиров подразделений и… командиров из штаба корпуса. Правда, последних исподволь: то фразочку брошу, то, «выйдя в туалет», оставлю на столе карту, «поднятую»[3] по стандартам тактических планшетов гвардии, а потом пару часов объясняю, что означают те или иные значки и пиктограммы и для чего я их нанес. Или полчаса проторчу у школьной доски (а они здесь, почитай, в каждом кабинете – школа же), выписывая вполне себе школьные формулы, только с совсем не школьными переменными: скорострельностью оружия и плотностью огня на различных дистанциях, диаметрами овалов рассеивания и их смещением в процессе разогрева стволов вследствие интенсивной стрельбы, углами секторов наведения орудий и тому подобным, после чего снова объясняю. Вообще, для меня было шоком то, как мало местные командиры считают. И как широко здесь используются весьма однообразные тактические шаблоны. И то, что здесь вообще не используют такие базовые для меня понятия, как коэффициент эффективности, или там, множитель доступности. Более того, даже сами эти понятия большинству пришлось объяснять не раз и не два. А кое-кто так до сих пор и не понял… Но комкор и большинство офицеров штаба, в конце концов, смогли-таки разобраться. И даже заставили меня провести занятия по тому, что они назвали «боевыми тактическими расчетами» не только для командиров штаба, но и для командиров соединений и частей корпуса, которых согнали на однодневные сборы. Не скажу, что исключительно ради моего занятия: политотдел, например, успел провести корпусную партийную конференцию, а комкор еще и двухчасовое совещание по боевому планированию. Но судя по тому, какими озадаченными выходили с моего занятия командиры (и каким довольным выглядел при этом комкор, тихо просидевший на задней парте) – оно точно было одним из, так сказать, «гвоздей» мероприятия…
Ну и, в-третьих, я планомерно готовил свой выход на более высокий уровень. Не сейчас, нет. Чуть погодя. Ну, когда все мои предложения – от нестандартных методик подготовки рядового и командного состава до тех же «боевых тактических расчетов» – будут взвешены, оценены и доложены «наверх». Где, в свою очередь, их так же взвесят и оценят, а потом скрупулезно сравнят боевую эффективность моего подразделения и пусть и не подобных (таковых здесь нет и пока им точно неоткуда появиться), но хотя бы более-менее успешных местных. И сделают соответствующие выводы. Вот тогда и…
– Чего сам не спишь и людям не даешь? – хрипло спросил меня генерал, появляясь на крыльце. Я был готов к его появлению, поскольку слышал, как скрипели половицы и гремел в сенях рукомойник, поэтому просто развернулся, отдал честь и протянул вперед руку с уже приготовленной зажигалкой. Комкор недоуменно застыл, уставившись на неожиданно возникший перед его носом огонек, потом хмыкнул и потянулся к нему уже приготовленной в руке папироской. Затянулся. И убрал свою зажигалку в карман.
– Все фокусничаешь, Куницын, – буркнул он, затягиваясь, и, уже, считай, традиционно, продолжил: – И откуда только ты такой взялся?
– Издалека, товарищ генерал, – так же традиционно ответил я. – Отсюда не видно.
Генерал затянулся, пыхнул дымом и снова спросил:
– Так чего будил-то?
Я продолжал молча стоять перед ним. Комкор покосился на часового, слегка скривился, быстро затянулся еще пару раз и отшвырнул папиросу.
– Ладно, пошли внутрь.
В штабе уже все давно привыкли к тому, что я и сам неукоснительно соблюдаю «Требования к соблюдению режима секретности в служебном и частном общении» и того же добиваюсь от всех своих собеседников, невзирая на их должности и звания. Впрочем, сами «Требования…» никто из местных, естественно, в глаза не видел, а все, что они из них знали, услышали от меня. Но не согласиться с тем, что они вполне разумны и актуальны, было невозможно. Тем более что кое-какие похожие документы и инструкции имелись и в этой армии.
– Ну?
– Немцы готовятся к атаке, – спокойно произнес я.
– Где? – генерал подался вперед. – У нас? Когда? Кто доложил?
– Я.
– Что ты?
– Я – доложил. Вам. Только что.
Комкор воткнул в меня напряженный взгляд.
– Ты… ты послал разведку? Почему я не знаю?
Я мотнул головой.
– Нет. Я не посылал никакой разведки. Просто… когда очень большое количество людей отчего-то просыпается глухой ночью и приходит в движение – это странно. А на войне еще и опасно. Особенно если это движение на стороне противника, – я сделал короткую паузу, и чуть подался вперед, акцентируя внимание генерала на своих следующих словах, а затем произнес чуть громче, чем ранее: – Я проснулся от того, что почувствовал, как в нескольких километрах от нас внезапно проснулось и пришло в движение несколько десятков тысяч человек. Я умею это чувствовать. Не всегда. Чаще ночью, когда вокруг меня все спят, а на другой стороне вот так сразу много проснулось. И не очень далеко. Но это зависит от того, сколько там внезапно проснулось. Десяток могу почувствовать в паре сотен метров, тысячу – уже за километр. Но только, опять-таки, если вокруг меня не будет бодрствующих. Причем желательно не только людей, но и вообще живых существ – животных, птиц…
Генерал несколько мгновений сверлил меня взглядом, а затем тихо спросил:
– И где?
Я пожал плечами.
– Настолько точно я не чувствую. Хотя… наибольшее скопление где-то в полосе сто тридцать седьмой дивизии. Но утверждать точно, что удар наносится именно там, – не возьмусь. Может быть, там просто сосредоточены тыловые службы наступающей группировки. Впрочем, в полосе Гришина – лучшие дороги…
Я замолчал. Комкор молча достал из кармана пачку папирос, выудил одну, потом покосился на меня и просто покрутил папиросу в пальцах. Потом скрипнул зубами и глухо спросил:
– Кто ты такой, капитан?
Я молча смотрел на него. На этот вопрос я буду отвечать гораздо позже. И не ему. Хотя генерал отчаянно хотел получить ответ на этот вопрос. И боялся. После той истории с капитаном НКВД Бушмановым он некоторое время опасался со мной общаться. Как, впрочем, и все остальные, кто был в курсе этой истории. Но потом, насмотревшись на тренировки моих ребят, сменил, так сказать, гнев на милость и начал задавать осторожные вопросы: а почему? а зачем? а как это? а где такому учат?
Впрочем, эти вопросы волновали не только командира корпуса, но и большинство других командиров (да и не только их, а вообще всех – от ездовых службы тыла до санитарок полевого госпиталя), среди которых был и оставленный майором Буббиковым при управлении корпуса «на усиление» старший лейтенант Коломиец. Но он особенно ко мне не лез, предпочитая маячить поодаль и не задавать особенных вопросов – то ли оказался умнее Бушманова, то ли просто получил такие инструкции. Впрочем, я не сомневался, что материала на меня у него собрано уже море. Но это было в моих интересах. Если я собирался помочь государству, на стороне которого так неожиданно для себя оказался, выиграть эту войну с минимальными, исходя из той ситуации, в которой оно оказалось, потерями и с максимальными приобретениями и получить тем самым больше возможностей для исполнения своего Долга и Воли императора – мне не стоило особенно долго задерживаться в должности командира батальона. Надо было двигаться выше. Но не сразу, а чуть погодя. А если точнее – после еще одной боевой операции. Надо, как я уже упоминал, дать местным еще немного времени, чтобы оценить все, что я уже тут «напрогрессорствовал» в самом главном для победы в войне (да и не только в войне, а в любой области человеческой деятельности) – методиках подготовки персонала (в данном случае боевой подготовки), а также приемах и методах текущего и ситуационного управления. Судя по тому, что местный лидер в одной из своих речей заявил: «Кадры решают всё» – то, что я уже показал, непременно должны оценить. Вот и дадим им для этого немного больше времени. Ну и заодно еще и продемонстрируем результаты применения всего показанного. А в том, что результаты будут очень… м-м-м… наглядными – я не сомневался. Несмотря на то, что мой батальон вроде как считался корпусным резервом, действовать я собирался по-своему. И отдельно от всех остальных…
Ну а то, что на этот раз за моей операцией будут следить куда более тщательно, было мне на руку. Больше глаз – меньше возможностей оспорить эти результаты.
– Значит, считаешь, они начнут с рассветом? – не дождавшись ответа, снова спросил комкор. Я кивнул и поднялся со стула.
– Через сорок минут я увожу батальон в Нюшино болото.
– Что?! – комкор изумленно воззрился на меня. – Но… как?! Кто? – он побагровел. – Я запрещаю! Твой батальон – единственный резерв корпуса, и я требую…
Я вскинул руку. Генерал осекся.
– Успокойтесь, Степан Илларионович[4], я использую этот резерв наилучшим образом.
– Но… как… фронт…
– Фронт вы все равно не удержите, – спокойно произнес я. – Вернее, если мы с вами перестанем вести пустопорожние разговоры и начнем действовать, вы-то как раз сможете удержать его немного дольше, чем ваши соседи. Что, если я правильно понимаю, должно снять с вас любые обвинения. И это – хорошо. А плохо – то, что в этом случае вам придется при отступлении очень постараться, чтобы не попасть в котел. И именно этим, то есть организацией правильного отступления, я бы и посоветовал вам заняться в первую очередь. Тем более… – тут я сделал короткую паузу, окинув спокойным взглядом побагровевшего от ярости и собирающегося разразиться гневной тирадой генерала, – шанс на это у вас будет. Точно. И обеспечу вам его я.
Все-таки, признаю, я был несправедлив к комкору. Просто, я привык к куда более высоким стандартам подготовки и все меряю по ним. А если ориентироваться на местные стандарты, он хороший командир. Вот и сейчас он не стал (хотя явно было видно, что хотелось) орать на меня, бить кулаком по столу и совершать еще какие-нибудь столь популярные у местного руководства (да-да, имел честь наблюдать), но совершенно неконструктивные телодвижения, а, чуть ли не со скрипом преодолев свой душевный порыв, коротко спросил:
– Как?
– Долго рассказывать, – обрезал я дальнейшую дискуссию. – А времени нет. Просто знайте, что если вы сумеете не обрушить фронт хотя бы пару-тройку дней, повторяю – не удержать фронт, а именно не обрушить, пусть и медленно отступая – через эти пару-тройку дней давление на вас резко снизится. Ненадолго – также на два-три дня. Максимум на четыре. И вот в этот момент вы и сможете либо оторваться и отступить без потерь, либо… – я усмехнулся, – ударить куда-то в сторону, в тыл тем, кто давит на ваших соседей. А лучше всего – совместить оба этих подхода и отступить по тылам тех, кто давит ваших соседей, – после чего коротко кивнул и вышел из штаба.
2
Старший сержант Головатюк, осторожно приподнялся и, чуть прищурив глаза, всмотрелся в предрассветный сумрак. Деревенька спала. Все население – и местное, и пришлое. Хотя нет, один из пришлых все-таки не спал и маячил на ближней околице. Головатюк некоторое время настороженно вглядывался в часового, торчащего у припаркованного у крайней избы автомобиля. Судя по полностью закрытому кузову, это была автомастерская. Ну, так и подразделение, которое занимало эту деревеньку, было ремонтной ротой…
Из Нюшина болота, как именовали его местные жители, батальон выбрался около полудня. Линию фронта удалось преодолеть за три часа, из которых первые два часа пришлись на ночь и предрассветные сумерки, а последний час – на артподготовку и начало немецкой атаки. Но после этого батальон шел (или, вернее, полз) по болоту еще пять часов.
Немцы атаковали наши войска западнее. Артподготовка была не слишком долгой – минут двадцать, а потом, судя по едва различимому на таком расстоянии треску стрелкового оружия, немцы пошли в атаку. Но, как видно, не слишком удачно. Потому что уже через десять минут в партитуру боя вплелись длиннющие, до кипения воды в кожухах, очереди «Максимов», а затем в небе с той стороны послышался гул моторов СБ и устаревших поликарповских бипланов, которые как истребители уже были, считай, ни на что не годны, зато как штурмовики – самое милое дело. Не слишком большая скорость и высокая маневренность позволяли буквально брить траву над полем боя, а винтовочный калибр пулеметов, против современных немецких бомберов и истребителей уже слабоватый, против пехоты был то, что надо. Особенно если принять во внимание их сумасшедшую скорострельность[5]. Ну и бомбы либо реактивные снаряды под крылом тоже для штурмовки вполне к месту.
Головатюк в тот момент, едва расслышав уже знакомые звуки моторов самолетов, довольно заулыбался. Потому что своими ушами слышал, как перед самым началом марша, когда батальон уже вытянулся в походную колонну, к их расположению подъехал на своей «эмке» комкор и, отозвав их командира, вполголоса заговорил о чем-то с ним. Всего разговора Головатюк не услышал, но вот ответ комбата расслышать смог.
– Не знаю, товарищ генерал-майор… – задумчиво ответил тогда капитан. – Если рискнете прыгнуть через голову вышестоящего начальства – постарайтесь заранее и напрямую связаться с авиацией. Бомбовый удар или штурмовка в тот момент, когда немцы пойдут в атаку, позволят очень хорошо проредить первый эшелон. Пока немцы будут перегруппировываться, пройдет несколько часов. Так, глядишь, и удастся до вечера дотянуть. А где один день, там, может, и пару получится продержаться…
Старший сержант тогда даже возгордился. Эвон какой у них командир – генералам советы дает! И не то дорого, что дает, – Головатюк бы и сам кое-что умное сказать мог бы, спроси его мнения какой генерал. Так ведь не спрашивает никто. А вот у их командира – спрашивают. Ну да по делу и честь. Если уж по правде говорить, Головатюк до сего момента таких людей не встречал. Капитан Куницын столько знал и умел, что казался каким-то… ну, не знаю… пришельцем, что ли. С Марса, как в романе товарища Толстого. Головатюк читал его в полковой библиотеке и очень проникся. А с другой стороны – те, на Марсе, пожалуй, куда как пожиже будут. Так что как бы не с самого Солнца… Вот взять хотя бы чтение. Нет, старший сержант окончил семилетку, и читать умел вполне себе хорошо. Даже в комсомольской организации роты, ну той, старой, взял себе общественную нагрузку по обучению чтению малограмотных бойцов. А таких, почитай, больше полроты было. Но капитан Куницын, он… он не читал. То есть читал, но не как обычные люди. Он просто открывал книжку, окидывал взглядом разворот и тут же переворачивал страницу. Причем так он читал все – уставы, руководства по оружию, наставления, справочники по вооружению иностранных армий, журналы, художественные книги, газеты, сборники статей, даже «Краткий курс истории ВКП(б)». Старший сержант поначалу думал, что капитан просто пролистывает книжки, скажем, освежая в памяти уже когда-то прочитанное или, там, разыскивая нечто когда-то запомнившееся. Но нет, как показал один случай, капитан именно читал. И при этом умудрялся полностью запоминать все написанное. Именно полностью и все.
Это произошло вечером, часов в восемь. До шести часов комбат и остальные командиры находились при личном составе, организуя боевую учебу солдат и сержантов, а вот после шести капитан Куницын собирал весь командный состав в библиотеке школы, в которой разместилась секретная часть штаба корпуса. И, получив под роспись служебную литературу, уставы и наставления, а также карты, занимался с командным составом батальона. Но при этом он еще и параллельно умудрялся читать. Все, что было в библиотеке. Даст задание на работу с картой или на изучение статьи устава либо наставления, и пока они это исполняют, подтянет к себе книжку или журнал, а то и просто газету – и ну листать… то есть читать. Вот на одно из таких занятий и занесло начальника политотдела корпуса. Он зашел, махнул рукой, разрешая продолжить занятия, и присел в сторонке. А комбат как раз дал им очередное задание и, пока они над ним корпели, принялся «листать» «Краткий курс истории ВКП(б)». Начпо посмотрел-посмотрел, а потом встал и разразился длинной речью насчет того, что эту книгу надо читать вдумчиво и внимательно. Изучать. Выписывать. Капитан Куницын некоторое время молча слушал наставления начальника политотдела корпуса, но потом, похоже, ему надоела непроизводительная потеря времени (ибо все присутствующие, вместо того, чтобы выполнять заданное, вынуждены были поднять глаза на напчо и внимательно слушать его речь). Комбат молча поднялся и протянул начальнику политотдела томик «Краткого курса».
– Проверьте.
– Что?
– С любой главы, с любой строчки, – пояснил комбат. Начальник политотдела окинул капитана недоверчивым взглядом.
– То есть вы хотите сказать…
– Проверьте, – настойчиво повторил капитан.
Начпо нахмурился и решительным жестом раскрыл томик где-то в середине.
– Ну-у-у, например, глава седьмая, часть вторая…
– Часть вторая. Начало кризиса Временного правительства. Апрельская конференция большевистской партии, – негромким размеренным голосом начал капитан Куницын. – В то время как большевики готовились к дальнейшему развертыванию революции, Временное правительство продолжало творить свое противонародное дело. Восемнадцатого апреля министр иностранных дел Временного правительства Милюков заявил союзникам о «всенародном стремлении довести мировую войну до решительной победы и намерении Временного правительства вполне соблюдать обязательства, принятые по отношению к нашим союзникам».
Таким образом, Временное правительство клялось в верности царским договорам и обещало пролить еще столько народной крови, сколько потребуется империалистам для достижения «победного конца».
Девятнадцатого апреля это заявление («нота Милюкова») стало известно рабочим и солдатам. Двадцатого апреля Центральный Комитет партии большевиков призвал массы к протесту против империалистической политики Временного правительства. Двадцатого-двадцать первого апреля (третьего-четвертого мая) тысяча девятьсот семнадцатого года рабочие и солдатские массы, в количестве не менее ста тысяч человек, охваченные чувством возмущения против «ноты Милюкова», вышли на демонстрацию… Достаточно или продолжать? – поинтересовался комбат, заметив, что начпо просто впал в транс.
– И-и-и… ты-ы, м-м-м… вы всю эту книгу можете так процитировать, капитан? – сглотнув, уточнил начальник политотдела корпуса.
– Да. И еще любую из этих, – и комбат широким жестом обвел помещение школьной библиотеки, заставленное как полками с книгами, так и брезентовыми мешками с документами секретной части корпуса. – То есть, конечно, из тех, которые я уже прочитал. Но таких здесь большинство.
– Н-да-а-а, – протянул начальник политотдела и, качая головой, вышел из библиотеки. Комбат проводил его взглядом, а затем повернулся к ним, его командирам, которые ошалело уставились на своего комбата, и, усмехнувшись, произнес:
– Ну чего подвисли? Работать, работать, времени у нас – шиш да ни шиша, а изучить надо много. А то какие из вас будут командиры?..
Или, например, тот факт, что их сводный батальон не только не расформировали, но даже одобрили все назначения, которые капитан Куницын сделал еще там, за линией фронта. Его, сержанта, оставили в должности командира роты. Только повысили в звании на ступень. Ну, где это видано? А все потому, что капитан Куницын отрезал: «Этот человек подготовлен мной и именно для этой должности».
И ведь никто ни слова против не сказал. А с тем энкавэдэшником как все получилось? Ведь Головатюк уже сам уверился, что всё – впереди трибунал и штрафная рота. Если не расстрел. Ан вон как оно повернулось. Трибунал-то трибунал – но не для них, а для капитана госбезопасности[6] Бушманова. А старший лейтенант Коломиец в дела батальона особенно не лез. Нет, побеседовать с ним Головатюку все равно пришлось. Как и всем остальным. Но в отличие от беседы с Бушмановым, во время которой капитан госбезопасности все время требовал от Головатюка сведений о «предательской деятельности капитана Куницына» и не только угрожал всяческими карами, но и пару раз съездил в рожу, старший лейтенант во время беседы был совершенно корректен и не особенно въедлив. Да и сама беседа не затянулась…
Головатюк скосил глаза и бросил взгляд на все еще темную опушку. Старший лейтенант Коломиец, о котором он только что вспоминал, в настоящий момент находился где-то там. Уже когда батальон выдвинулся из Масенево в сторону болота, старший лейтенант нагнал батальон на грузовике. Причем не один. Вместе с ним из грузовика ловко выпрыгнули четыре бойца, одетые в предмет жгучей зависти всего батальона – зеленые маскхалаты. Такие пока были только и исключительно у бойцов, приданных старшему лейтенанту госбезопасности на время его прикомандирования к корпусному управлению. Даже корпусная разведка щеголяла в обычных галифе и гимнастерках. Головатюк в тот момент слегка напрягся. А ну как именно сейчас этот старший лейтенант вздумает вменить что-то комбату? И попытается его арестовать. И что тогда – стрелять?! Ну… для себя Головатюк решил, что он сам будет стрелять. Если понадобится. Командир никого из них не сдал, даже выступил против, считай, всесильного капитана государственной безопасности. Так что это будет только возвращением долгов. Да и лишаться такого командира перед самым рейдом… ты пойди кого лучше поищи. Другие-то разные тучу народа положили – а толку чуть. И соотношение потерь не в их пользу, и позиции не удержали. А вот их комбат… Но все обошлось. Коломиец вполне себе вежливо попросил разрешения присоединиться к батальону. А на вопрос комбата: «И зачем вы мне такие красивые там, за линией фронта нужны?» – столь же вежливо пояснил, что среди его подчиненных имеется радист, оснащенный экспериментальной коротковолновой радиостанцией, способной поддерживать связь с нашими штабами на расстоянии до четырехсот километров. А остальные имеют вполне подходящие специальности саперов-подрывников и снайперов-разведчиков, так что в рейде обузой точно не будут. И вот что интересно, Головатюк сразу понял, что эти пятеро увязались за их батальоном совершенно не для того, чтобы там немцев покрошить или еще как помочь батальону. Нет, их во всем батальоне интересовал только один человек – капитан Куницын. И старший сержант был совершенно уверен, что понял это не только он один. Но сам комбат даже и ухом не повел. Только еле заметно усмехнулся и кивнул, коротко бросив: «Добро́».
Нет, их командир – точно пришелец с Солнца…
Впрочем, спокойно проштурмовать немцев и отбомбиться нашим не дали. Уже минут через десять после начала налета над передним краем разгорелся воздушный бой, который, в отличие от боя наземного, с болота был отлично виден. Но долго понаблюдать за круговертью в небе не получилось, потому что надо было как можно быстрее преодолеть открытый участок болота, до которого они в тот момент как раз и добрались.
Само болото на всех картах, как советских, так и немецких, было обозначено как непроходимое, так что никаких секретов или патрулей здесь они не обнаружили. Впрочем, местные проводники говорили, что обычно болото действительно непроходимое, просто лето нынче такое сухое и жаркое[7]. Потому-то безумная идея их командира и получила шанс на осуществление. А в обычное-то лето… И потому тонкая колонна батальона осторожно хлюпала через болото по колено (а где и по пояс) в топкой грязи. Осторожно, но довольно быстро, потому что хоть грязи и хватало, но все же большую часть времени проводники вели их по не слишком топким в настоящее время местам. Правда, несколько раз приходилось падать в грязь, скрываясь от пролетавших самолетов. Впрочем, похоже, ни одного разведчика среди них не было. Скорее всего, это были «подранки», вывалившиеся из круговерти воздушного боя над передним краем и ползущие на свои аэродромы. Из-за этого пилоты были больше заняты «борьбой» со своими так и норовящими грохнуться машинами, чем рассматриванием окружающей местности. В итоге до противоположного края болота батальон сумел добраться без приключений. Хотя когда они выбрались-таки на твердую землю, видок у всех был…
Однако рассусоливать времени не было. Комбат тут же отрядил три разведгруппы, которые, наскоро сполоснувшись в застоялой болотной водице, переоделись в заранее приготовленное сухое обмундирование, переобули сапоги и споро ускакали вперед по заранее, еще на том берегу, определенным маршрутам. Остальным, у которых второго комплекта обмундирования не было (ибо большая часть наличных килограммов той самой «полной выкладки» была занята боеприпасами и продовольствием), дали полтора часа на приведение себя в порядок и чистку оружия, которое за время путешествия через болото так же было перепачкано в грязи донельзя. Прополоскав и выжав отстиранную форму, бойцы натянули ее на себя, дабы поскорее высушить теплом своего тела, и принялись приводить в порядок оружие. А комбат собрал командиров.
– Значит, так. Первый этап рейда прошел нормально. Мы прошли через линию фронта и вышли в тыл немцам в районе предполагаемой наименьшей плотности их дислокации. Здесь у них не должно быть ничего, кроме разрозненных тыловых подразделений. Теперь нам нужна развединформация. Я выслал разведгруппы к Нюшино, Подгати и Залесью. Думаю, хотя бы в одной из этих глухих деревенек будет расквартировано какое-нибудь тыловое подразделение. А может, и во всех трех. Если так – выбираем самое малочисленное. Остальные пока не трогаем, – капитан сделал паузу и окинул взглядом сидевших перед ним командиров. Все молчали. Даже старший лейтенант Коломиец. И комбат спокойно закончил: – Разведгруппы вернутся часа через четыре. К этому моменту все подразделения должны быть полностью готовы к выдвижению. Вопросы?..
Немцы оказались в Подгати и Залесье. В первой – мотоциклисты, как видно, ожидающие, пока первый эшелон наступающих войск прорвет оборону этих славянских недочеловеков, глупо противящихся неизбежному – непременной и скорой победе немецкого оружия и торжеству истинного сверхчеловека высшей, германско-арийской расы. После чего наступит их час – рвануть впереди танков и мотопехоты по этим ужасным, но, благодаря сухому лету, вполне проходимым дорогам, сбивая слабые заслоны и обходя сильные, захватывая подготовленные или еще подготавливаемые к взрыву мосты и выводя ходко идущие вслед за ними колонны танков и мотопехоты по рокадным дорогам во фланг и тыл обороняющимся русским. А вот в Залесье устроились ремонтники. И командир принял решение брать именно их. Но не сразу, а ночью, перед рассветом.
– Нам, товарищи командиры, нужны сутки на планирование и организацию, – пояснил он свое решение. – Надо понять, где мы сможем пополнить продовольствие, куда и как ударить. Надо подготовиться, приготовить немцам парочку сюрпризов, типа тех же бутылок с зажигательной смесью, рассчитать, с какой стороны произвести налет, куда отходить и как сделать так, чтобы оторваться от немцев.
– Сутки? – удивленно покачал головой Иванюшин. – Кто ж нам их даст?
– Сами возьмем, – усмехнулся командир. – Не беспокойся, политрук – сутки у нас будут. Если сможем взять немца тихо. В ножи.
И вот сейчас они и собирались взять немца. Тихо. В ножи…
Часовой поежился, поправил на плече карабин и, как-то уныло-тоскливо сгорбившись, двинулся по деревенской улице. Головатюк проводил его настороженным взглядом и уставился в темноту. Разведчики, которые должны были разобраться с часовым, скорее всего уже выдвинулись к крайним избам деревеньки. Слава богу, местных собак немцы, похоже, всех постреляли, чтобы те не крутились у них под ногами, когда солдаты забирали свои законные «млеко, сало, яйки». Так что поднять тревогу теперь было практически некому. Вследствие чего жить этому часовому остались считаные минуты… После чего боевые группы роты Головатюка должны были рассыпаться по всей деревне и взять большинство немцев, в настоящий момент крепко спящих после ударного труда на благо третьего рейха, в ножи. Иванюшинская же рота, на случай подхода к противнику подкрепления, перекрыла единственную дорогу. Впрочем, при таком соотношении сил, иванюшинские бы только мешались – его роты хватит с лихвой. Тем более что одну избу, которую определили, как место дислокации командования ремонтного подразделения, брали на себя разведчики, которых комбат натаскивал лично. Командира роты и, возможно, парочку унтеров или фельдфебелей, планировали взять живьем. При проведении рекогносцировки разведчики обнаружили полевой телефонный кабель, вследствие чего комбат решил, что кроме языка им нужны еще и люди, которые будут отвечать по телефону. Так что количество объектов атаки для роты уменьшилось еще на один… И, кстати, часового что-то уже не видно. А ведь должен бы уже вернутся обратно к автомастерской. Сняли уже, что ли?
Головатюк вытянул шею, вглядываясь в начавший светлеть сумрак. Да, сняли… Вон ноги торчат из-за колеса. А спустя еще десяток секунд вдоль по улице метнулись серые тени…
К крайней избе Головатюк подбежал к тому моменту, когда там уже все кончилось. В сенях его встретил младший сержант Танечкин, командир первого отделения второго взвода.
– Как дела?
– Все сделали, товарищ ротный, – тихо отрапортовал младший сержант. Головатюк прислушался.
– А это кто там?
– Дык новенький. Пополнение, – сообщил отделенный, и пояснил: – Блюет.
Старший сержант слегка скривился:
– А чего в избе-то?
– Ну… – Танечкин слегка смутился, – чтоб на улице не шуметь. Мало ли…
В этом была своя правда, поэтому ротный молча кивнул и выскочил на улицу.
На улице было тихо. Это означало, что им удалось-таки взять немчуру без шума, что, несмотря на всю их подготовку и боевой опыт в подобных операциях, было отнюдь не гарантировано. Всегда существует вероятность в самый неподходящий момент нарваться на кого-то поднявшегося по нужде или там хлебнуть водички, либо просто страдающего бессонницей. Но, похоже, обошлось. Головатюк еще секунд пять настороженно прислушивался, но никаких посторонних звуков слышно не было – так, легкий топот, приглушенный матерок, стук калитки… И старший сержант облегченно выдохнул.
Единственный выживший немец обнаружился в том доме, который должны были брать разведчики. Он сидел за столом, сверкая огромным, в пол-лица, фингалом, и, испуганно пялясь на комбата, что-то торопливо блеял на немецком. Головатюк окинул цепким взглядом горницу, заметив темную лужу под подоконником, на котором стоял немецкий полевой телефон, щербины на косяке, осколки глиняной посуды на полу, похоже, наскоро отодвинутые в сторону ногой, и едва заметно скривился. Да уж, похоже, разведчики, несмотря на всю их подготовку, все-таки слегка облажались. Иначе почему пленный только один?
Прямо напротив беспрерывно бормочущего немца над столом, на котором была разложена карта-склейка, склонился комбат, время от времени изредка бросая даже не говорливому фельдфебелю, а как бы в пространство, редкие уточняющие вопросы и попутно что-то помечая на карте. А у дальнего конца стола, в углу, почти скрытый тенями, молча сидел старший лейтенант Коломиец.
Что там интересного немец рассказывал, Головатюк не знал, потому как немецким языком не владел. Пока. Но изучать его он уже начал, так как комбат не так давно сказал, что знание языка своего врага дает больше возможностей ему противодействовать. После этого Головатюк отыскал в школьной библиотеке русско-немецкий словарь и начал учить из него слова. Потихоньку. По десять слов в день. Сначала по алфавиту, а потом, когда капитан застал его за этим занятием и кое-что посоветовал, уже по-другому – так, как ему посоветовал комбат. То есть выписав пять сотен наиболее нужных ему для общения с пленными немцами (а с какими еще ему придется разговаривать-то?) русских слов, и теперь заучивая их перевод на немецкий. Пока получалось заучить не очень много, но старший сержант старался.
Коломиец быстро доложил результаты боя за свою роту и вышел из избы. Комбату явно было не до него, а все приказы насчет того, чем и как надо было сейчас заняться, уже были отданы. И, поскольку операцию удалось осуществить, как и планировалось, – тихо и не встревожив немцев, – никакой корректировки они не требовали.
Следующие два часа были заполнены всяческой суетой. Сначала собрали все, нашедшиеся не только у немцев, но и вообще в деревне, стеклянные бутылки и начали заполнять их слитым с немецких грузовиков бензином. Комбат придавал зажигательным снарядам в предстоящей операции очень большое значение, потому в первую голову озаботились именно этим. Параллельно начали заниматься и трофеями. Все имеющееся оружие и боеприпасы (которых оказалось не то чтобы и много – все ж таки ремонтники, а не боевое подразделение) были собраны и увязаны во вьюки. Их потом планировалось отнести подальше в лес и устроить схрон. Кто его знает, как оно дальше повернется. А ну как пригодится… им самим, если они вдруг будут возвращаться через эту местность (хотя это, вроде как, не планировалось), или там местным. Партизанский отряд, скажем, организовать… Шанцевый инструмент был роздан местным с советом пока припрятать подальше. Ремни, сапоги, чистое нательное белье, хранившееся в одном из грузовиков, фляги, ножи и штык-ножи, часы, бинокли и все подобное снаряжение было собрано, посчитано и распределено среди личного состава. Грузовики же и остальное имущество немецкой ремонтной роты, оприходовать которое не представлялось возможным, начали готовить к уничтожению. Как и все найденное в них оборудование и инструмент, за исключением ручного, который также передали местным все с тем же советом… Для чего в лес было отправлено два взвода, с задачей заготовить необходимое количество дров, которыми потом должны были обложить грузовики и поджечь. Кроме того, была проведена ревизия всех имеющихся у немцев запасов продуктов. Немецкие сухие пайки тут же раскидали по «сидорам»[8], а все скоропортящиеся продукты пустили в общий котел.
Через два часа, выпотрошив фельдфебеля и определившись с целями, комбат вызвал командиров рот и поставил задачу на ближайшую ночь. В каждой роте было приказано сформировать по восемь диверсионных групп, которым предстояло отработать по выявленным в процессе допроса пленного тыловым объектам наступающей немецкой группировки. Наиболее важными из них комбат считал железнодорожную станцию, на которой торчал целый эшелон с боеприпасами для стрелкового оружия, танковых орудий и артиллерии, а также полевой топливный склад, который немцы разместили на территории бывшей районной МТС.
– Если сможем уничтожить даже эти два объекта – очень сильно немцев притормозим, – сказал комбат. – А уж если и большую часть остальных…
И Головатюк был с ним полностью согласен. Оставить двинувшиеся в наступление войска без горючего и боеприпасов… м-м-м, лакомая добыча. Впрочем, ни одной ротной диверсионной группы на эти объекты назначено не было. По станции должны были работать минометчики, прикрытие которых осуществляла половина разведвзвода, а на топливный склад командир нацелился сам, со второй половиной разведчиков. Ну, да и охрана на этих двух объектах, судя по тому, что рассказал фельдфебель, должна была быть довольно серьезной – не меньше роты на каждом, а на станции еще и батарея зениток. Остальные же объекты атаки представляли из себя куда менее защищенные цели – в основном тыловые и транспортные подразделения, полевые склады и тех же ремонтников. Так что диверсионные группы, вооруженные только стрелковым оружием, гранатами и десятками готовящихся сейчас бутылок с зажигательной смесью, должны были справиться с ними без особенных потерь, даже без поддержки такого мощного оружия, как минометы… или лично капитан Куницын.
К некоторому разочарованию Головатюка в этом перечне не оказалось ни одного штаба или боевого подразделения. Но чем вызвана такая несправедливость, он интересоваться не стал. Командиру виднее.
Около десяти часов утра зазвонил полевой телефон, установленный в той избе, в которой квартировало начальство немецких ремонтников. Головатюк как раз только прибыл на доклад по сформированным диверсионным группам. Сидевший рядом с телефоном фельдфебель вздрогнул и испуганно уставился на сидевшего за тем же столом, на углу которого сейчас был установлен убранный с подоконника полевой телефон, капитана Куницына. Тот кивнул на аппарат:
– Bitte schön[9].
Фельдфебель сглотнул и осторожно снял трубку.
– Ja?[10]
Из короткого разговора выяснилось, что руководство отдало приказ подготовить ремонтно-эвакуационную команду. В подразделениях первого эшелона серьезные потери боевой техники, так что как только удастся оттеснить обороняющихся унтерменшей, следует срочно приступать к эвакуации и скорейшему восстановлению подбитой техники. Фельдфебель ответил, что приказ принят к исполнению.
– Ну что ж, – задумчиво произнес комбат. – Минимум час-два у нас есть. А если наши продержатся подольше – то и поболее. Как там с обедом?
– Старшина говорит, минут через двадцать будет готов.
– Отлично. Тогда передай Иванюшину – кормите людей и укладывайте спать. Всех, кто не задействован в подготовке. И задействованных тоже – по мере того, как будут освобождаться. Вечер и ночь у нас планируются очень напряженными… да и не только они. Вполне возможно в ближайшую пару суток всем нам придется хорошо побегать и почти не спать.
Следующий звонок с ценными указаниями от немецкого командования раздался около двух часов дня. Командир как раз успел переговорить с местными, которых немцы на время своего пребывания в деревне выселили из изб в хлева и сараи, и уточнить как сведения, полученные допросом пленного фельдфебеля, так и то, чего он знать не мог – то есть состояние дорог, проходимость леса в районах расположения атакуемых объектов, пути подходов и так далее. Потом собрал командиров для постановки задачи, так что свидетелями этого разговора оказались все командиры.
Фельдфебель, несколько успокоившийся вследствие того, что его тоже покормили (ну не будут же тратить еду на того, кого собираются убить?), ринулся к трубке с таким рвением, что даже уронил ее на пол. После чего испуганно уставился на комбата как кролик на удава. Но капитан только махнул рукой, мол, не нервничай, делай порученное тебе дело хорошо – и все будет нормально. Немец облегченно выдохнул и поднес трубку к уху, после чего около минуты выслушивал то, что ему вещали. Динамик у немецкого телефона был отличным, куда лучше советского УНА-Ф-31[11], так что речь немецкого начальства была слышна.
Когда монолог начальства был, наконец, закончен, фельдфебель коротко пролаял в трубку:
– Ja, ja, natürlich, herr kapitan![12]
После чего аккуратно положил ее на аппарат и уставился на капитана испуганным взглядом. Комбат на мгновение задумался, а затем протянул руку и… резким движением оторвал провода от телефона. После чего снова сфокусировал взгляд на сидевших вокруг стола командирах подразделений и пояснил:
– Начальство нашего фельдфебеля требует выслать ремонтно-эвакуационную группу с двумя тягачами. Похоже, наши немчуру хорошо проредили, но все-таки и нас сумели оттеснить с занимаемых позиций, – капитан на пару мгновений задумался, а затем хлопнул ладонью по столу. – Что ж, первый этап будем считать законченным. Теперь надо ждать связистов и… разъяренного начальника, прибывшего выяснять, почему затребованная им эвакуационная команда так и не выдвинулась. Но я думаю, часа два у нас есть. А если сможем аккуратно перехватить связистов и прибывшего разбираться начальника – то и все четыре, – капитан Куницын сделал паузу, а потом улыбнулся. – Ну а нам больше и не нужно. Так, Головатюк!
– Я! – старший сержант едва не вскочил, вытягиваясь в струнку, но сумел удержаться и отреагировать, как положено ротному. То есть солидно.
– Твои люди сейчас в дозорах?
– Так точно! Два часа назад сменили первую роту.
– Проинструктируй их, чтобы смотрели в оба, но прибывшее начальство не трогали. Будем готовить ему встречу здесь, в деревне. Канареев!
– Я! – тут же отозвался командир разведвзвода.
– А ты вышли группу навстречу немецким связистам. Пусть прогуляются вдоль телефонного кабеля. Но недалеко. Как присмотрят местечко для засады – пусть замаскируются и подождут там. Если получится – захвати кого-нибудь для допроса. Но не рискуй. Если будут хоть какие-то сомнения в том, что сможете сделать захват тихо – просто валите всех. Сейчас намного важнее, чтобы как можно дольше все оставалось спокойно, нежели еще один язык. Понял?
– Так точно!
– И не забудь выслать пару бойцов – перекрыть немцам направление отхода. А то отойдет кто из связистов за пару минут до схватки отлить в сторонку, а ты его и упустишь.
– Обижаете, товарищ капитан… – протянул Канареев.
– Ну, смотри у меня… – капитан задумался, а потом снова повернулся к ротному-два. – У тебя кто командир первой группы? Потапов?
– Так точно!
Комбат задумчиво кивнул, похоже, не столько старшему сержанту, сколько своим мыслям.
– У тебя же одна группа в резерве?
– Так точно! – вновь повторил ротный-два.
– Передашь ей объект Потапова. А его группу оставим здесь. В засаде. Если начальство задержится и не появится до нашего отхода, они должны будут его принять по-тихому и обеспечить нам еще кое-какой временной запас. Чем позже немцы узнают, что у них в тылу появились мы, тем легче нам будет этой ночью. Так что пусть готовится. Потапова – ко мне, проинструктирую лично. Остальным – начало выдвижения через три часа. Подъем – через два. Перед выдвижением будет еще один прием пищи, а то когда в следующий раз удастся покормить людей горячим – один бог ведает. По поставленным задачам вопросы есть?
В ответ все отрицательно загомонили.
– Ну что ж, хорошо. Доведите приказ на операцию до подчиненных. И еще раз подчеркну – пусть командиры групп очень внимательно спланируют отход. Уничтожить объект – только полдела. Даже отойти от него без потерь – только три четверти. Нам нужно, чтобы после этого немцы еще и искали бы нас там, где нас на самом деле не будет. Вот тогда можно считать, что мы выполнили все наши задачи на сто процентов. Тем более что шанс у нас на это есть. И большой. Не думаю, что немцы сегодня имеют здесь, в прифронтовой полосе, специально обученные подразделения, предназначенные для поиска и задержания диверсантов. А вот через пару дней я уже не буду в этом уверен. Так что нам надо выжать максимум возможного из имеющегося у нас в данный момент временного преимущества… Ладно, свободны.
Группу из трех человек, выдвинутую для восстановления связи, разведчики приняли тихо. В итоге через два с половиной часа после последнего состоявшегося сеанса телефонной связи на лавке в штабной избе вместе с фельдфебелем-ремонтником был усажен еще и унтер-связист. Остальных разведчики в плен не брали. Новых данных связист практически не сообщил, только уточнил последние сведения по дислокации уже отмеченных на карте по итогам допроса фельдфебеля подразделений. Особых изменений пока не было. Это было объяснимо: по рассказу унтера выходило, что немцам удалось оттеснить подразделения сто пятьдесят первой дивизии с занимаемых позиций, но фронт пока прорван не был. Поэтому никакие тыловые подразделения, на которые и планировались налеты, с места пока не сдвинулись… А вот потери на данном этапе наступления уже оказались куда большими, чем ожидалось. Вышестоящее немецкое командование было сим фактом страшно раздражено и усиленно передавало это раздражение по всем доступным каналам связи, отчего осведомленность унтера и оказалась столь широкой…
Начальство же ремонтников в лице тыловика-гауптмана появилось еще через полтора часа после связистов. Как видно, так и не дождавшись ни ремонтно-эвакуационной группы, ни восстановления связи, тот решил лично отправиться поторопить подчиненных.
К тому моменту батальон уже начал выдвижение из деревни. Сигнал от секрета на дороге пришел аккурат в то время, когда большая часть батальона уже скрылась в лесу, а хвостик из пяти десятков бойцов, в основном из состава минометной батареи и комендантского взвода, все еще преодолевал выпас, располагающийся между задними дворами и опушкой леса. Головатюк, решивший остаться с группой Потапова, чтобы проконтролировать засаду и последующий отход, выскочил из избы и, проскочив огороды, громким свистом привлек внимание комбата, двигавшегося в колонне батальона вместе с комендантским взводом. Тот резко развернулся и, правильно интерпретировав жест ротного, движением руки подал сигнал «залечь». То, что произошло потом, наполнило сердце старшего сержанта гордостью за свое подразделение. Несколько десятков бойцов мгновенно упали в траву там, где стояли. Замешкалось только человека три-четыре из нового пополнения. Нет, боевой язык жестов все они также знали – зачет по нему был одним из первых среди тех, которые они сдали. Но одно дело доложить знание сигнала на зачете, а другое – суметь мгновенно отреагировать на него в боевой обстановке. Вот парни и замешкались… Ну да ничего, опыт – дело наживное. Мы научились – и эти научатся.
Так что к тому моменту, когда «кюбельваген»[13] с гауптманом, в сопровождении двух мотоциклов с коляской, похоже, приданных гауптману на случай неких непредвиденных обстоятельств, въехал в деревню, в ней ничего не показывало присутствия русских солдат. А вот признаков присутствия немецких было хоть отбавляй. Причем, все они были вполне себе безмятежными – на натянутой веревке было развешано на сушку десяток нижних рубах и четыре мундира, на дальней околице два человека, по пояс голых, но в немецких галифе и сапогах, рубили дрова и укладывали поленницу, а в распахнутых воротах одного из дворов носом на улицу стоял «Бюссинг-НАГ», занимая весь проем ворот. Водителя в кабине грузовика не было, но со двора слышался какой-то звон железа по железу и рев фельдфебеля, на чем свет стоит костерившего каких-то «безруких идиотов».
Гауптман, вылезший из кабины остановившегося «кюбельвагена», услышав эти перлы, зло сплюнул и решительным шагом двинулся к полуоткрытой калитке. А немцы на мотоциклах, до того настороженно зыркавшие по сторонам, облегченно расслабились и обменялись понимающими улыбками. Похоже, ничего серьезного, что предполагало начальство, из-за чего их экипажи оторвали от подготовки к выдвижению и отправили на сопровождение этого капитана, здесь не произошло. А вот эти толстожопые ремонтники явно нарвались на нехилую разборку. Один из пулеметчиков откинулся назад, выудил из кармана брюк пачку сигарет и что-то проорал двум «дровосекам»… А в следующее мгновение со стороны приоткрытых ставень той самой избы, возле которой они остановились, послышалось приглушенное: «Сз-тынс…» – и практически сразу же еще несколько: «Сз-тынс, сз-тынс, сз-тынс-с-с…»
Когда Головатюк, бросив самострел со спущенной тетивой, выскочил на улицу, все уже было кончено. Все четверо мотоциклистов, получив по болту, изготовленному из заточенного шомпола трехлинейки еще к моменту их первого нападения на концлагерь (ой как давно это было), были быстро добиты ножами бойцами группы Потапова. Гауптмана приняли еще раньше, сразу после того, как он вошел в калитку. Старший сержант облегченно выдохнул и утер пот.
– Ну что ж, Головатюк, – удовлетворенно произнес комбат, отчего-то оказавшийся за калиткой, в которую вошел гауптман, а не на выгоне, где его последний раз видел ротный. – Похоже, ты подарил себе и нам еще не меньше пары часов. А вот потом – жди гостей. Не думаю, что они еще раз полезут столь незначительными силами в «черную дыру», где тихо и бесследно исчезают их связисты, ремонтники, офицеры и – он окинул взглядом пару оставшихся без седоков мотоциклов – мотоциклисты. Так что мишеней для стрельбы у вас будет предостаточно. Но ты не увлекайся, постреляй – и ходу. У нас еще очень много дел, – он покосился на гауптмана и закончил: – Впрочем, я у тебя тоже еще немножко задержусь, поговорю с господином гапутманом. Может, что интересное расскажет. А ты… знаешь, что – отгоняй «Бюссинг» и «кюбельваген» с мотоциклами к остальным машинам и зажигай их. А то кто знает, может, немцы и быстрее появятся. А нашему костерку время нужно, чтобы разгореться как следует. Чтоб уж точно все собранное не смогли реанимировать никакими ремонтами – только в переплавку…
3
Полевой топливный склад охранялся из рук вон плохо, причем не только по гвардейским, но и по местным немецким меркам. Впрочем, этому было некоторое объяснение. Во-первых, даже сейчас, в три часа ночи, склад работал. У дальнего штабеля бочек[14] в настоящий момент загружалось четыре грузовика. Место погрузки было освещено двумя автомобильными фарами, запитанными от установленной на деревянные плахи под легким брезентовым навесом парочки аккумуляторов. Но даже относительную тишину это не обеспечивало, потому что света фар все равно не хватало, и загружаемые автомобили подсвечивали рабочую область еще и своими фарами. А чтобы не посадить и так уже изрядно изношенные аккумуляторы (а какими они еще могли быть у уже почти два года воюющей армии), водители не глушили моторы. Короче – сплошное нарушение техники безопасности, так сказать… Свою лепту в звуковую маскировку нашего скрытного перемещения вносили также переругивание грузчиков, вкатывающих бочки в кузова грузовиков, скрип досок и глухое буханье самих бочек. Вследствие этого двое часовых и парный патруль, ходивший вокруг легкого забора из кольев и натянутой на них колючей проволоки, являющегося единственным ограждением этого склада, оказались практически глухими и слепыми. Во всяком случае, против моих бойцов… Ну, мне хотелось так думать. А как оно на самом деле – как раз сейчас и будем проверять.
Во-вторых, и рота охраны, как выяснилось из допроса гауптмана, так же оказалось совсем не штатным охранным подразделением с соответствующим образом подготовленным личным составом, а просто маршевой ротой, придержанной здесь на время, пока все находящееся на этом полевом складе топливо не будет выдано в наступающие подразделения и части. Что, по прикидкам вышестоящих штабов, должно было произойти где-то на седьмой-девятый день наступления. После чего этот склад, по планам, должен был начать использоваться как транзитный лагерь военнопленных. А что – место освободится, колючка уже натянута, да и охрана на месте. Нет, роты для этого, конечно, уже будет многовато, но рота-то ведь маршевая. Так что большая часть личного состава будет отправлена на пополнение понесших потери боевых подразделений, а остаток в пару отделений задержится до того момента, пока сюда не перебросят охранное подразделение, hiwi[15], или просто не отберут охранников из присланного сюда же переменного контингента – то есть военнопленных[16].
Я убрал бинокль и осторожно соскользнул с ветки вниз по стволу. Итак, что мы имеем? На стороне немцев более сотни человек личного состава, вооруженных легким стрелковым оружием и, возможно, гранатами. Почему «возможно»? Так это маршевики, вряд ли им уже выдали гранаты. Да и вообще, использовать гранаты рядом с таким складом это… ну, как минимум, неразумно. Так что гранат у них, скорее всего, нет, но исходить придется из того, что они все-таки могут быть. Из этой сотни сейчас бодрствует максимум десятеро – двое часовых, парный патруль и человек шесть в бодрствующей смене караула. Ежели она есть, конечно… Плюс еще человек восемь-двенадцать копошатся у грузовиков на загрузке. Эти – непредвиденные, но как боевая сила не слишком опасны. А вот как лишние глаза, способные, пусть даже случайно, заметить что-то непривычное и поднять тревогу, могут помешать. Так что план придется слегка скорректировать, ибо терять время нельзя. Если ребята на станции (которая тут не слишком далеко) прошумят первыми, спящая сотня стволов явно перейдет в состояние неспящей, что может поставить крест на всех наших планах – в открытую бодаться с таким количеством стволов сил у нас явно маловато. Шестнадцать человек личного состава (считая нас с Кабаном), четыре пулемета (один из которых мой), семь ППД, пять СВТ, двадцать пять гранат, сорок бутылок с бензином. Всё? Нет. Еще – мозги. И это наше самое главное оружие.
– Значит, так, – начал я, отползя в кусты к остальным, на постановку боевой задачи. – Я и рядовые Шабарин, Логвинов и Ойунский тихо проникаем на территорию склада и начинаем дырявить бочки. Испортить нужно не менее десятка в каждом штабеле. Часовые в этом гаме и контрастном освещении не должны ничего увидеть, но всем приказываю – быть максимально осторожными. Остальные тихо окружают место расположения охраны и ждут. После того, как закончим с бочками, мы с Шабариным берем в ножи патруль и двигаем к часовым, а Логвинов и Ойунский занимают позиции у автомобилей и ждут начала заварушки. Если нам с Шабариным удастся так же тихо разобраться с часовыми – мы подтянемся к вам, а нет – сразу после того, как поднимется тревога, начинайте работать по грузчикам и водителям. В случае чего используйте гранаты, но особенно не увлекайтесь: здесь может так полыхнуть, что сбежать не успеем. Да и гранаты нам еще понадобятся. Все понятно? – и я обвел взглядом сидящих передо мной четырнадцать человек. Пятнадцатый сейчас находился в секрете и охранял место нашей временной дислокации. Все молча кивнули. Я мысленно усмехнулся. Да, с момента начала операции в батальоне снова и, что очень радует, сам собой, то есть безо всяких дополнительных команд начался «режим тишины».
– Тогда… вы трое, разбирайте коловратки, что мы забрали в деревне – и вперед, за мной.
Идею коловраток мне подсказал Гарбуз. Еще в той деревне, в которой мы прищучили ремонтную роту. Вот так принес в горсти и сунул под нос:
– Ось, товаришу капитан, це гарна справа.
– Что это?
– Да тож коловратки. Вам же ж бочки дырявить надоть? Ось вони и подойдуть.
Я недоуменно взял в руку несколько странную конструкцию.
– Это для металла?
– Та ни, для дерева. Но для бочек – гарно будет. Там железо дюже мягкое. Они яго возьмуть, и шуметь не придется.
В принципе, я мог бы пробить толстый металл бочки ножом или там гвоздем. Но это я. К тому же это действие совершенно точно будет слышно на достаточно большом расстоянии. А дырявить бочки выстрелами… пистолетные[17] могут и не взять, а долго палить по бочкам из винтовок – времени может не быть. А так – продырявить по-тихому заранее полсотни бочек, дабы дать возможность натечь изрядно бензину, а потом добавить из винтовок и пулеметов, да забросать в конце получившуюся… даже не лужу, а целый пруд или озеро из горючего бутылками с зажигательной смесью – никакие пожарные не потушат. Так что эта идея старшины пришлась очень в тему. Я улыбнулся:
– Спасибо, старшина. За справу и, еще больше, за инициативу. Молодец!
– Та я шо, я ж нишо, – засмущался Гарбуз. – Разрешите идти?
С бочками я закончил минут через двадцать, по уши изгваздавшись в вытекающем бензине и все время ожидая, что в следующую секунду раздастся резкий окрик: «Halt!»[18] или просто выстрел. Нет, сам я вполне контролировал обстановку, но вот насколько с этим справлялись остальные? В принципе, увидев грузовики под погрузкой, я собирался дать отбой и заняться бочками в одиночку – уж слишком много направлений, откуда может произойти обнаружение, придется контролировать. Я-то точно справлюсь, а вот остальные…
Но ведь одной из главных моих задач – причем не только этой операции, а вообще всей моей деятельности в целом – была подготовка кадров. А как их готовить, не давая им приобретать собственного, своей шкурой и нутром выстраданного опыта? Это же как с ребенком. До определенного момента ты многое делаешь за него: одеваешь, кормишь, подмываешь обкаканную попку, но чем больше он развивается, тем больше самостоятельности ему надо предоставлять. Иначе ребенок так и привыкнет к тому, что все за него делает кто-то другой – мама, папа, бабушка, няня, папин шофер или прикрепленный охранник. Ну и как он в этом случае сам сможет стать отцом, матерью, да хотя бы просто востребованным в своей области профессионалом? Какие бы деньги ты в него ни вкладывал, и какие бы возможности ты ему не предоставлял. Поэтому я решил потрепать себе нервы и дать возможность еще нескольким наиболее подходящим для запланированных действий бойцам моей команды проявить себя и получить ценный боевой опыт. Тем более что продолжающаяся на складе погрузка создавала трудности не только нам, но и самим немцам…
Но все прошло в целом удачно, хотя большую часть этой удачи я отнес бы к совершенно безалаберному несению службы караулом, а не к безупречным действиям моих ребят. Как минимум три раза их должны были бы обнаружить. Но – обошлось. Однако патруль я решил принять один. Ну его к черту – и так уже за сегодняшнюю ночь с запасом выбрали лимит удачи. Так что когда Кабан добрался до меня и обнаружил, что все уже закончено и для него работы не осталось, он обиженно скривился. Я в ответ зашипел рассерженной змеей:
– Я тебя, Шабарин, еще и на «губу» посажу по возвращении. Тебе сколько бочек было сказано продырявить? А ты сколько сделал? Лихость свою показать решил, бестолочь?! Зачем в крайний ряд залез? Тебя как минимум дважды заметить должны были.
– Ну, так не заметили же, – шепотом огрызнулся Кабан.
– Да, но твоей заслуги в этом никакой. А вот моя – есть. Если бы я тогда около патруля камень не кинул, ты и сам бы вляпался, и нам обедню испортил. Все, кончилось мое терпение. На три операции отстраняю тебя от боевых действий.
– Товарищ капитан! – едва не в голос вскричал Кабан, но тут же хлопнул себя по губам и продолжил снова шепотом: – Ну, вот истинный крест – больше не повторится. Ей-богу! Только не отстраняйте. На отдыхе – на все согласен. И на «губу», и наряды сколько хотите. Только дайте мне эту немчуру к ногтю прижать.
Я скривился и так же тихо прошипел:
– Ладно, посмотрим. Если сумеешь вон того часового тихо и незаметно, как ты говоришь, к ногтю прижать – подумаю, может, и как-то поменяю наказание. Но смотри, запорешь – даже не подходи. Все понял?
– Так точно, – кивнул Кабан и ловкой змейкой скользнул в траву. Я же двинулся ко второму часовому.
Но реабилитироваться, хотя бы частично, Кабану так и не удалось, хотя и не по своей вине. Я еще только достал нож и, перехватив его для броска, примерялся к уныло торчащему у дальнего штабеля часовому, когда с той стороны, где загружались грузовики, раздалась длинная очередь из ППД. Мой часовой дернулся и потянул с плеча ремень карабина.
«Швис-с!» – в правой глазнице часового возникло новое модное украшение в виде рукоятки ножа, после чего он мешком опрокинулся на спину. Но я уже развернулся спиной к нему и вскинул свой верный ДП.
«Дах!». Одиночный выстрел – и занявший позицию за колесом грузовика немец-водитель, старательно выцеливавший кого-то из моих парней, медленно сползает по колесу, выронив из внезапно ослабевших рук свой карабин Маузера. Я окинул быстрым взглядом диспозицию в районе погрузки. Похоже, больше моей помощи не требовалось. Ойунский и Логвинов короткими очередями добивали уже почти не сопротивлявшихся немцев. Я развернулся в сторону второго часового. Оного уже не наблюдалось, а Кабан волчьим стелющимся шагом несся в сторону палаток охраны. Вот шельмец – тоже увидел, что парням у грузовиков помощи не требуется, и тут же рванул туда, где еще есть возможность получить немного адреналина. Ну а я туда не пойду. Мне и отсюда все хорошо видно…
«Да-дах!» – короткая очередь опрокидывает парочку немцев, выскочивших из палатки. Хоть там вокруг стволов и достаточно, но эти выбрались из крайней палатки и сразу же рванули к оврагу. Пригнувшись. Так что кто его знает, успели бы мои бойцы их заметить и снять, или немцам удалось бы уйти. Ребята-то видят в темноте куда хуже меня.
«Да-дах! Да-да-дах! Да-дах! Да-да-дах!» – короткими, экономными очередями я подавлял малейшие организованные очаги сопротивления проснувшейся охраны. Несмотря на внезапность нападения, малочисленность нападавших сыграла свою негативную роль. Если бы мои ребята орудовали тут сами по себе – вполне вероятно, их бы задавили числом. Но в моем присутствии шансов у немцев не было. Так что уже минут через десять с не то что организованным, но и вообще любым сопротивлением было полностью покончено. Хотя я сильно сомневался, что мы уничтожили всех. Скорее всего, большинство как раз были не убиты, а ранены и просто затихарились. Но это вполне отвечало моим планам.
Нет, будь здесь матерые ветераны, я бы потратил время, чтобы прикончить всех – не хрен оставлять врагу шанс вылечить и поставить в строй подготовленных и опытных бойцов. Но эти… Маршевое пополнение – это еще не бойцы, а заготовки под них, при этом обихаживать их будут так же, как и полноценных солдат. То есть имеющиеся в распоряжении противника мощности медицинского обеспечения будут загружены оказанием помощи этим воякам. Вследствие чего, возможно, раненые солдаты подразделений первой линии, которые куда более опытны, обучены и опасны, получат менее качественное и своевременное обслуживание. Что должно привести к заметно большим санитарным потерям в их рядах. Так что на круг большее количество раненых, а не убитых, в текущей ситуации будет нам в целом более выгодным, чем полное уничтожение. Да и время тоже начинает поджимать. Ночью звуки разносятся далеко, так что нашу перестрелку явно кто-то услышал. Очень вероятно, этот «кто-то» сейчас направляется сюда, чтобы оказать помощь подвергнувшимся внезапной ночной атаке дружественным подразделениям. А нам на них отвлекаться не с руки, у нас совершенно другие задачи, выполнить которые исчезнувшая как организованная единица рота охраны нам помешать не в состоянии. И как-то угрожать нам при отходе она тоже не могла, а уж тем более – организовать преследование. Чего нам вполне достаточно.
Так что я развернулся к складу и дал по штабелям бочек несколько длинных очередей, добивая магазин и еще больше дырявя бочки. После чего развернулся к подбежавшему ко мне запыхавшемуся Кабану, который приволок мне мой старый добрый «сидор». В моем батальоне каждый, от рядового бойца до комбата, нес свою долю груза, в который, кроме личных вещей, продуктов, личного носимого боекомплекта, запасного исподнего и пары запасных портянок, входил еще либо цинк патронов к СВТ и пулеметам или к пистолетам и ППД, либо лоток с тремя минами к минометам калибра восемьдесят два миллиметра. А после сегодняшней дневки в деревне – еще и по четыре бутылки с зажигательной смесью. Впрочем, после сегодняшней операции дополнительный груз должен изрядно полегчать – расход боеприпасов будет заметный, а уж про мины и говорить нечего: где-то треть лотков с ними уволокла на себе та группа, которая должна была работать по станции. Вследствие чего она оказалась навьючена так, что ушла на задание с минимумом другого боезапаса и практически не взяв с собой продуктов. Ну да ладно, от того, что денек-другой до момента выхода к точке рандеву парни поголодают, ничего страшного не случится. Зато все четыре ствола нашего минометного взвода вследствие этого были обеспечены в сегодняшней операции вполне приличным боезапасом. И шансы на то, что хоть какая-то из полутора сотен, которые должны были изрыгнуть из себя наши минометы, сумеет запустить на станции процесс детонации скопившихся там боеприпасов, были весьма велики. Но станция была на данный момент для меня не актуальна. В отличие от склада.
– Бутылки приготовил?
– Так точно, товарищ капитан. Четыре штуки.
– Ну, думаю, достаточно, – усмехнулся я, поймав себя на мысли, что как раз здесь-то сами бутылки с их содержимым были особенно и не нужны – горючей жидкости более чем достаточно. А вот их фитили, пусть и примитивные, сделанные из смоченных бензином тряпок, как раз будут в тему… Вот и еще один мой стереотип мышления вылез. Сам-то я привык к чему-то вроде универсального запала, который никак не разбирался, а просто выставлялся на необходимую температуру либо длительность возгорания, которые находились в обратной зависимости друг от друга. То есть температуру горения в пятьсот градусов запал мог обеспечивать на протяжении шести минут, а вот три с половиной тысячи – всего двадцать секунд… Но переигрывать было поздно.
– Дай-ка сюда.
– Да я сам, товарищ капитан, – возбужденно блестя глазами, отозвался Кабан.
– Дай, я сказал. Ты – наказан. Тем более в бензине весь, сразу вспыхнешь.
– А вы-то что, нет, что ли? – обиженно протянул Кабан. – Тоже эвон как бензином несет, так что так же очень просто полыхнуть мо…
– Я – не вспыхну, – оборвал я его, начав нравоучение. – Я, в отличие от некоторых, умею действовать четко и аккуратно… – но тут с противоположной стороны склада вспыхнуло несколько огоньков, которые почти сразу полетели в сторону штабелей с бочками. И я тут же заткнулся и занялся делом.
Полыхнуло знатно. Буквально через пару секунд огонь уже распространился почти по всему пространству склада. Похоже, бензина из продырявленных нами бочек натекло вполне достаточно, чтобы отдельные лужи соединились между собой, сразу же переведя пожар из статуса разгорающегося в статус жарко горящего. Так что идея с заранее продырявленными бочками блестяще подтвердила свою целесообразность. А это означало, что оставшиеся бутылки можно и сэкономить. Швырнув всего парочку, я сунул остальные Кабану и принялся торопливо завязывать свой «сидор». Надо было быстро линять из окрестностей склада. В обмундировании, так сильно пропитавшемся бензином, находиться рядом с разгоравшимся складом становилось опасно даже для меня. В таком море огня целые бочки скоро начнут взрываться, и появится вполне реальная опасность поймать горящие брызги. А ведь кроме меня таких же «чистых» здесь еще трое.
Дождавшись, когда Кабан засунет неиспользованные бутылки обратно в свой вещмешок, я свистом подал сигнал на отход, после чего мотнул напарнику головой, приглашая, так сказать, пристраиваться в кильватер. Что ж, свою задачу мы выполнили на «отлично». Интересно, как там дела у остальных?
Первый ответ на этот вопрос я получил еще даже не отойдя от склада на более-менее приличное расстояние. И был он вполне положительным. На юго-западе, за лесом, в той стороне, в которой располагалась железнодорожная станция, послышались взрывы. Почти сразу же они зачастили, начали сливаться, а спустя несколько минут небо вообще разорвал яркий всполох, на фоне которого на мгновение высветились верхушки деревьев. «Не меньше двух десятых килотонны», – на ходу прикинул я и довольно улыбнулся. Именно для чего-то подобного в качестве основного оружия для атаки на станцию и решено было использовать минометы.
В принципе, БМ-37[19] имели максимальную дальность стрельбы чуть более трех километров. Но вести огонь на максимальной дальности, даже по такой большой цели, как станция, ночью было не очень разумно – слишком большой разброс, а корректировка сильно затруднена. Так что при планировании операции огневые позиции решили расположить не далее километра от станционных путей со скопившимися на них эшелонами. Тем более что по сведениям, полученным от местных жителей, с одной стороны станции планируемую огневую позицию должен был прикрывать овраг. Не слишком глубокий, не слишком широкий, но ночью он становился весьма серьезным препятствием. То есть даже если немцы сразу после начала обстрела сумеют мгновенно среагировать и попытаются атаковать, быстро приблизиться к позициям минометчиков у них не получится. А вот группа прикрытия минометов, расположившись за оврагом, наоборот, получит заметное преимущество.
Вторая позиция была похуже, но ненамного. Оврага там не имелось, зато между станцией и планируемой под огневую позицию полянкой имелась полоса густого кустарника, который вполне должен был справиться с задачей замедления вражеской атаки. Тем более что подступы как к оврагу, так и к кустарнику планировалось заминировать. Нет, мин у нас не было, но даже примитивные растяжки с РГД-33 ночью – очень эффективное оружие.
Впрочем, если моим ребятам удастся тихо развернуться на запланированных позициях, как бы быстро немцы ни отреагировали, сам обстрел они предотвратить не смогут. Ибо, даже с учетом пристрелки, принесенную на горбу сотню с лишним мин четыре миномета выпустят за три-четыре минуты[20]. Но вот последующий уход… Миномет просто так под мышку не подхватишь. Прежде чем уходить, его надо перевести из боевого в походное положение, а это значит отделить сошки, ствол, опорную плиту, собрать их во вьюки… короче, возни достаточно. Даже днем. А уж ночью… Так что группа была заинструктирована донельзя насчет того, что сначала – оборудование позиций прикрытия, а уж только потом – огневой налет. И сейчас мне оставалось надеяться, что этот инструктаж был выполнен в точности.
Но, как бы там ни было, целая череда взрывов показала, что как минимум боевую задачу группа, отправленная на станцию, выполнила. А значит, мое обещание комкору можно считать исполненным. Без горючего и боеприпасов особенно не повоюешь, а те, что находятся при себе у бойцов или в боеукладке боевых машин – это на один хороший или парочку так себе боев. Так что, учитывая вчерашние бои, которые сами немцы оценивают как тяжелые, у существенной части наступающих войск первого эшелона боезапас и горючее уже исчерпаны. Вследствие чего командованию придется либо каким-то образом организовывать перераспределение оставшихся на руках и в органах текущего снабжения подразделений и частей первого эшелона остатков боекомплекта, дабы возместить использованный боезапас подразделениям, уже втянутым в боестолкновение, либо… ну не знаю, произвести замену исчерпавших запас подразделений на те, у которых они еще имеются[21]. А эти части, скорее всего, были предназначены для развития наступления…
Да и вообще, любые нарушения установившегося порядка снабжения приводят к тому, что начинается неразбериха, нарушение планов и, как следствие, падение темпов наступления. Ну а дальше… Я усмехнулся.
Головатюк вот обижался, что мы на этот раз не собирались прищучить ни одного немецкого штаба. Но для атаки на штаб нам требовалось, во-первых, собрать в кулак весь батальон и, во-вторых, совершить марш к месту дислокации штаба по местности, скорее всего, наиболее плотно заполненной войсками. И сама атака не факт, что будет такой уж эффективной: опять же вследствие того, что в текущих условиях сосредоточенности сил для наступления рядом со штабом совершенно точно будет располагаться чертова туча других подразделений. Причем в существенной части боевых, из-за чего мы будем иметь в своем распоряжении крайне ограниченное время для атаки. Так что далеко не факт, что нам удастся уничтожить достаточно штабных, чтобы так уж сильно парализовать работу штаба. Средства связи – да, обслуживающий персонал – да, много, на какое-то время нарушить работу – без сомнения, а вот начальствующий состав и ключевых офицеров – только при очень большой удаче. Иначе – зажмут и уничтожат уже нас. А этого я не собирался допускать ни при каких обстоятельствах. Не по рангу размен… Нет, уничтожение нескольких десятков квалифицированных офицеров и талантливых командиров с опытом двух лет войны – очень болезненный удар. Но мои ребята для меня куда дороже десятка немецких генералов и сотни старших офицеров. И не мой эгоизм или личные привязанности тому виной. Нет. Я собирался использовать эту войну как… тренинг, как инструмент для формирования новой элиты, способной как выиграть эту войну с наилучшим результатом, так и потом войти в элиту Империи. Поэтому для меня каждый человек, прошедший мою подготовку, был просто на вес золота…
Тем более что работая по выбранным целям, представлявшим из себя тыловые, ремонтные и вспомогательные подразделения, мы достигали ничуть не меньшего эффекта, чем уничтожив штабы. А вот потери должны были понести куда меньшие, поскольку все объекты наших атак располагались в стороне от стянутых к магистральным дорогам войск (чтобы тыловики не мешались под ногами бравым бойцам, готовым броситься в прорыв). А это не только уменьшало опасность того, что на помощь атакованным быстро выдвинутся подкрепления, но и давало возможность даже в случае каких-то косяков или неприятных неожиданностей все равно уничтожить атакуемые объекты и уйти, почти не подвергаясь опасности получить на хвост настырных преследователей или быть перехваченными мгновенно выставленными заслонами.
Нет, полностью исключать подобного было нельзя. Война – есть война, и неприятные и смертельно опасные неожиданности здесь скорее правило, чем исключение. Но вероятность подобного при атаке избранных мною объектов была мною оценена как минимально возможная в данной ситуации. А там уж как бог даст… А вот временно́й эффект же от их уничтожения должен был оказаться ничуть не меньшим, чем при уничтожении штаба, и… куда большим, чем если бы мы выбили столько же людей и техники в боевых подразделениях. Вот такой вот парадокс моторизованной армии, построенной на имеющихся в распоряжении данной цивилизации технологиях…
Судите сами – при текущем уровне развития техники, как боевая, так и транспортная техника требует регулярного обслуживания. Как ежедневного, так и, скажем, еженедельного, хотя на данном уровне развития технологий второй уровень периодичности технического обслуживания больше связан не со временем, а с расходом моторесурса, пробегом и количеством выстрелов. Но при столь интенсивном использовании, каковому техника и оружие подвергаются во время войны, моторесурс и пробег исчерпываются очень быстро – в течение нескольких дней, недель и лишь в лучшем случае месяцев. А если учесть два года войны, которые были за плечами наступающей армии, да последние два месяца почти непрерывных, причем наступательных, боев, слово «обслуживание» можно вполне заменить на «ремонт». Регулярный и непременный. А кто, как и чем будет делать эти ремонт и обслуживание, если ремонтные подразделения уничтожены, ремонтная техника, станочный парк и инструмент приведены в негодность, а необходимые масла, смазки и запасные части – сгорели? Вот то-то и оно. Я предполагаю, что очень скоро у немцев (ну, хотя бы на нашем участке фронта) появятся проблемы даже с доставкой пищи наступающим частям и подразделениям, не говоря уж обо всем остальном.
– Стой, пароль?
– Семь, – тихо отозвался я.
– Четыре, – облегченно выдохнул командир отделения разведчиков. – Товарищ капитан, все на месте.
– Потери?
– Двое раненых. Но оба легко. В руку, но кость не задета, и в плечо, тоже навылет. Уже перевязали. Так что подразделение полностью готово к выдвижению.
Я молча кивнул, а потом, спохватившись, что этот жест в темноте могли не заметить, озвучил вслух:
– Отлично, – после чего приказал: – Командуй выдвижение. Я – в головной дозор.
Нам в эту ночь предстояло потрогать немцев за задницу еще в одном месте. Как, впрочем, и большинству остальных диверсионных групп. Я твердо намерен был выполнить обещание, которое дал комкору. Даже если мои расчеты по тому, как подействует на немецкие планы потеря столь большого количества боеприпасов и топлива, окажутся не совсем верны. Что было вполне вероятно, ибо подробные текущие штаты немецких подразделений и частей мне пока на глаза так и не попадались. Все сведения по данному вопросу, которые оказались в секретной библиотеке, относились самое позднее к 1940 году. Сейчас же шел уже 1941-й. А год для непрерывно воюющей армии – это ох как много… Да и те сведения, которые имелись, так же были крайне неполны, и ограничивались только общей структурой и сводной таблицей с общим числом вооружения и техники на полк и дивизию. Их внутреннее распределение по боевым и тыловым подразделениям, как и планируемое предназначение и задачи, оставались областью домыслов. Так что я решил подстраховаться и уменьшить давление на наши войска еще и тем, что заставлю немцев отвлечь заметную часть предназначенных для наступления войск на нашу поимку и охрану своих тылов и штабов. Поэтому чем большую панику мы им этой ночью устроим, тем легче будет нашим парням завтра отбиваться.
– Товарищ капитан, а может я Ойунского в дозор выделю? – робко предложил отделенный. – Он же таежный охотник, и вполне…
– Не спорь, сержант, – мягко прервал я его. Вторая цель нашего налета располагалась на расстоянии девяти километров от весело полыхающего топливного склада, и я определил ее нашей группе, имея в виду, что сам поведу ее через ночной лес. Ибо никто другой обеспечить требуемую скорость передвижения просто не смог бы. Даже якут Ойунский, несмотря на весь его охотничий опыт.
– Двинули.
К следующему объекту мы вышли уже перед самым рассветом. По пути у нас был только один получасовой привал у лесного ручья, который я объявил не столько даже для того, чтобы дать людям отдохнуть и перекусить, сколько чтобы предоставить нам четверым, которые втихую дырявили бочки на складе, возможность простирнуть наше обмундирование, дабы хотя бы немного избавиться от бензиновой вони. Ну… немного и удалось. Как выяснилось, местный бензин мылом особенно не отстирывается. Да и дальнейший путь в мокром обмундировании комфортным тоже не назовешь… Но справились. Хотя к объекту атаки группа вышла изрядно заморенной, так что я дал людям отдохнуть, а сам двинулся на рекогносцировку.
На этот раз объект атаки был вполне себе боевым – батарея тяжелых гаубиц sFH 18 калибра сто пятьдесят миллиметров. По местным меркам очень мощное средство усиления дивизионного уровня.
В принципе, изначально я атаковать такие цели не планировал – и численность, как правило, великовата и расположение тоже не ахти. Тем более что изначально в той точке, в которую мы сейчас пришли, дислоцировался целый дивизион. А такого «кита» следовало бы «есть» не менее чем ротой, а то и всем батальоном. Ну, если не хочется нести заметные потери. А мне как раз не хотелось… Да и вообще, группы, атаковавшие два основных объекта, должны были отработать только по ним. А потом – уходить в район сосредоточения. Однако тот тыловик-гауптман, которого мы захватили в последний момент в Залесье, среди всего прочего сообщил, что большая часть дивизиона была днем передислоцирована ближе к фронту, а на месте осталась только одна тяжелая батарея. Причем главным, что привлекло к ней мое внимание, оказалось как раз место дислокации. Очень интересно эта батарея была дислоцирована, очень…
Согласно сведениям, почерпнутым мной из секретной библиотеки штаба корпуса, состоящие на вооружении тяжелого артиллерийского полка пехотной дивизии вермахта гаубицы sFH 18 имели максимальную дальность стрельбы чуть более тринадцати километров, угол горизонтального наведения в пределах двадцати восьми градусов влево-вправо, боевую скорострельность подготовленным расчетом в четыре выстрела в минуту и очень приличный радиус сплошного поражения осколочной гранатой.
Так вот, судя по тому, что мне сообщала уточненная после рассказа гауптмана обстановка на карте, в двух, трех с половиной и шести километрах от этой батареи в сторону линии фронта располагалось два штаба дивизий и автоколонна снабжения. Причем все они располагались в секторе, полностью перекрываемом теми самыми пятьюдесятью шестью градусами горизонтального наведения… Нет, там было и множество других целей, хотя и менее «вкусных», но тоже очень заманчивых, однако я, с сожалением, решил выбрать из всех возможных только три эти цели. Ибо «переедание» в данном случае грозило нам большими проблемами. А вот правильно спланированная «диета», наоборот, обещала хороший шанс порадоваться. Тем более что располагалась батарея немного в отдалении, и ближайшие к ней подразделения дислоцировались в нескольких километрах от нее и так же были тыловыми. Так что, с учетом всех косяков и недостатков, которые могут вылезти (учитывая планирование операции, так сказать, на живую нитку), после первого выстрела по немецким объектам нам можно было рассчитывать на час, а при удаче даже на полтора часа «веселья». А за это время мы вполне успели бы «обработать» три выбранных объекта. Особенно учитывая то, что при длительной стрельбе, даже если мы будем использовать немецкие, то есть подготовленные расчеты, скорострельность гаубиц вряд ли составит более одного выстрела в минуту… После чего более-менее безопасно отойти. А вот больше – вряд ли.
Кроме того, у меня была еще одна причина организовать налет на эту батарею. Она заключалась в том, что я продолжал потихоньку осваивать местное вооружение. И уже, теоретически, освоил артиллерию. Но именно теоретически. То есть я, изучив наставления и руководства, в общем и целом представлял, как навести орудие на цель прямой наводкой или как рассчитать буссоль, уровень и прицел, а также как работать с таблицами стрельбы и как выбирать заряд[22]. Но именно в общем и целом, то есть теоретически. Нет, и практически я кое-что тоже, так сказать, пощупал, наведавшись к корпусным артиллеристам, чьи позиции располагались в трех километрах от штаба корпуса. И артиллеристских баек и поучений тоже немало наслушался. Но именно пощупал и наслушался. Реально же ни одного выстрела из орудия мне пока сделать не удалось. А тут такой шанс…
Рекогносцировка показала, что личный состав батареи пока еще соизволяет мирно почивать в дюжине палаток и кузовах грузовиков и тягачей. Хотя кое-какое шевеление уже началось. Я некоторое время рассматривал потихоньку оживающий лагерь, попутно прикидывая, что и как делать, а потом хищно улыбнулся.
4
– Шагом!
Старший лейтенант Коломиец, последние полчаса просто тупо переставлявший ноги, вцепившись в ремень бегущего прямо перед ним старшины Николаева, выпустил ремень из почти сведенных судорогой пальцев и, разевая рот, будто выброшенная на берег рыба, хрипло, даже со всхлипом, втянул воздух в горящие легкие. Да-а-а, такого он никак не ожидал… Нет, Коломиец не только считал себя, но и реально был вполне подготовленным командиром. Особенно в физическом отношении. Майор Буббиков и отличал его в первую очередь именно за силу и стать. Вернее, не так, в первую очередь, скорее всего, за верность и преданность. Как делу партии и социалистического отечества, так и самому Буббикову. Ну а во вторую как раз за силу и стать. Но вот к таким нагрузкам старший лейтенант оказался совершенно не готов…
Микола Коломиец родился в Бессарабии, в селе Резены. В это село его семья переехала года за три до его рождения, из Деркачей, большого и богатого села, расположенного неподалеку от Харькова. Бывшей казацкой слободы. В чем состояли причины этого переезда, Микола не знал, но его отец всю свою сознательную жизнь отчего-то страшно ненавидел хохлов, казаков и евреев. Вот такая вот причудливая смесь…
До одиннадцати лет он рос во вполне себе обеспеченной, даже зажиточной семье. Благо отец его, призванный на фронт в пятнадцатом, на Германскую, и прошедший ее без единой царапины, успел поучаствовать еще и в Гражданской войне. Которую всю прошел сначала в отряде, потом в бригаде и дивизии своего земляка, бывшего бандитского атамана, а затем пламенного революционера и героя Гражданской войны Григория Ивановича Котовского. Именно земляка, поскольку от Резен до родного села Котовского – Ганчешты было всего около трех десятков верст.
Из-за того, что родные места после Гражданской оказались за границей, в Румынии, семья Коломийцев перебралась под Николаев, в село Адамовка. Вследствие того, что о земляке похлопотал сам Григорий Иванович, местные власти отнеслись к переселенцам с уважением. Отец был избран в уездный совет, регулярно сидел в президиумах и являлся членом правления потребкооператива. Впрочем, вполне заслуженно, ибо на работу был яр и так же воспитал и троих сыновей. Вследствие чего его крестьянское хозяйство успешно росло и развивалось. К середине двадцатых в хозяйстве отца Миколы уже было пять лошадей, конные сеялка, жатка и грабли, четыре коровы, по паре десятков гусей и уток и полсотни кур.
Кроме того, отцу удалось перетянуть в Адамовку и старшего брата, который тоже вцепился в работу, как говорил дед – «як дите в мамкину титьку». Поэтому никого в селе не удивляло, что к двадцать шестому году братья выбились в местные богатеи. Кроме вполне богатых собственных крестьянских хозяйств они на паях владели маслобойкой и держали постоялый двор на окраине Николаева, в который, по большей части, и отправлялась продукция крестьянских хозяйств обоих родственников. Впрочем, если честно, не только их двоих, но цену братья за продукты давали честную. Поэтому хоть и завидовали им многие, но ненависти ни у кого не было. Все видели, что этот достаток братья подняли своим горбом… Ну дык для того ж и революцию делали, и Декрет о земле наша Советская власть принимала, чтобы упорные и работящие по своему разумению себе достаток, а то и богатую жизнь зарабатывали. Так что перспективы перед братьями виделись просто отличными. Отец Миколы даже ездил в Одессу, присматривать место для нового постоялого двора…
Но тут грянула коллективизация.
Нет, героя-котовца никто не раскулачивал. Не успели. Отец Миколы всегда умел держать нос по ветру, а членство в уездном совете и правлении потребкооператива позволило вовремя получить информацию о грядущих переменах. Так что он лично привел на колхозную конюшню всех своих коней, а в колхозный коровник трех из четырех коров. Гусей, уток и кур в подавляющем большинстве наскоро забили и продали на рынке, оставив только три несушки. И все это под жуткий вой матери и яростную ругань деда, едва не повисшего на руках отца, когда он открывал конюшню.
– Не отдам! – орал дед. – Своими горбом все заработали! Нехай в твой колхоз Гнатюки идуть! А нам и без яго хорошо.
Но, как позже выяснилось, это было очень правильное решение – конечно, не сохранившее прежний достаток, зато сохранившее свободу. Остальные же шесть зажиточных и более двух дюжин пусть и слегка более обеспеченных, но вполне себе середняцких семей, которые решили до конца отстаивать свое добро, все равно лишились его. Только вместе со свободой. В том числе и дядька Миколы, до конца отказывающийся вступать в колхоз и отдавать свою скотину и инвентарь «голи подзаборной, которая даже на лошадь себе не смогла заработать». Когда его, связанного и слегка избитого сажали на телегу, на которой уже было сложено три узла с вещами (все, что им разрешили забрать с собой по постановлению о выселении кулацкого элемента) и сидела его жена, тетка Дорна и трое двоюродных сестер Миколы, он зло бросил отцу:
– Ну и где твой Декрет о земле, брат? Да вы хуже царя! При нем хоть семью из дому не гнали!
– А ну молчать, кулацкая морда! – зло рявкнул командир комсомольского оперативного отряда, который и проводил выселение, и недобро покосился на стоящего рядом отца Миколы. Больше дядю Микола никогда не видел[23]…
После этого в отношении власти к отцу что-то серьезно поменялось. Впрочем, возможно дело было в том, что большинство тех, кто вместе с отцом был властью раньше, до этого парового катка, прокатившегося по деревне в связи с объявлением курса на сплошную коллективизацию – ныне уже властью не являлись. Кто был выселен как кулак или пособник, кто ушел сам, опасаясь за себя и своих детей, а кто просто бросил все и уехал из родных мест, не желая не то что участвовать, но даже видеть то, как новая власть, за которую они дрались на Гражданской войне, за которую умирали и убивали, показала им, крестьянам, кузькину мать, подло обманула их, отринув, как это четко сформулировал дядька Миколы, свой же собственный Декрет о земле, и снова принявшись силой – винтовкой и наганом – загонять крестьян в новые латифундии.
Неужто любая власть такова? И десяти лет не прошло, как свергли прошлую, лживую и плюющую на свой народ власть Временного правительства, которое сменило еще более отсталый и дремучий царизм, – и вот новая, вроде как вполне себе народная власть идет по той же кривой дорожке. Ведь понятно же, что все эти разговоры насчет того, что только сплошная коллективизация позволит использовать в деревне трактора и другую технику – полная глупость. Тот же «Фордзон-Путиловец», выпускаемый в бывшей столице, ныне переименованной в честь Ленина в Ленинград, ажно с 1923 года, вполне себе был бы к месту и в крестьянском хозяйстве отца Миколы. Отец даже ездил в этот самый Ленинград, к сослуживцам, прицениться и поискать, как бы можно приобрести столь полезную машину. Но – бесполезно. Частникам ее не продавали[24]… Как бы там ни было, с новыми руководителями отец общего языка не нашел. Хотя пытался. Но видеть то, как поставленный в председатели бывший харьковский рабочий-металлист Гнатюк, из двадцатипятитысячников[25], рушит все, созданное его же собственными руками, отец просто не смог… Пусть даже все это уже было как бы не его, а колхозное. Но и сделать ничего тоже было невозможно. На все советы и предложения отца Гнатюк только багровел и рычал: «Заткнись, контра! Как я сказал – так и будет!». Главный же его благодетель, Григорий Иванович Котовский, к тому времени уже был мертв.
Вот поэтому отец и решил уехать из села. Слава богу его однополчане по-прежнему крепко держались друг за друга. Это показала судьба убийцы их комбрига[26]. Так что отец сначала сам поехал в Ленинград, к своим сослуживцам, через которых ранее пытался приобрести трактор, а сейчас надеялся отыскать работу, ну а чуть позже и они все отправились вслед за ним…
– Стой! Привал, двадцать минут, – коротко скомандовал командир второй роты Иванюшин, с группой которого старший лейтенант Коломиец двигался в настоящий момент. Нет, сначала он попытался напроситься в группу, с которой двигался сам комбат, интересовавший и майора Буббикова, и самого старшего лейтенанта Коломийца, да и, судя по всему, много кого там, «наверху», но тот коротко ответил:
– Нет, – а потом пояснил: – Ты, Коломиец, просто темпа моего не выдержишь. Его и мои ребята далеко не все выдерживают. А уж ты-то…
Николай тогда слегка обиделся. Вернее, не так, обиделся-то он сильно, поскольку был совершенно уверен, что уж в чем-чем, а в физической подготовке он любому бойцу капитана сто очков вперед может дать. Но как-то демонстрировать свою обиду или спорить не стал. И не по каким-то особенным или оперативным соображениям, а потому что так получилось, что все, кто общался с капитаном Куницыным, через какое-то время полностью отучались с ним спорить. И незачем, и бесполезно. Даже если и настоишь на своем (а такое случалось, пару раз, не больше – но случалось), то потом только большим дураком себя выставишь. Поэтому старший лейтенант решил немного потерпеть и делом доказать комбату, что в этом вопросе он как раз ошибся. Ну, там, вечерком, после марша, когда весь его батальон с ним во главе будет падать с ног, подойти эдак к комбату небрежной подходкой и лениво предложить:
– А давайте, товарищ капитан, пока ваши люди в себя приходят, я со своими орлами по округе пробегусь, ситуацию разведаю, – ну или нечто наподобие…
Но сейчас, после ночного налета на автоколонну снабжения и последующего почти шестичасового изматывающего марша, старший лейтенант Коломиец ясно осознавал, что все эти прекрасные видения были всего лишь именно видениями, не имеющими никакого отношения к реальности. Да он еле смог добежать на своих ногах до этого привала! А ведь это еще не конец марша. Хотя, вероятно, его окончание уже близко. Два часа назад рассвело, так что двигаться столь же свободно, как под покровом ночи, у них уже вряд ли получится – авиаразведку никто не отменял. Да и народ явно сильно устал. Хоть и, по большей части, держится не в пример лучше старшего лейтенанта. Но и на него рожу никто не кривит и свысока не смотрит. И не потому что боятся. Боялись бы – смотрели по-другому, со страхом или, там, показным безразличием, а не так, как сейчас – с сочувствием. А потому, что, похоже, сами прошли через нечто подобное. И, скорее всего, не так уж давно.
Впрочем, тяжело было не одному Коломийцу. Судя по запаренному виду, мордовороты старшины Николаева так же с трудом держали темп, заданный Иванюшиным. А несколько бойцов Иванюшина вообще еле переставляли ноги. Казалось, они вот-вот упадут и потом уже ни за что не встанут. Но таких было всего человека три, в то время как остальные отчего-то выглядели хоть и устало, но еще вполне себе в силах. А сам ротный-два, несмотря на всю свою внешнюю субтильность, заданный им дикий темп держал вполне спокойно. Умудряясь не только просто бежать гладким, так сказать, бегом, но еще и время от времени передвигаться вдоль их растянувшейся цепочки, то отставая, чтобы поравняться с тыловым дозором, то, прибавив скорости, догнать и подбодрить троих абсолютно выдохшихся бойцов, которых тянули на себе остальные, сменяя друг друга, или вернуться на свое место в голове их куцей колонны, сразу за головным дозором…
В Ленинграде, который все вокруг отчего-то продолжали именовать по-старорежимному – Питер, Микола обжился довольно быстро. Отец пристроил его в фабрично-заводское училище при заводе имени Карла Маркса, так же всеми вокруг называемого по-старорежимному – Новый Лесснер, на котором работал и сам. В общем-то, переменам Микола, которого теперь все стали звать Николаем или Колей, скорее обрадовался, чем наоборот.
Да, жить стали куда беднее и скуднее, чем прежде. Если раньше, в Адамовке, ему каждый год справляли новую рубаху, то теперь пришлось несколько лет носить одну и ту же. Мать только надставляла рукава и вшивала клинья в бока, перекраивая рубаху под набиравшее силу и стать тело сына. Сапоги, раньше бывшие предметом гордости и зависти всех соседских мальчишек, большинству которых в их возрасте заиметь такую обувку и мечтать нельзя было, быстро стали малы и перешли по наследству младшим. А выкроить из скудной зарплаты рабочего деньги на новые сапоги – нечего было и думать. На еду бы хватило… Так что пришлось перейти на поношенные ботинки, купленные за гроши на барахолке.
Впрочем, и отцу, ранее так же регулярно обновлявшему свои яловые сапоги (обувку в сельской местности вполне себе дорогую и престижную) и вполне свободно позволявшему себе носить ее даже летом и в поле (где все – и дети, и взрослые, по обычаю работали босыми), пришлось долго обходиться теми сапогами, в которых он приехал в Питер. Под конец они износились настолько, что их уже даже не брался ремонтировать ни один сапожник. И отец выходил из положения, натянув на сапоги купленные там же, на барахолке, старые галоши. Те тоже были все потрескавшиеся, с полуоторванной подошвой и совершенно не держали воду, но с задачей прижимания почти отвалившейся подошвы сапог к потрескавшемуся оголовью вполне справлялись. Тем более, что отец примотал галоши к сапогам веревочкой. Впрочем, галош хватало ненадолго, и отцу приходилось раз в пару месяцев снова идти на барахолку за очередными…
Да и кормежка стала куда скудней. Сало покупали только по большим праздникам, хлеб ели серый, с отрубями, а яйца их семья, ранее державшая пять десятков собственных кур, видела теперь только по воскресеньям.
Но вся эта бедность меркла перед распахнувшимися перед ним, Миколой, тайнами и приключениями большого города. Для заводских он, неожиданно для себя, довольно быстро стал своим. Впрочем, возможно дело было в том, что таких «бывших деревенских» среди «фабзайцев»[27] оказалось довольно много.
Страна, сначала пережившая три года тяжелой, кровавой, но, все-таки, как уже к исходу третьего года стало ясно, вполне себе победной войны, а затем, без перерыва, неожиданно для себя ухнувшая в бездну революции и войны куда более жестокой, Гражданской, начала наконец-то выбираться из этой «черной дыры»[28]. И даже собиралась резко ускориться, явно намереваясь догнать, а то и перегнать и ранее опережавших ее, а за время ее барахтанья в «черной дыре» социальных потрясений вообще убежавших невообразимо далеко вперед соседей. А для этого нужны были новые кадры, которые пока еще только нарождающимся, но уже вполне ощутимым потоком потекли из ограбленной и насильно загоняемой в коллективизацию деревни…
А с другой стороны – куда было деваться? Более никаких источников дохода для ускоренной индустриализации (в которой, не будь этой десятилетней «черной дыры», возможно и необходимости бы не было, то есть именно в ускоренной… но которая в сложившихся условиях была единственно возможной), кроме как максимально ограбить деревню – у нового руководства страны просто не имелось. Ибо новой «народной» власти просто неоткуда было взять ни кредитов, ни займов, так уж она себя поставила в мире. Вот и пришлось очередной раз все делать за счет этого самого народа… То же, что множество ограбленных, лишенных нажитого, но чудом не попавших «под каток» крестьян рванет в город, где станет неиссякаемым источником кадров для бурно разрастающейся промышленности, оказалось очень даже удачным. Ибо в этом случае получалось, что власть одним действием решала сразу несколько задач. Впрочем, именно так и происходили все промышленные рывки во всех других странах – от Англии XVIII века до Китая конца XX. Какой бы «народной» эта власть себя не именовала. А уж если это приходилось делать в условиях промышленной разрухи после почти десятилетия войн…
Поэтому таких вот бывших крестьянских детей, вместе со своими отцами сбежавших из деревень, чтобы в больших городах попытаться, во-первых, спрятаться от неожиданно пришедшей беды и, во-вторых, найти новое место для себя и своей семьи, – оказалось множество. Так что в привычных уличных мордобоях конец на конец, улица на улицу и район на район они довольно быстро стали играть весьма влиятельную роль. Вследствие чего местные мальчишеские ватаги тут же столкнулись с дилеммой – либо признать вчерашних крестьян, поселившихся на их улице за своих, либо… регулярно получать по мордасам от ватаг с других улиц, в среде которых такое признание уже произошло, отчего они изрядно усилились.
Так что врастание в, так сказать, новую социальную среду у Миколы прошло почти безболезненно – пара драк, разбитая губа и, в общем, все. Тем более, что парнем он был видным, сильным, так что его кулаки для принявшей его ватаги «фабзайцев» с его улицы оказались очень даже неплохим подспорьем. Сам же Питер его просто очаровал. Всем. И природой – стылой Невой, белыми ночами, густыми, наполненными водой лесами, огромными гранитными валунами, выступавшими из зарослей будто уснувшие каменные великаны, решившие немного передохнуть, – все это так сильно отличалось от привычного ему юга. И величественными домами – дворцами, соборами, да даже многоэтажной рабочей казармой, в которой их семье отвели угол, отгороженный натянутыми на веревки дерюгой и лоскутными одеялами. И бешеным (ну, по сравнению с их селом) ритмом жизни. И массой народа, которой были наполнены его улицы. И всеми теми признаками цивилизации и прогресса – машинами, трамваями, электрическим освещением, разводными мостами, которых он ранее в таком количестве нигде не встречал. Он просто влюбился в этот город…
– Ну как вы, товарищ старший лейтенант?
Коломиец ругнулся про себя, но когда повернулся к подошедшему Иванюшину, на его лице сверкала легкая улыбка.
– Нормально, ротный, – он хмыкнул, – идем быстро и, конечно, мне, кабинетному работнику, за вами тяжело угнаться. Но НКВД не подведет, можешь быть уверен.
– Да я и не сомневаюсь, – открыто улыбнулся Иванюшин. – К тому же нам уже не далеко осталось. Еще минут сорок – и доберемся до места дневки.
– А чего ж остановились? – удивился Николай. – Могли бы сразу до места добраться.
– Да новички сдохли, – досадливо сморщился ротный-два. – У них же подготовка-то нашей не чета. Я вообще опасаюсь, что могут не дойти. Эх, их бы сейчас под акупунктуру – самое время…
Коломиец благожелательно-поощряюще улыбнулся, едва удержавшись от досадливой гримасы. Вот оно как… значит все те бойцы, которые едва смогли выдержать марш – из нового пополнения. А все ветераны батальона капитана Куницына с такой скоростью марша справляются вполне неплохо. Ничуть не хуже волкодавов старшины Николаева, и лучше, чем сам Николай. И это незнакомое слово… Впрочем, почему бы не спросить?
– Как вы сказали – акуп…
– Акупунктура, – повторил Иванюшин и пояснил: – Иглоукалывание то есть. Когда капитан Куницын в нас первый раз иглы вставлял – дюже жутко было. Зато потом – как заново родились. Все болячки разом прошли и будто сил прибавилось. И вообще… Я ведь раньше очки носил. А после этого – как рукой сняло. Уж не знаю, во что там товарищ капитан ту иглу воткнул, только глаза теперь – как новые. Я ведь сразу и не понял даже, – доверительно поделился ротный, – поутру очки на нос нацепил – а перед глазами все расплывается. Я их тер-тер тряпочкой, а потом гляжу – я без них куда лучше вижу, – и он весело рассмеялся.
– Вот так, сразу – раз и очки не нужны? – осторожно уточнил старший лейтенант. То, что капитан Куницын зачем-то прогнал весь личный состав своего батальона через странную процедуру с длинными деревянными спицами, которые ротный-два обозвал иглами, он установил уже давно. Но смысл этого мероприятия пока был для Коломийца до конца не ясен. Нет, все, кто ему об этом рассказывал, как один утверждали то же, что ему только что говорил ротный. В первой части своих утверждений. То есть «заново родились» и все такое. Кое-кто утверждал и нечто, подобное второй части заявления Иванюшина. Ну, типа «отдышку как рукой сняло», «печень болеть перестала». Но старший лейтенант подобные откровения воспринимал не очень серьезно. Мало ли что может показаться людям, прошедшим через разгром, скитания по лесам или, даже, плен, а потом попавшим в состав нормально функционирующего воинского подразделения… Но факт вот такого внезапного и резкого улучшения зрения игнорировать было нельзя. И Коломиец сделал себе в памяти зарубочку насчет того, чтобы, когда представится возможность, продиагностировать всех тех, к рассказам которых он ранее отнесся недостаточно серьезно. И сравнить с данными их медкнижек. Ну, тех, которые удастся разыскать…
– Да, сразу. То есть не совсем… – слегка смутился Иванюшин. – Нас же товарищ капитан вечером обработал. Причем после такого же лошадиного забега, как сегодня. Я почему и вспомнил… А что мне очки больше не нужны, я обнаружил утром. Так что, можно сказать – не совсем уж сразу, но очень быстро все случилось.
– И что – никаких отрицательных ощущений? – осторожно уточнил Коломиец.
– Не-а, только жрать хотелось сильно. Ну-у… сразу после обработки. Хотя и поутру тоже, – Иванюшин усмехнулся, но почти сразу же посуровел и, чуть повернув голову в сторону остальных, коротко бросил:
– Подъем! Приготовиться к выдвижению.
Старший лейтенант скосил глаза на запястье. Вот ведь черт – ровно двадцать минут. Как в аптеке! Он сразу после остановки почти машинально засек время… А ведь весь разговор Николай смотрел прямо на ротного и мог дать руку на отсечение, что тот никак не воспользовался часами. Еще один фактик в ту копилочку странностей, которые со всех сторон окружали капитана Куницына, причем очень длинным шлейфом…
́Учиться в ФЗУ Коле Коломийцу тоже понравилось. Нет, профессия слесаря-инструментальщика вовсе не была пределом его мечтаний, но он, как истинный крестьянский сын, взявшись за любое дело, делал его основательно и добросовестно. Поэтому в училище он ходил в «хорошистах». Так что нравилась ему вовсе не будущая профессия и даже не принадлежность к классу, который, судя по лозунгам, являлся диктатором[29] над всеми остальными, которые существовали в «другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек»[30], а то, что именовалось «общественной жизнью» – субботники, сбор металлолома, после которых «фабзайцы» разводили костер и пекли прихваченные из дома картофелины, нравилось ходить сначала с отцом, а потом с одноклассниками на демонстрации, спектакли, которые они ставили под руководством шефов-комсомольцев. В старших классах он и сам вступил в комсомол и, по примеру товарищей, записался в радиокружок и аэроклуб.
Впрочем, с полетами у него не сложилось. Полностью преодолеть страх высоты Коля так и не смог. Но это именно полностью, а вот время от времени ему это удавалось. Так что к тому моменту, когда он, окончив ФЗУ, поступил на работу на инструментальный участок механического завода имени Карла Маркса, у него на груди сиял манящим светом значок парашютиста с заветной цифрой «пять» на подвеске. И не он один. Два других показывали всем окружающим, что этот молодой рабочий, во-первых, отлично овладел стрелковой подготовкой, и потому ему присвоено почетное звание «Ворошиловского стрелка»[31], и, во-вторых, вообще полностью готов к созидательному труду и крепкой обороне своей страны[32]. Все это, вкупе с принадлежностью к рабочему классу и происхождением отца, который хоть и не был из наиболее привилегированного класса страны – рабочих, но зато и здесь числился героем-котовцем, то есть с первого до последнего дня провоевал в Гражданской на «правильной» стороне, и привело к тому, что райком комсомола счел Николая достойным комсомольской путевки на работу в органах НКВД.
В органы Николай пришел в очень бурное время. Органы как раз омыла первая волна «очищения», вызванная снятием первого Народного комиссара внутренних дел Генриха Ягоды[33]. Низовой состав, к которому тогда принадлежал молодой сержант государственный безопасности, она почти не затронула, но вверху подвижки были. И потому образовались вакансии. А при следующей волне, вызванной сначала отставкой, а затем и арестом второго наркома, которая оказалась куда более обширной и продолжительной, Коля, к тому моменту уже сумевший зарекомендовать себя аккуратным и исполнительным сотрудником, смог быстро проскочить сразу через две ступени, за полгода получив сначала младшего лейтенанта, а затем и лейтенанта госбезопасности. Ну а до старшего он дорос уже перед самой войной…
До лесного массива, обозначенного на карте Коломийца условным названием «Лес Долгий», они добрались не через сорок минут, а почти через час, потому что двоих из троих новичков пришлось просто волочь на руках… Впрочем, все равно вовремя: немецкий самолет появился только через сорок минут после того, как Иванюшин дал команду готовиться к дневке. Но к тому времени бивуак уже почти полностью был обустроен – подготовлены лежанки, выкопаны ямы под костры, а над самими кострами были устроены навесы из лапника, фильтрующие дым. Но удивила старшего лейтенанта не сноровка, с которой был разбит временный лагерь. В конце концов, если верить журналу боевых действий, батальон Куницына прошел по немецким тылам чуть ли не под тысячу километров (а не верить этому пока имелось куда меньше оснований, чем верить). Так что где и когда набраться опыта – было. Нет, неподдельное удивление Коломийца вызвал вопрос, с которым к нему подошел Иванюшин:
– Товарищ старший лейтенант, давайте на массаж.
– Куда? – слегка оторопев переспросил тот.
– На массаж, – широко улыбнувшись, пояснил ротный.
Коломиец удивленно хмыкнул, и покосился в сторону, откуда пришел Иванюшин. Там, под деревом, толпилось несколько человек, окружавших колоритную парочку. Один из этих двоих лежал прямо на лежанке из нарубленного лапника и сорванной травы, накрытых шинелью и плащ-палаткой, а другой, стоя на коленях рядом с ним, держал ногу лежащего, разминая ее сильными пальцами. А чуть дальше, около еще одной такой же лежанки, маячила еще пара человек.
– И зачем эти буржуйские штучки? – слегка недовольно поинтересовался старший лейтенант.
– Зря вы так, – нахмурился Иванюшин. – Если нагруженные мышцы вовремя не размять – к вечеру еле ходить будете. А нам еще один ночной марш и налет предстоят. У нас, товарищ старший лейтенант, в каждом отделении по два штатных подготовленных массажиста. Сам комбат лично учил! Ну и еще есть любители… Так что как завтрак будет готов – как раз со всеми и закончим. Идемте…
Через пять минут старший лейтенант Коломиец уже расположился на лежанке, а его гудящие ноги ловко разминал рядовой Кумыкин, которого он пару недель назад негласно опрашивал. Ничего особо интересного тогда Кумыкин ему не рассказал, но его уважение к своему комбату сквозило в каждом слове. И сейчас, похоже, Коломиец имел возможность воочию наблюдать за одним из тех кирпичиков, на которых было выстроено это уважение. Кто же ты такой, капитан Куницын?..
5
Курт выбрался из автомобиля и, махнув рукой выскочившему его встречать лейтенанту, коротко поинтересовался:
– Генерал у себя?
– Так точно, – мгновенно отозвался лейтенант, а затем, заметив, что Курт решительно взбежал по ступенькам крыльца, нетвердо продолжил: – Но, господин гауптман, мне приказано…
Курт раздраженно махнул рукой и, резким движением отворив дверь, шагнул в полутемные сени. Дверь, ведущая из сеней в теплую избу, была открыта, и из нее доносился напряженный голос, докладывающий:
– …захватили батарею пятнадцатисантиметровых гаубиц.
– То есть они стреляли из наших же орудий?!
– Так точно, герр генерал!
– Шайзе!
Курт скрипнул зубами и шагнул к распахнутой двери.
– Разрешите, господин генера… генералы?!
Дядя Гейнц сидел сбоку стола, откинувшись на спинку и лениво разглядывая докладчика, а сидевший за столом прямо напротив входа сухопарый человек в мундире со знаками различия генерала пехоты, наоборот, подался всем корпусом вперед, теребя пальцами стоячий воротник, как будто ему не хватало воздуха. С другой стороны от стола сидел еще один генерал, чье душевное состояние можно было бы охарактеризовать как нечто среднее между тем, в котором пребывали дядя Гейнц и генерал пехоты. Но на появление Курта он отреагировал первым.
– Кто вы такой и что вам здесь нужно?
– Представитель ОКХ гауптман фон Зееншанце, – коротко представился Курт, четко отдав честь и брякнув об пол каблуками щегольских сапог.
– Добрый день, Курт, – небрежно поприветствовал его дядя Гейнц, – снова выбрался к нам из своего спокойного и уютного Вюнсдорфа?
– Так точно, герр генерал, – коротко отозвался Курт. Это дяде Гейнцу не возбраняется в такой ситуации продемонстрировать пренебрежение уставной формой отношений и родственные связи, ему же подобает, наоборот, быть подчеркнуто уставным.
– Отлично. Если желаешь – можешь поприсутствовать. Тем более, что мне будет интересно твое мнение. Должен тебе сообщить, что у этого твоего русского, за которым ты гонялся некоторое время тому назад, появились отличные ученики.
– Я в курсе, герр генерал, и с удовольствием выслушаю свежую информацию. Разрешите присесть?
– Устраивайтесь вон там, у окна, гауптман, – уже несколько более благожелательно отозвался тот генерал, который первым задал вопрос, и, блеснув очками, повернулся к докладчику:
– Продолжайте, полковник.
– Яволь! Итак, общие потери на десять часов утра второго сентября. Нами потеряно около тысячи двухсот тонн боеприпасов и военного снаряжения. В подавляющем большинстве при подрыве эшелонов на станции, но порядка шестидесяти четырех тонн и в подразделениях хранения и распределения. Также мы лишились около четырех с половиной тысяч тонн горючего. Из них в подразделениях хранения и снабжения частей и соединений – около семисот тридцати тонн. Остальное – в полевом топливном складе и там же, на станции. Это – главные потери. Кроме того, за последние двое суток мы потеряли тысячу девятьсот тридцать четыре человека солдат и унтер-офицеров и сто двадцать два офицера. Из них убитыми – восемьсот одиннадцать солдат и унтер-офицеров и семьдесят семь офицеров, – он слегка помялся и пояснил: – Судя по всему, диверсанты в первую очередь выцеливали именно офицеров и унтер-офицеров. Более того, похоже, по ним работали специально выделенные для этого снайперы. Поэтому среди них куда большее соотношение убитых по отношению к раненым… А также восемьсот девятнадцать автомобилей, семьдесят шесть мотоциклов, одиннадцать зенитных орудий типа Flak 30 и восемь типа Flak 18…
– Э-э… как? – недоуменно переспросил генерал, сидевший напротив дяди Гейнца.
– Эти орудия были зенитным прикрытием станции, – пояснил полковник. – До этого налета мы считали, что основной угрозой для развернутого там временного узла снабжения будет авиация… Когда подорвали вагоны с боеприпасами – там мало что осталось. Среди безвозвратных потерь лидирует именно станция. Там погиб четыреста семьдесят один человек. В том числе двадцать шесть офицеров. Большая часть – офицеры тыла из состава персонала узла снабжения. Ну и от зенитного прикрытия там тоже мало что осталось…
– Понятно, продолжайте.
– Благодарю вас… а также четыре тяжелых полевых гаубицы sFH 18 и одно штурмовое орудие.
– А штурмовое орудие-то как? – удивился теперь уже генерал пехоты. Полковник замялся.
– Э-э… дружественный огонь. После вчерашней ночи все очень возбуждены и… в общем, солдатам одного из пехотных полков показалось, что их атакуют, и они открыли огонь из Pak-35.
Ответом на его слова стало тяжелое молчание. Потом сидевший напротив дяди Гейнца генерал тихо спросил:
– Сколько вообще мы потеряли от дружественного огня?
– Э-э-м… – полковник помедлил и нехотя сообщил: – Точные цифры уже уточняются, но по первым прикидкам среди потерь личного состава таковых около десяти процентов. С вооружением и техникой ситуация намного лучше.
– То есть?
– Ну-у… от дружественного огня, кроме штурмового орудия, мы потеряли только семнадцать автомобилей и шесть мотоциклов. Причем большинство подлежит ремонту.
– Да-а… С потерями все?
– Почти. Еще потеряно четыре радиостанции дивизионного и корпусного уровня на автомобильной базе, один полевой коммутатор и… некоторое количество вооружения, которое еще уточняется.
– И много?
– Да.
– А точнее.
– Ну-у… – полковник снова замялся. – Только по MG-34 цифра уже перевалила за сотню.
В избе на минуту установилась похоронная тишина. А потом дядя негромко спросил:
– А как вы оцениваете влияние этих диверсий на наши наступательные возможности?
– Как значительное, – тихо отозвался полковник. И пояснил:
– Дело даже не в потерях. В настоящий момент только для охраны тыла и поиска диверсантов задействовано около тринадцати с половиной тысяч человек. Это довольно крупные силы, которые пришлось отвлечь от выполнения других задач. Но, к сожалению, поскольку большая их часть представлена не специализированными охранными подразделениями и специальными командами по поиску и задержанию диверсантов, а сборной солянкой, из которой существенную часть составляют военнослужащие тыловых подразделений, в настоящий момент даже они не могут гарантировать того, что нынешней ночью наши подразделения не подвергнутся нападению. Однако самая главная наша проблема все же не в этом…
Но закончить с поднятой им темой охраны тыла ему сразу не дали. Дядя Гейнц качнулся на стуле и небрежно бросил:
– Я не понял, так нам стоит опасаться новых налетов этой ночью или нет?
Полковник тяжело вздохнул:
– Мы считаем, что опасаться стоит, но… но либо их вовсе может не произойти, либо наши потери от них будут не слишком значительными.
– Поясните!
– Дело в том, что если в ночь на первое сентября состоялось девятнадцать боестолкновений, то прошлой ночью таковых было всего шесть. Причем лишь два были… – тут полковник слегка замялся, но затем нашел в себе силы продолжить, – налетами диверсантов, остальные четыре – дружественный огонь…
Сидевший во главе стола генерал пехоты не выдержал и нервно выругался. Впрочем, Курт, будь он в другой компании, непременно последовал бы его примеру. Но полковник еще не закончил:
– …И, судя по полученным штабом отчетам об этих двух столкновениях, они были спонтанными и оказались результатами случайной встречи наших усиленных патрулей с диверсионными группами, задачей которых, похоже, было не нападение, а отход. Так что, мы предполагаем, что доставившая нам столько неприятностей группировка диверсантов сейчас всеми силами стремится выйти из зоны нашей ответственности.
– Районы ночных столкновений перекрыты?
На этот вопрос вместо полковника ответил генерал, сидевший напротив дяди Гейнца:
– Да, как и весь район далее на север, по направлению их вероятного движения. Но пока поиски никаких результатов не дали. Ни в тех районах, где боестолкновения состоялись прошлой ночью, ни в тех, где позапрошлой. Поэтому мы и держим под ружьем так много народу. Если бы мне удалось локализовать текущую дислокацию диверсантов – на то, чтобы разобраться с ними, достаточно было бы пары батальонов моих ветеранов.
Все молча обдумали новую информацию, а затем пехотный генерал еще раз уточнил:
– То есть вы считаете, что противник уходит, и этой ночью вероятность новых налетов не очень велика?
Курт почувствовал, как напряжение, витавшее в избе, слегка снизило градус.
– Да, но полностью ее исключать я бы не стал. В конце концов, даже если основные силы диверсантов действительно отходят… на север или куда-нибудь еще, я не могу исключить, что эти две группы – всего лишь прикрытие для привлечения внимания, и ничто не мешало им оставить здесь пару-тройку диверсионных групп, чтобы они попытались отвлечь нас от преследования и заставить распылить силы.
– А если не отходят, то это означает, что у нас в тылу действует как минимум шестнадцать диверсионных групп? – нервно переспросил генерал пехоты.
– Да, – коротко кивнул полковник. – Хотя майор Краземан высказал предположение, что несколько объектов могло быть атаковано одними и теми же диверсионными группами. Расчет времени это допускает. Но после обсуждения мы отказались от этой версии.
– Почему?
Полковник пожал плечами.
– Если бы дело было только в том, чтобы всего лишь добежать из точки «А» в точку «Б», то да, времени вполне бы хватило. Но выдержать сначала выдвижение, затем бой, потом предельно быстрый ночной марш, причем по лесу, а затем, практически с марша – новый бой… Вы все здесь опытные офицеры, господа, – сами оцените насколько это реально.
– Значит, по вашим предположениям, вероятные неприятности, которые могут быть нам доставлены, – это ночные налеты на пару-тройку наших объектов?
– Да, но не думаю, что они будут сколько-нибудь успешны. Во время подобных налетов главное – внезапность. А ее у диверсантов сейчас уже нет. Во все подразделения направлена полная информация о диверсантах и наши рекомендации, так что все уже наготове. Везде усилены караулы, сформированы хорошо вооруженные дежурные подразделения и приняты меры для усиления взаимодействия и оказания своевременной помощи соседним подразделениям, в том случае, если они подвергнутся атаке. Я думаю, что если русские диверсанты попытаются сегодня напасть, наш ущерб будет не слишком большим, а вот наши шансы прижать диверсантов – наоборот. Но это вряд ли. Они и сами должны понимать все то, что я сейчас здесь изложил.
– Хорошо, с этим – понятно, – кивнул генерал Гудериан. – Теперь мы готовы выслушать, что представляется вам нашей самой главной проблемой.
Полковник вздохнул:
– Дело в том, что удары диверсантов совершенно дезорганизовали наши тылы. И дело не только в номинальных потерях. Например, безвозвратно мы, теоретически, потеряли всего около трех сотен автомобилей, но ввести в строй ремонтопригодные нам просто нечем.
– Почему?
– Мы потеряли более восьмидесяти процентов ремонтных мощностей. Причем не только личный состав ремонтных подразделений, а полностью – то есть станочный парк, инструменты, запасы запчастей и так далее. Более того, это уже начинает сказываться на боеспособности подразделений первой линии. В первую очередь естественно, танковых и моторизованных. Нам просто нечем и некем восстанавливать подбитую боевую технику. Так что сегодня даже та техника, которая ранее после двух-трехдневного ремонта готова была вернуться в строй, для нас на некоторое время стала безвозвратно потерянной. И эта проблема как минимум на месяц, пока из рейха не пришлют новое оборудование и личный состав.
«И это еще крайне оптимистичная оценка», – подумал про себя Курт. И тут же дядюшка Гейнц, как будто прочитав его мысли, заявил:
– Вы как-то излишне оптимистичны, Кепке. Я думаю, вы вряд ли получите все запрашиваемое раньше начала зимы. К тому же никто не отменял времени, необходимого для боевого слаживания подразделений и приобретения ими нужного опыта. Так что требуемого уровня эффективности вновь сформированные подразделения достигнут, дай бог, к Рождеству, а то и вообще к весне.
– К весне война уже закончится, герр генерал, – впервые улыбнулся полковник. Дядя хмыкнул.
– Я бы на вашем месте не был бы так уж уверен в этом.
После этих слов оба генерала покосились на дядю Гейнца. Как показалось Курту, скорее с завистью, чем с осуждением. Ну да дядюшка слыл любимчиком фюрера, поэтому мог позволить себе несколько больше, чем остальные.
– Хорошо, – вернул совещание в свое русло генерал пехоты, – что сделано для исправления вопиющего положения с безопасностью тылов?
Тут полковник разразился цветистой речь, в которой досталось всем – от начальства охранной дивизии до Geheimfeldpolizei[34], SD[35] и Feldgendarmerie[36]. Но Курта это уже не особенно интересовало. После прибытия в Минск он заскочил к своему приятелю по университету, подвизавшемуся в четвертом отделе RSHA[37], что позволяло ему, с одной стороны, чувствовать себя донельзя воинственным и куда более могущественным, чем он заслуживал, а с другой, обретаться не слишком близко от линии фронта. Так что об этой стороне обсуждения он был проинформирован едва ли не лучше всех присутствующих, включая, пожалуй, и полковника. И, по его мнению, судя по предположительной численности диверсантов и тому, что их дислокация так до сих пор и не локализована, озвученных полковником сил и средств, выделенных на поиск и ликвидацию диверсантов, будет явно недостаточно. Так что надежды армейцев на то, что уже прибывшие и прибывающие сегодня вечером и завтра специалисты снимут с них это бремя, еще какое-то время не воплотятся в жизнь. Наоборот, такие, как Ганс Липке, с которым фон Зееншанце уже имел возможность познакомиться, совершенно точно потребуют себе в усиление и людей, и технику.
Гауптман вздохнул. Как это все не вовремя… Если полковник прав, и диверсанты уходят из тылов наступающей группировки, самым разумным было бы вообще выкинуть их из головы и максимально форсировать наступление. Но так как сюда как мухи на некую субстанцию уже слетаются эти бравые ребята из СД, следует ожидать прямо противоположной реакции.
После совещания Курт отправился к дяде Гейнцу.
– Ну как тебе наши последние новости? – криво усмехнулся генерал, когда они немного отъехали.
Гауптман пожал плечами.
– Так же как и вам, дядя. Очень неожиданный и весьма болезненный удар. Доклад полковника, м-м-м…
– Хайнемана, – подсказал Гудериан.
– Да, благодарю… Хайнемана был достаточно подробным и всеобъемлющим. Мы оказались полностью не готовы к подобным действиям противника, ожидая обычного противодействия полевых войск.
Генерал усмехнулся.
– То есть после твоего доклада в Вюнсдорф ОКХ не будет тюкать меня в темечко и гневно вопрошать, почему мы все еще топчемся на месте?
– А вот на это я бы не рассчитывал, дядя, – усмехнулся в ответ Курт. – Сами же знаете, что бы вы не делали – для моих шефов это будет либо «недостаточно быстрое продвижение», либо «рискованный отрыв от тылов и поддержки», – и они оба в голос рассмеялись.
– Да уж, – задумчиво произнес генерал, когда веселье утихло. – Кто бы мог подумать, что у русских так развиты диверсионные зондеркоманды[38]. Я думал, что подразделения, подобные мальчикам Канариса, которых он натаскивал под Бранденбургом[39], есть только у нас.
Курт удивленно воззрился на него.
– Дядя, а вы что, считаете, что все это сделали специально подготовленные диверсанты русских?
Гудериан, свою очередь, недоуменно уставился на него.
– А кто же это еще может быть? – он несколько мгновений озадаченно смотрел на Курта, а потом в его глазах мелькнуло понимание и генерал покровительственно рассмеялся.
– Ты опять об этом своем русском капитане… Курт-Курт, я всегда считал тебя человеком с блестящим умом и великолепными аналитическими способностями. Но, похоже, этот капитан стал для тебя идефиксом. Это что, результат того, что он сумел тебя разгромить? Или это связано с твоими чувствами к русской девушке-врачу, общества которой он тебя лишил? Я тебе еще в прошлый раз говорил, что не стоит видеть в любом успехе русских в нашем тылу его злую волю.
– Дядя, ты не понимаешь… – горячо начал гауптман, но Гудериан вскинул руку, прерывая его.
– Курт, я тебя прошу – успокойся. Месяц назад я, по твоей просьбе, инициировал расследование на тему того, кто произвел подрывы мостов через реку Березина, за которыми ты увидел тень своего капитана. И что?
Фон Зееншанце насупился, а затем пробурчал:
– Я считаю, что расследование проведено некачественно. Для разрозненных групп окруженцев, которые названы в нем виновниками этих диверсий, столь хорошо скоординированный подрыв был бы невозможен. Не говоря уже о том, что все эти мосты имели вполне достаточную охрану.
– Должен тебе напомнить, что подрыв был не одновременным, – уже слегка раздраженным тоном заговорил генерал. – Первый мост был подорван на сутки раньше, чем два остальных. Причем, он был подорван именно после того, как группа, подорвавшая его, использовала этот мост для переправы на другой берег. Точно так же поступила и еще одна группа. Так что предположение, что как минимум два этих моста атаковали два разрозненных подразделения из состава разгромленных под Минском русских частей, имеет под собой куда больше оснований, чем твоя версия. Они сумели, или, скажем, просто решили на время затаиться, привести себя в порядок, пополниться с помощью мелких разрозненных групп и лишь затем тронулись в сторону фронта. Их основной задачей было в первую очередь найти способ преодолеть такую сложную водную преграду, как Березина, а сам подрыв моста был произведен лишь попутно. Тем более, что охрана мостов подверглась внезапной атаке довольно значительных группировок противника, имеющих средства усиления, переправа которых через Березину без моста была бы чрезвычайно затруднена. Вот они и шли к мостам. А охрана мостов на противодействие столь крупным вражеским группировкам, естественно, была не рассчитана. Вот и результат…
И еще, я хотел бы тебе напомнить, что от района прежних действий этого твоего капитана Березина находится на расстоянии более трехсот километров. Да, признаю, подразделение капитана отлично показало себя в полевой обороне против выделенной тебе сборной солянки. Но неужели ты считаешь, что сборное воинское подразделение, составленное из освобожденных из лагеря пленных, принадлежавших ранее не только к различным частям, но и разным родам войск, и вооруженное чем попало, способно пройти такое расстояние по нашим тылам и ни разу не то что не нарваться на патрули, но и вообще не быть замеченным ни фельджандармами, ни военнослужащими местных вспомогательных подразделений, ни даже случайными одиночками? Это – ненаучная фантастика, мой мальчик.
– Но куда он тогда делся? Ведь в прежнем районе его больше нет, не так ли? И докладов о том, что там было разгромлено крупное организованное воинское подразделение, оттуда тоже не поступало.
– Курт, прошу тебя, вспомни, что тебе преподавали в университете и не множь сущностей сверх необходимого. После того, что творилось в том районе, там была проведена целая войсковая операция, в которой были задействованы довольно значительные силы и средства, – тут на лице генерала Гудериана появилось крайне недовольное выражение. – Я, между прочим, считаю, что именно это отвлечение сил и средств и сорвало нам почти уже неизбежный захват довольного важного узла железных и шоссейных дорог города Smolensk. Нам не хватило буквально нескольких батальонов и пары-тройки эскадрилий, которые в этот момент были отвлечены от фронтовых заявок на бомбежку лесных массивов в наших тылах, в которых хотя бы предполагалось присутствие хоть сколько-нибудь значительного числа русских солдат. Хотя это, как ты помнишь, принесло свои результаты. Нападения прекратились и до сих пор более не возобновились, а полицией и войсками было захвачено около двух с половиной тысяч пленных. Это, насколько мне помнится, куда больше, чем было у твоего капитана.
– Но все это были разрозненные группировки, а между тем у капитана…
– Курт, ну не заставляй мне напоминать тебе, что происходит с организованным подразделением после хорошей бомбежки, застигнувшей подразделение вне укрытий и фортификационных сооружений. Особенно если во время бомбежки гибнет командный состав. Ты что, не читал рапортов? Там же описаны десятки подобных случаев. Я же тебе говорю, люфтваффе бомбило там даже барсучьи норы, если имелось хотя бы малейшее подозрение, что там могут скрываться русские. Я уверен, что это доставившее нам столько неприятностей подразделение попало под бомбежку и было совершенно рассеяно, а сам капитан погиб… – он усмехнулся. – Ты еще скажи, что именно его подразделение столь успешно прорвалось через наш фронт две недели назад, сорвав Нашему ядовитому гному[40] небольшую местную наступательную операцию. Впрочем, оборона ему всегда удавалась куда лучше, чем наступление…
– Но…
– Хватит, Курт, я прошу тебя! – на этот раз тон генерала не оставлял сомнений в том, что он более не намерен обсуждать эту тему.
Некоторое время они ехали молча, но когда машина генерала свернула с проселочной дороги на засыпанное щебенкой шоссе, генерал Гудериан решил сменить гнев на милость и поинтересовался:
– И все же, Курт, чем же он тебя так зацепил, что ты никак не оставишь его даже в могиле?
– Никто пока не показал мне его трупа, дядя, – тихо ответил фон Зееншанце, – и пока я не увижу его собственными глазами, я не поверю, что он мертв.
– А если его тело разорвано в клочья авиабомбой или тяжелым снарядом?
Гауптман упрямо мотнул головой.
– Это невозможно. Он вывернется.
Гудериан скептически улыбнулся, но решил не обострять.
– Хорошо, может быть… Но, все-таки, чем он привлек твое столь пристальное внимание?
Курт несколько мгновений помолчал, а затем нехотя ответил:
– Он – необычен, дядя.
– Что ты имеешь в виду? – нахмурился Гудериан.
Фон Зееншанце вздохнул:
– Понимаете, дядя, я… я не могу его просчитать.
Генерал молча смотрел на племянника, ожидая продолжения.
– Как вы знаете, у каждого из профессионалов рано или поздно в голове накапливаются некие шаблоны. Шаблоны действий. Именно эти шаблоны и являются признаком профессионализма. Вот, скажем, возьмем машиниста паровоза… молодой машинист, только что закончивший училище, обладает достаточным объемом профессиональных знаний, чтобы, исходя из веса и тяглового усилия своего паровоза, а также веса прицепленного к нему эшелона и рельефа предстоящего пути рассчитать, какую необходимую мощность следует развивать на каждом участке пути, на каждом уклоне, повороте и так далее, чтобы пройти маршрут точно по расписанию. Но если его посадить на паровоз и отправить в путь – он точно либо опоздает, либо вообще устроит катастрофу. Потому что обстановка в пути будет меняться быстрее, чем он будет успевать считать. А вот профессионалу считать не надо. Он при каждом изменении ситуации будет включать тот или иной уже наработанный за годы практики шаблон и спокойно вести состав. Так же и опытный офицер – используя наработанные или изученные и закрепленные опытом шаблоны, в каждом конкретном случае действует уже знакомым и где-то ранее опробованным образом…
– Ты не совсем прав, Курт, – перебил его генерал. – Именно нешаблонные действия и помогли нам так быстро разгромить Польшу и Францию. Тщательно спланированные, но нешаблонные. А «Учения на Везере»[41] вообще были отрицанием всех и всяческих шаблонов.
Курт мотнул головой.
– Я прав, дядя. То, что называется «нешаблонные действия» – является таковыми в лучшем случае только один раз. Потом это превращается в новый шаблон, который затем используется точно так же, как все остальные. Просто сначала эти действия являются шаблоном только для того, кто научился делать так первым. И все это время этим первым был рейх. Да и сами нешаблонные действия чаще всего являются просто новым сочетанием ранее освоенных шаблонов, а не чем-то абсолютно новым…
И потом, твои примеры некорректны – это стратегический уровень. Там действительно уже есть кое-какой простор для новых комбинаций, хотя, как ты знаешь, большинство все равно предпочитает пользоваться шаблонами. И чаще всего вполне успешно. А на уровне подразделения шаблоны – короли поля боя. И наши успехи здесь, в России, во многом объясняются в первую очередь тем, что наши солдаты, унтер-офицеры и офицеры, вследствие гораздо большего имеющегося у них боевого опыта, уже отработали и сделали лично своими очень много шаблонов. А русские… я проводил анализ – у них вследствие резкого роста размеров армии в последние два года, а еще больше вследствие репрессий тридцать седьмого – тридцать восьмого годов практически разрушилась система боевой подготовки. Индивидуальная как-то шла, причем очень неровно от подразделения к подразделению даже в одном соединении. А вот командирская учеба и учения полкового уровня и выше… – Курт покачал головой. – Но я опять отвлекся… Я хотел обратить твое внимание вот на что: у любого из офицеров, прошедшего обучение по определенной воинской специальности, уже есть некий набор шаблонов. У пехотного офицера – свой, у артиллериста – свой, у диверсанта – свой. И эти шаблоны непременно оказывают влияние на его действия, даже если он действует в непривычной для себя сфере и на том уровне, когда требуется не специализация, а синтез. То есть даже обучившись и перейдя на ступень руководства общевойсковым боем, одну и ту же задачу пехотинец, артиллерист или диверсант будут решать сильно… ну, или, как минимум, несколько по-разному, – Курт замолчал, внимательно глядя на дядю. И генерал Гудериан еще раз подтвердил свою репутацию блестящего военного ума рейха.
– То есть ты хочешь сказать, что он действует так, что его действия не подходят ни под один шаблон?
– И да, и нет, – ответил фон Зееншанце. – Скорее, он действует так, будто владеет всеми этими шаблонами. Но так быть просто не может. Базовые схемы закладываются на начальном этапе развития профессиональных умений и навыков.
Генерал на некоторое время задумался.
– А если… – он на мгновение замолчал, будто еще раз обдумав пришедшую ему в голову мысль. А затем продолжил: – А если он просто не капитан?
– То есть? – не понял Курт.
– Ну, ты же сам говорил об операциях стратегического масштаба. А что если он подготовлен именно к такому уровню? Ты вот упомянул репрессии тридцать седьмого – тридцать восьмого. Русские тогда очень хорошо прошлись по своему офицерскому корпусу. Особенно по верхушке. Насколько я помню, они почти полностью уничтожили весь высший командный состав своих вооруженных сил[42]. Кого убили, кого бросили в лагеря, а кому повезло – тот отделался понижением в звании на несколько ступеней. А что если он один из таких «счастливчиков»? Ведь, если пользоваться твоей терминологией, офицеры высокого ранга отличаются именно умением совмещать разные шаблоны. А там, где есть совмещение, там возможно и разделение… выделение нужного в данный момент.
Курт задумался, а потом отрицательно покачал головой.
– Не думаю. База все равно прорывается. Наполеон, уже будучи императором и великим полководцем, все равно оставался в первую очередь артиллеристом. Все его сражения спланированы под наиболее эффективное использование артиллерии. А у капитана этого нет. Он брал склады как профессиональный диверсант, атаковал штаб как головорезы генерала Штудента[43], а мой сводный отряд разгромил в классическом полевом сражении.
Гудериан задумался, но в этот момент машина остановилась. Они прибыли в штаб второй танковой группы.
6
Вилора ворвалась в избу, занимаемую начальником полевого госпиталя, будто южный смерч.
– Товарищ военврач первого ранга, как же так?!
Александр Моисеевич, что-то старательно записывающий в большом «гроссбухе», лежавшем на его столе, поднял голову, сдвинул очки на лоб и удивленно воззрился на девушку.
– Э-э, товарищ Сокольницкая? Уже прибыли?
– Да, но… товарищ военврач первого ранга, мой батальон… мне надо к ним!
– К кому? – не понял начальник полевого госпиталя.
– К батальону капитана Куницына!
Александр Моисеевич Шпильман решительным движением закрыл «гроссбух», отодвинул его в сторону и снял со лба очки.
– Значит так, Сокольницкая, садитесь.
– Но…
– Садитесь, товарищ военврач третьего ранга.
– Но я…
– Садись, кому сказал! – рявкнул Шпильман, и Вилора сама не поняла, как шмякнулась на табуретку, стоявшую перед рабочим столом начальника полевого госпиталя.
– Ты сейчас кто?
– Я?
– Да-да, ты.
– Ну-у, Вилора я. Сокольницкая. Вы же сами сказали…
– Тьфу ты, детский сад – штаны на лямках! – выругался Александр Моисеевич. – Я ее об одном спрашиваю, а она мне как на первом свидании свои паспортные данные… Ты, Сокольницкая – военврач третьего ранга. Если я правильно думаю, что ты полностью подтвердила свою квалификацию. Так это?
– Так, но…
– Цыц! Я сейчас говорю! – Шпильман сердито встопорщил усы. – Так вот, ты – военврач третьего ранга. А скажи-ка мне, Сокольницкая, есть ли в каком-нибудь, хоть самом отдельном и вовсю даже штурмовом и ударном батальоне штатная должность, которая предусматривает заполнение ее военврачом третьего ранга?
– Но я же…
– Цыц, я сказал! Отвечай на мой вопрос!
– Нет, но…
– А вот у меня в госпитале – есть. У меня не хватает одиннадцать санитарок, зубного техника, троих врачей, шесть ездовых и двух водителей. Причем три санитарки, врач и ездовой погибли в последние сутки. При этом у меня уже третьи сутки потоком идут раненые. Немцы в наступление перешли – по всему фронту давят. Или ты не слышала?
– Да, но, но… – Вилора не выдержала и захлюпала носом. – Но я же с ними столько всего… Как же они без меня там-то, а?
Все началось неделю назад. Она тем вечером, как обычно, проводила занятия с ротными санинструкторами и помощниками санинструкторов, которые у них в батальоне, решением командира, имелись в каждом отделении или расчете, а не только, как того требовал полевой устав РККА, один штатный на роту и один нештатный на взвод. Такое внимание к медицинскому обеспечению Вилоре было лестно, но, с другой стороны, свой, так сказать, предмет обучения она не переоценивала. У всех санинструкторов, даже у штатных, кроме специальности санинструктора имелась еще и какая-то боевая специальность. И подготовка именно к ней и занимала большую часть их времени. А ее занятия проходили поздним вечером, после того, как заканчивались занятия по освоению или совершенствованию боевых специальностей. Поэтому сначала она запланировала для своих занятий освоение весьма скромного объема знаний, навыков и умений – ну, чтобы не особенно отвлекать ребят от боевой подготовки. Однако, когда Вилора представила подготовленные тематический план занятий и расписание, капитан Куницын его не одобрил.
– Мало, – сказал он. – И материала, и часов мало. Банальная правильная обработка раны в первую минуту после поражения иногда приносит больше пользы, чем месяц госпиталя спустя день. И ее надо уметь делать не только штатным бинтом и антисептиком и на наиболее удобной части тела, что только и можно освоить за отведенное в вашем расписании на эту тему время, а всем, чем придется и где угодно. Так же с переломами, обширными повреждениями, кровотечением, контузией и так далее. Причем, обучить этому только санинструкторов так же мало. Мы должны обучить начальным медицинским навыкам всех бойцов батальона. Без исключения. А вы, Сокольницкая, лично сделать это не сумеете. Их много, а вы одна. Поэтому готовьте санинструкторов серьезно. Не только как полевых медиков, а в первую очередь именно как инструкторов – тех, кто может и будет учить других. Ну а сам при этом будет уметь куда больше чем другие. Вы же в армию ушли с выпускного курса мединститута, так?
– Да.
– А уже на фронте работали хирургом?
Вилора густо покраснела. Она, естественно, рассказала капитану Куницыну о том, что не только работала фельдшером, но и делала операции. Причем, как утверждал Кирилл Петрович, весьма на уровне. Но вот хирургом она себя не считала. Рано еще. Хирург – это… это… это не специализация, не должность это… это звание. Призвание. Хирурги – это кто-то вроде, как говорил дед, осененные благодатью Господней. Спасители и сохранители. Правая рука Господа, способная вырвать жизнь из пасти смерти… Хотя она, конечно, комсомолка и в Бога не верит, но… Короче, какой она еще хирург?! Она только учится… Но возражать не стала и молча кивнула.
– Ну, вот и отлично, – кивнул Куницын. – Значит, прекрасно представляете, что и как надо делать, чтобы раненый боец вам, хирургам, на операционный стол попал в лучшем состоянии, а также крови поменьше до этого потерял. Вот этому и учи.
– Но тогда мне нужно, чтобы они ко мне первыми приходили, – заявила Вилора в ответ, сердито нахмурив брови. – С утра прямо. А то они ко мне на занятия вечером приходят и еле живые – руки трясутся, глаза закрываются, чуть отвернись – глядишь, кто уже и дремлет. Вы же всех так гоняете…
– Верно, – усмехнулся комбат. – Гонял и буду. Так что какие приходят – такие и дальше будут приходить. А вы – учите. И именно таких. Ибо если они даже в таком состоянии все что надо сделать смогут, то тогда я за нашу медицину спокоен – в любом состоянии все сделают правильно. А вот если они будут уметь делать правильно только тогда, когда они свеженькие и отдохнувшие, то с них батальону в рейде никакого толку не будет. Откуда в рейде свеженькие-то?
Вилора снова покраснела. Вот ведь коза – сама не додумалась! Здесь не университет, а война, и экзамены здесь придется сдавать не профессорам, а жизни, и не в чистой аудитории, а где придется – в землянке, в палатке, а то и, как тогда с Малышевым, посреди леса на потрепанной плащ-палатке. Поэтому занятиям отдалась со всей страстностью своей натуры. И вот во время одного из занятий к ней как раз и прибежал Стёпка.
Стёпка был рыжим веснушчатым ездовым из госпиталя, которого военврач первого ранга Шпильман частенько использовал в качестве посыльного.
– Товарищ военфельдшер, – обратился он к ней, старательно отдав честь, но даже не заметив, что делает это левой рукой, – так это… разрешите обратиться?
– Что случилось, товарищ боец? – официально отозвалась Вилора, окинув суровым взглядом бойцов, у которых на уставших лицах то тут, то там засверкали улыбки. До Стёпки, похоже, так же дошло, что он что-то сделал не так, и он, стушевавшись, заговорил почти совсем по-граждански:
– Так эта… Моисеич… то есть, товарищ военврач вас требуют. Срочно сказали.
– Меня? – удивилась Вилора. – Зачем?
– Не знаю. Так это… там начальство приехало. Из окружного госпиталя. Вот оне и требуют.
– Начальство требует?
– Не-а, товарищ военврач требуют. А начальство, оно того… приехало.
Вилора развернулась к бойцам, которые, похоже, пока длился этот разговор, решили дать себе небольшую передышку, и сердито нахмурилась. Результатом этого тут же стал вид стриженых затылков «курсантов», мгновенно вернувшихся к старательной отработке выданного строгим «преподавателем» задания. А Вилора задумалась.
В принципе, занятие уже почти закончилось. Теоретическую часть она отчитала в самом начале занятия, тем более что теорию она давала по минимуму, и сейчас санинструкторы занимались отработкой практических приемов. В данный момент это была отработка действий по реанимации пациента при остановке сердца. Причем именно эти действия они отрабатывали уже на третьем занятии подряд. Вилора не менее трети каждого занятия отводила на повторение пройденного, каждый раз просто меняя в сторону усложнения исходные условия… Так что ее непосредственное присутствие здесь уже не очень-то и требовалось. Значит, можно не ждать окончания занятий, а идти сразу, ведь товарищ военврач первого ранга совершенно точно не стал бы посылать за ней без серьезной причины. Он же знает, что в это время у нее еще идут занятия.
К Александру Моисеевичу девушка относилась с уважением. Он сильно помог ей и с укомплектованием батальонного медицинского пункта, и с оснащением санинструкторов медицинскими сумками, да и готовясь к занятиям, она так же частенько бегала к нему за консультациями. Он еще удивлялся тому, что она собирается учить санинструкторов таким вещам, как диагностика сложных закрытых переломов или купирование травматического шока.
– Девочка моя, – смешно шевеля усами, говорил он, – это не уровень санинструктора. Они этого просто не поймут. Ты хоть образование-то у них уточнила? Ну, куда такое учить с четырьмя классами-то?
– Ой, Александр Моисеевич, – слегка покраснев от этого вполне заслуженного упрека (насчет образования она таки прокололась, во всяком случае, у нештатников она этот момент не уточняла), горячо заговорила Вилора, – они у меня все такие молодцы. Я уверена – поймут.
– Ну-ну… – добродушно покачал головой начальник госпиталя. Но нужный ей материал подобрал. И велел выделить дополнительный перевязочный материал для практической отработки навыков. А также немного гипса.
– Малышев! – позвала она своего ближайшего «нештатного» помощника, которого уже и не совсем правильно было называть нештатным.
– Слушаю, товарищ военфельдшер!
– Пусть каждый отработает весь комплекс еще по три раза, потом закончишь. Все понял?
– Так точно, товарищ военфельдшер. Сделаем.
После чего повернулась к Стёпке:
– Ну, веди, Харон.
– Так это… хто?
Вилора махнула рукой. Пошли, мол…
Начальник госпиталя был у себя. И, как и сообщил Стёпка, не один.
– А-а-а, Сокольницкая… – обрадовался он, когда девушка, постучав, просунула голову в приоткрытую дверь, – заходи-заходи. Вот, Шалва Зурабович, это и есть наша Вилора.
Сидевший за столом крупный мужчина со знаками различия полковника в полевых петлицах, уставился на Вилору восхищенным взглядом.
– Вах, какая девушка! – буквально выдохнул он, а затем вскочил и, шмякнув о стол помятой кружкой, от чего из нее выплеснулось немного резко пахнущей спиртом прозрачной жидкости, галантно отодвинул стул.
– Садись, дорогая!
Вилора удивленно посмотрела на него, а затем вновь перевела взгляд на начальника госпиталя.
– Александр Моисеевич, мне Степан передал, что вы вызвали, но если вы заняты, то я пойду. У меня еще занятия не закончи…
– Какой занятия?! – вскричал полковник. – Зачем занятия?! Почему так поздно занятия?! Не надо людей мучить, дорогая. Пусть отдохнут! Завтра уважаемый Александр Моисеевич самого лучшего врача даст – он все занятия проведет. А ты с нами посиди. Прошу!
Вилора же молча смотрела на начальника госпиталя, продолжая холодно игнорировать этого горячего кавказского мужчину. Военврач первого ранга добродушно усмехнулся.
– Ты давай, Сокольницкая, проходи. О тебе говорить будем. И знакомься, это – военврач первого ранга Геловани Шалва Зурабович. Начальник медслужбы тринадцатой армии.
Вилора недоуменно покосилась на полковника, стоявшего перед ней, придерживая отодвинутый стул, а затем неуверенно вошла в кабинет и опустилась на уголок стула.
– Так вот, Шалва Зурабович, именно о ней я тебе и рассказывал. В армию пришла с последнего курса Ленинградского медицинского, специальность – хирургия и, по ее рассказам, уже сделала не менее двух десятков операций.
После этих слов представленный Вилоре полковник как-то весь подобрался и, разом прекратив изображать из себя горячего кавказского мужчину, забросал Вилору вопросами.
– В каком медучреждении практиковали?
– В медсанбате двадцать второй танковой дивизии.
– Должность?
– Военфельдшер.
– То есть? – удивился полковник. Вилора слегка покраснела.
– Ну… у нас сначала Ольгу Порфирь… то есть начмеда убило, а раненых было очень много. Вот меня и поставили. У меня же по хирургии и всем сопутствующим предметам в институте всегда отлично было. И Ольга Порфирьевна меня еще до… ну-у-у, до войны по темам погоняла, все зачеты приняла и пару раз даже ассистентом на операции ставила. А потом командира батальона, Кузьму Порфирьевича во время авианалета в ногу осколком ранило. Вот меня и… – тут она замолчала, испугавшись, что ее слова примут за бахвальство.
– Поня-ятно, – протянул полковник. – А какие операции делала? – к удивлению Вилоры из его голоса практически совершенно исчез ранее, когда он жарко приглашал ее к столу, столь явно различаемый кавказский акцент.
– Ампутацию… иссечение… резекцию… – начала перечислять она, но полковник ее тут же перебил.
– Расскажи про какую-нибудь из ампутаций…
Он мучил ее еще минут тридцать, задавая вопросы об особенностях различных операций, которые она производила в те уже слегка померкнувшие в памяти дни, после чего удовлетворенно кивнул и развернулся к тихо сидевшему рядом начальнику госпиталя.
– Что ж, Александр Моисеевич, я думаю, что ваша идея вполне имеет право на существование. Девочка явно знает, что говорит. Поэтому, учитывая обстоятельства, мы вполне можем собрать комиссию и провести ее аттестацию на военврача третьего ранга. Полевые хирурги, да еще с опытом работы для нас сейчас действительно на вес золота…
– Какую аттестацию?! – вскинулась Вилора. – Я никуда…
Но Александр Моисеевич прервал ее, добродушно махнув рукой.
– Не волнуйся ты насчет своего батальона. Никуда он отсюда в ближайшее время не денется. К тому же это ненадолго – два-три дня и вернешься, – при этом он бросил быстрый взгляд на полковника, который с широкой улыбкой успокаивающе кивнул ей.
– Но у меня расписание, занятия…
– Найдем, кому проводить твои занятия. Не беспокойся, – успокаивающе кивнул начальник госпиталя. А Вилора задумалась. Уходить из батальона она никуда не собиралась, а столь резкое повышение в звании угрожало тем, что ее из батальона уберут. Нет, шансы на то, что этого не случится, были. И немалые. В конце концов, их батальон – оперативный резерв корпуса, так что… К тому же, военврач третьего ранга равен пехотному капитану. Одним махом догнать в звании комбата… Заманчиво! Может он, наконец, перестанет смотреть на нее как на несмышленую пигалицу и обратит внимание на симпатичную женщину-офицера, уже не раз доказавшую всему батальону свой профессионализм и полезность. Вилора заколебалась.
– Ай, что думаешь, девушка! – кавказский акцент полковника вернулся, и это показало Вилоре, что ей, пожалуй, стоит поскорее покинуть этот кабинет. Ибо кто его там знает, куда заведет его горячий кавказский темперамент. Удар же по морде начальника медслужбы армии совершенно точно не увеличит ее шансы предстать перед капитаном Куницыным в офицерском облике. А эта идея захватывала девушку все больше и больше…
– Эм… Александр Моисеевич, я… пойду. Мне еще надо закончить занятия и к тому же без разрешения командира батальона я не имею права…
– Какое разрешение? – тут же вскипел полковник. – Почему разрешение? Я сейчас позвоню…
Но Вилора уже выскользнула из кабинета и закрыла дверь.
На следующий день она подошла к комбату и доложила ему о предложении начальника госпиталя.
– Так это просто отлично, товарищ Сокольницкая! – обрадовался тот. – Немедленно соглашайтесь.
– Но если меня аттестуют на военврача то…
– То это будет очень хорошо, – перебил ее капитан, даже не дав высказать свои сомнения. – И вот еще что – зайди ко мне сегодня вечером, когда закончишь с санинструкторами. Покажу тебе полную схему «форсажа».
– Чего? – недоуменно переспросила Вилора. Комбат улыбнулся.
– Это то, что мы сделали с нашими ребятами с помощью акупунктуры. Ты же только часть точек знаешь, причем наименее важных. А я тебе покажу все. И… – он на мгновение задумался, а затем решительно продолжил: – Еще пару схем покажу. Одну для ускорения общей регенерации, а вторую – для активизации кроветворной способности спинного мозга. Понятно?
– Так точно, товарищ капитан!
Распоряжение на ее откомандирование пришло на следующее утро. Но Вилора задержалась еще на день, упросив капитана Куницына лично проконтролировать, как она освоила показанные им прошлым вечером схемы. Для чего выбила у Александра Моисеевича разрешение попробовать на раненых «новую, прогрессивную методику, позволяющую нашему советскому человеку мобилизовать для выздоровления все силы своего организма». Ну, так комбат, прибывший вместе с ней, объяснил свою акупунктуру начальнику госпиталя. Вилора же воспользовалась своим девичьим обаянием и добрым к ней отношением. И их, так сказать, совместный удар, привел к тому, что эта просьба была удовлетворена. Частично. Потому что для эксперимента им с капитаном предоставили двух очень «тяжелых» раненых. И, возможно, лишь потому, что все равно, как шептались санитарки, они были «не жильцы». У одного были обширные ожоги второй и третьей степени, а у другого – большая кровопотеря.
Капитан осмотрел их первым, после чего задумался и, совсем как тогда Малышеву, наложил «ожоговому» руки на тело, поблизости от самых обширных ожогов, и на несколько мгновений замер. Стоящие рядом Шпильман и медсестры с санитарками, каковых в палату набилось довольно много, удивленно переглянулись, но ничего не сказали. А капитан спустя секунд пять шумно выдохнул, оторвал руки от лежащего тела и, повернувшись к Вилоре, молча кивнул ей. Начинай, мол…
Первая попытка использовать акупунктуру полностью самостоятельно прошла успешно. Вроде как. Во всяком случае, капитан Куницын после окончания сеанса сообщил, что не заметил никаких ошибок, а сами пациенты во время сеанса умудрились не умереть. Были ли другие результаты ее воздействия, Вилора узнать не успела. Когда она утром забежала к дежурной медсестре, та ей ничего особенного сообщить не смогла. Оба раненых спали и особенных изменений в их состоянии ни медсестра, ни санитарки за ночь не почувствовали. Хотя вроде как эту ночь они провели поспокойнее, чем предыдущие. Тот, который с ожогами, даже какое-то время, где-то часа полтора, провел в забытьи перестав стонать. Но это уже совсем под утро… Одна из санитарок, вздохнув, даже обмолвилась:
– Да коль помрет без мучений – и то большое дело будет, девонька.
Для более развернутой диагностики надо было снимать повязки, но этого до осмотра, который собирался проводить сам Александр Моисеевич, никто делать не стал бы. А ей уже пора было отправляться.
В расположение армейского управления Вилора добралась только к обеду. Доложившись уже знакомому полковнику (или, вернее, военврачу первого ранга) Геловани, Вилора стойко выдержала очередной натиск горячего кавказского мужчины, после чего тот, слегка успокоившись, сообщил ей, что завтра он соберет врачебную аттестационную комиссию, а послезавтра ее ждет уже армейская аттестация. Ну, или чуть позже. Война ведь, кто знает, удастся ли с первой попытки собрать необходимый кворум. А пока ей нужно выдвинуться в расположение армейского эвакогоспиталя и встать там на довольствие. Ну и еще он советует познакомиться с местным руководством и персоналом, поскольку большая часть врачебной аттестационной комиссии будет сформирована именно на базе личного состава эвакогоспиталя.
Едва Вилора добралась до эвакогоспиталя, как тут же выяснилось, что ее уже ждут.
– Военфельдшер Сокольницкая? – встретила ее сестра-хозяйка, к которой она прибыла со своим аттестатом. – Вас начальник госпиталя просил зайти, как появитесь.
Начальником госпиталя, как выяснилось, была военврач второго ранга Баженова. Когда девушка, постучав, вошла в ее кабинет, ее глазам предстала высокая, но при этом страшно худая женщина с некрасивым, но породистым лицом, сидевшая за большим столом, заваленным папками с историями болезни, и курившая папиросу, вставленную в длинный костяной мундштук. Если бы не белый халат и место, где она ее увидела, Вилора бы никогда не догадалась, что перед ней военврач и большой начальник. Так должны выглядеть актрисы или поэтессы, ну, или, на крайний случай, скульпторши или художницы. Причем работающие в каком-нибудь новомодном стиле, типа экспрессионизма или кубизма.
– Сокольницкая? – голос у начальника госпиталя оказался глубоким, но хриплым. Возможно, из-за пристрастия к курению. – А ну-ка рассказывай, что ты там натворила с этими своими спицами?
– С ка… а-а, это не спицы. Это иглы. Это акупунктура – активизация внутренних резервов организма с помощью воздействия на определенные органы. А что, вам звонили из нашего госпиталя?
– Да уж звонили, – усмехнулась Баженова. – Ваш Александр Моисеевич буквально кипятком ссыт. У него майор лежит, с обширными ожогами…
– Я знаю, – не выдержав, перебила ее Вилора, но тут же покраснела и извинилась: – ой, простите…
Начальник госпиталя хмыкнула, сделала долгую затяжку («вот нарочно ведь, видит же, как я переживаю…») и продолжила:
– Он сегодня в себя пришел. В первый раз после поступления. Да и ожоги отчего-то начали по краям подсыхать. А до того все шло к тому, что отойдет. Конечно, не факт, что эти твои иглы помогли, могла и сама собой ремиссия начаться. Человеческий организм до сих пор такая загадка… Но к этой твоей, как ее там, акупунктуре, все равно присмотреться не мешает, – она сделала еще одну долгую затяжку, после чего прищурилась и, уколов Вилору острым взглядом своих густо-черных глаз, спросила: – У меня повторить сможешь?
– Ну-у-у, да, наверное…
Следующие двое суток для Вилоры превратились в сплошной конвейер. За это время девушка обработала двадцать три человека. Могла бы и больше, но она взяла с собой только один комплект спиц. А период обработки одного человека составлял более тридцати минут. Плюс время на установку. В общем, до вечера она успевала обработать всего около десятка раненых. Баженова, в отличие от Шпильмана, велела обрабатывать не только безнадежных, но и всех остальных тяжелых, а также средних. Впрочем, тяжелых в эвакогоспитале было всего девять человек. Большую часть таковых уже отправили в тыл.
Медицинская аттестация прошла, так сказать, в рабочем порядке – после установки очередному раненому комплекта спиц, полковник Геловани, до сего момента коршуном нависавший над работавшей Вилорой, распрямился и окинул взглядом всех, кто толпился в большой палате, в которой она, так сказать, священнодействовала, хмыкнул и сказал:
– Ну, товарищи, раз у нас здесь как раз собрался кворум, может заодно, пока ждем, проведем и аттестацию?
Аттестация прошла довольно быстро, но отнюдь не формально. Девушке пришлось изрядно попотеть, как демонстрируя свои институтские знания, так и рассказывая, так сказать, высокому собранию, какие операции и кому она успела сделать. И с какими трудностями при этом столкнулась. И как их сумела преодолеть. И о своем первом умершем тоже рассказала… С дрожью в голосе. Потому что, несмотря на прошедшее с того момента время и все потери, едва только она начала об этом говорить, ее снова охватила та же самая острая боль, как и в тот момент, когда это только что произошло. Но долго страдать не получилось. Пришло время вытаскивать иглы из одного пациента и ставить в следующего. А потом пошли другие вопросы.
Столь скорых результатов, которые так поразили Шпильмана, на этот раз добиться не удалось. Впрочем, Вилора те результаты относила больше не на счет акупунктуры, а на счет капитана Куницына с его «наложением рук». С какой целью он это сделал – Вилора не знала. Возможно, захотел придать больше веса новой технологии поддержки и лечения, а возможно, дело было в том, что без его воздействия тому обожженному офицеру никакая акупунктура не помогла бы… Но все равно на третий день у семидесяти процентов обработанных явно появилась (ну, или столь же явно усилилась) положительная динамика. Так что вокруг «игл Сокольницкой» тут же начался некоторый ажиотаж.
Нет, она протестовала. Громко. Всем говоря, что акупунктуру ни в коем случае нельзя связывать с ее именем. Что она всего лишь ученица. Что она вообще не представляет ни механизмов воздействия, ни всего набора схем воздействия. И вообще она – всего лишь «обезьянничает» за командиром, который и показал ей все то, что она умеет. И не более. Но Геловани громогласно заявил, что лично связывался с капитаном Куницыным, и тот горячо поддержал предложение назвать эту методику «иглами Сокольницкой». От такого заявления Вилора пришла в шок и тут же бросилась на узел связи.
Комбат ответил сразу.
– Товарищ капитан, – торопливо заговорила Вилора, – тут какая-то глупость творится! А меня никто слушать не хочет. Ваши методики…
Капитан молча выслушал девушку, а потом… рассмеялся.
– Не волнуйтесь, Сокольницкая, это я попросил Шалву Зурабовича сделать так, чтобы акупунктура стала вашей, так сказать, личной вотчиной.
– Но… как… почему?
– Потому что, Вилора, – мягко пояснил комбат, – из нас двоих медик – именно вы. Вы знаете строение человеческого тела, знакомы с физиологическими процессами, протекающими в нем, обучены обращению с медицинской аппаратурой, теми же рентгеновскими установками, например, а я – военный. И именно я как раз, та самая обезьянка, которую когда-то обучили десятку схем и способам их комбинирования. И более я ничего не умею. И разбираться у меня времени нет. А это – важно и нужно. Представьте себе, сколько жизней можно спасти, используя даже пару тех схем, что я показал вам четыре дня назад. И самое главное, вы на это способны, Сокольницкая. Поэтому – «иглы Сокольницкой», и никак иначе.
– Но… но… но это нечестно!
– Пока – да, нечестно. Но это только пока. А вот когда вы со всем разберетесь, опишете и, может быть, составите новую, свою собственную схему воздействия, тогда все и станет честно.
Девушка насупилась. Все равно нечестно! Но пока она решила не ругаться и не спорить с командиром, а наоборот, робко спросила:
– А… а вы мне покажите еще… ну-у… другие схемы, которые вы знаете?
– Ну, конечно. Давайте побыстрее заканчивайте с аттестацией и возвращайтесь. Ваше новое звание для более успешного продвижения «игл Сокольницкой» будет очень полезно. И, значит, число не только спасенных жизней, но и оставленных в строю опытных бойцов и командиров, уже прошедших боевую закалку, будет тоже расти и приближать нашу победу.
– Так точно, товарищ капитан! – повеселев, ответила Вилора. Ну, конечно же, спасание жизни и здоровья наших бойцов и командиров – самое главное. И она приложит к этому максимум усилий. А что касается справедливости – она все равно поступит по-своему! И чтобы там не говорили, она все равно везде и всюду будет утверждать, что ее саму всему научил капитан Куницын, вот!
Когда Вилора уже покинула узел связи, из его дверей вышел невысокий мужчина со знаками различия майора государственной безопасности. Посмотрев вслед убежавшей девушке, майор Буббиков сунул руку в карман, достал портсигар и, вытащив из него папиросу, отчего-то не закурил ее, а принялся задумчиво постукивать ею о крышку портсигара. Да уж, буквально с каждым днем странностей в деле этого и так весьма необычного капитана все прибавляется и прибавляется. То, что капитан Куницын – не тот, за кого себя выдает, уже давно не вызывало сомнений ни у него, ни у его непосредственного начальства. А скорее всего и не только у непосредственного. И ведь не скрывается ничуть, шельмец! Кто же ты такой, капитан Куницын?..
Сама же Вилора, между тем, быстро добралась до эвакогоспиталя, где ее, как выяснилось, нетерпеливо ожидал полковник Геловани.
– Ай, где ты бегаешь, дорогая? Все уже собрались! Тебя одну ждут.
– Кто собрался? – не поняла девушка.
– Аттестационная комиссия собралась. Пошли уже.
Аттестация на воинское звание прошла довольно быстро и почти без разногласий. Почти, потому что стоило только начальнику строевой части высказать даже малую тень сомнения в том, что вот этой симпатичной, но уж больно юной девушке так уж необходимо присваивать звание, соответствующее армейскому капитану, как на него коршуном накинулась Баженова. Да так, что от «строевика» только пух и перья полетели. Причем присутствующим показалось, что отнюдь не фигурально. Начальник эвакогоспиталя после всего увиденного стала ярой поклонницей новой методики и, как старый, опытный управленец, прекрасно понимала, насколько легче пойдет ее продвижение в, так сказать, массы, если ее главный носитель станет военным специалистом командирского ранга. Так что день для Вилоры закончился вполне себе успешно.
Ну а утром она проснулась от отдаленного, но вполне различимого гула. Несколько мгновений она молча лежала в темноте, прислушиваясь к непонятным звукам, а затем вскочила и, как была – в одной ночной рубашке, только накинув шаль, выскочила на крыльцо.
– Что это? – испуганно спросила девушка.
– Ну, куда нагишом-то, оглашенная? – буркнула на нее какая-то пожилая санитарка. – Осень уже, простынешь, – потом повернулась в сторону гула, вздохнула и пояснила: – Немец лупит! Снова, сволочь, в наступление пошел. Ох, скоро опять сердешные без рук, без ног валом повалят…
Вилора почувствовала, как у нее внутри все заледенело, а ноги подкосились, и, опершись на косяк, медленно сползла по нему на пол.
– Ой, девонька, чего это ты? Что с тобой? – всплеснула руками санитарка, бросаясь к Вилоре. Но та уже вскочила на ноги.
– Я… мне… Мне нужно в батальон, – с отчаяньем выкрикнула она и бросилась в избу, уже понимая, что точно, на сто процентов опоздала…
7
– Разрешите?
Я поднял голову. Старший лейтенант Коломиец стоял рядом со мной, вооруженный котелком и кружкой с горячим чаем. После возвращения ночью с очередного сеанса связи с Москвой он был каким-то излишне возбужденным. Но расспрашивать о причинах этого возбуждения я его не стал. И так сам скажет.
– Присаживайтесь, – добродушно кивнул я. Коломиец тут же плюхнулся на поваленное дерево, опустил рядом котелок и, наклонив руку к голенищу, извлек из-за него замотанную в тряпицу ложку. После чего кивнул подбородком в сторону лежащей передо мной на плащ-палатке груды офицерских книжек.
– Ну как, обнаружили что-нибудь интересное?
Я усмехнулся. Значит, заходим издалека…
– Кое-что нашел, – согласно кивнул я, после чего повернулся и, вытащив из небольшой кучки уже просмотренных и отложенных офицерских книжек одну, легким движением кисти перекинул ее старшему лейтенанту. Коломиец ловко поймал ее рукой, свободной от ложки, раскрыл, пару секунд всматривался, а затем присвистнул:
– Значит, мы прижучили инспектора истребительной авиации люфтваффе? Ли-ихо!.. – он на мгновение замолчал, а затем задумчиво произнес: – Интересно, а что он делал на этом аэродроме?
– Может, предавался ностальгии? – невинно предположил я.
– То есть?
– Ну, судя по информации от пленных, этот Вернер Мельдерс ранее командовал пятьдесят первым ягдгешвадером, который базировался на этом аэродроме. И инспектором истребительной авиации он стал только недавно. Вот и приехал к, так сказать, родным пенатам. С друзьями повстречаться там, шнапсу выпить по старой памяти.
– И все? – скептически скривился Коломиец.
– Да нет, конечно, – пожал плечами я. – Скорее всего дело в том, что начавшееся неделю назад немецкое наступление несколько… скажем так, забуксовало. Вот из Берлина и прислали «толкачей», которые должны были заставить местных товарищей поактивнее шевелиться…
То, что генерал Еремин узнал о начале немецкого наступления за несколько часов до того, как немцы нанесли удар, и двадцатый стрелковый корпус сумел хоть как-то к нему подготовиться, изрядно притормозило немцев. Вернее, если я правильно оценил генерала, двадцатый стрелковый корпус сумел подготовиться к удару максимально полно. Ну, насколько это было возможно при его уровне комплектации, снабжения и боеспособности и с учетом имеющегося для этой подготовки времени. А то и чуть более, чем полно… Судя по тому, что передовые немецкие подразделения попали под бомбо-штурмовой удар, Еремин воспользовался моим советом насчет установления прямого, а не через штаб армии, контакта с авиацией. И сумел убедить «летунов» ударить по немцам немедленно, не дожидаясь прохождения команды на авиаудар обычным образом, через запрос в штаб армии и длинную цепочку последовательных согласований. Уж больно громоздкой и неуклюжей была система управления и взаимодействия в РККА… Но и вышестоящий штаб он тоже явно предупредил. И я очень надеюсь на то, что информацию о немецком наступлении успели довести и до командования фронта, и до соседей нашего корпуса тоже до начала этого самого наступления. А потеря даже тактической внезапности для наступающей стороны, это, по нормативам гвардии, шестикратное возрастание сопротивления и потерь и как минимум двукратное снижение потерь для стороны обороняющейся. Для первой атаки, естественно. Потом цифры падают до среднестатистических, рассчитываемых через соотношение сил, средств и уровня компетентности обороняющейся и наступающей стороны, коэффициенты боевого обеспечения, инженерного оборудования позиций, логистического и коэффициента сингулярного преломления вероятностей.
Такие расчеты я пока здесь не давал, в первую очередь потому, что не мог себе представить методику расчета большинства поправочных коэффициентов. Не вообще, конечно, а с требуемым уровнем достоверности. А без них наши методы расчета ничуть не точнее тех, что имелись здесь… Впрочем, конкретные цифры утренней атаки, скорее всего, отличались от наших нормативов, но общее соотношение точно не изменилось. Ну и наши «побегушки» по тылам тоже немцам серьезно подгадили, иначе они уже давно прорвали бы фронт на всю глубину и громили бы наши части, перебрасываемые для затыкания прорыва, где-нибудь в районе Рославля. И по частям. А не как сейчас, всего километров на пятьдесят-семьдесят южнее и восточнее прежней линии фронта. Если, конечно, сводки о положении на фронте, которые мне приносил Коломиец после сеансов связи с, так сказать, «большой землей», были точными. Ну, да, немцы продвинулись. Ну, так никто и не рассчитывал, что их удастся остановить не сдвинувшись ни на шаг. Да и вообще, то, что даже с учетом всего вышеизложенного, немцы все еще не вышли на «оперативный простор», каждый раз после вроде как решительного прорыва наталкиваясь на новый, спешно подготовленный рубеж обороны, можно было считать настоящим чудом.
И я практически не сомневался, что это чудо скоро закончится. Слишком много наших войск уже было разбито, потрепано и рассеяно на таких рубежах. Нет, не потому, что наши плохо сражались. Просто слишком большая разница в, так сказать, классе между нами и немцами. В два с лишним года войны. Причем войны победоносной. Но даже если фронт будет прорван уже сегодня, как минимум десять дней мы все-таки для нашей армии выиграли. А это реально много. Даже с нынешними очень, по моим меркам, неторопливыми темпами ведения боевых действий.
– …и этот Вернер Мельдерс был одним из них. А вот этот аэродром он, вполне возможно, посетил в том числе и из ностальгических чувств. Хотя… – я сделал вид, что задумался, – вполне возможно, что и не только. Явно серьезные ребята на нем базировались. Вспомните, сколько было крестов на бортах самолетов, которые мы столь успешно отправили в утиль. Десятки и десятки.
Да, так оно и было. Вот только я отнюдь не предполагал, что там базировались очень серьезные ребята. Я знал это точно.
– Да уж… – старший лейтенант хмыкнул. – Серьезные звери. И охрана у них была – будь здоров. А взяли вы их просто фантастически чисто. Мой старшина до сих пор в шоке от того, что мы только семерых потеряли. Такая мясорубка была…
Это – да. Аэродром под Старым Быховым[44] охранялся весьма серьезно. Уж не знаю, все ли аэродромы люфтваффе охранялись таким образом или конкретно этот, а может, дело было в том шорохе в немецких тылах, который мы навели, но этот аэродром, на котором базировалась почти сотня самолетов, большая часть из которых была истребителями (а еще несколько десятков пикировщиков и по несколько штук трехмоторных транспортников и одномоторных связных «аистов»), охранялся более чем серьезно.
Кроме полутора десятков малокалиберных зенитных орудий и четырехорудийной батареи зенитных пушек среднего калибра аэродром охраняло около батальона пехоты, на вооружении которой было шесть немецких бронетранспортеров с пулеметами, а также четыре трофейных советских пушечных бронеавтомобиля типа БА-10. Три из них, внешне, были на ходу, а у четвертого отсутствовало два колеса с левого борта. Так что левым бортом он опирался на короткие металлические козлы, сваренные из обрезков рельсов. Но вооружение у него, похоже, было в полном порядке. Кроме того, по периметру аэродрома были оборудованы шесть пулеметных гнезд, три из которых были позициями, укрепленными мешками с песком, а другие три были оборудованы в окопах полного профиля. Каждое из пулеметных гнезд прикрывали подразделения стрелков – от отделения до взвода. Кроме того, на некотором отдалении от пулеметных гнезд проходили маршруты нескольких патрулей. Ну а наиболее важные объекты – штаб, склад ГСМ, стоянка автотехники, склад боеприпасов и так далее, дополнительно охранялись отдельными часовыми.
Сам аэродром был довольно большим и неплохо обустроенным. Во всяком случае, ранее. Сейчас большая часть его строений несла на себе следы разрушений и пожаров. Но, кое-где, например, на здании центра управления полетами с большой застекленной будкой-верандой на крыше или на расположенном за ним и примыкающими к нему ангарами с двускатной крышей жилом здании виднелись следы быстрого ремонта. В жилом здании размещался батальон охраны, летчики же, похоже, квартировали в самом Быхове, до которого было всего пара километров. Во всяком случае, их привозили откуда-то рано утром на нескольких автобусах, часть из которых было немецкими, а часть – трофейными советскими ГАЗ-03-30. То есть в пик работы на этом аэродроме служило, охраняло, спало, готовило самолеты к полетам или отдыхало после вылетов около тысячи человек. Причем очень неплохо вооруженных и готовых дать серьезный отпор.
– Но на самое интересное вы, товарищ старший лейтенант, похоже, не обратили внимания, – вернул я разговор в прежнее русло.
– И на что же?
– А вы обратите внимание на возраст.
Коломиец перевел взгляд на строчку в офицерской книжке, в которой был указан год рождения Вернера Мельдерса, и снова присвистнул.
– Ох, ни… себе! В двадцать восемь лет стать генералом! Чей-то выкормыш?
– Да вроде как нет. Пленные говорили, что он стал первым истребителем в люфтваффе, боевой счет которого превысил сначала восемьдесят, а затем сто самолетов.
Старший лейтенант задумался, а затем недоуменно спросил:
– А чего это так выделили восемьдесят-то? Нет, я понимаю, это, конечно, очень много, но… почему не пятьдесят или там семьдесят пять? Перед сотней, я имею в виду.
– Об этом пленные тоже рассказали. Дело в том, что восемьдесят сбитых до него имел только один пилот в мире, ас Первой мировой и тоже, кстати, немец – Манфред фон Рихтгофен. Кстати, барон.
– Вот сука, – выругался старший лейтенант. – Сейчас небось генерал.
– Нет, – я качнул головой. – Пленные доложили, что он погиб в конце той войны.
Коломиец покачал головой:
– Ишь как много вы узнали от трех человек-то.
Я согласно кивнул и тоже спросил:
– А у вас как успехи?
– Ну-у, работаем, – тут же ушел от ответа старший лейтенант и слегка поддел: – У нас-то работы немного побольше будет.
Ну, это как сказать. С одной стороны – да. Кроме тысячи немцев на аэродроме работало еще около полусотни наших пленных. По большей части техников и механиков, но и полтора десятка летчиков среди них тоже было. Рядовых летчиков, из числа сержантов[45]. Всех командиров собрали и куда-то увезли. Эта полусотня занималась уборкой территории, которая по большей части заключалась в сборе мусора, образовавшегося из-за разрушения зданий и ангаров, а также в разборке и стаскивании в одно место, на дальний конец летного поля, останков наших самолетов, которых здесь оказалось довольно много.
Среди них была парочка СБ, причем один из них в какой-то странной окраске, и полдесятка У-2, но в основном истребители И-16 и штурмовики Ил-2 в одноместном варианте. Причем часть из них внешне выглядела весьма прилично, хоть лети. И то, что их так же отправили на свалку, показывало, что-либо они все-таки были неисправны, либо немцам они не интересны даже в качестве спарринг-партнеров… Так что Коломийцу действительно требовалось разобраться не с пятью, а с почти пятьюдесятью людьми. Но ведь моя работа не ограничивается допросами пленных, не так ли?
Операцию против люфтваффе я запланировал еще в Залесье. Все равно после той «ночи длинных ножей»[46], которую мы должны были устроить в ближних немецких тылах, нам следовало как можно быстрее убираться подальше от фронта. При этом попытавшись дезинформировать немцев относительно направления нашего дальнейшего движения. Батальон не иголка, а почти три сотни человек – не десяток диверсантов. Так что установи немцы хотя бы приблизительно направление нашего выдвижения – зажать нас было бы делом техники. Использование авиации и возможность быстрого маневра силами на технике по дорогам – это очень сильные козыри. Нет, и в этом случае, скорее всего, мы бы, в конце концов, вырвались и ушли, но… с большими, даже очень большими потерями…
Именно поэтому я заранее спланировал «демонстрационные действия» пары наиболее подготовленных диверсионных групп, определив им после проведения налета направление выдвижения на север, с задачей: следующей после нападений ночью уничтожить на маршруте движения хотя бы пару-тройку постов и патрулей. Чтобы немцы получили ясное указание на то, где нужно нас искать, и не особенно мельтешили там, где не нужно. Все остальные группы должны были после налетов сделать максимальный рывок на запад, а затем на пару дней, как здесь кое-кто (не будем показывать пальцами в сторону Кабана) говорил, «затихариться».
Поскольку скорость передвижения у моих ребят была несколько больше той, которую немцы должны были закладывать в своих расчетах, я очень надеялся, что они за ночь сумеют выбраться за пределы зон сплошного поиска. Ну а за пределами этих зон интенсивность поисковых мероприятий вряд ли будет очень велика. Ну не могут немцы искать нас с максимальной интенсивностью на столь обширных территориях, им для другого войска нужны. У них тут, если кто забыл, наступление идет полным ходом. Да и для того, чтобы усилить охрану своих объектов от вполне вероятных наших налетов, тоже приличное количество войск требуется. Так что если пересидеть два-три дня, дождавшись, пока усиленные патрули сожгут большую часть выделенного на эти мероприятия горючего (которое было буквально с мясом оторвано от сильно сократившихся после нашей диверсии на топливном складе запасов, предназначенных для наступления), а личный состав этих самых патрулей, постов и дежурных подразделений устанет от постоянного пребывания в тревожном состоянии, можно будет, пусть и о-о-очень осторожно, но с куда меньшей вероятностью быть обнаруженными двинуться далее. К точке рандеву, которая была определена в лесном массиве севернее Пропойска. Ибо следующей целью атаки я запланировал аэродром или, скорее, авиабазу, расположенную на окраине Старого Быхова.
Об этой авиабазе мне еще в Залесье рассказал унтер-связист, которого захватили мои разведчики, когда их команда приперлась ремонтировать перерезанный нами кабель. Он знал о ней потому, что в том штабе, к которому было приписано его подразделение, находился авианаводчик от этой авиабазы. Вообще-то он был приписан к бомбардировщикам, но, как это часто бывает, его подвело неуемное хвастовство. Ой сколько важных и совершенно секретных сведений, на добывание которых в любом ином случае потребовалась бы масса времени, средств и усилий профессионалов, запросто выбалтывается дураками, которым хочется просто похвастаться. Вот и этому захотелось повысить собственную значимость в глазах окружающих, предъявив им факт обладания тайным знанием. А конкретно тем, что кроме тех бомбардировщиков, которых он наводил, на том же аэродроме базируется еще и элитное соединение истребителей. Экспертов[47]. Чистильщиков воздуха. Каждый из которых имеет на своем счету десятки сбитых самолетов.
И я, прикинув кхм… одно к другому, пришел к выводу, что уничтожение этого соединения будет в развернувшейся войне вполне себе оперативным, а то и стратегическим ходом. А возможность сделать стратегический ход на тактическом уровне, на котором я сейчас находился, – нельзя было упускать ни в коем случае. Если ты, конечно, собираешься победить, причем с минимально возможными потерями.
Но стратегическим этот ход мог стать только в том случае, если уничтожить не столько материальную часть, ибо ее уничтожение выведет это соединение из строя на не слишком большой срок – месяц-два, максимум три, а самую основу этого соединения – в первую очередь пилотов и офицеров-управленцев, а также обслуживающий персонал – механиков, техников и так далее. Матчасть можно восстановить, а вот людей нужно учить годами, а то и десятилетиями. Во всяком случае, командование – совершенно точно. То есть если уничтожить людей, создать новое соединение, обладающее сравнимым с достигнутым в настоящий момент уровнем эффективности, немцы, с большой долей вероятности, не смогут до конца войны. Ибо она вряд ли продлится десятилетия…
Но, вследствие этого, вариант с ночным налетом на аэродром отпадал напрочь. Да, в случае ночной атаки аэродром, скорее всего, удастся захватить и быстрее, и легче, но вот потом рыскать по Быхову в поисках квартирующих там пилотов уже не будет ни времени, ни возможности. Тем более что кроме гарнизона на самом аэродроме, в Быхове также были расквартированы дополнительные силы, сопротивление которых в этом случае тоже придется как-то преодолевать. А за это время вполне успеет подойти и подмога: например, из Могилева, в котором также находились войска, до Быхова было всего около сорока километров. Так что задачка была еще та. Но решить ее было необходимо.
Причиной было то, что величина коэффициента воздействия на ситуацию в среднем временном коордонате вследствие уничтожения этого элитного соединения была вне конкуренции. Любое другое действие отставало по степени воздействия на ситуацию в средней перспективе во много раз. Да и в текущем, и в продолженном временных коордонатах оно также имело вполне значительный вес. Хотя в продолженном – скорее косвенный. То есть там больше учитывалось влияние на ситуацию тех советских пилотов, которых это соединение, в случае его уничтожения, не собьет в ближайшей и средней перспективе, и которые вследствие этого сумеют выжить, набраться опыта и заметно усилить защитные и ударные возможности советской авиации где-то через три-шесть месяцев. А вот в среднем коордонате это влияние оказывалось куда существеннее. Вплоть до того, что уничтожение этого соединения повысит непосредственные потери ударной авиации люфтваффе, что приведет к большим проблемам у немцев с изоляцией района боевых действий в данном секторе фронта. А это было одной из ключевых составляющих победной немецкой стратегии, которая тут именовалась термином «блицкриг».
По моим, пусть и крайне грубым, прикидкам выходило, что в случае уничтожения этого ягдгешвадера немцы должны были в скором времени замедлить свое продвижение не менее чем процентов на десять-пятнадцать от возможного и, в конечном итоге, сократить занятую ими территорию. Насколько – тут я уже назвать точную цифру не берусь, но никак не менее тех же десяти-пятнадцати процентов… Либо, если пределы продвижения у них уже определены и, фигурально выражаясь, «священны и нерушимы», увеличить потери для их достижения. Причем в этом случае потери увеличатся куда существеннее, чем на десять-пятнадцать процентов.
Короче, «надо брать». Оставался только вопрос – как? Ибо даже по соотношению живой силы мы уступали гарнизону авиабазы не менее чем в три раза. А если учитывать тяжелое оружие и бронетехнику… Совершенно понятно, что рассчитывать мы могли только на внезапность. Но и в этом случае мне предстояло сильно поломать голову над планированием.
– Но кое-что тоже накопали, – с несколько загадочным видом произнес Коломиец. И замолчал.
– И что же? – поощрил я его.
– Один из техников, которого привлекали к работам по уборке помещений, сумел разузнать, куда отправили комсостав летчиков, собранный на атакованном нами аэродроме.
– И куда же? – усмехнулся я.
– В лагерь, в котором собраны командиры.
Оп-па… а вот это уже было очень интересным. Но еще более интересным было то, что об этом заговорил представитель НКВД. Насколько я знал, отношение к побывавшим в плену здесь было о-очень негативным. Советский человек в плен попасть не может, поскольку обязан биться с врагами до последней капли крови. И никак иначе. Этот подход уже попортил мне изрядно крови в то время, когда разбирались с бойцами моего батальона после нашего выхода из немецкого тыла. Сами же помните, из кого он был сформирован…
Я думаю, арестов удалось избежать благодаря двум основным факторам. И мои действия с капитаном Бушмановым в оба этих фактора не входили, хотя помогли, это точно. Основными же являлись следующие: во-первых, подтвержденная высокая боевая эффективность батальона (авиаразведкой проверяли), и во-вторых, возникший сразу, а чуть погодя, вследствие моих действий и «вбросов» информации, применения методик обучения, управления и так далее, еще больше усилившийся интерес ко мне лично. И вот на этот интерес моя «подстава» капитана Бушманова сработала на все сто. Ну а там покатилось… Ну не укладывался я пока ни в один «реальный» вариант – ни во втирающегося в доверие шпиона, ни в эмигранта с внезапно воспылавшими патриотическими чувствами, ни в «интернационалиста», отчего-то скрывающего свои реальные имя, фамилию и происхождение, и уж тем более ни в обычного, пусть даже очень талантливого, выпускника местного пехотного училища.
Вот и решили оставить мне батальон в качестве «инструмента проверки» не столько даже моих возможностей и способностей, сколько моей… ну, назовем это лояльностью. Мол, посмотрим – будет ли он воевать так же эффективно, как делал это раньше. А если что, если загубит батальон – так бывших пленных не очень-то и жалко. Сами виноваты… И в тыл немцам, причем, по собственному плану, меня отпустили (я не настолько наивен, чтобы быть уверенным в том, что моему «самостоятельному» уходу в немецкий тыл невозможно было никак воспрепятствовать) тоже, вероятно, в том числе и вследствие этих соображений. Мол, если облажаюсь или, там, предам – невелика потеря… Нет, Еремин-то, я почти уверен, так не думал и действительно на меня рассчитывал (хотя поступи ему приказ выделить войска для блокирования и разоружения моего батальона – выделил бы, никуда не делся). А вот кое-кто повыше, кто «подсунул» мне группу старшего лейтенанта Коломийца и старшины Николаева – те да, так думать могли и, скорее всего, так и думали…
И вот этот заход старшего лейтенанта. Что это? Изменение позиции по отношению к попавшим в плен? Или ему поставлена задача полностью посмотреть методику форсирования организма, к которой он проявил ярко выраженный интерес? Своих новобранцев я через нее прогнал всех. Правда не массово, а по очереди. По мере подхода групп в район сосредоточения. А группа Иванюшина, с которой двигался Коломиец и его люди, подошла в точку рандеву одной из последних. Но для этого вполне хватит бывших пленных, освобожденных нами с авиабазы. Или за этим стоит нечто другое? Ладно, чего гадать – там увидим.
– И где же располагается этот лагерь?
– Где-то на окраине Минска.
– Где-то?
Старший лейтенант пожал плечами, а потом кивнул подбородком на кучку офицерских книжек, лежащую на плащ-палатке.
– О том, где размещается этот самый пятьдесят первый ягдгешвадер, вы сначала тоже не знали ничего, кроме названия города. Нашли же. И захватили. Хотя ни я, ни мой старшина не могли себе представить, что это возможно. И ладно я – кабинетный, так сказать, работник, но старшина на диверсиях уже собаку съел. Так вы и его умудрились посрамить! Ну, кто мог ожидать, что вы уничтожите этот аэродром тем самым оружием, которое было предназначено для его охраны?
Я усмехнулся и ответил словами одного из самых уважаемых древних местных полководцев:
– Кто хочет сделать – ищет способ, кто не хочет – причину[48]…
Да, Быховская авиабаза была уничтожена нами с помощью немецких зениток. Ну, в основном. Обычной стрелковкой тоже поработать пришлось. Впрочем, сначала я этого не планировал. Я просто искал варианты как уничтожить авиабазу максимально быстро и с минимальными потерями.
Зенитки были размещены со всех сторон аэродрома. Но, если позиции восьмидесятивосьмимиллиметровых Flak 18 располагались неподалеку от основных строений базы, то большая часть Flak 30 калибра двадцать миллиметров была установлена с южной и западной сторон взлетного поля. И этому было свое объяснение.
Местные летательные аппараты, именуемые здесь самолетами, имели крайне примитивные средства навигации. И главным инструментом навигации здесь являлся самый простой магнитный компас. Вследствие этого для выхода на цель летчикам ударных самолетов непременно необходимо было пользоваться некими, расположенными на земле ориентирами, среди которых преобладали два – дороги, в первую очередь железные, и реки. Так что, несмотря на вроде как абсолютную свободу выбора при определении вектора атаки (в небе же нет ни оврагов, ни лесов, ни водных преград), реально опасных направлений атак авиации в любом месте не так уж и много. Два, максимум три – не более. Ибо самолеты, попытавшиеся зайти с какого-нибудь иного направления, на котором не будет столь крупных ориентиров, с большой долей вероятности просто не найдут цель.
И немцы очень грамотно расположили зенитные орудия. Так, что при атаке по любому из наиболее опасных направлений атакующие самолеты последовательно «передавались» от Flak 18, обладавших максимальной дальнобойностью в пятнадцать километров, до Flak 30, которые хоть и не впечатляли дальнобойностью, ограниченной двумя километрами, но зато обладали впечатляющей скорострельностью. Так что атакующие самолеты должны были сначала долго выходить на цель под обстрелом, а в последние секунды перед сбросом своих неуправляемых боевых блоков, именуемых местными «бомбы», наткнутся буквально на море огня…
Но, вследствие как раз подобного тактически грамотного с точки зрения отражения воздушного налета расположения, позиции зенитчиков оказались гораздо более уязвимы для атаки с земли. Например, к ним (теоретически) можно было незаметно подобраться довольно близко. Хотя последние метров двадцать-тридцать придется преодолеть рывком, потому что именно на таком расстоянии немцы скосили траву вокруг своих зениток и пулеметных точек. Но двадцать метров – это уже пистолетная дистанция. А чтобы пробежать ее, местному здоровому индивиду вряд ли потребуется более пяти секунд. Даже при старте с места. Поэтому нейтрализацию зенитчиков я проблемой не считал. Во всяком случае, расчетов малокалиберных пушек. Но вот использование их в качестве средств нападения я совершенно не рассматривал. И вот почему.
Да, местное вооружение не имело блока идентификации, исключающего возможность использования захваченного вооружения противоположной стороной прямо в процессе боя. Но оно также не имело и универсального интерфейса, позволявшего, скажем, использовать прицельно-навигационный комплекс боевых лат для управления любым доступным в данный момент вооружением – от штурмового стрелкового комплекса до крупнокалиберных систем огневой поддержки ствольного или ракетного типа. То есть, с одной стороны, ничто не мешало подхватить оружие прямо в ходе боя и начать стрелять из него по противнику. А с другой – это можно было сделать только в том случае, если ты умеешь с ним обращаться.
А вот с этим были бо-ольшие проблемы, ибо умению обращаться с каждым отдельным образцом вооружения местным солдатам надо было обучаться так же отдельно. Уж очень эти образцы друг от друга отличались. Нет, кое-какие общие особенности, конечно, присутствовали. Но вот почему на образцах оружия, стоящих на вооружении одной и той же армии и использующих один и тот же боеприпас, в первом случае предохранитель находится справа, во втором – слева, в третьем – вообще внизу, а в четвертом напрочь отсутствует, я, например, понять не мог. И это только один элемент! На самом деле отличий было много, отличалось почти все – системы боепитания, расположение устройств и органов наведения и управления, порядок изготовки, механические прицелы и прицельные сетки оптических… да тут легче перечислить, что было похожего (для этого, мне кажется, хватит пальцев на одной руке), чем все имеющиеся различия! Поэтому вот просто так взять, подойти и начать стрелять из незнакомого образца оружия со сколько-нибудь требуемой эффективностью ни один местный не смог бы. Причем даже если это оружие состояло на вооружении его собственной армии…
Так что хоть мои изначальные планы и предусматривали, конечно, использование некоторой части трофейного вооружения, например, тех же пулеметов на бронетранспортерах и пулеметных точках, но ограничивались только теми образцами, обращению с которыми мои люди уже были обучены. Разбираться с управлением зенитками в жутком цейтноте начавшейся атаки я не планировал.
Так что первые мысли на этот счет у меня забрезжили, когда я увидел в бинокль, что одну из малокалиберных зениток десяток немцев закатывает в кузов «Опеля-Блиц». Причем меня насторожило именно закатывание: у Flak 30 имеется колесный ход, и если бы ее собирались просто передислоцировать с одной точки на другую, не вывозя с аэродрома, то достаточно было бы всего лишь прицепить ее к грузовику и перегнать. А ее загружали в кузов. И это могло означать, что эту зенитку собираются увезти куда-то достаточно далеко от аэродрома. Скажем, отправить на ремонт. Тем более что после погрузки большая часть тех, кто принимал в оной участие, развернулась и двинулась в сторону от грузовика. У грузовика же осталось только двое – водитель, долговязый гефрайтер, и щуплый подвижный унтер, которые принялись вдвоем раскреплять груз в кузове.
– Так, всем оставаться на своих местах и продолжать наблюдение, – коротко бросил я, торопливо отползая в тыл. Уж больно интересные обстоятельства передо мной открывались в том случае, если я успею перехватить грузовик. Теперь еще угадать бы, по какой дороге поедет это грузовик с зениткой…
Операцию захвата пришлось разрабатывать буквально на ходу и полагаться во многом на удачу. Во-первых, я не знал, в каком направлении повезут зенитку. Даже наиболее вероятных было три – на Могилев, на Гомель или по еще одной дороге, на северо-восток. Во-вторых, даже если я угадаю с направлением, мне еще нужно было обогнать грузовик и приготовить засаду. Нет, физически я мог это сделать – любой гвардеец способен развить скорость около шестидесяти километров в час и поддерживать ее в течение нескольких часов. А кратковременно, минут на десять – и до восьмидесяти. Антропрогрессия девятого уровня – это не шутка, знаете ли… Но вот как перемещаться на такой скорости, не попавшись на глаза ни одному патрулю, часовому или просто водителю двигающегося по трассе автомобиля или мотоцикла, да даже полицаю, везущему на телеге продукты из соседней деревни в Быхов? Даже я, со всей моей подготовкой на это, скорее всего, не способен.
Однако, с другой стороны, наш инструктор по маскировке говорил: «Если ты не можешь стать невидимкой, стань тем, кого не опасаются, или, в крайнем случае, тем, в чье присутствие просто не смогут поверить». И на этот раз я решил действовать по его совету.
На дальнем от аэродрома краю запущенного колхозного сада, в котором и был оборудован наш НП, я притормозил и быстро разделся. Догола. После чего прыгнул в компостную яму, заполненную травой, землей, ветками и полусгнившей падалицей, и принялся старательно натираться грязью и гнилыми яблоками. Воняло – жуть, но подобная маскировка должна была максимально «размыть» мою фигуру для любого наблюдателя, что, вкупе с куда большей, чем у обычного человека, скоростью передвижения, должно было заставить любого увидевшего идентифицировать меня как угодно, но только не человеком – глюком, чертом, волком, вставшим на задние лапы, барабашкой… ну или кем еще, на кого у этого наблюдателя хватит фантазии. И это меня вполне устраивало.
Грузовик с зениткой я нагнал уже в пятнадцати километрах от Быхова, при подъезде к деревне Годылево. Мое предположение о том, что он двинется в сторону Могилева оказалось верным… В тот момент, когда я обошел грузовик слева, на дороге никого не было, так что я, не заморачиваясь, просто применил скачок и запрыгнул в кабину грузовика, на ходу открыв дверь и сбив водителя со своего места движением бедра. От удара его отбросило на унтера, отчего тот едва не вывалился из кабины с противоположной стороны. Но я его удержал, одновременно «приласкав» обоих легкими ударами по голове. Немного. Так чтобы вырубить, а не убить. Мне же нужен был инструктор, который поможет моим ребятам овладеть приемами обращения и обслуживания этого типа зениток… Ну да, вот такой у меня в тот момент появился план. Полтора десятка стволов калибра двадцать миллиметров, чьи снаряды способны пробить броню БА-10 и немецких броневиков на дистанциях свыше полукилометра, и обрушить на врагов град снарядов со скорострельностью более чем две сотни выстрелов в минуту – да что еще надо-то? Но это только в том случае, если мои ребята смогут с ними управиться.
Разобравшись с, так сказать, экипажем «опеля» я ухватился за руль и быстро свернул с дороги, а затем, преодолев пологий кювет, развернулся под углом и вломился в лес прямо через невысокий кустарник. После чего припарковал машину у дерева и развернулся к своим пленникам. Пора было приступать к сбору нужной мне информации.
Первым пришел в себя водитель. Он приподнял голову и недоуменно уставился на ветку липы, буквально перечеркнувшую лобовое стекло, потом повернулся ко мне и ошалело проблеял:
– Was?
Я усмехнулся и рявкнул:
– Name, titel, einheit?
На самом деле его имя, а также звание и к какому подразделению он принадлежал, я уже узнал из зольдбуха и из маршрутного листа, но надо же было как-то начинать разговор.
Водитель рассказал мне все, что меня интересовало. В том числе и сведения об унтере, которому я устроил чуть более долгое отключение, просто прижав и подержав сонную артерию. Ну, чтоб не мешал во время допроса водителя. В отличие от него, на водителя у меня особенных планов не было. Вернее нет, были, но они не предусматривали его оставления в живых.
Так что я довольно дотошно допросил водителя, а затем аккуратно сломал ему шею. Не из природной злобности или, там, ненависти к захватчикам, и даже не из-за того, что мне некогда было с ним возиться. А просто потому, что мне нужен был его труп за рулем этой машины, которая после выгрузки зенитки должна была сбить ограждение моста и рухнуть в реку. Надо же ведь было подсунуть немцам некую достоверную причину того, куда делась машина с зениткой, после того как она благополучно покинула аэродром в Быхове. Ну, чтобы не поднять тревогу раньше времени. А так – вот, пожалуйста, несчастный случай. Ничего криминального, дело житейское… Тем более что глубина реки у того мостика, с которого я собирался сбросить машину, была не слишком большой. И белая табличка номера на заднем борту будет вполне различима. И потому идентифицировать то, что именно это и есть та самая пропавшая машина, труда не составит. Так что все будет тихо. Хотя и ненадолго, дня три. То есть до того момента, пока немцы не поднимут грузовик с трупом водителя и не обыщут место падения несколько раз, окончательно убедившись в том, что ни унтера-ремонтника, ни самой зенитки на дне реки нет. Но нам этих трех дней на все про все должно было хватить с головой.
В базовый лагерь, где располагался батальон, зенитку приволокли на руках. Ну, да и весила-то она всего килограмм четыреста. Без колесного хода, который отсоединили, чтобы не оставлять колею. И который оставили в кузове. Авось если найдут кроме грузовика еще и колесный ход от зенитки, воодушевятся еще часа на три поисков, которые, кто знает, могут оказаться для нас очень нелишними. А уже вечером у нас начались первые тренировки вновь сформированных расчетов. Развернуть, навести, дать пристрелочную (вхолостую, конечно, тем более, что снарядов все равно не было), скорректировать, дать длинную, перевести на другую цель, поменять дисковый магазин…
После первых пяти отработок я оставил тренировку расчетов на ротных, а сам выдвинулся на НП. Предстояло точно определить наземные сектора обстрелов для каждой из пока еще находящихся в немецких руках зениток и распределить для них цели. Причем цели надо было назначить с учетом того, что часть Flak’ов при захвате вполне может получить повреждения. Так что пару из них надо выделить на подстраховку, на случай если повреждены будут именно те зенитки, которые изначально планировались для подавления наиболее важных целей. А также определить цели уже для них, ежели захват произойдет без потерь. Кроме того, нужно было определить пути подхода того личного состава, на который возлагалась задача «зачистки» и «контроля». Ибо, если часть пехотного прикрытия и можно было бы оставить недобитой, то инженерно-технический персонал и особенно пилотов надо было уничтожить полностью. А для этого нужно подойти к каждому и добить раненых. Двадцатимиллиметровый снаряд, конечно, вещь серьезная, и, скорее всего, убьет человека при попадании в любую часть тела, даже в руку или ногу (смерть от болевого шока), однако эффективностью плазменного концентрата, наносящего сплошное поражение небронированным целям в радиусе семи метров от точки попадания все-таки не обладает… Ну и отказываться от использования своего собственного вооружения я тоже не собирался. Несколько «максимов», способных буквально поливать цели огнем, будто из брандспойта, не опасаясь перегрева и заклинивания, и с дальностью эффективного огня свыше километра, тоже не помешают. Как и MG-34 из числа тех, что мы сможем захватить исправными на пулеметных точках. Так что над планированием операции предстояло еще сильно попотеть…
К следующему вечеру план был полностью готов. А ночью даже частично отработан на колхозном поле в трех километрах от лесного массива, в котором располагался наш лагерь. Правда отработали там в основном выдвижение и… ожидание. Я вместе с ротными и взводными командирами заставил бойцов три раза проползти требуемое расстояние, а затем лежать неподвижно в течение часа, без единого шевеления, звона или стука. В принципе, после этой тренировки я убедился, что мои ребята точно преодолели первый уровень антропрогрессии. А кое-кто, скорее всего, и вплотную приблизился ко второму. Ибо научиться так концентрироваться без перехода хотя бы на первый уровень вряд ли возможно… Ну да война – очень хороший тренинг. Либо учишься тому, что помогает тебе выжить, либо гибнешь.
На рубежи атаки батальон выдвинулся еще затемно. А я наблюдал его выдвижение с комфортом, из будки-веранды на крыше ЦУПа. Потому что, если мы не хотели быть раскрытыми раньше времени, нужно было исключить попадание людей в эту будку до начала операции. Ибо за ползущими в росной траве двумя с лишним сотнями людей оставались весьма хорошо видимые отсюда следы, вроде инверсионных следов от самолетов на высоте десятка километров. Конечно, разглядеть эти полосы, теоретически, можно было не только из будки, но окна нижних этажей этого здания, выходящие на летное поле, были забиты фанерой. А от опасности обнаружения из более далеких зданий парней прикрывал легкий туман… И эту часть операции я взял на себя. Потому что если в ЦУП рано поутру припрется какой-нибудь уборщик, его надо будет устранить тихо. И незаметно. А шансов проделать это так, как требуется, у меня было явно больше, чем у любого из моих ребят. К тому же поскольку начало атаки было привязано не к определенному времени, а к моменту фактического прибытия на аэродром автобусов с летчиками, кому-то надо было заметить этот момент и подать сигнал к атаке. Тем более что место под НП было просто идеальным: из будки-веранды ЦУПа аэродром был как на ладони.
Уборщик был. Худой, долговязый очкарик с нашивками связиста. И упокоился он вполне себе тихо. Не смотря на то что, стервец этакий, все что надо заметить тоже успел и уже набрал в грудь воздуха, чтобы заорать. Но… не сложилось. А вот мне потом пришлось еще почти полчаса погромыхивать ведром и шумно возить тряпкой, чтобы другие уборщики, убиравшие помещения этажом ниже, не обеспокоились тишиной и не полезли проверять, чего это там притих их приятель.
Автобусы с пилотами появились около семи утра. К этому моменту прошло уже более получаса с восхода солнца, и, не контролируй я специально свое состояние, меня бы уже, наверное, била нервная дрожь. Ну, еще бы, более двух сотен человек уже на протяжении часа с лишним неподвижно лежит всего в двух-трех десятках метров от дежурных расчетов зениток, пулеметных гнезд, и уже за пределами маршрутов движения патрулей. Не дай бог кто-то, несмотря на все тренировки, хрустнет, звякнет, да пернет, наконец… не говоря уж о том, что кто-то из немцев может просто повнимательнее всмотреться в противоположную сторону. И начинать нельзя! Главный объект атаки еще не прибыл. И вот, наконец, они появились…
Нам сильно повезло: на ночь немцы снимали все расчеты двадцатимиллиметровых зениток. Хотя, в принципе, это было понятно – ночью из малокалиберного Flak 30 не особо и постреляешь… Удачей оказалось и то, что сегодня утром эти расчеты слегка задержались с выдвижением к своим позициям. Впрочем, основной причиной такого везения было то, что вчера вечером на аэродром приземлилось еще около полутора десятков бомбардировщиков. То ли куда-то перелетали, то ли просто горючки не хватило – вот и сели на ближайший аэродром. Но то, что это не перебазирование, было ясно по тому, что прибыли они без техперсонала. И поэтому порядок приема пищи слегка изменился: в отличие от прошлых дней, когда в первую очередь кормили зенитчиков и первую утреннюю смену охраны, сегодня первыми покормили часть техников. Так что когда первый из автобусов вырулил на стоянку, на которой всегда выгружали пассажиров, все четырнадцать двадцатимиллиметровых Flak’ов оказались без расчетов. А только что поевшая новая смена охранников и патрульных толпилась в курилке или около домика караула.
Когда я подал зеркальцем сигнал к атаке, ребята вскочили на ноги и бросились вперед. Сотня злых теней с измазанными грязью лицами, босиком (ну чтобы не слишком сильно топать) и сжимающих в руках саперные лопатки и пистолеты выглядела ангелами возмездия. Наверное, кто-то их успел заметить. Не все же пялились на вальяжно выбирающихся из автобусов пилотов, элиту элит люфтваффе… да и самой Германии. Новых Нибелунгов. Рыцарей неба, повергающих в прах города и страны… Наверное, кто-то заметил… Но сделать ничего не успел. Кабан, мчащийся на полшага впереди неровной цепочки озлобленных наших прямо на пулеметный пост, взлетел над мешками с песком и рухнул вниз с неслышимым мной отсюда, конечно, но явственно, буквально кожей ощущаемым хеканьем, рубанув лопаткой по шее отвлекшегося пулеметчика. Тот без звука рухнул к подножью пулеметного станка…
И в ту же секунду заработали «максимы». Несколько злых, средних по длительности, очередей по шесть-семь патронов, затем пара секунд на то, чтобы закрепить винтами вертикальной наводки «пойманный» угол возвышения, и сразу же коронка «максима» – длинные, до закипания воды в кожухах, тяжелые очереди, перечеркивающие растерянные, дергающиеся, частью уже пытающиеся залечь фигурки вражеских солдат. Почти непрерывный грохот, покрывающий пространство перед пулеметами и будто метлой выметающий все, что находится в секторе обстрела и на закрепленной винтами вертикальной наводки дальности поражения. Очереди, от которых не спасает ничто, кроме окопа полного профиля, которого нет, нет, нет… И почти сразу же вслед за ними раздался лающий грохот Flak’ов. Сначала одного, потом еще двух, а затем они вступили все. А спустя еще несколько секунд к этой грозной музыке боя подключились и захваченные MG пулеметных точек…
Это была симфония! Да, по-другому это и назвать было нельзя. Первая часть была сыграна вполне себе аллегро[49]. Домик дежурного подразделения был разнесен в щепу. Автобусы, уже напоминавшие решето, горели и взрывались. Столовая, по которой Flak’и прошлись несколькими длинными, на весь двадцатизарядный магазин, очередями, тоже горела… И сейчас наступало время рондо. С правой стороны от будки ЦУПа, в которой сидел я, послышалось несколько взрывов. Похоже, рванули снаряды восьмидесятивосьмимиллиметровых Flak’ов, которые стояли с этой стороны летного поля. Значит, пара резервных Flak’ов уже перенесла огонь на свои цели. Я снова перевел взгляд вперед, на захваченные позиции. Справа и слева от хлещущих огнем зениток время от времени вспыхивали огоньки трехлинеек. Бойцы, не задействованные в обслуживании Flak’ов и пулеметов, работали как снайпера. Конечно, не все из них были способны вести огонь достаточно метко, чтобы соответствовать этому грозному обозначению, но зато на любое шевеление, не замеченное пулеметчиками и наводчиками зениток, мгновенно прилетал десяток-другой пуль, не позволяя отдельным спрятавшимся немцам внести разлад в исполняемую симфонию. В этом оркестре абсолютно без партии пока остались только пистолеты-пулеметы. Все-таки расстояние для них было великовато…
Вдоль короткой линии землянок, которые были выкопаны еще, вероятно, нашими, и в которых в настоящее время размещались техники, обустроившие свой быт со всем возможным комфортом, перебежками двигались бойцы первого взвода первой роты. Землянки располагались совсем рядом со столовой и курилкой, так что многие из тех, кого не убило в первый момент, рванули туда, надеясь забаррикадироваться и, если не отбиться, то отсидеться. Но их ожиданиям не суждено было оправдаться… Вот один из бойцов подполз к торчащей из засыпанного землей наката трубе чугунной печки, установленной в землянке, приподнялся и… аккуратно опустил в трубу тяжелую «гантелю» противотанковой гранаты. Миг и… землянка вздрогнула так, что бойца аж подбросило. Ну еще бы, когда «ворошиловский килограмм»[50] взрывается внутри чугунной печки, все, что находится внутри землянки – от людей до досок, из которых изготовлены нары, – превращается в фарш и щепу…
А вот сейчас пришло время менуэта. Пять зениток, расположенных у ближайшего от города края летного поля, прекратили огонь, и их расчеты, шустро подсоединив колесный ход, торопливо покатили их к дороге, ведущей в сторону города. Туда же, несколько ослабив огонь по казармам пехотного прикрытия, поволокли и три «максима». Однако едва остатки немецких пехотинцев, укрывшиеся в продырявленном насквозь строении, попытались поднять голову, как подобравшиеся к зданию с фланга бойцы второй роты начали закидывать их ручными гранатами через окна, двери и проломы, образовавшиеся в и так ветхих стенах после очередей Flak’ов.
Чуть в стороне Коломиец со своими орлами, пользуясь почти полным подавлением сопротивления противника, торопливо выводил из-за колючки ошалелых пленных. А взвод разведки броском приблизился к пылающим остовам автобусов, и спустя несколько мгновений с той стороны донеслись короткие очереди ППД. Бойцы начали «контроль» обгорелых останков элиты люфтваффе. Впрочем, нет… кое-кто там все-таки выжил. Из-за дальнего ГАЗ-03-30 выбралась обгорелая фигура в дымящемся синем летном кителе и, шатаясь, бросилась бежать к самолетной стоянке. Но почти сразу же сзади нее зло рыкнул ППД, и фигура, вздрогнув, рухнула на землю сломанной куклой.
– Oh, mein Gott, Verner! – простонал кто-то этажом ниже. Оп-па, а это что такое? У меня там мыши завелись? Это я что-то слишком увлекся. Что ж, значит, сонату посмотреть не удастся. Впрочем, все уже и так было ясно… И, перехватив поудобнее свой привычный ДП, я двинулся к лестнице, ведущей вниз. А снаружи в этот момент послышался гулкий взрыв. Ага, ребята начали работать по складу ГСМ, а также по складу боеприпасов и самолетным стоянкам. Похоже, соната уже началась. А вот это… минометы? Значит, и помощь из Быхова тоже уже прижучили. Что ж, началась четвертая часть симфонии…
В общем и целом, бой продлился едва ли больше получаса. Я же обнаружил в здании ЦУПа, по которому зенитки не стреляли, опасаясь задеть меня, около трех десятков человек, часть из которых составляли связисты, метеорологи, штабные унтера, планшетисты, прибывшие на свои рабочие места ранним утром, а также те, кто при первых звуках выстрела бросился внутрь здания, надеясь найти здесь хоть какое-то укрытие. Среди них оказалось шестеро офицеров-летчиков из числа командиров (даже начальник штаба ягдгешвандера), которые поели дома и приехали на аэродром на личном транспорте. Двое из них были из состава прилетевших вчера штаффелей, которых подвезли на аэродром коллеги, а остальные – местные.
И именно эти шестеро решили оказать мне сопротивление. Во всяком случае, попытались, поскольку получилось у них это не очень. Трое погибло, причем один от дружественного огня, поскольку, как выяснилось, эти воздушные снайпера с пистолетом обращались не слишком умело. Еще один был смертельно ранен, причем так же своим – не вовремя попытался принять стойку для стрельбы стоя. Как раз в тот момент, когда его товарищ, укрывшийся за столом на пару метров дальше, высунул из-за стола руку с пистолетом и начал пулять наобум, больше со страху, чем действительно рассчитывая зацепить меня. Поэтому в целости и относительной сохранности мне достались лишь двое офицеров, а также один унтер-связист. Этого я пожалел сам, причем не из человеколюбия, а потому, что уже имел возможность убедиться, что связисты, по долгу службы либо по изначальным склонностям характера, довольно часто являются весьма информированными лицами. Куда более информированными, чем им вроде бы положено по должности и званию. Остальных я довольно быстро прижал к ногтю. Ну да две трети этих бедолаг оказались вообще не вооружены. А зачем им в ЦУПе оружие-то? А остальные хоть и были вооружены, но по умению обращаться с оружием не дотягивали даже до собственной пехоты. Так что все закончилось быстро. И аэродром мы покинули под шипение горящего алюминия и треск взрывающихся в огне патронов и снарядов к пушкам истребителей.
Допрос первых троих моих пленных мы провели только через три часа, на первом привале. Маршрут отхода был продуман и подготовлен заранее, так что за эти три часа мы преодолели около пятнадцати километров и две относительно крупных реки, похоже, сохранив при этом скрытность. Во многом потому, что примерно треть личного состава сейчас уходила не на северо-запад, как основная часть батальона, а на восток, к фронту, и на юг, в сторону Гомеля. Причем группа, отходившая на юг, делала это, как выразился старшина, «по-махновски», то есть на трех отыскавшихся на аэродроме в относительно целом состоянии автомобилях, попутно поливая из прихваченных там же на аэродроме и установленных в кузове MG все попутные немецкие машины и встреченные по пути посты и гарнизоны. Они должны были доехать до поворота на Пропойск и там действовать по обстоятельствам: либо продолжить движение на Гомель, либо свернуть на Пропойск или Рогачев. После чего, обстреляв еще какое-то число немецких машин, бросить технику и уйти в леса. Ну а затем постараться самостоятельно достичь линии фронта. Соединение их с батальоном более не планировалось. Еще одна группа лесами двинулась в сторону Рославля и Брянска. Ее задачей было «пошуметь» чуть позже, дня через два-три. Чтобы немцы, если и не разобравшиеся в причинах прошлого фиаско с нашей поимкой, то как минимум сформулировавшие наиболее правдоподобные версии этого, все свои незадействованные в поиске по первому «следу» резервы бросили именно туда. Ну а мы бы спокойно двинулись дальше.
Допрос был довольно кратким, проводили его я и Коломиец. Ну и старшина Николаев на заднем плане помаячил. Прислушиваясь, впрочем, не столько к ответам пленных, сколько к моим вопросам. Ох, не прост этот старшина, совсем не прост… Впрочем, они с Коломийцем довольно быстро переключились на бывших пленных, занявшись их «фильтрацией» и выявлением того, кто как попал в плен и как себя в нем вел. Нет, кое-что интересное немцы нам сообщили. Но с пленными надо было разобраться побыстрей. И я им предоставил в этом деле полный карт-бланш… Я же общался с немцами еще довольно долго. Почти пять часов в тот день и еще два следующих – пока мы ждали, когда даст «засветку» вторая группа… Потому что я все еще вживался в этот мир, изучал его особенности, привычки живущих в нем людей разных национальностей, их наклонности, предпочтения, их картины мира…
– Значит, товарищ старший лейтенант, подбиваете наведаться в Минск? – усмехнулся я.
– Если таково будет ваше собственное желание, товарищ капитан, – широко улыбнулся Коломиец.
– Ну а почему бы не сходить, – небрежно пожал плечами я. И все-таки интересно, кого они хотят вытащить из того лагеря?
8
Курт сунул в нос торчащему на крыльце автоматчику удостоверение офицера ОКХ, и быстро поднялся по лестнице на второй этаж. Открывая дверь, ведущую с лестницы в широкий коридор второго этажа, гауптман невольно притормозил и поморщился. Рев рейхсмаршала был слышен даже отсюда. Причем именно рев…
– А-а-а-а-г-га-а-а-р-а-а-а!
– Ja… ja… – испуганно блеял кто-то в короткие промежутки, когда рев Геринга стихал. Но почти сразу же за этим слышалось:
– А-а-ар-р-а-а-а!!
– Jawohl!
– Г-а-а-а-р-р-а-а-а!!!
– Natürlich, herr Reichsmarschal!
В коридоре у дверей кабинета, из-за которых были слышны рев и блеяние, толпилось человек двадцать офицеров разных чинов. Причем офицер с таким же званием, как и у фон Зееншанце – гауптман, обнаружился среди присутствующих только в единственном экземпляре. Все остальные были в куда более высоких чинах. Ну, еще бы! Сам факт появления такого лица в Минске должен был заставить всех местных «шишек» слететься к нему как мухи на… ну, назовем это медом. Неважно, по желанию или против оного. Хотя если вспомнить, по какой причине он сюда приехал, большинство, скорее всего, данного желания не испытывало, но деваться им было все равно некуда. М-да…
Курт притормозил, вздохнул и осторожно двинулся вперед, стараясь не привлекать к себе внимания толпившихся у дверей кабинета. Ох, как же ему не хотелось исполнять распоряжение, которое он получил из Вюнсдорфа всего полчаса назад. И надо было ему заезжать на этот узел связи!
Фон Зееншанцы всегда и во все времена предпочитали быть честными служаками, не особенно настроенным лезть наверх и максимально сторонящимися политики. Нет, совсем уж сохранить, так сказать, невинность в этом отношении они не смогли. Ибо среди предков Курта встречалось немало и генералов, и министров, причем не только земельных[51], но и повыше уровнем. Однако, согласно семейным преданиям, на которых был во многом воспитан Курт, фон Зееншанцы старались особенно не лезть в политику. Ибо она считалась занятием бесчестным, а свою честь старый аристократический род фон Зееншанцев ценил очень высоко… Полученное же распоряжение было чревато тем, что его может-таки затянуть в эту самую зловонную яму под названием политика. Причем в том случае, если он блестяще справится с порученной ему задачей, – почти стопроцентно. Но и отвертеться от него у нее не было никакой возможности. Распоряжение на этот счет было сформулировано вполне ясно и недвусмысленно – пойти, доложиться, поступить в распоряжение, исполнять все порученное.
– И давно это? – тихо поинтересовался он у единственного, кроме него, гауптмана, когда сумел-таки незаметно затесаться в толпу. Тот испуганно вздрогнул, покосился на Курта, а затем вздохнул и коротко бросил:
– С полудня. Как только приехал с аэродрома – так сразу и началось.
В этот момент дверь с грохотом распахнулась, и в коридор выскочил старый знакомый гауптмана – штандартенфюрер Либке. Видок у него был еще тот. Либке был потным, красным, а еще ему явно не хватало воздуха. Иначе зачем ему было так разевать рот и дергать застежку воротника, едва оказавшись за дверью… Ну да рейхсфюрер не даром славился умением не только жить на широкую ногу, но и блестяще накрутить хвосты. Иначе бы точно не удержался на своем месте и позиции второго человека в партии, несмотря на все свои былые заслуги. Впрочем, фюрер не очень-то и смотрел на былые заслуги. Сам фон Зееншанце знавал не одного такого, какое-то время ходившего у фюрера в любимчиках, который, решив хоть некоторое время почивать на лаврах, мгновенно лишался былого расположения и отправлялся в такие места, откуда до Берлина надо добираться неделями.
Либке быстро прошел по коридору и выскочил на лестницу, громко хлопнув дверью. А сквозь полуоткрытую дверь кабинета по коридору разнесся голос рейхсмаршала:
– Идите и помните – это дело на контроле у фюрера!
Впрочем, на этот раз он произнес эту фразу едва ли не на два тона ниже. Зато тот, кто ему отвечал, на этот раз в ответ не проблеял, а проревел:
– Jawohl, herr Reichsmarschal! – после чего дверь кабинета снова распахнулась, и в коридор буквально вывалился офицер в мундире СА со знаками различия группенфюрера. Его лицо было Курту незнакомо.
Следующие полчаса Курт наблюдал, как в кабинет, занимаемый вторым лицом рейха, постепенно просачивались все, кто до этого торчал в коридоре, отчего коридор постепенно пустел. Сам гауптман предстать пред очи столь высокопоставленной личности не торопился. Во-первых, это… ну… было бы просто нечестно, он же пришел одним из последних. Во-вторых – неправильно с точки зрения субординации. Ибо он был из всех присутствующих практически самым младшим по воинскому званию. Ну и, в-третьих (причем, если честно, эта причина была в его побуждениях самой определяющей) – с течением времени раздраженный рык рейхсмаршала, время от времени все еще раздававшийся из кабинета, с каждым новым посетителем становился все более приглушенным и спокойным.
Так что к тому времени, когда подошла очередь фон Зееншанце войти в кабинет, о том эпическом разносе, которому он сам был косвенным свидетелем, в голосе Германа Геринга напоминали только слегка рокочущие нотки. Наконец, предыдущий посетитель, которым оказался тот самый гауптман, выскочил из кабинета и Курт, глубоко вдохнув, вскинул руку, обтянутую черной лайковой перчаткой и решительно постучал в дверь.
– Да!
Гауптман распахнул дверь, сделал три четких шага и, отточенным движением вскинув руку к виску, коротко представился:
– Гауптман фон Зееншанце, господин рейхсмаршал.
Сидевший за большим двухтумбовым столом грузный человек с обрюзгшим лицом, одетый в синий мундир люфтваффе с витыми погонами, увенчанными имперскими орлами на плечах, озадаченно уставился на него, не совсем понимая, кто это только что вошел к нему в кабинет и какого хрена ему тут надо, но буквально через мгновение на его лице вспыхнуло понимание, и он кивнул:
– Ах, ну да, ну да… садитесь, гауптман. Рад, что вы наконец-то до меня добрались.
– Я был…
– Да-да, – прервал его Геринг, – мне докладывали. И как, что удалось установить?
Фон Зееншанце недоуменно замер. Это у него спрашивают, что удалось установить в процессе расследования нападения на аэродром, на котором базировался пятьдесят первый ягдгешвадер?
– Э-э, прошу простить меня, герр рейхсмаршал, но я – пехотный офицер и не обладаю должной квалификацией в области розыска и…
– Ерунда! – раздраженно тряхнул бульдожьми брылями Геринг. – Генерал Гудериан сообщил мне, что вы занимаетесь этими русскими диверсантами уже третий месяц, и что во всей группе армий нет по ним лучшего специалиста, чем вы…
Курт зло стиснул зубы. Ну, спасибо, дядюшка, вот уж удружил! Donnerwetter[52], не стоило звонить дяде из Быхова, но ему так хотелось поделиться… Рейхсмаршал, между тем, продолжил:
– …так что не скромничайте и расскажите мне, что вы там накопали. А то я пока не могу добиться от Бах-Залевски ничего внятного. А между тем – дело на личном контроле у фюрера!
Ну, еще бы. На разгромленном русскими диверсантами аэродроме, расположенном на окраине белорусского городка со смешным славянским названием Stari Bihov погиб один из любимчиков фюрера, впрочем, на этот раз вполне заслуживший подобный статус.
Вернер Мельдерс воистину был лучшим – храбрым, честным, доблестным воином, самым результативным истребителем люфтваффе, первым, превысившим результат самого лучшего аса Первой мировой войны – Манфреда фон Рихтгофена. Кроме того, он так же первым в мире превысил результат в сто сбитых вражеских самолетов, первым получил Рыцарский крест и первым же Дубовые листья, мечи и бриллианты к нему. Два первых лица рейха – сам фюрер и рейхсмаршал относились к этому молодому человеку с большим пиететом и любовью, видя в нем живое воплощение того типа человека, которого они хотели возродить… Ну, или создать, если легенды лгали, и «истинные арийцы» были всего лишь красивым мифом. Его очень берегли. С июля ему даже было запрещено принимать участие в боях, для чего Геринг сделал его инспектором истребительной авиации люфтваффе. Впрочем, двадцативосьмилетний пилот, в отличие от большинства его соратников по Главному штабу люфтваффе, и на этой должности частенько находил возможности вырваться из Берлина на фронт[53]. И вот нынешняя командировка стала для него последней. К тому же он погиб не в небе, а на земле, и не овеянный языками пламени от сгорающих сбитых врагов, а… сгорев в луже полыхающего авиационного топлива, вытекающего из бочек разгромленного русскими диверсантами немецкого склада ГСМ. Ну, или, если ему сильно повезло, его убили чуть раньше, а обгорел уже его холодный… э-э-э, вернее, еще теплый труп.
На фоне подобной потери не просто разгром, а тотальное уничтожение элитного, лучшего в люфтваффе пятьдесят первого ягдгешвадера, который Геринг не раз именовал «новой реинкарнацией легендарной первой эскадрильи “Рихтгофен”», что в устах ее последнего командира[54] звучало особенно весомо, выглядело уже просто «текущими неприятностями». Хотя на положении дел на фронте наиболее ярко отразится именно оно. Как и потеря еще одного полного гешвандера и двух «приблудившихся» штаффелей бомбардировщиков. Не говоря уж о всякой другой мелочи.
– Итак… – нетерпеливо поторопил Геринг Курта. Гауптман вздохнул про себя и начал рассказывать…
На разгромленный аэродром он прибыл вчера вечером. Тот был заполнен сотнями людей, которые катили, таскали, замеряли, пилили и загружали все, что можно – куски металла, обломки самолетных крыльев и фюзеляжей, разбитые и изувеченные останки авиамоторов, перекрученные остовы автомобилей и автобусов, покореженные зенитные орудия и… трупы. Сотни трупов. Причем, судя по тому, как привычно и сноровисто работали выделенные на погрузку солдаты, какая-то часть трупов уже была отсюда вывезена…
А посреди всего этого копошения стоял штурмбанфюрер СС и задумчиво смотрел на абсолютно целую, и потому выглядевшую в этом хаосе совершенно чуждо Flak-30. Фон Зееншанце пару минут постоял, рассматривая всю эту суету, а затем медленно двинулся к человеку в черном мундире, продолжавшему все так же разглядывать зенитку.
– Добрый день, герр штурмбанфюрер, представитель ОКХ гауптман фон Зееншанце.
Эсэсовец развернулся к Курту, окинул его тем же самым задумчивым взглядом, каким рассматривал Flak, и коротко кивнул:
– Штурмбанфюрер СС Макс Рауш, начальник зондеркоманды семь-Б. В настоящий момент старший над всем этим безумием, – небрежно представился он. И поинтересовался: – Приехали полюбоваться на наш позор?
– Скорее пополнить свою копилку, Макс, – дружелюбно отозвался фон Зееншанце. Да, он, как и подавляющее большинство офицеров вермахта, не слишком хорошо относился к СА, СД, СС и иже с ними, но сейчас в его интересах было не провоцировать конфликт, пусть даже и потешив собственное самолюбие, а установить с этим штурмбанфюрером максимально доверительные рабочие отношения.
– Копилку?
– Да, – все так же дружелюбно кивнул Курт. И пояснил: – Я давно интересуюсь русскими диверсантами.
В глазах штурмбанфюрера мелькнуло узнавание.
– Фон Зееншанце… а-а-а, как же, как же, помню-помню. Читал ваш запрос на расследование по поводу атаки на мосты, – штурмбанфюрер хмыкнул и покачал головой, а потом снова развернулся к Flak’у.
– Позвольте полюбопытствовать, чем вас так заинтересовала эта зенитка? – после пары минут молчания, снова подал голос Курт.
– Эта?
– Ну да.
Эсэсовец вздохнул.
– Просто пытаюсь понять, кем надо быть, чтобы додуматься построить всю операцию на коротком обучении своих людей обращению с совершенно незнакомым им оружием.
И тут Курт почувствовал, как у него сильно засосало под ложечкой. Штандартенфюрер Макс только что, пусть и несколько другими словами, сказал ему то, что он сам говорил дяде насчет того русского капитана. Гауптман невольно подался вперед.
– Что, знакомы с таким стилем? – усмехнулся эсэсовец, заметив его телодвижение.
– О, да! – кивнул Курт. – Более того, именно его я всюду ищу.
– Так вы, я вижу, уже в курсе того, что здесь произошло? – с безразличием в голосе, в котором фон Зееншанце все-таки сумел различить едва заметные фальшивые нотки, поинтересовался штурмбанфюрер. Курт усмехнулся про себя. Ревнует… А может и нет, просто сразу сделал стойку на возможную утечку.
– Ни в малейшей степени. И буду рад, если вы меня просветите.
– Вот как? – эсэсовец на этот раз уже явно нарочито вскинул бровь и вообще всем своим видом постарался не просто продемонстрировать, а, скорее даже, выпятить собственный скепсис. Судя по всему, намекая, что пока гауптман его не развеет – рассчитывать на искреннее сотрудничество не стоит. А штурмбанфюрер, между тем, продолжил: – И почему же вы в таком случае рванули сюда? Насколько я помню, в обязанности представителей ОКХ не входит борьба с диверсантами или расследования случаев нападения таковых.
– Это – личное, герр Рауш, – пояснил Курт. – Мне пришлось столкнуться с одним из русских диверсантов еще к западу от Минска. И он меня… – фон Зееншанце на мгновение запнулся, но затем твердо произнес: – Победил. С тех пор я открыл на него охоту.
Улыбку эсэсовца можно было бы назвать даже добродушной, но Курт явственно ощутил за ней отвратительную смесь пренебрежения, брезгливости и даже презрения, с которым всякие мелкие лавочники и бюргеры, составлявшие основу подразделений СА и СС, относились к тому, что они считали «глупыми аристократическими заморочками». Однако она его не особенно задела – именно на такое отношение он и рассчитывал. Ибо объяснение его интереса «всякими аристократическими заморочками» вполне укладывалось в картину мира эсэсовца и потому являлось в данной ситуации самым простым выходом. Штурмбанфюрер скажет себе: «Я так и думал», и не будет искать никаких других объяснений его интереса к этому русскому капитану. Впрочем… не совсем Курт и соврал: элемент состязания, желания поквитаться за поражение в его интересе к капитану все-таки присутствовал. Просто он не был определяющим, являясь, скорее, некоторым тестом, испытанием, проверкой на достоверность объявленных правил. Если капитан и в этот раз сумеет его переиграть, значит к его словам стоит отнестись с максимальной серьезностью, а если нет – Vae victis[55].
– Ну что ж, в таком случае – слушайте…
По окончании рассказа Курт позвонил дяде. Прямо с аэродрома. Когда генерал снял трубку, гауптман коротко произнес:
– Это он.
Гудериан несколько мгновений молчал, а затем осторожно уточнил:
– Ты абсолютно уверен?
– Да, – твердо сказал фон Зееншанце, и пояснил: – Я обнаружил здесь главный признак его действий. Абсолютное отсутствие шаблона. Он разгромил эту авиабазу, используя наши собственные зенитки, научив обращению с ними своих солдат всего за сутки.
– Но… как?
– Захватил одну из Flak-30, которую отправили на ремонт, и организовал тренировки.
– Donnerwetter, чертовское везение! – выругался генерал.
– Не думаю, что дело в везении, дядя, – не согласился Курт, – если бы ему не подвернулась эта неисправная зенитка, он придумал бы что-нибудь другое. С тем же результатом.
– Может быть, – после некоторого молчания отозвался Гудериан и спросил: – Ты там надолго?
– Собираюсь переночевать здесь, а утром выдвинуться с колонной. Ты же сам знаешь – все передвижения одиночных машин в тылах группы армий Центр были запрещены специальным приказом еще вчера вечером. А что?
– В таком случае двигайся прямо в Минск. Я с утра буду там, – коротко отозвался дядя. И фон Зееншанце понял, что прибытие дяди в Минск вызвано отнюдь не его собственным желанием. Ну да ожидать, что столь впечатляющий разгром элитной эскадры люфтваффе не вызовет приезда на разборки какого-нибудь высокопоставленного лица было бы наивно. Авиация и флот были любимыми игрушками фюрера, и он относился к ним очень ревностно. А тут такое… Так что лицо непременно прибудет. И, скорее всего, это будет рейхсмаршал, ибо дело касается именно люфтваффе. И хотя командующего второй танковой группой никак невозможно обвинить в произошедшем, вряд ли столь высокопоставленное лицо, да еще пребывающее в том состоянии раздражения, в котором оно явно будет находиться, удержится от желания повозить мордой по столу всех, кто окажется в пределах доступности. А уж эти пределы у подобного лица куда как велики… Так что кислый тон дяди был вполне объясним.
Геринг выслушал его, в общем, спокойно. В общем. То есть его гнев и раздражение, которые он щедро расплескивал вокруг себя во время рассказа Курта, были направлены не на самого рассказчика, а на неких «бездарей и тупиц». Впрочем, вполне возможно, что и не неких, а на совершенно конкретных. Вот только сообщать их имена и фамилии какому-то гауптману рейхсмаршал не собирался.
– Что ж, гауптман, – сказал он, когда фон Зееншанце закончил, – я вижу, вы неплохо поработали. Теперь я в полной мере представляю меру той преступной халатности, которая была проявлена…
Курт озадаченно повел головой. По его мнению, из его рассказа никак нельзя было сделать вывод о чьей-то преступной халатности. Скорее его самого можно было обвинить в излишнем возвеличивании боевых качеств противника, которого фюрер уже назвал «грязными азиатскими ордами» и «недочеловеками». Но тут уж ничего не поделаешь, что есть – то есть. Однако спорить гауптман не стал. Ибо – бесполезно.
– Поэтому я поручаю вам продолжить расследование данного происшествия. С ОКХ я договорюсь. И завтра утром жду на совещание, – Геринг недовольно скривился. – От вас куда больше толка, чем от всех этих напыщенных умников и гориллоподобных мордоворотов из СА.
– Прошу прощения, герр рейхсмаршал, но большая часть сведений по этому налету, что я сумел вам доложить, получена мной именно от штандартенфюрера Рауша. Начальника зондеркоманды семь-Б, занимающегося расследованием произошедшего непосредственно в Быхове. Так что…
Но Геринг не дал ему закончить. Он нахмурился и, даже не окинув, а прямо-таки обдав фон Зееншанце недовольным взглядом, небрежно махнул рукой в сторону дверей и сухо произнес:
– Идите, гауптман. Жду вас завтра.
Выйдя от рейхсмаршала, Курт понял, что изрядно перенервничал и проголодался. Он пару минут поразмышлял, воспользоваться ли ему столовой при штабе группы армий «Центр» самостоятельно или все-таки сначала найти дядю, после чего выбрал последнее.
Генерал Гудериан находился здесь же, в здании штаба, только этажом ниже. Увидев гауптмана, он встал и пошел навстречу.
– Добрый день, Курт, ты уже обедал?
– Нет, герр генерал, – холодно отозвался фон Зееншанце, не упустив случая показать свое неудовольствие тем, что Гудериан «сдал» его Герингу. – И благодарю вас за столь лестный отзыв.
– Уже виделся с рейхсмаршалом, – понимающе кивнул генерал, но вместо оправдания тяжело вздохнул. И Курт почувствовал угрызения совести. Дядя же совершенно точно побывал на приеме у рейхсмаршала раньше его. И гауптман сильно сомневался, что тот разговаривал с генералом столь же сдержанно (ну, по меркам Геринга), как с фон Зееншанце. Даже до этого чрезвычайного происшествия Берлин был раздражен низкими темпами начавшегося наступления. Да что тут говорить – самого Курта прислали сюда именно вследствие этого. Так что генералу явно досталось.
– А как прошла ваша встреча с рейхсмаршалом, дядя? Он привез плохие новости из Берлина?
Гудериан вздохнул.
– Самая большая плохая новость, привезенная рейхсмаршалом – это сам рейхсмаршал, – он раздраженно прошелся по кабинету. – Ты представляешь, мой мальчик, он приказал немедленно начать передислокацию люфтваффе, стянув штаффели на несколько хорошо охраняемых аэродромов, которые к тому же должны теперь дислоцироваться на пятьдесят километров дальше от линии фронта, чем сейчас. Представляешь, к чему это приведет?
Курт молча кивнул. Да-а, это были плохие новости. Радиус действия основного истребителя люфтваффе «Мессершмитт Bf-109» составлял около шестисот километров. Причем этой дальности действия он достигал при условии, что не менее половины этого расстояния истребитель пролетел с крейсерской скоростью триста семьдесят пять километров в час, при которой достигалось наилучшее соотношение дальности полета по отношению к расходу топлива. И увеличение расстояния до линии фронта означало, что даже в самом лучшем случае время, в течение которого истребители могли вести бой, так же уменьшалось как минимум на пятнадцать-двадцать минут. А скорее всего, гораздо больше. Ведь надо же было еще и как-то компенсировать увеличившееся вследствие большего отдаления аэродромов время реакции – после подобной передислокации истребителям, вылетающим по вызову авианаводчиков для прикрытия наземных войск, придется дальше и, соответственно, дольше лететь к месту боя. И компенсировать это можно было только тем, что истребители к месту боя летели не на наиболее выгодной с точки зрения топливной эффективности крейсерской, а на более высокой скорости. Ну, или смириться с тем, что русские штурмовики или бомбардировщики успеют сделать по войскам пару лишних заходов. Причем безнаказанных.
Аналогичная ситуация складывалась и с наиболее востребованным для поддержки сухопутных войск пикирующим бомбардировщиком «Юнкерс Ju-87», обладавшим сходным радиусом[56]. Но это были еще не все плохие новости. Сама передислокация должна была привести к тому, что интенсивность использования авиации на какое-то время резко упадет. Ибо для передислокации недостаточно того, чтобы самолеты перелетели с одного аэродрома на другой. Необходимо перевезти технический персонал, перегнать автотехнику, заправщиков, собрать, загрузить, перевезти, а затем развернуть на новом месте мастерские, компрессорные и кислородные станции, заново выстроить снабжение. Пилоты должны изучить новые районы действий, ознакомиться с ориентирами, маршрутами подхода к аэродрому и зонам ответственности штаффеля, заново установить связь со штабами и войсками. И все это в условиях и так развивающегося пока не слишком успешно наступления…
– Так мало этого, – сердито продолжил Гудериан, – после рейхсмаршала вылез этот идиот Бах-Залевски[57] и заявил, что он не готов гарантировать отсутствие подобных диверсий в будущем, если число охранных дивизий не будет увеличено в три раза!
– М-м-м, смелое заявление, – осторожно отозвался фон Зееншанце, – но простите, дядя, я не вижу в нем ничего идиотского. Совершенно понятно, что войска охраны тыла не справляются с русскими диверсантами. И их придется усиливать. Возможно, не столь радикально, но…
– Ты не понимаешь, Курт! – раздраженно прервал его Гудериан. – Наша военная доктрина построена на том, что мы должны закончить войну с тем же количеством дивизий, с которым начали. Вся наша система подготовки резервов, так же как и темпы поставки военной техники нашей промышленностью, ориентированы именно на возмещение потерь, а не на разворачивание новых соединений. Фюрер не хочет обременять граждан рейха излишними военными расходами, тем более, что до сих пор вермахт вполне справлялся. Но именно поэтому в настоящий момент увеличить количество дивизий мы способны только в мирное время.
– Дядя, по-моему, вы забыли, в какой структуре я работаю, – едко отозвался фон Зееншанце, – я все это прекрасно представляю. Но как вы, я думаю, знаете…
– Тогда ты должен понимать, насколько упадут наши наступательные возможности, если этот дурацкий план Бах-Залевски начнет воплощаться в жизнь! Мы и так в мае этого года потеряли десяток пехотных дивизий[58], переформированных в охранные. И нам сейчас их очень не хватает на фронте. А сопротивление русских отчего-то не падает с каждым днем, а лишь возрастает. Хотя мы рассчитывали совсем на другое. Вспомни, во французской кампании Франция капитулировала уже на сроковой день. Здесь же, в то время когда мы по плану должны уже вовсю маршировать по Москве и Ленинграду, мы все еще пытаемся взять Киев[59]. А представь, что будет, если у нас заберут еще двадцать дивизий? Или пусть даже не заберут, а просто направят личный состав, который мы можем использовать для пополнения армейских частей, на их формирование? С чем тогда останутся фронтовые части? О какой их боеготовности можно тогда говорить? Ты знаешь, насколько упала численность моих передовых дивизий? Я и так, без всех этих негативных изменений, вижу, что наши возможности наступать сократились настолько, что мы способны только на одну стратегическую наступательную операцию на всем русском фронте. И нам уже надо выбирать, куда двигаться дальше – на Москву, Ленинград или на юг. А мы до сих пор не сделали даже такого элементарного шага, и пытаемся дергаться по всем трем направлениям, сжигая наши последние резервы. А тут еще и такое!
– Я вас понимаю, дядя, – нейтрально отозвался фон Зееншанце. – И даже где-то поддерживаю. Но посудите сами: сейчас, после этих налетов, мы все равно вынуждены отрывать на охрану наших тылов весьма значительные силы. Насколько мне помнится, даже после первых налетов их численность была сравнима с дивизией, пусть и не полной. Но таковых на фронте сейчас и нет… И это кроме уже имеющихся охранных. А после последнего налета, я думаю, пришел приказ на выделение для этой задачи дополнительных сил. Не так ли?
– Да, – недовольно кивнул Гудериан.
– И в связи с этим мы можем говорить, что фактически требование Бах-Залевски уже удовлетворено. А то и с лихвой.
Генерал не ответил, а только нервно дернул рукой.
– Так что оно тогда, по большому счету, меняет?
– Многое, Курт, – зло отозвался Гудериан. – Одно дело, когда вермахт выделяет эти части для устранения критической ситуации. На время. А другое – когда он теряет дивизии вообще. Насовсем. Тем более когда они так нужны на фронте.
– Если бы у вас тогда была возможность выделить мне мотострелковый полк, дядя, – тихо напомнил Курт, – вполне возможно вам сейчас бы не пришлось так страдать, снимая с фронта дивизии.
Генерал нервно дернулся, ожег Курта злым взглядом, но потом шумно вздохнул и примирительно произнес:
– Да, признаю, я тогда был не прав. Если бы я в тот момент последовал твоему совету, возможно, мы смогли бы избежать всех этих неприятностей.
– К сожалению – нет, дядя, – так же вздохнув, отозвался гауптман. – Далеко не всех. Не думаю, что я смог бы его захватить. Он… – Курт замолчал, подыскивая точное определение, но не нашел и заменил его не слишком точным аналогом, – он слишком необычен, чтобы попасться. А именно он – ключевой фактор. Так что неприятности у нас непременно были бы. Но вот его батальон мне, вполне вероятно, удалось бы разгромить. Ну, или как минимум серьезно потрепать. И это действительно могло бы уменьшить размеры наших неприятностей.
Гудериан снова прошелся по комнате, затем остановился и бросил взгляд исподлобья на Курта.
– То есть ты считаешь, что все равно не сможешь его поймать?
Фон Зееншанце молча кивнул. Гудериан поднял руку и задумчиво потер подбородок, а затем озадачено произнес:
– Кто же он, все-таки, такой?
– К сожалению, это не самый главный вопрос, который нас сейчас должен волновать, дядя, – грустно усмехнулся Курт.
– Вот как? – удивился генерал. – А какой же вопрос ты считаешь… – тут он осекся, замер, а затем громко произнес: – Где он ударит в следующий раз?..
9
Вилора стояла у окна и смотрела на приближающийся перрон. За ее спиной суетливо носились медсестры и санитарки, готовясь к скорой разгрузке, но ее никто не трогал. Она не состояла в штате военно-санитарного поезда, поэтому его разгрузка ее вроде как не касалась. Хотя…
– Ну что, милочка моя, собрались уже?
Девушка обернулась.
– Да, Николай Нилович, давно уже. Мне и собирать-то нечего. «Сидор» один и вот сумка медицинская.
– Вот и хорошо! – усатый пожилой мужчина в круглых очках по-доброму улыбнулся. – Я думаю, машина нас уже ждет. Сейчас заедем ко мне домой, Марьяна нас чаем напоит, а потом сразу в госпиталь. Тебе как, отдохнуть не нужно?
– Ну что вы, Николай Нилович, я совсем не устала.
– Как же не устала, – покачал головой мужчина. – Спать-то когда легла, часа в три?
– И вовсе не в три, а в два, – горячо возразила Вилора. – Я же вам последнему иглы ставила. А как тронулись – так и я легла. На ходу же совершенно не получается работать. Так трясет…
– Ну, раз так – то и хорошо, – не стал спорить мужчина. – У тебя сегодня в госпитале работы много будет. Сама знаешь, какой поток раненых сейчас с юга идет. Сегодня еще два таких же, как наш, поезда планируются.
После этих слов у Вилоры сжалось сердце. Сражение за Киев за последнюю неделю становилось все ожесточенней. Немцы рвались к городу с трех сторон – с юга, запада и севера. И как раз северное направление было самым тяжелым. Если с юга и запада немцы медленно, но неуклонно, теряя людей и технику, все еще постепенно прогрызали нашу оборону, на севере они сумели-таки прорвать фронт на всю глубину и, окружив часть советских войск в районе Шостки, серьезно продвинулись в направлении на Чернигов и Конотоп. Это давало им возможность отрезать всю группировку советских войск, обороняющую Киев. Сводки Совинформбюро глухо информировали о тяжелых оборонительных боях, напирая на героизм советских бойцов и командиров, но потоком шедшие раненые сообщали о тяжелых боях на Десне, на которой наши обороняющиеся войска сумели выбить немцев уже с третьего плацдарма. Но те все не успокаивались, пытались переправиться и захватить плацдарм снова и снова… Причем основной причиной столь желанных сейчас успехов почти все раненые командиры в один голос называли неожиданно сильную поддержку со стороны авиации, которую люфтваффе вроде как уже успешно вытеснили с неба. Но, похоже, у них что-то пошло не так, и сейчас «сталинские соколы» отчаянно пытались вернуть себе небо над своей родиной. Многие из раненых командиров с сожалением говорили:
– Эх, ежели б нас авиация так в июле б держала…
Так что на позавчерашний день, то есть двадцать четвертое сентября[60], положение хоть и оставалось серьезным, но надежда на то, что Киев удастся удержать, по-прежнему, присутствовала. Хотя эвакуация предприятий и запасов стратегических материалов из Киева, так же как и из других промышленных центров – Днепропетровска и Запорожья, шла полным ходом. Вилора могла наблюдать это воочию. Их санитарный поезд шел по «зеленой улице», но все полустанки по пути были забиты двигавшимися в том же направлении эшелонами с эвакуированным оборудованием, а также с прокатом, трубами, железным листом, алюминиевыми чушками и едущими в эвакуацию рабочими киевских заводов. Слава богу, немецкой авиации за всю дорогу они в небе ни разу не увидели. Начальник поезда Котлярковский даже громогласно удивился:
– Чего-то немчура разленилась, за весь обратный рейс – ни одного налета!
Поэтому была надежда, что весь этот отправляемый на восток, подальше от фронта, немалый потенциал доберется-таки до места назначения, развернется и начнет слать на фронт танки, пушки, самолеты, снаряды и все остальное, что было нужно нашей армии, чтобы сначала остановить, а затем начать гнать на запад фашистскую гадину. Но… одновременно с этим вовсю ходили слухи, что началась эвакуация Харькова. А это означало, что несмотря на все усилия удержать Киев наше командование все же не надеется.
Санитарный эшелон подогнали к одному из пассажирских перронов Киевского вокзала, на котором уже суетилась толпа встречающих, одетых в основном в белые халаты, с каталками и носилками наперевес. Вилора и Николай Нилович покинули вагон первыми. На перроне их уже ждали. Невысокий и очень худой мужчина в форме со знаками различия старшего военфельдшера и ловкий круглоголовый крепыш с парой треугольников на петлицах.
– Доброе утро, Николай Нилович, – совсем не по-военному поздоровался он с пожилым сопровождающим девушки. – Как добрались?
– Нормально, Петруша, – ответил тот, после чего развернулся к крепышу и приказал: – Толик, а ты давай-ка забери у девушки вещи и помоги донести до машины.
– Это мы сейчас, – тут же отозвался крепыш и потянулся за «сидором» Вилоры.
– Зачем? – вскинулась девушка. – Мне совсем не тяжело.
– Тяжело – не тяжело, – веско произнес Николай Нилович, – а в присутствии мужчины женщины тяжести таскать не должны! И ты, милочка моя, давай мне тут моих мужчин не разлагай. Понятно?
Вилора смущенно протянула:
– Поня-ятно, – и со смущением отдала «сидор». Но в сумку вцепилась.
– Сумку я не отдам. Там у меня иглы!
– Ну хорошо, – усмехнулся Николай Нилыч, – сумку можешь оставить. Дама с сумкой – это вполне себе обычно. Пусть даже и сумка… того… не совсем обычная, – и он вновь повернулся к встречающим. – Ну, давайте, ведите, где машину поставили. Далеко хоть идти-то?
– Да нет, тут, на площади. Под башней с часами…
До места дислокации батальона Вилора добралась только на второй день после того, как немцы начали наступление. Шалва Зурабович и Баженова пытались уговорить ее остаться (вернее, уговорить до конца пыталась Баженова, а Шалва Зурабович даже попытался приказать), но Вилора закусила удила и заявила, что если ее немедленно не отпустят, то она сбежит несмотря ни на какие угрозы трибуналом. Так что отпустили.
Но, когда она добралась до деревни, в лесу у которой дислоцировался батальон, выяснилось, что ничего уже изменить нельзя. Батальон ушел в тыл к немцам два дня назад. Ночью. Перед самым началом наступления. Так что присоединиться к своим у нее нет никакой возможности. Поэтому Вилора осталась работать у Шпильмана, в госпиталь которого потоком шли раненые.
Правда, как чуть позже выяснилось, эта ее работа в госпитале затянулась не очень надолго. Еще через четыре дня немцы прорвали фронт в сорока километрах западнее, и корпус также начал отходить на юг. Отгрызаясь, теряя людей и вооружение, жестоко страдая от постоянных налетов немецкой авиации, но, все-таки, отходить, а не откатываться. И уж тем более не бежать. И генерал Еремин сумел-таки отвести свой корпус на новые позиции, не дав ему потерять боеспособность. Только Вилора узнала об этом гораздо позже. Уже в Киеве. Потому что ее, сразу после получении приказа на эвакуацию госпиталя, отправили в тыл с партией наиболее тяжелых раненых. А когда она попыталась возмутиться, заявляя, что никуда не поедет, а будет при управлении корпуса ждать возвращения своих, Шпильман покачал головой и тихо спросил:
– А с чего ты, Сокольницкая, взяла, что они выйдут из тыла именно на участке нашего корпуса?
– Но… как? – удивилась Вилора. – А где ж еще?
– Да где угодно, – хмыкнул Александр Моисеевич. – Война, девочка моя – вообще дело случайное. Я, например, не знаю, останется ли вообще наш корпус в списках имеющихся в распоряжении командования РККА соединений или нет?
– То есть как это? Почему это? – ошеломленно пролепетала девушка.
– Потому что уже не один десяток таких корпусов, как наш, с момента начала войны из этих списков исчез, – вздохнул Шпильман. – Дивизии разбиты, и их остатки либо отправлены на пополнение других частей и соединений, либо все еще прорываются, а то и пробираются к линии фронта по немецким тылам, штаб – разгромлен, командир корпуса – погиб или в плену. Были – и нет…
– Но… как же так может быть? – воскликнула девушка. – Это же… Как же… Нет, с нашим корпусом такого никак не случится. Вон же, удержали же наши фронт! Значит…
– Да ничего это не значит, – махнул рукой Шпильман. – Наши-то удержали, а вот соседи – нет. И, слава богу, что откатились пока недалеко. Благодаря тому, что за те три дня, пока немцы нас атаковали, из тыла пару дивизий подтянуть успели. Так что после того, как немцы по соседям ударили, а те попятились, было из кого заслон выставить. А то бы толку было с того, что мы фронт удержали… Все равно бы в котле у немцев оказались. У немцев-то во всех передовых частях вся пехота на машинах и мотоциклах. Только где дырку во фронте пробьют, глядь – они уже фьюить, и в тылу у тех, кто еще обороняется. А у нас даже в мехкорпусах почитай вся пехота пешком была. Не говоря уж об обычных стрелковых дивизиях. По мобилизации только машины получить должны были…
– Что-то вы не то говорите, Александр Моисеевич, – сурово сдвинула брови Вилора. – Не может такого быть. И вообще, вы ведь медик, а не командир. Не думаю, что вы в этом разбираетесь. Это… это – пораженческие настроения, вот!
– Не командир-то, не командир, – снова вздохнул Шпильман. – Да сама знаешь, сколько тех командиров через мои руки прошло. Так что я тебе не свои размышления здесь докладываю, а их слова. Или ты думаешь, что мне не больно, что мы отдали немцам Минск, Ригу, Советский Вильнюс, Псков, Таллин и допустили немца в самое сердце России? Вот я их и пытал насчет того, как же так все могло случиться? Нам же в тридцать восьмом, когда Тухачевского, Егорова и Уборевича со товарищи расстреляли, говорили, что все, что зараза из армии – вырвана, что предатели, желающие ослабить нашу армию, – уничтожены. И теперь мы непременно «малой кровью и на чужой территории»!.. И где эта малая кровь и чужая территория? А может как раз не тех расстреляли-то, раз те, кого не расстреляли – такого наворотили? Всего за два месяца! Эвон, сколько кричали про бездарных царских генералов, а теперь выясняется, что они были куда толковей нынешних. Несмотря на все пролетарское происхождение теперешнего руководства.
Вилора поежилась и исподтишка покосилась на окно и дверь. И то, и то было закрыто. Но вот насколько плотно? Очень бы не хотелось, чтобы этот бурный спич услышал кто-то не тот. Очень бы не хотелось… Еще год назад, до того, как арестовали отца, она бы первая возмутилась подобным заявлениям. Все это – ложь и подлый навет! Советская власть НИКОГДА не ошибается! Если посадили и уж тем более расстреляли – значит, было за что. И туда им и дорога. Но после того, как арестовали ее любимого, ее всегда такого болезненно честного и работавшего по восемнадцать часов в сутки папку… И не только арестовали, но еще и осудили, так и не сумев разобраться. После того, как к ней отнесся товарищ Николай… И – да, после того, как немцы уже на третий месяц войны взяли Минск, Ригу, Псков и рвутся к Киеву…
– Не надо так громко кричать, – тихо произнесла она. И Александр Моисеевич вздрогнул и уставился на нее сквозь очки своими больными, красными от недосыпа глазами. Несколько секунд он рассматривал ее слегка испуганным взглядом, потом испуг ушел, и он тяжело вздохнул и махнул рукой.
– Короче, иди Сокольницкая, готовься. Поедешь старшей с ранеными. Я в твою партию самых тяжелых собрал. Уж не знаю, поможешь ты им этими своими иглами дожить до армейского эвакогоспиталя или нет, но если не ты, им, пожалуй, уже никто не поможет.
– А может… – робко начала Вилора. – Александр Моисеевич, у вас же и так хирургов не хватает. Вы-то сами только что двадцать часов у операционного стола отстояли. Может, я со следующей партией поеду, а?
– Нет, Вилора, – вздохнул Шпильман. – Поедешь сейчас, – и пояснил: – Баженова очень просила тебя прислать. У них там очень тяжело. Тяжелые потоком идут. И мрут. Потому что немцы бомбят дороги как бешеные, и поэтому сильная нехватка медикаментов и крови. Ты там сейчас очень нужна, девочка моя…
Вот так она и оказалась сначала в эвакогоспитале, а затем и во фронтовом госпитале, который размещался в Киеве. Причем, вытребовал ее туда как раз вот этот самый пожилой дядечка в круглых очках и военной форме с погонами генерала, по фамилии Бурденко. Главный хирург Красной армии…
Марьяна оказалась пожилой домработницей. Вернее, это для нее пожилой, а для Николая Ниловича, наоборот, молодой. Он так на нее и прикрикнул, когда она разохалась насчет того, что, мол, Марии Эмильевны сейчас дома нету, потому как она у подруги заночевала. И ой, как она расстроится, когда узнает, что не смогла сама Николая Ниловича встретить.
– Ты, Марьяна, не маши тут руками, как гусыня крыльями, а давай-ка своими молодыми ножками да ручками нам вот с этой милочкой и ребятами на стол накрой. Нам через час в госпитале надо быть. А с Машей мы вечерком повидаемся. Я в ближайшее время более на фронт не поеду.
– Вот вы всегда так говорите, Николай Нилович, а потом все опять по-своему делаете[61], – проворчала Марьяна, но на стол накрыла молниеносно. Правда все это время подозрительно косилась на Вилору.
– Петруша, ты там насчет спиц что разузнал? – спросил Николай Нилович, когда они уже садились в машину, чтобы ехать в госпиталь.
– Все в порядке, Николай Нилович, – тут же отозвался старший военфельдшер. – Сами спицы сделают в нашей ортопедической мастерской из проволоки, вытянутой из пружинной стали. У них такая есть, они сами ее как основу предложили. А потом мы покроем их слоем золота в гальванической лаборатории МГУ. Им уже поступило распоряжение оказать нам всяческое содействие. Так что ждем только образец.
– Образец мы тебе сейчас дадим, – произнес Николай Нилович, разворачиваясь к Вилоре. Девушка тут же залезла в сумку и вытащила из нее один из наборов, изготовленных в Киеве, протянув его Петруше.
– Только все пропорции должны быть выдержаны предельно точно, – строго добавил Бурденко.
– Не волнуйтесь, Николай Нилович, – все будет сделано в лучшем виде.
В Киеве Вилора проторчала почти полторы недели. К тому моменту, когда она добралась до Киева, ее спицы, изготовленные вручную, из подручных средств на лесной поляне, были уже на последнем издыхании. Но зато, как выяснилось, с батальоном имелась возможность связи. И влияния Николая Ниловича хватило на то, чтобы во время очередного сеанса для капитана Куницына было передано несколько вопросов по поводу того, из каких материалов можно изготовить новые спицы, дабы они были подолговечнее. Или непременно необходимо дерево? Ответ пришел буквально на следующий день. Капитан Куницын передал, что лучше всего работают как раз металлические спицы, причем из благородных металлов – золота и платины. А деревянными пришлось воспользоваться за неимением лучшего. После этого в прифронтовом Киеве отыскали двух ювелиров, которые за сутки изготовили семь новых комплектов спиц. Правда, обращаться с чисто золотыми спицами оказалось страшно неудобно. Они были тяжелыми и к тому же требовали очень большой сосредоточенности, потому что легко гнулись при любом не совсем точном движении… И еще Вилора очень разозлилась, когда ей сообщили, что спицы изготовлены именно по рекомендациям капитана Куницына. Значит, с батальоном все это время имелась связь, а ей об этом ничего не сказали! Можно же было как-то договориться и, скажем, сбросить ее к своим на парашюте. Она бы совершенно не испугалась прыгнуть. Ну, вот не капельки! Потому что она… Должна. Быть. Со своими!
Поэтому следующий день Вилора нервничала и дулась на всех. В том числе и на генерала Бурденко. До тех пор, пока он ей не объяснил, что радиостанция, с помощью которой они смогли задать вопросы ее комбату по поводу игл, на самом деле была не у батальона, а у группы осназа НКВД, действовавшей совместно с батальоном, но не в его составе. И выходили они на связь очень нерегулярно и из точки, расположенной не менее чем за десяток километров от текущего места дислокации батальона. Ну, чтобы немцы, если даже засекут радиостанцию, не сумели вычислить, где дислоцируется батальон. Так что все вопросы капитану Куницыну передавали именно через энкавэдэшников. И ответы получали тоже через них. При этом Николай Нилович клятвенно пообещал, что при следующем сеансе связи они непременно зададут вопрос насчет того, имеется ли возможность перебросить им батальонного военфельдшера, который просто горит желанием вернуться в свой родной батальон. И если они согласятся, то он сам не только не будет этому препятствовать, но даже всемерно поможет.
Девушка не знала, что генерал Бурденко, столкнувшись с совершенно необъяснимым, но при этом так же совершенно реальным ростом числа выздоровлений в абсолютно, по меркам современной медицинской науки, безнадежных ситуациях, вследствие использования этой загадочной акупунктуры, имеющей то ли китайские, то ли японские, то ли индийские корни, из-за информации о которых он и прибыл так срочно сюда, в Киев, обратился лично к Сталину с требованием немедленно вытащить обладающего столь уникальными знаниями капитана Куницына из немецкого тыла. Но ему сообщили, что в настоящий момент сделать это никак невозможно. И передали совет – «берегите Сокольницкую». После чего точно такой же совет он получил и от самого капитана Куницына. Тот передал: «Берегите Вилору». Так что свое обещание он давал с легким сердцем. Ибо в ответе капитана Куницына был совершенно уверен.
Так оно все и вышло. То есть на следующий день Вилоре официально, в узле связи, с росписью в журнале о неразглашении и в присутствии сотрудника НКВД была предъявлена радиограмма от той самой спецгруппы осназа, в которой говорилось, что «…обеспечить прием из-за линии фронта кого бы ни было не имеем возможности. Ибо это поставит подразделение в опасное положение и будет способствовать его обнаружению противником».
Следующие десять дней Вилора чувствовала себя каким-то механическим автоматом. Семь комплектов спиц позволяли работать в режиме конвейера. За сутки, при двенадцатичасовом рабочем дне, Вилора успевала обработать от ста сорока до ста семидесяти человек. В зависимости от их состояния. Так что за эти дни через ее руки прошло около полутора тысяч человек. Ну да, человек… обожженных, хрипящих простреленными легкими, еле живых, с ампутированными ногами или руками и в окровавленных бинтах. Она давно уже не была той испуганной первокурсницей, которую тошнило уже при подходе к анатомичке, и даже не той хорошо, как ей тогда казалось, подготовленной «заучкой», которая прибыла для прохождения службы в медсанбат двадцать второй танковой дивизии. Она уже успела повидать грязь, кровь, человеческие внутренности, изувеченные безжалостными свинцом и сталью. Она сама ампутировала руки, ноги, ушивала огромные безобразные шрамы. Но все равно… это было тяжело.
На третий день, под вечер, когда она пила чай, которым спасалась в короткие перерывы между сериями, не позволяя себе отойти от рабочего места хотя бы на полчаса, чтобы пообедать (уж больно большой поток раненых шел в эти дни в Киев), держа подстаканник едва заметно дрожащими пальцами, в палату, в которой она занималась установкой игл, влетела какая-то женщина в кокетливо подпоясанном белом халате. Бросив неприязненный взгляд на Вилору, она склонилась к уху сидевшего рядом Бурденко и тихо зашептала:
– …генерал-лейтенант… непереносимость анестезии… очень слаб… звонили из Москвы… лично просил…
Тот молча кивнул и поднялся. Вилора окинула его заторможенным взглядом, а затем тихо сказала:
– Капитан Куницын при мне в полевых условиях сделал обезболивание ранбольного с помощью игл.
Бурденко притормозил и резко развернулся.
– Милочка моя, а вы сможете это повторить?
Вилора вздохнула, поставила на столик почти пустой стакан и медленно мотнула головой.
– Нет, – потом мгновение поколебалась и нехотя закончила: – Если только в самом крайнем случае, если нет других вариантов. Я этого просто никогда еще не делала. Только видела и… какие там особенности, могу только предполагать. По этим-то трем схемам меня капитан Куницын хорошо натаскал. Ну, чтобы все особенности строения тела конкретного человека учитывать – размер, вес, длину конечностей, особенности расположения внутренних органов. Их же при пальпации можно прощупать или по косвенным признакам определить. А там понадобится заходить в мозг через глазные отверстия в черепе. Я, конечно, теоретически, для себя, прикидывала, куда он там втыкал иглу, но… – она запнулась, подумала и решительно произнесла: – Нет. Я знаю, что это возможно, но я этого сделать не сумею.
Бурденко кивнул и вышел из палаты. А Вилора посидела еще минуту и, поднявшись на ноги, двинулась к своему «конвейеру». Пришло время вытаскивать иглы из очередного ранбольного…
Но уже через два часа Николай Нилович вернулся в ее палату и, терпеливо дождавшись, когда она поставит очередную серию, мягко и ласково произнес:
– Милочка моя, нам надо попробовать.
– Что? – не поняла сразу Вилора.
– Нам надо попробовать сделать эту твою анестезию с помощью игл, – он вздохнул. – Иначе ничего не получается. Полная непереносимость хлороформа. Да и с остальной общей анестезией так же дела совсем швах. А делать операцию под местной никак не получится – слишком обширные поражения. Без общей анестезии он просто умрет от болевого шока. Пациент и так очень слабый.
Так что спустя двадцать минут она уже стояла перед входом в операционную, вскинув вверх руки в перчатках, и ждала, пока та самая кокетливо подпоясанная медсестра завяжет ей на спине свежий операционный халат.
Операция прошла удачно. Хотя, в тот момент, когда Вилора медленно и осторожно вводила иглу в левый глаз пациента – она едва не описалась от страха. Но – обошлось. Во всяком случае, к тому моменту, когда Вилора вытянула из генерал-лейтенанта свои иглы, он был еще жив. Поэтому девушка, дав пациенту немного передохнуть, поставила ему сначала общеукрепляющую схему, а затем еще и на повышение кроветворной способности.
И именно после этой операции Бурденко объявил:
– Все, мне понятно, что этим надо заниматься серьезно. А поэтому, милочка моя, мы с тобой завтра же оправляемся в Москву.
– Как в Москву? – испугалась Вилора. – Я не хочу… мне нельзя в Москву! Мне к моему батальону надо.
– Милочка моя, – вскинулся Николай Нилович, – ну что вы такое говорите? Да вы знаете, сколько человек нам удалось вытянуть благодаря этому вашему… шаманству? Да-да, шаманству, только к счастью для нас, в отличие от обычного – крайне эффективному. Четыреста пятьдесят! Причем почти половина из них из числа тех, вероятность выживания которых составляла не более пятнадцати процентов. Четыреста пятьдесят человек бойцов и командиров! Вы понимаете, что это целый батальон! Да что там батальон – после выздоровления они могут стать прочной основой для формирования целого полка! Потому что все это будут отличные профессионалы еще довоенной подготовки и уже получившие боевой опыт. До войны мы даже солдата готовили два года! А сейчас офицеров начинаем готовить за шесть месяцев… Так что если к этим четыремстам пятидесяти человекам добавить новобранцев и офицеров военного производства – они быстро собьют из них приличное боевое подразделение. А вот если без них… – он тяжело вздохнул. – Я знаю, милочка моя. Я видел[62]… И заметь, все это ты сделала только за десять дней. То есть за месяц даже ты одна сможешь дать нашей армии шанс восстановить или заново сформировать целую дивизию… Нет, милочка моя, нам, нашей стране, нужно, да просто жизненно необходимо ставить это ваше с капитаном шаманство на научную основу. Разбираться с тем, как все это работает. И готовить много, очень много новых специалистов. И кто этим будет заниматься кроме тебя?
– Но… я же… он же… это же все капитан Куницын. Я же только…
– Капитан никуда от нас не уйдет, – жестко отрезал главный хирург РККА. – Я тебе гарантирую, что как только этот твой капитан выйдет из немецкого тыла, я сразу же добьюсь того, чтобы его откомандировали ко мне… – тут он осекся, как видно вспомнив все перипетии своего общения с НКВД по поводу капитана, но затем, все-таки, решительно кивнул: – Добьюсь. Хотя бы на некоторое время. Но нам к тому моменту надо быть готовыми к тому, чтобы воспринимать его науку не как ритуал, то есть не как нечто, что мы можем сотворить, но ни грамма не понимая, как оно работает, а именно как науку. То есть понимая хотя бы что-то.
– Но… разве нельзя этим заниматься здесь, в Киеве? – робко спросила Вилора.
– Если бы не было войны – то можно, – вздохнул Николай Нилович, – а сейчас – это прифронтовой город, к которому рвутся немцы, рядом с которым идут тяжелые бои и на который совершает налеты немецкая авиация. Так что здесь можно немного лечить раненых и готовить их к отправке в тыл. А вот заниматься научным исследованием шаманства здесь невозможно. Увы!
Однако уехать на следующий день им не удалось. Прооперированному генерал-лейтенанту ночью стало хуже, и Николай Нилович провел у него весь следующий день. Вилору тоже к нему вызвали, проводить общеукрепляющую схему. Ну и кроме этого она еще обработала около сотни вновь поступивших раненых. Так что в Москву они тронулись уже на следующий день. С военно-санитарным поездом.
Ради главного хирурга РККА начальник поезда, военврач первого ранга Котлярковский даже уступил им свое купе. Так что доехали, считай, с комфортом. Хотя Николай Нилович где-то до часу ночи ходил с Котлярковским по поезду, осматривая раненых. И вернулся только когда они добрались до Ромн, где от поезда оцепили паровоз и погнали к водокачке на заправку. Сам же Бурденко почти полчаса проторчал в здании вокзала, связываясь с Москвой и отдавая приказания по завтрашней встрече раненых и распределению их по медучреждениям. Так что когда он, наконец, добрался до купе, Вилора, увидев его, ахнула и всплеснула руками.
– Ой, Николай Нилович, ну что же это вы?! Вы только посмотрите на себя – на вас же лица нет. Зеленый весь!
– Ну вот, еще одна Мария Эмильевна нашлась, – добродушно усмехнулся Николай Нилович, однако шинель с себя он стянул с трудом, после чего просто рухнул на полку напротив девушки и, сняв очки, устало потер руками виски. Вилора же с тревогой смотрела на него. Видно было, что генерал устал, очень устал – бледность, мешки под глазами, красные глаза в прожилках, да еще… рука вот дрожит. Ну, да еще бы – позавчера тяжелейшая операция, вчера тоже ночь-заполночь возился с прооперированным генерал-лейтенантом, и сегодня весь день на ногах. И даже после отъезда до сих пор по поезду ходил, раненых смотрел. А потом по телефону ругался.
– Вот что, Николай Нилович, – категорично заявила Вилора, – давайте-ка, ложитесь, я вам общеукрепляющую схему поставлю.
Бурденко несколько оторопело посмотрел на нее, а затем сердито нахмурился.
– Вот что, милочка моя… – недовольно начал он, но девушка упрямо вздернула подбородок.
– И не спорьте даже. Вы вот мне рассказывали, сколько я своим шаманством человек вытянуть смогу… так я вам сейчас то же самое говорю! Вы посмотрите на себя – еле живой и руки трясутся. А ведь не мальчик уже. А ну как вас инфаркт или инсульт свалит – сколько бойцов и командиров без вашей помощи останутся? Страшно подумать! И каких командиров! Вот если бы вас вчера в Киевском госпитале не было – наша армия целого генерал-лейтенанта лишилась бы! А его даже во время войны за полгода, как лейтенанта, не выучишь! Так что давайте-ка быстро раздевайтесь и ложитесь. Я вас быстро обработаю, пока поезд еще стоит.
Николай Нилович удивленно посмотрел на Вилору, немного подумал, а затем махнул рукой.
– Ну, шут с тобой. Столько уже со стороны смотрел, как ты людей протыкаешь, – пора и на себе попробовать. Делай[63]!..
Едва они въехали во двор большого, помпезного здания, внешне больше напоминавшего дворец, чем лечебное учреждение, как к их машине тут же устремились люди.
– Николай Нилович, добрый день, с возвращением! А вот тут у меня…
– Николай Нилович, с возвращением, мне тут запрос…
– Николай Нилович, мне срочно нужно…
– Николай Нило…
Вилора, выбравшаяся из машины вместе с Бурденко, оказалась мгновенно оттеснена от него всей этой толпой и растерянно остановилась, не зная, куда дальше идти и что делать.
– Товарищ Сокольницкая…
Она оглянулись. Рядом с ней стоял Петруша. Вид у него был весьма забавный. Похоже, он изо всех сил пытался выглядеть попредставительней и… ну… погрознее что ли, но получалось это у него, прямо скажем, не очень. Смешно у него получалось, честно говоря. Особенно забавно выглядели уши, торчащие из-под фуражки.
– Николай Нилович мне уже вчера отдал все приказания насчет вас, – солидно произнес старший военфельдшер. – Так что пойдемте, я вас провожу.
– Куда?
– Ну-у-у… в строевую часть. Там встанете на довольствие. У вас есть где в Москве остановиться?
– Н-нет, – еле заметно запнувшись, мотнула головой Вилора. В принципе, вероятно, можно было попытаться решить этот вопрос. У папы в Москве было много друзей и знакомых. И они с папой даже несколько раз останавливались у них, когда приезжали в Москву. Причем пару раз уже после смерти мамы, в то время, когда девушка уже была вполне взрослой, чтобы запомнить адрес. Но это было еще до того, как папу арестовали. А как к ней эти люди отнесутся теперь – неизвестно. И проверять это ей совсем не хотелось.
– Тогда после строевой зайдем к сестре-хозяйке, получим у нее ордер на койку. Ну а потом я отведу вас к вам в кабинет.
– Но… – Вилора растерянно посмотрела в сторону дверей, за которыми исчез Николай Нилович, окруженный многочисленной свитой, – я бы хотела…
– Бесполезно, – с видом старого опытного делопроизводителя произнес Петруша. – Это теперь, считай, до обеда. У нас так всегда после того, как товарищ генерал с фронта возвращается.
– Ну, тогда пойдемте, – вздохнув, сказала девушка. Вот так и началось ее пребывание в Москве.
10
Обершарфюрер СС Густав Ойбель был вполне доволен своей службой. Ибо он надел форму вовсе не потому, что мечтал о подвигах или там о великой славе. Отнюдь нет. Он надел форму для того, чтобы хорошо устроиться в жизни.
В Германии всегда с большим пиететом относились к военной форме. Человек в форме почти во все времена пользовался в обществе большим уважением. Но раньше к этому уважению прилагался еще и риск быть убитым или искалеченным. О, Густав знал это получше многих. Он узнал об этом в окопах прошлой войны.
Ойбель попал в армию только на третий год войны, когда «увернуться» от призыва уже никак не получилось. Ну не воинственный он был человек… И, вернувшись после поражения Германии домой, в родной Эберсберг, маленький городок, расположенный в тридцати километрах от Мюнхена, Густав довольно долгое время изо всех сил избегал возможностей вновь надеть форму. Но… все изменилось, когда военную форму надели политики. О, да! Ойбель еще в далеком тысяча девятьсот тридцатом понял, что это – шанс. И что теперь, даже такому не очень воинственному человеку, как он, вполне можно надеть военную форму, не сильно при этом рискуя. Более того, при этом его еще и будут считать храбрецом, настоящим немцем и вообще солью нации.
С той поры прошло не так много времени, но все расчеты Густава уже успели не раз оправдаться. Нет, он не заслужил много наград. Их у него было всего две, и среди них ни одной боевой. Но зато какие! Если по поводу первой – «Аншлюс-медали»[64] кое-кто еще мог бы покривить губы, то зато вторая – шеврон старого бойца[65] служила предметом зависти очень и очень многих. А весь вопрос состоял всего лишь в двух месяцах. Промедли Ойбель со вступлением в НСДАП[66] всего пару месяцев – не видать бы ему этого шеврона как своих ушей. Но – успел.
На получаемое им жалование, вместе со всеми надбавками, положенными ему как ветерану партии, а также кое-какими другими побочными доходами (а что поделать – маленькому человеку, дабы заработать себе на жизнь, приходится крутиться), Ойбель выучил сына и пристроил его в ту же структуру, в которой подвизался и сам. Сейчас его мальчик, так сказать, отдавал долг рейху в одном из новых концлагерей, комплекс которых в прошлом году развернули неподалеку от Аушвица[67], в «возвращенных землях»[68]. А также выдал замуж обеих дочек и обзавелся скромным, но уютным собственным домиком на окраине Мюнхена. Густав любил свою семью, своих детей и всегда старался дать им самое лучшее…
Восточный поход фюрера Густав весьма одобрял. А что – годы идут, и уже пора присматривать местечко, где можно провести тихую и спокойную старость. И в этом смысле Ойбелю пришлись по душе планы фюрера по немецкой колонизации вновь присоединяемых земель. Он всегда мечтал о собственном фольварке. В мечтах ему грезились большой дом, крытый аккуратной черепицей, конюшня, новомодный машинный двор с парой тракторов, грузовичком, локомобилем и блестящей лаком легковушкой для собственного выезда, овин, амбар, коровник, овчарня, птичник. Непременно, тихий, уютный яблоневый сад. Пруд. Голубятня. А что – нежнейшая птица, если уметь ее готовить! Три-четыре десятка батраков из местных, которым великий немецкий фюрер принесет свет европейской цивилизации, вполне довольных своим существованием. Густав же не зверь, и не собирается морить усердных работников голодом или издеваться над ними беспричинно. Ну а тех, кто не будет усердным… пастор всегда говорил: «Поощрять лень и нерадивость работника – губить его душу». А Ойбель – добрый католик и никак не может себе позволить оставить без помощи того, над кем дамокловым мечом висит опасность сгубить свою бессмертную душу…
И пока все ожидания обершарфюрера полностью оправдывались. Ну, если судить по тому, как шли дела. Доблестная немецкая армия рвалась вперед, к победе, и пока не было видно никаких признаков того, что этой победе что-то угрожает. Поэтому, когда он, как обычно, в восемь часов утра подошел к двери Sutzhaftlagerfüh-rung[69], концентрационного лагеря «Лесной», наиболее крупного из относящихся к управлению Stalag 352, расположенного рядом с деревней со смешным и глупым славянским названием Masukovshina, неподалеку от окраин довольно крупного и, в общем-то, вполне современного города Minsk (интересно, и как только эти unter-mensch, вообще сумели его построить?), настроение у него было просто отличное. И так продолжалось до тех пор, пока он не открыл дверь и не вошел внутрь…
– Не советовал бы, – спокойно произнес по-немецки русский военный, сидевший сбоку от стола начальника sutzhaftlagerführe гауптштурмфюрера Легловски, едва Ойбель, у которого от неожиданности перехватило дыхание, судорожно нашарил клапан своего штатного «парабеллума». А когда обершарфюрер не отреагировал на этот совет должным образом, встал и сильно врезал Густаву в солнечное сплетение. После чего толкнул его на стул и все так же спокойно, даже где-то небрежно, вытащил пистолет из так и не расстегнутой Ойбелем кобуры.
– Ну что, поговорим? – поинтересовался он у Густава после того, как тот слегка отдышался. Обершарфюрер ничего не ответил… Нет, не подумайте, что появление русского военного в этом кабинете было таким уж из ряда вон выходящим происшествием, в случае которого сразу же необходимо было хвататься за пистолет.
Гауптштурмфюрер Легловски регулярно… кхм… приглашал к себе русских военных, составлявших основную часть переменного контингента этого лагеря, дабы пообщаться с ними на предмет взаимовыгодного сотрудничества. Он вообще был гуманистом. И всегда предпочитал договариваться. Угощал сигаретами. Рассказывал о блестящих перспективах жизни в Третьем рейхе. О цивилизованном подходе. О европейских ценностях. И кто виноват, если люди не понимали подобного цивилизованного обращения? Впрочем, эти славяне, по наблюдениям обершарфюрера, вообще были непроходимо тупы. Так что время от времени (ой, ну ладно, будем точны – чаще всего) Ойбелю приходилось вызывать в кабинет шарфюрера Реккермана или унтершарфюрера Кнапке, крепких, здоровых молодцов, будто сошедших с плакатов Министерства народного просвещения и пропаганды, которые довольно быстро объясняли упрямцам, насколько те не правы…
Вот только все русские, которые до сего момента входили в этот кабинет, как правило были одеты далеко не по форме, без ремней и, главное, без оружия. Даже без пистолета. Этот же умудрился припереться в кабинет в полной форме и со здоровенным русским ручным пулеметом с плоским круглым магазином сверху. В кабинет Sutzhaftlagerführung концентрационного лагеря «Лесной», если вы на минутку забыли. Расположенный в здании управления концлагеря, стоящего в его самом центре. Один. Не потревожив ни одного часового.
– Я что-то не слышу ответа на мое вполне цивилизованное предложение, – нахмурился русский.
– Что… – прохрипел Ойбель, закашлялся, шумно вздохнул, и лишь затем сумел сипло произнести: – Что вам нужно?
– Сведения, – просто ответил русский.
– Какие?
– О наших пленных, которые содержатся в этом лагере.
Ойбель замер. Неужели…
– О! – русский воздел палец вверх. – Осознал. Молодец. Давай, делись…
– Чем? – переспросил Густав, больше стараясь протянуть время, чем действительно не понимая, что от него требуется. Гауптштурмфюрер Легловски по своим физическим статям ничуть не уступал Реккерману и Кнапке и далеко превосходил самого Ойбеля. А его отсутствие в кабинете после начала рабочего дня объяснялось тем, что он, по утрам, пройдя КПП, часто сразу шел не к себе в кабинет, а в кабинет начальника лагеря. Ну, там, поболтать, узнать новости, выпить чашку кофе… Но, как правило, гауптштурмфюрер проводил у него не более пятнадцати минут. После чего отправлялся в свой кабинет, расположенный в противоположном от кабинета начальника конце коридора, у бокового входа в блок. И сейчас он как раз должен был уже подходить к двери…
Дверь распахнулась и на пороге появилась высокая, крепкая фигура гауптштурмфюрера, на лице которого играла довольная улыбка. Она так и не успела исчезнуть с его лица, когда русский, каким-то невозможным, почти инфернальным скачком переместился вперед, к двери, и, ухватив голову Легловски двумя руками за затылок и подбородок, одновременным движением свернул ему шею. После чего легко, как будто держал в руках не почти сотню килограмм живого веса, а… ну не знаю, кофейник с кофейной парой, легким движением даже не втащил, а внес тело гауптштурмфюрера в кабинет. А затем каким-то небрежным, даже мирным движением носка сапога, захлопнул дверь. И дверь при этом, вот ведь дьявол, не так уж и сильно хлопнула… Русский же, между тем, аккуратно положил тело Легловски на пол, и совершенно спокойно начал расстегивать на гауптштурмфюрере мундир.
– Ну, так я жду, – поторопил он Густава, бросив на него спокойный и даже как будто досадливый взгляд – мол, что молчишь-то, милок, договорились же обо всем…
– Я, э-э, просто не знаю… – испуганно начал Ойбель, но русский не дал ему шанса. Ни на что… Вот только что он стаскивал мундир с трупа, и вот уже голова обершарфюрера зажата в точно таком же захвате, который послужил причиной мгновенной смерти Легловски, а злые и абсолютно холодно-равнодушные глаза смотрят так, что буквально выворачивают душу.
– Не шути со мной, «черненький». Твой мундир мне не нужен, и я собирался оставить тебя в живых. Но если ты начнешь кочевряжиться…
Густав замер, как будто его тело свело какой-то странной судорогой, как-то отстраненно, фоном, почувствовав, как намокли и потяжелели штаны между ногами, а по внутренней стороне бедер потекло что-то горячее. Но на это ему было совершенно наплевать.
– Ну… – снова произнес русский.
И Ойбель заговорил. Торопливо. Захлебываясь. Страшно боясь не успеть, не досказать, не быть понятым, потому что этот странный и страшный русский, столь спокойно и свободно чувствующий себя в самой сердцевине концентрационного лагеря, охраняемого несколькими сотнями немецких солдат, расположенного почти на окраине города, буквально набитого немецкими войсками и подразделениями СД, теперь вызывал у него какой-то чудовищный, первобытный ужас.
– Значит, – задумчиво хмыкнул русский, когда Густав закончил с рассказом, – этот, как его то бишь…
– Штандартенфюрер Либке!
– Ну да… ну да… значит, он задумал поймать нас в ловушку?
– Так точно!
– И для этого в ваш лагерь привезли сына Сталина, не так давно захваченного в плен?
– Так точно!
– Хм, хи-итро. И где он сейчас?
– В девятом блоке. Но вам соваться туда бесполезно. Весь переменный состав блока распределен между двенадцатым, одиннадцатым и третьим, а в девятый под видом военнопленных заселена специальная зондеркоманда, составленная из сотрудников СД и восьмисотого учебного полка особого назначения «Бранденбург». Солдаты в этот полк набираются с хорошим знанием русского языка, поэтому на них возлагается внешняя охрана блока и имитация его заполнения военнопленными. Они все одеты в подержанную русскую военную форму без ремней, как и пленные остальных блоков.
– Вот, значит, как… – русский задумался. А затем спросил:
– А сюда его вызвать никак не получится?
Обершарфюрер отчаянно замотал головой.
– Нет, он не находится в нашем ведении. Даже не стоит у нас на учете.
– А он когда-нибудь покидает блок?
– Практически нет. Только во время приемов пищи. Штандартенфюрер посчитал, что если вы будете наблюдать за лагерем, то можете заметить, что один из блоков не ходит в общую столовую.
– В столовую, значит… – снова задумчиво произнес русский, стаскивая с трупа группенфюрера бриджи. Сапоги с тела уже были сняты и аккуратно отставлены в сторону. Окончательно раздев мертвое тело, русский поднял мундир, приложил его к себе и тяжело вздохнул.
– Маловат… ну да делать нечего, – после чего начал разоблачаться. Когда он стягивал через голову свою гимнастерку, у Густава засосало под ложечкой, появилась навязчивая мысль, что вот именно сейчас, пока у этого убийцы заняты руки и голова скрылась под гимнастеркой, можно… нет, не броситься на него, Ойбель еще не сошел с ума, и не схватить оружие, это было бы еще более безумным поступком, а попытаться выскочить за дверь и бежать, бежать, бежать… даже не поднимая тревогу. Просто чтобы оказаться как можно дальше от этого чудовища…
Когда-то, во времена своей молодости, обершарфюрер сталкивался с чем-то подобным. Давно. На фронте. Еще в ту войну. Они называли таких «окопные безумцы». Это были солдаты, настолько вжившиеся в войну, что они переставали бояться умереть. Совсем. Это не означало, что они совсем не боялись смерти или, там, искали ее, лезли на пули либо подставлялись под взрывы снарядов. Нет, встречались и такие, но это были просто безумцы. И подобные вызывали у Густава не страх, а… некое брезгливое презрение. Ну а как еще, скажите на милость, можно относиться к сумасшедшим? С «окопными безумцами» все было по-другому. Они оставались совершенно адекватными солдатами – прятались на дне окопа во время артобстрелов, во время перестрелок очень умело пользовались укрытиями, в случае чего мгновенно падали на землю, ползли, если надо было ползти. Но при этом если в подразделении оказывался хотя бы один такой солдат, всем остальным воевать становилось очень трудно. Его просто ничто не могло остановить – ни кинжальный пулеметный огонь, ни безумная атака впятеро превосходящего противника, ни то, что у подразделения кончились патроны. Одним из самых страшных воспоминаний Ойбеля за всю прошлую войну был момент, когда их батальон во время одной из атак попал под огонь шести пулеметов. Так вот, когда их отделение залегло и начало отползать, потому что идти вперед, на пулеметы, было сплошным безумием, один из таких «окопных безумцев» развернулся и прошипел:
– А ну вперед, свинячьи задницы, а то я сам начну вас убивать!
И им пришлось идти вперед. Этот «окопный безумец» не пережил того боя, да и от батальона тогда остались рожки да ножки (чего уж говорить, если из всего отделения выжило только два человека – в батальоне были схожие пропорции). Но первую линию французских окопов они взяли. А Густав запомнил тот страх, который испытал, глядя в глаза того безумца, на всю свою оставшуюся жизнь.
Поэтому он не сделал ничего. Просто дождался, пока русский переоденется в мундир гауптштурмфюрера Легловски и отволочет его тело в дальний угол, затолкав за стеллажи, после чего уставился на русского совершенно преданными глазами, всем своим видом демонстрируя, что готов выполнить любое его пожелание.
– Ну что ж, обершарфюрер, – усмехнулся русский, усаживаясь за стол группенфюрера, – я вижу, что мы с вами достигли взаимопонимания. Теперь пора поработать. Давайте-ка так – я хочу просмотреть личные дела тех военнопленных, которых вы посчитали наиболее буйными и непримиримыми.
– Склонными к побегу и нападению, герр гауптштурмфюрер, – уточнил Ойбель. – Мы их относим к такой категории. Буйные и непримиримые – это как-то несколько м-м-м… литературно.
– Понятно, – согласно кивнул русский. – И, кстати, да, так меня впредь и называй. А то вдруг кто войдет?
Густав согласно закивал головой, после чего вскочил и бросился к стеллажам с папками. Притормозив у стеллажей, он деловито уточнил:
– С какой категории начнем?
– А какие есть?
– «Высший комсостав», – начал перечислять обершарфюрер, – «пленные офицеры», «пленные солдаты» по категориям: «украинцы», «национальные меньшинства», «русские», а также «евреи» и «гражданские лица».
– Тогда начнем с высшего комсостава. Их у вас много?
– На данный момент семь человек, герр гауптштурмфюрер, – тут же доложил Ойбель, – три комбрига, бригадный комиссар, дивизионный комиссар, генерал-майор и генерал-лейтенант. Но среди них нет ни одного склонного к побегу и нападению. А дивизионный комиссар и один из комбригов даже выразили желание сотрудничать с немецким командованием. Подписанные заявления есть в деле.
– Отлично. Заявления этих двоих – сюда, а сами дела меня не интересуют. И остальных – тоже. Во всяком случае, пока. Что там по офицерам?
– В категории склонных к побегу и нападению – шестнадцать человек, – четко доложил обершарфюрер. – Вот их личные дела. Подписали заявления о сотрудничестве одиннадцать человек. Еще семь герр… м-н-э… покойный герр Легловски считал перспективными для разработки. И, кстати, в предыдущей категории он считал таковым еще и генерал-майора…
Следующие три часа они с русским работали спокойно и плодотворно. Густав таскал папки, русский их просматривал, делал какие-то выписки, заметки, складывал в отдельную папку подписанные заявления о сотрудничестве, по совету Ойбеля добавляя туда еще и опросные листы из дел этих военнопленных и учетные карточки с заметками Легловски. А вот папки тех, кого гауптштурмфюрер отнес к категории «склонен к побегу и нападению», русский откладывал отдельно. В ту же кучу он складывал еще и папки, которые отобрал сам. По какому уж признаку он это делал – обершарфюрер понять не мог. Да и не пытался, если честно.
Для него главной задачей в этот момент было выжить. Поэтому все, что говорил этот русский, Густав исполнял старательно и с максимальным рвением. А на любой вопрос старался ответить полно, не ссылаясь на незнание или малый чин. Ибо это было бесполезно. Русский, похоже, прекрасно разбирался в реалиях военной бюрократии и отлично знал, что маленькие чины, исполняющие свои обязанности в ключевых точках военно-бюрократического аппарата, всегда знают куда больше того, чем им это положено согласно служебным обязанностям и оформленным допускам.
Ведь, если бы это было не так, откуда скромный обершарфюрер мог бы узнать о ловушке, которую спланировал сам штандартенфюрер Либке? Он же, с его уровнем допуска, не должен был увидеть ни единого документа, относящегося к этой операции… А он и не видел. Во всяком случае, тех документов, которые относились к планированию операции. Однако документы, относящиеся к ее обеспечению, не только проходили через его руки, но еще и в достаточно большой мере им и составлялись. Контроль перемещения переменного контингента из девятого блока, дабы численность тех самых «склонных к побегу и нападению» в тех блоках, куда перемещали военнопленных из девятого, не достигла критической массы, оформление допуска на территорию солдат восьмисотого полка, организация скрытной доставки в девятый блок вооружения для зондеркоманды – все это легло на плечи обершарфюрера.
Герр Легловски никогда не занимался подобной текучкой, предпочитая сосредоточиться на исполнении командных функций и непосредственной работе с переменным контингентом. А на все осторожные вопросы Ойбеля гауптштурмфюрер только отшучивался (он вообще был по жизни весельчаком), всего пару раз обронив, что «штандартенфюрер Либке был бы недоволен твоим интересом к этому делу, Ойбель». После чего Густав задавать вопросы перестал, но отметку в памяти сделал. И сумел удачно «торгануть» этим вроде как совершенно не относящимся к его компетенции знанием, обменяв его на отсрочку от смерти. Долгую или не очень – пока было не ясно. Но в данный момент обершарфюрер истово трудился над тем, чтобы эта отсрочка стала как можно более длительной.
– Хайль Гитлер!
Ойбель поднял голову и… его сердце пропустило удар. На пороге кабинета стоял сам герр комендант.
– Хайль, – небрежно донеслось от заваленного папками стола. – Гауптштурмфюрер Берковиц. Из городского управления. Придан Stalag 352 на время операции, – русский несколько высокомерно, но в целом вполне дружелюбно улыбнулся и небрежным движением опустил руку, поднятую в партийном приветствии. Коменданта слегка перекосило. И от этой показной небрежности и от того, что он очень не любил, когда на его территории появлялся некто, о ком ему не докладывали, да еще и, судя по тому, какая деловая суета происходила в кабинете Легловски, с какими-то очень нехилыми полномочиями. Но и ссориться с человеком, обладающим подобными полномочиями, тоже явно не стоило. Поэтому комендант переборол раздражение и радушно улыбнулся в ответ.
– Чего-то раскопали? Моя помощь не требуется?
– Ну, без вас мне явно не обойтись, – все так же небрежно бросил русский. – Там, – он ткнул пальцем в потолок, – решили принять некоторые меры для исключения опасности случайных волнений…
Комендант самолюбиво поджал губы.
– В моем лагере никаких волнений быть не может. Иначе бы его никогда не избрали для…
– В обычных условиях, – бесцеремонно прервал его русский. – Но вы же сами знаете, что на ваш лагерь ожидается нападение крупного русского диверсионного отряда. В этом случае, при завязке боя, вполне может сложиться ситуация, когда часть военнопленных пойдет на прорыв.
Комендант побагровел.
– Я считаю, что привлеченные дополнительные силы вполне обеспечивают…
– Бросьте, – снова прервал его русский, отчего цвет лица коменданта усилился на пару тонов. – Никто не сомневается в вашей компетенции. Иначе бы вам не поручили такую ответственную задачу. Но командование посчитало, что будет разумным в преддверии операции вывезти из лагеря три-четыре сотни наиболее беспокойных военнопленных. Вы собираетесь оспорить его мнение?
Мнение командования комендант оспаривать не собирался, но то, что сам этот приезжий гауптштурмфюрер его сильно разозлил – было видно. Однако комендант сумел сдержаться. Хотя высказать свое неудовольствие тем, что его до сих пор не поставили в известность о предстоящих действиях, посчитал необходимым. Хотя бы косвенным образом.
– Когда будет произведена эвакуация отобранного переменного состава? – нарочито раздраженно поинтересовался он.
– По плану – сразу после обеда. Иначе за каким чертом я с утра сижу в этом кабинете, – с не меньшим раздражением в голосе ответил русский.
– Хорошо, я распоряжусь подготовить охрану.
– Не беспокойтесь. Охрана прибудет с машинами. Наверху решили не ослаблять приданные вам силы даже на некоторое время.
– Ладно. Я отдам необходимые распоряжения, – уже едва сдерживаясь прорычал комендант, после чего перевел свои налитые кровью глаза на Ойбеля.
– А где гауптштурмфюрер Легловски?
Но вместо обершарфюрера снова ответил русский.
– Он вернулся в управление Stalag 352 вместе с машиной, которая меня привезла. Я думаю, он прибудет вместе с конвоем. Впрочем… – тут русский усмехнулся, – кто может знать планы вышестоящих кроме них самих?
Комендант молча кивнул и вышел из кабинета. Густав шумно выдохнул.
– Герр…
– Гауптштурмфюрер, – с небрежной усмешкой напомнил ему русский.
– А-а-а… да-да… то есть… так точно, – опомнился Ойбель. Но не удержался, чтобы не укорить:
– Вы разговаривали с комендантом таким тоном…
– …который совершенно точно отбил у него желание пригласить меня отобедать вместе. Ну, куда я сунусь в таком тесном мундирчике-то? – русский хлопнул себя по груди. – Это пока я сижу – еще ничего, а вот если встану, сразу станет ясно – что не мое…
Похоже, вся ситуация его не злила, а забавляла. Возможно потому, что он не понимал всей ее серьезности. Но поскольку от этого зависела жизнь самого обершарфюрера, тот счел своим долгом ее прояснить:
– Комендант непременно позвонит в управление…
– Где ему подтвердят все, что я только что сказал.
Густав ошалело уставился на русского. Они что, захватили управление? Да нет, не может быть… Скорее всего, они просто перерезали кабель, ведущий в управление, и замкнули его на себя. Как и кабель, ведущий из управления в их лагерь.
– Но… но герр комендант может потребовать соединить его с начальником…
– И ему ответят, что начальник убыл на доклад к штандартенфюреру Либке, или на совещание, или готовить конвой. И его заместитель тоже. Ну, или, кого он еще захочет услышать, – усмехнулся русский. – Успокойтесь, обершарфюрер, сегодня до вечера мы сможем купировать любую возникшую угрозу. Вот дальше – вряд ли. Ибо пойдет накопление всяческих нестыковок – от незнакомого и не меняющегося в течение суток голоса, отвечающего по тому или иному телефону, до отсутствия реакции на получаемые распоряжения. Но нам ведь дальше и не надо, – и русский весело подмигнул Ойбелю. А у того засосало под ложечкой. Значит, все решится сегодня. Вечером или ночью. Да плевать когда, в конце концов! Единственное, что должно волновать Густава, – как выжить и… и не попасться. Русский разглядывал его с насмешливой улыбкой. А потом внезапно выдвинул ящик стола и вытащил из него лист бумаги.
– Пишите, обершарфюрер.
– Что?
– Заявление о согласии на сотрудничество с НКВД. Я думаю, нашим органам не помешает человек, который сможет сообщать им точную информацию о попавших в плен наших военнослужащих, согласившихся на сотрудничество с немцами. А взамен я обещаю сильно постараться, чтобы во всех наших будущих перипетиях вы бы остались не только живы, но и вне подозрений.
Сказать, что эту бумагу Ойбель написал с немалым облегчением – это ничего не сказать! Впервые за весь этот свинский день у него появилась слабая надежда на то, что ему удастся вывернуться из этой ужасной ситуации без особых потерь. Он сам себе не мог сказать почему, но этому русскому он доверял куда больше, чем кому бы то ни было из окружавших его сейчас людей. Этот – должен был справиться со всем, что попытается ему помешать…
Звонок раздался неожиданно. Они как раз закончили, наконец-таки, с отбором тех, кого русский собирался забрать с собой, причем, по нему было явно видно, что русский сильно сожалеет о том, что вынужден прекратить отбор. Он совершенно точно был не против забрать больше, но, видно, был чем-то ограничен. Возможно, наличием автомобилей, а может, чем-то еще. Как бы там ни было, они закончили отбор и сейчас занимались тем, что обершарфюрер упаковывал в ящики личные дела отобранных военнопленных, а русский с пулеметной скоростью печатал на пишущей машинке списки перемещаемых… Когда стоящий на столе гауптштурмфюрера Легловски телефон разразился резким дребезжащим звуком, Ойбель испуганно вздрогнул. А вот русский просто прекратил печатать, спокойно снял трубку и бросил в микрофон:
– Ja? – после чего около минуты слушал то, что ему говорили. Затем он спокойно произнес: – Jawohl! – и, положив трубку, развернулся к Густаву и улыбнулся.
– Ну что ж, обершарфюрер, вам придется ненадолго покинуть меня и отнести списки в организационный отдел.
Ойбель замер. Это… как же… русский готов отпустить его? Одного?! Но ведь…
– И вот что, обершарфюрер, – усмехнулся русский, – меня достаточно сложно убить. Так что я гарантирую вам, что в случае если вы попробуете поступить вразрез с только что подписанным вами обязательством, – тут он похлопал себя по карману, в которое убрал подписанное Густавом заявление, – я не буду убивать вас сам, а предоставлю это право вашим бывшим соратникам.
Ойбель сглотнул и кивнул, показывая, что все понял и не будет делать никаких глупостей. После чего взял протянутые ему списки и выскочил из кабинета.
В кабинет он вернулся только через полчаса. Ну а что вы хотели? Перед передачей списков в организационный отдел их следовало утвердить у коменданта. Потом пришлось выслушать вопли начальника организационного отдела обер-лейтенанта Шнейдемана, который грозил накатать докладную на гауптштурмфюрера Легловски за то, что тот вот так вот ставит его перед фактом, не дав времени организовать все как положено. Затем он был вынужден поприсутствовать при ругани Шнейдемана с начальником охраны лагеря…
В общем, когда Густав, с дрожью в ногах, распахнул дверь их с покойным Легловски кабинета, он был готов ко всему… но не к тому, что он увидит русского, одетого снова в свою собственную форму. Правда, с некоторыми отличиями. Русский был без оружия, босой и без поясного ремня. То есть на первый взгляд почти ничем не отличался от любого другого русского военнопленного, находящегося сейчас на территории лагеря. Ну, за исключением несколько меньшего размера щетины, большей чистоты самой формы и… запаха. То есть его отсутствия. Переменный контингент лагеря не обеспечивался ни помывкой, ни стиркой, поэтому воняло от них…
– Значит так, обершарфюрер, – спокойно начал русский, когда Ойбель вошел внутрь и закрыл за собой дверь, – слушайте, что вам необходимо будет сделать. Во-первых, уже через полчаса приедут машины, на которых мы будем вывозить тех, кого мы с вами отобрали. Но машины приедут не пустые. В их кузовах будет загружено оружие, – он усмехнулся. – Не беспокойтесь, никто не собирается валом выгружать его из кузовов автомобилей на глазах у всей лагерной охраны. Оружие будет упаковано в ящики из-под медикаментов и архивов. И мне нужен ваш совет, куда его разгрузить. Ну, чтобы никто, после того как все закончится, не связал его с вами. Понятно?
Густав судорожно кивнул.
– Тогда думайте, а я продолжу. Во-вторых, на разгрузку машин должны попасть эти люди, – он протянул Ойбелю короткий список из двух десятков фамилий, напечатанный на той же машинке. – И я. Как это сделать так, чтобы этот список снова не связали с вами – тоже думайте. В принципе, можете просто попозже, во время разгрузки, показать мне тех, кто будет знать, что вы с этим связаны, после чего они совершенно точно умрут во время нападения. Понятно?
Ойбель судорожно кивнул.
– Далее. После окончания разгрузки я и люди из списка должны минут на десять остаться в том помещении, куда будут перегружены ящики. Желательно одни. После чего большая часть их должна быть отправлена в свои блоки. А человек пять-шесть должны задержаться в этом помещении до ужина. На каких-нибудь работах. Сами придумаете на каких. Скажем, что-то переложить, что-то перепаковать, что-то сдвинуть. Ну, не мне вас учить… Меня же вы должны отправить в шестой блок. Насколько я помню, он ужинает вместе с девятым?
– Так точно.
– Вот и хорошо, – русский был явно возбужден. И это тоже было признаком «окопного безумия». Они все всегда приходили в такое состояние перед боем. Но Ойбель уже зашел так далеко, что отступать было просто некуда. Оставалось надеяться на то, что русский знает, что делает… и что он успеет до собственной гибели воплотить хотя бы часть своих обещаний. Ну, скажем, действительно прикончить всех тех, кто сможет выступить свидетелем обвинения обершарфюрера в государственной измене и предательстве дела фюрера.
– Ну и последнее. Коменданта мы уберем. А вы, как начнется заварушка, забаррикадируйтесь в какой-нибудь комнате, причем, желательно, с каким-нибудь господином, имеющим хорошие связи с кем-то вышестоящим, которого непременно будут отмазывать изо всех сил, и который будет для вас полностью безопасен, и оставайтесь там, пока не подойдут ваши. Да, если вздумаете пострелять – не начинайте этого раньше, чем через двадцать минут после начала. Иначе я за вашу голову и гроша ломаного не дам. Понятно?
И обершарфюрер Ойбель торопливо закивал головой.
11
– Должен вам сказать, Вилора Сергеевна, что ваш рассказ был очень интересен и сильно нам помог, – с этими словами высокий, но очень толстый человек, с короткой квадратной щетиной усиков, под большим широким носом, поднялся на ноги и, ухватив руку Вилоры пухлыми пальцами, горячо пожал ее. Со всем, так сказать, своим кавказским темпераментом. Кем он был – Вилора не знала. Он представился просто Богданом Захаровичем.
В это большое здание на площади Дзержинского, которую большинство москвичей по-прежнему продолжало именовать Лубянкой, ее пригласили вчера. Причем, именно пригласили, а не вызвали. Это произошло вечером, в кабинете Бурденко, куда он зашла, чтобы очередной раз поставить ему общеукрепляющую схему. Она делала это через день, уже две недели подряд. И, ее ли это была заслуга, либо дело было в том, что Николай Нилович немного стабилизировал свой распорядок дня и стал уделять отдыху несколько больше времени, но благотворные изменения были налицо. Впрочем, судя по тому, что Бурденко стал приглашать ее ставить иглы не только себе, но и некоему количеству довольно высокопоставленных личностей, ее усилия он лично оценивал весьма высоко. Чего уж тут говорить, если среди тех, кого Вилора обиходила за последнюю неделю, был даже сам Каганович[70]!
Так что к тому, что кроме Николая Ниловича в его кабинете будет находиться еще кто-то, Вилора была вполне готова. Однако, как выяснилось, чаевничавший вместе с главным хирургом РККА представительный мужчина в форме майора государственной безопасности[71] был вовсе не пациентом. Хотя и прибыл в госпиталь именно из-за нее. Причем произошло все довольно забавно.
– А-а-а, проходите, проходите, милочка моя, – радушно поприветствовал ее Николай Нилович. – Мы вас с Анатолием Александровичем давно ждем.
Вилора послушно вошла в кабинет, поздоровалась с мужчинами и подошла к кушетке, стоявшей в углу кабинета, на которой Николай Нилович частенько устраивал собственные осмотры, и которая в последнее время использовалась и самой Вилорой как для установки игл самому Бурденко, так и его высокопоставленным пациентам. Аккуратно вытащив из все той же медицинской сумки, с которой она прикатила из Киева, уже приготовленный и продезинфицированный набор игл, девушка положила его на небольшой столик, покрытый стерильным полотном и, повернувшись к майору, доброжелательно сказала:
– Пожалуйста, раздевайтесь до пояса и ложитесь на кушетку.
Майор поперхнулся и уставился на нее.
– Что?
– Нет-нет, милочка моя, – рассмеялся Николай Нилович, – сегодня у тебя будет только один пациент – я. А товарищ майор прибыл, чтобы отпросить тебя у меня на завтра, до обеда. Им там требуется что-то уточнить, но он решил не посылать тебе повестку, а просто заехать и предупредить.
Вилора окинула майора настороженным взглядом. После ареста отца и уж тем более недолгого, но чрезвычайно насыщенного событиями и, скажем так, новым опытом общения с капитаном Бушмановым, госбезопасность и деликатность у нее как-то не вязались друг с другом. Но майор сидел спокойно, благожелательно улыбаясь и вполне себе демократично похрустывая баранкой. Так что она решила не дергаться, а просто подождать и посмотреть, как дальше будут развиваться события.
– Так мне завтра надо прибыть в…
– Ну почему же прибыть, – несколько поспешно прервал ее майор. – Прибывают к нам те, кого мы подозреваем в каких-нибудь неблаговидных поступках. В отношении вас же у нас никаких подозрений нет. Нам просто необходимо уточнить некоторые детали в рамках расследования дела бывшего капитана госбезопасности Бушманова. И все, – он еще шире улыбнулся. – Я и заехал, чтобы вас отпросить по-простому и не напрягать повесткой ни вас, ни ваш строевой отдел. А то кто его знает, что люди подумают. Понимаете?
Вилора настороженно кивнула.
– Тогда, куда мне завтра надо… ну… приехать?
– А на Лубянку, – все так же улыбаясь, сообщил ей майор. – В двести двадцатый кабинет. К десяти. Николай Нилович вон записал все. Сказал, что вам сам все передаст. Я же уже уходить собирался, да Николай Нилович меня чайком с медом и баранками соблазнил.
– Хорошо, я буду, – ответила девушка. Но тут же спохватилась: – А меня пропустят, без повестки-то?
– Пропустят, – махнул рукой майор. – Просто скажете свою фамилию на входе. Ну и документы предъявите, конечно.
Вилора согласно кивнула и перевела взгляд на Бурденко.
– Николай Нилович, мне попозже зайти?
Но тут снова вмешался майор.
– Ну, зачем же попозже. Об этих ваших сеансах акупунктуры просто легенды ходят. Говорят, вы даже самых безнадежных на ноги ставите. Я давно мечтал посмотреть, – он снова широко улыбнулся, но тут же уточнил: – Если, конечно, это возможно…
Вилора снова посмотрела на Николая Ниловича. Он крякнул и усмехнулся.
– Да можно, конечно. Эвон Лазарь Моисеевич, прежде чем под «иглы Сокольницкой» лечь, сначала тоже посмотрел, как она меня обихаживала.
Вилора сердито нахмурилась.
– Николай Нилович, я же вам уже говорила, что это никакие не «иглы Сокольницкой». И, если уж так хочется привязаться к персоне, то их надо называть «иглами Куницына».
– Ладно-ладно, милочка моя, не будем спорить, – Бурденко встал из-за стола, стянул с себя халат и принялся расстегивать мундир. – Лучше расскажите, как идет работа над статьей и методичкой.
– Методичка почти закончена, – с готовностью начала отвечать Вилора. – Через два дня представлю. А насчет статьи, – тут она вздохнула. – Пока работаю. Времени совершенно нет, Николай Нилович. Сами же знаете, сколько раненых.
– Это – да, – вздохнул Бурденко, укладываясь на кушетку. – В Киеве тяжелые бои идут, но самолеты с ранеными к нам оттуда еще прорываются.
– И Днепрогэс взорвали, – тихо произнесла Вилора. Все помолчали. Говорить об этом было тяжело. Днепрогэс был символом, символом новой жизни, символом того, что старая Россия, которая представлялась им отсталой, косной, аграрной страной, сделала прыжок вперед и вверх, к новым сияющим вершинам, которые будет олицетворять для всего мира новый, светлый и могучий Советский союз. И вот этот символ пришлось разрушить. Причем собственными руками.
– Но ты все равно со статьей не затягивай, – вернул ее мысли в прежнее, рабочее русло Бурденко. – Она нам очень пригодится для продвижения твоих игл. А их применение обязательно надо будет расширять. И не только при ранениях. Сама видишь, как они на меня действуют. Как заново родился!
– Да понимаю я, – досадливо морща лоб, отозвалась девушка, доставая из чехла иглы и начиная ставить их Николаю Ниловичу. – Но нечего писать пока. И с пленкой для рентгеновского аппарата просто беда. Немецкая довоенная уже кончилась, а наша гораздо хуже. А без рентгеновских снимков никакой статьи не получается…
– М-гм, – отозвался Бурденко, как обычно при этой схеме на шестой игле впадая в некое состояние полной расслабленности. И тут же за спиной Вилоры раздался встревоженный голос майора:
– А что это с Николаем Ниловичем?
– А? – встрепенулась девушка, за разговором уже успевшая забыть о третьем лице, присутствовавшем в кабинете. – В смысле?
– Ну, вроде как, сознание потерял, – кивнул майор в сторону Бурденко.
– Нет, сознание он не потерял. Это просто полное расслабление мышц, – пояснила Вилора. – Всех. Мы с Николаем Ниловичем пока еще не особенно разобрались в тех процессах, которые инициируют иглы, но вот по поводу этого момента у нас уже есть рабочая гипотеза. Мы считаем, что расслабление приводит к тому, что мышечный каркас, являющийся одним из основных потребителей энергии в организме, отключается и практически перестает ее потреблять. Поэтому та часть энергии, которая до сего момента поддерживала его в тонусе, начинает использоваться как-то иначе. По нашему предположению – на восстановление организма. Причем это восстановление происходит довольно глубоко, как минимум на клеточном уровне, – она вздохнула, – вот только как это проверить – пока не придумали. Но клиническая картина очень интересная. Мы провели серию анализов, очень обширную серию – не только кровь, но и ткани, соскобы…
Майор очень внимательно выслушал ее горячий спич, а потом вежливо спросил:
– А долго Николай Нилович будет находиться в таком м-м-м… расслабленном состоянии?
– Так пока не вытащу иголки! – объяснила Вилора. – Только долго держать их тоже нельзя. Максимум часа три-четыре, а то будут проблемы.
– Какие?
– Истощение, – пояснила девушка. – Мы пока об этом мало знаем, но несколько экспериментов провели. И все, кто принимал в них участие, после получасовой серии демонстрировали завидный аппетит. А после часа – просто зверский. Ну а тех, кто лежал под иглами три с половиной часа, пришлось еще и внутривенно подкармливать. Так что с применением этой схемы на раненых надо быть очень осторожными. Они и так от ранений ослабли, а тут еще и такая нагрузка.
– Поня-ятно… – протянул майор и замолчал до конца сеанса.
На этот раз Вилора продержала главного хирурга РККА под иглами пятьдесят минут. Она начала осторожно увеличивать этот срок еще с начала недели. Уж больно плохо он выглядел перед тем, как она начала ставить ему иглы. И потому Вилора решила за то время, пока он соглашался на сеансы, попытаться добиться максимального успеха. Это пока ему самому интересно – он такой покладистый, а как на что другое отвлечется – и все… Поэтому Николай Нилович пришел в себя очень голодным. Так что чая с баранками, которыми он до этого всегда заглушал приступ голода после предыдущих сеансов, ему явно было недостаточно. Поэтому, едва поднявшись с кушетки, он быстро выпроводил из кабинета всех посторонних и побежал вниз, в столовую, ужинать.
Вилора, попрощавшись с Бурденко и майором, двинулась к себе, в небольшую комнатку, которую она занимала в одном из корпусов, отданных под жилье специалистам, прикомандированным к госпиталю. С началом войны численность персонала госпиталя сильно возросла, причем многие специалисты прибыли по эвакуации – вот и пришлось устраивать нечто вроде общежития. С начала войны в Москву понаехало много эвакуированных и беженцев, так что снять жилье было практически невозможно[72].
Ее комнатка располагалась в дальнем конце коридора, через дверь от общего туалета. В принципе, для сотрудников в ее звании полагалось всего лишь койко-место, но ей личным распоряжением Бурденко выделили комнату. Небольшую – двенадцать квадратных метров, половину которых занимали кровать, стол и сейф. Да-да, сейф – несмотря на то, что, согласно приказу по госпиталю, основная часть комплектов игл хранилась в ее кабинете, два комплекта должны были постоянно находиться с ней. Даже во время отдыха. А иглы-то были сделаны из золота либо, как новые, изготовленные уже в Москве, покрыты его толстым слоем. Вот и пришлось для хранения игл в комнате установить сейф. Ну, а вместо шкафа для одежды использовалась этажерка и деревянная вешалка, прибитая к стене. Да и было-то той одежды…
Добравшись до комнаты, Вилора еще около часа просидела над методичкой, правя текст и исправляя замеченные ошибки, после чего погасила тусклую лампочку, потерла ладонью уставшие глаза и легла спать.
На Лубянку она прибыла за пять минут до назначенного времени. Пропустили ее действительно безо всяких проблем, даже взяв под козырек… Двести двадцатый кабинет оказался в дальнем конце длинного и довольно пустынного коридора. На его двери висела одинокая табличка с надписью: «А.А. Эсаулов». Прежде чем войти, Вилора остановилась, вытащила из кармана шинели маленькое зеркальце, бросила в него короткий взгляд, поправила прядку волос, после чего убрала зеркальце и решительно постучала.
– Разрешите?
– Да-да, Вилора Сергеевна, заходите, – радушно раздалось из-за двери. Ну да, в кабинете, как и ожидалось, оказался вчерашний посетитель Николая Ниловича.
– Присаживайтесь, прошу вас. Чаю хотите?
– Нет, спасибо, я только что позавтракала…
Следующие полтора часа Анатолий Александрович дотошно расспрашивал ее о том, что именно в наибольшей степени интересовало капитана Бушманова, на что он при ее допросах обращал особое внимание, не применял ли он к ней м-м-м… меры насильственного характера? А во время допросов других военнослужащих их батальона? А не знает ли она, применялись ли подобные меры к самому комбату? Вот как? А вы уверены, что все было именно так? И на чем же основана эта ваша уверенность? Да что вы говорите? А что еще необычного знал или умел ваш командир? Необычного с вашей точки зрения? Да не может быть? И что, вы это видели своими глазами? Весь батальон видел? Очень интересно! Странно… капитан Бушманов как раз эти моменты в своих рапортах осветил весьма слабо. Вот, можете ознакомиться… Да-да, не волнуйтесь, вашего допуска вполне хватает. А я бы хотел вас спросить еще об одном моменте, зафиксированном вот в этом протоколе допроса капитана Бушманова. Насколько все это может быть правдой? Абсолютная неправда? А что же было на самом деле? Очень, очень интересно. М-м-м… если вы не против, я обязательно это запишу. Почему вы можете быть против? Ну, мало ли… может вас кто-то попросил ни о чем таком не рассказывать, и вы не хотите нарушать данного ему слова. Никто не просил? Так это здорово! Тогда я бы хотел узнать ваше мнение еще вот о таком эпизоде…
А через полтора часа, когда Вилора уже начала чувствовать себя как выжатый лимон, в кабинет и вошел тот самый толстый человек с квадратиком усов на верхней губе. И почти сразу же подключился к разговору. Причем, со всем своим кавказским темпераментом. Он ахал, взмахивал руками, гортанно восклицал:
– Да нэ можэт бить! – или: – Ой, прости дэрагая, что сразу не поверил!
Вилора даже почувствовала себя снова в кабинете начальника медслужбы 13-й армии Шалвы Зурабовича Геловани. Поэтому на все вопросы отвечала вполне себе свободно, позабыв, где она на самом деле находится…
Наконец, Богдан Захарович громко цокнул языком и покачал головой.
– Вах, Анатолий Александрович, савсэм ми девушку утомили. Давай поблагодарим ее и отпустим. Пусть отдихать идет…
Когда за девушкой закрылась дверь, улыбка, сиявшая на лице полного кавказца, мгновенно исчезла.
– Давай с материалами ко мне, – коротко бросил он и вышел из кабинета. Эсаулов[73] быстро собрал только что заполненные его разборчивым почерком листы в папку и, едва не бегом, бросился следом за вышедшим из кабинета человеком.
У себя в кабинете комиссар государственной безопасности третьего ранга молча принял из рук майора папку с материалами сегодняшнего допр… э-э беседы, кивнул подчиненному на стул и углубился в чтение. Майор Эсаулов, повинуясь начальственному кивку, аккуратно присел на краешке стула. Закончив чтение, Богдан Захарович Кобулов[74] вздохнул и потер рукой усталое лицо.
– А может попробуем… – осторожно начал майор.
– Нэт, – зло бросил комиссар государственной безопасности, – приказано – крайне дэликатно! Нэ кричать, нэ пугать, ничего нэ трэбовать. И боже тебя упасти – никакого физического воздействия! – он снова вздохнул и бросил: – Все, иди, свободэн…
Майор поднялся на ноги, молча отдал честь и вышел из кабинета. Кобулов посидел еще минуту, потом встал, открыл сейф, покосился на стоящую на второй полке бутылку хорошего грузинского коньяка и вздохнул. Неделю уже стоит, и никак момента даже глоток сделать урвать не случается. Сплошная беготня. Потом вытащил с полки куда более толстую папку, развязал тесемки и закинул в нее листки, принесенные подчиненным. После чего завязал папку, закрыл сейф и вышел из кабинета.
– Ну что, готов? – вместо приветствия обратился к нему человек в пенсне, в кабинет которого он вошел спустя пять минут путешествия по этажам здания управления.
– Насколько это можно в таких условиях, Лаврентий, – пожал плечами Кобулов. Хозяин кабинета вздохнул.
– Сам знаешь, Богдан, решение дать объекту показать себя и получить о нем более достоверные сведения принимал сам Хозяин. Так что пользуемся тем, что есть.
Кобулов молча кивнул.
– Допра… опрашиваемая показала что-нибудь новое?
– Нет, только подтвердила еще раз большинство известных нам позиций, – акцент у Богдана Захаровича при этом почему-то почти совершенно пропал. – Но я на всякий случай взял материалы ее опроса.
– Хорошо, тогда едем…
К Сталину их пропустили только минут через пятнадцать после прибытия. Почему им пришлось подождать, стало ясно, когда из кабинета председателя Ставки Верховного Главного Командования компактной группой вышли Шапошников, Василевский, Тимошенко и еще несколько генералов…
Ситуация на фронте была критической. Шестого октября немцам удалось окончательно окружить Киев, где во главе двухсоттысячной группировки отбивался от них командующий Юго-западным фронтом генерал-полковник Кирпонос. Остатки же фронта, численностью еще где-то в те же двести тысяч человек, к настоящему моменту были оттеснены почти на триста километров к востоку, до Сум и Полтавы[75], где лихорадочно пытались выстроить новую линию фронта. И хотя генерал Жуков под Ленинградом сумел, воспользовавшись тем, что немцы перебросили под Киев с севера несколько дивизий, в том числе две танковых, подготовить и провести местную наступательную операцию, отбросив немцев от побережья Ладожского озера и отбив Мгу[76], на фоне катастрофы на юге это было слабое утешение.
Когда они вошли в кабинет, Сталин стоял у карты и курил трубку. Заметив их, он молча указал рукой на стулья, расставленные вокруг большого стола, и, сделав затяжку, отошел от карты и подошел к столу, после чего коротко приказал:
– Докладывайте.
Кобулов резво вскочил на ноги и начал:
– Объект «Леший», на территории СССР впервые зафиксирован двадцать второго июня сего года в районе расположения семьдесят пятой стрелковой дивизии неподалеку от Бреста, в районе Малориты, – тут Кобулов запнулся и уточнил: – Возможно, он появился раньше, но, поскольку дивизия при прорыве из окружения понесла большие потери и утратила все архивы, о возможно более раннем появлении объекта никаких свидетельств не осталось.
– А откуда известно о появлении двадцать второго июня? – спросил Сталин.
– Из допро…, прошу прощения, опросов обоих ротных его батальона, товарищ Сталин. Старший сержант Головатюк встретился с ним именно двадцать второго июня и именно на месте дислокации управления дивизии, подвергнувшегося бомбо-штурмовому удару. А младший политрук Иванюшин на два часа позже, на проселочной дороге, неподалеку от деревни Ляховцы, в семи километрах к востоку от Малориты.
Сталин подошел к карте, посмотрел, пыхнул трубкой и махнул рукой.
– Продолжайте…
– В первом же боестолкновении объект показал великолепную стрелковую подготовку.
– Что значит великолепную?
– По свидетельству вышеупомянутого Головатюка уничтожил два экипажа немецких мотоциклистов, потратив на каждого противника по одной пуле.
– Из винтовки или пистолета?
– Из пулемета ДП-27.
Сталин удивленно покосился на Берию, но тот только лишь молча кивнул, подтверждая сказанное.
– Насколько я знаю, у пулемета ДП-27 не предусмотрен одиночный огонь?
– Так точно, товарищ Сталин, – согласно кивнул Кобулов, – но, по многочисленным свидетельствам объект «Леший» из всех видов оружия предпочитает именно пулемет ДП-27. При этом он ведет из него только одиночный огонь. Причем… – тут Кобулов зашуршал папкой, доставая из нее какие-то бумаги. – Эффективность этого огня чрезвычайно высока. По свидетельству множества очевидцев, объект «Леший» сбил из пулемета немецкий самолет-разведчик. И опять одиночным огнем.
Сталин покачал головой и прошелся по комнате, потом снова махнул рукой:
– Ладно, продолжайте…
– Так точно! После этого сформированная им группа из трех человек совершила налет на колонну немцев, уничтожив несколько десятков немецких солдат. Затем он присоединил несколько разрозненных групп красноармейцев и осуществил налет на корпусные склады…
Сталин слушал внимательно, время от времени задавая уточняющие вопросы, а затем вновь давая знак продолжить изложение собранных сведений. Однако, когда Кобулов приступил к изложению выводов, Сталин вновь удивился.
– Что значит «не обладает тактическими навыками»? Что вы такое говорите, товарищ Кобулов? Как же он тогда сумел все это совершить, если он не обладает тактическими навыками? Или вы хотите сказать, что вы нам сейчас тут сказки рассказываете?
Кобулов мгновенно вспотел.
– Прошу прощения, товарищ Сталин, но это мнение генерал-майора Еремина, командующего двадцатым стрелковым корпусом, который общался с объектом «Леший» на протяжении нескольких недель. И это мнение разделяет большинство офицеров его штаба.
Сталин перевел удивленный взгляд на Берию.
– Мне кажется, товарищ Сталин, – осторожно начал он, – товарищ Кобулов просто не совсем правильно расставил акценты. Объект «Леший» действительно в достаточной мере не обладает тактическими навыками, но не вообще, а именно теми, которые широко распространены и используются в РККА. Зато он обладает очень широким кругом навыков и умений, в том числе и тактических, большая часть которых не только не используется в нашей армии, но и вообще нашим военным неизвестна.
– Что значит неизвестна? Почему неизвестна?
Берия пожал плечами.
– Они утверждают, что это именно так. И что никто из них никогда не слышал, чтобы нечто подобное использовалось не только в нашей армии или, например, в прошлой, царской, но и нигде еще – ни у немцев, ни у финнов, ни у французов, ни у англичан, ни у японцев.
– А что говорит разведка?
– Разведка так же не обладает информацией о том, что нечто подобное когда-либо использовалось нашими противниками или нашими союзниками.
– Вот как? – Сталин задумался и прошелся по кабинету. Потом остановился, сделал затяжку и спросил:
– А это полезные навыки?
– Генерал Еремин оценивает их чрезвычайно высоко. Он не только ознакомился с ними с большим интересом, но и организовал специальные курсы, на которых предоставил объекту «Леший» возможность провести обучение командного состава корпуса некоторым своим приемам и навыкам. Например, тому, что объект называл «боевыми тактическими расчетами».
– Боевыми тактическими расчетами… – задумчиво повторил Сталин. – И как это выглядит? Можете показать?
– Э-э… – Кобулов снова вспотел. И опять ему на помощь пришел его непосредственный начальник.
– Только в самых общих чертах, товарищ Сталин. Это, скорее, епархия общевойсковых командиров. Но все материалы по этим расчетам генерал Еремин передал в академию Фрунзе и академию Генерального штаба. И, насколько я знаю, ими очень заинтересовался маршал Шапошников. Но у нас в материалах есть еще один документ, который может продемонстрировать необычность некоторых имеющихся у объекта «Леший» приемов и навыков, – и он кивнул Кобулову. Тот мгновенно вытащил из папки сверток карты-склейки и принялся разворачивать его на столе перед Сталиным.
За три с лишним прошедших месяца войны Председатель Ставки Верховного Главного Командования повидал немало различных карт. Эта была похожа на все ранее увиденные, но в то же время и серьезно отличалась от остальных. Сталин склонился над картой, рассматривая ее и цепляя взглядом совершенно непонятные значки.
– Что это за обозначения?
– Эти? Это коэффициенты открытости местности.
– И зачем они?
– По словам полковника Чубрилова, начальника оперативного отдела штаба двадцатого стрелкового корпуса, они позволяют просчитать дальность эффективного огня по пехоте, а также противотанковых средств по танкам и штурмовым орудиям. Достаточно подставить в формулу «боевых тактических расчетов» примерную среднюю высоту объекта обстрела и…
– Что такое средняя высота?
И снова в дело вступил Берия:
– Она зависит от используемой тактики. Поскольку немцы, по нашим сведениям, предпочитают передвигаться в бою короткими перебежками, средняя высота пехоты противника здесь принята за шесть десятых метра. Средняя высота бронетанковой техники зависит от того, что используется, и составляет от двух, при использовании немцами штурмовых орудий, и до двух с половиной метров, если используются танки.
– И как эти коэффициенты используются?
На этот раз заговорил Кобулов:
– Полковник Чубрилов доложил, что они позволяют более точно рассчитать необходимую численность и состав средств ПТО, а также места их расположения. Причем выигрыш идет в первую очередь за счет того, что учитывается весь комплекс параметров. В том числе и психология… – он на мгновение запнулся, ожидая уточняющего вопроса, но того не последовало, и потому он продолжил: – По его словам, при принятом в уставах РККА расположении средств ПТО, расчеты орудий довольно часто открывали огонь с очень дальних дистанций, то есть до момента достижения танками противника рубежа надежного поражения, рано демаскируя свои позиции. Это чаще всего приводило к тому, что к моменту подхода танков противника к рубежу надежного поражения средствами ПТО большая их часть оказывалась уже выбита, а остальные не были способны вести точный огонь, так как, в свою очередь, находились под массированным огнем противника. Использование же данных коэффициентов и сделанных на их основе расчетов позволило изменить тактику применения ПТО и добиться серьезного повышения их эффективности.
Сталин медленно кивнул.
– А этот значок что обозначает?
– Это коэффициент подвижности. Знаменатель – пехота, числитель – средства усиления.
– А это что за цифры?
– Планируемое падение коэффициентов после первой, второй и третьей атаки. При ожидаемом соотношении сил. Генерал Еремин утверждает, что причиной того, что его корпусу удалось на протяжении четырех суток успешно отбивать атаки трехкратно превосходящих его войска сил противника, во многом является использование именно этой методики планирования обороны.
Сталин еще несколько мгновений рассматривал эту карту, а затем спросил:
– Борис Михайлович в этом разобрался?
– Несомненно! Полковника Чубрилова нам прислал именно он.
– Хорошо, тогда лучше об этом мне расскажет он. Что вы еще установили по объекту?
– Среди навыков и умений, которые продемонстрировал объект «Леший», большой интерес вызывает использование им приемов так называемой акупунктуры.
Сталин кивнул и усмехнулся.
– Знаю – «Иглы Сокольницкой». Николай Нилович Бурденко мне об этом все уши прожужжал. Но это же вроде не новость. Мне докладывали, что нечто подобное практиковали китайцы?
– Так точно, – снова вступил в разговор оправившийся Кобулов. – У них это называется чжень-цзю. Мы собрали информацию об этом искусстве. Однако, по оценкам привлеченных нами специалистов, эффективность методов, практикуемых объектом, намного превосходит традиционную.
Председатель Государственного Комитета Обороны согласно кивнул. Похоже, генерал Бурденко действительно рассказал ему об этой части талантов объекта довольно много и в самой превосходной степени. И у него уже были мысли о том, как можно их использовать в деле обороны.
– Кроме того, объект обладает крайне высокими способностями в области физических нагрузок.
– Что вы имеете в виду?
Кобулов замялся.
– Ну-у, по некоторым данным, он способен долго двигаться с крайне высокой скоростью. До… до нескольких десятков километров в час.
– Вот как? Это достоверная информация?
– Мы не уверены, поскольку сведения получены по радио из группы старшего лейтенанта Коломийца, в настоящий момент находящейся в рейде по немецким тылам вместе с объектом. Так что полной уверенности в том, что наши контрагенты не находятся под контролем, у нас нет. Однако никаких сигналов о работе под принуждением от него пока не поступало.
Сталин несколько мгновений размышлял над изложенной ему информацией, а затем спросил:
– А что говорят об этом специалисты?
– Мы консультировались в ГЦОЛИФК[77]… – тут Кобулов снова замялся, но все-таки произнес: – Там не верят, что человек способен на такое. На коротких дистанциях, до трехсот-четырехсот метров – да. Но больше…
– Хорошо, какими еще необычными качествами обладает наш объект?
– Очень высокой подготовкой в области рукопашного боя.
Сталин задумался, а потом негромко произнес:
– То есть он, скорее всего, хорошо подготовленный военный?
– Так точно! Мы пришли к такому же выводу.
– А его необычные способности в области медицины это… подготовка в области медицины поля боя?
– Так точно!
– Но где и кто его подготовил, вам установить так и не удалось?
– Так точно!
– Хорошо, оставьте мне ваш доклад, я хочу попозже посмотреть его еще раз.
Кобулов тут же вытащил из папки листы своего доклада, собираясь положить их на стол, но его остановила реплика Сталина:
– Все материалы оставьте. И карту тоже.
Через пять минут, когда дверь сталинского кабинета за спиной комиссара государственной безопасности третьего ранга была крепко закрыта, Сталин повернулся к Берии и тихо спросил по-грузински:
– Кто он такой, Лаврентий?
– Не знаю, Коба.
– Но он хотя бы не враг?
– Не знаю, Коба.
Сталин помолчал, а потом медленно задал еще один вопрос:
– Сколько их таких всего, ты знаешь?
– Нет, Коба.
Сталин покачал головой и вздохнул.
12
– И все-таки я думаю, лучше будет, если я буду выходить вместе с вами, – упрямо произнес стоявший прямо передо мной мужчина в не новой, но чистой форме, с тремя кубарями в черных артиллеристских петлицах[78]. Я отрицательно покачал головой.
– Нет, Яша, тебе надо лететь. Я слишком многого жду от предстоящей операции, а для этого нам надо, чтобы ее поддержали на самом верху. И я пока не знаю никого, кроме тебя, кто окажется способен заставить хотя бы себя выслушать.
Старший лейтенант вздохнул.
– Ну, выслушать-то они меня, скорее всего, выслушают, но вот…
– Этого будет достаточно, – оборвал я его. – Ну, все, давай прощаться, – с этими словами я шагнул вперед и обнял стоявшего передо мной человека…
Налет на концлагерь прошел… феерически. Иначе это назвать было нельзя.
Грузовики для доставки оружия и вывоза отобранных мною пленных мы «позаимствовали» в трофейных мастерских, которые немцы дислоцировали в военном городке, ранее принадлежащем нашей двадцать шестой танковой дивизии, расположенном на полпути между Минском и Большим Тростенцом[79]. Основным занятием персонала этих мастерских была именно работа с трофеями – сортировка, разборка, ремонт тех образцов, которые немцы собирались использовать[80], и подготовка к транспортировке для переплавки на заводах рейха всего остального. Однако, судя по всему, после того, как мы «оттоптались» на ремонтных мощностях второй танковой группы и четвертой армии, немцы оказались вынуждены на время прекратить заниматься ремонтом трофеев и задействовать для ремонта боевой и автотранспортной техники все доступные ремонтные мощности. В том числе и эти мастерские. Поэтому здесь было что брать. И далеко не только грузовики. В принципе, в этих мастерских можно было вооружить и оснастить целую дивизию, а то и побольше.
Несмотря на то, что мастерские оказались загружены ремонтом немецкой техники, трофейные команды, задействованные в сборе, первоначальной сортировке и доставке захваченных трофеев, довольно длительное время продолжали работать прежним порядком. Так что к тому моменту, когда мы наведались в эти мастерские, в них скопилось большое количество нашего стрелкового оружия, а также минометов, артиллеристских орудий, танков и автотехники. Потому что их продолжали все везти и везти, а переработка, из-за загруженности мощностей ремонтом собственно немецкой техники, пока приостановилась. Вследствие чего привезенное к настоящему моменту уже забило все имеющиеся складские объемы и складировалось просто в дальнем углу огороженной территории мастерских.
Впрочем, в последнюю неделю этот «завал» практически перестал расти – подвоз трофеев начал создавать некоторые трудности с ремонтом немецкой техники. И поэтому немецким трофейщикам было приказано большую часть трофеев пока не везти в мастерские, а складировать на местах. Что, в принципе, нам было только на руку, ибо уже имеющегося для наших целей вполне должно было хватить с головой, а прекращение новых поставок резко снижало количество лишних глаз, прибывающих в мастерские.
Вот с боеприпасами дело обстояло намного хуже. Когда мы, расстреляв из арбалетов и взяв «в ножи» охрану, взяли под контроль территорию мастерских, выяснилось, что имеющийся на местном складе боезапас по отношению к количеству наличного вооружения просто мизерный. Ну да это было понятно – никто в эти мастерские никакого боезапаса к трофейному оружию специально не отправлял. То есть все патроны, мины и снаряды, которые оказались в наличии, являлись просто остатками боезапаса, который находился в боеукладках, дисках, лентах и магазинах танков, пулеметов и винтовок на момент их обнаружения трофейщиками.
Этот боекомплект, как правило, изымался трофейщиками из боеукладок и магазинов еще на месте, в поле, поскольку транспортировка трофеев, по требованиям немецких нормативных документов, должна была производиться в разряженном состоянии. Но поскольку у каждой полевой трофейной команды, как правило, имелось ограниченное количество автотранспорта, весь боезапас вместе с собранным оружием сначала доставлялся в эти мастерские, откуда уже он должен был вывозиться на другие склады. Ну, или тем или иным способом утилизироваться. Однако, вызванный нашими нападениями «сбой» логистики, похоже, повлиял и на работу этих мастерских. Потому что последний раз собранные боеприпасы вывозились из мастерских почти за месяц до того, как мы, так сказать, имели честь их посетить. А может, дело было не в сбое логистики, а в чем-то другом… Как бы там ни было, кое-какое количество боезапаса на территории мастерских имелось.
Впрочем, для наших ближайших целей этого боезапаса вполне должно было хватить. Это на триста сорок тысяч винтовок и шесть тысяч пулеметов, обнаруженных нами на складах, треть из которых была признана местными ремонтниками вполне исправной либо требующей минимального ремонта, его был бы мизер. А десяти тысячам винтовок и сотне пулеметов, которые мы собирались задействовать в своих планах, на один бой их должно было хватить с лихвой. Как и запаса мин для наших восьмидесятидвухмиллиметровых и найденных нами уже здесь стадвадцатимиллиметровых минометов. Их тоже, по всем нормативам, были сущие крохи – всего чуть больше трех сотен восьмидесятидвухмиллиметровых и сто сорок – стадвадцатимиллиметровых мин. При том, что, скажем, тех же БМ-37 мы здесь обнаружили почти четыре сотни. То есть по ним выходило даже меньше, чем по одной мине на миномет. Но нам, опять-таки, их должно было хватить…
Однако все это попавшее в наше распоряжение богатство требовалось сначала перебрать, отобрать среди него те образцы, которые находились в наиболее хорошем состоянии, привести их в порядок, доставить к тому месту, где можно будет использовать его наиболее эффективно, и установить на позиции. А шанс сделать это у нас появлялся только в том случае, если немцы как можно дольше будут оставаться в неведении относительно того, что, так сказать, власть в мастерских, переменилась.
Слава богу, среди личного состава батальона кроме меня имелось еще семь человек, которые умели вполне прилично говорить на немецком. Именно прилично. Потому что всего немецкий язык в батальоне в настоящий момент учило процентов шестьдесят личного состава, при этом командиры и сержанты – все поголовно. Но именно учило. До внятного освоения подавляющему большинству пока было еще очень и очень далеко. Но и среди них я смог отобрать еще десятка два тех, кто был способен понимать заданные им вопросы и отделываться от спрашивающих набором простых ответов, типа: «Я не курю», «Я на службе», «Отстань», «Тебе делать нечего?», «Я доложу фельдфебелю» и так далее. Так что шанс на то, что нам удастся хотя бы некоторое время, так сказать, поводить немцев за нос, – был. И неплохой… Кстати, именно тогда мы смогли как следует обкатать наших «телефонных барышень», как со смехом обозвал их Иванюшин, которые затем засели на линии «город – лагерь “Лесной”».
В мастерских мы провели четыре с лишним дня. За это время было принято на ремонт шестнадцать новых грузовиков и выдано прибывшим из частей водителям девять ранее отремонтированных. Еще семь отремонтированных удалось оставить за собой, отговорившись проблемами с поставками запчастей. За это время мастерские, на наше счастье, не посетил ни однин начальник. Но зато нам изрядно потрепала нервы пара унтеров из числа автомобилистов, пригонявших технику на ремонт, желающих непременно узнать, куда это подевался их приятель Гюнтер из состава охраны. На мое счастье один из местных мастеров, которого удалось привлечь на свою сторону обещанием сохранить ему жизнь, сумел разрулить ситуацию, под большим секретом сообщив этой парочке, что Гюнтер договорился с каким-то типом из управления и отбыл в отпуск на родину, под видом заболевшего сослуживца. Поэтому т-с-с-с… молчим, ничего не говорим и Гюнтера не ищем. Все понятно?
Такие объяснения унтеров удовлетворили. Хотя было понятно, что ненадолго. Как, впрочем, и то, что число подобных накладок с каждым днем будет только нарастать. Ну да долго нам было и не нужно – четырех дней оказалось вполне достаточно.
Расположение мастерских я покинул вечером четвертого дня. Большая часть дел, которые требовали если не моего участия, то хотя бы контроля, к тому моменту была закончена – форма, снятая с убитых немцев, выстирана, заштопана и подобрана по размерам, автомобили готовы, ящики, изготовленные по образцу тех, что были найдены в одном из немецких штабных автобусов в заметно обгоревшем состоянии, в которых мы планировали переправить часть оружия на территорию лагеря, также были изготовлены, покрашены и на них были через трафарет нанесены все необходимые надписи. Ну а все остальное – выход подразделений на рубеж атаки и подготовка позиций для средств усиления (отобранных нами из числа трофеев минометов, легких сорокапятимиллиметровых пушек и станковых пулеметов) – вполне могло быть осуществлено без меня. Поэтому я взял, так сказать, ноги в руки и двинулся в лагерь, в котором, по информации «расколовшегося» уже под самым Минском Коломийца, немцы содержали сына самого Сталина. Предстояло выяснить, где его держат, как охраняют, ну и все такое прочее…
Левый двигатель Пе-2, находящегося за спиной старшего лейтенанта Якова Джугашвили, громко чихнул, затем еще раз, после чего сыто зарокотал, раскручивая трехлопастной винт.
– Ну, все, тебе пора, – махнул я рукой. Яков пару мгновений вглядывался мне в глаза, затем вздохнул и, вскочив на заднюю кромку крыла, двинулся по нему к кабине.
В этом перелете он должен был лететь на месте штурмана. Освобожденный нами из лесного концлагеря комэск-бомбардировщик майор Абаршин, клялся всеми святыми, что уж от аэродрома Заозерье, с которого ему предстояло стартовать, до Москвы он долетит даже с завязанными глазами, поскольку знает и сам аэродром, и маршрут как свои пять пальцев – чай, полгода перед войной на нем базировался. Так что штурман ему не нужен. Что же касается умения Якова вести огонь из верхней оборонительной пулеметной установки – насчет этого я не обольщался. Хотя кое-какие шансы у него были. Несмотря на то, что он до сего момента никогда не пытался исполнять обязанности воздушного стрелка. Нет, в кабине он посидел. И инструктаж прошел. Были у нас в числе пленных, которых мы освободили в Быхове, трое таких стрелков. Так что показали и рассказали. Но при прочих равных этого было бы недостаточно от слова совсем.
Однако, судя по некоторым внешним признакам, за те три недели, что я гонял его по местным лесам и весям по той программе, которую уже, пожалуй, можно обозначить словосочетанием «наша обычная», Яков Джугашвили, похоже, сумел преодолеть первую ступень антропрогрессии. А это уже выводило ситуацию за рамки этих самых «прочих равных»… Но лучше бы вообще не пришлось стрелять. А то уж больно калибр у этого пулемета был мелковат. Обычный, винтовочный. А такой калибр против немецких цельнометаллических истребителей был маловат. В лучшем случае, нарвись они на истребители, можно надеяться только кого-нибудь отогнать, заставить отказаться от атаки, а сбить или хотя бы серьезно повредить…
Яков несколько неуклюже вздыбился над фонарем и, с помощью механика и пилота, забрался в кабину. Я тихонько вздохнул. Удачи им. Самолет был полностью заправлен, а в бомболюк мы запихнули папки с личными делами военнопленных, освобожденных нами из концлагеря, и материалами на тех, кто согласился сотрудничать с немцами. Никакого бомбового вооружения к самолету подвешено не было. Да и не было его у нас…
Эта «пешка» была собрана несколькими механиками, освобожденными нами еще в Быхове, из нескольких неисправных машин, каковых на этом аэродроме оказалось около полутора десятков. Причем Пе-2 из них было только две штуки. Так что запчасти для ремонта движков сняли с трех «лаггов», имеющих точно такие же двигатели, один из которых, похоже, был превращен в искореженную груду металла прямо на стоянке, а два других, судя по количеству уже заделанных пробоин в плоскостях и фюзеляже, успели поучаствовать в боях. Колеса так же сняли с других машин. Обшивку для ремонта поврежденных участков – содрали с другого Пе-2. Вот так, с миру, так сказать, по нитке, и собрали эту самую «пешку». Слава богу, немцы, к нашему счастью, на этом аэродроме не базировались. Уж не знаю, временно или вообще. Так что механики смогли работать вполне спокойно…
О том, что вся эта история с сыном Сталина – большая ловушка, я узнал только на территории лагеря. От проявившего весьма большое желание сотрудничать обершарфюрера… Да уж, немцы оказались мастерами тонкой интриги. Так быстро разработать операцию, да еще и забросить мне информацию о «приманке» через Москву – это надо уметь! Но… ничего отменять я не стал. Просто слегка подкорректировал планы.
Немцы расставляли ловушку на диверсионное подразделение, численностью не более трех сотен человек, с легким оружием и минимумом средств усиления… Столкнуться же им, если все будет развиваться по моему плану, придется с несколькими тысячами. Да, вполне возможно, не все из тех, кто содержался в этом лагере, решатся вновь взять в руки оружие и вступить в бой. Может быть, таких вообще будет меньше половины. Но по нашим прикидкам (позднее полностью подтвердившимся) в лагере в настоящий момент содержалось более девяти тысяч человек. Причем содержались они в таких жутких условиях, что желания воевать у них должно накопиться хоть отбавляй.
Посудите сами – собранные в лагере люди были в лучшем случае размещены в бараках, предназначенных для поселения сорока-шестидесяти человек, но набили их туда по двести человек в каждый, а многие – под открытым небом. То есть вообще. Не в палатках или, там, под какими-то навесами, а именно под открытым небом. Почти голые. Босые. В единственном уже изрядно истрепавшемся мундире. Многие даже без шинелей. Да и что с той шинели-то под ледяным октябрьским дождем… Медицинское обеспечение осуществлялось только силами медиков из числа пленных, единственное, что было им доступно из медицинского обеспечения – это многократно стиранные и давно уже нестерильные бинты, снятые с ранее умерших раненых. И это не говоря уж о больших проблемах с питанием и даже доступом к питьевой воде. Ибо большинство пленных было вынужденно пить ту воду, которая натекала во время дождя в выкопанные в земле ямки.
Так что ненавидеть немцев «поселенцы» этого лагеря, по всем расчетам, должны были со страшной силой. Возможно, кто-то и решит после освобождения не брать в руки оружие, а, воспользовавшись моментом, просто сбежать, но не думаю, что таких будет большинство. Однако даже если я и ошибаюсь в расчетах, и оружие в руки возьмет не более трети – это три тысячи активных стволов. В десять раз больше того, на что рассчитывают немцы! Плюс полдюжины полковых минометов калибра сто двадцать миллиметров и несколько десятков батальонных, которые должны будут обработать казармы охраны и, так сказать, «засадный полк», который немцы разместили поблизости от лагеря на бывшей МТС. Плюс восемь «сорокопяток». Плюс пулеметы. Плюс мое знание о ловушке, выразившееся в подготовке позиций для кинжального пулеметного огня на путях подхода немецких резервов. Плюс… да много было плюсов, как ранее подготовленных, так и образовавшихся теперь вследствие того, что я получил информацию о ловушке. И все они, вкупе, должны были привести к тому, что силы, которые были выделены для нашего окружения и захвата, не только не выполнят поставленной перед ними задачи, но и, скорее всего, будут разбиты еще на подходе к лагерю.
А это означало, что немцы лишаются всех своих оперативных резервов. Ибо, как мне кажется, они должны задействовать в этой операции если не все, то подавляющее большинство тех сил, которые они способны собрать. Не-е-ет – тут или пан, или пропал! Все, что смогут наскрести, – все и бросят. И если мы их разобьем, то никаких сил для поиска и перекрытия путей отхода моего отряда у них уже точно не останется. Во всяком случае, в ближайшие, критические для нашего успешного отхода из района операции, сутки-двое. Более того, я рассчитывал, что вырвавшиеся из лагеря несколько тысяч вооруженных бывших пленных, заставят немцев на эти же сутки-двое, а то и трое, прекратить патрулирование дорог и стянуть все посты и патрули в максимально многочисленные гарнизоны, способные отбиться от довольно крупных, в сотню-другую штыков, отрядов разбежавшихся пленных. Что также должно очень сильно облегчить нам быстрый отход.
Потом немцы, конечно, стянут дополнительные силы – перебросят от границы с Польшей, оттянут с севера, снимут с фронта, короче, сгребут отовсюду, откуда смогут дотянуться, после чего, естественно, организуют авиаразведку, подтянут подвижные подразделения и, постепенно эту проблему решат. Но и в этом случае – теряя людей и технику, отодвигая намеченные сроки других операций на фронте, вследствие того, что часть запланированных для них сил и средств отвлечено на ликвидацию угрозы, созданной присутствием вокруг Минска нескольких тысяч вооруженных бывших военнопленных…
Ну а мы к тому моменту уже будем не только далеко, но и гораздо сильнее. Недаром же я собираюсь перед началом операции вытащить из лагеря четыре сотни человек. В первую очередь офицеров и сержантов. Да, это серьезно ослабит остальных, потому что я собирался отобрать лучших, самых подготовленных, самых непримиримых, самых настроенных на борьбу, но такие, после моего обучения, придутся очень к месту и в действующей армии, в настоящий момент испытывающей жуткую нехватку квалифицированных кадров с боевым опытом. Ну, после того, как я выведу их из немецкого тыла… То есть армии пригодилось бы и большее число. Но взять больше я просто не могу. Даже такое количество совершенно точно резко снизит подвижность батальона и его боеспособность.
К тому же требующееся мне качество первоначального обучения в случае, если каждый из моих бойцов будет «нагружен» более чем двумя учениками, также резко упадет. Даже два – это, считай, на грани. Это ж не штатные гвардейские инструктора и даже не действующие гвардейцы… Да и дальнейшее снабжение даже при таком увеличении численности батальона также становится совсем нетривиальной задачей. А уж если набрать больше… Короче, четыре сотни военнопленных (ну, ладно, пусть с небольшим) – это максимум, который мы готовы потянуть с имеющимися в нашем распоряжении ресурсами. Остальным я дам оружие, кроки[81] вместо карт, с обозначенными на них немецкими объектами в Минске и в его ближайших окрестностях, составленные по результатам допросов пленных и действий собственной разведки, и пометками насчет того, чем на них можно будет поживиться – и предоставлю их судьбе. На войне – как на войне…
Разгрузка начальной партии оружия и боеприпасов прошла как по маслу.
Я и отобранные мной пленные, вызванные из бараков и с огороженных колючей проволокой «карт», перетаскали сорок ящиков с вооружением в полуразрушенное здание котельной. Обершарфюрер Ойбель не подвел – здание оказалось наиболее удобным для наших целей. Оно с одной стороны имело широкие ворота, ранее, скорее всего, использовавшиеся при перегрузке угля для работы котельной, а с другой – большой пролом в стене, образовавшийся, похоже, в результате попадания в угол здания авиабомбы не слишком крупного калибра.
Когда мы закончили с перетаскиванием ящиков, Ойбель, громким голосом отдав нам команду на «сортировку и подготовку к сожжению устаревшей документации, присланной на уничтожение», оставил нас с парой солдат, вооруженных штатными пехотными карабинами «Маузер» и одним унтером, в сторону которого он бросил весьма красноречивый взгляд, призванный, похоже, намекнуть мне о том, что оставление его в живых крайне нежелательно. Но это и не предусматривалось. Я дождался, пока унтер подойдет к одному из ящиков и завозится с замком, после чего скользнул к одному из солдат и быстрым движением сломал ему шею, второй получил удар в висок, а унтер, наконец-то сумевший приподнять крышку ящика и заглянуть туда, так же удостоился сворачивания головы. После чего я развернулся к остальным.
– И что теперь? – зло поинтересовался выглядевший все еще довольно крепко бывший сержант, на выцветших петлицах которого еще виднелись следы «треугольников». – Сейчас сюда припрутся немцы, и всех нас тут же поставят к стенке.
– Сейчас – нет, – усмехнулся я.
– Ну, через десять минут, – усмехнулся в ответ еще один, лицо которого украшал слегка подживший шрам.
– И через десять минут тоже, – снова не согласился я. – А позже это уже будет неважно.
– Почему это?
Я молча откинул крышку ящика, в который полез унтер. От той картины, которая открылась всем присутствующим, крепкий сержант тихонько присвистнул. А тот, что со шрамом, деловито поинтересовался:
– Такое во всех ящиках?
– Да.
– Все равно бесполезно, – вступил в разговор третий. – Немчуры здесь больше батальона, если всех посчитать. К тому же у них пулеметы на вышках. И, это, в девятом блоке тоже мутные какие-то типы ошиваются. Так что положат нас всех здесь…
– А ты предпочитаешь медленно сдохнуть от голода? – зло оборвал его крепыш и, повернувшись ко мне, боднул меня горящим взглядом: – Давайте, товарищ командир, приказывайте, что нам делать нужно по вашему плану.
Я медленно обвел взглядом всех, кто находился в полуразрушенной котельной, и улыбнулся.
– Ну что ж, тогда слушайте… Это – еще не все оружие. Здесь всего около трех сотен единиц. Причем тут имеются не только винтовки, но и сорок пистолетов, а также пять пулеметов ДП. Кроме того, есть три десятка ножей. Самодел, но хороший, из рессор. Для ближнего боя.
Большая часть из вас сейчас возьмет по паре пистолетов и по нескольку ножей, спрячет их под гимнастерки, – я снова усмехнулся и подмигнул, – то, что немцы отобрали у вас ремни, нам в этом только поможет… после чего вернется в свои бараки и постарается быстро сорганизоваться. Ну, там – выделить и вооружить боевые группы, быстренько придавить тех, которых знаете, сволочей и провокаторов, чтобы не успели поднять тревогу, а также попытаться разбить остальную массу людей на отделения, взводы и так далее. И приготовиться каким-то образом открыть ворота бараков. На все про все у вас будет максимум полчаса, поэтому как и что делать, с кем и как общаться – начинайте продумывать прямо сейчас. Человек пять-шесть останутся здесь. Часть вооружится пулеметами и засядет у окон, чтобы, в случае чего, додавить сопротивление недобитых немцев, остальные приготовят все для быстрой выдачи оружия.
– Додавить? – уточнил крепыш.
Я молча кивнул. И все расплылись в улыбках. Нет, они и раньше понимали, что я не один – ну ясно же, что провернуть операцию по доставке в лагерь военнопленных оружия и боеприпасов одиночка не способен. Но вот собираются ли те, кто все это провернул, заходить дальше – им было не понятно. А восстание пленных, даже с имеющимся вооружением, было чревато очень большими потерями… После моих слов им стало ясно, что их восстание будет поддержано снаружи. Я же продолжил:
– Остальное оружие прибудет уже после начала боя. На шести грузовиках, которые остановятся за воротами лагеря. Так что это оружие вам потребуется не столько для стрельбы в немцев, сколько для того, чтобы правильно организовать процесс вооружения остального личного состава, находящегося в этом лагере. Ну, чтобы люди не полезли во все стороны как тараканы, а двинулись бы в нужном направлении и потом были поставлены в строй.
– А успеем? – с сомнением произнес боец со шрамом.
– Ну, еще полчаса у вас будет. А потом придется сразу же атаковать немцев.
– Разбегаться будут, – зло сплюнул крепыш. – Это ж не готовая воинская часть, а сброд разношерстный.
– Эти проблемы решать вам, ребята, – твердо сказал я. – Мы начнем отход где-то через час после начала боя. Может чуть позже. Но совершенно точно изрядно проредив перед этим те силы, что немцы отправят на помощь охране лагеря. Вам останется их только добить. Однако имейте в виду, если вы их не добьете – именно они и будут брошены на ваши поиски.
– И на ваши? – с хитрым прищуром спросил тот же, который вспомнил про мутных типов в девятом бараке.
– Мы – уйдем в любом случае. А вот вы… – я пожал плечами. А затем тоже хитро прищурился. – И, кстати, если разбить этих, то в Минске станет доступной одна очень вкусная цель.
– Какая?
– Геринг! – после того, как я произнес эту фамилию, кто-то охнул, кто-то присвистнул, а кто-то недоуменно спросил:
– А кто это?
– Рейхсмаршал, командующий люфтваффе, второе лицо в Германии и ближайший соратник Гитлера, – небрежно произнес я. – Он прибыл в Минск в связи с расследованием нападения красных диверсантов на элитную истребительную эскадру и ее полного уничтожения.
– От, сука! – дрогнувшим от восторга голосом произнес крепыш, и тут же деловито поинтересовался: – И где его в Минске искать?
– Вот, держите, – вытащил я из кармана целую пачку кроки, которую успел нарисовать еще в кабинете обершарфюрера, от которого как раз и услышал о Геринге. Ну, так, мимоходом, в ворохе остальных слухов и сплетен, которые он на меня вывалил во время работы с личными делами…
Как я уже упоминал, здесь был не только план Минска с обозначенными на нем местами расположения немецких объектов, штабов, тыловых и полицейских подразделений, но и несколько набросков окрестностей города, с информацией о размещении не только немецких подразделений, но и таких интересных объектов, как склады продовольствия, предназначенного для снабжения вермахта и отправки в рейх, а также мест работы трофейных команд. При их составлении мне очень помогла информация, которую мы получили от пленных, захваченных нами в мастерских, которых должны были перед уходом из мастерских не убить, а запереть в подвалах казармы, предварительно прострелив каждому парой выстрелов из пистолета правую руку. В таком состоянии они подлежали немедленному комиссованию по ранению, так что воевать против нас они уже не были способны ни в каком виде, а вот их лечение, а также снабжение их в дальнейшем как ветеранов вермахта медикаментами, пропитанием, водой, обувью и одеждой должно было лечь на немецкие социальные службы. А ресурсы у немецкого государства, по идее, должны были в скором времени начать движение ко все более усиливавшемуся дефициту… Конечно, полсотни ветеранов-инвалидов так уж серьезно немецкое государство не напрягут, но, как это здесь говорится – курочка по зернышку… Так что получался даже больший выигрыш, чем если бы мы этих ремонтников просто убили бы.
Ну и кое-что уже здесь подсказал обершарфюрер. Он успел в качестве курьера побывать во многих местах Минска… Что из этого эти ребята смогут употребить к своей пользе – время покажет.
– Значица так, – тут же требовательным тоном начал крепыш. – Эту суку Геринга я беру на себя…
– Не торопись, – прервал я его. – Сначала надо разобраться с теми, кто прибудет на помощь лагерной охране. И вообще, время не ждет, – я наклонился над ящиком и вытащил оттуда самодельный брезентовый ремень. Несколько тысяч таких мы сделали из оружейных ремней в мастерских. И это был очень важный элемент подготовки операции. Потому что все снаряжение – запасные обоймы и магазины, фляжки, лопатки, штык в ножнах и так далее, современный боец переносил именно на ремне. В лагере же ремней ни у кого не было. А воевать держа в руках сразу и оружие, и обоймы, и штык…
– Вот, отрегулируй и надень под гимнастерку, чтобы не было заметно. А уже за него засунешь пистолеты и ножи… Да не жадничай. Главное – незаметность. Пусть даже и в ущерб количеству. А то еще выронишь что-нибудь прямо под ноги конвоиру – и начнется тут полный кавардак. А нам ведь этого никак не надо. Мы кавардак тут должны сами начать. И именно тогда, когда нам требуется, – усмехнулся я…
– Как думаешь, командир, – долетит?
Ответил я не сразу. Сначала проводил взглядом тяжело взлетевшую «пешку» до того момента, пока она не скрылась за частоколом деревьев, окружавших аэродром. Самолет летел… странно, как-то скособочившись, как будто его что-то держало за левый киль. Так что сомнение, прозвучавшее в голосе энкавэдэшника, было вполне обоснованным. Как и причины его волнения. Долетит самолет – он капитан. А то и майор. Нет – лучше погибнуть здесь, в тылу врага. Легче обойдется…
– Даже не сомневаюсь, – усмехнулся я и похлопал его по плечу. Коломиец просиял.
За последние три недели наши отношения сильно изменились. Началось это еще во время нападения на концлагерь, продолжилось во время обучения тех четырех с лишним сотен освобожденных пленных, тем более, что все процедуры, которые в гвардии именовали «проверкой лояльности», я почти полностью сбросил именно на него. Во всяком случае формальную их часть – практически полностью… Ну а после того, как он и старшина Николаев со своими «волкодавами» прошли первое «ускорение», о каких-либо разногласиях между нами вообще можно было забыть. Так что его обращение – «командир», на которое он, без сомнения, завоевал полное право, звучало отнюдь не как некая форма вежливости.
Яков Джугашвили оказался не совсем таким, каким я его себе представлял. Нет, на первый взгляд он был вполне типичным ребенком могущественного отца – в чем-то избалованным, немного зашуганным, и, что совершенно типично, во многом заброшенным. Ну не было у его могущественного отца времени среди всех этих революций, войн и индустриализаций заниматься сыном… Но за всем этим скрывалась довольно интересная личность. Со своим понятием о справедливости и достоинстве. Он не ныл (во всяком случае, не больше, чем другие), не требовал к себе особого отношения, а даже наоборот, яростно настаивал на непременном соблюдении равенства с остальными во всем – в питании, в нагрузках, даже во внимании. И это, черт возьми, очень помогло мне в работе с остальными пленными.
В принципе, я с ними не ошибся – практически все отобранные мной командиры (а я постарался отобрать именно командиров, в крайнем случае – сержантов) оказались людьми с сильным характером, не сломавшиеся, готовые продолжать борьбу. И именно поэтому большинство едва ли не с первых минут, как только до них дошло, что их освободили, начали требовать себе оружия, заданий и напрочь отказались заниматься «всякими глупостями» типа тех же бирюлек. Нет, заставить их мы, конечно, заставили бы. Но то, что Яша в тот самый, можно сказать ключевой, переломный момент выскочил вперед и твердо заявил, что он не только согласен, но и намерен максимально полно и сосредоточенно обучаться чему угодно, чего потребуют от него люди, сумевшие подготовить и провести такую операцию, – сразу же заметно снизило накал страстей. Даже с учетом того, что большинству присутствующих в тот момент еще не было известно, кто такой этот молодой кавказец в командирской гимнастерке без знаков различия.
А уж как он выполнял свое обещание – и говорить нечего. Едва ли среди четырех с лишним сотен командиров нашелся бы хотя бы один, который исполнял любые, даже, на взгляд непосвященного, совершенно дурацкие упражнения, с большим не то что рвением, а настоящей истовостью, чем он…
Так что в том, что сейчас, спустя три с лишним недели после того налета, я имел под рукой почти семь сотен очень неплохо подготовленного личного состава, причем даже по меркам территориальных частей покинутого мной мира, была немалая его заслуга. А ведь я поначалу опасался того, что мне придется бороться с его истериками и вообще, как говорится, ломать его через колено…
До шестого барака я добрался как раз тогда, когда его уже вывели на построение для следования на ужин. Изобразив перед командовавшим бараком фельдфебелем растерянного и туповатого типа, я доложил, что направлен в этот блок, с боязливым полупоклоном вручив ему сварганенную обершарфюрером бумагу, подтверждающую мои слова, получил пинок под зад и влетел в строй, тихо причитая и вжимая голову в плечи. Немец же, судя по довольному виду, изрядно поднялся в собственных глазах, на виду у всех отпинав столь крупного по размерам русского.
Столовая так только именовалась. Внутри нее почти не было столов, а питание обитателей лагеря было устроено следующим образом – войдя, человек брал из кучи, наваленной прямо на пол, штампованную металлическую миску, затем подходил к раздаче, где ему в эту миску шмякали половник странного варева, в основном состоящего из воды и брюквы, после чего он сразу же начинал есть его руками, прямо на ходу. И ел, пока двигался по столовой. Перед выходом из столовой он сдавал миску в окошко посудомойки (причем миску сдавали даже если доесть еще не успели), в которой эти миски просто очищали от остатков пищи и ополаскивали горячей водой, после чего, собрав в стопки, относили в кучу при входе. Конвейер, блин! Впрочем, несколько столов здесь было. И за ними в настоящий момент сидело около шести десятков человек, которые, степенно, не торопясь и, я бы сказал, с прямо-таки вызывающим видом, поглощали совершенно другую пищу. Немудрено, что их считали как минимум «мутными»…
Сына Сталина я определил сразу, хотя он был не очень похож на местного вождя. Ну да, среди сидящих был только один человек с кавказскими чертами лица… Впрочем, вариант со специально подобранным двойником полностью исключать было нельзя. Но тут уж ничего не поделаешь. Имеющаяся у Коломийца радиостанция не имела функции передачи изображения (да и вообще добивала отнюдь не на четыреста, а дай бог на три с половиной сотни километров, вследствие чего для каждого сеанса связи старшине Николаеву со своей группой приходилось, для надежности, отбегать аж за Борисов). Поэтому изображения Якова Джугашвили у меня не имелось. Так что брать будем того, кого найдем, а идентифицировать будем уже позже, в спокойной обстановке.
Из кучи я ухватил сразу две миски. И сумел ловко подсунуть их «раздатчику», после которого начал демонстративно прихлебывать на ходу сразу из обеих. Следивший за порядком мордатый фрицевский прихлебатель из числа пленных, одетый в такую же гимнастерку и бриджи, как и остальные пленные, но, в отличие от этих остальных, не босой, а обутый в ботинки с обмотками и с повязкой на рукаве, увидев такой непорядок, мгновенно взъярился.
– Ах, ты ж сука такая! – заорал он, после чего вцепился мне в руку, попытавшись вырвать одну из мисок. Ну, кому такое могло понравиться? Поэтому я вполне мотивированно дернулся, разворачиваясь так, чтобы оказаться спиной к сидящим за столами, после чего вырвал руку и заорал в лицо мордовороту:
– Пошел на хрен!
– Че-его?!! – взревел тот и, вскинув кулак, со всей дури двинул меня по морде. Ну а это, естественно, привело к тому, что я опрокинулся на стол, за которым сидела охранявшая Якова зондеркоманда и приданные им уроды из так называемого восьмисотого учебного полка, изображавшие из себя таких же пленных, и просвистел по нему спиной, аккурат под нос сыну Сталина…
У них было оружие. Пистолеты и ножи. И носили они их почти так же, как и те, кого я отправил в бараки – под гимнастерками, но не засунутыми под ремни, а на специальной, более удобной сбруе. Во всяком случае, выдергивать ножи и пистолеты из этой сбруи оказалось довольно удобно… Никто не успел отреагировать, как – ж-жух, первый нож ушел в полет, гулко рассекая воздух. Хрясь, хрясь – еще двое, сидевшие по обеим сторонам от объекта, сползли по стене с дырками на месте одной из глазных впадин. Выстрел, выстрел, выстрел…
– Achtung!!!
Ну вот, опомнились! И я провалился во вьюгу…
Они оказались достойными противниками. Нет, один на один и даже один на десяток я завалил бы их, не слишком напрягаясь. Но их было намного больше. И, если уж быть до конца откровенными, шанс завалить меня у них был. Одно-два попадания или удар ножом – и я вывалюсь из вьюги и потеряю темп. А обеспечить это не так уж трудно. Массированный огонь в мою сторону, даже не особо целясь – и просто по закону больших чисел кто-то меня да заденет. А там каждое новое попадание будет понемногу снижать мою подвижность, что, в конце концов, доведет меня до того, что я пропущу удар или выстрел в какую-нибудь жизненно важную точку. И все. После этого добить меня уже не составит труда. Так что, по большому счету, полезши в эту заварушку в одиночку – я обнаглел. И с этим пора заканчивать…
Спасло меня то, что сначала они почти совсем не использовали оружие, стараясь достать меня в рукопашную или вообще захватить. А может просто опасались попасть в сына Сталина – живой он был куда полезнее, чем мертвый. Но спустя где-то минуту, за которую я успел практически уполовинить противников (четыре пистолета с полностью расстрелянными магазинами и десяток ударов ножом), до командовавших этими людьми лиц начало доходить, что что-то идет не так. После чего раздался крик:
– Аlle töten![82]
И мне пришлось на мгновение прерваться, чтобы скинуть до сих пор не пришедшего в себя Якова Джугашвили с лавки на пол и завалить его парочкой трупов. После чего я прыгнул в самую гущу…
– В-вы кто?
– Капитан Куницын. РККА, – ухмыляясь, ответил я сыну Сталина, вытаскивая его из-под трупов. В столовой наконец-то установилась тишина. Ну, относительная. Поскольку снаружи грохотало знатно. Мои минометчики раскатывали по бревнышку казарму охраны и дальние бараки, где квартировало приданное лагерной охране усиление. По казарме били БМ-37, а по дальним баракам – полковые минометы. На фоне этого рева едва можно было различить хлесткие хлопки трехлинеек и дудуканье ручников. Ребята добивали охрану на вышках и тех, кто умудрился выбраться из-под минометного обстрела. Яков зашевелился и потянулся к окну.
– Сидеть, – коротко бросил я, опуская его на пол, – рано пока. И… кстати, не подскажите имя-фамилию? А то вдруг ошибочка вышла?
Мой визави насупился.
– Яков Джугашвили. И не надо было меня специально спасать. Я – такой же обычный командир, как и все. Поэтому…
– Так специально и не собирались, – оборвал я его. – Просто по пути попалось. Вот и зашли… – я замер. Ну, точно, интенсивность обстрела заметно снизилась. На этот налет было запланировано израсходовать половину имеющегося боезапаса, каковой стянутые сюда минометы должны были израсходовать меньше чем за пять минут даже с учетом пристрелки. – А вот теперь подпрыгиваем – и ходу, ходу!
Когда мы подскочили к воротам, из них уже бурным потоком выливались бывшие пленные. Но не растекались во все стороны, будто мелкие брызги, как я опасался, а целенаправленно перли к грузовикам, остановившимся на обочине, метрах в десяти друг от друга. А с обеих сторон дороги слышались выкрики:
– Второй барак, после получения оружия строимся у угла сада…
– Третий барак – все ко мне…
– Одиннадцатый барак – выдвигаемся на дорогу к кирпичному заводу…
– Восьмой барак – двигаться к станции…
Ко мне подбежал возбужденный крепыш. Он был уже подпоясан немецким ремнем и обут в немецкие же короткие сапоги. На левом плече сержант держал наш, родной ДП.
– Ну, разведка, – он шагнул ко мне и сильно обнял правой рукой, так и не выпустив пулемета, – век не забуду. Теперь если и сдохну – так весело!
– А вот этого не надо, – усмехнулся я.
– Чего не надо?
– Врать не надо, – отрезал я и, полюбовавшись на его обалделую физиономию, пояснил: – то век помнить буду, то – сдохну. Ты уж постарайся, чтобы век помнить – и не днем меньше. Лады?
Крепыш заржал, хлопнул меня по плечу и умотал. А ко мне подбежал Головатюк.
– Товарищ капитан… – начал он, но закончить так и не успел. За железнодорожной насыпью вновь заревели минометы. Значит, немцы уже на подходе. Быстро же они отреагировали, суки. Опытные. Ну да ничего – выдача оружия идет полным ходом, причем подавляющее большинство бойцов не разбегается по окрестностям, а стягивается к орущим лидерам, где их тут же разбивают на отделения и ставят в строй. Пожалуй, немцев встретят не три, а все шесть, а то и семь тысяч штыков. Да – неорганизованных, да – в подавляющем большинстве обалдевших и растерянных, ну так и немец сейчас так же получит по первое число. Он же никак не ожидал, что его еще на подходе накроют из двух с лишним десятков минометов, а потом причешут из станкачей, установленных для кинжального огня. Так что должны справиться, тем более что большая часть контингента здесь в бою не впервые и замотивированы немцами донельзя. Хотя бы на то, чтобы больше в плен не сдаваться. А нам – пора…
13
– Хрумп-хрумп-хрумп, – снег под сапогами скрипел вкусно, но мороз уже смог преодолеть тонкую преграду хромовой кожи и начал заметно пощипывать пальцы, обернутые тонкой портянкой. На толстую щегольские, сшитые точно по ноге сапоги не налезали. Эти сапоги генерал армии Жуков заказал еще весной, в Москве, когда еще пребывал в должности начальника Генерального штаба РККА.
Да уж… Халхин-Гол очень сильно подбросил бывшего комкора. Одно то, что при переаттестации на вновь введенные звания он скакнул аж через две ступеньки и получил сразу генерала армии, дорогого стоит. Большинство-то комкоров генерал-лейтенантов получило, а кое-кто и вообще генерал-майоров. Но такое возвышение было заслуженно… И дело не только в Халхин-Голе. Он был только началом. Далее было командование Киевским особым военным округом, и вершина успеха – январские игры[83].
Именно тогда он, наконец, понял, что достиг уровня «стариков» – оболганных и убитых Уборевича, Сердича, Седякина, Вайнера, Халепского… Он знал об этом не понаслышке. Сам едва не попал под этот каток. Его личное дело заслушивалось на заседании парторганизации шестого кавкорпуса, на котором разбирались заявления от некоторых политработников и командиров о «вражеских методах комкора Жукова в воспитании кадров». Кстати, тогда ему припомнили и то, что Уборевич при проверке дивизии несколько раз обедал у него дома, а также то, что его всегда выделяли «враги народа» Сердич и Вайнер. Ну да, выделяли… Но они же тогда не были никакими врагами народа, а были его прямыми и непосредственными командирами. Умными. Подготовленными. Компетентными…[84]
Однако, ему повезло. Не то чтобы оправдали – полное оправдание после таких обвинений было просто невозможно, но ограничились постановкой на вид. Хотя он все равно ждал, что еще месяц-другой, и он, так же, как и его Учителя, очутится в сыром подвале, без ремня, без петлиц и… без шансов. Но то ли до кого-то там, наверху, наконец дошло, что уничтожив в РККА всех поголовно командармов и комкоров, стоит слегка притормозить и оставить армии хотя бы четверть обученных и подготовленных комдивов. Иначе все те тысячи танков, самолетов, десятки тысяч артиллеристских орудий, которые построил советский народ, терпя неимоверные лишения, платя за это своим здоровьем и жизнью, окажутся просто бесполезным хламом. И будут бездарно потеряны, не нанеся врагу никакого особенного вреда – сожжены в тупых лобовых атаках, сломаны необученными экипажами, брошены, оставшись без топлива и боеприпасов. Короче, угроблены вчерашними лейтенантами, которые внезапно и будучи совершенно неготовыми к этому окажутся вознесены наверх, на те должности, до которых им, по уму, надо бы было расти еще годы и годы[85]! А может, ему просто повезло…
– Товарищ генерал армии!
Жуков оглянулся. Порученец, не отрывая ладони от обреза зимней шапки (он рассматривал опушку леса), повел подбородком в сторону леса, до которого от трассы Луга – Гатчина, на окраине каковой и стояла его «эмка», было около трех сотен метров. Георгий Константинович повернул голову. От опушки, через поле, бежал на лыжах десяток лыжников. А вслед за ними, из леса уже показалось несколько саней, в которые были запряжены невысокие, но крепкие и лохматые лошадки. Крестьянские – не породистые. Маленький Жора Жуков именно таких гонял в ночное во времена своего детства в деревне Стрелковка. Похоже – дождался…
О том, что Ставка планирует новое наступление на Ленинградском фронте, Жукову сообщил Василевский. Причем, после того, как он это сообщил, Георгий Константинович не выдержал и обложил его трехэтажным матом.
– Вы что там, вообще с ума сошли?! Какое наступление?!!
Тяжелые бои вокруг Мги длились уже четвертую неделю. Немцы так и не смирились с тем, что ему удалось прорвать блокаду города и восстановить сообщение Ленинграда с остальной страной по суше. Хотя какое там сообщение – видимость одна! Отодвинуть фронт от Мги и проходящей через нее железной дороги так и не удалось. Более того, во многих местах фронт проходил прямо по железнодорожной насыпи. Так что ни о каком регулярном использовании этой транспортной магистрали и речи пока быть не могло. А Волховское шоссе находилось под практически постоянным огнем артиллерии. В районе Горной Шальдихи до нее добивали все, что было дальнобойнее минометов и короткоствольного leIG 18. Поэтому Волховское шоссе использовать было практически невозможно, и сообщение осуществлялось по дороге, проходящей по берегу старого и сильно заросшего Староладожского канала. Да и ту дорогу так же нельзя было назвать безопасной. Там над головами водителей постоянно висели немецкие самолеты.
Впрочем, все равно эта дорога была куда более удобной, чем если бы ее пришлось прокладывать по льду Ладожского озера. А такой вариант был бы неизбежным, если бы не удалось отбить Мгу. Впрочем, и так все пока еще висело на волоске… Положение еще более усугублялось тем, что немцы продолжили движение на восток, и в настоящий момент угрожали прорывом фронта и выходом к берегу Ладожского озера еще в нескольких местах на протяжении аж семидесятикилометрового участка фронта, вытянувшегося узкой полосой от Мги и вплоть до Волхова. Вследствие чего вроде как состоявшийся прорыв блокады на самом деле не принес почти ничего в плане увеличения транспортных возможностей сообщения Ленинграда с остальной страной и улучшения его логистической доступности.
Тем более что до ледостава немцы жестко пресекали все попытки наладить постоянную переправу через Неву. А ее ширина на этом участке составляла от трехсот до семисот пятидесяти метров. Капитальный мост через Неву они разрушили еще в то время, когда контролировали Мгу и прилегающий к Неве с востока участок побережья Ладоги. Все же попытки устроить понтонные мосты закачивались тем, что немцы, не считаясь с потерями, раз за разом разносили их вдребезги, несмотря на все зенитное и истребительное прикрытие. Немцы изо всех сил пытались восстановить полную блокаду города… Ну еще бы – в городе и его ближайших окрестностях была сосредоточена треть всей военной промышленности страны. Треть, вы вдумайтесь! Даже Москва в этом отношении выглядела куда скромнее. То есть всего лишь простым прерыванием сообщения немцы выводили из действия треть военно-промышленного потенциала СССР. Ну, или снижали его воздействие на ситуацию до крайне незначительных величин.
Нет, конечно, что-то удалось эвакуировать, кое-что будет использовано для нужд местной обороны, но, во-первых, налаживание производства на новом месте потребует нескольких месяцев, а то и года, и, во-вторых, все равно новые производства еще как минимум года два будут нести на себе все признаки «эвакуированности». То есть обладать довольно ограниченными возможностями в плане совершенствования и модернизации действующих образцов, а также разработки и постановки на вооружение новых. Да и то, что сумеют наладить производство всех имеющихся на вооружении и серийно изготавливаемых образцов – вилами по воде писано[86].
К тому же то, что останется на месте, будет жестоко страдать от чрезвычайно скудного снабжения сырьем. Положение сильно усугублялось еще и тем, что население Ленинграда в настоящий момент составляло около трех миллионов человек. А объем продуктов, собираемых с контролируемой советскими войсками территории вокруг города, вряд ли способен был прокормить более ста тысяч. Точный подсчет пока никто не проводил, да и смысла в этом особого не было. Потому что даже ошибка в два-четыре раза в ту или иную сторону ничего, по существу, не меняла, в выводе о том, что даже те скудные логистические возможности, которые имеются у осажденного города, будут во многом затребованы под поставки продовольствия такой массе людей и эвакуацию из города тех, кто никак не поможет делу обороны.
Если не отбросить противника хотя бы на три десятка километров от железной дороги, дабы исключить воздействие на нее артиллерии (ну, за исключением единичных образцов высокой мощности), – использовать ее будет нельзя. И сие означает, что в распоряжении города останется только доставка водой летом и организация ледовой переправы зимой. А это по сравнению с железной дорогой – игольное ушко. Много через него не протащишь. То есть о хотя бы сколь-нибудь приемлемом использовании промышленного потенциала города в этом случае можно забыть.
Но и это еще не все! Пять месяцев на посту начальника Генерального штаба очень сильно расширили его кругозор. Не столько даже как военачальника, сколько, как это говорилось раньше, «государева человека» – стратега, государственного деятеля, то есть того, кто умел определять, вычленять первоочередные и главные цели, и считать ресурсы, необходимые для их выполнения. И потому Георгий Константинович прекрасно понимал, что подобная вынужденная, стопроцентно оправданная, но… страшно нерациональная транспортная политика несомненно отразится на всем течении войны. Тратить драгоценное во время войны топливо и отрывать тысячи автомобилей от обслуживания армии и промышленности, перенаправив их исключительно на организацию доставки продовольствия для многомиллионного города в условиях столь масштабной войны – чудовищно нерационально! Ибо это означает лишние потери в войсках от не доставленных вовремя боеприпасов, новые прорывы врага и потери территорий вследствие того, что из-за отсутствия грузовиков и/или горючего вражеский удар не успели парировать выдвинутыми из тыла резервами, срыв своих наступательных операций от потери темпа наступления или недостаточно энергично выполненного флангового маневра, потери раненых, которых не успели вовремя эвакуировать… Да мало ли чего поганого произойдет из-за того, что тысячи, а то и десятки тысяч единиц техники, вместо того чтобы снабжать и перебрасывать войска, будут заняты перевозками продовольствия для осажденного города и эвакуацией из него людей, которые не являются жизненно необходимыми для его обороны… И ведь все равно потери будут чудовищными. Полуторками по такой неприспособленной трассе много не привезут. И не вывезут.
Так что полноценным прорыв блокады можно было считать только в том случае, если удастся задействовать железную дорогу. Но это прекрасно понимали и немцы, поэтому немецкие атаки не прекращались, отнимая все силы и возможности, обескровливая наши части и раздергивая их на «пожарные» ликвидации очередного прорыва. Ну и о каком тут наступлении может идти речь?
Впрочем, в положении «охотника, поймавшего медведя» оказались и сами немцы. Потому что и они не смогли снять с фронта ни одного батальона. Никуда. Даже на начавшееся в конце октября наступление на Москву. Георгий Константинович не сомневался в том, что его продолжали держать здесь, на Ленинградском фронте, во многом именно из-за того, что знали – ни одного батальона под Москву он отсюда так и не отпустит…
Выскочившие из леса лыжники остановились метрах в двадцати от обочины, на которой стояли генеральская «эмка» и сопровождение – два бронеавтомобиля БА-10М и два БА-20 и два грузовика с автоматчиками. Навстречу им прямо через сугробы, высоко задирая ноги, полез порученец. От десятка лыжников отделился один и лихо подкатил к порученцу. Переговорив с ним, он кивнул и, легко, даже несколько рисуясь, оттолкнувшись палками, покатил к генералу.
– Товарищ генерал армии, командир головного разведывательного дозора отдельной Лугской войсковой группы сержант Пищенко.
Жуков окинул его цепким взглядом и… протянул руку.
– Все вырвались? Где командир?
– Не все, товарищ генерал, – вздохнул сержант, – майор Белоголовцев со своими там остались. Немчуру держать. Иначе не оторваться было. И так-то еле ушли. Немцы столько сил вокруг стянули… Но, – тут сержант сверкнул белозубой улыбкой, – командир обещал их потом вытащить.
– Из Луги?
– Из плена, – несколько снисходительно пояснил сержант. – Ну, кто живой останется… А сам командир – спит. Не будите его, пожалуйста, товарищ генерал.
– Как спит? – возмутился выбравшийся из сугроба и подбежавший порученец. – Да вы что себе… – и осекся. Потому что неожиданно уперся взглядом в дула автоматов разведчиков, удивительно синхронно развернувшиеся в его сторону. И в их глаза, смотревшие на порученца едва ли не более грозно, чем оружие.
– Не надо его будить, товарищ генерал, – негромко повторил сержант, почему-то смотря при этом на порученца. – Командир всю ночь с ранеными возился. С тяжелыми. Почти три сотни за собой вытащили. И всех довезли. Благодаря командиру. Отдохнуть ему надо трохи…
О том, что этот загадочный капитан Куницын имеет какое-то отношение и к медицине тоже, Георгию Константиновичу было известно от главного хирурга Красной армии Николая Ниловича Бурденко, который прилетел в Ленинград еще третьего дня и все это время ожидал выхода подразделений Лугской войсковой группы, аж подпрыгивая от нетерпения. Чем так привлекал его этот капитан, Командующий Ленинградским фронтом точно не знал, но, похоже, надежды у Николая Ниловича на встречу были очень серьезные.
Жуков обвел взглядом суровых разведчиков, покосился на свою охрану, так же настороженно вцепившуюся в оружие, потом хмыкнул и покачал головой.
– Ладно, пусть поспит. Но как проснется – передадите, что я жду его в штабе сто двадцать восьмой стрелковой дивизии, – он сделал паузу, снова хмыкнул. – А вообще-то, бойцы, лучше вам своего командира туда же, в Нестерково, отвезти. Негоже спать на морозе.
Лицо сержанта расцветилось лучиками морщин.
– Так точно, товарищ генерал, – бодро отрапортовал он. – Непременно так и сделаем. А насчет мороза – не волнуйтесь. Во-первых, нашему командиру никакой мороз не страшен. А во-вторых, мы его укрыли хорошенько. Парой тулупов.
– Добро, – кивнул генерал армии и повернулся в сторону леса, из которого медленно, не торопясь, выезжала целая вереница все тех же крестьянских саней. Все они были сплошь заполнены людьми, впрочем, на некоторых санях, между одетыми в полушубки фигурами то тут, то там виднелись ребристые рыла «максимов» и толстые «поленья» минометов. Лугская войсковая группа вышла из окружения. В котором она находилась уже две недели…
Наступление началось одиннадцатого декабря.
Когда Георгий Константинович ознакомился с предлагаемым планом наступления, привезенным фельдъегерем из Ставки, он не выдержал и громко выругался.
– Что, совсем бред? – тихонько спросил сидевший тут же начальник штаба Ленинградского фронта генерал-лейтенант Хозин.
– На, сам почитай! – зло бросил ему Жуков. Тот аккуратно взял документ и углубился в чтение. Закончив, покачал головой и вздохнул:
– Действительно бред…
– Да не-ет, – с сожалением протянул Жуков. – Задумано блестяще.
– То есть? – удивился Хозин. Жуков с сожалением покосился на него. Он таскал за собой Михаила Семеновича еще с Резервного фронта и прекрасно знал, что как командир тот, мягко скажем, не очень. Как штабник – ничего, исполнителен, если, конечно, воли не давать (пьет и бабник…). А вот оценить тактическое решение, уловить нужный момент для нанесения или наращивания удара, вовремя сманеврировать – нет, это не его. Вот и сейчас отреагировал вполне предсказуемо. Не понял. А раз не понял – значит, бред. Да-да, не разобрался и понял, что бред, а наоборот: раз не разобрался – значит бред.
– Ну, сам посуди, – с некоторым сожалением от осознания того, что совершает почти бесполезное дело, начал Георгий Константинович, – немцы бьют нас в хвост и в гриву в первую очередь из-за своей высочайшей организованности, великолепного взаимодействия между родами войск и видами вооруженных сил, а также отличной мобильности. Против этого даже то, что мы превосходим их в численности, – не помогает[87]. И все наши попытки ударить, создав большой локальный перевес, насытив войска на каком-то участке большим количеством стволов артиллерии и танков, практически всегда заканчивались неудачей и дальнейшим отходом.
– Нет, но Мгу-то мы…
– Чудом, Михаил Семенович, чудом, – вздохнул Жуков. – И удерживаем тоже чудом. Или, вернее, большой кровью. Сам видишь, ни одна наша наступательная операция после Мги не принесла никакого внятного результата. Немцы отбивают все атаки, – генерал армии на мгновение задумался, а затем качнул головой. – Хотя, конечно, с другой стороны, эти наши непрерывные атаки так же не позволяют немцам накопить достаточно сил, чтобы отбить Мгу. Вот и пытаются обойтись местными ударами. То есть некоторую пользу мы с них имеем. Но потери… Ведь одного к десяти меняем, Михаил Семенович. Одного к десяти! И все равно ничего серьезного сделать не получается. Едва только какой успех наметился, только-только где удается продвинуться, тут же этот чертов немецкий орднунг все портит. Раз – и у наших над головами небо черно от «Юнкерсов», час прошел – и уже резервы подтянули, три часа – и на том участке, откуда ни возьмись, уже тяжелая артиллерия. И все – дай бог те позиции, с которых удар нанесли, удержать…
– Ну, – Хозин поежился, – так-то оно так, конечно, но…
А Георгий Константинович внезапно схватил документ и снова уставился в четкие строки. Спустя пять минут он огорченно фыркнул.
– А ведь хорошо… да что там, гениально придумал, шельмец…
– Кто? – не понял Хозин.
– Да хрен его знает, кто этот план придумал. И политесу-то сколько… Ты посмотри, даже место и время удара на наше рассмотрение отдано, – и он сердито швырнул документ на стол. Хозин покосился на него озадаченным взглядом и осторожно спросил:
– Ну… если ж вы считаете, что хорошо придумано, так может…
– Ни хрена не может, – рявкнул генерал армии. – Никто. Никто у нас такого не сможет. Придумано – отлично, вот только воплотить в жизнь это не получится. Никак. Для того, чтобы вот это, – тут он хлопнул по валяющемуся на столе документу своей лопатообразной ладонью, – воплотить в жизнь, знаешь, какой уровень подготовки личного состава нужен? Нет? А вот я тебе скажу. Для этого нужно, чтобы любой солдат умел мыслить на уровне командира отделения, отделенный соображал за взвод, а то и за роту, ротный – за батальон. И так далее. Немцам до этого еще переть и переть, а уж нашим…
Начальник штаба Ленинградского фронта осторожно протянул руку и, взяв документ, снова углубился в чтение. Закончив, он поднял взгляд на командующего фронтом и задумчиво произнес:
– Георгий Константинович, я вообще-то никакой проблемы здесь не вижу.
Жуков боднул его тяжелым взглядом.
– Поясни.
– Ну-у-у… мы же все равно постоянно пытаемся проводить местные наступательные операции.
– Так.
– Ну так давайте одну из них и объявим этим… ну, наступлением. Ведь в этом предложенном Ставкой плане основная ответственность за успех наступления возлагается не столько на нас, сколько на… ну-у… те силы, которые будут действовать в немецком тылу. Вот, здесь как написано: «Успех операции в первую очередь зависит от действий, обеспечивающих резкое падение возможностей немецких войск в плане мобильности и взаимодействия различных родов войск и видов вооруженных сил…». Так что если все получится – значит, мы наконец-то отодвинем фронт от Мги и железной дороги, а если нет – что ж, значит для нас будет еще одна местная наступательная операция с ограниченными целями и… обычным результатом. Мы же ничего не теряем.
– Да как ничего?! Мы же должны будем выделить войска для этого гребаного десанта на Лугу.
Хозин снова подхватил документ, пролистал его, хмыкнул.
– Ну, два парашютно-десантных полка, судя по документу, выделяет Ставка. От нас требуется только небольшое усиление. Вот и дадим… выздоравливающих, скажем. Пусть член Военного совета проедет по госпиталям, обратится к выздоравливающим, выкликнет добровольцев. Непременно же такие будут… И ополченцев. Даже если они все там лягут – фронт это не слишком ослабит. А выгода может быть большой. Да даже если мы только к Ульяново выйдем, и то большое дело будет. А уж если возьмем…
Жуков усмехнулся. С горечью. Эх, знать бы, как оно все обернется – он бы не ополченцев и выздоравливающих в усиление выделил, а лучшие войска. И минометов бы добавил. И пушек.
Впрочем, командующий отдельной Лугской войсковой группой показал себя настоящим виртуозом в использовании местных ресурсов. В Луге располагались немецкие войсковые склады, прикрытые достаточно мощной группировкой ПВО, и, судя по тем докладам, которые Георгий Константинович получал практически ежедневно, первую неделю боевая мощь Лугской группировки возрастала день ото дня. Этот загадочный капитан Куницын в первые же сутки после захвата Луги дерзкой ночной атакой развернул на подступах к городу целую сеть патрулей, засад и заслонов, которую немцам пришлось в буквальном смысле «прогрызать» еще почти трое суток. Теряя людей, сжигая и так дефицитное горючее и боеприпасы. И все это время вокруг Луги строилась мощная оборона – копались окопы, причем как местными жителями, так и пленными немцами, в подвалах домов оборудовались доты, на чердаках обустраивались НП и гнезда корректировщиков, а переброшенные к нему ополченцы, выздоравливающие, а также мобилизованные местные жители, уже успевшие хлебнуть немецкого лиха и потому настроенные весьма решительно, проходили интенсивную боевую учебу, осваивая немецкое вооружение.
Конечно, это не было правильное обучение, скорее то, что называется «натаскивание патроном/снарядом»: так, например, расчеты захваченных зениток, судя по докладу, за три-четыре дня до вступления в бой, успели выпустить из закрепленных за ними орудий аж по три сотни снарядов. Ни одному командиру это бы в голову не пришло! Сначала везде и всегда идет теоретическая подготовка, потом тренировка на незаряженном орудии, затем следуют еще несколько этапов, и лишь после них расчету предоставляется возможность отстрелять пяток, максимум десяток снарядов. А за подобное… за подобное во всех армиях мира всегда наказывали. А кое-кого и сажали. А что вы думали – по всем нормативам подобные действия – это жуткий, ничем не оправданный перерасход снарядов, а также износ ствола, механизмов приводов и так далее…
Но в том самом конкретном случае, когда все это вооружение все равно скоро придется бросить, а снарядов на немецких складах, как говорится, хоть жопой жуй – это принесло результат. Ибо, кроме подготовки расчетов в условиях, как говорится, максимально приближенных к боевым, еще и позволило пристрелять наиболее опасные сектора и направления. Вследствие чего первый штурм Луги войсковая группа отбила просто играючи. Почти без потерь… Вот только сделать это можно было только сломав инерцию и стереотипы мышления и напрочь отодвинув тот самый опыт, который и делает человека сильным профессионалом. Георгий Константинович сам, когда услышал о подобном расходе снарядов на обучение расчетов, едва не вскипел. И только заставив себя успокоиться и разложить ситуацию по полочкам, сумел оценить и… восхититься. Очередной раз. Потому что поводов для восхищения в этой операции было море.
Мимо Жукова не торопясь «протрюхала» крестьянская лошадка, запряженная в крестьянские же сани. С нее на ходу соскочил военный с перевязанной головой и в густо заштопанном полушубке. Похоже, этому предмету одежды изрядно досталось…
– Товарищ генерал армии, командир одиннадцатого парашютно-десантного полка полковник Турбин.
– Добрый день, полковник, – Георгий Константинович протянул ему руку. Полковник пожал ее. Крепко, но без подобострастия. Ну да, после того, что они прошли…
– Потери большие?
– Так точно, товарищ генерал, – кивнул полковник, а затем, даже не улыбнувшись, а зло ощерившись, выдохнул: – Но у немцев – больше.
– Больше?
– Точно. Я думал, что не меньше чем один к четырем, но командир сказал, что где-то один к трем. И то, потому что они на первый штурм буром поперли. Думали, что у нас в Луге только легкая стрелковка и минометы. Совсем не ожидали, что мы их артиллерию освоить успеем. А так… стоп-группы-то не столько немцев щелкали, сколько по их технике работали. Так что один к двум, скорее всего.
– Стоп-группы? – переспросил Жуков.
Полковник смутился.
– Ну, это мы так… то есть… ну прозвали так…
А что – вполне внятное название. Идея этой операции была построена на очень простом допущении: если немцы превосходят советские войска в мобильности и уровне взаимодействия, и подняться на уровень немцев нашим войскам в ближайшее время не светит, надо хотя бы вот в этой конкретной операции сделать так, чтобы возможности немцев «опустились» на уровень советских войск. И это было-таки сделано.
Диверсионные группы, сформированные из личного состава подразделения (или уже части, у капитана Куницына было почти семь сотен личного состава – как минимум отдельный батальон, хотя сейчас и иные полки поменьше будут), которым командовал капитан, перед началом операции произвели массовое минирование дорог, мостов, эстакад, да просто заминировали лед в местах накатанных спусков к ледяным переправам и поблизости от заминированных мостов. Кроме того, были заминированы и стволы деревьев, растущих на обочинах дорог, в тех местах где они шли через наиболее густой лес.
А затем… нейтрализовали немецкую артиллерию и авиацию. Именно нейтрализовали, потому что назвать это атакой или даже налетом можно было только с большо-ой натяжкой. Люди капитана Куницына оборудовали поблизости от огневых позиций артиллерии и аэродромов позиции станковых пулеметов «максим», минометов и крупнокалиберных пулеметов ДШК. И с началом советской артподготовки накрыли их массированным огнем. Издалека. Ненадолго. Огневой налет редко где продолжался больше десяти минут. Но вот наводить порядок на огневых позициях немцам потом пришлось почти два часа. И это в период уже начавшегося наступления русских. Да и вообще немецким артиллеристам и летчикам в тот день было весело – пришлось тушить пожары, восстанавливать линии связи, запрашивать «сверху» новые радиостанции, топливозаправщики, грузовики, взамен расстрелянных из ДШК и «максимов»[88], да и само топливо, взамен сгоревшего после минометного налета.
Так что, несмотря на крайне небольшие безвозвратные потери в людях и технике, вызванные тем, что огневые позиции русских диверсантов располагались на расстоянии не менее километра от объектов обстрела, на все первые сутки русского наступления знаменитый немецкий орднунг оказался подменен полным хаосом. Самолеты не летали, вызов огня артиллерии оказался связан с немыслимыми трудностями и почти всегда запаздывал, а перебрасываемые резервы утыкались то во взорванный мост, то в заваленный двумя дюжинами рухнувших древесных стволов участок дороги, то в еще незастывшую полынью на месте привычного «зимника». И это еще хорошо если незастывшую. Как докладывал командир сто двадцать восьмой дивизии полковник Комаров, во время переправы через речушку со смешным названием Гурловка его подчиненные обнаружили немецкий танк, торчавший задницей из полыньи. Похоже, здесь подорванный лед успел схватиться, да еще и был присыпан снежком, поэтому немцы не заметили «дырки» и въехали на танке на лед. Тонкий, свежий лед не выдержал, и немецкий танк уехал на дно…
И таких «шуток» у капитана Куницына для немцев оказалось припасено множество. Взять, скажем, те же «аэродромные мины», представляющие из себя кусок веревки, натянутый поперек расчищенной взлетной полосы или рулежной дорожки и слегка присыпанной снегом, на обоих концах которой было привязано по «лимонке» с разогнутыми «усиками» чек и зацепленными за вбитый в мерзлую землю колышек или загнутый гвоздь кольцами. Самолет, разгоняясь, цеплял веревку шасси и тянул за собой на веревке обе гранаты, которые вихрь воздуха прижимал к хвосту. А через несколько секунд – взрыв. И самолет заполучает такую дыру в фюзеляже, что ни о каком выполнении задачи более и думать нельзя. А то и вообще лишается хвоста. Некоторые даже и взлетать не успевали… И хотя прямая боевая эффективность подобных «самоделок» была не очень высока (на самом деле правильно срабатывала дай бог каждая пятая из них), сам факт того, что они могут оказаться на взлетной полосе, послужил очень хорошим сдерживающим фактором для немецких летчиков. По результатам допроса пленных, даже несмотря на то, что после первого дня на немецких аэродромах не было замечено никаких «аэродромных мин», немецкие летчики отказывались вылетать на задания без ежеутреннего осмотра взлетной полосы. А уж если на ней была замечена какая-то подозрительная тень…
И у немцев начался хаос. Первые сутки они еще пытались как-то держаться, надеясь быстро восстановить возможности маневра силами и средствами снабжения, но бойцы капитана Куницына быстро развеяли их иллюзии. Нет, безвозвратных потерь немцы по-прежнему несли немного. Но ни одна машина, выйдя из пункта дислокации, не могла быть уверена в том, что приедет на место назначения. Ни одна колонна не могла быть уверена в том, что доберется до конечной точки маршрута без потерь и вовремя.
Иногда огневой налет продолжался всего несколько минут. Две-три винтовки, выпустившие по паре обойм каждая – и русские лыжники растворяются в зимнем лесу. Но солдатам вермахта все равно приходилось разворачиваться в цепь (ну, или выскакивать из кузовов автомобилей, впрочем, уже через неделю пехоте об автомобилях пришлось лишь вспоминать) и залегать, отстреливаясь и ожидая, когда закончится налет. Или вообще брести цепью по пояс в снегу через заснеженное поле к опушке леса, дабы убедиться, что «русиш партизанен», или, вернее, «руссиш диверсантен», и след простыл. Ибо если этого не сделать, то можно нарваться на новый огневой налет. А когда винтовки бьют по плотной пешей колонне или забитому людьми кузову грузовика – это непременно приводит к потерям. Даже если огонь ведется с большой дистанции… Короткий переход на пять километров мог затянуться на десять часов. Двадцатикилометровый марш техники требовал столько же горючего, сколько раньше хватало на двести километров. Огневые налеты русских вызвали шквал ответного огня, так что к районам развертывания подразделения зачастую приходили с уполовиненным боезапасом. А подвоз запаздывал. И немцы не успевали, не успевали, не успевали…
– Товарищ генерал армии, там это, по рации передали – обед готов уже, – подскочил к Жукову порученец. Георгий Константинович молча кивнул, еще раз окинул взглядом все тянущуюся из леса редкую, но непрерывную цепочку крестьянских саней и снова повернулся к десантнику.
– Давай за мной, полковник. Расскажешь, как воевали. И о командире своем тоже. Очень меня он заинтересовал.
– Так точно, товарищ генерал! – просиял десантник. – Командир наш – это… это… короче, я вам так скажу – немцев мы, товарищ генерал, скоро разобьем. Я это твердо знаю.
Жуков, уже подошедший к «эмке», хмыкнул и добродушно кивнул:
– Ну-ну, тогда давай и мне расскажи, как их правильно бить надо…
14
– Николай Никифорович, там это… ну-у… товарища Куницына требу… ой, то есть просят, – на просунутой в приоткрывшуюся дверь физиономии Ниночки, секретарши Яковлева[89], вкупе со вполне обоснованным страхом явственно обозначилось еще и жгучее любопытство. Я усмехнулся про себя. Ну, еще бы – когда к скромному библиотекарю, пусть и весьма привлекательной внешности и, к тому же, явно находящемуся в фаворе у самого директора (как-никак ко всем фондам допустил и к себе вызывает регулярно, интересуется), приезжает (сам, лично!) комиссар госбезопасности третьего ранга и, оцените, просит срочно уделить ему внимание, то это явно вызывает серьезный диссонанс в ранее привычной и вполне себе адекватной картине мира. Согласно которой, кстати, скромные библиотекари всегда находились и будут находиться на самой нижней ступени табели о рангах молодых, симпатичных секретарш, находящихся в процессе поиска перспективного мужа. А этот процесс у Ниночки не смогли остановить ни война, ни бомбежки. Которые, впрочем, прекратились уже почти месяц назад. Когда немцы были отброшены от Москвы настолько далеко, что их бомбардировщикам уже не хватало дальности.
– А кто его спрашивает?
– Это я его спрашиваю, – сообщил входящий в кабинет Кобулов, – добрый день, Николай Никифорович.
– Э-э-э-а, добрый день, Богдан Захарович, – чуть запнувшись, отозвался Яковлев. Из разговоров во время уже ставших почти традиционными наших с ним вечерних «чаев» я знал, что он, несмотря на свою, вроде как сугубо гуманитарную профессию, в молодости состоял в ЧОН и, даже, пару лет был уполномоченным ОГПУ по борьбе с экономической контрреволюцией. Но «слава» Кобулова в интеллигентских кругах Москвы была столь велика и страшна, что общение с ним напрягало даже Николая Никифоровича. Несмотря на всю его партийность и на то, что именно Кобулов договаривался с Яковлевым насчет того, чтобы он принял и, так сказать, пригрел у себя на груди некоего молодого человека, очень сильно интересующегося историей. Причем как древней, так и современной…
Яков Джугашвили благополучно долетел до «большой земли». «Квитанцию»[90] об этом мы получили спустя три с половиной часа после того, как он вылетел с аэродрома Озерки. Спустя двое суток пришло подтверждение того, что предложенный мной план совместных действий моего… ну, батальоном, вероятно, его уже назвать было сложно, поэтому скажем так – моей части[91] и войск Ленинградского фронта принят к рассмотрению. Вследствие чего уже на следующий день мы снизили интенсивность тренингов, которыми занимались все предыдущие три недели, и начали выдвижение из района Полоцка, в лесах вокруг которого базировались, на север.
Нам предстояло пройти по лесам незамеченными более четырехсот километров, что было очень и очень нетривиальной задачей. Несмотря на то, что все освобожденные нами из лагеря командиры и бойцы уже прошли первоначальную подготовку по нашим методикам и были обработаны мною иглами по схеме усиления, что позволяло надеяться на поддержание высокой средней скорости перехода, проблем с этим маршем было немало.
Во-первых – снабжение. После Минска под моим командованием оказалось порядка семисот человек. И для питания такого количества людей требовалось не менее полутонны продуктов в день. А если учитывать, что большинство после пребывания в лагере имело те или иные признаки истощения, и они при этом не просто отдыхали и восстанавливались, а интенсивно тренировались, – то и больше. Но здесь мы потихоньку-полегоньку справились, пользуясь тем, что несколько тысяч выпущенных нами из лагеря и вооруженных бывших военнопленных устроили кровавую резню немцев в Минске и окрестностях (хотя Геринг, сука такая, все-таки уцелел). Они практически уничтожили двести восемьдесят пятую охранную дивизию, подчистили местные полицейские гарнизоны и отдрессировали местных немцев, приучив их сидеть и не высовываться. Это позволило относительно быстро наладить прямые поставки продовольствия из окрестных деревень. Однако на марше организовать снабжение подобными образом будет невозможно. И в новом районе сосредоточения тоже. Ну, если мы не хотим, чтобы до немцев дошли ненужные нам слухи.
Во-вторых – отсутствие карт и незнание маршрутов. Это очень затрудняло если не передвижение вообще, то скрытое передвижение – точно. А весь расчет предлагаемой мной операции был построен именно на том, что немцы до самого последнего момента не должны были подозревать, что у них в тылу сосредоточены столь крупные и, главное, организованные силы. Ибо весь план предложенной мною операции был построен на внезапности… Нет, кое-что в этом направлении я уже предпринял. Так, еще до отлета Якова Джугашвили, я отправил в разведывательный рейд шесть групп сформированных из состава разведвзвода Канареева с ним во главе, с задачей «пробить» маршруты выдвижения и подобрать места под дневки и временные базы.
Ну и в-третьих, у меня образовался некоторый дефицит боезапаса. Минометных мин, например, не было совсем. Хотя самих минометов прибавилось. В настоящий момент в моем распоряжении имелось целых одиннадцать БМ-37. Не лучшим образом обстояло дело и с гранатами, и с боезапасом к польским ПТР – к тем оставалось дай бог по десятку патронов на ствол. С патронами к винтовкам и пулеметам дело обстояло чуть получше. Но именно чуть. Точно так же все было и с патронами к пистолетам-пулеметам. Единственным, с чем мы пока не испытывали особенных проблем, была взрывчатка, которой в захваченных нами мастерских немцы наплавили из скопившихся там снарядов почти двести килограмм. Просто при налете на лагерь мы ее не использовали, а после него мы практически не вели ни боевых, ни диверсионных действий. Потому что тренировались, тренировались, тренировались…
– Здравствуй, дэрагой! – развернулся ко мне Кобулов, сияя самой радушной улыбкой, которую только была способна изобразить его толстая физиономия. – Прости, что отвлекаю. Но ехать надо. Очень надо!
Меня все это радушие не обманывало ни капли, ибо я знал ему цену. Мои отношения с комиссаром государственной безопасности третьего ранга можно было охарактеризовать как вооруженный нейтралитет. Причем не изначально установленный, а, скажем так, установившейся после того, как одна из, так сказать, высоких договаривающихся сторон попыталась прощупать, насколько правильно она оценивает свои возможности и… мягко выражаясь, получила по наглой рыжей морде. Нет, никто не погиб, да и физически пострадало всего человек двенадцать. Причем огнестрельных ранений было только два. И те легкие. Остальные отделались даже не переломами, а ушибами и растяжениями.
– Ну, если надо – значит едем, – улыбнулся я, поднимаясь со стула.
Мой план, который я передал с сыном Сталина, состоял в том, чтобы использовать мою часть для повышения успеха операции по окончательному деблокированию Ленинграда. Несмотря на то, что один из наиболее успешных военачальников СССР во второй половине октября сумел прорвать уже замкнувшееся кольцо вокруг города, отбить населенный пункт под названием Мга и восстановить сообщение с неоккупированной частью СССР по суше, полноценным это восстановление отнюдь не стало. Ибо пользоваться железной дорогой, на протяжении довольно большого участка находящейся в зоне огневого воздействия не только авиации и артиллерии, но и стрелкового оружия, было невозможно, а одна шоссейная и пара проселочных дорог находились в зоне обстрела артиллерии.
К тому же все мосты через Неву, находящиеся под контролем советских войск, также были разрушены, а паромные переправы регулярно уничтожались авиацией, поскольку располагались на расстоянии менее двадцати километров от линии фронта. То есть немецкие бомбардировщики могли атаковать переправы уже через пару-тройку минут после пересечения линии фронта. И через пять минут после атаки уже снова оказывались над своей территорией. Нет, командование Ленинградского фронта отлично понимало значение этих переправ и пыталось всемерно усилить их истребительное и зенитное прикрытие, но имело для этого не слишком много возможностей. С авиацией на Ленинградском фронте было довольно скудно – все было стянуто под Вязьму и Калугу, ибо основные события сейчас разворачивались именно там.
В конце октября немцы начали широкомасштабное наступление на Москву. Да, оно развивалось не очень успешно, в первую очередь потому, что с началом наступления немцы сильно запоздали, и с началом распутицы немецкие войска в значительной мере утратили свое преимущество в большей подвижности. Немецкая техника оказалась не слишком приспособлена к передвижению через столь феерическую и всеобъемлющую грязь. В ней вязли не только грузовики, но и мотоциклы, танки и даже трактора и пехотинцы. Вследствие чего русскому командованию удавалось довольно успешно маневрировать резервами и достаточно своевременно купировать большинство немецких прорывов. Но бои на Московском направлении шли очень тяжелые. К моменту начала нашего выдвижения из района Полоцка на север уже были потеряны Смоленск и Брянск, и бои теперь шли на линии Козельск – Вязьма. Причем, судя по тому, что в настоящий момент полным ходом шла эвакуация предприятий Орла и Калуги, удержать фронт на этом рубеже не слишком-то и рассчитывали.
Так что никаких дополнительных сил на Ленинградский фронт перебросить пока было нельзя. Провести же наступление исключительно силами только одного фронта – в обычных условиях нечего было и думать. Он и так еле сдерживал атаки немцев, упорно пытающихся снова замкнуть вокруг Ленинграда кольцо блокады. Вот я и предложил использовать мою часть для того, чтобы сделать эти условия… ну-у, не совсем обычными. Для немцев.
До окрестностей Луги мы добрались уже к началу декабря. Здесь все было… спокойно. Нет, насколько мне докладывал Коломиец, партизаны здесь были и действовали довольно активно. Во всяком случае, если судить по их же докладам в центр.
Насколько мы могли судить по той информации, которую Коломийцу время от времени сообщали из центра, «отдрессированное» нами командование группы армий «Центр» даже сейчас, во время наступления, все равно непременно выделяло часть сил и средств наступающих подразделений на дополнительную охрану своих тылов (это отвлечение сил, возможно, в какой-то степени сказалось на темпах наступления). Здесь же охрана тыла осуществлялась только и исключительно местными полицейскими и подразделениями двести седьмой охранной дивизии. И все! Ой, непуганые здесь немцы. Ну, просто мечта, а не условия для работы…
Первую неделю мы занимались в основном разведкой, присматриваясь, изучая местность, определяя наиболее «вкусные» цели и намечая наиболее удобные подходы к ним. «Вкусных» набралось довольно много – от штаба армии и штабов армейских корпусов до железнодорожных мостов, аэродромов, складов и артиллеристских позиций. Настолько много, что было ясно, что только собственными силами мы точно не справимся. Впрочем, на это я и не рассчитывал. Моя идея как раз и состояла в том, что, кроме собственно диверсионной деятельности, мы должны были обеспечить возможность появления в тылу у немцев достаточно большой группировки наших войск, способной не только оттянуть на себя часть войск с фронта, но и полностью разрушить им всю логистику.
А что вы думали? Непосредственно военное искусство, тактика – это только самый первый, можно сказать, самый простой уровень. Второй, который здесь идет под названием оперативного искусства – это уже почти исключительно логистика. Как сделать так, чтобы твои подразделения и части оказались в той или иной ключевой точке в определенный момент времени, а части и подразделения противника, способные им помешать, туда бы добраться не успели? Как сохранить подвижность и, соответственно, скорость реакции своих войск и уменьшить их для войск противника? Где сосредоточить снабжение, куда его перебросить и как лишить оного противника? В какой момент будет наиболее выгодно это сделать?.. Ну, и так далее…
На улице нас с Кобуловым ожидал роскошный «Паккард», и это было хорошим знаком. Такие автомобили здесь использовались только самой верхушкой руководства страны. Что ж, значит, все, кто вышел со мной из немецкого тыла, уже опрошены (мне хотелось верить, что обещания Берии – не пустой звук и они именно опрошены, а не допрошены), полученные от них сведения сведены воедино, соотнесены с той информацией, что получена ранее, проанализированы, и теперь со мной готовы поговорить.
Впрочем, вариант, что решено не множить сущности сверх необходимого, и устранение столь непонятной личности сочтено меньшим из зол, также сбрасывать со счетов было нельзя. Ведь «наверху» явно уже поняли, что работать со мной придется на самом высоком уровне. И вполне могли посчитать, что лучше ограничиться синицей в руках, то есть тем, что они уже успели от меня получить, чем подвергать опасности жизни первых лиц в надежде получить журавля в небе. Нерационально, конечно, но вполне допустимо. И вот в этом случае машина вполне могла стать моим гробом. Лаврентий Павлович уже успел убедиться, что кордоны из даже самым лучшим образом подготовленных местных бойцов остановить меня вряд ли смогут. А вот если под машиной, в которой я нахожусь, рвануть хороший фугас…
К пятнадцатому декабря, когда мы уже «обжились» на новом месте и определились с тем, что и как мы будем здесь делать, всем стало ясно, что немецкое наступление на Москву выдохлось. Немцам удалось-таки взять Калугу, но Орел все еще держался, хотя бои шли уже в самом городе. На севере немцы подступили к Ржеву, но остановились в восьми километрах от него. Возможно, у них и были планы дальнейшего наступления, но тут ударили сильные морозы, и вся немецкая военная машина полностью остановилась. А вот советская только готовилась к удару[92]…
Двадцать три моих боевых группы начали выдвижение к намеченным для атаки объектам еще тринадцатого декабря. Самой мощной из боевых групп была та, которой предстояло атаковать Лугу. В ее составе находилось почти треть всех наших сил. Но даже ее для атаки города, забитого немецкими войсками под завязку, было совершенно недостаточно. Даже без учета нашего весьма плачевного положения с боеприпасами… Ну, еще бы – в Луге располагались тыловые склады всей группировки войск, осаждающих Ленинград, несколько штабов, в том числе и штаб двести седьмой охранной дивизии. Но как решить вопрос недостатка наших сил и средств, уже было продумано.
Время до полудня пятнадцатого декабря немцы провели вполне спокойно. А вот где-то после часа дня по всей территории немецкой дислокации начались обстрелы постов немецких войск и полицаев, а также нападения на патрули, отдельные автомобили и небольшие гужевые обозы. Начались большие проблемы с проводной связью. Все это привело к тому, что к исходу дня двести седьмая охранная дивизия потеряла в подобных стычках порядка четверти личного состава, а ее подразделения оказались раздерганы по множеству «горячих точек» без особенной пользы для дела.
Кроме того, вследствие подобных нападений и нанесенных ими потерь, а так же воцарившейся в тылах восемнадцатой армии нервозности, в районе будущей операции практически полностью остановилось передвижение автотранспорта, а связь стало возможно поддерживать только с помощью радиостанций. Ибо телефонные линии внезапно оказались перерезаны, а практически все группы связистов, посланные для их восстановления, были перехвачены «russisch partisanen» и уничтожены. Либо просто пропали.
Все это привело к тому, что немецкое командование закономерно решило, что такой всплеск активности явно неспроста. И приказало привести части на фронте в повышенную боевую готовность. Тем более что разведкой уже давно была выявлена активность противника на нескольких участках фронта. Так что планируемое им наступление никакой неожиданностью не было. И меры противодействия ему также были уже определены и проработаны[93]. Кроме того, на девять утра следующего дня в штабе восемнадцатой армии было назначено совещание, целью которого являлось определение мер, которые необходимо принять для нейтрализации партизанской угрозы. Впрочем, особо серьезной ее не считали. Ибо практически все нападения были совершены исключительно с использованием легкого стрелкового оружия, причем в подавляющем большинстве, одних только винтовок. Хотя уровень владения оружием у нападавших оказался неожиданно весьма высок…
Вторая фаза операции для нас началась в десять часов вечера того же дня. Время было выбрано не случайно: в середине декабря темнело в этих местах уже в пять, так что к двадцати двум часам, по моим расчетам, немцы должны были в основной своей массе уже улечься спать и не мешать нам воплощать в жизнь свои тщательно разработанные планы.
К этому моменту мы с Кабаном, Канареевым, Коломийцем и старшиной Николаевым уже полтора часа как торчали на опушке леса, в семи километрах от Луги, сразу за которым начиналось довольно большое колхозное поле, засыпанное глубоким снегом. И ждали.
– Самолет, – чутко встрепенулся Кабан. Я молча кивнул. Гул самолетного двигателя я услышал еще три минуты назад. В морозном воздухе он разносился довольно далеко. Но сообщать об этом окружающим никакого смысла не было… Кабан обрадованно развернулся в сторону поля и яростно замигал фонариком. После чего в поле перед нами так же замигали огоньки, а затем довольно быстро начала разгораться цепочка костров. Коломиец облегченно вздохнул. Ключевой этап плана, похоже, близился к своему успешному завершению.
Первая эскадрилья установленных на лыжи ТБ-3 приземлилась на наш импровизированный аэродром уже через десять минут. Не глуша двигатели, они подрулили к другой линии костров, более редкой и обозначавшей уже лесную опушку, после чего к ним лихо подскочили четыре десятка саней под загрузку, частью на время одолженных в окрестных селах, частью реквизированных у подвергнувшихся сегодня нападению немецких гужевых обозов. Когда в бортах самолетов распахнулись люки, Коломиец бросил на меня короткий вопрошающий взгляд и, после разрешающего кивка, двинулся в сторону самолетов.
Вернулся он через десять минут с полутора десятками человек.
– Командир шестого парашютно-десантного полка, майор Белоголовцев, – представился один из тех четырех, что двигались первыми, вместе с Коломийцем.
– Командир одиннадцатого парашютно-десантного полка полковник Турбин.
– Командир девятнадцатого тяжелого транспортного полка…
– Старший майор государственной безопасности…
– Командир…
– Значит, так, – негромко начал я, когда все представились, – первый вопрос – сколько войск запланировано к перебросу, с каким вооружением и техникой?
Несмотря на то, что расчет планируемых для операции сил и средств я изложил еще в предложениях, направленных с сыном Сталина, сколько реально мне предоставят в усиление – я до сих пор не знал. И потому, что по прибытии под Лугу мы, в целях соблюдения маскировки и введения противника в заблуждение, почти совсем прекратили пользоваться радиосвязью, и потому, что даже во время последнего сеанса связи, состоявшегося два дня назад, ради которого Коломиец со своими орлами отбегал ажно к реке Саба, точной информации о том, насколько выделенные силы соответствуют моим запросам, я так и не получил. Два комполка десантников переглянулись.
– Ну, с техникой – ясно, – начал Турбин. – Техники не будет. Решили не рисковать. Личного состава, готового к переброске – два полка, около полутора тысяч человек. Из вооружения – стрелковое оружие, пулеметы ДП, а также, если успеем перебросить, около двадцати «максимов», три десятка новых противотанковых ружей конструкции Дегтярева, калибром четырнадцать с половиной миллиметров и, если повезет – шесть ДШК.
Я стиснул зубы. Да, черт возьми, там что – не понимают, что недостаток сил в ключевой точке операции равен ее общему провалу?! Две (с учетом моих ребят) тысячи человек, вооруженных лишь легким стрелковым оружием, смогут здесь только геройски умереть! Причем потерей этих двух тысяч человек дело не ограничится. Точно так же будут умирать и те, кто уже утром начнет биться о фронтовую оборону немцев. И не сможет ее пробить! Ну да ладно – беситься поздно, надо думать, как исправлять ситуацию…
– Почему если повезет? – машинально уточнил я.
– Потому что к моменту нашего отлета на аэродроме их еще не было, – пояснил Белоголовцев. – Застряли где-то.
– Сколько самолетов задействовано в переброске людей?
– Весь мой полк. Двадцать четыре ТБ-3, – коротко доложил летчик. – Каждый должен сделать по четыре рейса. Здесь плечо около ста пятидесяти километров – чуть больше часа полета, плюс загрузка – разгрузка, то-се… Поскольку заправляться нам не потребуется[94], то, получается, часа по три с половиной на рейс. Мы вылетели в девять – последних переправим вам часам к пяти утра. Если, конечно, не произойдет ничего неожиданного.
– Если что и произойдет – так только поломки, – успокоил я летуна. – Два часа назад мои боевые группы начали выдвижение к аэродромам… – это было абсолютной правдой. Причем на этот раз нам пришлось действовать совершенно не так, как мы действовали под Старым Быховом. Мы просто не могли так действовать, потому что группы, выделенные для атак на аэродромы, насчитывали всего по два десятка человек. Большего мы выделить не могли, ибо нам требовалось атаковать сразу девять аэродромов и еще четырнадцать других объектов. Поэтому основной задачей этих групп, в отличие от Быхова, было не уничтожение личного состава и даже не уничтожение техники, а исключение возможности задействования авиации, базирующейся на этих аэродромах, хотя бы на двое-трое суток. Поэтому главный удар они должны были нанести по топливу.
После снятия часовых группы должны были заминировать топливный склад и топливозаправщики. Либо, если подобраться к топливу было по каким-нибудь причинам чревато преждевременным обнаружением, подготовить поблизости позиции для минометов. Мины должны были подвезти на самолетах, причем первым же рейсом, так что уже через полчаса первые сани с грузом мин должны были выдвинуться к заранее определенным позициям… Если минирование топливного склада останется незамеченным, следующими по степени приоритета целями являлись уже сами самолеты. Их можно было облить бензином, заминировать, например, примотав гранату к подвешенной к самолету бомбе и привязав к кольцу с отогнутыми усиками чеки длинную бечеву, вывернуть свечи и залить в цилиндры двигателя воды, набросать песка… короче, с ними можно было сделать все, что можно было бы сделать тихо. И только после этого дело могло дойти до пилотов и техников… Если они ночевали на аэродроме. Если выведение их из строя имеющимися силами не приведет к серьезным потерям. И если их уничтожение не вызовет немедленной реакции находящихся поблизости превосходящих сил противника. То есть бросить гранату в печную трубу землянки на окраине аэродрома или в окно одинокого дома, в котором спят пилоты или техники, – вполне допустимо. А вот атаковать деревню, в которой ночуют пилоты, – уже нет.
– …так что ночных истребителей можете не ждать. Хотя… – я задумался, – совсем гарантировать их отсутствие не могу. Могут наведаться откуда-нибудь из глубокого тыла или с запада. Однако вероятность этого не очень большая. Но это неважно. Главное то, что переброшенных сил и средств – мало.
Я развернулся к майору госбезопасности:
– Мне нужна ваша помощь, товарищ старший майор.
Тот удивленно воззрился на меня, после чего осторожно произнес:
– Слушаю вас.
– Мне нужно, чтобы вы вернулись обратно с первым же самолетом и затребовали через Москву разрешение на немедленную переброску мне артиллерии и минометов. Я вижу ваши самолеты переделаны под полноценные транспортники? – повернулся я к летчику. Тот согласно кивнул.
– Да, во всех сделаны нормальные погрузочные люки.
– Значит, как минимум, «сорокапятки» туда влезут. О минометах и говорить нечего. Кстати, их можете везти почти без боезапаса. В Луге расположены немецкие войсковые склады, так что немецких мин, которыми можно стрелять из наших минометов, здесь до черта. Только разброс побольше будет и траектории покруче. Ну да мои ребята уже под немецкие мины еще под Минском все таблицы составили. Так что загружайте только сами минометы. И минометчиков.
– Но… – начал старший майор.
– Где хотите, – оборвал я его. – Хоть с фронта снимайте. Без дополнительного вооружения и людей Лугу мы не удержим.
– С фронта никого снять не получится, – медленно отозвался старший майор. – Все, кого смогли, задействованы в наступлении. Но люди будут. Для вас сформирована маршевая команда еще примерно в две тысячи человек. Но все они – сборная солянка. В основном выздоравливающие и ополченцы. И только с легким вооружением.
– Командиры есть?
– Есть, но мало, – нехотя отозвался энкавэдэшник. – И не очень того… опытные.
– Ладно, командиров найдем… – а чего бы не найти. У меня две трети личного состава – командиры. Я тут дивизию развернуть могу, если рядовой состав предоставят и младших командиров…
– А орудия и минометы?
Майор нехотя пожал плечами.
– Ну… попробую. Москву надо будет запрашивать…
Я кивнул и развернулся к летчику.
– Все понял, командир? Придется тебе сделать еще пару, а то и тройку рейсов. Светает в это время поздно – часов в одиннадцать, так что должны успеть. Горючего хватит?
– Да горючего-то хватит… – с сомнением протянул летчик, – но…
– Опасаешься, что немцы с запада или юга сюда истребители перебросят? Вряд ли. Все аэродромы вплоть до Пскова мы сегодня ночью прижали к ногтю. А по отдельным площадкам они сейчас не сидят. Не взлетят они с них – мороз. Но на всякий пожарный пусть за полчаса перед рассветом поднимут тебе на сопровождение истребителей. Вон, старший майор позаботится…
Кобулов в машину вместе со мной не сел. Но едва только я заглянул в салон, как всю мою настороженность как рукой сняло. Потому что в салоне находился еще один человек, присутствие которого в плане обеспечения безопасности поездки меня вполне устроило.
– Добрый день, – поздоровался со мной Берия. – Ну как вам наша библиотека?
– Спасибо, очень понравилась, – вполне себе доброжелательно улыбнулся я.
В Государственную библиотеку СССР им. В.И. Ленина я попал, как в том древнем анекдоте, где муж купил жене шубу, и она после этого две недели с ним не разговаривает. А на удивленный вопрос приятелей: «Почему?», муж гордо отвечает: «А такое было условие!». Вот и у меня тоже такое было условие. Ибо тех сведений, которые я уже успел почерпнуть из моего, пусть даже очень широкого и разностороннего круга общения, включающего в себя как рядовых бойцов из разных и часто очень далеко расположенных друг от друга мест этой страны, так и высший командный состав вплоть до комкора, а также того, что я смог отыскать в книгах, газетах и журналах из деревенской школьной библиотеки и разных пособий, приказов, наставлений и руководств, имеющихся в секретной части корпуса, – мне было недостаточно. Тем более что узнавать информацию от людей мне приходилось очень осторожно. Ну, чтобы своим интересом не породить у них настороженность и отчуждение. Не стать для них чужим. Хотя, некоторую чуждость они во мне все-таки чуяли. Отсюда и предположения насчет моей «коминтерновости», так сказать, и осторожные вопросы насчет того, как долго я жил за границей или «где ж такому учат?». Но пока все это было в рамках «свой, но особенный» – беды в этом не было. А вот если все это изменится на «не свой», тогда точно – жди беды…
Вот поэтому после того, как мы с Берией, так сказать, определились с этикетом, и мне было предложено озвучить свои требования насчет того, на каких условиях я готов рассматривать предложения по сотрудничеству, я и попросился в библиотеку. В первую очередь для того, чтобы поглубже познакомиться с местной историей. Ну, не только конечно. Я жадно читал философов, социологов, экономистов и демографов, лингвистов. Но не потому, что они могли сообщить мне что-то новое. Отнюдь нет! Подавляющее большинство текущих теорий для меня являлись этакой милой коллекцией научных заблуждений, а кое-что и просто дремучим суеверием.
Как, например, господствующая, в настоящий момент, в этой стране экономическая теория, основные принципы которой были разработаны почти сто лет тому назад[95] немецким экономистом-теоретиком по фамилии Маркс[96]. По моему мнению, социально-экономическая теория, совершенно не учитывающая ни господствующего менталитета социума, ни географических и климатических особенностей ареала его проживания, ни обеспеченности природными ресурсами, ни (уж куда дальше-то) особенностей социальной машины по воспроизводству национальной элиты, и заявляющая, что все параметры любого социума жестко и однозначно задаются практически исключительно отношением социальных страт данного социума к средствам производства, – просто по определению не может быть работоспособной. Однако здесь и сейчас ее пытались использовать не только как основу для экономики, но и даже как основу для научных теорий. И совершенно ясно, что ни к чему, кроме серьезного отставания в развитии только зарождающихся научных направлений, которые в данный момент еще не являлись критичными ни для промышленности, ни для военного дела, но вполне способные стать таковыми в будущем, это не приведет[97]. Но эти «милые глупости» были важны для меня в контексте понимания того, что именно здесь и сейчас признается в качестве научной истины. Которая, кстати, очень редко хоть как-то совпадает с истиной реальной. Как это было, например, в найденном мной здесь в одном из томов забавном примере, в котором было описано, как лучшие, самые образованные и продвинутые представители научного сообщества, объединенные в самоуправляемую организацию под названием «Академия наук Франции», в конце XVIII века безапелляционно заявили, что камни с неба падать не могут. Потому как наукой точно установлено, что небо – не твердь! И все, кто заявляет о подобной чепухе, – суть лгуны и мракобесы, льющие воду на мельницу темных клерикалов.
Вот и здесь я искал такие же маркеры, которые показали бы мне, что уже готово принять современное общество, а о чем пока и речи заводить не стоит. Что сегодня считается истиной, что – ложью. Что – допустимо, а что – табу… А еще я очень удивился количеству запрещенного. Нет, поймите меня правильно, я вполне допускаю, что есть вещи, которые по тем или иным причинам стоит запретить. Для кого-то. На какое-то время. Но с запретами нужно быть очень и очень аккуратными. Потому что любые запреты искажают реальность. Более того, очень часто запреты, вроде как призванные защитить социум, на самом деле сильно ослабляют его. Потому что не дают ему возможности выработать иммунитет к тому вредному и мерзкому, от которого этот запрет пытается этот социум оградить. И когда эта мерзость, наконец-то, прорывается в социум (а это непременно случается, рано или поздно), существенная часть составляющих его людей начинают ее радостно практиковать, считая, что тем самым демонстрируют всем свою свободу, цивилизованность, незашоренность и все такое прочее. Так что мне эти запреты в первую очередь показывали, насколько еще молода и неопытна местная власть.
А кроме того я просто читал книги. Разные. От сказок до того, что здесь относилось к серьезной литературе. Язык – вообще один из основных каналов изучения социума. Если привести грубую аналогию, то любой язык – это операционная система, с помощью которой работают человеческие мозги. Но для меня важным был не только язык, со всем многообразием его коннотаций, но и сама литература. Например, такой ее параметр, как наиболее популярные образы героев. Потому что сисанами давно установлено, что если «герой» – действительно герой[98], деятель, человек, идущий вперед и преодолевающий трудности, значит социум на подъеме. Если же популярны противоположные образцы – страдающих людей, людей, одержимых страстями, людей, попавших под безжалостный каток этого мира и не нашедших никакого выхода, людей, зацикленных исключительно на собственных переживаниях, значит, социум загнивает, и в течение ближайших десятилетий его ждут серьезные внутренние потрясения. И дело тут вовсе, в недостатках пропаганды или недоработках идеологов. Люди, которым интересны именно такие герои, – уже внутренне больны. И запрещай тут или не запрещай подобные публикации, либо сколь угодно рьяно пропагандируй настоящих ήρως – ситуацию это не изменит. Умерла кошечка…
А вообще социум имеет огромное количество маркеров. Вот, например, употребление спиртного. Этот параметр очень интересен и многогранен. И дело тут далеко не только во вкусе и крепости употребляемых напитков, но и, например, в том, запивает ли данный социум спиртным еду или, наоборот, заедает выпитое… Но это так – мелкие «виньетки» на большом полотне, выстраиваемом сисанами. Профессионалы в области системного анализа способны работать с несколькими тысячами подобных маркеров. Мои же скромные способности, к сожалению, ограничивалась полутора сотнями. Из которых, до того момента как я попал в библиотеку, я сумел отобрать и означить всего около семи десятков. А остальными занялся только сейчас. Ибо к тому моменту, когда (ну и если, конечно) меня допустят под светлые очи политического руководства страны, я должен был уже иметь что сказать и… уметь это сказать так, чтобы меня услышали…
Когда машина тронулась – я откинулся на подушки сиденья и, закрыв глаза, вспомнил о своих ребятах. Интересно, что с ними сейчас?
Если честно, вся операция была проведена, как говорится, на живую нитку. Нет, Лугу-то мы взяли относительно легко. И первые сутки операция также развивалась словно по нотам. Во всяком случае, в моей зоне ответственности. Немцы просто оказались совершенно не готовы к тому, что в их тылу воцарится такой хаос. И к тому, что их возможности как контрбатарейной борьбы, так и прямого артиллерийского противодействия атакам наших войск окажутся серьезно подорваны. И к тому, что советская авиация будет едва ли не ходить у них по головам, а вот немецкая первые двое суток почти не появится в воздухе. И к тому, что выдвигающиеся для парирования советских ударов войска буквально увязнут в сонме «булавочных уколов»: коротких минометных налетов, а также обстрелов из стрелкового оружия и пулеметов маршевых колонн. Что в самых неожиданных местах окажутся заложены фугасы. Пусть и маломощные, чаще всего способные лишь оторвать колесо у автомобиля, но их наличие, тем не менее, заставит колонны остановиться и пустить вперед саперов, пешком и вручную, щупами проверяющих полотно и обочины дорог. Что те участки дорог, к которым вплотную подступает лес, окажутся просто завалены стволами деревьев, часть из которых, к тому же, окажется пусть и примитивно, но заминирована. И потому опять нужно будет вызывать и ждать саперов. И лишь только потом приступать к разборке… Да, каждый из этих завалов можно было ликвидировать за час-два, но спустя три-пять километров колонну ждал еще один такой же. А потом еще.
То есть каждый из этих «булавочных уколов» почти не наносил никакого урона. Даже потери от минометного и пулеметного огня, как правило, ограничивались лишь ранеными. Но их было много. И они отбирали у немецкой военной машины наиболее в данный момент драгоценный ресурс – время.
Так что даже подготовленная немецкая оборона, лишенная авиационной и артиллеристской поддержки, своевременного подвоза боеприпасов и подхода резервов, начала потихоньку рассыпаться. Поэтому к исходу вторых суток наступления советские войска не только сумели взломать оборону противника на трех участках фронта, но и ввести в прорыв… ну, наверное, это можно назвать конно-механизированными группами. А как еще можно назвать соединение, состоящее как из танков, причем, преимущественно старых типов – Т-26, Т-38 и БТ (все, что смогли собрать, ибо вся новая техника шла прямиком под Москву, где двадцатого декабря также началось масштабное наступление), так и из пехотных частей, в принципе совершенно обычных, но… посаженных на сани. На санях же везли и средства усиления в виде пулеметов и минометов, и мины для инженерного оборудования позиций, и боезапас, и даже радиостанции, с помощью которых, сквозь треск и хрипы, наводили авиацию на застрявшие немецкие колонны.
Организацией подобного «застревания» также занимались и мои ребята (из числа тех, что не обороняли Лугу, а атаковали аэродромы, артиллерию и т. п.), предварительно обойдя немцев узкими лесными дорожками и заперев их, заняв какое-нибудь лесное или речное дефиле, которое по текущей погоде было ну никак не обойти. Ненадолго. На час, на два. Только чтобы успели подлететь самолеты и несколько раз проштурмовать скученные на дороге и вдоль нее немецкие войска. Потом эти группы бесследно исчезали, чтобы появиться через десяток километров в очередном дефиле. И снова исчезнуть после еще одного короткого боя. Так что немцы умело оборонялись, маневрируя, перебрасывая резервы, но при этом их потери, вследствие подобной тактики, резко возросли. И потому они начали откатываться назад, теряя людей, быстро умирающих на морозе даже от не слишком опасных в любых других условиях ран, бросая сломавшуюся и застрявшую технику, оружие, в котором намертво схватилась смесь нагара (после очередного боя некогда и негде было почистить оружие) и не приспособленной к подобным морозам смазки…
Эта охватившая почти пять тысяч квадратных километров сумбурная, кровавая, суматошная вакханалия, когда все наши и немецкие части оказались перемешаны так, что никто не мог сказать, кто кого окружил, кто кого взял в котел и куда надо отступать (или наступать), чтобы выйти к своим либо отрезать чужих, продолжалась более трех недель. И все эти три недели единственной неизменной реальностью, которая притягивала к себе силы обеих противоборствующих сторон, была Луга. Именно ее все это время немцы стремились взять – яростно, упорно, не считаясь с потерями, бросаясь в атаку снова и снова. И именно к ней все это время пытались пробиться наши. Так же яростно. Так же упорно. Так же не считаясь с потерями. Она стала мечтой, целью, фетишем!
И… Лугу мы не удержали. Ночью, седьмого января тысяча девятьсот сорок второго года около пятисот человек пошли на прорыв из города, в северном направлении и, спустя трое суток, пройдя по лесам и болотам около шестидесяти километров, вышли к устоявшейся линии фронта в районе села Чолово. Это было все, что осталось от гарнизона Луги, который, с учетом всех подкреплений, как переброшенных по воздуху по моему требованию, так и мобилизованных на месте, на пике своей численности превышал пять тысяч человек. Но… после окончания этой странной, фантасмагорической, проведенный скорее вопреки, чем согласно канонам современной военной науки операции – Ленинград оказался снова связан со страной аж тремя ветками железной дороги. А самый близкий к фронту участок наиболее приближенной к нему Октябрьской железной дороги располагался в тридцати четырех километрах от передовой. И кто после этого посмел бы утверждать, что это была не победа?..
– Подъезжаем, – негромко произнес Берия.
Я открыл глаза и посмотрел в окно.
Эпилог
Человек стоял у окна и смотрел на снег. Его трубка уже давно погасла, но он этого не замечал. Он не замечал ничего – ни деревьев за окном, ни заваленной снегом беседки, да что там говорить, он не замечал даже снега, укрывавшего все вокруг толстенным белым одеялом. Потому что он до сих пор переживал только что закончившийся разговор…
Разговор почти сразу перешел в просто-таки фантастическую плоскость. С первого же предложения, с того момента, как гость представился.
– Мое настоящее имя Арсений Александр Рэй, и я – гвардеец императора…
В этот момент, прямо в первую секунду, хозяин кабинета почувствовал острое сожаление от мелькнувшей мысли: «Все-таки британец…», но уже следующие слова полностью смыли это сожаление. А те, что последовали дальше, ввергли его в настоящую оторопь.
– …около тысячи трехсот лет. В ее состав входят примерно девять с четвертью сотен планет. А ее линейные размеры по эклиптическим осям галактики составляют…
Если честно, несмотря на весь свой опыт и выдержку, он минут на пять вообще выпал из разговора, улавливая из произносимого собеседником только отдельные куски. Потому что эта информация меняла всё. Ну, то есть совсем ВСЁ. Ибо даже эта великая, чудовищная война, которая сейчас шла, и в которой такому могучему государству, каким стал Советский Союз, приходилось напрягать все свои силы просто для того, чтобы выжить, после всего услышанного мгновенно переходила в разряд мелкого туземного столкновения между полудикими племенами на дальнем острове. Так сказать, деревня на деревню. Ибо, судя по рассказу, м-м-м… гостя, в освоенном человеком космосе подобные боестолкновения шли регулярно. Конечно, чаще всего, не столь масштабные – все-таки армии суммарной численности в десятки миллионов штыков дрались друг с другом не каждый день, но и такие тоже. В конце концов, озвученное число в девять с четвертью сотен планет – это… да это в несколько раз больше, чем сейчас на планете Земля существует государств[99]!
А ведь империя, как выяснилось, хоть самое большое и сильное, но отнюдь не единственное человеческое государство. Да и к тому же есть еще и иные разумные расы, в большинстве своем так же не отличающиеся миролюбием… И все это здесь, рядом, отделенное всего лишь несколькими днями, неделями, ну, или, в лучшем случае, несколькими месяцами перелета. А с тем уровнем развития, который имеет то, галактическое человечество, людям Земли от него НИКАК не защититься. Ибо имеющиеся на Земле технологии по сравнению с теми, которыми обладают люди и иные разумные с других планет, – каменный век. А много ли помогли уникальные умения в обработке камня и та же многочисленность инкам и ацтекам, когда на их землю ступили вооруженные стальным оружием конкистадоры? Которым, кстати, так же приходилось добираться до Америки из Европы несколько месяцев. Тем более что далеко не факт, что эти вступившие на Землю вообще будут людьми. Что тогда?
Когда к хозяину кабинета вернулась способность продолжать беседу, он первым делом осторожно поинтересовался:
– Зачем вы здесь?
– Случайно, – вздохнул гость. – Во время проведения боевой операции произошел сбой, после которого я и оказался у вас. Голый, безоружный и даже без сознания.
Так вот чем вызвано то, что этот… этот… это пришелец, сразу стал пользоваться земным оружием. Впрочем, он может и врать…
– А как быстро вы… ваши… вас можно будет отыскать? – осторожно поинтересовался хозяин кабинета. Гость усмехнулся и пояснил, что не думает, что этот смогут сделать быстро. К тому же этот момент очень сильно зависит от того, куда именно он попал.
– …не уверен, возможно вы – потерянная колония, хотя раньше считалось, что это всего лишь анекдоты сисанов… Хотя за это очень много аргументов – язык, близкий к общеимперскому, совпадение понятий, например, мне никому не надо было объяснять, кто такой император, хотя отношение к этому слову в вашем обществе, к сожалению, в большинстве резко отрицательное. Или, скажем, абсолютное совпадение значения термина «батальон». Также не является абсолютно невозможным вариант, что я попал в далекое прошлое. К сожалению, более-менее широко у нас изучается история начиная со времени расселения человечества в галактике. Все, что было ранее – привилегия профессиональных историков. Так что здесь я не очень компетентен…
Хозяин немного повеселел. Нет, даже вариант, при котором сидящий перед ним собеседник попал сюда каким-то образом перенесшись в далекое прошлое – не давал полного успокоения. Потому что, по его же словам, несколько нечеловеческих рас вышли в космос за несколько тысячелетий до первого контакта с людьми. И некоторые из них были достаточно агрессивными… Впрочем, появление у Земли агрессивных нелюдей могло бы, пожалуй, стать и позитивным фактором. Заставить людей Земли хоть как-то объединиться. Вот только при такой разнице в технологиях то, что люди смогут пережить столкновение с агрессивной расой, чьи технологии достигли уровня межзвездных перелетов, было отнюдь не очевидно. Но большая отдаленность Земли, не важно, во времени, либо, в случае с потерянной колонией, в пространстве (ну не обнаружили же их до сих пор) позволяла надеяться, что какое-то время до контакта еще есть.
На этом фоне, даже заявление о том, что даже в более развитом обществе (или в отдаленном будущем) коммунизм не только не стал единственным или хотя бы господствующим социальным строем, но и вообще нигде не состоялся, как-то не сильно расстроил. Хотя инопланетный гость выразился вполне определенно:
– Коммунизма у нас нет, и я даже понять не могу, как это может работать в масштабах хотя бы немного больших, чем, скажем, религиозная секта. Экономика, построенная только на добровольном и, главное, абсолютно всеобщем и всеобъемлющем соблюдении моральных норм, причем, не устоявшихся естественным способом, а искусственно выведенных, вне рамок жестко-ортодоксальной религиозной общины, – это сказка. Или бред. А вот социализм, как одна из разновидностей мобилизационного варианта экономики, время от времени в разных секторах случается. Но ненадолго. Как правило лет на тридцать-сорок, максимум пятьдесят…
Но это создавало вопросы. Действительно ли социализм настолько нежизнеспособен? Или это просто какой-то неправильный социализм? По первым рассказам инопланетного гостя получалось именно так… Во всяком случае, так казалось хозяину кабинета, до того момента, когда гость, прервав жаркий монолог хозяина, в котором он пытался убедить своего собеседника, что явление, называемое социализмом, там, у них, не имеет ничего общего с тем подлинным народовластием и полным равенством, которое обеспечено любому советскому человеку, окинув этаким демонстративным взглядом кабинет, насмешливо поинтересовался:
– А не скажете, сколько человек здесь работает?
– Работает? – недоуменно переспросил хозяин, оглядев свой просторный кабинет.
– Ну да, – кивнул гость. – Все эти горничные, повара, охрана, водители… человек сорок, пятьдесят?
– Не знаю, – настороженно ответил его собеседник. – Никогда этим не интересовался.
– Ну, да, это вполне типично, – усмехнулся гость и, уже не столько поинтересовался, а, скорее, поерничал: – Но живете здесь, насколько я понял, только вы один?
– Это… этот дом мне не принадлежит, – разозлился хозяин. – И я пользуюсь всем этим только пока я…
– Ну так и ни один из ваших императоров с собой в могилу свой дворец или дворцы не забрал, не так ли? – спокойно прервал его гость. – И, кстати, как долго собираетесь этим пользоваться вы? Десять лет? Двадцать? Или так же, как и ваши цари – до момента смерти? В таком случае это «не принадлежит» – совершенно не работает.
Именно в этот момент хозяин кабинета решил, что непременно уйдет со своего поста сразу после войны. После того, как победим, выиграем, загоним нацистского зверя в его берлогу и там и прикончим… Чтобы никто и никогда не посмел больше проводить подобных аналогий!
– Не обижайтесь, – мягко произнес гость. – Это не упреки. Просто для конструктивного разговора мне было нужно, чтобы вы избавились от некоторых своих уже сильно устоявшихся иллюзий. И мы смогли бы говорить с вами дальше на честном языке, в котором не будет даже нечаянной или привычной лжи.
Поймите, с соционической точки зрения то, что вы называете социализмом, не является изобретением парочки тех несколько излишне истеричных и пафосных немецких экономистов XIX века по текущему вашему летоисчислению, перед которым так преклонялись создатели вашей идеологии и вашего государства. Очень похожие экономические модели встречались у вас и ранее. В Древнем мире, в том же Древнем Египте, или в Средневековье, например, в Средневековом Китае. И там, и там были сильно урезаны права частных собственников, вплоть до того, что вся земля, как основная нефинансовая ценность того времени, считалась этакой общенародной собственностью, формально принадлежащей одному лицу – фараону или императору, причем не как физическому лицу, а как олицетворению нации. В первую очередь потому, что ни фараон, ни император не были способны никак монетизировать это свое право владения как собственник, помимо обычной для этих государств налоговой системы. И там, и там основная власть принадлежала тому или иному варианту бюрократии. И там, и там удалось осуществить огромные, чрезвычайно сложные технологические проекты, вполне сравнимые с вашей индустриализацией – например, ирригационные сооружения в Египте или Великая стена в Китае…
– Так ви что, считаете, что ми строим Средневековый Китай? – с едва сдержанной злостью спросил хозяин кабинета, от волнения заговорив с ярким акцентом. Но гость спокойно покачал головой:
– Нет. Я считаю, что вы строите империю. И я готов вам в этом помочь. Потому что, хоть я не очень большой специалист по психосоционике, но знаю, что наши сисаны считают доказанным, что наиболее устойчивым типом государства, к тому же обладающим максимальными возможностями как к экспансии и технологическому развитию, так и к наиболее полному удовлетворению потребностей человека, настроенного на личностное развитие, является именно империя…
Хозяин кабинета некоторое время помолчал, а затем усмехнулся:
– Теперь мне понятно, зачем вы попросились в библиотеку, – потом он еще немного помолчал. А затем неожиданно спросил:
– А кто такие сисаны?
– Это – жаргонное сокращение. Полное название – системные аналитики.
Хозяин кабинета встал и прошелся по кабинету, остановив так же попытавшегося встать гостя движением руки. После чего снова опустился на свое место.
– И чем же вы собираетесь нам помогать?
– Во-первых, я помогу вам закончить войну…
– Ну-у, войну мы сможем выиграть и без вашей…
– …с минимально возможными потерями, – тихо продолжил гость, – и наиболее выгодной для вас послевоенной конфигурацией сухопутных и морских границ.
Хозяин кабинета около минуты обдумывал его слова, а затем молча кивнул и произнес:
– Хорошо. Но у меня есть вопрос – вы настаиваете на том, что… то государство, которое вы хотите помочь нам построить, должно непременно называться империей?
– Нет, – мотнул головой гость, – во всяком случае, на первом этапе это совсем не обязательно. Но вам все равно надо будет заняться реабилитацией этого слова. Потому что если вы – потерянная колония, будет неразумно, если именно ваше государство окажется наименее готовым к контакту с Империей из-за подобного глупого негатива. А если я оказался в прошлом – Империя все равно будет создана. Как бы вы к этому не относились. И, опять-таки, вы из-за этого можете упустить шанс стать ее основой, ее ядром.
После этих слов в кабинете повисла довольно долгая тишина. Потом хозяин снова встал, подошел к окну и, постояв так несколько минут, негромко спросил:
– Вы можете помочь нам с освоением ваших технологий?
– Не слишком много, – задумчиво отозвался гость. – Я имею университетское образование и некоторую практику работы в качестве сисана, так что кое-что подсказать смогу. Но именно кое-что. Слишком уж большая разница в уровне между вами и Империей. У вас даже технологии, основанные на распаде ядер тяжелых элементов, совершенно неизвестны, так что о гравитонных или полисинтетических процессах и говорить нечего. Впрочем, методики общей, групповой и личностной психосоционики, я думаю, будут вполне себе применимы после минимальной адаптации. Атак же методики личностного развития. Да и часть из тех жалких крох экономического структурирования, которыми я обладаю, вполне может прозвучать для ваших ученых божественным откровением.
Хозяин кабинета снова на некоторое время задумался, а потом решительно кивнул головой:
– Хорошо, я вас понял. На этом пока закончим наш первый разговор. Я должен обдумать все, что вы мне рассказали.
Гость молча встал, коротко поклонился и вышел. А хозяин кабинета остался у окна, с потухшей трубкой в руке…
Примечания
1
Так сказать – медицинский факт. Большинство выигравших в лотереи, так или иначе теряет свои деньги в течение первых трех-пяти лет. Несколько примеров:
Вивиан Николсон – одна из самых знаменитых победительниц лотереи, выигравшая в 1961 году 3 миллиона долларов (более 100 миллионов долларов в современных ценах). На вопрос журналистов: «А что вы будете делать с выигрышем?» заявила, что будет «тратить, тратить, тратить!». Потратила все деньги за 5 лет. За это время успела выйти замуж пять раз, окончательно овдоветь, пережить инсульт, стать алкоголичкой, вылечиться от алкогольной зависимости, попытаться два раза покончить жизнь самоубийством и провести некоторое время в дурдоме. Сейчас она пенсионерка без семьи и работы, которая живет на свою пенсию в 300 долларов.
Келли Роджерс. Эта девушка была самым счастливым подростком на планете. Она выиграла в лотерею 1,9 миллионов евро, когда ей было 16 лет. К 22 годам у нее в активе было 2 попытки самоубийства, 2 ребенка и работа горничной. Денег – нет.
Майкл Кэррол – 15 миллионов. Безработный 26-летний британец пошел в супермаркет, чтобы купить бутылочку пива, но «к сожалению» у него не хватило денег, и тогда он купил два лотерейных билета. Результат – развод с женой, игровая зависимость, беспорядочные связи, наркотики. Сегодня Майкл Керрол работает мусорщиком и зарабатывает 5 долларов в час.
Уильям Пост живет на социальное пособие, несмотря на выигрыш в лотерею более 16 миллионов долларов.
Джеффри Дампайр, выигравший 20 миллионов в лотерею, был убит жадными родственниками.
Но, наверное, самым примечательным примером для живущих в России будет семья Мухаметзяновых из Уфы, выигравшая в 2001 году миллион долларов. Вдумайтесь – миллион долларов! В России! В 2001 году! Деньги кончились через год. Все. А через пять лет, в 2006 году, мать семейства похоронили по минимальному тарифу. Оградка – 1200 рублей, памятник – 800, а на фотографию на памятнике денег не хватило.
(обратно)2
ДСП – для служебного пользования. Первый уровень закрытия информации. Следующим считалась секретная, затем совершенно секретная информация и последним, самым высоким – особой важности.
(обратно)3
Поднять карту – нанести на карту обстановку: расположение своих подразделений и частей, войск противника, маршруты выдвижения, районы сосредоточения, обозначить проходимость дорог, допустимую нагрузку мостов и т. п.
(обратно)4
Автор знает, что генерал-майор Еремин был ранен 22 июля, а 28 июля во время переправы через Сож – убит, но считает, что действия главного героя в тылу немцев, описанные в первой книге цикла, уже привели к некоторому изменению реальности. Например, разгром штаба 293-й пехотной дивизии явно должен был привести к хотя бы частичному сбою управления. Перебои с топливом, вызванные подрывом захваченных немцами топливных складов РККА, а также разгром маршевых подразделений, отправляющихся для пополнения передовых частей – слегка замедлить продвижение. Ненадолго – на несколько часов, возможно, на день-два. Но в этом случае наши вполне могли бы, например, успеть взорвать мост в Борисове. А это еще два-три, а то и больше дней задержки наступления. Да и вообще, в этом случае бои за Борисов вполне могли привести к тому, что, скажем, 18-я танковая дивизия вермахта, и в реальной истории потерявшая за время этих боев половину своих танков, к их исходу, могла бы стать полностью небоеспособной и была бы выведена на переформирование. А осуществленный бойцами батальона главного героя подрыв мостов через Березину еще больше сдвигает сроки начала Витебского сражения и дает нашим войскам больше времени на развертывание и оборудование позиций. Следствием чего (вкупе с отсутствием 18-й танковой дивизии и другими потерями) может стать, как минимум, не полностью удавшийся котел под Оршей и, как следствие этого, – совершенно другие результаты всего Смоленского сражения. То есть ситуация на фронте в реальности книги уже (хоть пока еще и не очень значительно) отличается от той, что была в исторической реальности и (авторской волей) генерал-майор Еремин на конец августа так же жив-здоров.
(обратно)5
Истребители-бипланы разработки Поликарпова И-15-бис и И-153 к началу войны практически не были способны сражаться ни с одним немецким истребителем и догнать большую часть немецких бомбардировщиков, поэтому чаще всего использовались как штурмовики. И показали себя очень неплохо, так как имели в качестве вооружения четыре пулемета ПВ или ШКАС скорострельностью до 1800 выстрелов в минуту и могли нести до восьми РС-82 под крылом либо до 200 кг (и больше) бомб.
(обратно)6
Народный комиссариат государственной безопасности впервые был создан в феврале 1941 года и просуществовал всего несколько месяцев, до июля того же 1941. И до нового воссоздания НКГБ в апреле 1943 года Управление государственной безопасности являлось подразделением НКВД. Поэтому слово «госбезопасность» в 1941 уже появилось, но сотрудников этого комиссариата часто продолжали именовать энкавэдэшниками.
(обратно)7
По оценкам историков, одной из причин (хоть и не самой важной) столь стремительного наступления немецких войск летом 1941 было то, что оно выдалось именно очень сухим и жарким. Вследствие чего многие местности, ранее считавшиеся непроходимыми для танков и автотранспорта, в это лето оказались вполне проходимыми. А это, в свою очередь, предоставило немцам, обладающим и большим опытом наступления, и многочисленными моторизованными подразделениями разведки, заметно большие возможности для маневра и обходов советских войск.
(обратно)8
«Сидор» – жаргонное название армейского вещмешка.
(обратно)9
Пожалуйста. (Нем.).
(обратно)10
Да? (Нем.)
(обратно)11
УНА-Ф-31 – полевой телефонный аппарат. Принят на вооружение РККА в 1931 году.
(обратно)12
Да, да, конечно, господин капитан! (Нем.)
(обратно)13
Кюбельваген – Volkswagen Тур 82 (Kьbelwagen) – германский автомобиль повышенной проходимости военного назначения, выпускавшийся с 1939 по 1945 год.
(обратно)14
В отличие от РККА в вермахте практически не использовались автомобили-цистерны, а топливо перевозилось в бочках и канистрах.
(обратно)15
Hiwi или Hilfswilliger (желающий помочь) – так называемые «добровольные помощники» вермахта, набиравшиеся (в том числе, мобилизовавшиеся принудительно) из местного населения на оккупированных территориях СССР и советских военнопленных. Первоначально они служили во вспомогательных частях водителями, санитарами, саперами, поварами, охранниками и т. п. Позже «хиви» стали привлекать к непосредственному участию в боевых действиях, операциях против партизан и к карательным акциям.
(обратно)16
Вполне себе распространенная практика для 1941 года, опробованная немцами задолго до нападения на СССР в других странах и отлично зарекомендовавшая себя.
(обратно)17
Пистолетные патроны кроме собственно пистолетов использовались еще и пистолетами-пулеметами – ППД, ППШ и т. д.
(обратно)18
Стой! (Нем.)
(обратно)19
БМ-37 – батальонный миномет калибра 82 мм, образца 1937 года.
(обратно)20
Максимальная скорострельность БМ-37 составляла до тридцати выстрелов в минуту.
(обратно)21
Главный герой служил в войсках, устроенных на совершенно других принципах, поэтому, несмотря на то, что он изучил достаточно много руководящих документов, он пока не знает, что носимый (возимый) боекомплект и штатный боекомплект на подразделение/часть/соединение – две большие разницы. Так что в тыловых запасах полка и дивизии, как правило, хранится дополнительный боекомплект ко всем видам оружия, состоящим на вооружении полка и дивизии. Вследствие этого немедленные проблемы с боекомплектом и топливом немцам пока не грозят. Но вот чуть позже…
(обратно)22
При ведении огня из орудий, в основном предназначенных для ведения навесного огня, то есть гаубиц, мортир или минометов, используется несколько типов метательных зарядов, различающихся навесками пороха. Например, у вышеупомянутой sFH 18, таковых было восемь. При этом заряд № 1 обеспечивал начальную скорость снаряда в 210 м/с, что давало максимальную дальность полета снаряда всего в 4 км, но зато при максимальном возвышении ствола – очень крутую траекторию, позволяющую успешнее поражать цели в окопах, траншеях, щелях, за высокими вертикальными укрытиями и т. п., а заряд № 8 – 520 м/с и 13 325 м дальности.
(обратно)23
Согласно секретной справке, подготовленной в 1934 году оперативно-учетным отделом ОГПУ, около 90 тысяч кулаков (и приравненных к ним лиц) погибли в пути следования и еще 300 тысяч умерли от недоедания и болезней в местах ссылки.
(обратно)24
Применение тракторов и иной сельхозтехники в сельском хозяйстве действительно резко повышает производительность труда, но утверждение о том, что это возможно только в условиях крупного коллективного хозяйства – ложно. Все зависит от площади земли у частника и производительности конкретного образца сельхозтехники. Например, тот самый трактор «Фордзон», лицензию на который купили в 1923 году, был специально разработан для небольшого фермерского хозяйства. И в США он использовался именно мелкими и средними фермерами, поскольку был универсальной машиной. Более крупные хозяйства предпочитали специализированные машины. Кстати, по некоторым оценкам, одной из причин того, что купили лицензию именно на «Фордзон», было то, что в начале 1920-х годов никто не собирался отказываться от Декрета о земле, и планировалось и далее, наряду с кооперативным, развивать и индивидуальное крестьянское (фермерское) хозяйство, будучи уверенными в том, что «освобожденный из-под гнета помещиков сельский труженик» решит все проблемы. Впрочем, в какой-то мере до 1930 года так оно и было. Проблемы были не в крестьянах, а в качестве управления…
(обратно)25
Двадцатипятитысячники – рабочие крупных промышленных центров СССР, которые во исполнение решения Коммунистической партии были направлены на хозяйственно-организационную работу в колхозы в начале 1930-х годов, в период коллективизации сельского хозяйства. Более неподготовленных для сельского хозяйства людей и представить себе трудно. Это были люди чисто рабочих специальностей – ткачи, литейщики, кожевники, а большая часть двадцатипятитысячников, около шестнадцати тысяч, состояли в союзе металлистов. С учетом полной неподготовленности этих людей в качестве руководителей и в области сельского хозяйства и агрономии, для первичной подготовки их к работе в деревне были созданы специальные курсы. И эти две-три недели были единственным образованием большинства этих людей в области сельхозпроизводства. Впрочем, некоторые из них смогли еще пару-тройку месяцев «постажироваться» в некоторых совхозах, но это было скорее исключением. Коллективизацию им провести удалось, но результатом хозяйствования подобных кадров стало катастрофическое падение валового сбора зерна. Так, в 1930 году (последнем, перед началом компании сплошной коллективизации, развернувшейся после XVIII съезда ВКП(б), состоявшегося в июне 1930 года) валовый сбор зерна составил 83,5 млн тонн. А вот в 1931 – уже только 69,5 млн тонн, 1932 – 68,4 млн тонн, 1933 – 68,6 и так далее. И это несмотря на массовое поступление в колхозы техники, вызванное началом производства тракторов на Харьковском и Сталинградском тракторных заводах и производства зерноуборочных комбайнов на Запорожском заводе «Коммунар» (1930). Показатель 1930 года смогли превысить только в 1937 году. Но результат оказался неустойчивым и следующие два года сборы снова оказались ниже 1930 года. Несмотря на то, что к 1937 году только в составе МТС уже имелось более 350 тыс. тракторов. То есть использование сельхозтехники при подобной организации труда, в отличие от мировой практики, привело не к повышению, а сначала к катастрофическому падению производительности труда, а потом лишь к восстановлению его уровня. Но сельским хозяйством дело не ограничилось. Отвлечение на проведение коллективизации 27 519 квалифицированных рабочих и техников (а именно столько, по учетам, было двадцатипятитысячников), которые, к тому же, были наиболее мотивированны в политическом плане (а других отправлять проводить коллективизацию было просто бессмысленно), вызвало столь резкое падение качества продукции и производительности труда и в промышленности, что исправлять это пришлось чрезвычайными мерами.
(обратно)26
Котовский был застрелен 6 августа 1925 года во время отдыха в совхозе Чебанка Мейером Зайдером по кличке Майорчик, бывшим в 1919 году адъютантом Мишки Япончика. По другой версии, Зайдер не имел отношения к военной службе и не был адъютантом «криминального авторитета» Одессы, а был бывшим владельцем одесского публичного дома, где в 1918 году Котовский скрывался от полиции. Документы по делу об убийстве Котовского были засекречены. Мейер Зайдер не скрывался от следствия и сразу заявил о совершенном преступлении. В августе 1926 года убийца был приговорен к десяти годам заключения. Находясь в заключении, практически сразу же стал начальником тюремного клуба и получил право свободного выхода в город. В 1928 году Зайдер был освобожден с формулировкой «За примерное поведение». Работал сцепщиком на железной дороге. Осенью 1930 года был убит тремя ветеранами дивизии Котовского. У исследователей есть основания полагать, что компетентные органы располагали информацией о готовившемся убийстве Зайдера. Тем более, что ликвидаторы Зайдера не были осуждены.
(обратно)27
Жаргонное название учащихся ФЗУ – фабрично-заводских училищ.
(обратно)28
К окончанию Гражданской войны промышленное производство на территории вскоре образованного СССР составляло только 14 % от уровня 1913 года, производство сельскохозяйственной продукции едва достигало 40 %. Если же учитывать, что в 1914–1916 годах был зарегистрирован 20 % рост промпроизводства, и именно в это время в стране было развернуто серийное производство авиадвигателей, почти полной номенклатуры инструмента и станков, началось производство подшипников, а к 1918 году должны были заработать шесть новых автомобильных заводов, а также несколько авиационных, то падение выглядит еще более катастрофическим.
(обратно)29
Диктату́ра пролетариа́та – в марксистской теории форма политической власти, выражающая интересы рабочего класса. Существует мнение, что эта форма власти была применена на практике во время Парижской коммуны и большевиками в первоначальный период существования Советской России и СССР, где она реализовалась в виде власти компартии, осуществлявшей диктатуру от имени пролетариата, хотя реально пролетариат от власти был отстранен.
(обратно)30
Строки из «Песни о Родине», написанной Василием Лебедевым-Кумачом и Исааком Дунаевским для фильма «Цирк» (1936 г.). Оцените аллюзию, самой свободной страной объявлялась страна, в конституции (Конституция РСФСР 1918 г. и Конституция СССР 1924 г.) которой официально было записано, что ее власть является диктатурой. Причем, это была не просто декларация. На этой основе было сформировано все законодательство и правоприменительная практика. Причем, не только уголовное. Например, детям из семей, принадлежавших к бывшим высшим сословиям, было практически невозможно поступить в высшие учебные заведения, для них существовали запреты на некоторые профессии и т. п. Даже если эти дети родились уже после 1917 года и были вполне себе коммунистического мировоззрения. Ограничения накладывались просто по факту социальной принадлежности родителей.
(обратно)31
Вороши́ловский стрело́к – нагрудный значок Осоавиахима и РККА для награждения метких стрелков.
(обратно)32
«Гото́в к труду́ и оборо́не СССР» (ГТО) – программа физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях в СССР, основополагающая в единой и поддерживаемой государством системе патриотического воспитания молодежи.
(обратно)33
НКВД СССР было образовано в 1934 году путем слияния НКВД РСФСР и ОГПУ СССР.
(обратно)34
Тайная полевая полиция (GFP) – военная полиция Третьего рейха. Группы и команды ГФП являлись исполнительными органами полевых и местных комендатур. Подчинялись разведке и контрразведке военных формирований вермахта, полевым и местным комендатурам. Исполняли функции гестапо в зоне боевых действий, во фронтовых и армейских тылах.
(обратно)35
SD (рус. СД) – Слу́жба безопа́сности рейхсфюрера СС основана в 1931 году как спецслужба НСДАП и связанных с ней отрядов СС, но начиная с 1939 года подчинялась Главному управлению имперской безопасности (РСХА).
(обратно)36
Полевая жандармерия (нем. Feldgendarmerie) – подразделения военной полиции армии Германской империи и Третьего рейха.
(обратно)37
Гла́вное управле́ние импе́рской безопа́сности RSHA (рус. РСХА) – руководящий орган политической разведки и полиции безопасности Третьего рейха. Создано 27 сентября 1939 года в результате объединения Главного управления полиции безопасности и СД.
(обратно)38
Несмотря на то, что большинство считает, будто зондеркоманды – это исключительно и только каратели или охрана концлагерей, на самом деле это название обозначает всего лишь «специальный отряд» (Sonderkommando по-немецки). Так что функции подобных подразделений были достаточно обширны – от прямых карательных действий до поиска и задержания диверсантов, работы с документами и, например, сокрытия следов преступлений путем перезахоронения или сжигания трупов. Чем, например, занималась зондеркоманда 1005.
(обратно)39
Бранденбург-800 – специальные подразделения (сначала батальон, затем полк, а с 1943 г. – дивизия), специально предназначенные для диверсионных и разведывательных действий в тылу врага. Созданы в 1940 году. Место дислокации – Бранденбург.
(обратно)40
Наш ядовитый гном – прозвище генерала Готхарда Хейнрицы, в описываемое время командующего 43-м армейским корпусом.
(обратно)41
Операция по захвату Дании и Норвегии. Часто ее называют «действием, совершенным с отсутствием здравого смысла». Морская десантная операция Германии в зоне полного господства британского флота Метрополии с любой точки зрения выглядела абсурдом, обреченным на поражение. При этом всю группировку войск в Норвегии планировалось снабжать через аэродромы Дании, которую так же еще предстояло захватить. А если вспомнить, что над западной границей Германии в этот момент нависала куда более многочисленная и более вооруженная армия Франции, с которой Германия уже семь месяцев как находилась в состоянии войны, а в операции были задействованы почти половина авиации (с учетом транспортных задач и готовности к противодействию английскому флоту), почти весь наличный флот и пусть и не очень большая (около 120 тыс.), но состоящая из наиболее подготовленных и элитных войск группировка сухопутных и специальных войск, то даже сама мысль о чем-то подобном у военного профессионала должна вызвать подозрения в собственной адекватности. Впрочем, возможно, дело было в том, что кто-то предоставил руководству Третьего рейха ОЧЕНЬ большие гарантии отсутствия серьезного противодействия…
(обратно)42
Ничего личного – только цифры. В репрессиях 1937–1938 годов было убито, погибло под стражей или покончило жизнь самоубийством три (из пяти, состоявших на службе в РККА в 1936 году) Маршала Советского союза, девятнадцать (из пятнадцати) командармов первого и второго ранга (на первый взгляд забавная цифра – убили больше, чем имелось в штате, но это потому, что репрессии длились долго и к ранее арестованным со временем присоединялись вновь назначенные), шестьдесят четыре (из шестидесяти двух) комкора, пять (из шести) флагманов флота первого ранга, сто тридцать один (из двухсот двадцати одного) комдива. И это еще не учитывая тех, кто отсидел несколько лет в тюрьме, а потом все-таки был выпущен. По моему убеждению, это одна из коренных причин тяжелейшего поражения РККА в 1941 году. Сами подумайте, как оказалась подготовлена к войне армия, у которой было арестовано и уничтожено или брошено в тюрьму более восьмидесяти процентов всех командиров от комдива и выше. Или, если это действительно был заговор военных против Сталина, и все аресты произведены правильно и 100 % обоснованно (во что я лично не верю), чем могло руководствоваться абсолютно подавляющее число высшего командного состава РККА (60 % маршалов и все 100 % командующих армиями, флотами и командиров корпусов РККА), составившее этот заговор?
(обратно)43
Курт Штудент – германский генерал-полковник, участник Первой и Второй мировых войн, летчик-ас Первой мировой войны. Основатель и первый командующий германских воздушно-десантных войск.
(обратно)44
Автор знает, что на самом деле на описываемое время 51 JG уже базировался в Смоленске. Но здесь Смоленск еще не взят.
(обратно)45
Перед войной и в начале войны несколько выпусков летных училищ пришли в войска в сержантском звании.
(обратно)46
«Ночь длинных ножей» – расправа Гитлера над штурмовиками СА, произошедшая 30 июня 1934 года. Во время нее было убито более тысячи человек из состава СА, СС и членов НСДАП. Впрочем, было некоторое количество и других жертв, часть из которых не имела к нацизму никакого отношения.
(обратно)47
Так в люфтваффе называли летчиков, которых в наших ВВС называют «ас».
(обратно)48
Многие (в т. ч. главный герой) считают, что эту фразу сказал Наполеон. На самом деле ее произнес Сократ.
(обратно)49
Аллегро, рондо, менуэт и соната – четыре части классической симфонии.
(обратно)50
Жаргонное название советских ручных противотанковых гранат РПГ-40 и РПГ-41. На самом деле они весили больше килограмма. РПГ-40 – 1,2 кг, а РПГ-41 даже 1,4 кг.
(обратно)51
Германия на протяжение нескольких веков представляла из себя этакую федеральную империю, части которой – курфюршества, герцогства, королевства, архиеписковства и так далее, обладали достаточной долей суверенитета, то есть имели свои армию, полицию, таможни, собственное законодательство, обладали правом чеканки монеты и, естественно, имели свое собственное правительство. Подобное положение продолжалось до самого конца Первой мировой войны. Например, последние короли Баварии Людвиг III и Саксонии Фридрих Август III отреклись от престола только в ноябре 1918.
(обратно)52
Donnerwetter – черт побери.
(обратно)53
Это правда. И в нашей истории Мельдерс погиб в ноябре 1941 года во время перелета из Крыма, в котором еще вовсю шли бои, в Германию, когда летел на похороны Эрнста Удета.
(обратно)54
Геринг действительно был истребителем-асом Первой мировой войны и с июля 1918 командовал элитной, лучшей немецкой истребительной эскадрильей «Рихтгофен».
(обратно)55
Vae victis (лат.) – горе побежденным. Крылатое выражение, которое подразумевает, что условия всегда диктуют победители, а побежденные должны быть готовы к любому трагическому повороту событий.
(обратно)56
Наиболее массовая на тот момент в люфтваффе модификация Ju-87В, выпускавшаяся с сентября 1938 по август 1941 года, имела боевой радиус действия 600 км.
(обратно)57
Эрих фон дем Бах (Залевски) – обергруппенфюрер СС и генерал полиции – с июня 1941 верховный фюрер СС в Центральной России и Белоруссии.
(обратно)58
Не совсем так. Действительно, в мае 1941 было развернуто десять новых охранных дивизий, сформированных на базе пехотных. Но для этого формирования было использовано всего три пехотные дивизии. Так из 207-й пехотной были сформированы 207-я, 281-я и 285-я охранные дивизии, а из 221-й пехотной – 221-я, 444-я и 454-я охранные. Но то, что для формирования новых охранных дивизий был использован личный состав, на базе которого могли бы быть сформированы боевые подразделения – достоверный факт.
(обратно)59
В конце июля немецкое командование уточнило сроки достижения целей плана «Барбаросса». Взятие Москвы и Ленинграда планировалось не позднее 25 августа, достижение рубежа Волги – начало октября; захват Баку и Батуми – начало ноября.
(обратно)60
В реальной истории Киев был сдан 19 сентября.
(обратно)61
Академик Бурденко действительно регулярно выезжал на фронт, где лично провел несколько тысяч операций. В 1941 году во время переправы через Неву был контужен.
(обратно)62
Николай Нилович Бурденко прошел Русско-японскую и Первую мировую. Во время гражданской принял большое участие в организации военных госпиталей РККА.
(обратно)63
В реальной истории приблизительно в это время, в конце сентября 1941 года под Москвой, при осмотре раненых прибывшего с фронта военно-санитарного поезда у генерала Бурденко произошел инсульт, в результате которого он почти полностью лишился слуха, два месяца провел в больнице, был отправлен в эвакуацию и смог вернуться в Москву только в апреле 1942 года. А через четыре года, пережив еще два инсульта, генерал умер.
(обратно)64
Медаль «В память 13 марта 1938 года» – медаль Третьего рейха в честь аннексии Австрии Германией.
(обратно)65
Шеврон старого бойца – особый знак отличия в виде шеврона, выделявший старейших членов СС.
(обратно)66
НСДАП – Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (нем. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) – социалистическая рабочая партия, ставившая перед собой цель – построение социализма в одной отдельно взятой стране, но, в отличие от многих других социалистических и коммунистических партий, так же ставящих перед собой такие цели, еще и только для одной (немецкой) нации (или, как они считали, расы). Существовала с 1920 по 1945 год. Лидер – Адольф Гитлер. Члены партии часто ошибочно именуются фашистами. На самом деле правильное название – «нацисты» или «наци». Фашистами именовались итальянские «наци», так как это слово – производное от названия организации, созданной и возглавляемой Б. Муссолини – «Итальянский союз борьбы» (по-итальянски «Fasci italiani di combattimento»). Вот по первому слову названия – «fasci», их и стали именовать фашистами.
(обратно)67
Освенцим.
(обратно)68
«Возвращенные земли», или Рейхсгау – земли, которые когда-то входили в состав Священной римской империи германской нации или II рейха, которые, после оккупации, были отторгнуты у оккупированной страны и включены непосредственно в состав III рейха.
(обратно)69
Sutzhaftlagerführung – надзор за заключенными. Во главе обычно стоял sutzhaftlagerführe. Кроме него в отделе могло быть еще несколько сотрудников разного ранга.
(обратно)70
Ла́зарь Моисе́евич Кагано́вич – советский государственный и партийный деятель, близкий сподвижник Сталина. В описываемый период – нарком путей сообщения.
(обратно)71
Поскольку в органах государственной безопасности того времени звания считались на две ступени выше армейских, майор государственной безопасности соответствовал армейскому комбригу.
(обратно)72
В текущей реальности битва за Смоленск не привела к его сдаче, битва за Киев так же еще не закончена, так что немецкое наступление на Москву еще не началось и, следовательно, эвакуация из Москвы пока тоже не планируется.
(обратно)73
Эсаулов Анатолий Александрович – в описываемое время начальник следственной части 3 управления НКВД СССР.
(обратно)74
Кобулов Богдан Захарович – с февраля 1941 – заместитель наркома государственной безопасности, с июля (после упразднения НКГБ) – заместитель наркома внутренних дел СССР.
(обратно)75
В реальной истории Киев был взят 19 сентября. Наши потери при этом составили более 700 тыс. человек, в том числе безвозвратные (убитые, пропавшие без вести и пленные) – более 600 тыс. Генерал Кирпонос погиб вместе со своим штабом. Кроме того, уже 30 сентября немцы начали операцию «Тайфун» – наступление на Москву.
(обратно)76
В реальной истории именно с захватом Мги и выходом к побережью Ладожского озера, состоявшимся 30 августа, началась блокада Ленинграда. Если Мга была бы отбита в 1941 – блокады бы не было. Но от берега Ладожского озера до Мги всего 18 км. Так что, по масштабам, операция действительно местная. А про то, чем обернется полноценная блокада, здесь пока еще ничего не известно.
(обратно)77
ГЦОЛИФК – Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры имени И.В. Сталина.
(обратно)78
В 1940–1943 воинские звания обозначались геометрическими фигурами на петлицах. Три квадрата (кубаря) соответствовали званию старший лейтенант. Черный цвет петлиц означал принадлежность к артиллерии, танковым или инженерным войскам.
(обратно)79
В реальности на базе этих мастерских немцы в 1942 создали завод «Гросс-К-Верк», на котором работало более 5000 человек. Именно на базе этого предприятия после освобождения Белоруссии был создан знаменитый МАЗ.
(обратно)80
Немцы были мастерами в использовании чужого вооружения. Так они широко использовали в войсках трофейную бронетехнику (как чешские LT vz.35 и LT vz.38, которые в 1941 году находились на вооружении пяти танковых дивизий и составляли почти четверть танкового парка рейха, или наши Т-70, Т-34 и КВ, которыми вооружались отдельные батальоны), артиллерию (из наших – гаубица-пушка МЛ-20 калибра 152 мм, Ф-22 калибра 76 мм, минометы калибра 120 мм, производство которых немцы даже наладили на своих заводах), стрелковое оружие (например, СВТ, а ППД, переделанные под патрон для «парабеллума», стали на какой-то момент даже вторыми по численности пистолетами-пулеметами в вермахте после знаменитых МР-38/40).
(обратно)81
Кроки – боевой графический документ, представляющий из себя сделанный от руки чертеж (план) участка местности с наиболее важными ориентирами. В том числе и временными – насыпь, яма, куча камней, остатки техники и строений.
(обратно)82
Убить всех!
(обратно)83
В январе 1941 года Жуков принял участие в двух двухсторонних оперативно-стратегических играх на картах на тему «Наступательная операция фронта с прорывом УР». На первом этапе он командовал «западными», атакующими с территории Восточной Пруссии. Несмотря на то, что он, по условиям учений, должен был наступать, а «Восточные», во главе с генералом Павловым, имели полуторное превосходство в силах (а в танках аж трехкратное), учение было остановлено посредниками в тот момент, когда перешедшая в контрнаступление ударная группировка «Восточных» оказалась полностью разгромленной. На втором этапе игр, он командовал «Восточными», отражавшими агрессию «Западных», «Юго-западных» и «Южных» на территории Украины и Бессарабии. Вторая игра завершилась принятием «Восточными» решения об ударе на Будапешт, прорыву к озеру Балатон и форсированию Дуная. По итогам военных игр Жуков был выдвинут Сталиным на пост начальника Генерального штаба.
(обратно)84
Жуков с большим уважением относился к этим людям. Об Уборевиче он писал так: «…я должен все же сказать, что лучшим командующим округом был командарм 1 ранга И.П. Уборевич. Никто из командующих не дал так много в оперативно-тактической подготовке командирам и штабам соединений, как И.П. Уборевич и штаб округа под его руководством».
(обратно)85
Увы, комдивов не хватило. Все так и произошло в 1941. Об уровне подготовки высших и средних командиров перед войной говорят, например, такие факты: даже среди командующих армиями были лица, не имевшие высшего военного образования. Или – из 225 человек, вызванных летом 1940 года на сборы командиров полков (полков, блин!), лишь 25 окончили военные училища, а 200 – только КУРСЫ МЛАДШИХ ЛЕЙТЕНАНТОВ(!).
(обратно)86
Реальный факт. Именно этим, например, в первую очередь были вызваны остановка производства уже принятых на вооружение танков КВ-2 и Т-50 и отказ от производства уже утвержденного модернизированного варианта Т-34 – Т-34М. Хотя его производство уже в 1941 году было запланировано в объеме 2800 единиц.
(обратно)87
На разных этапах битвы за Ленинград наступающие немецкие войска уступали в численности обороняющимся советским минимум в полтора раза.
(обратно)88
Винтовочная пуля на дистанции 1000–1200 м пробивает сталь толщиной 2–4 мм. А станковый пулемет с выставленными и закрепленными винтами наводки способен вести на таком расстоянии достаточно кучный огонь.
(обратно)89
Николай Никифорович Яковлев – директор Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина с января 1939 г. по июль 1943 г.
(обратно)90
Квитанция – в радиоделе квитанцией называется сообщение, подтверждающее факт установления связи и/или получения необходимой информации.
(обратно)91
Различают следующие типы воинских формирований: взвод, рота, батальон – считаются подразделением, отдельный батальон и полк – частью, бригада, дивизия, иногда корпус – соединение, все, что выше – объединение.
(обратно)92
В реальной истории наступление советских войск под Москвой началось 5 декабря, а Любаньская наступательная операция (да-да, та самая, закончившаяся трагедией Мясного бора) – 7 января. Здесь же планируется практически одновременный удар. К тому же, на самом деле операция «Тайфун» тоже началась еще 30 сентября, намного раньше, чем в реальности книги. Так что и наступательный потенциал немцев должен был исчерпаться несколько позже. Хотя сам наступательный потенциал, вследствие куда более долгого и тяжелого для немцев протекания операции по захвату Киева и оккупации большей части Украины, а также непрерывных попыток восстановить блокаду Ленинграда тут тоже был куда меньшим, чем в реальности.
(обратно)93
То же самое произошло в реальной истории. Именно тем, что немцы сумели вскрыть подготовку к нашему наступлению, и объясняется в первую очередь провал Любаньской наступательной операции.
(обратно)94
ТБ-3 при полной загрузке имели дальность перелета в 3200 км и могли развить максимальную скорость до 200 км/ч. В описываемой ситуации дальность перелета – около 150 км в один конец. В два – до 300.
(обратно)95
Манифест Коммунистической партии вышел в 1848 году, «Капитал» – в 1867.
(обратно)96
Создатель марксизма К. Маркс ни одного дня не проработал на реальном предприятии, в банке или торговой компании. То есть в реальной экономике. Единственной профессией, которую он когда-либо практиковал, была журналистика. Тема же его диссертации на соискание степени доктора философии (начальная ступень научного звания на западе – аналог советского кандидата наук, единственное научное звание К. Маркса) звучала так: «Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура».
(обратно)97
Именно так произошло с такими науками, как, например, генетика и кибернетика. Причем, ведущий мировой специалист в области генетики даже не в СССР, а в мире (!) – академик Николай Вавилов, был попросту убит в тюрьме, в Саратове, в 1943 году. Но только этими двумя областями научной деятельности дело отнюдь не ограничилось. Именно «марксистскому подходу в науке» мы обязаны накопившимся к 1991 году отставанием советской науки по множеству научных направлений в мире – от тех же пресловутых информационных технологий и производства интегральных микросхем до последних неудач в являвшейся гордостью СССР сфере космических исследований. При этом талантами страна отнюдь не оскудела, и прорывные идеи русскими учеными по-прежнему продолжали выдвигаться и во времена СССР. Одним из примеров того, как это делалось, является история с выдвинутой академиком и членом РСДРП с 1898 года, Ольгой Борисовной Лепешинской теорией «живого вещества». Для критики и устранения оппонентов и продвижения своей теории (впоследствии всеми признанной антинаучной) она (на самом деле весьма неплохой и заслуженный ученый) использовала якобы «полное соответствие моей теории марксистско-ленинско-сталинскому теоретическому наследию». Более того, она в 1935 году обратилась в Комиссию партийного контроля ВКП(б) с предложением назначить следствие по делу директора Биологического института им. Тимирязева Б.П. Токина, одного из первых ее критиков, и, как она отметила в скобках, сына кулака и эсера. А также написала жалобу самому Сталину: «В течение нескольких лет я пыталась собственными силами победить те препятствия, которые ставили мне в научной работе не только реакционные, стоящие на идеалистической или механистической позиции ученые, но и те товарищи, которые идут у них на поводу… Работы, являющиеся продолжением моих прежних работ, получивших высокую оценку со стороны тов. Лысенко, выходя из моей лаборатории, залеживаются в архивах дирекции, не читаются и не ставятся на доклады».
Нет, свары между учеными существуют в любой стране мира. Но только в СССР они систематически являлись предметом разбирательств высших партийных и государственных органов и только в СССР научных оппонентов можно было не просто опозорить и лишить возможности заниматься научной деятельностью, но и посадить в тюрьму, либо подвести под расстрел.
Именно этим во многом объясняется тот факт, что СССР, содержа ЧЕТВЕРТЬ научных работников мира, сумел вырастить только ДЕВЯТЬ нобелевских лауреатов в области науки. Нет, всего премий выходцами из Российской империи, СССР и современной России получено – 16 при 20 награжденных (в некоторых случаях награждались группы авторов). Но в их число входили и премии в других областях, как, например, премии Солженицына и Пастернака в области литературы или Нобелевская премия мира Горбачева. К тому же некоторые премии из этих областей я считаю скорее АНТИзаслугой СССР (например, ту же премию, полученную Горбачевым, в первую очередь, как мне кажется, за действия по развалу этого государства). А всего Нобелевскими премиями за время ее существования было награждено около восьми с половиной сотен человек. Соотнесите цифры: 25 % всех научных работников мира и всего около 1 % научного признания, и посчитайте уровень эффективности.
(обратно)98
Геро́й (от др. – греч. ήρως, «доблестный муж, предводитель») – человек исключительной смелости и доблести.
(обратно)99
При создании ООН в 1946 году его устав подписало 50 государств. С принятием 14 июля 2011 года, в члены ООН Южного Судана, число государств – членов ООН составило 193.
(обратно)




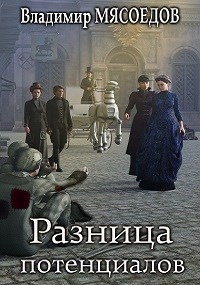




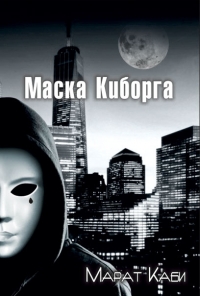

Комментарии к книге «Кадры решают всё», Роман Валерьевич Злотников
Всего 0 комментариев