Руслан Шабельник Пути Господни
Пролог
— Победа порождает ненависть, побежденный живет в печали. В счастье живет спокойный, отказавшийся от победы и поражения.
— Что это, Учитель? Буква речей твоих преисполнена непостижимой мудрости.
— Не называй меня учитель. Видишь стрелку, что указывает путь к секторам текстильщиков — она много мудрее меня, ибо знает свой Путь. Видишь табличку, предупреждающую об опасности на люке утилизатора — она много мудрее меня, ибо ведает, что за ней — опасность. Даже вы, называющие себя учениками, мудрее меня, ибо двигаетесь начертанным путем.
Кто укажет путь Учителю, кто предупредит об опасности, кто начертает линию, начало которой есть начало пути, а конец — его завершение.
— Учитель, разве есть у Пути конец?
— Сказано мудрыми — есть у Пути начало — нет Конца. Но мудрые тоже Учителя.
— Чему учишь ты, Учитель?
— Что было, то и будет, и что творилось, то творится, и нет ничего нового под солнцем.
Ягве сказал нам:
— Не убий.
— Не прелюбодействуй.
— Не кради.
— Не лжесвидетельствуй.
— Не желай ничего, что у ближнего твоего.
Мы продолжали убивать, прелюбодействовать и завидовать, и поклоняться Ягве, произнося имя непроизносимого всуе.
Прошло время.
Будда сказал нам:
— Не убивай.
— Не воруй.
— Не прелюбодействуй.
— Не лги.
Мы продолжали убивать, лгать, воровать, прелюбодействовать и почитать его, как Бога.
Прошло время.
Аллах сказал нам:
— Не убивай.
— Не прелюбодействуй.
— Не кради.
— Не свидетельствуй криво.
— Не желай того, чем Бог одарил других.
Мы продолжали прелюбодействовать, отбирать чужое, лжесвидетельствовать и убивать именем его.
Бывает, скажут о чем-то: смотри, это новость! А уже было оно в веках, что прошли до нас.
Ученики учатся у учителя, учитель учится у учеников, у неученых и вновь проходит Путь, пройденный другими.
— Зачем же тогда учиться, Учитель?
— Зачем цветет цветок, ведь в положенный срок опадут лепестки? Зачем трава пробивается к солнцу? Чтобы умереть с наступлением холодов? Зачем яблоки наливаются соком? Чтобы закончить свой путь в желудке вепря? Зачем учиться? Я учу, чтобы узнать ответ на этот вопрос. Зачем учитесь вы, пусть каждый решит для себя.
— Мы учимся, чтобы познать Истину.
— Истину невозможно познать, истина изменчивей языков пламени, морских волн, песка, носимого ветром. Вот единственная истина, вот в чем я уверен. И только этому могу научить.
***
Не убивай.
Не лги.
Не кради.
Не прелюбодействуй.
Миритесь и соглашайтесь.
Почитай других, как себя.
Делись с нуждающимися, помогай страждущим.
Не делай другому ничего такого, чего не сделал бы себе.
Я не бог.
Глава 1 Заветы
— Вы проповедуете свое учение, новую религию, каково ваше место в ней? Воплощение божества, сам бог, пророк, мессия?
Эммануил вздохнул. Кровавые глаза кинокамер, блеск вспышек фотоаппаратов — сияние славы; поросль микрофонов — иллюзия вечности. Широко распахнутые глаза, полуоткрытые в готовности рты и жала языков, предвкушая, увлажняют сохнущие губы.
Ждут.
Везде одно и то же. Похожие вопросы, словно списанные с единого шаблона. Хотя, так и есть. И этот шаблон — общество, система, породившая, питающая индивидуумов и питающаяся сама. Рождающая их, штампующая партиями на лишенном души и угрызений совести конвейере. Одинаковые мысли, одинаковые ценности, одинаковая мораль, одинаковые… вопросы.
Они не могут, не способны, да и не хотят понять чужие, отличные от общепринятых устремления. Даже в них, они ищут подоплеку, основу, след собственных ценностей.
Подвох.
Выгоду.
Напрочь лишенные альтруизма, сострадания, жертвенности во имя близкого, сталкиваясь с этими качествами, с упорством ребенка, сующего большую игрушку в меньшую коробку, они пытаются втиснуть новые, незнакомые понятия в коробки собственного мировоззрения, общепринятого, общеустраивающего уклада.
Общество, как и большинство, может ошибаться.
Общество видело Землю плоской, а она, словно насмехаясь, распухла до размеров шара. Общество видело ее центром вселенной, а она оказалась крошечной песчинкой в бескрайних просторах галактики. Общество видело солнце небольшим слепящим шаром, а оно сделалось огромным раскаленным облаком.
Общество, как и большинство из которого состоит это общество, особенно большинство, как верхушка, которая руководит этим обществом, особенно верхушка, способны ошибаться.
Равно как и не ошибаться.
Эммануил вздохнул.
Общество ждало.
— Боже упаси!
По залу прошел шепоток — бог просит сам себя.
— Чтобы мои слова не казались тавтологией, скажу сразу — я не пророк, не мессия и, уж конечно, не бог.
И снова шепот. Скажи он иное и общество поймет. Кто-то осудит, кто-то двинется следом, но это будет вписываться в общество, его ценности, устройство.
Эммануил вздохнул.
— И я не проповедую религию! В том-то и отличие моего… учения, да, можно сказать, учения — абсолютная, полная свобода вероисповедания. Любого. Обрядов, молитв, имени божества. Естественно, при условии, что это не ущемляет свободу и ценности других.
— О-о-о!
Такого общество еще не видывало. Но ничего, и радио некогда было редкостью. Общество привыкло, общество переварило, общество поставило на службу себе. Поставит и это. Главное, разобраться, где подвох, как извлекается выгода.
Эммануил вздохнул.
— По сути, все религии, во всяком случае, доминирующие, проповедуют одно и то же.
В зале поднялся шум. В зале присутствовали приверженцы различных вероисповеданий. В зале знали о бушующих на востоке войнах, о террористических актах, в основе которых лежали именно религиозные противоречия.
— Одно и то же! — повысил голос Эммануил, безуспешно пытаясь перекрыть возмущение зала. — Начиная от заповедей — универсальные: не убий, не укради, почитай бога, и заканчивая ритуалами: ежедневные молитвы, приношения… Ни одна религия, я повторюсь, ни одна, не требует от исповедующих насилия и убийства себе подобных.
И снова в зале поднялся гул. Свежо было воспоминание о речи одного из религиозных лидеров, призывающего с оружием в руках бороться против иноверцев.
— Ни одна! — и снова голос разума поглотил гул опыта. — Религии погрязли в буквоедстве и формальности ритуалов. Когда за правильно расставленными свечами не видно бога, за буквами святых писаний теряется слово.
Христианство, при проповедовании любви к ближнему, породило инквизицию и крестовые походы. Буддизм, считая священной жизнь, любую жизнь породил самураев. Ислам — джихад, в данный момент это слово превратилось в почти синоним — война, а ведь означает всего-навсего “усилие”, усилие на пути Бога. И так далее. Примеров множество.
Руку подняла одна из репортерш в дальнем ряду зала.
— Все это не ново. Ваши идеи сродни направлению хиппи — было такое движение в середине двадцатого века.
Эммануил кивнул.
— Я читал о нем. Называйте, как хотите. Хиппи — пусть будут хиппи. Однако, насколько я помню, хиппи были противниками власти, любой власти, как средства подавления свободы человека. Власти страны, границ, семейных уз, обычаев и так называемых «общепринятых норм». Более того, активно выступали против нее. В моих же речах нет призывов ломать существующий строй, лозунгов для активной борьбы. Власть, в разумных пределах, наверное, необходима.
— Только где они, эти разумные пределы! — хохотнули в зале.
Верно — где эти пределы.
— Мы говорим о моральных ценностях, мы воплощаем различные социальные программы, судя по отчетам и вложенным средствам — весьма успешно, а между тем преступность достигла небывалых высот. Что самое страшное — именно подростковая, детская преступность. По статистике — каждая пятая девушка становится проституткой, более того — и это самое страшное — они сознательно идут, мечтают о подобной карьере, не видя ничего плохого в продаже тела за деньги. Юноши — так или иначе связывают свою деятельность с преступной средой — от уличных банд до наркосиндикатов. Средства массовой информации, кино, телевидение сделали преступников, гангстеров почти героями, эдакими Робин Гудами, полублагородными разбойниками. У каждого времени — свои герои. К сожалению, у нашего — такие. В этом, не в последнюю очередь, виноваты и вы — журналисты.
Надо же — он кинул им обвинение, а они сидят, улыбаются, словно услышав лестный комплимент.
— Включим телевизор, любой канал, в любое время, наугад — убийства, грабежи, разбой и разборки. Трупы, кровь. Откроем газету — то же самое. Мы смакуем насилие, а хорошие новости помещаем на последней странице. Нет рейтинга — нет места на первой полосе, забывая, что сами создали полосу такой.
— Что же вы предлагаете? В разрез с реальностью печатать слюнявые рассказы?
Общий смех.
— Что я предлагаю…
Он прав, этот шутник из зала.
Заполни хоть все страницы рецептами с портретами пухлых домохозяек — убийства не прекратятся. Разве самую малость. Требовалось изменить общество, саму суть, сломать хребет массовому сознанию.
Он не революционер. Все знают, чем кончались подобные ломки.
— Невозможно построить идеальное общество в отдельно взятой стране, как невозможна абсолютно счастливая семья среди общего несчастья, даже если это семья правителей. Особенно правителей. История учит — ни один из тех, кто все имел, не был счастлив. Возможно проклятия, которыми щедро осыпали их предков на пути к власти и богатству, достигают пятых, десятых колен праправнуков… впрочем, все это метафизика и меня мало касается.
— Так что вы предлагаете?
Долго молчал, набираясь сил. Сколько он провел подобных выступлений. Десятки, сотни. Сколько видел глаз. Сотни, тысячи. Порою насмешливые — что возьмешь с полоумного. Порою подозрительные — к чему ведет? Где подвох? Порою равнодушные… Но, встречались глаза, редко — одни на сотню, на тысячу. Огонек заинтересованности, лучина, слабая лампада… понимания. Ради этого взгляда, ради этих глаз, он проводил сотни встреч, и проведет тысячи, дабы одни глаза, один человек…
— Что я предлагаю. Я предлагаю тем, кто слышит и понимает меня, тем, у кого мои слова нашли отклик, кто думает так, или почти так. Тем, кому небезразлично собственное будущее, и самое главное — будущее детей. Кто хочет, чтобы его дочь выросла уважающей себя женщиной, а не преступницей, чтобы их сын не видел будущее в криминальной группировке, тем, у кого собственные идеи, чаяния созвучны моим идеям… вступайте к нам в…
— Секту! — выкрикнул кто-то из зала, и общий гогот выразил мнение большинства.
— Не секту. Мы называем свое объединение — коммуна. Слово мне не очень нравится, за века оно дискредитировало себя, хотя в любом случае остается всего лишь словом. Главное не название — суть. А суть в том, что я уже сказал — свобода личности, свобода действий, интересов, свобода вероисповедания, но несвобода причинять зло другим. Не делай другому ничего, чего не сделал бы себе — вот основной принцип, именно основываясь на нем, мы станем жить и строить новое общество.
— Где, на необитаемом острове?
И снова смех — мнение зала.
И снова он помолчал.
— Нет, — Эммануил знал, как прозвучат его слова. Он долго думал, вынашивал, искал, взвешивал, сегодня, он, наконец, произнесет их вслух. — Не на острове. Как я уже говорил — невозможна абсолютно счастливая семья среди всеобщей ненависти. Невозможно построить абсолютно гармоничное общество, среди царства порока, пусть и на необитаемом острове. Нельзя оборвать связи — останутся экономические отношения, родственники, наконец, останется остальной мир.
— Так что же вы предлагаете?
Третий раз прозвучал один и тот же вопрос. На третий положено отказываться, или отвечать.
— Я объявляю об учреждении фонда по сбору средств для организации строительства… космического корабля. Первого и единственного в своем роде…
Дальнейшие слова потонули в общем гуле. И было непонятно чего в нем больше — недоумения, подозрительности, насмешки, презрения…
***
В прежнее время люди жили в Ковчеге,
Горестей тяжких не зная, не зная ни трудной работы,
Ни вредоносных болезней, погибель несущих.
Жили те люди с спокойной и ясной душою,
Горя не зная, и темная ересь к ним приближаться не смела.
Всегда одинаково чисты — были их помыслы, чувства.
Большой урожай и обильный
Сами давали собой хлебодарные земли.
Они же, сколько хотели трудились, спокойно сбирая богатства.
Летопись Исхода. Приложения.
Гесиод Вересаев
«Гимн Ковчегу» Часть 1 «Век Золотой»
Олег Гайдуковский поднялся с теплого, как материнское молоко, ложа. Босые пятки коснулись рваного, словно шкура убитого животного, ковра, втаптывая и без того лежалый ворс.
Тихо постанывала во сне жена — русоволосая красавица Збыжка. Збыжке наверняка снились недавние роды. Акушер Шпильман — лысый, как бильярдный шар, у которого милостью Всевышнего прорезались на редкость добрые и такие же уставшие глаза, принимал в свои костистые руки их первенца — краснощекого Гайдуковского младшего. Те же руки привычно перерезали пуповину и похлопали младенчика по морщинистой попке.
Олега не было при этом. Збышка рассказывала. Олег сидел под дверью и грыз разодранные до крови, словно раны Спасителя, ногти.
Олег бы так сидел и кусал, и крепкие белые зубы уже добирались до основания, но дверь, шепотом заветных желаний, отъехала в сторону, и на пороге появился доктор Шпильман.
— У вас есть сын, пан Гайдуковский, — шепот доктора вплетался в вечный, как чернота за иллюминаторами, гул Ковчега, — здоровый крепкий малыш, — устало продолжил Шпильман. — Пусть таким и остается.
Малыш спал здесь же. Как и желал доктор — сто лет ему процветания — здоровый, крепкий карапуз месяца от роду.
Розовый, словно распустившийся бутон, ротик тоже издавал едва слышные стоны. Но от чего может стонать человек, слышавший всего тридцать утренних сирен в жизни, Олег сказать не мог.
Тихо, чтобы не разбудить жену и сына, Олег прошлепал в туалетную комнату. Несколько капель ледяной воды, словно преисполненная неизмеримой мудрости речь старшины, прояснили мысли, заодно заставив щели глаз смотреть на мир в полную силу.
Когда он натягивал штаны — серую униформу из грубой, как рука сталевара ткани — на Благодарение не стоило наряжаться, — завыла сирена.
Сегодня была суббота, а значит, сирена выла и выла, вытягивая пробирающим до костей визгом снулых обывателей. Они покидали утробы теплых постель, мир встречал их холодными брызгами и грубой тканью, они натягивали пластиковые сандалии на толстой войлочной подошве, только для того, чтобы, переговариваясь и молча, идти в коридор.
В коридор, где их ждал непреклонный, как укор совести, Гайдуковский.
Староста блока.
Гудящая толпа, зевая и заправляясь, послушными школярами, выстраивалась в колонну.
Рыжеволосый здоровяк Хейли, запустив руку под робу, остервенело чесал огромное, словно полное двойней, пузо. После чего, поднатужившись, пустил громкие ветры. Вокруг здоровяка, кругами на воде, образовалось расширяющееся фукающее кольцо.
Веснушчатая, бкдто усыпанная пшенкой, физиономия Хейли расплылась в довольной ухмылке.
Олег сдвинул русые кусты редких бровей и сурово посмотрел на пузатого ветрогона.
Довольный Хейли совсем не виновато пожал плечами. Мол, пан Гайдуковский, грешно обижаться на человека, когда у него всего-навсего нормально работает кишечник.
На прошлом Благодарении Вал Стеценко — товарищ Олега по детским шалостям, а ныне член престижного цеха медиков — читал лекцию о здоровом образе жизни. Все, что вынес Хэйли из полуторачасового выступления — ветры нельзя сдерживать.
Олег махнул рукой.
Последним, как всегда, вышел толстяк Лань У. Выражение заплывших жиром щелок глаз Лань У не мог истолковать даже знаток человеческих душ и горячительных напитков — дед Панас. Старик еще помнил Землю и авторитетно утверждал, что лучшее место во всей вселенной — окрестности его хаты в селе Хухра, за городами, там, где несла мутные и быстрые, как остывший кисель воды река Ворскла.
Раздувшиеся шары румяных щек подпирали глаза Лунь У, отчего казалось, что он постоянно щурится, взирая на мир знатоком тайн, открытых избранным.
Олег развернулся и, припадая на правую ногу, зашагал по коридору, — тесемка недавно взятых сандалий растерла ее до кровавой мозоли.
Галдя и переругиваясь, курчатами за квочкой, блок захромал за старостой.
На Майдане — с некоторых пор, это огромное, как самомнение Хейли, помещение именовали Майданом — на Майдане было людно и толкотно.
Переругивались женщины соседних секторов, выуживая измаранное белье, чинно приветствовали друг друга мужчины. Поцелуи перемежались с кривыми ухмылками и рукопожатиями.
— О-о-о, брат Харлампов, как ваши детки? Как старший Майка? На днях имел удовольствие видеть его. Очень, очень бойкий мальчик.
— Благодарю, брат Бенаторе, — широкая, как лопата, рука Харлампова — члена цеха аграриев — с нежностью огладила воздух на уровне пояса, взъерошила непокорные вихры отсутствующих кудрей.
Бенаторе — тоже аграрий, в отличие от Харлампова, занимающийся садами, улыбаясь, смотрел на воздух, ласкаемый отеческой дланью.
— Он с приятелями забрался в наш сад, в малинник, как вы знаете, доверенный мне на недавнем собрании цеха.
Рука остановилась, пальцы слегка напряглись, словно сжимая непослушную головку.
— Сторож — Афанасий Щур, вы помните старика Щура, пан Харлампов? Вы не можете не помнить его, он отец нашего общего друга уважаемого пана Петро Щура. Так вот, пан Щур старший — хвала Учителю — вовремя заметил их, как раз, когда сорванцы подбирались к селекционному участку с Magna Rosae — новым сортом малины с отменно большими и сладкими, как сироп с сахарных плантаций брата Карлоса, ягодами. Заходите как-нибудь, пан Харлампов и супругу свою — неувядающую Надежду захватите, я дам вам попробовать одну.
— Благодарю, брат Бенаторе, как-нибудь непременно, — пальцы сжались сильнее, если бы воздух имел плотность и форму — форму головы ребенка восьми лет, он непременно бы затрещал.
— Не обижайтесь, брат Харлампов, но если раз, один лишь раз, я еще поймаю вашего прекрасного мальчика у себя в питомнике, при всем уважении, пан Харлампов, мы разводим не только малину, мы разводим крыжовник — сладкий с кислинкой крыжовник с пузатыми, как маленькие арбузы, ягодами. Эти ягоды созревают на длинных побегах, усыпанных премилыми зелеными листочками, между которыми, капризом мудрой природы, растут длинные, острые, как язык старой Яськи Щур шипы. До недавнего времени, я считал их помехой, рудиментом, ненужным придатком, мешающим в полной мере насладиться вкусом почти райских ягод. Но, клянусь, брат Харлампов, и звезды тому свидетели, если раз, еще раз — надежда родителей — Майкл Харлампов с приятелями или без попадется на моем участке, я таки найду применение этим побегам. Мы поняли друг друга, брат Харлампов?
— Мы поняли, брат Бенаторе.
Бенаторе услужливо поклонился.
— Привет Наде, — и важно удалился, сопровождаемый выводком таких же, как он — мордатых, круглотелых, приплюснутых тяжестью животов и ягодными заботами, отпрысков.
Дети шумно здоровались, лишь для того, чтобы тут же завести не менее шумные игры.
Старшины цехов — патриархи, на которых Учитель — вечная память ему — оставил Ковчег, сдержанно приветствовали друг друга.
— Мир вам, брат, — согнулся в поклоне длинный, словно палка с ушами Александр Сонаролла — глава цеха текстильщиков.
— Вам того же, — показал лысеющий затылок маленький и крепкий, как гном Ю-чу — руководитель химиков.
И разряд, словно полузабытая молния проскочил между парами глаз.
Олег вел свой выводок мимо столов аграриев с загрубевшими от ярких софитов лицами; мимо животноводов — неистребимый запах естественных удобрений витал над множественными головами; мимо сгорбленных представителей цеха гуманитариев, куда, помимо летописцев и архивариусов, входили также воспитатели и художники; мимо вечно шумных портных; химиков, коих также безошибочно определяли по запаху — помимо утилизации и переработки отходов, они производили медикаменты, пищевые добавки и прочие вещи, точнее, соединения без которых равномерное течение жизни Ковчега было бы безвозвратно нарушено.
За химиками сидели тесно связанные с ними полимерщики. Изделия из пластмасс — от мебели до ремней на сандалиях — продукт труда их цеха.
И, наконец, за пластмасниками — родные металлурги, во главе с бессменным Арием Стаховым — широкоплечим, как борец, с выдубленным огнем печей, будто высеченным из камня лицом. Один глаз он потерял еще на Земле — то ли искра металла, то ли пьяная драка, впрочем, драки бывают и трезвые. Пустую глазницу закрывало полуопущенное веко, зато второй сиял, ярче открытой топки.
Рокот приветствия, утренней сиреной, понесся навстречу. Десятки рук: похлопывающих, пожимающих, пощупывающих потянулось к новоприбывшим.
Каменное лицо треснуло щелью улыбки.
Арий указал на скамью, рядом с собой.
Не забывая приветствовать коллег, Олег протиснулся к начальству.
***
"Считаю своим долгом донести до сведения Высокого Трибунала, что мой сосед Рустам Кекуле — цех пластмасников — еретик, так как неоднократно мной замечен в хождении по ночам и мешании процессу спания мне — истинному сыну Матери Церкви. На мои осторожные расспросы, Рустам Кекуле ответил, что у него болезнь — лунатизм, чем с головой выдал себя. Как известно, Луны давно нет, следовательно — болезни такой быть не может".
С уважением Леопольд Нульсен, преданный и верный сын Матери Церкви и Высокого Трибунала.
— Мужики, айда с нами!
Пунцовые барабаны ушей Нолана возвышались над стрижеными затылками сверстников. Мальчишескому «ребята» лопоухий Нолан предпочитал взрослое: «мужики».
— С чего бы это? — Тимур не прервал своего занятия и даже не обернулся, тем более что осталось ему совсем немного. На грязной стене уже красовалось: «Тиму». Кусок стальной проволоки, визжа от возмущения, отсекал лишнее.
Нолан почесал сбитую коленку. Старая зеленка, смешиваясь с новыми ссадинами, расползлась сырной плесенью.
— У Кэнона отец сегодня на ферме сторожует. Там кролята. Кэнон обещал провести, и даже дать подержать… одного.
— Кролята — это для девчонок… или для малолеток!
Через месяц Тимуру должно было исполниться восемь. Он по праву считал себя взрослым.
— Подумаешь, а мой папка обещал меня в рубку взять! По настоящему!
Андрей Гопко натянул на грязное пузо линялые синие штаны — предмет тайной и явной зависти. Андрей — единственный в их компании был сыном техника.
— А ты, Сашка?
Шурику Гайдуковскому очень хотелось со всеми. Кролята, они такие… теплые, пушистые… Больше, чем кролят, хотелось казаться взрослым. К тому же Тимур намекнул на одно дело…
Саша молча покачал головой.
— Ну как знаете, — шумная компания, возглавляемая Ноланом, с гигиканьем понеслась по коридору.
Шурик с завистью провожал стриженые затылки товарищей.
Сознавая свою власть, Тимур, пыхтя, карябал стену. Последнюю букву он выводил дольше обычного.
Выудив все козы из носа, Саша нетерпеливо ерзал на полу.
Наконец «Р» была дописана, ценная проволока заботливо уложена в задний карман шорт.
— В западном секторе урожай поспевает! Яблоки — белый налив! Зеленые, кислые, м-м-м!
Черные глаза Тимура горели огнем предвкушения.
— Подумаешь новость, — Шурик пожалел, что не отправился к кролятам. — В западный сад не пролезть. Его охраняют.
— Ха! — глаза прибавили яркости. — Я нашел лаз, через заброшенные сектора. Есть одно место — вентиляция, ведет прямо в сад!
— З-заброшенные сектора?
Шурик вспомнил, как Отец Щур — священник их блока — грозил тем, кто не слушается взрослых и особенно тем, кто играет в заброшенных секторах топкой Утилизатора.
Пальцы Тимура больно впились в костяшки плеч.
— Ты со мной!
Шурик не без труда протолкнул комок тяжелой слюны в горло.
— С тобой…
***
Сколько техников-наблюдателей нужно, чтобы выкрутить болт?
Десять! Один отвертку держит, остальные агрегат крутят.
Анекдот техников-практиков.
Сколько техников-практиков нужно, чтобы переключить тумблер?
Трое! Один за тумблер держится, двое его тянут.
Анекдот техников-наблюдателей.
Из сборника «Устное народное творчество»
— Я выпиваю день
До дна, до капли.
Я выпиваю день, как пьют вино.
Букет минут смакует сладким,
Осадок — неизменно терпкий
И вязкие часы скрывают дно.
Я выпиваю ночь,
Где звезды — жилы, вены,
И темноте потворствует душа.
Смакуя — трепетно и вдохновенно,
Иль залпом — походя, почти мгновенно
В покое нажитого шабаша.
Я пью, во рту теснятся сутки.
Глоток — и месяц,
Два глотка — и год.
И юность не застряла в глотке,
И зрелость походя идет.
Я выпиваю день,
Как кто-то хлещет вечность.
Я выпиваю ночь,
А Бог глотает век.
Я пью и я — живу,
А может лишь спиваюсь,
Но гордо отзываюсь — человек.
— Браво!
— Молодец!
— Давай еще!
Плескаясь в криках, как в купели, Юрий Гопко неторопливо поклонился.
Синяя куртка едва не сползла с покатых плеч. Конечно, он еще не имел права носить ее, как почти все из присутствующих, через одного щеголяющие индиговыми деталями туалета.
— Про жизнь, про жизнь читай!
— И про баб!
— Про жизнь и про баб? — Юра театрально закатил глаза, словно собираясь с мыслями. Может, так оно и было. Попроси кто объяснить… он сам не понимал, каким загадочным образом слова складывались в фразы, а фразы в созвучные строчки. Иногда это происходило как наитие, причем в самом неподходящем месте: посреди коридора, в классе, на проповеди, иногда на подбирание верной рифмы, удачного образа уходили часы (с перерывами), а то и дни напряженного труда.
Вот и сейчас — навеянные словами эстета-слушателя — четыре незамысловатые строчки сплелись в голове.
— Я буду старым, иль не буду,
Я буду трезвым, или нет.
Все бабы однозначно — дуры!
Вот мой осмысленный куплет.
Рокот дружного гогота прокатился сине-серыми рядами.
— Ну дает!
— Все бабы — дуры! Точно, точно!
— Эй, Андрюха, у тебя когда практика? Просись в нашу смену — работы не много, будешь стихи читать!
Кричал один из состоявшихся техников.
— Кому, реактору? Давай лучше к нам. В рубке — чистота, лампочки сияют. Звезды, опять же…
— От звезд голова кружится!
— А от реактора мужская сила пропадает!
Гогот, ребенком на родительских руках, катался открытыми ртами.
— Да я тебя, рубочный белоручка!
— Трюмная…
— Тихо! — разряжая обстановку, Андрей отвесил шутовской поклон. — Вы позволите закончить поэту?
Напряженные отношения между техниками-практиками, непосредственно копающимися в механизмах, обеспечивающих само существование Ковчега и техниками, наблюдающими у многочисленных табло за их работой, давно стали притчей во языцах, войдя в поговорки и анекдоты. Анекдоты, понятные только узкому кругу «синекожих», как за глаза называли техников остальные обитатели корабля.
Технари считали наблюдателей белоручками и втайне, не то чтобы презирали, — недолюбливали их. Наблюдатели, в свою очередь, видели в технарях эдаких недалеких мужланов, кругозор и знания которых ограничивались оболочкой драгоценного агрегата.
Неправы были обе группы.
Наверное, обе понимали это.
Андрей — пока ученик, как все ученики маялся выбором с какой кастой связать дальнейшую судьбу.
— Давай, заканчивай!
Настроение у зрителей заметно ухудшилось. За спорами — не до стихов.
— На смену скоро!
Нет, все-таки эти технари, действительно, не видят дальше своих механизмов.
— Жизнь, как крепкое вино –
Ты ее берешь глотками,
После шевелишь мозгами,
А в финале — вечно дно.
Аплодисменты были менее продолжительные и более жидкие. Хотелось наоборот.
Ах, если бы он родился в обычной семье. Пошел бы в цех обслуги, на артиста, на худой конец — учителя словесности, обучал бы детей, кропал свои строки…
Он — техник. Семью, как и профессию не выбирают.
В дверях нарисовалась серая роба, натянутая на широкие плечи Брайана Гайдуковсткого. Вот кому повезло родиться в обычной семье!
Молодой человек многозначительно указал на настенные часы.
— Мне пора! — Андрей слез с возвышения и начал протискиваться сквозь неплотное кольцо слушателей.
Увлеченные спорами слушатели особо не протестовали.
***
Планета — класс 2.Расстояние — 18.Уровень развития — 4.Перспективность — 3.
Они пришли с неба.
Великая Мать, защити и сбереги!
Да, с неба.
Огненные повозки в громе и молнии взрезали жирное покрывало серых облаков.
Великая Мать — то твои ладони!
За что, за что прогневалась ты на славящих тебя!
Повозки везли чудовищ.
Кантор — вечный противник, недостойный брат Великой, немалы силы твои! Выше облаков ненависть твоя.
Сбываются пророчества.
Карантин Лантун — шаман племени Вакха, обпившись красного, как кровь, густого, как смола сока священных деревьев выкрикивал страшные слова. О безволосых, как ладони, демонах с взглядами, разящими насмерть, об огненных повозках и смерти многих охотников.
Все смеялись.
Даже старейшины.
Даже другие шаманы.
Смеялся и он — Рхат Лун — кто он такой, чтобы перечить Лицам Племени. Лицам многих племен.
Громче других смеялся Сантон Лостон — вождь племени Рхата.
Он первым и упал, сраженный огненным взглядом.
Крики.
Смерть.
Женщины хватали самое дорогое — детей. Прижимая к теплой груди пушистые комочки, волоча за руку, они уводили их в лес. Под спасительную сень волос Великой Матери.
Пытались увести.
Рядом с Рхатом упал Тхут Лан. Драчун и задавака. Он часто задевал Рхата, один раз даже подсунул ему в циновку иглокожую гуану. Смеялись едва ли не всем племенем.
Тогда, в тот момент, стоя перед хохочущей толпой, Рхат желал обидчику смерти.
Молил Великую Мать.
Великая услышала молитвы.
Тхут Лан лежит у его ног, из прожженной дыры нестерпимо, до тошноты разит жареным мясом, пополам с паленым мехом.
Рхат любил жареное мясо. На празднике благоденствия, с трудом перенося бесконечные речи и танцы, он всегда ждал одного момента… Вонзить острые зубы в обжигающую, сочащуюся жиром плоть, бывшую некогда живым существом. Вдохнуть, замешанный на ветках дерева нушну аромат жареных волокон…
Сбываются мечты.
Сегодня, сейчас этого аромата было вдосталь.
До тошноты.
До боли.
До отвращения.
Как и пророчествовал Карантин, слуги Кантора были безволосы. Но кожа их не была кожей ладони.
Панцири, твердые, как камень, плотные, как кость, наподобие того, что таскает на своей спине священная паха, покрывали уродливые тела.
Рхат видел, как кинутое умелой рукой одного из охотников копье, отскочило от панциря, не причинив слуге Кантора вреда.
Великая Мать за что, за что караешь прославляющих тебя!
Охотник пал, сраженный огненным взглядом.
Из продырявленного черепа шел дым, и отвратительно пахло горелым.
Они сплотились, они вышли навстречу чужакам. В наспех одетых плетеных доспехах. Привычные к неожиданностям, равнодушные к смерти дети леса.
Костяные наконечники зловеще скалились в умелых руках.
Эти наконечники навылет пробивали толстую, как язык, шкуру гуара. Эти глаза не ведали промаха. Руки не знали усталости. Сердца — страха.
И переставали биться не познав.
Одно за другим.
Сраженные огненными взглядами.
Великая Мать, за что? За что?!
Рхат не был охотником.
Он мог бояться.
И боялся.
Крики, запах, мельканье тел.
И взгляды.
Тонкие, как шипы.
Длинные, как корни.
Неотвратимые, как смерть.
Они настигали везде.
Рхат видел, как с дырой в груди, из-за стены хижины, выпал спрятавшийся там охотник.
Другой пытался найти укрытие за необхватным стволом Великого Дерева, возвышающегося в центре деревни.
Взгляды не щадили ни стариков, ни детей, ни женщин, ни деревьев.
Смерть — любовница Кантора плясала сегодня в деревне свой страшный танец.
Великая Мать, защити.
Великая Мать, за что.
***
"Когда необразованный, заурядный человек, который сам подвержен болезням, не преодолел болезней, видит другого человека, который болен, он испытывает страх, презрение и отвращение, забывая о том, что он сам подвержен болезням, не преодолел болезней".
Ангутара Никая
Сукхамала сутта
(Пер. с английского Д. Ивахненко по пер. с пали Т. Бхикху)
Перевитые венами руки покоились вдоль тела. Продолжением вен поднимались разновеликие трубочки и разноцветные провода.
По ним что-то двигалось, подавалось, или, наоборот, извлекалось из организма.
Пуповины трубок соединяли тело с маткой нависающей над ним, окружающей его установки. На многочисленных экранах прыгали столбики, бегали неутомимые точки, мерно дышали разноцветные графики, истерично чертилась изломанная кривая.
Попирая природу, пуповина выходила из тела старика.
Почти мумии.
Дряблая грудная клетка, выглядывающая из-под белоснежного одеяла, усеяна прыщами разноформенных датчиков. Над ней тонкая шея с торчащей горой кадыка и череп, именно череп по недосмотру, или капризом природы, обтянутый пленкой пергаментной кожи. Лишь глаза — большие, темные, словно бездонные колодцы, даже в таком состоянии владельца, сохранившие прежнюю красоту, силу, сияющими антрацитами горели среди царства общего тлена.
— Вы знаете, кто я?
Голос у мумии был тихий, но отнюдь не немощный. Глядя на обладателя, ожидалось иное.
Эммануил склонил голову.
— Знаю, мистер Гайдуковский.
Ни к месту вспомнилась затасканная киношная сцена: Герой сидит дома, на пороге появляется незнакомец в черном: “Вы знаете, кто я?”
Вопрос был неуместен, Эммануил не дома, его привезли, и он, конечно же, знал, куда ехал.
Брайен Гайдуковский — один из самых, если не самый, богатый человек в мире.
Запищал датчик. Тут же, словно из воздуха, соткалась сиделка. Статная женщина неопределенного возраста в голубой с белым униформе. Опытные руки подкрутили краник, по одной из трубочек в тело полилась ядовито-желтая жидкость.
Мумия подождала, пока сиделка исчезнет.
Ждал и Эммануил.
— Я дам вам денег, — без предисловия произнес Гайдуковский, — много денег. Достаточно, чтобы вы построили свой чертов Ковчег.
Эммануил поморщился. Ковчегом звездолет обозвали журналисты. Ему не очень нравилось претенциозное название.
— Первое условие — мой младший внук полетит с вами.
Неужели вот так просто — мечты, бессонные ночи, долго вынашиваемые планы, и “я дам вам денег”.
— Остальных внуков, да и сына я уже упустил.
Эммануил судорожно соображал, что сказать, как отблагодарить…
— Спасибо, мистер Гайдуковский.
— Мне понравилось ваше выступление, — старик словно не слышал его. — За свою жизнь я встречал немало пустозвонов, я научился разбираться в людях, при моем образе жизни это необходимо. То, что вы говорили, что делаете — мои люди навели справки — все правильно. Я вам верю. Но не дай бог, — красивые глаза блеснули дьявольским блеском. Наверняка, в лучшие годы этот взгляд останавливал стихийные бедствия, — не дай бог тебе разочаровать меня!
Глаза потухли, одна из трубок протолкнула в тело порцию бурой жижи.
Деньги! Построить Ковчег! Решение всех проблем! Это было слишком хорошо, слишком волшебно, чтобы быть правдой. Словно в сказках. В прямом смысле — Deus ex machina.
— Мистер Гайдуковский, — проклятая совесть не даст насладиться праздником сбывшегося желания, — дело в том… на Ковчеге могут лететь только добровольцы. Насколько я понимаю, у внука имеются родители — отец, мать, и они вряд ли согласятся…
Худая рука вяло махнула.
— Об этом не беспокойтесь. Пригрожу лишить наследства… деньги и все что дают деньги, они любят гораздо больше детей.
— А ваш внук, захочет ли он сам…
— Внук еще слишком мал и не способен самостоятельно принимать адекватные решения. Ребенку везде хорошо, когда имеются новые игрушки и есть с кем резвиться. В конце концов, найдете ему приемных родителей, думаю, на Ковчеге отыщется не одна дюжина добровольцев. В этом вопросе, я всецело полагаюсь на вас. Второе условие — я хочу, чтобы он носил мою фамилию, мальчик должен знать свои корни, откуда он.
— Сознаете ли вы, мистер Гайдуковский, что никогда более не увидите внука. Как я понял, он вам небезразличен, и…
Мумия затряслась, Эммануил не сразу сообразил, что старик смеется.
— А сознаете ли вы, мистер, что в скором, очень скором времени, я больше ничего и никогда не увижу. Именно потому, что не безразличен, я отдаю его вам.
— Не знаю что сказать, я постараюсь оправдать доверие.
— Ничего говорить, во всяком случае мне, не надо. Ступайте, я отдам необходимые распоряжения.
— Хорошо, мы сможем приступить к возведению…
— Вы, как я вижу, человек хороший, совестливый, однако, не ошибусь, если предположу, в деловых вопросах вы не очень сведущи. Вы даже не успеете начать, как тут же набежит куча всяких комиссий и проходимцев из различных ведомств. Я сам постою ваш корабль, не волнуйтесь, сможете вмешиваться и в проектирование, и в строительство. Не хочу, чтобы даже цент достался этим стервятникам.
И еще раз — не дай вам бог разочаровать меня.
***
Оставил он нас.
Вознесся к звездам.
И наполнились скорбью сердца.
И наполнились растерянностью умы,
И плач разнесся ярусами Ковчега.
Плакали текстильщики и аграрии, плакали пластмасники и металлурги, пищевики и химики, гуманитарии и портные, обслуга и медики, техники и животноводы.
Плакали жены и суровые мужья, малые дети и убеленные сединами старики, главы цехов и рядовые члены.
Плач и скорбь.
Летопись Исхода
Глава 2. часть 1
Холодные говяжьи языки томились в собственном соку в ожидании звездного, он же — последнего часа. Красная, как после бани, малина исходила сахарным соком. Густая наливка источала наинежнейший аромат забродивших слив.
Желудки, посредством носа и глаз, осягая объем работ, гудели разогреваемыми моторами, и сок — тот самый вредный сок, если верить лекции брата Стеценко обильно кропил бурчащие утробы.
Или старосты не слышали преисполненную вековой мудрости речь медика? Вредно, ой вредно глазеть на пищу, не вкушая ее.
Ягодицы нетерпеливо совались по истертым тысячами сований скамьям.
Последними, как всегда, явились техники.
И гул недовольства на краткий миг заглушил животную кантату.
Однако техникам на общее недовольство, как и на животы, было плевать. Сохраняя важность молчания, неся достоинство, словно девица невинность, они сосредоточенно рассаживались по скамьям.
Человек скроен по единой мерке. Выказывая родство душ, животы синекожих, призывными голосами вплелись в общий голодный вой.
Животам было невдомек, они видели пищу и хотели ее, как молодой бычок желает телку, как сорванцы-дети желают запретной, но такой сладкой малины с селекционного участка. Тем более — все в сборе.
Животам было невдомек, и они блеяли, просили, иногда требовали положенного.
Члены цеха обслуги не скоро понесут, сгибаясь под тяжестью, кастрюли с парующим содержимым. Что припасли на сегодня? Каша? Картошка? И жирная, темная, словно растопленный шоколад подливка не скоро окропит проваренные дары полей. И мясо, благоуханное, словно невеста мясо не покажет оголенные бока гурманам-женихам.
Да, пришли все, но в субботний день Благодарения общей трапезе предшествует речь.
На возвышение, в аккурат под люком утилизатора, неизменно прямой, что редкость при таком росте и худобе, и неизменно насупленный забрался текстильщик Сонаролла.
Колючие глаза из-под сдвинутых бровей обвели толпу.
Многие животы, замолкнув на полуслове, подавили призывную песнь.
— Восславим его, того, кто вырвал нас — недостойных из мрака греха. Восславим того, кто начертал путь и сделал первый шаг. Восславим того, кто взял нас в попутчики! — хриплый, но зычный голос проникал в уши и умы, понукал понимать и отвечать.
— Восславим! — затянул неровный хор голодной паствы.
— Восславим того, кто построил сей дом!
— Восславим!
— И отправил его к звездам!
— Восславим!
Сонаролла умел говорить, не кричать недорезанной скотиной, как это делал глава цеха пищевиков Джованни Гварди и не мямлить себе под нос, скрипя челюстями, как архивариус Линкольн, а говорить — размеренно, слаженно. Затрагивая что-то внутри, да так, что даже недовольные желудки заслушивались, на время забывая о насущном.
— … и оставил нам заповеди!
— Заповеди.
— По которым мы живем!
— Живем.
— Не убивай!
— Не убивай.
— Не лги.
— Не лги.
— Не кради.
— Не кради.
— Не прелюбодействуй…
Люди охотно повторяли, вслед за выступающим. Главным образом потому, что перечисление заповедей означало конец речи.
— Я не бог! — прокричал Сонаролла последний завет.
— Не бог, — дружно согласилась с ним толпа.
— Ешьте, братья и сестры, вкушайте плоды труда вашего и радуйтесь. Радуйтесь, ибо Учитель, глядя на вас — детей со своего звездного жилища, радуется, вместе с вами.
Сидящий рядом с Олегом старшина Стахов, с последними словами выступающего, громко скрежетнул зубами.
***
"Я — Селим Щур — потомственный аграрий вступил в конфликт с Родионом Ю-чу — цех химиков по причине, что брат Ю-чу называл нас — аграриев — землеройками. Так как на встречное обвинение, что все химики — пробирки он не обиделся, я дал ему в морду.
После падения брата Ю-чу на пол, ногами я его не бил, а лишь слегка пинал, из человеколюбия и желания убедиться, что с ним все в порядке".
Объяснительная.
Эхо подхватило их шаги, щедро засевая нежданными звуками металлические ярусы и фермы. Шепот отлетал с готовностью, возвращаясь многоголосым гулом.
— Г-где твой лаз?
Шурик вжал голову в худые плечи, ожидая ответного возмущения эха. Странно, на этот раз неугомонное молчало.
Тусклый свет синих ламп щедро награждал окружающие конструкции корявыми когтями, острозубыми челюстями и полными голода и ненависти глазами. Эхо помогало ему, рассыпая крики и стоны, рожденные явно не их тихим перешептыванием.
— Скоро, еще два яруса.
Или Шурику показалось, или голос Тимура дрогнул.
Отец Щур на одной из проповедей рассказывал про ад, куда попадают души не верящих в Учителя грешников. Картины, описываемые святым отцом, на удивление совпадали с пейзажем заброшенных секторов.
— Ты что, струсил?
— Н-нет, — стуча зубами, ответствовал Шурик. Или показалось, или в вопросе товарища звучала надежда.
В свете синих ламп наливные бока яблок утратили значительную часть привлекательности, собственно, Шурик никогда не любил яблоки, особенно «Белый налив», особенно незрелый… то ли дело — груши…
— К-кажется сюда.
Зубы товарища отбили легкую дробь.
В начале пути приходилось прятаться от встречающихся групп техников и уборщиков. Забираясь в темные углы под лестницы, мальчишки хихикали над недогадливостью взрослых.
— Ув-верен?
Сейчас Шурик очень жалел, что ни одна из групп не обнаружила их. Ну влетело бы от матери, ну пожурил бы Отец Щур. В мертвом свете далекая взбучка сравнивалась с легким поглаживанием.
— Н-нет.
— В-вернемся?
Тимур сделал вид, что задумался, даже старательно сдвинул брови, как это делал Сол Харлампов — староста их блока перед тем, как пройтись по матушке нарушителя спокойствия. Лишь зубы товарища продолжали выбивать предательскую дробь.
— П-пожалуй. И тут же, не дожидаясь ответа Саши, припустил в обратном направлении.
***
У пьяницы синяя рожа, а у техника — кожа.
Из сборника «Устное народное творчество»
Синие лампы отбрасывали синие тени. Точнее, тени отбрасывали предметы: столбы и опоры, растяжки и перила, фермы и лестницы, облагороженные сапфировым сиянием источников скудного освещения. Под стать одеждам. Странно — в синем сиянии, синие одежды приобрели землистый цвет — цвет траура.
— Карен, пошли отсюда, — техник Иван Громов, большую часть сознательной жизни проведший под синим светом ламп, среди подобных механизмов, был напуган.
И плевать, что это заметнее дымной утечки охладителя, прыща на лбу красавицы, отлетевшей шестерни… Ивана не пугали даже грядущие угрызения самолюбия и более чем вероятные насмешки товарищей. Он боялся.
Решетчатые конструкции наполнились зловещими тенями — отзвуком недоброжелательного прищура синих пугателей.
— В штаны наложил, да?
Карену — ширококостному, низколобому напарнику Карену — неизменному победителю борцовских соревнований между цехами — хорошо. Из всего существующего в мире — на Ковчеге и за толстым бортом, Карен боялся двух вещей: собственной жены — худой, в два раза меньше Карена остроносой Клавки, и… уколов. Именно уколов. При виде обнаженной иглы, надетой на шприц, а особенно струйки невысокого фонтанчика, вытесняющего остатки воздуха, Карен — борец, сваливший самого Ишвана Подгубного — легендарного короля помоста — бледнел и падал в обморок. Имей кто другой подобную слабость — несчастного давно затравили бы насмешками. С Кареном подобные вольности были чреваты.
Так как в обозримом пространстве не наблюдалось ни Клавки, ни мед персонала, Карен, на горе Ивана, был сама отвага.
— Не дрейфь, одним глазком взглянем и назад.
Успокоил, называется.
Иван сам не понимал, отчего ему так страшно.
Ну — заброшенный сектор, куда, может, с самого возведения не ступала нога человека. Так мало ли их на Ковчеге? Ну шеренга массивных дверей с круглыми окошками, отражающими зловещую черноту. Так что он дверей не видел? Ну надписи: «Шлюз перехода. Проверь герметичность». Так мало ли непонятных надписей на Ковчеге, взять хотя бы цитаты из Заветов, густо усеивающие стены…
Карен нажал кнопку, и толстая, металлическая дверь отъехала в сторону.
Ледяная волна ужаса накатила на Ивана, накатила и ушла, ибо ничего ужасного не произошло.
За дверью обнаружился узкий проход. Автоматически включившееся освещение проявило гладкие матовые стены и дверь, подобную первой, в конце.
Любой нормальный человек перед тем, как нажимать незнакомые кнопки сто раз подумает. Десять раз изучит стены на предмет скрытых инструкций. Пару раз поднимется наверх, в библиотеку. Один раз отыщет старые планы… любой, но не Карен. Дверь не была увешана шприцами, а значит — ничего страшного за ней быть не может.
— Постой, ты…
На этот раз холодная волна даже не успела накатить.
Карен ступил в проход.
***
"Жалуюсь руководству цеха на недостойное поведение Татьяны Шпильман — врачихи нашего блока. На мою законную просьбу выдать полтора литра спиртовой настойки плодов боярышника ответила отказом. Мало того, явно издеваясь, всунула мне пузырек с тридцатью миллилитрами оной настойки и велела принимать по пятнадцать капель три раза в день.
Что мне пятнадцать капель! Я — больной человек, у меня сердце!
Прошу принять меры, и главное — выдать настойку в указанном количестве, так как скоро у меня день рождения, придут гости, все — больные, как и я".
С уважением Залман Никитов, аграрий.
Лампы светили уже не так страшно. Даже эхо, вместо привычного запугивания, подталкивало их в спину.
«И-дем!»
«И-дем».
Звонкие шаги разбавляли окружающую тишину.
— Отец Щур говорил, в заброшенных секторах еретики прячутся.
И кто тянул Тимура за язык?
Синие тени мигом обросли щетиной колючек и клыков.
Настороженное ухо вычленило сотни посторонних звуков, большей частью зловещих.
Помимо воли спины согнулись, глаза все чаще поворачивались за них, за спины.
— Ты видел когда-нибудь?
— Кого?
— Еретиков!
— Ков… ков… ков… — зловеще подхватило эхо.
С каждым звуком, голова Тимура плотнее входила в плечи.
— Говорят, они высокие, здоровые, а на голове — рога! И еще хвост, и… копыта…
Продолжить Шурик не смог. До колик в животе сделалось страшно.
— И пасть красная…
Зубы Тимура вовсю отбивали знакомую дробь.
— Радж, тот, что живет во второй комнате от лестницы, рассказывал… в прошлое воскресенье родители его на казнь брали…
— Еще бы, Раджу скоро десять.
— Точно!
Невольно оба замечтались о том времени, когда станут совсем взрослыми — десятилетними мужчинами… а там рукой подать до двадцати… старость.
— Еретичку казнили. Страшная! Перед тем, как в Утилизатор толкнули, она как зыркнет! И прямо на него, на Раджа!
— Страшно!
— Радж не испугался, он фигу скрутил.
— Да, фига — сильное средство!
— Считай — единственное.
— Можно еще за язык взяться и три раза через левое плечо сплюнуть. Вот так!
Схватив себя за язык и старательно выпучив глаза, Тимур попытался плюнуть.
Шурику сделалось смешно, однако дружеское хихиканье внезапно застряло в горле игольчатым клубком.
Из-за спины, отводящего порчу Тимура, на него, на Шурика смотрело два светящихся глаза.
Зеленый и красный. Причем, крестный коварно подмигивал.
Шурик хотел закричать, но крик застрял там же, где смех.
Дрожащая рука с трудом дотянулась до фыркающего друга и указала за спину.
Тимур обернулся, не выпуская языка, челюсти со стуком сомкнулись.
Тимур взвыл кастрируемым поросенком.
— Гад, ты что ж делаешь!
— Я-я-я…
То ли Тимур не осознал всего ужаса положения, то ли… Саша понял, что возмутило друга. Зловещие глаза оказались ни чем иным, как лампочками, маленькими светящимися лампочками на боку массивного металлического ящика.
— Никогда не видел!
Впрочем, Тимур уже успокоился. Обуреваемый любопытством, мальчишка подошел к ящику.
— Интересно, что внутри?
— Пойдем отсюда, а?
Колени трусились, сообщая дрожь голосу.
— А может там…
Договорить Тимур не успел. Красный глаз внезапно прекратил мигать, не менее внезапно изменив цвет на зеленый.
А в следующую секунду верх ящика треснул щелью крышки. Из узкой щели повалил холодный белый дым…
***
Истрачено топлива — 2 тонны.
Электроэнергии — 200 кВт (в т. ч. зарядка аккумуляторов оружия).
Потери людских ресурсов — 0.
Техники — 0.
— Иди, иди, длинноухий, пошевеливайся!
— Касьянов, где ты там! Тащи остальных!
Когда пал последний защитник деревни, когда отполированное множеством схваток копье выпало из натруженной руки, Рхат Лун думал — все. Пришел их, его смертный час.
Великая Мать! Встречай!
Гул был подобен тьме громов. Словно все чудовища леса: пятнистые гуары, острозубые утыри, хитрые волды и многочисленные порождения Кантора, обитающие в непроходимых дебрях, словно все они, разом бросив дело, завыли, взревели, загавкали, и небо, само небо вплелось в многоголосый крик громовыми раскатами.
Сияние было подобно тьме солнц.
Рхат Лун, как и все выжившие, повалился на землю, в ужасе накрыв голову дрожащими руками.
Великая Мать, защити!
Любопытство, проклятое любопытство — бич Рхата пересилило страх. Не раз и не два за сей порок ему доставалось, сперва от отца — охотника Мхата, потом от учителя — мастера Бгута.
— Если будешь совать свои уши, куда не след, не выйдет из тебя толка! — говаривал Бгут, охаживая Рхата гибкой хворостиной.
Перепуганный Рхат поднял дрожащую голову.
Великая Ма…
Повозки!
Огромные, много больше предыдущих, спускались с облачного неба.
Если первые принесли панцирных убийц, какие же чудовища водятся в подобных громадинах?
Не покажется ли участь забияки Тхута милее уготованного им?
Повозки опустились, из черного, как пасть утыря нутра вышли безволосые.
Твердых панцирей не было на уродливых телах. Вместо них — легкие, как вычиненная шкура покрывала. Синие, словно глаза первой красавицы племени длинноухой Боэты.
Вышедшие закричали, отдавая приказы.
Панцирнотелые забегали по деревне, поднимая выживших.
Сгоняя их, словно скот, к развернутым зевам огромных повозок.
— Иди, иди, длинноухий, пошевеливайся!
Великая Ма…
***
Есть чистый — есть нечистый.
Добро и зло.
Свет и тьма.
Порядок — хаос.
Два начала извечно живут, заложены в мире.
От противоборства начал берет начало жизнь.
Вложение — есть зарождение жизни.
Борьба — сама жизнь.
Смерть — победа.
Одного.
Освободившиеся начала рождают новую жизнь.
Для борьбы.
До победы.
Мы — поле боя.
Боритесь.
Помогайте.
Всю жизнь.
От победителя зависит существование после жизни.
В мире.
Войне.
Заветы. Приложение 1.1. «Нечистый, как он есть».
Искры сварки, гул тысяч инструментов, натужный стон лебедок.
Крики рабочих и инженеров, обильно сдобренные крепким словцом, гармонично вписывались в шум механизмов.
Кольцо огромных размеров. Задранная до шейной ломоты голова с трудом достреливала взглядом до вершины сооружения.
Люди — рабочие, даже многотонные механизмы казались лилипутами на теле спящего Гулливера.
Руслан Шабровски — координатор проекта дотронулся до локтя Эммануила, кивком головы указал на небольшое помещение в конце цеха, отделенное многослойным звуконепроницаемым стеклом.
Эммануилу не хотелось уходить. Даже сейчас, когда проект начался, а в многочисленных ангарах, подобных этому, полным ходом шли работы, ему все еще не верилось, что происходящее… не сон. В глубине, темной сомневающейся глубине души, он боялся… проснуться. В один прекрасный или не очень день и узнать, что происходящее лишь плод изможденного рассудка.
— Эта секция почти закончена, проблемы только с наружными листами обшивки — поставщики заартачились, но мистер Гайдуковский лично позвонил им, к концу недели обещали доставить, — стеклянная и от этого тяжелая дверь закрылась, изолировав комнату от шума цеха.
Эммануил рассеянно кивнул.
— Слушай, я все равно не возьму в толк, дался тебе этот космос. Да с деньгами Гайдуковского ты сможешь купить себе остров, группу островов, архипелаг, или участок в пустыне, обнести колючей проволокой и стройте себе это ваше супер общество.
Шабровски отличный организатор, не плохой инженер, хороший человек — у Эммануила сразу с ним установились почти дружеские отношения — но никудышний социолог.
Гармония и колючая проволока несовместимы.
— Руслан, ты плохо слушал мои выступления. Я уже объяснял — невозможно жить в мире и так или иначе не зависеть от него, отгородиться, не принимать участие в общечеловеческой жизни.
Вспомни опыт России, там тоже пытались возвести гармоничное общество в отдельно взятой стране. Все мы знаем, что из того вышло.
Я не говорю об оставшихся родных, близких, об экономических связях, пусть. Но войны, голод, катаклизмы, происходящие в том, остальном, оставленном мире. Мы захотим, более того, будем обязаны учувствовать, помогать. Однако, вернувшиеся, уже не будут гражданами нашего общества, они станут членами того, остального социума, пусть не самыми плохими, пусть наиболее совестливыми, но того, как и я, ты… Только уйдя, полностью отринув, оборвав все связи в буквальном смысле слова с тем — этим миром, можно построить что-то новое.
— Как Моисей, который сорок лет водил евреев по пустыне.
— Как Моисей. Родившиеся на корабле, не ведающие, не знающие, что оставили, чего лишились, с пеленок воспитанные в новых ценностях, станут новыми гражданами новой формации.
— Не знаю… человек всегда человек, даже запертый в жестяной бляшанке среди открытого космоса. Отыщутся те, кто захочет большего, власти, найдутся, кто станет перед ними лебезить, ради крох с барского стола, будут и предатели, и герои, преступники и праведники, патриоты и равнодушные.
— Я не зря упомянул Россию. Почти сразу после переворота, там запретили религию. И что ты думаешь? Буквально следующее поколение выросло убежденными атеистами, хотя до этого, Россия считалась глубоко религиозной страной. Если правильно воспитывать, если с молоком матери дети начнут впитывать наши принципы, мораль, систему ценностей, не представляя, даже не помышляя об ином… все получиться.
— Не знаю… возможно, ты прав.
***
Загадка:
Сидит прыщ у всех на виду,
Не трогаешь — холодный,
А только надавишь — сразу воспаляется.
(Люк Утилизатора)
Из сборника «Устное народное творчество»
Кулак Брайена просвистел в воздухе. Юрий ловко перехватил его, отвел в сторону, разворачиваясь и подставляя сопернику бок. Если удастся перебросить через бедро… Брайен вовремя заметил подвох, вторая рука пришла в движение, нащупывая горло Юрия для удушающего приема. Стремительно сориентировавшись, Юра отпустил руку соперника.
Молодые люди замерли друг против друга. Воздух со свистом покидал распахнутые рты.
— Сдавайся, проклятый техник!
— Грязный металлург!
Юноши снова кинулись друг на друга.
Рената Левицкая невольно задержала дыхание. Странная смесь драки и борьбы, при первом, да и при втором приближении, похожая на танец.
Однополый, парный танец соперничающих партнеров.
Юра сделал выпад, Брайен присел, пытаясь подсечь ноги соперника, тот прыгнул, подсечка ушла в пустоту.
Блестящие капли пота покрывали раскрасневшийся торс Брайена. Он имел красивое тело: смуглая гладкая кожа, изящные жгуты мускулов. И знал это. Возможно поэтому намеренно оголял торс перед каждым поединком. Особенно — Рената давно заметила — когда в числе зрителей присутствовала она.
— Давай, Брайен, покажи зазнайке-технику!
Немногочисленные зрители являлись представителями иных цехов. Техники вообще редко общались с кем-либо вне узкого круга «синекожих». Эдакий мирок в мирке со своими законами, ценностями, юмором и строгим наследованием.
Юра являл редкое исключение.
Брайен произвел ложный выпад, настолько ложный, что даже Рената заметила это. Улыбнувшийся Юрий просто шагнул назад.
В отличие от соперника, он бы в футболке. Синей футболке — принадлежности цеха, по которой черными кляксами расползались пятна пота.
Пришла пора Юрия атаковать. Молниеносный выпад, Брайен ловко уворачивается от него.
Танец, танец соперничающих партнеров.
Могут ли партнеры быть соперниками?
Снова удар, и снова блок с последующим захватом.
Рената, в отличие от зрителей, не могла сказать за кого из молодых людей «болела». Положа руку на сердце — за обоих.
Можно ли «болеть» за обоих?
Брайен сделал подсечку и, к вящей радости зрителей, соперник упал на маты. Не долго думая, Гайдуковский прыгнул сверху, придавив Юрия мускулистой тушей. Некоторое время тот сопротивлялся. Руки скользили по потному телу в тщетной попытке провести захват, но Брайен уже полностью владел ситуацией — болевой прием, вытянутая рука соперника перегнута через бедро.
— Что, техник, сдаешься?
— Никогда!
Молодые люди, а следом и зрители заулыбались соперничеству друзей.
***
Родилось — 0.
Умерло — 18 (в т. ч. 17 рабов).
Рекомендуемая квота на детей — 4.
Гул.
Тихий, словно шепот.
Страшный, как затишье перед бурей.
В этот гул вплетались подвывающие ему голоса женщин, стиснутые зубами стоны подростков, кряхтенье самого Рхата.
Великая Мать — спаси и защити!
Внутри повозки было темно и душно.
Сперва их вжало в пол. Холодный, твердый пол, совсем не похожий на подстилку из сухой травы хижины.
Рхат Лун думал — все. Пришел смертный час.
Самое необычное — груза никакого не было.
Отяжелел сам воздух, навалившись каменной ношей. А тело… из тела взрослого юноши неожиданно, на краткий миг превратилось в мощи дряхлого старика.
Даже женщины прекратили выть, придавленные тяжестью и страхом.
Великая Мать, не оставляй!
Боэта. Надменная красавица Боэта, всегда гордо выхаживающая по деревне, сидела недалеко от Рхата.
Длинные уши с кокетливо выкрашенными углем кончиками прижаты, из глаз льются слезы, а рот рождает совсем не привлекательные звуки.
Видели бы сейчас Боэту многочисленные воздыхатели. Особенно Тхут Лан, всякий раз пускающий слюни при появлении девушки.
Тхут Лан. Влюбчивый забияка Лан уже ничего не видит.
Неделю назад парня посвятили в охотники, пробив ухо костяной иглой. Значит сейчас Тхут Лан охотится в обильных тучной живностью лесах Великой Матери.
Придет, будет время порадоваться за мертвых.
Оплакать мертвых.
Сейчас — время живых.
Что ждет?
Присоединяться ли они к охотникам небесного леса?
У Рхата Луна было ощущение, что они поднимались.
В небо?
В рай?
И страшные повозки пришли с неба.
Посланцы Богини?
Вестники добра?
Или их племя чем-то прогневило милостивую Мать?
Неожиданно тихий гул прекратился.
Вместе с ним, испуганно замолчали воющие женщины.
***
Неизмеримой мудростью, опытом, знанием жизни, ревностным служением идеям Всеслышащего выделялись они среди прочих.
Патриархи.
Избранные.
Но скверна, скверна овладевает ослабевшими умами.
Темная ждет.
Тот, чья вера пошатнулась, задающие вопросы, сомневающиеся, скверна опутывает масляными сетями неокрепшие умы. Пускает отростки, как растение укореняется в почве, и разрастается, подобно тому же растению, обильно сдобренная вопросами и сомнениями.
Летопись Исхода
Глава 2. часть 3
Они рассаживались за столом, круглым, как стол короля Артура, и их было тоже двенадцать.
Но не звенели шпоры, не терлись доспехи, и заклепки кожаных ножен не извлекали звонкую музыку поединка из кованых наголенников.
Тихое кряхтение, шелест одежд и колючие взгляды из-под посеребренных бровей.
Они не были рыцарями.
Но их было двенадцать.
Тихо поднялся Пол Никитчено — защитник угнетенных культур и легендарный истребитель полчищ неверных сорняков. Рыцарь лопаты и мотыги, глава цеха аграриев.
— Урожай пшеницы оказался несколько меньше ожидаемого, однако рожь уродила — хлеб будем есть ржаной, — капли слов долбили камень отрешенности. — Согласно решениям предыдущих Советов, посадку картофеля сократили вдвое, все равно большую часть выбрасываем. Освободившееся место планируем отвести под фруктовые деревья.
— Как силосные культуры? — понял голубые, не утратившие с годами неестественный блеск, глаза Владимир Морозов — старшина животноводов.
— Овес и кукуруза — нормально, а вот подсолнечник — нет, и вообще, он сильно истощает почву. Со следующего года, мы думаем сократить посевы семечек.
— А как же масло, подсолнечное масло! — вскочил Джованни Гварди. Некогда угольные усы главного повара давно побелели, однако продолжали гордо торчать серебристыми стрелками.
— Будет оливковое! — подал голос Никитченко. — К вопросу о садах, я ходатайствую перед Советом о предоставлении цеху дополнительных площадей в западном секторе Ковчега — он все равно пустует.
— Зачем? — чернокожий Берт Кинг с горящими глазами и торчащими волосами походил на воплощение ночных кошмаров. Он и был таким для членов своего цеха, скромно именовавшегося — Цех Обслуги. На самом деле, помимо собственно обслуживания, как-то: парикмахерские, прачечные, цех занимался еще организацией массовых мероприятий — от праздников до спортивных состязаний. И здесь Кинг чувствовал себя, как рыба в воде. На западную площадку Кинг претендовал тоже, и претендовал давно. Новый стадион — голубая мечта стареющего старшины.
— Яблоки, — секатор слова навис над нежной порослью мечтаний Кинга, — как известно, рожают через год. Если разбить новый сад, достаточно далеко от существующего, мы сможем добиться ежегодного урожая. — Безразличные лезвия сошлись, искромсав изумрудное поле взлелеянного стадиона.
Они поднимались по очереди, все двенадцать, и как рыцари Камелота каждый имел право голоса. И пользовался этим правом.
Слова выступающих липкой лентой ползли в уши слушателям.
— Тарелок и чашек в этом месяце, мы выпустили почти вдвое больше. Склады заполнены продукцией…
— Как я уже докладывала, нам катастрофически недостает антисептиков, говоря проще — спирта, — Людмила Мотренко — глава цеха медиков, единственная женщина-старшина потревоженной Гвиневьервой нависала над присутствующими. — На мои неоднократные ходатайствования, уважаемый Ю-чу отвечает отговорками…
— Спирт получают из картофеля, — слова старосты цеха химиков устало капали перегоняемым ректификатом. — Уважаемый коллега Никитченко сократил посевы, а зерновых, из которых также возможно синтезировать этанол, насколько я понял, недостает на насущные нужды…
— Нужды здравоохранения вы не относите к насущным?
Патока слов загустевала, обрастая кристалликами игл.
— Системы жизнеобеспечения работают нормально. За последний месяц население Ковчега увеличилось на сто человек, в любом случае — запас достаточный, — спокойный и надежный, как машины, которыми он управлял Мирза Ривз — глава Техников — слегка сгладил непокорные пряди игл.
— Некоторые братья, старшины, в последнее время позволяют себе… высказывания, — единственный глаз Ария Стахова разгорался огнем плавильной печи, — касательно… Учителя. Его якобы не совсем человеческой… сущности. Я бы просил уважаемый Совет пресечь…
Александр Сонаролла вскочил со своего места. Оттопыренные уши горели пунцовым знаменем революции.
— Вы сомневаетесь в Учителе!
— Не сомневаюсь! Как не сомневаюсь в словах его. «Я не бог», — так, кажется, звучит одна из заповедей.
— Не бог, — неожиданно согласился глава текстильщиков, вопреки словам уши накалились до кровавого пурпура, — однако, даже брат Стахов не осмелится утверждать, что Учитель был простым человеком — как он, или я.
— Необычным, но человеком.
— Рожденным от земной женщины, — размеренно вставил Кекуле — старшина цеха пластмасников — король тарелок и гроза порванных ремешков.
— И ушедшим в положенный срок, — устало согласился Ю-чу.
Лампы далекими солнцами освещали лицо Сонароллы. Прохлада вила гнезда под серыми одеждами рыцарей Ковчега.
— Учитель был рожден земной женщиной, — раскаленные слова капали в прохладный воздух, вопреки природе, воздух холодел, — и был человеком… пока на него не снизошло откровение! Свыше! Божественное откровение! — кровь густела в жилах от жара слов. — После этого он перестал быть простым человеком. Он стал богочеловеком!
— Нет! — теплое дыхание в ледяной пещере. — Он предупреждал, против подобного, обожествления!
— Мы не обожествляем. Он — не бог! Но он и не человек!
***
"За отчетный период мальчиков родилось — двадцать человек, девочек — восемнадцать, что больше, нежели в аналогичный период прошлого года — девятнадцать и пятнадцать соответственно. Вместе с тем, общая рождаемость в сравнении с предыдущим кварталом, снизилась на пять процентов. С главой акушерского отделения проведена профилактическая беседа, обещал исправиться и подтянуть показатели к следующему месяцу".
Крышка поднялась, словно пасть мифического Крокодила — Шурик видел картинки в старых книгах. Из ящика продолжал валить дым.
Сделалось холодно, впрочем, и без того, зубы товарищей слаженно выбивали частую дробь.
— П-пошли, а? — чудом Александру удалось протиснуть слово сквозь непрерывно сжимающиеся зубы.
— П-пошли.
Тимур почти развернулся с явным намерением не пойти — побежать. Почти…
Над исходящим дымом бортом ящика показалась рука.
Друзья-мальчишки дружно заорали.
Человек вывалился на пол. Струйки белого дыма стекали с подрагивающего обнаженного тела.
Они не сдвинулись. То ли страхом, то ли любопытством ноги намертво пригвоздило к полу.
Осмелев, Александр вытянул шею.
Рогов у незнакомца не наблюдалось, хвоста, насколько он мог видеть, тоже. Выходит — не еретик. К тому же Шурик не слышал, чтобы еретики появлялись из дымящихся ящиков. Хотя, кто их знает, еретиков…
Продолжая трястись, человек глянул на них с пола.
Внезапно страх ушел — глаза у незнакомца оказались добрые, совсем не страшные.
— К-который сейчас год?
И заикался он почти, как они, и зубы стучали так же.
Первым опомнился Тимур.
— Сто тринадцатый, от Исхода.
Трясясь, человек кивнул. Попытался подняться, упал, снова попытался… наконец, он дополз до ящика, где с трудом сел, облокотившись голой спиной о холодный металл.
— Дяденька, а вы кто? — окончательно осмелел Александр.
Незнакомец внимательно изучал его лицо.
— Твоя фамилия — Гайдуковский? — неожиданно произнес он.
Успокоившиеся было колени, вновь принялись за привычное дело — трястись.
Шурик кивнул, сказать хоть слово он был не в состоянии.
— У тебя глаза твоего деда… или прадеда… — загадочно произнес незнакомец.
Уперевшись руками в ящик, он вновь сделал попытку подняться. На этот раз ноги выдержали тело.
Запустив руку в дымящиеся недра, незнакомец вытащил стопку одежды. Обычной серой одежды. Аккуратно разложив тряпье, он принялся одеваться.
***
Загадка:
Берега пластмасовы, вода не вода, само, как бумага.
(Блины)
Из сборника «Устное народное творчество»
— Руку, руку давай!
Брайен Гайдуковский молча оттолкнул протянутую конечность и, впившись могучими пальцами в край платформы, легко подтянул мускулистое тело.
Рената, напротив, охотно приняла помощь, крепко ухватившись за теплую ладонь Юрия.
— Долго еще? — задрав голову, Брайен всматривался вверх. Из-за переплетения опор и конструкций с трудом пробивались отблески далекого сияния.
— Сюда, — Юрий указал на округлый лаз в метре от пола.
— Что-о-о, в эту дыру? Не полезу!
— Оставайся, — пожал плечами молодой техник.
Секунду Гайдуковский сверлил взглядом друга и ненавистное отверстие.
— Похоже на Утилизатор, — пробурчал Брайен, осторожно просовывая в него голову. — Надеюсь, обещанный сюрприз стоит того.
— Стоит, стоит, — Юрий галантно поклонился даме, приглашая следовать за крепышом.
Труба выходила на аналогичную площадку, в отличие от предыдущей, она не соединялась ни с одной из конструкций — уступ неизвестно зачем прицепленный к стене. Но с этого уступа открывался вид…
— Как… необычно! — с непривычки Ренату качнуло, она отступила, ощутив спиной спасительную твердость стены.
Брайен просто опустился на четвереньки и усиленно мотал головой.
Лишь Юра, как самый опытный, гордо задрав подбородок, почти не качался.
Справедливости ради — когда он впервые попал на площадку, колени дрожали, как у ребенка, делающего первые шаги.
— Где мы?
— Что… что это?
— Звезды!
Площадка упиралась в прозрачное окно, а за ним… тысячи ярких точек в сводящей с ума, подгибающей колени бесконечности.
— Звезды?
— Звезды!
Рената сделала осторожный шаг к окну. Девушку шатало, словно в болезни.
— Но… я слышала, читала, они… огромны! Огромные горящие шары.
— Так и есть. Просто… они далеко, очень далеко от нас. Отец говорил — миллиарды миллиардов километров.
— Не могу представить такие расстояния, — Гайдуковский поднялся с колен и осторожно выглянул из-за непрозрачного края окна.
— Звезды, настоящие звезды! — заворожено шептала Рената. — А Солнце, где наше Солнце?
— Не знаю, — честно признался Юра.
— Тоже мне — звездочет! — Гайдуковский ворчал по привычке, было видно — он поражен не меньше девушки.
Юноша осмелел настолько, что даже вытянул шею, старательно вглядываясь в сияющую черноту.
— Юр, что это за штука?
— Какая штука?
— Ну вон.
Толстый палец Гайдуковского тыкал в стекло, указывая на видимое, как чернильное пятно, крыло Ковчега. Грозя звездам, из пятна поднимался узловатый палец, навроде Брайеного, только в несколько раз больший.
— Не знаю. Конструкция какая-нибудь, наверное.
— На-вер-ное! Ты же техник!
— Ученик, я еще только учусь.
— Мальчики, а давайте… поклянемся, — в темноте глаза Ренаты горели новооткрытыми небесными светилами. — Здесь, сейчас, перед лицом звезд, которые горят миллионы лет и будут гореть столько же… не расставаться никогда! Что бы ни случилось, что бы не ждало нас впереди, навсегда сохранить нашу тайну и нашу дружбу!
— Скажешь тоже — велика тайна…
— Клянусь! — торжественно пообещал Юрий, протягивая руку.
— Клянусь! — кивнул Брайен.
— Отныне и навеки! — девушка накрыла ладони парней.
Они еще некоторое время любовались вечными светилами, одухотворенные клятвой, тайной и светом звезд.
— Пошли что ли? — проворчал Брайен. — Эй, а куда лезть-то?
С этой стороны стены зияло два отверстия.
— Правое, — подсказал Юрий. — Второе ведет к блоку техников, через вентиляцию. Так я обнаружил эту площадку.
— Хотелось бы знать, каким ветром тебя занесло в вентиляцию?
***
Причина: прекращение подачи электроэнергии.
Результат: Остановка плавильной печи.
Меры: подача электроэнергии восстановлена.
Меры (2): 5 особей утилизировано.
Рекомендуемая квота на детей — 1.
— Молчать!
— Становиться ровно, в шеренгу!
Бесконечные, уходящие вдаль стены, высокий потолок… таких хижин Рхат Лун не видел ни разу в жизни.
Самое большое в их деревне, поражающее размерами жилище вождя, уместилось бы все в этой, огромной чужой хижине.
Но не размеры хижины поразили Рхат Луна, и даже не материал стен — ровный, без следов плетения, твердый, словно камень и такой же холодный. Свет… он лился не из дыры в потолке, и даже не от очага… палки, длинные и нестерпимо яркие, так что больно смотреть, давали его.
Воистину — жилище богов!
Великая Ма…
Ни в одном предании, ни в одной песне, распеваемой вечерами праздников, даже одним словом не упоминалось о холодных стенах и светящихся палках.
Или сказители обманывали доверчивых охотников, или… они не в чертогах Великой Матери.
Если не в них, то где?
Может, заблуждались сами сказители, и рай это совсем не леса, полные тучной и доверчивой дичи. Может рай — это огромная хижина с холодными стенами?
И они — в раю.
— А ну быстрей!
— Пошевеливайся!
Если рай, то не их. Ибо населен он отвратительно гладкокожими существами с маленькими ушами, которые и ушами-то назвать стыдно.
Существа собрались в большом количестве, появляясь буквально отовсюду. Они громко галдели, некоторые даже тыкали пальцами в пленников, то ли проверяя крепость мышц, то ли мягкость плоти.
И вспомнились предания, истории, которые любят рассказывать у костра. О далеких землях, где текут огненные реки, об озерах, в недосягаемой глубине которых водятся отменно зубастые чудовища, и о диких племенах, питающихся себе подобными…
К Рхату прижалась Боэта.
Шелковистый мех девушки ласкал его ладони.
Что бы он отдал раньше за это? Да все, включая и прозрачный камень, найденный в горах за дальними озерами — самую дорогую вещь Рхата.
И камень, и озера остались там…
Где там?
И где здесь?
Неожиданно чужаки прекратили галдеть, расступились.
К пленникам подошел высокий чужак в серой, украшенной сложной татуировкой вычиненной шкуре.
— Этот! — палец, равнодушный палец указал на… Боэту.
Закричав, девушка впилась ногтями в Рхата.
Он был готов защищать ее. До последнего вздоха, в конце-концов он — мужчина!.. Удар в голову. Темнота. Когда зрение вернулось, вопящая Боэта исчезла за дальней излучиной дивных внутренностей хижины.
И снова закричали притихшие было женщины. Запричитали мальчики…
После татуированного, чужаки начали подходить к пленникам. Каждый выбирал по одному, а то и нескольких. Крики усилились. Детей разлучали с матерями, мужей с женами…
Великая Мать, как ты можешь спокойно смотреть на такое!
Лучше бы я погиб в битве! Лучше бы мы все умерли!
На плечо Рхата легла рука.
Сильная, натруженная.
Рхат поднял глаза.
Чужак!
Уродливый, как все они. Большие глаза кровожадно изучают Рхата.
Юноша задрожал.
— Пойдем, парень. Пойдем со мной.
Великая Мать!
***
Страшитесь же дня, когда ни один человек не сможет помочь другому, когда ни от кого не будет принята замена, когда не принесет пользы чье-либо заступничество и когда не будет оказано никакой помощи грешникам.
Вспомни, как испытал Господь Ибрахима повелениями и как тот выполнил их. Тогда Господь сказал: "Воистину, я сделаю тебя предводителем". Ибрахим спросил: «А мое потомство?» Аллах ответил: «Мой завет не распространяется на нечестивцев».
Коран. Сура 2 (123,124).
(Пер. Крачковского)
Эммануил вздохнул.
И снова: кровавые глаза кинокамер, фальшивый блеск вспышек, сухой лес микрофонов. Прищуренные, словно перед выстрелом глаза, полуоткрытые в готовности рты и жала языков, предвкушая, увлажняют сохнущие губы.
Еще бы.
Постройка космического корабля.
Сенсация.
Общество падко на сенсации. Оно их ест.
Эммануил вздохнул.
— На Ковчеге полетят только добровольцы. Уже сейчас у нас имеется более пяти тысяч заявлений. По расчетам, всего Ковчег сможет вместить и обслуживать порядка пятнадцати тысяч жителей.
— А как же дети — рожденные и не рожденные, ступив на Ковчег, родители лишают их выбора.
— А как же презервативы! — парировал Эммануил, — и иные противозачаточные средства. Это тоже дети, потенциальные, не рожденные, но возможные дети. Предохраняясь, родители лишают их выбора, лишают рождения. А как же миллионы голодающих детей слаборазвитых стран. Наверняка, они тоже не прочь родиться в семье миллионера. Детей постоянно лишали и лишают выбора. Так было и у меня, и у вас, когда мы были детьми. Отчего-то до сих пор это мало кого беспокоило.
— Как продвигается строительство Ковчега?
— Об этом лучше спросить у ваших коллег журналистов. Каждая строительная площадка облеплена буквально лесом звуко-видео записывающей аппаратуры. Плановое время завершения строительства — полтора года.
— Если отбросить социальный и философский подтексты, по сути дела — это первая, по масштабам и по протяженности, единственная в своем роде экспедиция человечества к звездам.
— Рад, что заметили.
— У каждой экспедиции — своя цель. Каковы ваши цели?
— Разве построение вымученного, выстраданного, взлелеянного поколениями гуманистов, ожидаемого общества не есть достойная цель? Сама по себе?
— Все это так, но невозможно же лететь до бесконечности.
— Если повезет — отыщем планету, необитаемую планету с пригодными условиями, создадим колонию, и уже под новым небом, новым солнцем попытаемся сделать то, что не удалось на Земле!
***
Я Рубка Гуговиц — честная женщина, обращаюсь к Вам, Великий Пастырь, как к последней надежде.
Раньше цех пластмасников делал сандалии с широкими ремешками, в каких было удобно ходить. Теперь же они делают с узкими, да еще и на размер меньше. Они мне давят и натирают.
В ответ на мои неоднократные жалобы, руководство цеха отвечает отписками.
Я — честная женщина и труженик Ковчега, и имею свои права. Прошу вас, Великий Пастырь, разобраться лично, наказать виновных и произвести сандалии с широкими ремешками, хотя бы для меня.
Рубка Гуговиц — честная женщина.
— Мам, мам, я такое видел!
Шурика распирало от желания рассказать о происшествии кому-либо.
Это притом, что во время расставания, они с Тимуром клятвенно пообещали хранить тайну.
— Ты где был?
Светлые, обычно поднятые брови матери сурово нависали над голубыми глазами.
— Ну… тут… в одном месте…
Признаться о вылазке в заброшенные сектора, означало получить взбучку. Хорошую взбучку. Не признаться — сохранить тайну. Последнее было выше человеческих сил. Особенно, если человек — семилетний мальчуган.
— В каком месте?
— Мам, мы человека нашли, — неловкая попытка увести разговор от чреватой темы. Чреватой широким отцовским ремнем… с заклепками.
— Человека? — попытка удалась, во всяком случае — пока.
— Ну да, в ящике, совсем голого, но он меня знает, и деда знает… или прадеда…
— Ты где был?
Недолгий миг триумфа.
— Мы его в жилые сектора отвели, — Шурик почти физически почувствовал сладостный миг — сладостный для них, для взрослых — соприкосновения выделанной кожи ремня с собственной, нежной кожей…
— Голого?
— Нет, оделся он.
Что-то в голосе матери… Шурик осмелился взглянуть — узкие брови больше не нависали тенями заброшенных секторов.
— Выдумщик, — произнесла мать.
Призрак ремня таял праздничным мороженым, правда черные изюминки заклепок еще держались.
— Иди в столовую, скажи тете Вознесене, пусть покормит.
— Мам, да я… счас… мигом!
Заклепки последовали, вслед за ремнем, лампы секторов вновь засияли светлым, ничем не омраченным днем.
***
— Доктор, я умру?
— А как же!
— Доктор, а от чего?
— Вскрытие покажет.
— Сестра, может в реанимацию?
— Доктор сказал в Утилизатор, значит — в Утилизатор!
Из сборника «Устное народное творчество»
— … в очередной раз взят под стражу Карих Нульсен — горбун юродивый из секторов текстильщиков. На этот раз при большом скоплении народа вещал о скором сошествии Учителя и конце света.
— Я же велел арестовывать не только горлопанов, но и слушателей! — Авраам Никитченко — Великий Пастырь скривился, правая рука дернулась, начав привычный путь к щеке. Обузданная волей, через силу опустилась на пластиковый подлокотник кресла.
Сказано в Заветах: «И великие имеют слабости малых». Великий Пастырь являл собой живое воплощение священных слов. Второй день у Великого Пастыря болел зуб.
— Слова Пастыря, есть воля Учителя, — склонил голову докладчик. — Слушателей арестовали… сколько смогли.
— Ну и сколько же ваши торопыги-шпионы наловили в этот раз? — Авраам позволил себе заломить седую бровь, что не замедлило сказаться кинжальной болью во всей левой стороне лица. — Десять? Двадцать? — боль, давя и ввинчиваясь, казалось, дошла до самого мозга.
— Восемь, — потупил виноватый взор докладчик.
— Восемь! — взревел Пастырь, почувствовав ослабление воли, боль въелась с новой силой, и глава Ковчега без сил откинулся в кресле. — Восемь? Наверняка, включая стариков и детей.
Докладчик благоразумно хранил молчание.
— И что же вы сделали с арестованными?
Почему он мучится, почему терпит? Чего проще — подняться с кресла, спуститься на два яруса — блок медиков… или нет, вызвать сюда — стоматолога, вместе с его инструментами… При мыслях о стоматологе — страх, иррациональный ужас накатил удушливой, жаркой, как топка Утилизатора волной. Даже боль, испуганным ребенком, забилась в уголок челюсти, вяло напоминая о себе слабым зудом.
— После профилактической беседы — отпустили.
— Отпустили, — кивнул Авраам отчасти довольный победой над болью. — Забылись, подобрели. «Отриньте, бросьте их в топку новой, взлелеянной жизни. Пусть огонь распаляет в вас желания перемен! Если требуется — сожгите вещи. Напоминающие о зле, они — зло!» — вам знакомы эти слова?
— Да, Великий Пастырь.
— В огне, священном огне очищается общество. Удобренные золой, всходят новые, более жизнеспособные побеги! Да, бывало — страдали невиновные, бурьян полют — капуста сечется, но это лучше, чем окончательно зарасти дикими растениями. Размягчились, слушателей мы уже не сжигаем — отпускаем, да что там слушателей — самого зачинщика, еретика!
— Он юродивый, безумец, не ведает что говорит.
— Топка Утилизатора одинаково плавит и гениальные и глупые умы. Пора возродить старые добрые традиции — воскресные казни. Как это было в вашем, моем детстве. Когда состоялось последнее аутодафе? Два, три года назад? Чем, скверна разъешь, занимается ваш проклятый Высокий Трибунал?
— Ересь искоренена, вольнодумие отсутствует…
— Был бы Утилизатор — виноватый найдется. Если врага нет, его следует выдумать.
У докладчика, выражая некоторую степень удивления, округлились глаза.
— Да, да, выдумать. Власть держится на страхе и авторитете. Страх внушает сама, авторитет — враги, внешние враги, от которых эта власть ограждает. Всякой власти нужен… жизненно необходим враг — внешний, внутренний, хоть какой: голод, война, кризис, инакомыслие. Без них она теряет само свое предназначение, а значит — собственно власть!
Боль, забитым еретиком, сбежала в дальний угол памяти.
— Ладно, что там у вас дальше? — с исчезновением боли — вернулось хорошее расположение духа.
— Выступление — завтра, перед новобранцами Армии Веры.
— Армия — опора власти, — кивнул Никитченко.
— Великий Пастырь, — ожил громкоговоритель, вмонтированный в подлокотник кресла — новомодная, но чертовски раздражающая штука. Трудно привыкнуть, когда ни с того, ни с сего под тобой начинает говорить мебель, — к вам посетитель. Утверждает — срочно.
Боль, забытая боль, почувствовав слабину, показала из укрытия кончик носа.
— Кто?
— Этьен Донадье — старшина техников.
Счастливая боль выкатилась наружу, радостно барабаня по челюсти костлявыми пальцами.
***
Распределено:
Фабрики — 52 особи
Сады, огороды — 39 особей
Домашние слуги — 11 особей.
Итого — 102 особи.
Естественная убыль при транспортировке — 3 особи.
Длинные, как река, как лесные тропинки, однако, в отличие от них, совсем не извилистые, ходы хижины.
Однажды, еще мальчиками, Рхат с ребятами отправились в путешествие по Большому Оврагу, что разделял землю недалеко от деревни соседнего племени.
Он на всю жизнь запомнил то путешествие.
Идешь, вокруг только рыжие, почти отвесные стены, и они сжимаются. Не выбраться, не увидеть конца.
В эти минуты, следуя за незнакомцем прямыми ходами неведомого оврага, Рхат Лун испытывал сходные ощущения.
Не выбраться, ни узнать, что в конце.
Но тогда, в овраге, было небо… затянутое вечными облаками родное небо…
Достигая конца хода, сворачивая за очередной поворот, Рхат Лун ждал, когда же они покинут дивную хижину. Выйдут под небо.
Интересно, какое оно здесь… в раю… в аду…
Небо не появлялось.
Вместо него появились другие гладкокожие.
По мере продвижения, их попадалось все больше и больше.
Некоторые приветствовали проводника Рхата.
— Привет, Брайен, где лопоухого раздобыл?
— Из новой партии.
— Ребята уже вернулись? Как улов?
— Не очень.
— А этого куда?
— Домой. Рената все уши прожужжала. Помощника ей подавай.
— Ну бывай, привет Ренате.
Великая Мать! Речи их еще чуднее запутанных жилищ.
Рхат Лун вырос в лесу. Завяжи ему глаза, засунь в корзину, отнеси на самую дальнюю опушку, выпусти, он без труда отыщет дорогу к дому. Мох на деревьях, пурпурное сияние облаков на восходе, вечный проводник — река.
Здесь глаз никто не завязывал, но оставь его проводник сейчас, в эту минуту, он ни за что не повторил бы пройденный путь.
Великая Мать!
К ним, по такому же ходу двигалось существо… Всякие сомнения отпали — он в аду! Ничем иным, кроме порождения черного Кантора, существо быть не могло. На голову выше Рхата и малоухого. Гладкая, как у проводника кожа утыкана длинными, в палец толщиной иглами. Рот вытянутый, как у хищника, без губ. Полный набор желтых покосившихся зубов скалится в кровожадной ухмылке.
Рхат задрожал. Захотелось бежать… но куда? Сильная, натруженная рука проводника сжала дрожащее плечо.
— Не бойся. Это валгалл с планеты Арг. Добрейшее существо и такой же раб, как и ты.
Этот ужас, это порождение ночных кошмаров, этот слуга Кантора — добрейшее существо! Нет, Рхат Лун не настолько глуп… порождение кошмаров спокойно прошло мимо, не удостоив Рхата и пол взглядом.
— Привыкай, парень, — вывел из ступора голос проводника, — еще не то увидишь.
Великая Мать… где ты?
***
Растение гниет с корня.
Плодоносящее, с цветущей кроной, глубоко внутри, под землей, оно уже заражено плевелами тлена.
Вот два внешне благополучных ростка. Они не отличаются. Но вытяни из земли, глянь в корень и ты увидишь разницу. Рано или поздно болезнь перекинется на листья, ветки, ствол.
И если не выкорчевать, не уничтожить, спалить источник, нечистая поразит прочие побеги.
Летопись Исхода
«Деяния Пастырей»
Глава 1. «Великий Сонаролла»
Лампы зенитными солнцами орошали зеленые поля столов. Неутомимые кии-скарабеи пихали навозные кругляши бильярдных шаров. Они сталкивались друг с другом, и тихий стук отмерял время не хуже тиканья корабельного хронометра.
— Пятерка, в левый угол, — торжественно, словно речь на Благодарении возвещает Данкан Левицкий — улыбчивый пластмастник с широким лунообразным лицом.
Соприкоснувшись с битком, оранжевая пятерка ошпаренной рукой отскакивает от борта и лениво катится по зеленому полю стола в угол. Левый угол.
Десяток зевак следит за победным шествием неторопливого шара, и запах разгоряченных мужских тел заполняет пространство под слепящим солнцем лампы.
Кусая губы, за пятеркой следит Рав Танг — текстильщик. Крепкие зубы нещадно терзают невинную плоть губ.
Круглой пятерке все равно. Она катится. И падает в лузу.
Десяток глоток восторженно ревет. Зубы сжимаются, и обескровленная плоть рождает рубиновую каплю.
Довольный Данкан принимает поздравления.
— Шестерка в середину! — слова вязнут в мужском напряжении, запахе пота, отчаянии Танга.
— Господи, Учитель, не дай, помоги… — шепчет Танг, и алая капелька смешно дергается на снегу губ.
— Молись, молись, последнее, что осталось, — Данкан аккуратно, как мать новорожденного, опускает объемное пузо на дерево бортов.
— Учителю нельзя молиться, — рождает толпа голосом остроносого Фридриха Знанского. — Он не бог.
— Уж не человек ли? — накопившаяся злость выплескивается ведром кипятка. Засохшая капля превратилась в бурую точку.
— Человек, — пожимает узкими плечами маленький Знанский.
— Это ты у нас человек, или хе, хе, подобие его, — Ал Уотерби покровительственно ложит пухлую ладонь на кость плеча, — а Учитель, он, он…
— Бог!
— Не бог!
— Нет Бог!
К месту спора подтягиваются обитатели соседних столов. Пот загустевает ядовитой желчью.
— Бог!
— Человек!
— Был человеком! — к столу переговоров протискивается менее худой, но не менее конопатый Энтони Левицкий — родной брал удачливого бильярдиста и косвенного виновника спора. — Но когда на него снизошло откровение, — толстый палец с траурной каемкой ногтя важно тычет в лампу, призывая светило в свидетели, — он стал БОГОЧЕЛОВЕКОМ — два в одном!
— А если по роже? — сосредоточенно интересуется Линкольн Черчь — сторонник человеческой фракции.
— А если я тебе? — Данкан выдвигается на защиту брата.
Желчь каплет в раскаленный воздух едучими каплями.
Забытая шестерка одиноко скучает на зеленом сукне.
Олег Гайдуковский от стойки с пивом лениво прислушивается к спорщикам.
Бог? Человек? Какая разница. Олег не видел в рьяном выяснении сущности Учителя особого смысла.
Олег почти не помнил Учителя — тот ушел, когда Олег был ребенком.
Но сколько себя помнил Олег — споры были всегда.
***
В ответ на ваше письмо от *** отвечаем: новый фасон обуви разработан и утвержден, в соответствии с последним постановлением Совета Церкви «Об экономии исходных материалов». В данное время производственные мощности цеха не позволяют производить обувь по индивидуальным заказам (исключение составляет обувь, производимая для членов Совета Церкви и лично Великого Пастыря).
Алексей Мотренко
Заместитель старшины цеха пластмасников.
Отец Щур обвел слезящимися глазами притихшую паству.
Первый ряд, кряхтя и отдуваясь, ломился под тяжестью огромных задов, переходящих в потные ляжки великовозрастных прихожанок. Настоящих дочерей вознесшегося Учителя, неизменно нарядных и до отвращения преданных. Постоянных, как утренняя сирена и таких же назойливых.
Слева направо: рыжая Маланья Черчь — мать восьмерых детей и бабушка двух десятков сопливых внуков, Агафья Танг с неизменным тиком — результат необоснованных подозрений мужа, отчего казалось, что женщина постоянно подмигивает; Уна Персон с торчащими, как у вампира клыками; Мамаша Гуговиц, расплывшаяся на три места; рядом с мамашей — ее тень — Ума Гольдеман, в отличие от наперсницы — худая и длинная. За глаза престарелых подруг называли: клубок и спица. Замыкала линейку почета — маленькая с хищно блестящими глазками-буравчиками Серта Каплан.
Отец Щур вздохнул. Как человека, его тяготила, замешанная на фанатизме преданность, истовая, без малейшей примеси разума вера. Как священник, он понимал — на таких вот, как подмигивающая Танг, бездумно вторящая ему Уна, как Клубок и Спица, не терзающихся вопросами, сомнениями, бездумных почитательницах Истинного Учения, держится их вера.
— В те времена творились страшное зло и прелюбодеяния. Земля утопала в грехах, как в крови. И переполнилась чаша терпения!
За стеной фанатичек сидели остальные: неизменно важный Дундич в окружении обильного подбородками семейства, ковыряющий в носу Зиди, притихшие Гайдуковские, сонная старуха Идергиль, — длинный нос почти касался обвислой груди.
— И полилась через край!
Они внимали, сонно позевывая и автоматически кланяясь в нужных местах.
— Учитель один сохранил чистоту деяний и помыслов. При виде страданий человеческих, преисполнилось сердце его великой скорби!
Зиди, наконец, выудил искомое из носа и украдкой вытер палец о доску скамьи.
— И построил он Ковчег. И отсеивая зерна от плевел, выбрал достойных среди недостойных. И возвел их!
Глядя на Зиди, младший Гауйдуковский и себе воткнул палец в ноздрю. В чем тут же не преминул раскаяться, получив затрещину от отца.
— И дал им в руки светоч, нить путеводную — Истинное Учение!
В молодости Щура занимал вопрос: зачем Учению приставка «истинное». Если оно единственное, нерушимо и неделимо, значит просто — Учение. Возраст, вместе с сединой и заботами разогнал глупые мысли.
— Но Враг не дремлет! Только Учитель был безгрешен. Скверна пустила гниющие ростки в неокрепших умах!
Фанатичный партер затаил дыхание, даже Агафья Танг перестала подмигивать. На остальных кульминация проповеди произвела меньшее впечатление. Зиди вновь пристроил палец, Дундич отвесил шумный подзатыльник не в меру расшалившемуся отпрыску.
— Любящее сердце Учителя не выдержало. Удрученный горем, оставил он нас. Оставил и вознесся!
Идергиль с присвистом всхрапнула, да так, что проснулась сама.
— Чтобы оттуда, со звездного жилища, божественных чертогов, смотреть на детей своих.
Идергиль часто моргала заспанными глазами
— Учитель все видит! И мы боремся, искореняем скверну, именем его!
— Слава! — вяло затянула паства.
— Укрепляйте веру, ежедневно, еженощно. Возносите молитвы. Помните — скверна, скверна заложена в нас изначально. Нечистая не дремлет! Она ждет, притаилась, своего часа, дабы пустить, разрастись буйной плесенью на благодатных хлебах неокрепших умов!
Шумно отодвигая стулья и скамьи, паства опустилась на колени.
Настало время совместной молитвы.
***
На весь мир и сам Учитель не угодит.
Из сборника «Устное народное творчество»
Они были странной троицей: техник, металлург и девушка из привилегированного сословия священнослужителей, чей отец даже входил в Совет Церкви.
Странной, возможно поэтому, возможно вопреки, дружной.
На зависть доброжелателям и злопыхателям.
Техники должны общаться с техниками, металлурги — с металлургами, священники — со священниками. И их дети тоже. Особенно дети. Смена. Будущее. Надежда и опора.
Кто сказал?
Где, в какой части, на какой странице Заветов сказано подобное?
Наоборот — все равны!
Разве Учитель, Великий Учитель в неизмеримой мудрости взял бы на Ковчег недостойных? Изначально?
Путь к дому проходил мимо Майдана. Почти все пути на Ковчеге, так или иначе, касались главной площади.
Решетки ограждений распахнуты. Под люком совсем не страшный, немного покосившийся помост.
Мурашки холодными лапками затопали по спине. Ноги, минуя волю, живя собственной жизнью и собственным мозгом, ускорили шаг.
Всегда так.
Юра вспомнил свою первую казнь.
Отец привел его.
Они стояли в первом ряду.
Даже в давке люди старались держаться подальше — техники.
Казнили мужчину. Худого, с редкими всклокоченными волосами и лихорадочным блеском безумных глаз.
Как он кричал. Ах, как он кричал. И сопротивлялся.
Руки клещами впились в металл, ногти, мягкие ногти, казалось, оставляют на блестящей поверхности рваные царапины. На шее, лбу вздулись крупные вены.
Четверым конвоирам — здоровенным ухарям Армии Веры едва удалось втолкнуть тщедушное тело в Утилизатор.
Крик оборвался.
А Юру вырвало.
Прямо на Майдан.
Потом он болел. Долго. По нескольку раз на ночь, вскакивая в холодном поту от несмолкаемого крика.
Врачи разводили руками.
Давали какие-то порошки.
От них он спал.
Но крик, вездесущий крик еще долго преследовал Юрия в ночных кошмарах.
Он и сейчас снится.
На противоположном конце, за дальней решеткой, мелькнула рыжая тень. Высунулась, чтобы тут же вернуться за непроницаемый для взоров угол.
Собственно, Юра и заметил ее только потому, что тень пыталась быть незаметной. Слишком разительно огненные движения отличались от мерной поступи обывателей.
За ним следят — интересно.
И, кажется, Юрий Гопко знал, кто.
***
Одна девушка из химиков нравилась двум парням сразу.
Один думал: «если я подойду к ней в проходе, она примет меня за наглеца и оттолкнет, если подойду к ней в столовой — примет за невежду и оттолкнет, если на работе — примет за бездельника и оттолкнет. Подожду-ка я удобного случая. Оступится в коридоре — поддержу, поперхнется в столовой — подам воды, задумается на работе — помогу советом». И принялся ждать.
Второй же не стал ждать. Он просто подошел к девушке и предложил вместе пойти на Благодарение, и она согласилась.
Учитель говорит: НЕ ЖДИ СЛУЧАЯ, СОЗДАВАЙ ЕГО САМ.
Заветы. Глава 5, стих 8
Ажурная стрела крана опустила почти невесомое тело механизма на станину, ощетинившуюся наростами креплений и иглами направляющих. К месту стыковки тут же устремилось пол дюжины рабочих. В пузатых скафандрах с объемными шлемами, они походила на новорожденных, едва выбравшихся из чрева в воду и ошалевших от нежданного простора. Пуповины страховочных тросов напоминали младенцам о матке корабля.
Напоминанием об отце, из середины закрепляемой конструкции фаллическим символом торчала труба.
— Я думал, в космосе не нужны подъемные устройства. Объекты здесь ничего не весят, разве не так?
Эммануил плавал у иллюминатора, наблюдая за ходом работ. Как всегда в невесомости, подкативший к горлу комок тошноты, плавал вместе с ним, в раздумьях о дальнейшем движении. Наружу? Обратно в желудок?
Как всегда, Эммануил успокаивал себя, но главным образом надоедливый комок, во временности явления.
На готовом корабле невесомости не будет.
— Не совсем, — невдалеке плавал Шабровски, вот уж кто чувствовал себя в невесомости, как рыба в воде. — А многотонная конструкция Ковчега, обладающая, пусть и небольшой, силой притяжения, а инерция. При таких-то массах, представляешь, чему она равна? Ведь здесь эти массы не лежат в покое, а двигаются.
— Ну да, — Эммануил безуспешно пытался восстановить школьные знания по физике. В голову упорно лезли портрет Ньютона и глазастый учитель физики, увлеченно вращающий ручку динамо-машины.
— Это я думал — вы против насилия.
— А? — искры между электродами, или как там они назывались, с трудом отпустили Эммануила.
— Я говорю об этой красавице, — инженер кивнул на устанавливаемую пушку, — и о ее сестричках на других концах звездолета.
— Гайдуковский уговорил, — вздохнул Эммануил. — Я тоже был против оружия, поначалу. Но потом понял — мало ли. Метеориты расстреливать, в конце концов. Мы провозглашаем добро, однако это совсем не значит — рабскую покорность.
— Может ли быть добро с кулаками?
— Не перестанет ли при этом оно быть добром?
— Вечная проблема.
***
Умерло — 23 (в т. ч. 20 рабов).
Родилось — 1 (без разрешения).
Утилизировано — 26 (отцовство установлено).
Рекомендуемая квота на детей — 5.
Путаница ходов вела их все дальше и дальше.
Нет, это нельзя было сравнить с оврагом, это было, как… напрягая мозги, Рхат Лун тщетно искал нужное слово.
Неожиданно проводник остановился у одного из выдавленных прямоугольников, во множестве усеивающих странные стены странного жилища.
Рхат Лун терялся в догадках, что это может быть.
С едва слышным шелестом прямоугольник отъехал в сторону.
Колдовство!
Великая Мать!
Вот он — вход в ад, где душу грешника, мучат вечно слуги черного Кантора…
С той стороны оказался такой же ход, впрочем, не такой… более широкий, с большими дырами в стенах и заставленный малопонятными, но — хвала Великой Матери — неживыми предметами.
Проводник сделал шаг, Рхат Лун за ним.
Со знакомым шелестом прямоугольник за спинами возвратился на место.
Ловушка!
Прижав уши, Рхат Лун рассматривал незнакомую хижину.
Надо было бежать, когда мог…
Но куда?..
Великая…
Из черного зева одной из дыр появилось другое существо. Тоже молоухое. Пучок волос на голове — единственная растительность на отвратительно безволосом теле — у существа был несравненно длиннее, нежели у проводника и другого оттенка.
— Привел?
— Да, вот.
Длинноволосое уставилось на Рхата. Ему сделалось страшно.
— Но это же мальчик, а я просила — самку. Понимаешь, самку! Мне нужна помощница по дому!
Другой ход родил очередное существо. На этот раз — хвала Великой Матери — не большое.
— Пап, вернулся. Ой, какой хорошенький мохнатик!
Детеныш, детеныш безволосых. Большие, как у проводника глаза, длинные волосы того же цвета, что и у… матери.
Семья!
Семья проводника!
— Не злись, Рената, смотри, он Лизе понравился.
— Ага, живая игрушка. Небось блохастый, и шерсти от него будет в доме…
— Когда я стоял там, смотрел… он так трусился, и глаза… несчастные. Жаль стало парня, ведь заберут на фабрику, а там — сама знаешь. Думаю, он будет стараться работать, не хуже любой самки. Ведь будешь?
Из всего сказанного Рхат понял только, что обращаются к нему. Обращаются с вопросом.
С трудом соображая, в согласном жесте, он поспешно завертел головой.
Великая Мать, куда он попал?..
***
На всякого еретика свой Люк найдется.
Из сборника «Устное народное творчество»
— Где был? — каркающий голос деда встретил Брайена на пороге.
Юноша огляделся — родители ушли, наверняка, на очередную проповедь секторного священника отца Ю-чу, лишь дед Саша, нахохлившимся стражником, караулил в своем кресле, неспособный куда-либо идти, и оттого вечно недовольный.
— Где был?
Клетчатый плед скрывал от глаз высохшие ноги. А ведь дед Александр не всегда был таким. Брайен помнил крепкого, неизменно жизнерадостного старика, что водил его в плавильные цеха и штамповочные мастерские. Огненные искры разлетались испуганной ребятней, чтобы застыть на полу радужными шариками, огромный пресс, натужно приседая, выдавливал из блестящего листа аккуратные миски…
— Оглох? Где был?
Брайен вздохнул.
— Гулял.
— Гулял! — фыркнул старик. — Интересно с кем? Опять с этим бездельником Гопко?
— Он не бездель…
— Все техники бездельники и дармоеды! — отрезал дед Александр. — И твой дружок не исключение! Знавал я его дедулю в младые годы — уже тогда задавака, каких свет не видывал. Только и умеют, что пялиться в свои экраны. Мы работаем с утра до ночи, здоровье теряем… — коснувшись больной темы, старческий голос дал слабину.
Брайену стало жаль деда — в сущности, тот неплохой человек…
— Чем занимались?
Слабость оказалась скоротечна.
— Да так, всяким…
— Всяким! Вот она — молодежь! Всяким! Работать никто не хочет, дай только послоняться…
— В спорт зале были! — отыскал аргумент в защиту своего поколения Брайен.
— Морды друг другу бить! Мужское занятие. В мое время мужчинами становились иначе. Я помню тот день. Помню, как сейчас. Кода мой отец — твой прадед взял меня на мою первую казнь. Мне было восемь. Детей обычно не водили так рано, а мой повел. Казнили еретика, он не плакал, но просил прощения, не знаю за что — наверняка грехи велики были. Потом его в Утилизатор. Это был урок — мне, мальчишке. Вот как я стал мужчиной! А ты — спорт зал. Эх, времена…
***
Они собрались.
Мужи, понукаемые ниспосланным свыше.
Вдохновением.
Божественным прозрением.
Никейский Сход.
И Учитель незримо сидел меж них.
Верных последователей.
Истинных детей.
Вдохновлял.
Наставлял.
И был установлен первый догмат.
Летопись Исхода
Глава 2. часть 4
Они засели в каюте Никия, худосочного, как его друг Сонаролла, от которого Никий Гвана — за глаза и в лицо называемый королем моды — имеет радующие глаз серые ткани, из которых шьет, поражающие разнообразием, серые робы.
Никий Гвана — отнюдь не старый старшина портняжего цеха, получивший эту должность в наследство от отца и за красивые глазки.
Никий Гвана — худой рыцарь, юный патриарх, король штанов и кофточек, повелитель маек и трусов, законодатель мод отороченных рюшиками чепчиков и вечно мокрых пеленок.
Они собрались в каюте Никия, и было их число — тридцать. Плюс — минус. То один, то другой из заседающих выходил глотнуть свежего воздуха и новых идей в шумный коридор.
Три десятка озабоченных проблемой мужей разной степени увядания. Женщинам нет места в мужских играх, у женщин свои игры — дети, семья. У мужчин — интересы общества, которые часто идут в разрез с интересами женщин, детей и семьи.
— Мы шобрались, шоб положить конец шпорам, — шамкал старик Линкольн, и жидкая седая борода важно качалась в такт мудрым словам архивариуса. — Рашкол недопуштим. Волнения охватывают шектора.
Красные делегаты кивали, и пот капал с сосредоточенных лиц.
— Человек, или Человеко-Бог, — узкая ладонь рубанула густой воздух. Поликарп Миллгейт незадолго до речи посещал коридор и выглядел менее раскаленным.
— Раз и навсегда, — горячая ладонь снова вошла в масло застоявшейся атмосферы.
— Бог!
— Человек!
— Человеко-Бог!
Лампы скромно блекнут в сиянии яростных глаз.
— Человек, только человек, он сам сказал, — срывается на визг Фридрих Знанский.
Писк цирюльника Знанского тонет в рокоте текстильщиков и портных.
— Человек, озаренный божественной мудростью, что уже не делает его человеком, — бас Энтони Левицкого легко заглушает нестройное блеяние химиков и поваров.
— Моя миссия в этом мире закончена. В этом мире — его слова. Он перенесся в иной, божественный мир! — внес свою лепту хозяин помещения.
— Верно!
— Правду говорит!
Роскошные волосы Гваны — единственная свежая деталь в комнате — важно колышатся, принимая поздравления.
— Волнения, распри охватывают сектора. Не для себя, для дела, общего дела, мы положим конец распрям. Здесь и сейчас, не для себя, для них, голосуем!
Худая рука Александра Сонароллы первой тянется к благоразумно тусклым лампам. Могучей порослью, густой воздух взъерошивает десяток рук, два десятка.
И робкий рокот сторонников Знанского вязнет в гуле обрядших идола богочеловеков.
***
Потреблено:
Вода — 180 л (норма 200)
Овощей — 100 кг (норма 90)
Фруктов — 10 шт. (норма 8)
Круп — 800 кг (норма 800)
Мяса (в т. ч. птица) — 97 кг (норма 100).
Экономия составила: …
Хорунди хороший.
Очень хороший.
Пыль — плохая.
Хорунди вытирает ее каждый день. Она появляется.
Снова и снова.
Как в родном мире.
По берегам болот росли светящиеся сыроежки.
Вкусные.
Кислые, с горчинкой.
Если повезет, если знаешь места — найдешь.
Хорунди — знал.
Хорунди — везунчик.
Откусишь часть длинной ножки… Главное сдержаться, не сгрызть до основания, до толстого начала грибницы.
За ночь, одну ночь, ножка — вкусная, терпкая, отрастала снова.
И так много дней.
Хорунди ходил к сыроежке и ел.
Пока… слезы подступили к глазам… в один из дней. Хорунди не сдержался. Съел всю, до земли, даже вырыл небольшую ямку. Было так вкусно. Хорунди был голоден…
Он потом приходил. Много дней. Сыроежка не отрастала.
Вот бы пыли так… отгрызть ногу.
— Из последнего рейда мы привезли восемьдесят семь рабов. Как обычно — молодняк и самки.
Хорунди вздрогнул. Как всегда, погружаясь в мечты, он уходил из мира. Как всегда, его возвращали.
Отхлынувшие было слезы, снова навернулись на глаза.
Он не дома. В этом мире нет вкусных сыроежек. Единственное, что отрастает — пыль. Проклятая, всепроникающая пыль.
— После последней утечки из реактора, у нас умерло достаточно. Однако, все равно, рабов много, чертовски много. Проведете рейд, по секторам рабов. И не затягивайте с этим. В ближайшие, слышите, Кинг, в ближайшие дни!
— Будет сделано, мистер Гопко.
Хорунди вздрогнул.
Рейд!
По секторам!
Страшные слова.
Однако, Хорунди молод, очень молод. И он старается. Хорунди не должны забрать! Да, здесь не так, как в родном мире, но Хорунди нравится, очень нравится. Хорунди нравится пыль, и нравится ее вытирать!
— Юра!
От крика Хорунди едва не выронил тряпку, а когда увидел, кто вошел, помимо воли, тело затряслось мелкой дрожью.
— Дорогой, мне нужна новая горничная. Эта сучка, что привезли из последнего рейда, совершенно не годится. Она же не имеет понятия о работе по дому. К тому же от нее воняет!
Хозяйка — жена Старшего Хозяина. Хорунди боялся ее. Он не боялся так ядовитой шеши в родном мире. Тихой, осторожной, смертельной шеши. Да что там! Он не так боялся своего отца — собирателя Ворунди, когда тот обпивался горькой настойки перебродивших лив. Старшую Хозяйку боялись все. Хорунди видел, едва заметив ее рыжие волосы, трусились и иглокожие диказы и огромные, с могучими клешнями кабы.
Когда Хорунди только попал на Ковчег. Мальчиком. Старшая Хозяйка забрала его к себе. Хорунди, хотя прошло время, до сих пор с дрожью вспоминал страшные дни.
«Идиот!»
«Кретин!»
«Инопланетная погань!»
«Не на что не годная подстилка!»
И плетка.
Она висит у Старшей Хозяйки за спиной. Так, чтобы она всегда могла дотянуться.
Шрамы остались.
Они уже не болели, как прежде. Не всегда. Только заслышав голос Старшей Хозяйки.
— Марта, мне некогда заниматься твоими слугами!
— Нашими, нашими слугами, дорогой.
— Хорошо, нашими. Вот Кинг как раз собирается провести рейд по секторам. Иди с ним, подбери себе что-нибудь.
Старший Хозяин добрый.
Хороший.
Он любит рабов.
***
"Я Золман Никитов, цех аграриев — больной человек. Ибо, как сказано в медицинском справочнике, который от меня прятали, а я все равно нашел, алкоголизм — болезнь. Следовательно, требую отношения к себе, как к больному. Меня лечить надо, а не насмехаться. Для поправки здоровья, исключительно в медицинских целях, прошу выдать два литра спирту чистого медицинского, и еще закуски, так как он у них картофельный и воняет".
С уважением, Золман Никитов — больной человек.
— … состоялось заседание Трибунала. Восемь из десяти подследственных приговорены к утилизации, в том числе небеизвестный Реликт Уотерби.
— Это тот, который врачевал наложением рук?
— Да, колдун из пластмасников. Память Великого Пастыря достойна высочайших похвал.
Артур Гвана — Великий Пастырь сдержанно кивнул, принимая комплимент и разрешая продолжить.
Память достояна похвал, добродетель простирается, далеко за обшивку Ковчега, знания не вмещает библиотека. Изысканная, как праздничные яства, грубая, как пища арестанта лесть, остается лестью. Ложь! Ложь бывает во имя. Спасения, обретения, защиты. Интересно, во имя чего врут они — десятки допущенных к высокой особе приближенных с холодными, как чернота за обшивкой глазами.
Во имя чего врал он — священник, рядовой член, а затем председатель Высокого Трибунала. Врал, льстил, желал здоровья, пророча болезни, счастья, предвкушая неудачу, долгих лет, надеясь на смерть. Врал, пока врать стало не кому. Врать стали ему.
Секретарь — верный Бенаторе, он поднял мальчишку из низов. Сейчас бы прозябал в каком-нибудь секторе рядовым священником, возвысил, приблизил… о чем думает он, восхваляя память благодетеля, заботливо справляясь о самочувствии…
— Медики докладывают, у них снова сиамские близнецы. Приняты обычные меры, однако одна из акушерок проболталась. Поползли слухи. Некий Еван Кастров — второй ярус, сектор химиков, начал проповедовать о скором конце света.
— Надеюсь очаг… изолировали?
Бенаторе склонил голову. Лысый затылок секретаря заговорщицки подмигнул Великому Пастырю.
— Арестована вся смена медицинского персонала, включая санитаров, взят под стражу Кастров и члены его семьи. Ведется следствие.
— Куда Ковчег катится!
Артур Гвана провел раскрытой ладонью по лицу, символически смывая скверну. Секретарь поспешил повторить ритуальный жест.
И здесь лесть, угодничество. Надо же, когда-то ему нравилась эта лесть. Когда становишься Великим Пастырем, когда вместо раздумывания над изысканным комплиментом его преподносят тебе… голове впору пойти кругом.
Эйфория не продлилась долго.
Вершина потому и вершина, что мала. Двоим нет места. Одному, вроде не тесно, но… «Дальше обшивки не выйдешь», — гласит народная пословица.
— Куда Ковчег катится… скоро век, как искоренили Арианскую ересь, Маховщину, Апполинарцев, Бадастов, Гаситов, выросло не одно поколение, а плевелы инакомыслия продолжают давать ростки, всходы… куда Ковчег катится?..
— Насчет ростков, — секретарь фальшиво закашлялся. — В нижних ярусах объявился человек. Проповедник. Отвергает божественную сущность Учителя. Собирает большое число слушателей. Критикует существующее положение вещей, более того — институт Церкви, утверждает, Учитель учил совсем не этому, простите за тавтологию.
Вот-вот, откуда они только берутся эти странствующие проповедники, новоявленные мессии, лжепророки…
— Зачем вы мне это говорите? Не знает, что делать?
Секретарь опустил голову, розовая лысина снова подмигнула шаловливым озорником.
— К сожалению, мы не в состоянии принять… обычные меры, то бишь — арестовать. Он прячется в заброшенных секторах. Только чистильщики спускаются туда, да и им известны далеко не все… проходы. К тому же, как вы знаете, Истинное Учение никогда не находило должного отклика в среде ассенизаторов, а вера в божественность Учителя…
— Проще говоря, его покрывают. Почти заговор — это интересно, хотя и не очень. Арестуйте с десяток этих ваших чистильщиков, наобум. Устроим показательную экзекуцию. Учитель сам отделит грешников от праведников. Объявим награду за поимку. Заставим, так называемых, сторонников задуматься. Больше веры, друг мой, в человеческую сущность.
Затылок заговорщицки сощурил розовый глаз.
— Слушаюсь.
После осторожного стука, больше похожего на шкрябанье умирающего, на пороге каюты возник камердинер.
— Великий Пастырь, к вам Индиго Мендез — старшина Техников.
Артур Гвана скривился. Техники — неизбежное зло. Не раз и не два Гвана задумывался над тем, что его предшественник — Великий Сонаролла поторопился, даровав техникам более чем щедрые привилегии. Особенно, когда вздумается, без предварительного согласования, являться в покои Великого Пастыря.
***
Жить — Учителю служить.
Из сборника «Устное народное творчество»
— Да вы что! — Авраам Никитченко — Великий Пастырь, подчеркивая важность слов, даже поднялся с кресла.
Невысокому Пастырю «импульсивный» поступок доставил удовольствие. Удовольствие смотреть на собеседника сверху вниз. Особенно на Этьена Донадье — длинного, как жердь и такого же худого старшину Техников. На приемах и собраниях обычно происходило наоборот. Даже сидящий Донадье на голову возвышался над прочими членами Совета. — Нашей Матери Церкви только-только удалось добиться относительной стабильности. Ересь искоренена, вольнодумие отсутствует… — Авраам невольно повторил слова своего секретаря, те самые слова, за которые пол часа тому назад распекал помощника. Под руку с замешательством вернулась зубная боль.
Последние пять минут инструменты стоматолога уже не казались столь страшными. Маленькие, миленькие штучки… блестят…
Сердобольная ладонь потянулась к щеке…
— Техники должны следить за работой механизмов, вот пусть и следят, а не лазят, куда не просят.
— Лазят дети, сорванцы по садам, мои же люди совершают плановые обходы! — Донадье являл собой пример невозмутимости, лишь большие уши покраснели, выдавая истинные чувства техника.
— Именно лазят, я не оговорился. Куда не просят и когда не просят. Вы сами сказали — находка сделана в так называемых заброшенных секторах. Секторах, где обретают убежища еретики.
— Это обвинение?
— Это факт!
— Ересь искоренена — ваши слова.
Проклятая зубная боль, проклятый техник, когда-нибудь это кончится!
— Как их вообще занесло туда!
— Не важно. Важно то, что уже сделано…
— Нет! Я запрещаю! Исследования свернуть, проход опечатать!
— Вы не можете! — багрянец ушей перекинулся на лицо, стремительно добираясь до шеи.
— Уже сделал! Или вы забыли, кто здесь хозяин?
Вопрос должен был звучать вкрадчиво, с подоплекой, однако проклятая зубная боль мешала воспользоваться обертонами голоса в полной мере.
— Открывающиеся перспективы…
— Какие именно? Я вижу только одну перспективу, и она мне не нравится.
— Но люди, они имеют право знать…
— Именно благом людей я руководствуюсь, а еще благом Матери Церкви, что одно и то же. Или вы думаете иначе?
— Нет! — видимая часть тела техника алела раскаленным металлом.
— Рад, что наши мнения совпадают. Знание — зло! Неведение — благо, за редким, очень редким исключением.
***
Мы даровали Мусе Писание и вслед за Мусой направляли других посланников. Мы даровали Исе, сыну Марьям, ясные знамения и укрепили его волю через Святого Духа. Но каждый раз, когда к вам приходил посланник с тем, что не по душе вам, вас обуяла гордыня и одних посланников вы объявляли лжецами, а других убивали.
Коран. Сура 2 (87).
(Пер. Крачковского)
Сотни глаз, устремленных на него. Эммануил чувствовал себя уставшим, очень уставшим. Сколько их было: насмешливых и сочувствующих, недовольных и понимающих, подозрительных и восхищенных. Сколько еще будет… будет как раз немного. Уже немного. Там, над головами, в недосягаемой глазу вышине, еще не среди звезд, но уже ближе, нежели что другое, плавал он — Ковчег. Завершение строительства, именно строительства — ведь это их дом — дело нескольких недель.
Сегодня, на встрече, глаза были понимающие с небольшой примесью восхищенных. Это понятно, на эти, последние перед полетом встречи, редко забредали праздные зеваки. Люди приходили, зная, ожидая, понимая, что хотят услышать.
И слышали это.
— Отриньте заблуждения, сомнения, страхи! — он начал тихо, но быстро возвысил голос до должных высот. Многие из сидящих в зале подали заявку на участие в полете. Несмотря на уже сделанный решительный шаг, их требовалось ободрить, кого-то успокоить, всех без исключения уверить в правильности решения.
Людям свойственно сомневаться.
Он — Эммануил — тоже человек.
Кто ободрит его, успокоит, утвердит в верности выбранного пути.
— Отриньте, они отравляют жизнь. Настоящую жизнь, ибо прошлое минуло, а будущее неведомо!
Тоже мне — ободрил. Будущее — неведомо. Ведомо! Еще как ведомо! И оно прекрасно!
— Отриньте прошлую жизнь. Прошлые неблаговидные, или благовидные поступки, грехи и достоинства. Прошлое — удел памяти. Пусть в ней и остается. Не важно, кем вы были, что делали или, наоборот, не делали. Отныне, с этой минуты, вы — новые люди, а если нет, так станьте ими! Хотели измениться — меняйтесь, хотели заняться новым делом — занимайтесь. Не держитесь за прошлое, оно лишь след, проблеск активности в коре головного мозга.
Получалось не совсем то, что задумывал. Всегда так — стоит начать говорить, и поток мыслей уже ничем не остановишь. Они цепляются, переходят, рождаются одна из другой.
Он говорит для них, а получается — для себя. Ободряет слушателей, самоутверждаясь в правильности собственного мнения.
— Отриньте прошлое, ибо оно — зло. Сомнения, страхи, воспоминания, которые заставляют страшиться — зло. Отриньте, бросьте их в топку новой, взлелеянной жизни. Пусть огонь распаляет в вас желания перемен! Если требуется — сожгите вещи. Напоминающие о зле, они — зло! Не раздавайте, раздав их — умножите зло. Сожгите! И обновленным, очищенным, свободным от прошлого и, так называемого, общественного мнения, начните новую жизнь. Голым и босым, без гроша в кармане, но жизнь, о которой вы так долго мечтали! Истинно вашу жизнь. Живите и наслаждайтесь. Ибо она — жизнь — одна!
***
Цвет индикатора — оранжевый.
Объем — критический.
Рекомендуется уменьшение объема — 100 особей.
Статуэтка пришла в движение.
Пузатый божок грозил небесам пухлой рукой.
Словно легендарная танцовщица Хе, услаждающая воинов на полях Великой Матери, бог прогнулся в одну сторону… другую…
Сердце, несчастное сердце несчастного Рхат Луна сжалось до размеров песчинки.
Великая Ма…
Маленький кулачок смело грозил небесам.
Сердце не двигалось. Не двигался и Рхат Лун, словно посвящаемый перед лицом шамана, боясь малейшим, пусть невольным движением нарушить сложность танца.
А фигурка танцевала, крутилась, разве что не подпрыгивала… как живая…
Великая Ма…
Странные боги Хозяев.
Непонятные боги.
Совсем не страшные… только когда крутятся.
А всего-то и нужно. Шаг! Один маленький, малюсенький шаг.
Сделай.
Склонись.
Протяни руку.
Останови роковое качание маленького плясуна.
Нет.
Не мог.
Танец продолжался. С каждым движением, каждым качком приближаясь к заветному краю.
Толстяк-плясун словно искал смерти.
Своей и Рхата.
Странные боги Хозяев.
Непонятные боги.
Маленькие и большие. Уродливые и не очень. Они стояли по всему жилищу. Конечно, в самых неудобных местах.
Не так, чтобы их было очень много. Но достаточно.
Достаточно для него. Для Рхата.
И для его несчастного сердца.
Край тумбочки.
Страшный край.
Изваяния богов были понятны Рхату. У них в племени, резчик по дереву Род Нгут тоже вырезал богов. Зубастого Зарт-Ура — повелителя ночных хищников, безрукого Вод-Ура — хозяина мутных рек, птицеклювого Ор-Ура — господина пернатых, и, конечно же, — Великую Мать.
Маленькие статуи мужчины брали с собой на охоту — отпугивать хищников. Статуи побольше стояли в хижинах, занимая почетный угол, напротив входа. Большая, гигантская статуя высилась в центре деревни…
Им молились. Их умасливали. У них просили защиты.
Просто и понятно.
Здесь же…
Рхат Лун никогда не видел, чтобы Хозяева молились своим богам. Вместе с тем, они настолько трепетно относились к их статуям…
Толстяк вошел в раж, как ритуальные плясуны во время праздника летнего равноденствия. Кулак выписывал невероятные кривые, отвислые щеки дрожали от радости…
Рхат Лун уже разбил двух богов.
Две маленькие статуи.
Он не специально.
Просто…
Один раз нес корзину.
Тяжелую корзину с тяжелым бельем.
Хозяйка Рената окликнула.
Он вздрогнул.
Он боялся Хозяйку Ренату.
Корзина упала.
Белье высыпалось.
Он принялся собирать.
Одна вещь, кажется, это были штаны Хозяина. Не иначе Великая Мать на мгновение отвернулась, и Кантор, никогда не спящий Кантор, только и ждущий, когда Великая смежит веки, обмотал штанину вокруг тонкой, как рог гзали ножки прикроватного столика.
Столик дернулся.
Первая статуэтка упала на пол.
Вторым был бог Хозяина. Ужасный зверь, кровожадный зверь, в ночных кошмарах Рхату виделся он. Четыре толстые ноги, большое туловище, голова с плоскими, как лепешка ушами, и самое страшное — еще одна, пятая нога, росшая прямо из головы. У статуи она была задрана, открывая алчущий добычи рот.
Рхат тогда вытирал пыль. Проклятую вездесущую пыль. Она была везде. И Хозяйка Рената, доставая пальцем самые труднодоступные места, часто тыкала им в Рхата.
Рхат Лун ненавидел пыль.
Страшась дотронуться до зверя, ну как это не просто хищник, а злобный дух, один из слуг ненавистного Кантора — неспящий имеет много личин, Рхат протирал пыль. Конец тряпки зацепился за зуб чудовища. Странный зуб, не помещающийся во рту. Испугавшись, Рхат потянул. Чудовище сдвинулось, пошло, на него! Он потянул сильнее, оно ускорило бег. Тогда он дернул.
Со страшным грохотом зверь полетел на пол, уродливая голова отвалилась и, подпрыгивая, покатилась к ногам Рхата.
Сперва он даже обрадовался. А потом…
— Растяпа!
— Криворукий!
Тогда Хозяйка сказала, если он разобьет третьего бога, пойдет на фабрику.
Проклятый божок, кружась и подпрыгивая, продолжал свой танец.
Рхат Луну повезло. Очень повезло. Великая Мать благоволила верному сыну. У него добрые хозяева. Особенно Хозяин Брайен. Никогда не кричит. Сядет молча, книгу читает. Да и младшая хозяйка Лиза. Иногда она чесала Рхата за ухом. Рхату не очень нравилось. Щекотно. Но, если младшей хозяйке Лизе нравится, Рхат стерпит. Да и Хозяйка Рената. Крикливая, конечно, а так — ничего. Ни разу не била Рхата.
Рхат виделся с другими слугами — их называли: слуги, а иногда: рабы — оба слова ничего не говорили Рхату. Другие Хозяева частенько поколачивали своих слуг. Как например раба Хозяина Хейли — Дебоулта. Хозяин Хейли любил брать палку — тонкую, гибкую пластиковую палку, и бить Дебоулта. Он визжал и закрывался. Руками. Визг разносился длинными коридорами Ковчега, а руки были в шрамах.
Ковчег.
Странное место. Непонятное место.
Солнца нет. Неба тоже.
Длинные маленькие солнца горели и тухли, стоило дотронуться до коробки на стене.
Рхат Лун научился управлять ими. Он очень гордился собой.
И существа.
Разные, порою страшные.
Не без труда Рхат Лун научился не вздрагивать при каждой встрече с уродами.
Они тоже были рабами. Как Рхат.
Странное место. Непонятное место.
Если это ад — где Кантор с многочисленными клыкастыми слугами, мучающими грешника.
Если Рай — где Великая Мать, и танцовщицы Хе, и леса, полные тучной дичи?
Если он еще не умер, где он?
Ночами снилась родина. Деревня на поляне у Великого Дерева, излучина мутной реки, вкусные — сладкие с кислинкой — ягоды жовника, затянутое серыми облаками небо, и даже Большой Овраг. Если Рхат просыпался от этого сна, а просыпался он почти всегда, он плакал. И молился. Истово, сердцем, размазывая горячие слезы по дрожащим щекам.
То ли Великая Мать не слышала его здесь, то ли…
Божок, внезапно прекратив танец, замер на краю тумбочки, целый и невредимый. Маленький глаз хитро подмигивал Рхату.
Сердце снова пришло в движение.
Рхат Лун, который, как оказалось, не дышал, шумно выдохнул.
***
… а он отвечал им: «Не спорите же вы, что деревья цветут, а затем плодоносят, что каждое утро звучит сирена, что Земля — скопище скверны; отчего же обсуждаете Божественность Учителя?»
Но охваченные скверной, оставались глухи к словам рассудка.
В ответ они насмехались над Энтони, отвергали догмат Никейского Схода, всячески поносили отцов Церкви и искажали слова Заветов.
Тогда опустился Энтони Левицкий на колени и вознес молитву Весеслышащему:
«Учитель, отец наш, прости неразумных детей своих, ибо не ведают они, что творят».
Летопись Исхода
«Деяния Отцов»
Глава 5 «Энтони Левицкий»
Крик стоял над жилыми секторами. Стоял прочно, как опорные стойки, как ребра жесткости — стальной скелет левиафана. И конец его терялся невообразимой высоте отсеков.
Начало было в узком коридоре-переходе между комнатами пластмасников и пропахшими землей каютами аграриев.
Первые — нестройной толпой возвращались из бани. Разогретые веселым паром и горьким пивом.
Вторые — направлялись туда, и цветные полотенца реяли боевыми штандартами.
— А-а-а, бгочеловеки, — взрезав животом часть льда, Данкан Левицкий замер посреди коридора. Усталые от пара глаза высматривали брата.
— Да, богочеловеки, ибо, как установлено, Учитель имел двойственную природу… — Петр Щур попытался обойти необъятное, а именно — живот Левицкого.
— Это ж кем установлено, хотелось бы знать? — Берт Касьянов придвинулся к Данкану, сокращая пространство для маневра.
— Месяц назад, на сборе, в каюте Никия, проголосовали и решили, — рядом с Петром наконец-то нарисовался Энтони Левицкий — предмет зрительного напряжения Данкана.
— Из-за того, что горстка недоумков додумалась голосовать, мы должны отойти от заповедей!
Смерч распри набирал обороты, кружил умы и волосы, поднимал руки, и штандарты полотенец начинали призывно хлопать истрепанными боками.
— Старшины, на сборе было пять старшин, они недоумки! — добрые глаза Энтони калились кровью.
— А то, если решили, хе, хе, такое, — Касьянов обернулся к товарищам, и нестройный, размеренный гогот был ему поддержкой.
Одни помылись, другие хотели мыться, они не желали распрей и споров в этот ленивый воскресный день. Они желали горячего пару и горького пива банщика Чанга Знанского — сводного брата остроносого Фридриха.
— Как бы там ни было — уже решено, и вы ничего с этим не сделаете, — и шаг к примирению был сделан.
— Засуньте себе в задницу ваше решение!
Крик, крик стоял над секторами, шумными струйками он поднимался к сводчатому потолку, чтобы рассеяться… или сгуститься до непробиваемой плотной массы.
— Брат, брат, что же ты стоишь, слушаешь, присоединяйся к нам… истине…
Вычленилось из этого крика, вычленилось, чтобы через мгновение быть втянутым умножающейся массой.
— Нет, брат, это ты заблуждаешься… — как вентиляция пар, масса втянула в себя и эту фразу и окончание, как и ответ, погрязли в клубящемся сгустке.
***
А Еретик и говорит:
— Синяя Шапочка, куда путь держишь?
А Синяя Шапочка отвечает:
— В гости к Бабушке.
— А где живет твоя Бабушка?
— В дальних секторах.
Из сборника «Устное народное творчество»
Юра стоял за углом. Обычным углом рядового сектора. Напротив, в начищенной до зеркального блеска раме, пестрела цитата из Заветов.
Юрий ждал.
И дождался.
Огненные волосы, собранны в пучок. Узкая полоска синей ленты не могла укротить непокорные пряди. Живописно выбиваясь, строптивцы обрамляли сосредоточенное личико.
Миг.
И тело, упругое девичье тело барахтается в руках юноши.
Девушка оказалась неожиданно сильной, и проворной. Острый локоть впился в солнечное сплетение, маленький кулачек ткнул в бок, даже колено поднялось, метя в пах, впрочем, безуспешно.
Годы тренировки, наконец, пригодились.
Некоторое время девушка еще барахталась. Волосы, почувствовав слабину, рассыпались ржаным потоком. Слепя глаза, забираясь в рот, причиняя много больше неудобства, нежели слабые попытки сопротивления.
Наконец, пленница затихла.
— Пусти, — донеслось из-под огненной копны.
Юра покорно разжал руки.
Бывшая пленница поспешно отбежала к противоположной стене. Слова Учителя над растрепанной головкой гласили: «Невзрачное зерно дает жизнь прекрасному цветку, скользкая гусеница превращается в бабочку. Настойчивый труд рождает творения, прославляемые в веках».
Как к месту. Воистину — прекрасный цветок.
Невысокая, но ладно скроенная, под синим хитоном угадывались широкие бедра и полная грудь. Лицо круглое с пухлыми щечками и большими глазами, обрамленными черными ресницами. Уголь ресниц непривычно контрастировал с рыжими волосами. Чуть вздернутый носик возбужденно, или возмущенно сопел.
— Я знаю тебя, — дыхание Юры было так же учащено, — ты — Марта, сестра Селига. Мы встречались у него на дне рождения. После, я часто видел тебя на проповедях.
Девушка тяжело дышала. Огромные глаза блестели из-под рыжих прядей.
— Почему ты за мной ходишь? Зачем следишь?
Свистящее дыхание было единственным ответом.
— Отвечай, не молчи!
Юра чувствовал себя ужасно глупо. Ну поймал, ну поговорил. Чего он надеялся добиться?
— Молчишь? Ну как знаешь!
Резко, даже чрезмерно резко развернувшись, он двинулся по коридору. Как тела еретиков жег жар Утилизатора, спину жег пристальный взгляд.
***
Утилизировано — 127 особей. Несмотря на принятые меры, Рубка докладывает — индикатор оранжевый.
Крики.
Стоны.
Проклятия.
Они пришли вечером. Хотя солнца не было, все называли это время — вечер.
Дневная смена вернулась в бараки, ночная сменила ее и до отбоя, когда яркое сияние ламп сменится тусклым свечением, оставался почти час.
Час свободного времени.
Иллюзии свободы.
Свобода!
Не смолкает зов!
Свобода!
Разгоняет кровь по венам!
Свобода!
Поклянемся вновь…
Поклянемся вновь…
Ойтос покачал лысой головой.
Нет, не вспомнить.
Забытые строки торжественного гимна — ужас Декламаторов. Не раз и не два, Ойтос вскакивал среди ночи от ужаса, приходи подобный сон.
Здесь — другие сны, другие ужасы.
— Меня, возьми меня! — истошно вопила обрюзгшая волосатая самка, в то время как солдат в синей форме отдирал от груди, вместе с мехом, вцепившегося в мать детеныша.
— Меня, возьми меня! — кричали жены Ойтоса, когда он осчастливливал собственным присутствием гарем.
И старались, как могли.
Одна играла на инструменте, вплетая в вибрацию струн чарующий голос, другая танцевала возбуждающий танец живот, а любимая Айшун… гладкокожая, черноокая Айшун…
Красавица, ты звезд милее.
Ты украшенье дня –
Укор для солнца,
Зависть небесам…
Ойтос был Декламатором при дворе Хайлафа Багтуда, сына Саймана Великого — ужаса дикарей, повелителя половины мира.
Сказания о богах и демонах, великие подвиги Великих Героев, любовная лирика… сотни, тысячи стихов теснились в лысой голове Ойтоса.
На все случаи жизни, к любому поводу, настроению, прихоти Повелителя.
К обрезанию и свадьбе, рождению и поминкам, в минуты радости и отчаяния, веселья и меланхолии. Поучительные стихи, повествовательные стихи, восхваляющие стихи, высмеивающие стихи, смешные и грустные, сальные и добродетельные, стихи — укор и стихи — поддержка…
— Будьте вы прокляты! Прокляты!
Кричала очередная мать — многоногая сандонка, в то время как вояки деловито выуживали из гнезда, в которое сандонка превратила свою кровать, выводок похожих на паучат детенышей. Краснокожие, с большими головами, на которых большую часть занимал теменной рот-присоска.
— Прокляты…
Стихи на все случаи жизни… кроме того, рокового случая, когда над дворцом Хайлафа появились летающие повозки Ковчега…
Летит Дракон
И распростерты крылья,
Открыта пасть,
Лишает силы крик…
Горий — герой прошлого, воспевали бы мы великие подвиги, придись тебе столкнуться не с безмозглым драконом — могучей, но тварью, а с… людьми… так они себя называли. Разумными, думающими и оттого стократ более опасными.
— Великая Мать, прости и защити…
Некоторые молились. Богам. Своим богам, которых помнили, которых знали. Знание прошлого.
Слышали ли они здесь, отсюда своих адептов? Ойтос сильно сомневался. Сам он перестал молиться. Давно, очень давно. Как и читать стихи.
На фабрике, за монотонным трудом конвейера, древнее искусство, искусство избранных оказалось без надобности.
Хайлаф Багтуд, в отличие от своего отца-варвара, слыл просветителем, особенно в искусстве Декламаторов. Пол дюжины мумифицированных голов Старших Декламаторов — предшественников Ойтоса — украшали пики внутренних ворот дворца. Когда-то Ойтос боялся присоединиться к ним — два десятка пик оставалось незанято, коря небеса за несправедливость отточенными зубьями.
Теперь боялся другого.
Страх — вечный спутник вечного разума.
Рождаясь, первое чувство, которое мы испытываем, есть чувство страха.
Покинув утробу, младенец боится неизвестного мира и оттого плачет. Потом он плачет, боясь недополучить порцию молока, остаться мокрым.
Мы боимся родителей, боимся учителей, соседей и незнакомцев. Боимся подойти к девушке и получить отказ, однако добившись согласия, тоже боимся — не справиться, ударить в грязь… Боимся не оправдать возложенных надежд отцов и боимся, что те же надежды не оправдают наши дети. Побаиваемся жен, слегка опасаемся слуг. Боимся молвы и сплетен, равно как и безвестности. Боимся изменения и застоя. Боимся не преуспеть в жизни, а, преуспевая, боимся потерять. Боимся болезней. Заболев, боимся лекарей. Боимся не увидеть мир и вместе с тем страшимся путешествий.
Со страха совершаются преступления и им же творятся великие деяния. От страха вторжения правитель идет войной на соседнюю державу. Со страха забвения поэт слагает немеркнущие строки… со страху потерять работу, палач отсекает обоим головы… Страх преследует нас, всю жизнь, неотъемлемый, как сознание. Даже во сне, когда душа покидает тело, мы просыпаемся от страха. Любовь, дружба, признательность, ненависть — проходящи. Страх — вечен. Животные, обделенные прочими чувствами, испытывают страх. Муравьи — тупые букашки — испытывают страх. Мы рождаемся с ним, и с ним уходим, страшась неизвестности той стороны.
Первое, последнее и единственное чувство, сознательно, заботливо несомое через жизнь.
Так говорил Абигази — великий мыслитель прошлого. Он знал о чем говорил. Последние строки своего труда Абигази дописывал в темнице, в ожидании казни.
Крики.
Проклятия.
Стоны.
Молились не только матери. Молились старики.
Рейд! Одно из имен страха.
Ойтос давно минул весну жизни.
Первым его желанием, когда синие мундиры солдат показались на пороге, было залезть под кровать, спрятаться…
Страх сковывает члены, но иногда понуждает действовать.
Если бы это могло помочь…
Старик Айнут — сосед Ойтоса, они часто вели беседы о жизни… В той, другой жизни потомственный Декламатор Ойтос и сын горшечника Айнут не имели шансов встретиться… даже на рынке — у Ойтоса были десятки слуг, выполняющих черновую работу; даже на улице — при виде плюмажа перьев птицы Пав, представителям низших каст предписывалось падать ниц и, не поднимая головы, ползком уступать дорогу Великорожденным.
Здесь, Айнут оказался неплохим стариканом и занимательным рассказчиком. Он знал множество анекдотов из жизни черни. Знал и рассказывал Ойтосу. Надо же, какой пласт культуры, да, да, культуры был закрыт для него…
Следовало попасть сюда, чтобы…
Айнут забрался под кровать.
Благоразумно.
Неблагоразумно.
Двое рослых солдат, ухватив старика за голые пятки, тянули вопящего Айнута из ненадежного убежища.
Айнут молился богам, взывал к милосердию и поносил мучителей последними словами.
Одновременно.
Кряхтя и отдуваясь, к месту схватки уже спешил Хозяин Тогава — смотритель их блока.
— Оставьте старика, он хороший работник.
Один из солдат — рослый парень с рваным шрамом на широком лице, обернулся к Хозяину Тогаве.
— Зачем? Он старый, не в этот, так в следующий рейд заберем.
— На будущей неделе планируется вылазка, — поддержал напарника сотоварищ, — тебе привезут дюжину работников. Моложе, лучше.
— Чего экономить?
— Он хороший работник, — гнул свое смотритель.
— Как знаешь.
Солдат нехотя отпустил ногу Айнута. Прекратив скулить, тот проворно заполз под кровать.
— Но, как я сказал, в следующий рейд старик пойдет в утиль, вместе с другими…
Солдат окинул взглядом барак. Голубые глаза дольше других задержались на Ойтосе.
Потомственный Декламатор понял — следующий рей станет последним и для него.
***
Возвращался с дежурства солдат Армии Веры, услышал крики. Заглянул в комнату и увидел Еретика. В тот же миг Солдат бросился на него и убил Еретика. И из живота его вышли Синяя Шапочка и ее бабушка, живые и здоровые.
Из сборника «Устное народное творчество»
Он удалялся, такой красивый, и такой недоступный.
Миг, и обтянутая синей тканью широкая спина, исчезла за поворотом.
Неожиданно Марта поняла, что не дышит.
Вожделенный воздух в шумом вошел в легкие.
Он разговаривал с ней!
Дотронулся до нее!
А она, она стояла, как дура, не в силах выдавить несколько слов.
Бесчисленное количество раз, в мечтах, Марта проживала их встречу, первую встречу, разговор.
— Кто ты, прекрасная незнакомка?
— О-о, вы меня помните…
Нет, лучше:
— Мы встречались, однажды, но с той поры, каждый день я искал встречи с тобой.
А еще лучше, чтобы он заболел.
А единственная, кто может помочь — она.
Редкая группа крови, или донор органов.
Он открывает глаза, и первого, кого видит — ее.
— Ты пожертвовала ради меня своей кровью!
— Да, теперь мы одно целое!
Как романтично!
Как красиво!
И как бесконечно далеко от сегодняшнего: «Почему ты за мной ходишь?»
И еще дальше от дальнейшего: «Ну как знаешь!»
Дура! Дура! Дура!
А все ее проклятая застенчивость!
Он тоже хорош — зачем так смотреть своими глазами! Зачем мужчине вообще такие красивые глаза!
Кажется, она его ударила.
«Учитель! Надеюсь, ничего серьезного!»
Что стоило разлепить губы, ответить.
В конце-концов, коридор общий, почему бы ей не идти по нему? С чего он вообще взял, что она следит!
Тоже мне!
Дура! Дура!
Что Юра теперь подумает о ней?
Даже не взглянет в ее сторону.
Или того хуже — друзьям расскажет, а они будут смеяться… или этой губастой из святош.
Вот кого Марта ненавидела всеми фибрами души. Техники должны встречаться с техниками! И эта худышка пусть найдет себе кого-то из священников, а от ее, ее и только ее Юры держится подальше!
Что-то мешало выпрямиться, упираясь в темя.
Марта подняла голову — святые письмена.
«Невзрачное зерно дает жизнь прекрасному цветку, скользкая гусеница превращается в бабочку. Настойчивый труд рождает творения, прославляемые в веках».
Спасибо, Учитель!
Она поняла!
Она будет настойчивой, очень настойчивой!
И Юра будет ее!
***
Урожай пшеницы в сравнении с прошлым годом увеличился на двадцать процентов, в основном благодаря новым методикам полива и удобрения, разработанным аграрием Эммануилом Касьяновым. Предлагаю отметить брата Касьянова оглашением благодарности на празднике Вознесения.
Они собрались — испуганные лица, затравленные взгляды с сумасшедшим налетом азарта.
Он собрал их.
Они приходили.
С каждым разом — больше.
Запретный плод сладок.
Совсем, как тогда… на Земле.
История повторяется.
Серые в свете тусклых ламп лица повернуты к нему. Цвет кожи почти неотличим от безликих роб. Не люди — камни. Камни, которых нет и не может быть на Ковчеге. Не должно быть.
Он — высекатель воды, творец чуда. Чуда не будет. Будут слова. Многие уйдут разочарованными. Кто-то задумается. Еще меньше — останется.
История повторяется.
Неужели, неужели он собирал этих людей — люди всегда люди — какой-то месяц назад! Блеск взглядов, конфетти лиц! Для него — месяц, для них — сто лет.
Неужели могут произойти такие изменения за сто лет? Как, каким образом. Ужели эта серая масса — потомки тех радикалов, отринувших Землю, восставших против родных, своей цивилизации ради призрачного, пусть и светлого будущего!
Как можно так измениться всего за сто лет!
Вот оно — светлое будущее. Затравленно косится на соседа. Не провокатор ли? Шпион Трибунала?
За что?
Почему?
Что, что он неправильно сделал!
Все же так! Все верно!
И слова, выкрикиваемые служителями истинного учения, звучат почти в унисон с сегодняшней проповедью. С прошлыми проповедями!
Почти.
Где ошибка, подвох?
Ложась в камеру, очнувшись, он рассчитывал застать царство всеобщей гармонии, а нашел чуть ли не ад.
Хуже чем ад. Ад, созданный собственными руками, фундаментом которого служат его идеи.
Страх иноверия. Топка утилизатора.
За что!
Боже!
Воззвание к Всевышнему потеряло смысл. Здесь всевышним был — он сам.
Они пришли, они приходят, как тогда. Людей притягивать он всегда умел. Раньше у них в глазах были неверие, недоверие, насмешка, наконец — надежда.
Теперь — страх.
Лучше бы не верили. Презрительно морщили носы, насмехались, или тыкали пальцами, как в блаженного.
Что-нибудь, хоть какие-то эмоции, кроме всеохватывающего, обезличивающего самую суть, души — страха.
Разбить, разогнать, вытравить… А в замен? Что он может дать им в замен? Лучшая жизнь? Свержение строя? Он никогда не был революционером. Более того — не понимал подобных людей, боялся фанатичного блеска глаз, готовности жертвования…
Только слова.
Слабое утешение, или великая сила.
Он говорил
— Не убий.
Не лги.
Не укради.
Не прелюбодействуй.
Делись с нуждающимися, помогай страждущим.
Не делай другому ничего, чего не сделал бы себе.
— …
— Я не бог…
***
Когда пришел к Нему Никитченко с подчиненными, спросил Он: «С чем пришел ты?»
«О, Учитель, — ответствовал старшина, — посевы сохнут, урожай скудеет, нужны советы твои».
Ответствовал Он: «Подите вон!»
Когда же пришел к Нему Гвана с подчиненными, спросил Он: «С чем пришел ты?»
«О, Учитель, — ответствовал старшина, — ткани кончились, станки ломаются».
Ответствовал Он: «Подите вон!»
И приходили еще восемь старшин, и всем говорил Он: «Подите вон!»
И последним был Сонаролла.
«С чем пришел ты?» — спросил Учитель.
«О, Всевидящий, я принес тебе свежего хлеба с последнего урожая и сладких лепешек, и новые ткани, рисунок которых радует глаз».
«Любимый ученик мой, — ответствовал Учитель, — ты один понял истину — И ВЕЛИКИЕ ИМЕЮТ СЛАБОСТИ МАЛЫХ».
Заветы. Глава 7, стих 3
Сюда, в самое нутро одного из блоков Ковчега не долетали крики рабочих, звуки механизмов, лишь общий шум грандиозного строительства тревожил уши слушателей далеким нерасчленяемым гулом.
Секции, возведенные в сотнях ангарах по всему миру, соединяли в блоки. Потом их поднимут на орбиту, где специально обученные рабочие сыграют завершающий аккорд в грандиозной космической симфонии.
— Вот, — Руслан Шабровски провел загорелой рукой по матовой крышке двухметрового контейнера. — То, что заказывал — криогенная камера.
Эхо подхватило слова координатора и, играясь, разнесло их бесконечными ярусами сооружения.
Эммануил поежился. Не то, чтобы он опасался непрошенных слушателей, но все же…
— Опытный образец, — Шабровски нажал пару кнопок, едва заметная лампочка засверкала неограненным изумрудом. — В течение долей секунды замораживает тело до ледяной статуи. Все предыдущие образцы, мягко говоря, не оправдали надежд. Жидкость, из которой на семьдесят процентов состоит наше тело, при низких температурах элементарно кристаллизовалась. Стенки клеток лопались — эффект бутылки с водой, выставленной на мороз.
Эммануил кивнул, отметив про себя — Шабровски заметно осунулся с начала проекта. Тогда — два года назад, это был брызжущий энергией, уверенный в себе холеный функционер. Сейчас перед ним стоял ссутулившийся мужчина с усталыми глазами и заметно посеребренной неухоженной шевелюрой.
— Эта, в теории, я повторюсь — в теории, решает данную проблему. Лабораторные животные выживали. Человек… тоже выживет — в теории, однако, останется ли он тем самым индивидуумом, личностью, которая легла в камеру — вопрос.
— Хорошо, — кивнул Эммануил.
— Хорошо! — вспылил Шабровски. — Ты называешь это хорошо! Ответь, скажи мне, сейчас, на кой черт тебе все это понадобилось!
— Ты один посвящен в секрет камеры, а так как не летишь с нами — он останется секретом.
— Решил завести новую моду — уходить от вопросов?
Эммануил подошел к камере, осторожно потрогал серую, холодную поверхность. Как же объяснить, воплотить в сухие слова, фразы, то, о чем он мечтал, что представлял, чувствовал…
— Понимаешь, я хочу, очень хочу увидеть идеальное общество. Дело всей моей жизни. Возможно, не знаю, в этом нечто от гордыни, тщеславия, но… я уже представляю его. Люди, освободившись от гнета зависти, оков борьбы за существование, страха перед будущим, да что там будущим — настоящим, когда отпадет надобность ежедневного, в прямом смысле, добывания пищи, канет в Лету опасение, что сосед, или друг, едва отвернешься, зазеваешься, воткнет нож в спину, когда родители не станут — не будет причины, смысла, изводить себя по поводу детей-подростков, задерживающихся на вечеринке… Ах, как я хочу его увидеть. Люди, свободные люди всецело посвятят себя самосовершенствованию, они отыщут, должны найти, истинное место человека, как вида, в этом мире. Не хищника, разрушителя, так называемого — венца эволюции, на самом деле венчающего лишь пищевую цепочку, а полноценного звена, проводника между материальным и духовным, сакральным и обыденным. Как представлю это — мороз по коже. А как представлю, что не увижу, свершится без меня, так и вовсе худо.
— Многим же ты налюбуешься, очнувшись после многолетнего сна полным идиотом… или частичным…
— Именно поэтому, камера останется секретом. Я лягу в нее сам. Подвергать чью-либо жизнь опасности, пусть и добровольца, я не вправе. А таких волонтеров-жертвователей, только кликни, набежит не один десяток. Они уже считают меня кем-то, вроде мессии, — как всегда, коснувшись больной темы, голос допустил нотки раздражения.
— Картина, нарисованная тобой, радует и впечатляет. Как картина — предмет, которым любуются на расстоянии. Не думаю, что взлелеянное в мечтах общество возможно. Люди — всегда люди, мы уже говорили об этом. Тысячелетия истории, человеческой истории учат нас — идеального общества не было, нет, нет и, почти наверняка, не будет.
— Историю делают люди! Именно по этой причине, мы отринули общество.
— Ты — идеалист.
— Нет — реалист.
— Идеалист, и не спорь — время рассудит. Но ты мне нравишься. Твои слова, главным образом оттого, что ты веришь в них сам, они… не знаю, затягивают что ли. Но не легче ли было для построения этого самого идеального общества организовать религию. Знаю, что ты о ней думаешь, — возбужденный Шабровски начал широко шагать перед камерой, — однако, рассуди сам — объявляешь себя богом, оставляешь заповеди, какие надо, и чтобы в сторону — ни ногой, ни пол взглядом, и бац — лет через сто, получаешь свое гармоничное общество.
— Религия — оковы ритуалов, тирания священников. В том-то отличие, я не хочу втискивать мои слова в жесткие рамки догм. Я лишь даю направление, толчок, дальше — сами.
— Без догм нельзя, иначе их придумают.
— Согласен. Иисуса, Будду тоже поначалу почитали как учителей, теперь преклоняются перед богами. Все дело в двусмысленности их высказываний. Я такую ошибку не допущу. Законы будут, куда ж без них, но четкие, ясные, вроде заповедей, ведь «не убий» не истолкуешь иначе. Хотя и с заповедями не все чисто, в том же христианстве из десяти только шесть устанавливают моральные нормы, остальные направлены на почитание бога.
— Предмет для подражания.
— Хоть ты не сыпь соль на рану.
Эммануил твердо знал — один из законов будет касаться его, так называемой, божественности.
***
Но не все одинаково приняли ниспосланное свыше.
Были и те, чья воля пошатнулась, и заблудшие.
Ибо сказано в Заветах: «И на старуху бывает проруха».
Летопись Исхода
Глава 2. часть 6
Они сидели в комнате Тира Ю-чу, и терпкий мужеский пот переплетался с тяжкими, как атлетические гири мыслями заседающих.
Никто не выходил. Историчность момента читалась на трех десятках сосредоточенных, раскрасневшихся от значимости и жары лиц.
— Эти богочеловеки осмелились принять, так называемую, резолюцию, — радушный хозяин Тир Ю-чу подчеркивая важность слов, упер пятнистые от химикалий руки в заплывшие жиром бока.
— Отступники!
— Иноверцы!
— Они не имели права!
— Точно, точно, сбор был неполным!
Ни один, в слепоте собственного мнения, не вспомнил о приглашении на собрание к Никию, приглашении, которое они в той же слепоте проигнорировали.
— Мы собрались здесь, шоб отменить решения преступного сбора!
— Да!
— Так!
— Только так!
И единственный глаз Стахова горел горнилом печи.
— Восстановить истину!
— Истину!
Обычно безмятежное лицо Данкана Левицкого треснуло сетью задумчивых морщин.
— А истина в словах самого Учителя!
— Учителя!
Линкольн Черчь удрученно чесал огромные кулаки, тщетно выискивая несогласных.
— Он не бог!
— Не бог!
— А значит — человек!
— Человек!
— Голосуем!
И шерсть рук, взъерошенным котенком, щетинится могучими пальцами.
***
Утилизировано еще 52 особи.
Индикатор — зеленый.
Грохот, словно тьма громов слились в один. Гром — так кричит Великая Мать перед тем, как пролиться слезами на земли племен.
Шелест, словно тьма утырей покинула уютные норы, дабы огласить лес многоголосым, внушающим ужам, пением.
Вой… другие звуки Рхат Лун не мог определить. Рык гарда, стрекот волда, брачная песнь самца гзали.
Все вместе.
И еще тьма иных.
Хозяин Брайен уверенно двигался между рождающими шум… машинами… незнакомое слово плохо ложилось на язык, обходил невольно оказавшихся на пути рабов, и… не боялся.
Чего нельзя сказать о Рхате. Каждый звук, удар, крик, грохот приводили его в трусливое дрожание.
Великая Мать, чудны деяния твои!
Он не в первый раз был с Хозяином на фабрике, но каждый раз проклятое место вводило Рхата в трепет, во всем схожий, но весьма далекий от священного.
Трепет страха.
Наперерез Хозяину Брайену двигалось существо, сплошь заросшее бурым свалявшимся мехом. Четыре могучие лапы прижимали к широкой груди несколько ящиков. Судя по вздувшимся, хорошо заметным даже под мехом, мышцам, не из легких.
Увидев человека, существо замерло. Хозяин Брайен, остановившись, сделал жест, пропуская раба.
Удивление, отчетливо читаемое даже на этом, чуждом лице, на миг проступило сквозь маску страха.
Хозяин Брайен добрый.
Он любит рабов.
Кого здесь только не было. Огромные, похожие на клыкастых гардов, вставших на задние лапы, Хедонцы, смешно двигающиеся на тонких паучьих ножках Сураамы, потливые и вонючие Диасы, большеглазые, словно дети, Статы, гибкие Шамамы, и еще тьма других существ один вид которых повергал Рхата в ужас, а имена заставляли язык извиваться, почище ядовитой гуаны, насаженной на горячий вертел.
Фабрика.
Если есть ад, где-нибудь — на земле, небесах, под землей, он выглядит так, только так.
«Великая Мать, спасибо, спасибо, благодарю! Оказала милость…»
Каждый раз, попадая на фабрику, Рхат Лун не забывал вознести благодарственную молитву.
«Уберегла, не допустила, обратила всевидящие очи на недостойного сына своего…» В сравнении с адом фабрики, служба у Хозяина казалась райскими лесами, даже Хозяйка Рената теряла часть стервозности, превращаясь в немного ворчливую женщину. В эти минуты Рхат задумывался — чем заслужил расположение Всевидящей?
***
Не бойся никого, только Учителя одного.
Из сборника «Устное народное творчество»
Тесное помещение было заполнено приборами и людьми.
Приборы, против обыкновения, ничего не показывали. Не светились шкалы, не подмигивали датчики, многочисленные табло зияли космической чернотой.
Люди, против обыкновения, вели бурную деятельность. Откручивали панели, замеряли, измеряли, экспериментировали с тумблерами и переключателями, оживляли экраны, чтобы через мгновение погрузить их в привычную черноту.
Непривычно бурная деятельность.
Непривычная для техников, большую часть жизни проводящих в уютных креслах рубки.
Согнув худое тело, в помещение вошел Этьен Донадье — старшина техников. Появление начальства сопровождалось равнодушными, приветливыми, недовольными, но в любом случае далекими от подобострастия взглядами.
Кастор Шейко — один из заместителей Донадье — лысеющий коротышка в вечно не сходящейся на выпирающем пузце куртке, нарисовался перед шефом.
— Ну как? — Донадье смотрел поверх головы зама, на работающих.
— Как и говорил — приборы похожи на наши, некоторые просто идентичны, словно рубка Ковчега в миниатюре. Хотя и достает малопонятного, — Шейко кашлянул, — пока малопонятного.
Донадье кивнул.
— Назначение?
Шейко пожал плечами, натянутая на животе куртка задралась, обнажив серую ткань исподнего.
— Первоначальное предположение — данный э-э-э, агрегат предназначен для покидания Ковчега, пока подтверждается. Хотя, не совсем понятно, зачем…
Старшина снова кивнул, на этот раз, отпуская докладчика.
Переминаясь с ноги на ногу и показно кряхтя, Шейко остался на месте.
— Вас что-то беспокоит? — водянистые глаза начальства оторвались от галереи приборов и впервые взглянули на собеседника.
— Э-э-э, что Великий Пастырь? На наше открытие?..
Глаза вернулись к приборам.
— Продолжайте исследования.
От приборов глаза переместились к отверстию иллюминатора — небольшому окошку, чудом втиснутому в усеянную агрегатами стену.
Желтая звезда, размером с горошину, лимонным мазком выделялась на точечной панораме.
***
Я обозвала свою соседку Клавдию Лейб шлюхой, так как она является шлюхой. Всему блоку известно, что к ней захаживает Никитов из аграриев, а также Отец Гварди — наш священник. И извиняться не буду, а свои обвинения сестра Лейб пусть засунет себе в задницу, или какое иное, более приспособленное для них место.
С уважением Вознесена Стахова — цех обслуги.
— Учитель, я хочу служить тебе!
Неофит был молод, очень молод. Рыжая борода пробивалась на румяных щеках редкой порослью. Голубые глаза под пшеничными бровями смотрели осмысленно, разве с небольшой примесью восхищения.
Он боялся его, их — фанатичного блеска, обожания, готовности возложить на алтарь нового учения жизни. Свою и чужие.
— Учитель, я…
Поморщился. Вроде обычное, более того — привычное слово. Отчего же словно корявый бур входит в тело, наматывая на кромки слогов нервы и сухожилия.
Поначалу боролся, даже злился, кричал.
— Не называйте Учителем!
— Как называть? — вопрос оставался без ответа.
В конце-концов «учитель» — всего лишь слово. Не хуже прочих.
Смирился.
— Я не учу борьбе, или как изменить мир. Если желаете свержения власти, существующего строя — нам не по пути. Ненависти — не по пути. Ищите выгоду — не по пути. Мое учение — учение человеколюбия, учение покорности. Желаешь изменений в мире — изменись сам!
— Ненавижу церковников, поубивал бы их всех! Гады!
На миг, короткий миг восхищение неба глаз затянуло тучами ненависти.
Учу человеколюбию — а вот. Скудная влага слов уходит в песок. Песок, которого не может быть, не должно быть на Ковчеге.
Не допускаю ли ошибку? Не даст ли нива человеколюбия всходы новой, более жестокой власти?..
***
Идет священник по коридору, кричит, в ладоши хлопает.
Навстречу техник.
— Святой отец, что вы делаете?
— Еретиков отгоняю.
— Так ведь нет же их.
— Потому и нет, что отгоняю.
Из сборника «Устное народное творчество»
Их было двенадцать.
Было, есть и будет.
Двенадцать месяцев в году.
Двенадцать цехов.
Двенадцать членов Совета Церкви.
Поначалу — по количеству цехов — по представителю от каждого.
Теперь — в силу традиции от времени ставшей незыблемей закона, важней устава, строже статьи.
Авраам Никитченко обвел взглядом присутствующих: улыбчатого Левицкого, вечно хмурого Бенаторе, круглолицего с маленькими колючими глазками Миллгейта, нервного Лейба… ближайшие соратники, главные враги.
Каждый, даже страшащийся собственной тени Лейб, метил на его место. Не раз и не два, в мечтах или радужных снах видя себя здесь, на возвышении, в кресле Великого Пастыря.
Провозглашая здравицы, они молили Учителя о болезни, желая долгих лет, высчитывали дату ухода. И он, будучи на их месте, молил, считал…
Власть — это плащ, который мы находим слишком широким на чужих плечах и слишком тесным на наших. *(П.Декурсель)
За все надо платить.
Осознаешь правоту мудрецов, только испытав на себе.
Пожив достаточно, или в случайном озарении, изрекаешь мудрости сам.
Ничто так не объединяет, как общие враги.
Перед лицом общего недруга недоброжелателя объединяются в союзы. Союзники становятся друзьями.
Если опасности нет, ее следует выдумать, тем более что поводов в избытке.
Великий Пастырь смотрел на присутствующих. Недоброжелателей. Потенциальных друзей.
— Техники в последнее время позволяют себе чрезмерно много вольностей.
Зерно упало в благодатную почву.
Власть априори не терпит ограничений.
— Ведут себя, будто особенные!
— Опаздывают на проповеди!
— Требуют привилегий!
— Не выказывают должного почтения!
— Открыто насмехаются над служителями Матери Церкви.
Ничто так не объединяет, как общие враги.
— Этому следует положить конец! — Левицкий, верный Левицкий фразы научился повторять дословно. К памяти бы еще чутье произносить вовремя…
— Терпеть больше нельзя! Их место и назначение — обслуга, и на это место следует указать… или возвратить, — вторым голосом вступил Стеценко. Вот у кого чутье, но хромает память.
Увы — совершенен только Учитель.
— Но-о-о… давно не было процессов…
Все понимали, куда клонил Никитченко.
— Тем более — паства расслабилась, почувствовала свободу. Верных последователей — укрепим, колеблющимся — укажем путь истинный!
— Техников не так просто… зацепить. Необходим повод.
— Сказано в Заветах: «Не жди случая, создавай его сам».
— А если что, устроим провокацию! — Левицкий, прямой, как коридор.
Присутствующие, в том числе и Великий Пастырь, позволили себе нахмуриться. Некоторые вещи, даже если они очевидны, не стоит произносить вслух.
— Техники, они… они могут… обидеться… — голос разума — голос труса. Голос Лейба.
— Прощать, карать и обижаться, особенно обижаться — наша, исключительно наша привилегия. Я имею в виду служителей Матери Церкви. Привилегия, она же обязанность прочих — служить Матери Церкви, в нашем лице. Кого-то еще интересуют чувства слуг?
Редкое, почти невозможное единодушие — головы качались почти в унисон.
— Таким образом, по данному вопросу, насколько я могу судить, мы достигли взаимопонимания.
— Осталось воплотить в жизнь.
— И да поможет нам Учитель!
***
Выход из строя основного реактора.
Переход на вспомогательный.
До устранения неисправности рекомендуется сократить численность человеко-особей до первой минимальной массы.
Да уверенности в себе — побольше.
Да кошель и суму — потолще.
Может жить хоть на малость дольше.
Да фигуру еще стройней.
Старший Хозяин растянул губы.
— М-м-да.
Хорунди нравился Старший Хозяин. Он добрый. Он никогда не бил Хорунди. Только кричал. Но Хорунди сам виноват. Не стоило вытирать пыль с бумаг на столе Хозяина, не стоило их брать в руки и перекладывать. Но пыль, проклятая пыль. Хорунди хотел, как лучше.
Да желудок и нервы крепче,
А загривок и шкуру — толще.
Нрав, характер немного круче.
Чтоб кулак мог войти сильней.
А еще красок жизни — ярче.
Да неведомых чувств пожарче.
Да язык поострей в отдаче,
Чтобы жалить в ответ больней.
Хлопнула дверь, в кабинет влетела Старшая Хозяйка. Рыжие волосы, сложно сплетенные, колыхались над маленькой головой. Старшая Хозяйка всегда поднимала их, и они не падали. Несколько рабынь-ткачих, многоруких уродливых ткачих, каждое утро плели сложную паутину из волос Хозяйки. Модницы, давно, далеко, дома у Хорунди тоже поднимали волосы. Но Хорунди их не боялся. Хорунди нравилось.
Как всегда, когда мысли возвращались к дому, Хорунди заплакал. Раствориться в сладостном саможалении мешал голос Старшей Хозяйки. Противный, очень похожий на визг.
— Фловиус Балхи должен прийти, не отпирайся, я слышала!
Старший Хозяин скривился. Губы Хозяина Гопко больше не растягивались. Они сжались. Стали тонкими, как ниточка.
— Да, Балхи сейчас будет. Он — старшина медиков, я — главный техник, рядовая встреча…
— Я же просила, просила предупредить меня, когда явится этот бездельник!
Хорунди поморщился. Голос Старшей Хозяйки поднялся до визга. Поморщился и Старший Хозяин.
— Если так нужно, ты могла бы сама спуститься…
— Вот еще! — дернула головой Хозяйка. Плетение из волос сильно закачалось. Хорунди испугался — вдруг оно упадет. Хозяйка начнет искать виноватого. В комнате, кроме него — Хорунди, рабов больше нет…
— Я — жена старшины техников, а не какая-нибудь… плебейка, вроде этой твоей…
— Ну хватит! — старший Хозяин крикнул так, что вздрогнул не только Хорунди, даже Старшая Хо… — Чего ты хочешь?
— Напомни своему любимчику Фловиусу, он еще в прошлом месяце обещал сделать крем, от морщин, и чтобы помогал, а не это дерьмо, которое его цех подсунул мне на Праздник Освобождения.
На пороге кабинета возник рослый Мендез — секретарь Хозяина.
— Старшина медиков к вам, дожидается…
Даже Хозяин Мендез — большой, сильный, свободный Мендез боялся Старшую Хозяйку. Ее все боялись, кроме Старшего Хозяина. Старший Хозяин смелый. Старший Хозяин отважный…
— Пусть войдет! Дорогая, у нас с Фловиусом дела. Дела Ковчега. Если у тебя все…
— Подумаешь!
Старшая Хозяйка фыркнула. Рыжая копна, гордо колыхаясь, удалилась из комнаты.
Или Хорунди показалось, или облегченно выдохнул не только он.
Почти в тот же миг, на пороге возник Хозяин Балхи — маленький, толстый, горбоносый. Хорунди давно научился отличать Хозяев. Поначалу, они казались одинаковыми. Он их сравнивал с животными. Животными родины. Хозяин Гопко представлялся гуаром. Опасным, кровожадным, острозубым, но неизменно прекрасным гуаром. Символом силы и мужественности. Хозяйка Марта… во всем животном мире Хорунди не находилось подобий Хозяйки Марты… Хорунди ее просто боялся.
Если Старший Хозяин виделся Хорунди гуаром, то Хозяин Балхи был ланицем. Таким же маленьким, пухлым, с большими глазами на круглой щекастой мордочке ланицем — грозы молодых побегов бука и крупных насекомых.
— Мы уже близки, почти нашли способ, конечно, требуются кое-какие исследования, все-таки слишком разные виды. Обмен веществ, физиология, анатомия…
Хозяин Балхи имел привычку говорить с порога и, не останавливаясь. Впрочем, слова Хозяина Балхи мало волновали Хорунди. Он больше беспокоился о… сандалиях.
— Ты о чем? — задал вопрос Хозяин Гопко.
— Как это, о чем? О стерилизации, конечно! Говорю же, почти нащупали…
— Сначала ты носился с идеей хирургического вмешательства. Я еле переубедил тебя — сама операция, реабилитационный период — дорого, неэкономично, теперь…
— Хирургия пройденный этап, — Хозяин Балхи помахал в воздухе пухлой ручкой. — Химия! Медикаментозная коррекция, вот — будущее! Подумай сам — какие перспективы. Привозят партию рабов, мы им по пилюле, или, скажем, уколу, и — все — никаких проблем с незаконной рождаемостью, незапланированным ростом…
— Говорил раньше, говорю сейчас — зачем? Проще в Утилизатор — и готово. Рабы они и есть рабы. В любой момент доставим новых. Молодых, здоровых…
— И опять их всему обучай. Заново. Нет, Юра, ты не прав…
Сандалии Хозяина Балхи. Хорунди не знал, где ходил Хозяин Балхи до этого. Но всегда, всегда, когда он посещал Хозяина Гопко, сандалии Хозяина Балхи были грязные. В пыли, и еще в чем-то темном, липком. Там, где прошелся Хозяин Балхи, оставались трудно вытираемые следы. А хозяин Балхи любил ходить, он почти никогда не садился. Иногда Хорунди подозревал, Хозяин Балхи нарочно пачкает обувь и ходит. Чтобы помучить его — Хорунди.
Хозяева говорили, спорили, махали руками, а следы — к ужасу Хорунди — множились.
— К вам начальник Внутренней Службы.
Вздрогнул не только Хорунди, как по команде замолчали оба хозяина. Каплан — Хозяин Внутренней Службы напоминал Хорунди ядовитую шешу. Тихую, неприметную, маленькую шешу.
Она пряталась в кустах, у обочины, могла сидеть день, два, не двигаясь. Стоило появиться жертве, шеша выпрыгивала — стремительная, гибкая — чтобы впиться в несчастную зубами. Укус шеши обездвиживал жертву. Потом она ее съедала. Еще живую.
— Только что доложили, — было в появлении Хозяина Внутренней Службы и хорошее — следы не множились, — некая Гольдеман из аграриев, родила ребенка.
Внешне Хозяин Каплан совсем не походил на шешу. Маленький, с бегающими глазками. Он скорее походил на колика. Вечно испуганного, вечно настороже колика.
— Разрешение есть?
Хозяин Гопко говорил так, что даже Хорунди сделалось страшно, хоть и обращался Хозяин совсем не к Хорунди.
— Нет, естественно, иначе я бы не докладывал.
— Вы знаете, что делать.
Или Хорунди показалось, или Хозяин Каплан потер маленькие ручки.
***
Жило еще на Земле два крестьянина. И бил на меже их полей родник, с которого они брали воду.
А в дальнем конце полей текла река.
Второй крестьянин день и ночь трудился, прорывая каналы от реки к своим угодьям. А первый насмехался над ним.
«Зачем надрываешь себя, — говорил он, — ведь есть родник, воды хватит всем».
Однажды утром пришел первый в поле и увидел, что родник высох.
Вскоре у него погиб весь урожай.
Учитель говорит: МИР НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ.
Заветы. Глава 5, стих 1
— Вот, — Руслан Шабровски стоял посреди обширного помещения. Ультрамодным барельефом стены усеивали всевозможные экраны, шкалы, переключатели и датчики. — Сердце Ковчега — центр технического управления, говоря проще, хоть и не совсем верно — рубка.
Руслана, как инженера, как создателя распирало от гордости. Эммануил понимал его, понимал, но не разделял чувств. Вид механизмов, пусть и сверхсовременных, навевал на него скуку. Сколько себя помнил, его занимали люди, их мысли, мотивы, чувства, устремления.
— Подойди сюда, — Шабровски поманил его к одному из подмигивающих блоков в дальнем конце комнаты. — Ну подойди, подойди, он не кусается.
Эммануил послушно двинулся к Руслану.
— Гляди, — палец инженера указывал на тройку расположенных вряд лампочек. Первая из них весело подмигивала зеленым глазом. — Знаешь, что это?
Эммануил промолчал, так как вопрос относился к разряду риторических.
— Система жизнеобеспечения! — словно величайшую тайну, поведал инженер. — Ковчег рассчитан на пятнадцать тысяч пассажиров.
Эммануил поморщился — он предпочитал наименование — обитателей.
— С Земли на нем вылет пять тысяч человек. То есть, запас есть и запас достаточный. Как говорится — плодитесь и размножайтесь. Но с оглядкой. При достижении первой критической величины, человек за пятьсот до пятнадцати тысяч — назвать точную цифру не могу — дети, старики — различие обменных процессов — загорится оранжевый сигнализатор. — Палец переместился к соседней лампочке. Это сигнал — будьте на чеку. Но это еще не самое страшное. Вот когда засветится красный…
— Что будет?
— Я ж говорю — система рассчитана на пятнадцать тысяч человек, понятно — плюс-минус. По достижении критической массы… она начнет отказывать. Трудно сказать, что выйдет из строя в первую очередь: подача и регенирирование кислорода, перерабатывающие станции, батареи… одним словом, следите.
— Зачем ты мне это рассказываешь? Техникам говори.
— Им тоже, а как же. Однако я хочу, чтобы и ты знал.
***
И поднялся Лейб — муж известный умом и рассудительностью своею. И сказал: «Доколе будем препираться и спорить? Доколе будем бродить, как овцы по лугу, лишенные пастыря? Доколе Мать Церковь останется без главы, как сирота без родителей! Хватит, братья! Мы сделаем то, зачем пришли! И пусть Учитель наставит верных сынов своих!»
Летопись Исхода
Глава 2. часть 7
Сердик Лейб был обычным текстильщиком. Нити белых, как материнское молоко, чистых, как мысли младенца, длинных, как время ожидания бинтов составляли смысл жизни уважаемого Сердика. Ибо, как нетрудно догадаться, Лейб работал в цеху производящем бинты.
Был обычным текстильщиком. Был не потому что, упаси Учитель, Сердика не стало, он не ушел в лучший мир через люк утилизатора, в компании не подлежащих переработке отходов. С этого дня Сердик стал необычным… текстильщиком.
Нет, он так же продолжал трудиться на благородной ниве наматывания бинтов на бобины. И лечебная ткань отнюдь не стала белее, или гуще…
В комнате Сердика собрался… сбор. Потому и сбор, что собрался.
— Они посмели сойтись, — густым, как звук тромбона из оркестра Кинга, и таким же зычным басом вещал глава аграриев Пол Никитченко, — сойтись и принять свое решение.
— Отвратное решение!
— Преступное решение!
— Оно противоречит словам Учителя, самой сути!
Увитые лысинами головы качались в след мудрым словам.
— Не имели права!
— Не правомочны!
— Да как они вообще могли! — преисполненный праведного гнева взвизгнул Никий Гвана, и кружевные манжеты, притороченные к серой робе, колыхались белыми флагами победы.
Сердик Лейб тихо, как корабельная мышь — безбилетный пассажир Ковчега — сидел в своем углу и качал курчавой головой.
Какие важные люди.
Какие речи.
— Их, так называемый, сбор, а я назову — сборище не имеет законной силы!
Сердик продолжал кивать.
— Нет ему!
— Нет!
Лишь сделав несколько кивков, Сердик заметил, что большинство мотает головами из стороны в сторону, словно отгоняя утренний кошмар.
— Я на прошлой неделе столкнулась с Кекуле, — и без того пунцовое лицо Мотренко пошло багровыми пятнами, — нос к носу. Так он даже не поздоровался!
— Стыд!
— Стыд!
Теперь Сердик внимательно следил за происходящим. Лишь после того, как большинство производило головодвижения, он повторял.
— Друзья мои, братья! — к трибуне, образованной из двух поставленных рядом табуретов, подошел Александр Сонаролла. — Волнения, нездоровые споры охватывают сектора. О сущности Учителя уже дискутируют на кухнях и в игральных комнатах. А сущность одна — человеко-бог! Надеюсь, здесь нет отступников, думающих иначе?
— Нет!
— Нет!
Сердик начал кивать, но вовремя спохватился и замотал.
— На нас — нас с вами, братья, возложена великая миссия, огромная ответственность. Возложена самим Учителем, который со своего звездного дома смотрит на происходящее, и сердце, не ведающее зла, обливается кровью в горести и обиде за поступки неразумных детей его!
— Обливается!
— Обливается!
Сердик был весьма доволен, кивок неожиданно совпал с общим настроениями. Кажется, он начинал разбираться.
— Огромная ответственность — раз и навсегда, положить конец распрям!
— Конец!
— Конец!
И снова Сердик угадал с кивком.
Ему начинало нравиться.
— Мы изберем главу, человека, на которого будет возложена непосильная ноша. Да, да, я не оговорился — непосильная ноша. Решать споры, сглаживать разногласия, в полном смысле, не жалея себя, служить обществу, делу Учителя!
Кивая, Сердик чувствовал себя частью чего-то рождающегося, чего-то большего.
— Это большое доверие, но и огромная ответственность. Ответственность брать на себя решения. Решения, возможно, непопулярные; решения, которые могут встречать некоторый отпор, но — решения которые будут обязательны и необсуждаемы для всех членов общины!
— Пастырь!
— Пастырь!
— Мы назовем его Пастырь, как Учитель был духовным пастырем для нас.
— На мой взгляд, и взгляд моих коллег — это единственный выход, способ разрядить накаляющуюся обстановку. Однако к выбору необходимо отнестись со всей тщательностью, сознавая важность и самое главное — ответственность такого решения. Избираемый должен быть индивидуумов высоких моральных качеств, с опытом руководства, стоять на позициях…
— Сонароллу в Пастыри!
Крикнул кто-то с галерки.
— Александра! — поддержали с другого конца комнаты.
Как эпидемия охватывает сектора — в прошлом месяце на каюты химиков напала дизентерия — имя главы цеха текстильщиков разнеслось по каюте.
Вскоре почти все, разве за исключением Мотренко, которая возможно видела на этом месте кого-то иного, скандировали:
— Со-на-рол-ла!
— Со-на-рол-ла!
— Па-стырь!
— Па-стырь!
Сердик кричал, вместе со всеми и был весьма доволен этим.
— Братья, друзья, не ожидал, спасибо, — Александр промокнул рукавом блестящие глаза.
— Голосуем!
Сердику показалось, кричал тот же голос, что предложил текстильщика в Пастыри.
Когда поднялся лес рук, он спешно вытянул свою, мало что понимая, но весьма довольный, что и на этот раз со всеми.
***
Уважаемый Высокий Трибунал, в восьмой раз довожу до вашего сведения о ереси моего соседа — пластмасника Рустама Кекуле. На все предыдущие письма не получено ответа, и мой сосед по прежнему не арестован. Мало того, он продолжает ходить по ночам. А недавно, когда все спали, у него в комнате слышались голоса. Я более двух часов простоял ухом к стене, раскрывая заговор. А ведь у меня радикулит и утром на работу. То, что это — заговор, я убедился из того, что не расслышал ни одного слова. Честные люди говорили бы громко, так, чтобы соседи не мучались и все слышали.
С уважением Леопольд Нульсен — преданный, верный сын Матери Церкви и Высокого Трибунала.
— Ступай, мальчик, неси влагу истины страждущим, утоляй жажду нуждающихся.
— Благодарю, Учитель.
— Не взращивай греховное и не осуждай заблудших. Мир в тебе самом важнее учения.
— Понимаю, Учитель.
— Ступай, сын мой.
— Иду, Учитель.
И пошел.
Они приходят, он учит. Уходят. Приходят снова. Приходят новые.
Этого назвал — мальчик, хотя сам немногим старше его.
Еще — сын мой. Дети. Для него — дети. Молодые и старые, мужчины и женщины. Его дети.
Устал. Он слишком устал.
Груз прожитых лет давит свинцовой ношей.
Он слишком много прожил.
Когда-то наивно полагал — жизни не бывает слишком.
Пусть в креокамере, но клетки, суть, возможно — душа, помнят. Годы, столетия прижимают к земле, заставляют горбиться спину и самое главное — путают мысли, перекраивают взгляды, заставляя его — сорокалетнего мужчину стариковски морщить почти безморщинистое чело.
И снова возвращаются изгои-сомнения.
Может, оставить — как есть? Не делает ли он хуже? Не растит ли здесь, в проповедях человеколюбия жестоких борцов.
За человеколюбие.
Такое уже было.
Оставить.
История, эволюция, изменчивая, как увлечения юности и постоянная, как поздняя любовь сама расставит на положенные места.
Вынесет на новый виток…
***
Учитель один, да молельщики не одинаковы.
Из сборника «Устное народное творчество»
Ой кричит святой отец:
Бой распутству, наконец!
Приходи, милок-дружок,
Отпусти скорей грешок.
Дружный гогот уплотнил воздух до осязаемой массы.
Двум десяткам потных тел сделалось тесно в небольшой комнатке жилого сектора.
Но они не уходили, и не жаловались, более того — были довольны и требовали продолжения.
— Сказанул, так сказанул — «отпусти грешок»!
— Представляю, что он там наотпускает.
— И как!
О да, мужская компания — дружеские похлопывания, однозначные недосказывания, сальные шутки.
— Юр, давай дальше, чего там припас!
— Да, Гопко, не молчи!
Юрий Гопко вдохнул воздух — застоявшийся, плотный воздух мужского собрания. Он тоже мужчина — ему нравилось.
Я сидела на диете,
Ела фрукты те и эти.
Ой живот ты мой изменник,
Помоги скорей, священник!
— Вот, вот, эти церковники!..
Соседи тут же зацыкали на неосмотрительного смутьяна, им оказался хозяин комнаты — рыжеволосый Селиг.
— А чего, а чего, неправда, что ль? — парень часто моргал, разрежая воздух пшеничными ресницами. — Все ж свои кругом!
Синие одежды — штаны, куртки, рубахи засевали стулья, кровать, тумбочки и даже пол комнаты. Естественно, в одеждах пребывали их обладатели.
Я упал, а мне — не больно!
Церковь Мать была б довольна!
— Ха, ха, ха, ну молодец!
— Вот, а я че говорю, ему можно, а мне… — между хохотом протиснулся обиженный голос Селига.
— Можно! Юрка — поэт! А ты…
— Шестеренка рыжая!
— Ха, ха, ха!
— Ой, не могу, шестеренка…
— Сказанул, так сказанул!
— Да пошли вы!..
Хозяин комнаты возмущенно встал и начал пробиваться к выходу.
С десяток рук тут же потянулось к товарищу.
— Ты чего, Сел?
— Обиделся?
— Пошли вы!..
— Юр, читай еще, видишь, хозяин скучают!
В пальчике сидит заноза,
Нет печальнее прогноза.
Ой, душе бы не пропасти,
Помоги скорее, Пастырь!
Гогот снова уплотнил воздух.
— Видишь, у человека горе — заноза.
— А тут ты со своей обидчивостью.
Юрий Гопко стоял у стены, лицом к остальным, и видел то, чего не могли видеть другие.
В противоположном конце комнаты, в едва досягаемой взору глубине, за полуотсунутой занавеской, блестели глаза. Большие, в окружении угольных ресниц, непривычно контрастирующих с пышной копной рыжих волос.
Глаза, не моргая, смотрели на него, на Юрия.
Ох уж эти женщины…
***
Рекомендуемое количество к утилизации — 150 особей.
Выявлено:
Детенышей — 27 шт.
Стариков, неработоспособных — 58 особей.
Разница — 65.
Вывод: в соответствии с ст. 1.7. — повторный рейд.
Руки, плечи, туловища, головы.
Тьма плеч.
Лес туловищ.
Поляна голов.
Они стояли друг возле друга. Рядом, совсем рядом, не толкаясь. Почти не двигаясь. Легкие колыхания, перенесение веса тела с одной уставшей ноги на другую — не в счет.
«Великая Мать…»
Рхат Лун тоже старался стоять, не двигаться, подстраиваясь под общий каменный строй… работа, хуже фабричной. Отчаянно хотелось пройтись, присесть, размять затекшие конечности. Ко всему, тело начало зудеть, причем одновременно, сразу в нескольких, большей частью труднодоступных местах.
«Великая Мать, помоги… вынести… вытерпеть… сдержаться…»
Проклятая голова вертелась волчком — есть такая игрушка у маленькой Хозяйки Лизы, — хозяева, хозяева, хозяева. В зарослях голов редко, как ягоды улины в зарослях колючего жовника проскакивали ушастые (лысые, волосатые, плоские, вытянутые, заостренные, вогнутые) головы рабов. Очень редко.
Место называлось: Майда. Рхат Лун впервые здесь.
Всегда жидко плетеные ворота были закрыты. Всегда их охраняли воины.
— Куда? Рабам нельзя!
— Этот со мной, — вступился Хозяин Брайен.
— С тобой?.. Ладно, проходите.
Рхат Лун чувствовал: что-то происходит… должно произойти. Каждой волосинкой, кончиками усов, ногтями на пальцах ног… Живя на родине, он научился чувствовать опасность, когда шерсть, помимо воли, поднимается, превращая податливый мех в некое подобие игл. Он научился чувствовать взгляды, особенно в спину, будто горячую головню вытянули из костра и приложили между лопаток… Здесь тоже что-то происходило, но что… опасность, веселье… ожидание, как листья гудки впитывают влагу, меняя цвет, набухая, так ожидание пропитало этих Хозяев, эти стены, потолок с далекими солнцами.
«Великая Мать, что-то будет, что-то случиться, скоро… Защити, Великая Мать!»
Небольшой жизненный опыт учил — изменения не всегда к лучшему.
Неожиданно, возбуждение пробежало далекими рядами. Нет, внешне Хозяева не изменились, и даже не стали больше двигаться. Их взоры, их мысли, интерес из рассеянных потянулись к одной точке. К концу, или началу — как посмотреть — Майда.
Там, над помостом из тонких, как лианы, но твердых, как камень бревен чернел нарост Утилиза.
«Великая Мать, защити!»
Рабы других Хозяев, в разговоре, случайно упоминая Утилиза, в ужасе закрывали рот ладонями. Рхат Лун сам видел — Буртос, громила Буртос — раб Хозяина Лань У побелел и едва не свалился, когда коротышка Ганки завел разговор о Майда и его украшении.
Рхат Лун боялся Утилиза. До колик, до дрожи в коленках, до беспамятства… Почему? Не знал сам.
Все боялись.
Шеи зрителей вытянулись.
Повинуясь стадному чувству, вытянулся и даже встал на цыпочки Рхат.
На помост, прямо к Утилиза поднимались люди, Хозяева.
Впереди два техника в синих одеждах.
За ними — солдаты.
Солдаты окружали женщину, молодую. Видимо, Хозяйка была сильно слаба, после болезни — двое солдат поддерживали ее под руки, ноги она переставляла с трудом. К груди женщина что-то прижимала.
Рхат стоял едва не на кончиках пальцев — ему было любопытно — что?
Развернулись техники.
Развернулись солдаты.
Женщина.
Сверток в худых руках зашевелился.
Ребенок!
Человеческий, хозяйский ребенок!
Получается, он — Рхат Лун — присутствует на чем-то вроде праздника Рождения, или Обрезания.
У них в деревне тоже, когда рождался ребенок, устраивали праздник. Особенно, если новорожденный — мальчик — будущий охотник, кормилец племени.
«Великая Мать, спасибо!»
Рхат Лун почувствовал гордость. Хозяин Брайен оказал ему честь. Ему — никому другому! Взял с собой на хозяйский праздник. То-то здесь так мало рабов.
Когда вернется, расскажет, прочие — обзавидуются. Особенно зазнайка Ганки. Раздуваясь от важности, он всем заливал, что три раза ел с Хозяевами. За одним столом! Есть он может хоть пять раз, а вот на празднике ни разу не был. Иначе бы давно лопнул от самодовольства.
Заговорил один из техников. Громко, читая с крупного листка.
Рхат Лун не очень понимал — слишком много слов. Часто повторялось два: «Закон о населении».
Женщина окончательно повисла на руках солдат.
Солдаты, не моргая, пристально вглядывались в толпу.
— Сандра Гольдеман не замужем, — процедил один из Хозяев сбоку Рхата.
— Отца высматривают. Отца ребенка.
— Чтоб, значит, обоих…
Странно, ни в одном из голосов не было ни на волосок радости.
Хозяева — странные боги, странные обычаи.
Отец ребенка, вместо того, чтобы радоваться наверху, со всеми, прячется в толпе…
Техник прекратил читать.
Рхат Лун впервые увидел, как толпа заволновалась. Вроде, никто не сдвинулся с места, но словно ветер невидимый, небывалый здесь ветер прошелестел задранными головами.
Те же солдаты, подхватив женщину под руки, потянули ее к Утилиза.
Рхат Лун не заметил, когда черная крышка успела отойти, обнажив угольную нору.
Женщина, внезапно обретя силы, начала кричать, биться в сильных руках.
Во время праздника Рождения, в деревне Рхата, матери не бились, даже не плясали в общем кругу. Они лежали, на почетном месте, рядом с ребенком, в беседке из пальмовых листьев…
Хозяева — непонятные боги, чудные обычаи.
Женщина продолжала биться, словно ей грозила опасность. Даже больше — о ужас — она выпустила ребенка. Сердце Рхата сжалось. К счастью, один из солдат ловко поймал маленький сверток.
Чудные обычаи.
Женщину нести туда, к норе.
Отчего-то Рхату сделалось страшно. Рождение — праздник, но ни на одном, включая зрителей, солдат, техников и мать лице, даже тени веселья.
Солдаты, наконец, дотянули несчастную.
Оторвав от помоста, они ловко втолкнули ее в Утилиза.
Крик прекратился.
Следом полетел ребенок.
Крышка начала медленно закрываться.
Люди, Хозяева, зрители, наконец, зашевелились.
Молча, потупив взгляды, они начали расходиться.
А где же веселье? Пляски? Угощения?
И куда отправилась мать?
Рхат Лун взглянул на Хозяина.
Таким Хозяина Брайена он еще никогда не видел. Лицо, обычно румяное лицо сделалось серым. Словно под кожу натолкали камней, стали четко видны кости и вены.
— Рхат Лун, — произнес Хозяин Брайен, произнес с трудом ворочая камни челюстей. — Ты пойдешь со мной!
***
Я — Вознесена Стахова, находясь в трезвом уме и твердой памяти, огрела своего мужа Вениамина Стахова табуретом, так как видела, как он перемигивался в столовой с этой сучкой Клавкой Лейб. Ей я обещала, что повыдергиваю все ее жиденькие волосенки, и не только на голове. Что и могу сделать.
С уважением Вознесена Стахова — цех обслуги.
— Мам, я боюсь!
— Кого, сынок?
— Учителя!
— Почему ты его боишься?
— Я взял без просу зверюшек Кэнона, проиграться. Я очень, очень аккуратно, а у коровки отбилась нога. Я поставил на место и никому ничего не сказал. Я плохой мальчик?
— Верно, так поступать нехорошо.
— Теперь Учитель придет и заберет меня!
— С чего ты взял?
— Как же, Отец Щур говорил: непослушных детей Учитель забирает и наказывает!
— Не стоит бояться Учителя.
— Но Отец Щур …
— Учитель учил совсем не этому. Он любил детей.
— Отец Щур заставляет нас зубрить Заветы, у Нолана плохо получается, Отец Щур говорит, что того ждет люк Утилизатора. А потом — Учитель так завещал. Учитель не очень добрый.
— Нет, Учитель добрый, он делал людям добро, и завещал делать только добро.
— Тогда, Отец Щур обманывает?
— … нет, Отец Щур не обманывает.
— Если Отец Щур не обманывает, значит — Учитель злой.
— Не злой.
— А Люк? Я не хочу в Люк, и Нолан не хочет в Люк. Люк для нас зло.
— Спи! Разошелся под вечер! Вставать рано!
— Завтра договорим, да?
— … нет, завтра не договорим.
— А когда?..
***
Тогда увидел богатырь Еретика.
Надо сказать, вид он имел ужасный: кожа желтая, вся покрыта волдырями, глаза горят, а из красного рта валит зловонный дым.
Но не испугался Александр, только крепче сжал палицу.
— Что привело тебя? — спросил Еретик громовым голосом. — Разве не знаешь, все, кто приходят в мои сектора, умирают в мучениях страшных.
— Отпусти девушку, чудище поганое! — ответил богатырь.
— Ха, ха, ха, — засмеялся Еретик, да так, что затряслись стены. — Букашка, ты смеешь мне указывать. Знай же, сейчас ты умрешь.
Взмахнул Александр палицей и обрушил ее на голову поганого. Брызнули во все стороны внутренности нечистые, и в тот же миг испустил он дух.
Из сборника «Устное народное творчество»
На широком столе Совета лежал план. Стол видел и более судьбоносные документы: протоколы заседаний Трибунала, отчеты глав цехов, планы производства, списки казнимых и помилованных, статистические данные, объедки и пустые кувшины, оставшиеся после особо длительных заседаний.
Видел он и сегодняшний план. Не часто, но видел, ибо это был план Ковчега.
— Подойдите ближе, — Авраам Никитченко — Великий Пастырь, рассовал листки, отыскивая нужный.
Этьен Донадье — старшина техников покорно подступил к столу.
— Вот! — из-под груды собратьев Пастырь выудил ничем не привлекательный лист. Переплетение линий и условных обозначений образовывало сложный, понятный лишь посвященному узор.
— Как вы знаете, на следующей неделе у нас праздник. Праздник Вознесения. Угощения, конкурсы, представления… все, как обычно.
Техник сдержанно кивнул.
— Все вышеперечисленное при большом скоплении народа. Исходя из опыта предыдущих праздников, особенная давка ожидается в центральных секторах — примыкающих к Майдану и на самой площади.
Дабы разложить чертежи, Авраам Никитченко — неизбежное зло — был вынужден сойти с постамента. Проклятый техник мало того, что соблюдал возмутительное немногословие, так еще и имел наглость смотреть на него — Великого Пастыря — сверху вниз. Ничего, скоро, очень скоро все переменится.
А вообще, следует издать указ — старшины цехов не должны быть выше Великого Пастыря!
— Для, э-э-э, разрежения обстановки, если помните, случались и обмороки, и травмы, Совет постановил прорезать дополнительные ходы. Вот здесь, здесь и здесь, на примыкающих к Майдану участках, а заодно и в этих секторах, — красный карандаш, зажатый в узловатых пальцах, ловко помечал необходимые точки. — А так же тут и тут, — тот же карандаш сделал пометки еще на двух листах.
Впервые с начала разговора, старшина техников проявил интерес. Худое тело переломилось в пояснице. Водянистые глаза изучали план.
— Это…
— Это возможно? — перебил техника Пастырь.
— Да… теоретически. Однако даже если сделать, получатся просто ходы — без дверей, в случае чего — авария, утечка, все обитаемые сектора остаются полностью открытыми, мы не сможем изолировать…
— Ну, не стоит преувеличивать, не так уж часто случаются аварии, несомненно, благодаря результативной работе вашего цеха. К тому же — ходы только на время праздника. Затем заделаете, либо поставите ваши любимые запорные устройства.
— Не знаю, — Донадье заскреб редкую шевелюру. — Объем работ… их целесообразность…
— Таково решение Совета, следовательно — воля Учителя! — следовало показать кто здесь хозяин. — У вас — неделя! Ступайте! Мои люди проследят за исполнением!
***
Учитель предупреждал об этом.
Защищал детей.
Нет секретов для того, кто выше времени.
Искушаемые нечистым.
Неокрепшие верой.
Темные разумом.
Бывшие братья и сестры сошли с начертанного пути.
И сердце, любящее сердце Всезнающего, глядящего со звездного жилища на неразумных чад, истекало кровью страдания.
Летопись Исхода
Глава 2. часть 8
Хейли, рыжеволосый здоровяк Хейли забрался на перила ограждения. Веснушчатая рука сжимала стойку, как флагоносец сжимает штандарт. Выглядывающий из-под майки пуп третьим глазом подмигивал в такт пламенным речам металлурга.
— Они попрали слова Учителя! Оставленные им заветы! Святое!
Толпа утробно гудела двигателем, набирающим обороты.
Спихнув Хейли, который явно намеревался добавить что-то от себя, на парапет, как царь на трон, вылез Данкан Левицкий.
— Они попрали слова Учителя! Оставленные им заветы! Святое!
Ни Хейли, ни Левицкий, умудренные жизненным опытом игровой комнаты и годами работы в цехах, не могли родить столь складные, обильно пересыпанные мудрыми словами, фразы. Они лишь повторяли, минуту назад произнесенное Арием Стаховым. Что и сколько запомнили.
— Они попали слова Учителя! — промучившись тщетными попытками стянуть Левицкого, орал из первых рядов Хрущ Никитов. — Завещание!
— Святое!
— Ишь че удумали!
— Пастырь!
— Мы им покажем!
Лысый Никитов уже самозабвенно колотил рваной сандалией по перилам.
— Кузькину мать!
Из-за поворота показалась группа, в составе которой угадывались представители богочеловеческих цехов текстильщиков и аграриев.
— Приказываю сейчас же прекратить несанкционированный митинг и разойтись, — под приветливыми взглядами собратьев, группа спрессовалась в клин, на острие которого оказался бледный Поликарп Миллгейт.
Оппоненты перестроились в таран, ударную часть которого составляли Арий Стахов и два пузача: Хейли и Левицкий.
— Это кто ж тебе дал право приказывать?
— Александр Сонаролла, избранный Пастырем на последнем сборе.
— А не пошли бы вы с вашим пастырем…
— К Кузькиной матери!
Молодецкий гогот сотряс стены сектора.
От этого гогота, заботливые и не очень мамаши забрали играющихся чад и заперли двери комнат, для верности подперев их табуретами.
— Слово Пастыря — закон!
Храбро взвизгнул Миллгейт.
— Вот вы и выполняйте. А ну пошли отсюда!
— К Кузькиной матери!
Поликарп Миллгейт засобирался протиснуться за спины товарищей. Произнести обличительную, пламенную, как топка утилизатора речь, ему внезапно показалось сподручнее с задних рядов.
Так же внезапно он обнаружил, что протискиваться не за что, ввиду отсутствия спин и иных частей тел пресловутых товарищей.
Из-за поворота, того самого из-за которого они вышли минуту назад, долетело противоречивое?
— Сами идите!
Поликарп развернулся и ринулся навстречу звуку. Не то, чтобы он знал в каком из секторов необъятного Ковчега, обитает загадочная Кузьмина мать, однако отыскать ее, внезапно сделалось весьма важным.
***
И вошел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в Ковчег(…).
Они и все звери по роду их, и всякий скот по роду его, и все гады, пресмыкающиеся по земле, по роду их, и все летающие по роду их, все птицы, все крылатые.(…)
И вошедшие мужеский и женский пол всякой плоти вошли (…). И затворил Господь за ним (Ковчег).
Бытие.1.
Они сидели перед ним — все, или почти, за исключением стоящих на вахте. Обитатели Ковчега, граждане нового мира.
Он лично отбирал, беседовал с каждым. Эммануил никогда не предполагал, что выбор настолько тяжелая штука. «И соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. И поставит овец по правую свою сторону, а козлов — по левую». *(Матвей гл.25 (32,33))
Он не бог, он не способен отделить праведников от грешников. Богу не позавидуешь. Он — Эммануил — не позавидует — он познал тяжесть выбора.
Сотни пар глаз смотрели на него.
Совсем рядом, за толстой обшивкой Ковчега, с каждой минутой, секундой от них отдалялась невидимая отсюда Земля. Или они от нее.
Войны, насилие, ненависть, голод, неуверенность в будущем. Друзья, родственники, первые светлые воспоминания, первая любовь.
Неуверенность в будущем.
Они оставляли ее, и она же ждала их впереди.
Тысячи пар глаз. Они поверили ему, они отринули прошлое, они пришли сюда, выбрав неопределенное будущее. Будущее, как они надеялись, лишенное пороков прошлого. Он тоже надеялся на это. Надеялся и молил, всех богов, которых знал.
— Мы пришли… — они ждали от него речи, первой речи, напутствия, и он готовил ее, даже специально — чего ранее никогда не делал — написал, выучил… слова, заученные, вымученные слова застыли в горле удушливым комом.
Требовалось ободрить, поддержать, это была речь, преисполненная оптимизма, щедро сдобренная высокопарными фразами. Речь, как нельзя лучше, соответствующая обстановке, моменту.
— … собрались здесь, чтобы…
Куда подевалось его хваленое красноречие, его кружевные обороты, которыми восхищались даже оппоненты. Где они, когда нужны более обычного! Где уверенность в себе, собственных силах, собственной правоте, подкрепленная созвучием мыслей, чаяний сотен последователей!
Невдалеке, на специально отведенной площадке, играли дети. Качались качели, кружилась карусель. Жалобно трещала под напором детских ножек шведская лестница. Гайдуковский был прав. Детям везде хорошо, когда имеются игрушки и есть с кем порезвиться. И нет им дела до удаляющейся Земли, до проблем взрослых, и до его личной проблемы — невозможности произнести речь.
— … мы оставили… отринули…
Из кучи, образованной мешаниной детских тел, вырвался смуглолицый мальчуган. Взъерошенные волосы, раскрасневшиеся щеки, глаза горят азартом игры. Большие, темные, словно бездонные колодцы глаза, на редкость красивые — наследие деда. Внук Гайдуковского — Брайен Гайдуковский. Засучив рукава, мальчишка с разбегу влетел в кучу малу, затерявшись среди подобных себе копошащихся детских телец.
— Мы — здесь присутствующие — вы, я, еще порождение, продукт того мира. В нас еще живут, возможно тлеют, возможно горят его ценности, его мировоззрение, взгляд на вещи. Но мы сделали первый шаг, самый сложный шаг — ушли, отринули. Я преклоняюсь перед вами, вашим мужеством, вашей решительностью и вашим благородством. Да, да, благородством. Только благородный человек способен пожертвовать собой, собственной жизнью, часто обеспеченной, с налаженными связями, ради туманного будущего. Будущего, в котором не ему — детям, внукам его будет жить лучше.
И мы построим это будущее!
Мы — помнящие Землю.
Не ради себя, ради них!
Они, родившиеся на корабле, не знающие иной жизни, станут истинно новыми и полноценными гражданами взлелеянного общества. Общества, свободного от насилия, ненависти, принуждения, рабства себе подобных. Общества, которое тщетно силились построить поколения идеалистов на Земле. Общества, которое безуспешно пытались вообразить тысячи утопистов.
На вас, мне, лежит огромная ответственность. Мы — строители, фундамент. Воспитывайте, воспитывайте детей. Они — наше — ваше будущее, граждане того, взлелеянного, гармоничного мира!
***
Непослушание, либо невыявление должного почтения — 8 особей (утилизированы).
Они шли.
Далекими землями.
Незнакомыми тропами.
Мимо чужих жилищ. Во всем похожих на их собственное.
На Ковчеге все было похоже.
Но запах — нос, чутье не обманешь.
«Великая Мать!»
Рхат Луну сделалось страшно. Он никогда не заходил в такие дебри. Конечно, хозяин Брайен добрый, но ведь Рхат Лун разбил пятиногого зверя, и божка…
«Великая Мать, милостью твоей, если только я вернусь, мы вернемся домой, я стану самым лучшим слугой. Хозяин Брайен, Хозяйка Рената, преданнее, расторопнее, аккуратнее слуги, не найдется на всем Ковчеге! А пыль! Я люблю, обожаю, жить не могу без пыли!»
Хозяин Брайен остановился у одной из дверей. Зачем-то огляделся, дождался пока дальний прохожий скроется за углом коридора, после чего постучал.
Необычно.
Два быстрых, потом один… потом снова два быстрых… Рхат Лун не запомнил, да и как было запомнить, когда он молился Великой Матери.
Щелкнул замок. Дверь открылась.
— Брайен! Проходите, только что началось.
«Что началось? Праздник Рождения? Великая Мать!»
Что сразу навалилось на Рхата, так это — запах. Запах дыхания. Давно не мытых и свежеискупанных тел, разгоряченных и холодных. Запах любопытства. Запах страха. Запах надежды, и запах обреченности.
Жилище, немногим больше хозяйского, было сплошь, что называется, забито народом.
«Великая Мать!»
Рхат Лун никогда еще не видел такого.
Хозяева и рабы, сидели, стояли, бок о бок, как равные. Все взоры были обращены к дальней стене, где на возвышении говорил один из Хозяев. Худой старик, нижняя часть лица которого заросла жидким седым мехом.
— Братья, сестры. Повинуясь зову сердца, естеству, кто пришел сюда впервые, и постоянные слушатели. Именно: братья и сестры. Ибо, как завещал Учитель нет низших и высших, рабов и господ. Перед лицом Всезнающего — все равны. Паукообразный гандапод с Аграрии и ластоногий тун с Ваниба, член Совета Техников и чистильщик заброшенных секторов. Так говорил Учитель. Воодушевленные этими словами, наши предки построили Ковчег. Нести слово Божественного меж звезд…
Учитель — бог Хозяев, Рхат Лун и раньше слышал это имя. Странный бог, как все у Хозяев. Имя не было запретно, однако его старались пореже произносить вслух. Боги Рхат Луна карали, разве за исключением Великой Матери, а Учитель…
— Забыты пророчества, попраны заповеди — законы, по которым жили поколения наших предков! Глядя из звездного жилища на деяния детей своих, сердце Всепрощающего обливается кровью…
Хозяин Брайен слушал внимательно. Понемногу, с речью выступающего, лицо вновь обретало привычные черты. Камни скул разглаживались, возвращался румянец.
Рхат Луну же сделалось… скучно.
— Не убивай! — кричал старик.
— Не убивай, — повторяла за ним толпа.
— Не лги!
— Не лги.
— Не прелюбодействуй!
— Не прелюбодействуй.
Теснота, вонь, малопонятные речи…
Рхат Лун начал оглядываться, сначала осторожно, ежесекундно ожидая усмиряющего окрика, затем смелее.
Над узкими плечами одной из Хозяек возвышались длинные уши. Широкие, с кисточкой черных волос на концах. Что-то знакомое…
Любопытство двинуло Рхата вперед. Хозяин Брайен, занятый слушаньем речи, не обращал внимания на Рхата, да и остальные Хозяева… вот и узкие плечи, Рхат Лун привстал, заглянул за них…
— Боэта! — возглас был едва слышен, однако рядом сидящие оглянулись на Рхата. Оглянулась и та, которую он заметил.
— Рхат?
— Боэта!
Протиснувшись между худой Хозяйкой и ее соседом — мускулистым вологонанином, Рхат Лун оказался рядом с девушкой.
— Рхат! Но как ты?..
— Мой хозяин привел меня. А ты?
— Тоже. Рхат.
— Боэта…
Эти длинные ушки, эти большие глаза, чуть вздернутый носик… как же она была прекрасна. Что-то шевельнулось в душе Рхата. Нет, девушка всегда нравилась ему, но кто он был раньше для первой красавицы племени.
— Ты видел кого-нибудь из наших?
— Нет, а ты?
— Нет, — уши девушки поникли. — Моя сестра, помнишь Роэту? Я просила Хозяев разыскать… Ее, наверное, забрали на фабрику, здесь много фабрик, или того хуже — в лабораторию…
— Учитель жив. Многие, многие забыли Великого, живут не по заповедям. Но, скоро, истинно говорю вам, близится тот час, переполнится чаша терпения, явится он, в гневе и моще, спросить с недостойных детей своих. И предстанут отступники пред грозные очи, и будут держать ответ…
— Боэта…
— Рхат…
— Слушай, ты где живешь, у кого?
— Мои Хозяева: господин и госпожа Кекуле, третий ярус сектор пластмасников.
— А я у Хозяина Брайена и Хозяйки Ренаты, сектор, кажется… металлургов.
По глазам Боэты, Рхат понял — ей так же мало говорят малознакомые названия.
То ли дело на родине — Большой Овраг, Великое Дерево, Река.
— Мы можем видеться здесь, — нашлась Боэта, — Хозяйка часто берет меня с собой.
— Я… я не знаю, я впервые…
— А ты попроси Хозяев. Они добрые. Учитель — их бог, учит — все равны. Хозяева и рабы. Их бог тоже добрый, совсем, как Великая Мать.
Рхат Луна покоробили эти слова.
Как может быть кто-то равен Великой Матери. Как Боэта может даже подумать о таком!
— Нет, ты послушай, — распалялась девушка. — Они учат прощать обиды, не делать зла, любить ближнего…
— И накажет недостойных! — как раз вещал седой. — Не дрогнет длань карающая! Устыдятся отступники деяний своих! И раскаются. Но поздно, будет поздно!
— Обязательно приходи, послушай, ты сам все поймешь!
***
В такой день у Бога все равны.
Из сборника «Устное народное творчество»
Некоторое время аппарат держался у пузатого бока Ковчега. Затем развернулся, рывками, словно незрячий, с осторожностью ощупывая окружающее пространство. На миг сверкнули круги сопл в ореоле голубой дымки.
Так же неловко двигаясь, аппарат исчез.
Этьен Донадье отвернулся от иллюминатора. За спиной начальства, едва дыша, замерли подчиненные во главе с Кастором Шейко.
Старший Техник склонил тяжелую голову, разрешая продолжать.
Кастор затараторил, словно опасаясь не дождаться очередного кивка.
— Мы оказались правы — непонятные приборы для управления. Только что вы наблюдали пробный полет детеныша, то бишь э-э-э агрегата.
— Детеныша? — изогнул худую бровь Донадье.
— Ну да, — смешался Шейко, — Ребята так назвали, по аналогии с новорожденными, покидающими… тело матери…
— Любопытно.
Расценив реплику начальства, как разрешение продолжить, Шейко снова затараторил:
— Фронт работ поистине необъятен. В данной области, мы… дети. По-прежнему остается неизвестно назначение ряда приборов, как правильно управлять, возможно что-то делаем не так… наконец, главный вопрос — зачем все это?
— Зачем, разберемся позже. Ваша задача — иная.
— Не хватает людей, я бы сказал — катастрофически. Специалисты, задействованные в проекте, и так, отстояв основную смену, бегут сюда. Однако у меня забирают и их, якобы ваш приказ, какие-то проходы…
— Приказ Совета Церкви, — кивнул старший техник. — Пока вам придется довольствоваться имеющимся. Сколько всего обнаружено подобных… детенышей?
— Два десятка по этой стороне. Однако многие считают, и я разделяю их мнение — это не предел. Возможно, в иных секторах… если провести широкомасштабные исследования… теперь мы знаем, что искать, на какие вещи обращать внимание. Вопрос нехватки кадров — более чем острый.
— До праздника ничем помочь не могу! — отрезал Донадье. — Вы упоминали о еще одной находке?
Шейко оживился.
— Да, ребята здесь, в конце коридора обнаружили запертую дверь. Попытались… словом, она не поддавалась, ну мы и…
— Вскрыли, — подсказал старший техник.
— Ну да, вскрыли.
— Что же вы обнаружили такого необычного?
Шейко нервно заскреб затылок.
— Пойдемте… лучше покажу.
***
Нижайше прошу Высокий Трибунал принять моего сына Алексея девяти лет от роду на служение Матери Церкви с тем, чтобы он стал священником и членом Совета. По причине имеющихся явных способностей. На прошлой неделе сынишка отобрал тряпичную куклу у соседской девчонки и спалил на собственноручно сооруженном костре.
С превеликим уважением, Марк Шагалов — отец будущего члена Совета Церкви.
Тишину нарушал шорох одежд.
Когда они приходили — тихие голоса, щелчки переругиваний, сдавленный смех, были основными звуками.
В конце проповеди — шорох одежд. Только.
Эммануил обругал себя.
Пусть и мысленно, он назвал свое выступление — проповедью.
Не первый раз.
Что случилось?
Или уверовал в собственное божественное естество?
Вода, изменчивая, податливая, безвольная вода точит мерило твердости — камень.
Когда, гуляя секторами, на каждом шагу натыкаешься на собственные изречения, возведенные в канон. Когда именем твоим проклинают оступившихся и им же восхваляют праведников. Когда новообращенные смотрят на тебя с затаенным благоговением.
Поневоле задумаешься.
Оговоришься. Душа не камень.
— Учитель, благослови моего сына.
Женщина была неимоверно худа — тонкие кисти, обтянутые серой кожей, торчащие скулы, глубоко запавшие глаза; жидкая челка выбивается из-под серого платка. Малыш — ребенок восьми лет, напротив, являл типичный пример, что называется, — пышущего здоровьем. Округлившейся животик, румяные, лоснящиеся щеки, горящие глаза, на губах — немного язвительная ухмылка. Создавалось устойчивое впечатление — дитя высасывает жизненные соки из матери.
Ладонь касается пушистого ежика волос.
— Благословляю тебя.
Когда-то он помнил их всех. Мог назвать по имени. Сколько пар образовалось, смешалось фамилий, дав ростки новой жизни.
— Учитель, спасибо, спасибо!
Малыш, в отличие от матери, нехотя склонил голову и удалился, важно неся мячик пуза.
Он мечтал о счастье, хотел царства гармонии. Шабровски — забытый друг, ты оказался прав. Люди — всегда люди.
Кто-то обязательно узрит, что кусок (жена, комната, одежда) соседа лучше. Кто-то захочет отобрать его. Силой. Кто-то захочет власти и двинется к ней, уничтожая и кроша все на пути. И достигнет. Пьедестал — гора трупов, или судеб. Пока только горка. Чтобы удержаться наверху, гора должна быть больше, шире. Чтоб никто не добрался. По трупам трудно карабкаться.
Выбирай, отделяй, изолируй лучших среди лучших.
Люди — всегда люди.
И какая разница — планета, страна или корабль — количество. Единство, суть — неизменна.
— Благослови и меня, Учитель!
— Благословляю.
Дурак, наивный глупец. Сто лет понадобилось, чтобы прозреть. Меряя историей — капля, чертовски мало. Меряя искалеченными судьбами…
Виноват, как же он виноват перед ними. Предками, поверившими ему, закончившими жизненный путь в топке утилизатора со сладкой надеждой на будущее. Живущими сейчас — просящим благословение, смотрящим с надеждой — мальчиком и его матерью. И самое главное — перед многими поколениями их потомков.
Знали бы они.
Впору проклинать.
— Учитель, благослови.
— Благословляю.
Упасть на колени, сейчас, перед всеми, просить, вымолить прощение… нет ему прощения.
А может… открыться, выйти к церковникам, сказать, кто он на самом деле, пожурить нерадивых детей, подкорректировать, исправить, и с начала, ведь не все потеряно!..
Не поверят. Или того хуже — обожествят.
Но вероятнее — первое.
Появись Иисус на Земле в век инквизиции, странствуй, проповедуй, твори чудеса, наводи порядок в храмах — его первого сожгли бы на костре. Может и сожгли, за тысячами жертв не заметив смерти Спасителя.
— Благослови, Учитель.
— Благословляю.
Родители строго настрого запретили спускаться в заброшенные сектора, но запретный плод, как известно, сладок.
Мальчишки натолкнулись на человека.
Мальчишки — это Тимур, Саша Гайдуковский, Андрей Гопко, Нолан и еще пара примкнувших к компании ребят из сектора химиков.
Поначалу они испугались. Но, увидев, чем занят незнакомец, осмелели.
Тимур и Саша, как самые смелые подошли ближе.
Человек плакал.
Тихо, без вздрагиваний.
Блестящие слезы стекали по худым щекам.
— Простите, простите…
Шептали искусанные в кровь губы.
Человек взглянул на детей.
— Простите меня!
***
Место аварии: реакторный отсек.
Причина: износ оборудования (трещина во втором экранирующем кожухе).
Потери людских ресурсов — 0.
Прекратили функционировать, либо получили повреждения, несовместимые с дальнейшей трудовой деятельностью — 23 раба. Отработанный материал утилизирован.
Рекомендуемая квота на детей — 5.
Боэта!
Боэта!
Рхат Лун пребывал, словно во сне.
«Великая Мать, спасибо!»
Крамольная мысль иногда закрадывалась в его голову: «Ради встречи с Боэтой, стоило оказаться на Ковчеге».
Хозяин Брайен уже несколько раз брал Рхата на собрания. Каждый раз в разное место. И каждый раз он встречал там Боэту. Забившись в самый дальний угол, они разговаривали с девушкой. Долго, пока шло собрание. В последнюю встречу, Рхат осмелел, тихонько, в темноте, он накрыл волосатую руку девушки своей ладонью. И она не отдернула.
Рхат был счастлив.
После этого он не спал всю ночь, молился, мечтал, считал дни до следующего собрания.
Никогда работа по дому не была настолько в радость. Никогда хозяева не были такими добрыми. Никогда дни не тянулись так мучительно долго…
— Ты уверенна, ты точно уверенна?
— Да, не забывай, это не впервые. Все симптомы!
Громкие голоса Хозяев вывели из полусонного состояния.
— Не очень хорошо.
— Думаешь, я не понимаю!
Ругаются?
Как они могут ругаться, когда вокруг все так хорошо! Как кто-то вообще может быть недоволен!
— Не кричи, Лизу разбудишь.
— Извини.
— Ничего, ты меня извини.
— Я люблю тебя.
— Я тоже тебя люблю.
Любовь — другое дело. Конечно, любовь Хозяев совсем не такая, как у Рхата. У него она намного сильнее, чище…
— Еще раз спрошу — уверенна?
— Да, я беременна.
Беременна!
Какое счастье!
Хозяйка беременна!
Какая радостная новость!
Осмелевший Рхат, едва не ворвался к ним в спальню.
Поздравить! Все равны — сами говорили.
— Что будем делать?
— Не знаю, пока не знаю…
Непонятно.
Почему в голосах людей нет радости?
Рхат представил, как бы он радовался, узнай, что жена ждет ребенка… особенно, если жена — Боэта…
— Я… все будет хорошо, я люблю тебя.
— Я тоже тебя люблю.
Чужие обычаи. Непонятные разговоры.
***
И настали смутные времена.
Но истинные сыны и дочери сохранили верность Заветам Учителя и Матери Церкви, ибо знали — любящий Отец испытывает их. И чем суровее испытание, тем щедрее грядущая награда.
Летопись Исхода
Глава 2. часть 9
Александр Сонаролла восседал за рабочим столом в кабинете главы текстильщиков. Стопка листов серой бумаги, да механические часы на бронзовой подставке, ничто более не нарушало девственную серость стола.
Брови пастыря сошлись к переносице, да так, что образовали почти сплошную линию.
Перед Пастырем стоял докладчик, и монотонная дробь тихого голоса вплеталась в неизменный гул Ковчега.
— Катали и Протесты снова подрались, прямо на Майдане. Наши соглядатаи поначалу не вмешивались в потасовку, однако потом не удержались. Результат — два человека в больнице.
Вечные лампы с высоты потолка глядели на докладчика безразличными глазами.
— Бывший учитель младших классов Несторий собирает сторонников. Выступает публично. На последнем собрании присутствовали наши люди, насчитали более ста человек. Несторий утверждает, что Учитель не человек, и не богочеловек, а сын бога.
Переминающаяся у стен дюжина подвижников, в среде которых угадывались и старшины цехов, издала дружное, неопределенное:
— О-о-о.
— Небезызвестный Апполинарий снова без разрешения выступал в ткацких цехах, в рабочее время, — голос продолжал отбивать заведенную дробь.
Брови сошлись сильнее, внутренние концы их опустились, отчего вся конструкция начала напоминать воронку, особенно в сочетании с длинным тонким носом Сонароллы.
— Говорил то же, что и обычно. Учитель — бог, спустившейся на землю в человеческом обличии. Ткачихи слушали с превеликим вниманием.
Пол года, коротких, как время счастья, каких-то шесть месяцев назад, когда его только избрали Пастырем, Сонаролла накинулся бы на докладчика:
— Как же вы допустили!
— Запретить! Разогнать!
Время не только лечит, но и вносит свои коррективы. А перемены не всегда к лучшему.
Костер, распаленный им и Стаховым, распался множественными искрами, каждая из которых грозила разродиться полноценным пламенем.
Течения и взгляды на сущность Учителя, а с ними и на уклад жизни, множились синяками на теле незадачливого ребенка. Только, так называемых, «Человеческих», «Арианских» течений насчитывалось около полудюжины. А были еще Бадасты, утверждающие, что Учитель всего лишь пророк, ниспосланный Высшим Разумом; Гаситы, ополчившиеся на ежесубботние Благодарения; Махонцы, призывающие вообще отказаться от любого управления, а все вопросы решать общим собранием.
— Отец-Учитель, куда мир катится…
Кажется, это произнес Никий Гвана, тот самый Никий Гвана в каюте которого они собирались неполный год назад, и который так рьяно обличал Арианцев на сборе Сердика. Длинные волосы висели жирными неухоженными прядями. Даже кружевные манжеты — предмет насмешки мужчин и тайной зависти женщин — свесили дырявые уши.
Сонаролла поднялся, тяжело, седую голову одолевали тяжкие думы, проступая морщинами на сером лице.
Поднялся, чтобы тут же опуститься на колени.
Под шелест одежд за Пастырем последовали остальные.
Сонаролла сплел длинные пальцы тонких рук.
— Учитель, Отец наш небесный, зглянься на неразумных детей твоих. Наставь на путь истинный, не дай сойти с пути праведного. Прости детям своим грехи совершенные не по злому умыслу, не в черноте душевной, а лишь по невежеству. Избави неразумных от новых прегрешений. Вразуми заблудших, возврати сошедших.
— Вразуми заблудших, возврати сошедших, — нестройным хором повторили сотоварищи.
И лампы, вечные лампы, убавили неизменное свечение, тускло мерцая душами заблудших грешников.
— Слава, — родил Сонаролла.
— Слава! — подхватили присутствующие.
***
Сидят две старушки под Люком.
— Ой, Никитична, чего расскажу — соседи позавчерась собрались в своей каюте и пьють, и пьють, и пьють. Вчера собрались — и пьють, и пьють, и пьють. Сегодня собрались — и пьють, и пьють, и пьють…
— Поликарповна, а где ж суть?
— Так там же и ссуть!
Из сборника «Устное народное творчество»
Бесшумная дверь тихо возвратилась на место, прервав предательский поток света из коридора.
На цыпочках Рената двинулась через холл, к своей комнате.
Не то чтобы ее особо бранили за поздние прогулки, и не то чтобы сейчас было так уж поздно…
— Вернулась?
Вопрос, заданный тихим голосом, произвел эффект удара. Тело непроизвольно вздрогнуло, чтобы в следующую секунду так же непроизвольно сжаться. Сердце, подскочив к горлу, осталось там, затрудняя дыхание.
Свет включился — тусклый ночник у изголовья пластикового кресла-качалки — его любимого, изготовленного специально для него, на заказ. Отец сидел в кресле в сером домашнем халате. Пестрая ряса, украшенная затейливой вышивкой, сложными аппликациями — плод труда десятков часов десятков ткачих, была красива. Без сомнения. Однако Рената… не любила ее. А отца, когда он облачался в «рабочий» наряд… побаивалась. Что-то менялось в привычных, знакомых с детства, родных чертах. Отсветы вышивки наползали на глаза, делая их холоднее вечной ночи за обшивкой, тени сложных кружев ложились на лицо, заостряя черты, делая их более… неподвижными, опуская уголки рта, выделяя скулы, укрупняя подбородок…
— Гуляла?
По счастью, сейчас перед ней сидел ее отец. Не первосвященник, член Совета Церкви — Аарон Левицкий, а просто слегка располневший, усталый человек в сером халате.
— Ты напугал меня.
Сердце, оставив в покое горло, безуспешно пыталось вернуться к нормальному ритму.
— Извини.
— Не спишь?
Отец взъерошил редкую поросль на светящейся голове. Рената помнила этот жест. Помнила и любила, с детства. Тогда, на месте жидких волос буйствовала густая пшеничная шевелюра. Она запускала в нее пальчики…
— Так… как-то в последнее время не спиться…
Сердце окончательно успокоилось. Подойдя к отцу, девушка села на подлокотник, осторожно запустив руку в редкие заросли.
Один из двенадцати самых высокопоставленных людей, решающих судьбу Ковчега, блаженно потянулся, обнял дочь.
— Ты выросла, я и не заметил…
— Что ты, я всегда останусь твоей маленькой девочкой.
Отец улыбнулся, лица она не видела, но почувствовала.
— Для меня — да.
— Проблемы на службе?
— Да так…
— Что-то не то с управлением Ковчегом? Мы не туда летим? Не тем курсом движемся? — неловкой шуткой, Рената пыталась развеселить отца.
Против ожидания, улыбка исчезла.
— Не тем, вот именно — не тем. Скажи, ты все еще дружишь с тем пареньком… из техников, как же его…
— Юра! Юра Гопко.
— Вот-вот — Гопко.
— Да, а что?
— Э-э-э, — волосы под пальцами девушки неожиданно превратились в грубую щетину. — Мало ли парней кругом, дался тебе этот Гопко.
— Папа?
— Что, Ренатушка?
— Папа!
— Лично против него я ничего не имею, возможно, он неплохой парень… просто сейчас такое время… дружба вообще непозволительная роскошь… а с техниками… особенно…
— Юра отличный парень! Он хороший, добрый, отзывчивый… стихи пишет.
— Стихи? Интересно, интересно, и о чем же?
— Разные. Есть о любви, о дружбе, есть и смешные.
— Надо же, смешные, когда-то и я… не важно… Подумай над моими словами, не общайся, ради меня, хотя бы временно. Ты пойми, я желаю тебе добра, только добра.
***
Утилизировано — 5 (в т. ч. 4 раба).
Родилось 2.
Квота на детей — 0.
Роскошь обстановки.
Бархат драпировок.
Переливающийся мех инопланетных животных.
Бедным родственником, проглядывающий сквозь бархат пластик стен.
Вычурные светильники, обрамляли стандартные лампы.
Двое молодых, или не молодых людей.
Молодость характеризуется блеском глаз, бурлением чувств, гибкостью тела, категоричностью суждений и скороспелостью выводов… дружбой до гроба.
И все это — все! Уходит, вместе с молодостью.
В разной очередности.
Слабое утешение.
Какое есть.
Двое молодых, или не молодых людей стояли друг против друга.
— Ты как?
— Нормально.
— А ты?
— Тоже.
Ладно гибкость тела, блеск глаз и даже суждения ладно, но дружба, дружба — она не зависит от возраста, опыта или прибавления седины в усах.
— Давно не виделись.
— Ага.
Ведь когда-то ты мог разговаривать с этим человеком часами, напролет. Едва поднявшись, ты бежал к нему, или он к тебе, и вы говорили — обо всем. Девчонках и урожае, родителях и учителях, проблемах и радостях. При ежедневных свиданиях темы не иссякали. А если один заболел… день, два не выходил из дома… о-о-о, переговорить события не хватало и суток.
— Работа?
— Нормально. А у тебя?
Один из собеседников — высокий мужчина в синем, расшитом золотом мундире, развел украшенные накладными манжетами руки.
— Тружусь, помаленьку.
— Слышал, слышал.
Высокий сказать то же не мог. О бывшем друге он не слышал, да и не должен был слышать. Мыслимое ли дело, когда у тебя на плечах тысячи…
— Как Марта?
— Спасибо, хорошо.
— А… твои?
Легкая, едва заметная запинка перед последним словом. Второй собеседник — среднего роста, широкоплечий крепыш истолковал ее по-своему.
— Рената беременна.
— Что?
Разговор сходил с накатанной, рутинной, ничего не значащей колеи. Да и не мог он задержаться на ней долго. Ну не приходят к Старшему Технику просто поболтать, пусть и друзья, пусть и бывшие. Особенно бывшие друзья.
— Рената беременна, — терпеливо повторил крепыш.
— Та-а-ак, — голос, интонации, даже манера держаться высокого сразу изменились. Те, кто спускались на планету, сравнили бы его с хищником. Нет, не готовящимся к атаке, скорее, подобравшемся для обороны, защиты своей территории.
— Я… мы подумали…
— Ты знаешь закон!
— Знаю, но Рената…
— У вас уже есть дочь. Многие ждут своей очереди годами, заслуживают право на второго ребенка!
Глаза широкоплечего сверкнули.
— А мы, значит, не заслужили!
— Не перекручивай мои слова. Подайте заявку, Совет рассмотрит ее, вынесет решение, в случае положительного, внесет в реестр…
— А Рената пока родит!
— Таков закон. Я не могу делать исключения даже для… знакомых.
— Законы придумываются людьми! А потом они из кожи вон лезут, дабы соблюсти букву, запятую ими же придуманного параграфа. Втискивают жизненные ситуации в жесткие рамки статей и очень огорчаются, что там, из себя выходят, когда те вылазят за обрамление!
— Законы диктуются жизнью, объективной реальностью. Для приемлемого сосуществования среднестатистического большинства этой реальности они создаются. И соблюдаются. Единицы зачастую страдают. Такова жизнь. Всем угодить нельзя. Пишись законы для каждого конкретно, да еще и индивидуально соблюдайся, наступит хаос.
— А так у нас на Ковчеге полная идиллия!
— Нет, но большинству живется…
— Короче! Я пришел за разрешением на второго ребенка! Дашь?
— Не могу, — покачал головой высокий. — Просто не имею права…
— Значит, не дашь.
— Пойми, это моя работа. Кстати, потяжелее твоей. Я должен, обязан быть жестким, жестоким…
— Прощай!
Широкоплечий развернулся и твердой походкой направился к выходу.
— Передай привет… Ренате, — на имени женщины голос дрогнул. Отступили интонации хищника, — скажи… мне жаль…
— Она будет рада твоему привету. И твоим соболезнованиям.
***
Во имя Учителя, Милостивого, Всезнающего
Хвала Учителю — Господину умов,
Милостивому, всезнающему,
Властителю звезд!
Тебе мы поклоняемся и к Тебе взываем о помощи:
Веди нас прямым путем,
Путем тех, которых Ты облагодетельствовал, не тех, что попали под Твой гнев, и не путем заблудших.
Заветы. Глава 1, стих 1
Это уже стало традицией. Корнями дерна переплелось с распорядком дня, размеренным образом жизни.
Надо же, они в пути чуть меньше месяца, а уже обзавелись собственными традициями.
Раз в неделю, само собой получилось — в субботу, они собирались в главном зале — огромном помещении в центре Ковчега, высотой в несколько ярусов, способном вместить почти всех обитателей звездного дома. С точки зрения инженерной мысли, функциональности, наличие подобного помещения на корабле, где каждый квадратный метр на счету, мягко говоря, вызывало некоторые сомнения. Однако Эммануил настоял на своем. Он знал, чувствовал, должно, обязано быть место, где они бы могли собраться, поговорить, послушать друг друга.
Эммануил поднялся на возвышение — небольшую площадку как раз под уродливым наростом люка утилизатора. Несмотря на его возражения, люку не нашлось иного места. Обвел взглядом присутсвующих, откашлялся, собирая рассеянные мысли.
Смолкли разговоры, едва слышный шепоток затлел в задних рядах, но быстро потух, сметенный водопадом всеобщего негодования.
— Кто я?
Толпа молчала, то ли не желая отвечать на вопрос, а, скорее всего, ожидая ответа вопрошавшего.
— Кто вы?
Я не всевидящее око, не всеведущий разум и даже не свет в конце тоннеля.
Толпа внимала молча, сухой губкой впитывая влагу драгоценных слов. Крамольная мысль временами посещала Эммануила: начни он нести околесицу — отсюда, со святого места под утилизатором — как символично — будут ли они так же внимать, выискивая в навозе словословия редкие частицы непереваренной мудрости?
— Я указатель, знак на обочине. Один, пройдя мимо него, не заметит. Другой — скользнет равнодушным взглядом. Третий — прочтет без особого интереса. Четвертый — вчитается, но отбросит за ненадобностью. И лишь пятый последует в указанном направлении. Вы — оказавшиеся здесь — пятые. Но я лишь знак, стрелка с буквами. Минув ее, дальше вы идете сами. Вы можете пройти пять шагов и сделать привал, а можете идти до вечера не жалея сил и растертых мозолей.
Сами.
Ваш выбор.
В сторону, указанную знаком, но каждый, слышите, каждый, своим путем.
По своему.
Я не бог. Я — знак. Учитель.
Верите в богов, дьявола, научно-технический прогресс или потусторонний мир — верьте. Желаете положить жизнь на благо других, или посвятить себя самопознанию — посвящайте.
Ваш выбор.
Ваш путь.
На одной дороге.
Мы проповедуем не религию, но учение, не мысли, но мышление, не законы, но образ жизни!
Ни к месту вспомнилось — Мухаммед тоже проповедовал образ жизни, а что из этого вышло…
Слушатели внимали молча.
«Понимают ли они, о чем я сейчас говорю?» Всего месяц в пути, а подобные мысли посещают все чаще.
На Земле было проще. Брошенное в, на первый взгляд, сухую землю зерно мысли, неожиданно оборачивалось множественными всходами.
Здесь его мысли, даже его сомнения, не успев сорваться с уст, становились непреложной истинной.
— Ваш выбор.
Ваш путь.
Сами.
***
Нижайше прошу руководство цеха и лично старшину Мендеса взять моего сына Алексея девяти лет от роду на обучение во вверенный вам цех. По причине имеющихся явных способностей. Не далее, как вчера, сынишка разобрал у меня на работе сортировочную машину, да так, что ее потом не смогли собрать два техника.
С превеликим уважением, Марк Шагалов — отец будущей гордости техников.
— Так называемая Ересь Заброшенный Секторов набирает обороты. Наши источники сообщают — к Проповеднику ежедневно приходят десятки людей…
Бенаторе читал по бумажке, немигающий глаз розовой лысины смело глядел на Великого Пастыря.
Артур Гвана скривился — боль в правом колене — продукт полузабытой юношеской травмы — в последнее время все чаще давала о себе знать. Против ноющей занозы слабо помогали даже ежедневные инъекции, проводимые лично Кайлом Мотренко — старшиной цеха медиков.
— Чем они занимаются?
Сойдя с накатанной колеи речи, секретарь смешался.
— Он… он рассказывает.
— И все?
— Ну… да. В принципе, если верить шпионам, Проповедник не учит дурному.
Великий Пастырь изогнул седую бровь.
— И что же, по мнению шпионов — дурно?
— Ну… свержение существующего строя.
Артур кивнул — верно, свержение существующего строя — нехорошо. Даже если учесть, что строй изменяют, а не свергают.
— Скорее, наоборот, Пастырь проповедует терпение, всепрощение, призывает соблюдать заповеди, что не так уж и плохо…
— Не так плохо! — Артур Гвана сверкнул глазами. В лучшие времена этот взгляд заставлял каменеть собеседников, впрочем и сегодняшний день не из худших. — Я не говорю о том, что очеловечивание Учителя — ересь само по себе, ересь с которой боролись наши предки. Этот ваш Пророк заброшенных секторов, он хуже любого отступника, хуже бунтовщика, призывающего громить каюты-молельни. Наша Церковь — вы, я, держимся на божественности Учителя. Мы — проводники его воли к людям. Новоявленный пророк призывает жить по заповедям. Следующий, вполне логический шаг, пусть он этому и не учит, пусть никогда не будет учить — отыщутся последователи, так вот, следующий шаг — зачем мы. Я, вы — Церковь. Если достаточно просто соблюдать заповеди, делать, как завещал Учитель.
Допускаю, Пророк — добропорядочный член общества и хороший человек. Допускаю — его проповеди, его слова не расходятся с Заветами ни одной строчкой. Да будь он хоть сам Учитель, его учение — ересь и самая страшная ересь за последние годы! Страшная именно потому, что не идет в разрез с Заветами. Она подрывает саму суть, устои — Церковь! Нас!
Бенаторе виновато моргал маленькими глазами.
Проповедника необходимо уничтожить — именно его, меня не интересуют мелкие сошки!
Гонимая праведным гневом сбежала ноющая боль.
— Более того, люди, те самые люди, за спасение которых он так ратует должны возжелать, потребовать его смерти. Сами!
Секретарь осторожно кивнул.
— Займитесь этим. Лично! И чтобы я больше не слышал, что все не так плохо в новом учении. Не разочаровывайте меня!
Поблескивая лысиной, секретарь заморгал смело и часто.
***
— А вот мы узнаем, кто ты есть на самом деле!
Поднатужился Александр, поднял клеветника, да и бросил его в Утилизатор.
В тот же миг он и сгорел.
— Видите, люди добрые, — сказал богатырь. — Будь он честным человеком, не страшны ему ни жар топки, ни ледяная купель охладителя, а так — поделом еретику!
Возликовал народ. Славить принялся богатыря могучего. Сильного не только удалью, но и умом.
Из сборника «Устное народное творчество»
Этьен Донадье стоял на пороге комнаты. Не маленького помещения, из-за обилия стеллажей превращенного в крохотную комнатушку.
На свободном от стоек и полок пространстве виновато топтался Кастор Шейко.
— Вот, — пухлые руки зама вытянули из открытого шкафа один из предметов, неотличимый в ряду близнецов — собратьев. Предмет был темный, вытянутый, с рукояткой на одном конце и трубкой на другом.
— Или вот, — с одного из многочисленных ящиков была сдвинута крышка, темно-зеленая болванка с мертвым табло и обилием кнопок под ним хранила загадочное молчание. — Судя по виду — механизмы, устройства… сложные устройства…
— Идеи? — старшина техников рассматривал находки. Было в них что-то… притягательное, и вместе с тем — ему, человеку всю жизнь проведшему среди механизмов, они внушали совершенно иррациональный страх.
Кастор аккуратно возвратил болванку на место. Донадье отметил — руки у заместителя дрожали.
— Если с мини-ковчегом у нас были хоть какие-то зацепки… аналогии, схожие устройства, механизмы… то здесь…
— Изучайте, узнайте назначение этих… устройств… и… поаккуратнее, — Донадье хотел сказать: «осторожнее» и устыдился собственной боязливости.
— Люди… нехватка… я говорил…
— Людей не получите!
— Возможно, стоит доложить Великому Пастырю, важность находки… проходы могут прорубать и представитель иных цехов, хотя бы помогать…
— Великому Пастырю ничего докладывать не будем… пока.
***
И брат шел на брата, отец на сына, мать на дитя.
Учитель предупреждал об этом!
И Заповеди, нерушимые Заповеди сделались пустым звуком…
Летопись Исхода
Глава 2. часть 10
Субботние Благодарения давно ушли в небытие. Скоро месяц. Для некоторых событий месяц — седая давнина. Побитой скотиной жались к стенам серые столы, сиротливо взирая из-под худых столешниц. Мемориалом прошлому в углу высилась груда поломанных скамей. Даже от вечно теплого люка утилизатора, казалось, несло космическим холодом.
На одной из стен, взятые в рамку, за толстым, чудом уцелевшим стеклом, клумбой на пепелище, пестрели строки девяти заповедей.
Было время — месяц назад — их читали, громко, нараспев, и смиренные братья и сестры вторили словам выступающего.
Для некоторых событий месяц — седая давнина.
С противоположных концов Майдана сближались две группы.
От секторов аграриев двигались Махонцы во главе с неизменным лидером — кривоногим Нестором Махо, выделявшимся в среде рослых последователей, как осел в стаде слонов. Плечом к плечу, на некотором расстоянии выступали Апполинарцы, те самые, которые искренне почитали Учителя, как Бога, на время оставившего божественные дела, принявшего облик человека по имени Эммануил и в этом обличии нарисовавшемся на Ковчеге, дабы исключительно им — Апполинарцам — доставить удовольствие.
Какое-то время назад, лидеры обеих течений собрались и не обнаружили в собственных мировоззрениях заметных противоречий.
От жилищ металлургов плотным строем вышагивали Арианцы — приверженцы человеческой сущности Учителя — правда, без Ария Стахова, но возглавляемые не менее идейным Данканом Левицким.
Группы сошлись как раз под плакатом с заповедями. Не дойдя нескольких шагов, они остановились и принялись сверлить оппонентов взглядами, как борцы сумо перед поединком.
— Пройти дай! — сквозь стену стиснутых зубов протолкнул Левицкий, и заскрежетал этими самыми зубами, будто отведал недозрелого лимона.
— Проходи, — голодным зверем оскалился Махо.
Вопреки словам, никто и не думал отступать.
От Апполинарцев отделился пухлый Бенаторе.
— Примите истинное Учение! Отриньте заблуждения! Познайте божественную сущность Учителя!..
— Заткнись!
И было непонятно, то ли слово прилетело из противоположных рядов, то ли родилось в толпе единодумцев.
Взгляды, соприкасаясь, высекали искры. Рассыпаясь, падая, эти искры продолжали гореть.
— На последнем Сборе принято решение — тем, кто не принял Истинное Учение продуктов не отпускать! — аграрий Петр Щур был весьма доволен собой.
— Ха! Много вы наработаете без орудий труда!
— Побольше вашего! На пустой желудок, поди, не шибко трудится!
— Лучше сдохнуть, чем жрать вонючие харчи. От них смердит.
— Вашими идеями!
Искры уже не тлели, они горели.
— Это от ваших идей смердит!
— У нас идеи верные, как завещал Учитель!
— У нас вернее!
Узколобый махонец, скаля рот в щербатой ухмылке, сделал шаг и без замаха ткнул одного из оппонентов кулаком, прямо в открытый для ответной реплики рот.
Искры разгорелись в пламя, чтобы тут же быть затоптанными безудержным буйством драки.
Хрипы, замешанные на крови, протискивались сквозь щербины выбитых зубов. Алая, как губы младенца слюна стекала по свернутым подбородкам. Глаза метали молнии, пока чья-то сжатая пятерня не вталкивала эти молнии обратно в череп.
— За Учителя! — истово работая кулаками, орала одна сторона, и хруст ломаемых носов служил доказательством праведности дела.
— За Учителя! — срывала глотки другая, и глухие удары аргументировали верность взглядов.
— За правое дело! — орали обе, и этот, как и другие кличи сливались, окончательно путая немногочисленных соглядатаев.
Сжимая голову окровавленными руками, по стене сполз Петро Щур. Баюкая вывихнутую руку, из задних рядов громко матерился Нестор Махо. Безостановочно работая пудовыми кулаками, прорежал толпу Данкан Левицкий. Тихо подвывая, катался по полу отец семейства и радетель малины Бенаторе.
— Стойте! Стойте! Да остановитесь же вы!
Над Майданом кружилось множество криков. Непостижимым образом, этот заглушил все. Еще более непостижимо — кричавшего послушались.
Кровавая слюна с хрипами брызжела из покореженных ртов, однако кулаки разжались, руки опустились.
— Чанг…
Фридрих Знанский склонился над телом брата.
— Ты меня слышишь?
Брат не отвечал.
— Чанг, ты что?..
Фридрих опустился на колени, осторожно оторвал голову от лужи густеющей крови.
— Брат, братишка…
Глаза того были открыты. Подтверждая страшную правду, они не моргали.
— Ча-а-анг!!!
Один человек взревел тысячей глоток.
Прямо над скорбящим, оправленные в редкостную деревянную раму, пестрели заповеди Учителя. Того самого, за которого так истово сражались минуту назад.
И первая была: «Не…»
***
Прошение на ребенка Ли Виталия — техник, член Совета — удовлетворить.
Рекомендуемое сокращение численности особей — 5.
Великая Мать! Великая Мать! Ты воистину… велика.
На последнем собрании, Рхат-могучий, смелый Рхат тернулся своим носом о щеку.
Ее щеку!
Ноздри опалил запах девушки. А мех! Какой у нее мягкий, податливый, шелковистый мех!
И Боэта не отпрянула.
Не одернула наглеца.
Великая Мать, кто бы мог подумать, тогда, там, в племени, что он будет тереться о неприступную Боэту.
Если Ковчег не рай, то где-то близко.
Очень близко.
Великая Мать!
— Я узнавала у доктора — срок приемлемый. Все нормально. Я сделаю это.
— Нет, не позволю!
Хозяева.
Опять Хозяева.
Странные создания.
Опять ругаются.
Хозяйка беременна, а вместо того, чтобы радоваться — плачет.
И Хозяин день ото дня мрачнее.
Рхат не выдержал, раскрыл, что знает их тайну, поздравил… так Хозяин строго-настрого велел никому не говорить. И вид у него был, как, как… страшный, словом.
Хотя, не говорить — это понятно. Ребенок еще не родился — сглазить могут. Да и когда родится девять дней и девять ночей, пока душа не укрепилась в теле, не положено показывать младенца никому, кроме матери и шамана.
— У нас нет выбора, сейчас нет. Может… потом…
— Потом! Я не хочу потом, не желаю! Техники! Чем они лучше священников! Те прикрывались словами Заветов, эти — благом Ковчега. А суть, смысл, жизнь — страхи, Утилизатор, боязнь инакомыслия — не изменились. Так в чем, я вас спрашиваю, разница?
— Успокойся и говори тише.
— Вот именно — тише. Мы всего боимся, даже слов. Особенно слов.
— Нам и так повезло с… Лизой. Могли не разрешить. Все-таки я — дочь священника, бывшего члена Трибунала…
— Вспомни — тогда не было запретов. И раньше никогда не было!
Нет, все-таки Хозяева очень странные. Хотя, какие ни есть — они его, и других Рхат Луну не надо!
— Аборт не такая уж страшная операция. Особенно на ранних сроках.
— А я слышал, одна из десяти не выживает, и глубоко сомневаюсь, что это — случайность. А даже если все пройдет удачно. Возможно, ты больше никогда не сможешь иметь детей.
— У нас есть Лиза.
— Есть. И будет еще. Обещаю. Я знаю, что делать.
Непонятное слово.
Чудные обычаи.
Рхат Луну даже стало жаль Хозяев.
Почему?
Он сам не понимал.
***
Не суйся воскресенье поперед Вознесения.
Из сборника «Устное народное творчество»
Столы ломились от яств.
Стены от портретов Учителя.
Воздух густел многотысячным гомоном, оседая в: многочисленных кувшинах тягучим киселем, запотевших стаканах цветным желе, глубоких тарелках жирным студнем.
Яркие отсветы цветных лент усеивали стены, пол и даже потолок Майдана. Притягивали взгляд крутобокие горы ягод и фруктов в низких вазах, румяные щеки расписных пряников с начинкой, ступенчатые, любовно вылепленные торты — предмет явной гордости кондитеров.
Праздник.
Шумными стайками гоняла ребятня, каждый обладатель не менее дюжины леденцов, чудом удерживаемых маленькими ручками.
Малочисленными группами двигались дети постарше, придирчиво вглядываясь в аналогичные коллективы противоположного пола.
Скромно держась за руку, шествовали молодые парочки. Некоторые — с детьми.
Отдельно гуляли пары со стажем. Мужчины — у стоек с горячительным. Женщины — у прилавков с едой.
Подслеповато щурились, сентиментально закатывая глаза и шевеля бесцветными губами, старики.
— Разве это праздник!
— Вот в наше время были праздники!
— Одних фруктов уходило полторы тонны!
— А птицы!
— А выпивки!
— А девушки тогда были… закачаешься!
— Главное — молодые.
Важно несли тучные тела, облаченные в праздничные, обильные украшениями одеяния высокопоставленные священники.
Не менее важно вышагивали солдаты Армии Веры, единственным, но весомым украшением которых служили пластиковые дубинки.
Праздник.
У помоста борцов было особенно людно. Только что закончились соревнования между цехами. Лично Великий Пастырь награждал победителей, вешая на потные шеи сияющие, отлитые специально к празднику медали.
В числе победителей находился и Юрий Гопко.
Марта, стоя внизу, в толпе, не сводила глаз с юноши.
Даже сейчас, усталый, с всклокоченными волосами, он был прекрасен! Особенно сейчас.
От ревнивых глаз девушки не укрылось, какие взгляды Юра кидал на девку из священников, как же ее… Рената.
Ложу священнослужителей оборудовали на возвышении. Единственным возвышением на Майдане была площадка под люком Утилизатора.
«Вот бы ее туда!.. вместе с остальными святошами!»
***
Виновный найден. Им оказался Залман Никитов. Вместо положенных двенадцати часов, Никитов держал картофель под облучающими лампами только восемь. После чего засыпал картофель в клубнехранилище. В результате сгнило порядка двух тонн клубней, не считая частично подпорченных, отданных в качестве корма животноводам.
Из докладной записки.
— А на собраниях своих под маской благочестия предаются разврату!
— О-о-о!
Серая толпа обступила серого, почти неотличимого от остальных, остроносого субъекта. Субъект вещал, бурно жестикулируя.
— Остерегайтесь, остерегайтесь!
— Ужас!
Горящие, навыкате глаза субъекта бешено вращались в круглых глазницах.
— Привечают сладкими речами, особенно детские, неокрепшие умы!
— Детей-то за что?
Сердобольная старушка из первых рядов, остроносая, как рассказчик, показно схватилась за сердце.
— А я слышал, ничего этого нет, просто рассказывает, — бородатый мужчина поскреб затянутый курчавой растительностью подбородок.
— И я, — поддержала его женщина средних лет. Рядом с женщиной, явно скучая, топталась девушка — молодая копия матери.
— Девиц, девиц затягивают в нечестивое кубло, заставляют жить со стариками, как муж с женой, побуждают к противоестественному совокуплению!
— Ах! — мать в ужасе прикрыла рот руками.
Дочь же, наоборот, заинтересовалась.
Заметив молодую пару, причем под серым балахоном женщины четко обозначивался животик, оратор набросился на них.
— Мужчин склоняют к прелюбодеянию. Они бросают семьи!
— Ой! — беременная схватилась за живот.
Перед следующей фразой, оратор минуты две держал драматическую паузу.
— А под покровом ночи похищают младенцев. Кровь невинного дитяти! На разнузданных оргиях их приносят в жертву!
***
Невыполнение дневной нормы — 8.
Намеренная, либо случайная порча оборудования — 3.
Итого утилизировано — 11.
Рекомендуемая квота на детей — 2.
Великая Мать. Мех! Какой у нее чудный, мягкий, пахучий мех! Так бы зарылся…
Рхат Лун, чувствуя себя опытным обольстителем, терся о щеку Боэты.
— Они убийцы! Они хуже Трибунала! За что мы боролись? Чтобы в Утилизаторе не сжигали живых людей. Никогда! А имеем?
Собрание.
Он любил, обожал собрания.
Какие здесь милые, добрые люди.
Единственный недостаток — говорят. Много и громко.
Вот если бы молчали. Да еще свет выключили…
— Утилизатор снова работает в полную силу. И кого сжигаем? Детей! Их родителей!
— Дырку протрешь, — произнесла Боэта, однако не отвернулась, больше того — подставила другую щеку.
Великая Мать!
Каждое собрание Рхат Лун мнил счастливейшим днем своей жизни.
— Почему так происходит? Почему, я вас спрашиваю?
Хозяин Брайен хороший. Очень хороший — берет Рхата на собрания. Но очень, очень крикливый.
— Техники говорят, Ковчег… система жизнеобеспечения не выдерживает… ограничение рождаемости жесткая, но вынужденная мера…
— А раньше, помниться, выдерживала.
— Но рабы, количество живых особей увеличилось…
— Что нам известно о системе жизнеобеспечения? О численности людей, способной проживать на Ковчеге? Все наши знания, все, собранные от каждого в единое целое — крупица, жалкие крохи, бросаемые с барского стола Великими Техниками!
От меха в носу зачесалось, Рхат поспешно отодвинулся от девушки, сдавливая чих.
К счастью, занятая речью Хозяина Брайена, Боэта не заметила конфуза Рхата.
— Наши, так называемые, знания исходят от техников. То есть, от людей, которые, прикрываясь этими самыми знаниями, жгут наших детей! Они врут! Обманывают нас! Говорят, что им выгодно! А мы верим! Слепой верой животных на мясной ферме в доброго хозяина! Еще бы, ведь он приходит каждый день. Кормит. Гладит. Дает ласковые имена.
Рхат снова придвинулся к девушке. Вспотевшие ладони нещадно зазудели, так что пришлось тереть их о собственное пузо. Он давно собирался сказать… он решался… решился…
— Верно, верно говорит!
— Верно-то оно верно. А как проверишь? В устройстве-то Ковчега ни один из нас…
— Боэта, я…
— Техники не всегда были у власти.
— Гайдуковский, ты что-то хочешь предложить?
— Сидя по каютам, уповая на приход Учителя и бормоча молитвы ничего не добьешься!
— Боэта, я…
— А что мы еще можем?
— Я уже говорил — техники не всегда были у власти.
— Но…
— Нас больше, нас много. Мы такие же, равноправные граждане Ковчега, как и они. Наши предки вместе отправились к звездам, вместе создавали этот мир. Ковчег для людей, а не люди для Ковчега! Техники формировались для обслуживания корабля, вот пусть и обслуживают.
— Боэта, я… люблю тебя…
Великая Мать, отчего такая тишина? Неужели все слышали? И сердце, вот-вот выпрыгнет из груди.
— Ты мне тоже нравишься Рхат.
***
(… Повивальные бабки) родиться ему помогли,
И богини Судьбы, и богини-защитницы взяли,
Малыша, на колени Кумарби его положили.
Тут начни Кумарби ему радоваться,
Тут начни Кумарби его покачивать,
Ему имя придумать поласковее.
Песнь об Улликумми
Первая таблица.
(Пер. с хеттского В. Иванова)
Волнение расползалось отсеками вязкой патокой. Волновались, стоящие на вахте техники и сгорбленные у грядок аграрии, волновались текстильщики и литейщики, швеи и прачки, пекари и ассенизаторы. Дрожжевым тестом волнение поднималось выше, выше, заполняя студнем беспокойства недосягаемые ярусы, вездесущей пылью, набиваясь в щели, проникая даже в законопаченные отсеки, чтобы там, на воле разрастить, заполнить густеющей субстанцией еще свободное от волнения пространство.
Эммануилу, как большинству на корабле, казалось, он волнуется больше всех.
Волнение и ожидание. О-о-о, вечные сестры, безжалостные мучительницы, чьи пытки, начинаясь с минут, могут растягиваться в года и даже десятилетия.
Что может быть хуже ожидания, щедро сдобренного волнением. Только волнение, растянутое бесконечным ожиданием.
Крик, женский крик прокатился отсеками Ковчега.
Эммануил, сидевший под дверью, услышал его раньше других.
Женский вопль многовольтным разрядом сотряс и без того трясущееся тело.
Рядом, в метре от Эммануила — протяни руку — дотронешься, с противоположной стороны двери, сидел Ганнибал Пушкин. Широкая спина сгорблена. Темные мускулистые руки, перевитые жилами вен, обхватили голову, то ли в покаянной молитве, то ли в тщетной попытке не пустить внутрь всепроникающий вездесущий крик.
Женщина закричала снова, и Эммануил, и Ганнибал одновременно вздрогнули.
За последний час, или два, крики раздавались все чаще.
Ганнибал повернул к нему лицо. Точки зрачков разрослись до размеров радужки, превратив глаза в бездонные, как бездна за окном, провалы.
Молодой человек отчаянно искал… утешения, ободрения, защиты?.. Эммануил протянул руку и похлопал его по плечу. Все, что мог, все, на что был способен.
Женский крик раздался снова и снова оба мужчины вздрогнули.
Эммануил подумал: если он, по сути — чужой человек — так волнуется, каково же ему — Ганнибалу — мужу кричащей женщины, отцу пока не рожденного ребенка.
Смутно вспоминались слова врача, о недостаточно изученном влиянии космического излучения на плод, об отсутствии опыта межзвездных родов… все меркло перед лицом настоящего, звуками голоса рожающей, испытывающей боль женщины.
Эммануил волновался и переживал, словно там, за дверью… выходил в свет его ребенок.
Может, оно так и было.
Если… что-то пойдет не так, если женщины не смогут рожать на корабле, или зачатые на нем дети… даже мысленно не хотелось представлять подобное. Его, их затея, их авантюрное путешествие, пусть и подкрепленное небезынтересными идеями… ради чего, зачем, если через пятьдесят лет идеальное общество превратится в кучку трясущихся стариков.
Вот почему этот ребенок так важен. Первенец. Первый полноценный гражданин нового мира.
Эммануил уже и имена придумал. Если мальчик — Адам, девочка, соответственно — Ева. Да, символично, возможно немного банально, но что такое этот ребенок, как не символ!
К крикам роженицы прислушивались все обитатели корабля.
Особенно внимательно — беременные женщины, а после девяти месяцев путешествия счет таким шел уже на сотни. Через месяц, два, пять им самим испытывать схватки родов. Что там зреет в растущем чреве? У многих уже толкается. Можно ли будет назвать это человеком в… человеческом понимании слова.
Неожиданно крики прекратились. Нет, они не замеряли время, но организм, недремлющий мозг сам определял промежутки между схватками, и Эммануил с Ганнибалом, одновременно и безошибочно сжимались за мгновение до следующего вопля.
Отец отнял ладони от ушей.
— Что… что это?..
Эммануил потянулся, чтобы снова похлопать его — все что мог… рука замерла в нескольких миллиметрах от тела мужчины.
Женщина закричала, и как — громче переднего. Затем крик оборвался. Ганнибал вскочил со своего места… звенящая тишина давила многосильной массой. Сколько так продолжалось… минуту, две, секунду… тишину нарушил, размел, как ветер пух, разорвал, заставил съежиться, как огонь паутину… детский крик.
Ганнибал упал на колени, из угольных глаз потекли крупные, словно градины, слезы.
Эммануил чувствовал — он сам вот-вот заплачет. Хотелось молиться, вознести благодарственные речи всем, каких знал, богам…
Дверь отъехала в сторону, на пороге возник акушер.
Оба мужчины — молодой и не очень повернули к медику полные слез, надежд и вопросов глаза…
— Мальчик, — устало произнес доктор. Взглянув на Ганнибала, добавил, — мать и ребенок здоровы.
Воздух, словно это была нестерпимая ноша, с шумом вырвался из широкой груди отца.
Эммануил, размазывая слезы, просто улыбался.
— Мальчик, — шептали искусанные губы. — Адам — первый, новый человек.
***
«Александр! Я есмь «А» и «Я», начало и конец, первый и последний, тот кто был и тот, кто будет!»
Упал на колени Пастырь.
«Учитель, недостойный сын твой служит тебе!»
«Смирением, благочестием заслужил ты расположение мое. Слушай же и в точности выполняй волю мою!»
Летопись Исхода
«Деяния Пастырей»
Глава 1 «Великий Сонаролла»
Седой вечер. Тягучая нега растягивает уставшее тело по отсекам и каютам, коридорам и переходам, опустевшим темным цехам и садам. Простирает маслянистые крылья над местом встреч и прощаний, споров и стычек, местом страсти и безразличия, с недавнего времени — местом смерти — Майданом.
Они давно в космосе. Достаточно, чтобы братья, ступившие на ковчег детьми, перестали считать Землю домом.
Но вечер, седой вечер, наступает и здесь, в царстве негаснущих ламп.
В каюте — типовой комнате с типовой мебелью, которой даже не пытались придать отблеск индивидуальности, сидели двое.
Мужчины. Седые. Яблоки глаз вращались каменными глыбами.
— Ты знаешь, что творится — лазареты переполнены, мало того — каждый день доставляют новых, потому что стычки… — Говорил высокий, и большие уши, словно нарочно приклеенные к худому черепу, алели революционными знаменами. — Уровень жизни стремительно падает. Работать мало кто желает. Митинг — вот их работа. Чесать с утра до вечера языки, в перерывах колошматя оппонентов — трудовые будни.
Собеседник, или слушатель восседал напротив. Камень недвижимых рук сросся с серой поверхностью стола. Серые кустистые брови были сдвинуты. То ли силою привычки, то ли словами собеседника.
— Некоторые, как например, Махо, или Несторий захватили целые сектора. Именно захватили. Выселили инакомыслящих, установили что-то вроде контрольных пунктов, никого не пускают… Как ты думаешь, чем они там занимаются?
Единственным ярким пятном в комнате, была синяя куртка, небрежно брошенная на кровать, позади бровастого.
— Пол года назад бастовали химики, потом эти — металлурги, — слово было выдавлено не без труда, — я не говорю за себя — без новой одежды так сяк можно перекантоваться, но что случиться, если забастуют аграрии…
Кусты бровей неожиданно разошлись.
— Подумай об этом, — кивнул ушастый. — Теперь еще недавний смертельный случай. Пока только один, пока…
Лампы отбрасывали маслянистые тени и брови начали медленно сходиться.
— Скажи, брат, — ушастый старательно отводил взгляд, — мы знаем, или можем узнать, где собираются, э-э-э, зачинщики волнений, существует ли способ как-то… отделить данные сектора, или скорее комнаты, ведь все управляется электроникой, а всем известно, кто повелевает электроникой. Если мы возьмем лидеров, так, чтобы не пострадали остальные… наши сторонники в химическом цехе уже работают над неким соединением… подачей воздуха, ведь тоже управляют техники…
Брови разошлись, даже поднялись, слушатель впервые взглянул на говорящего. Прямо, в упор, зрачки глаз завертелись острыми буравчиками.
— Не ради меня, даже не ради взглядов — моих и сторонников. Ради общего блага! Идеи Учителя, сам Ковчег не должен погибнуть, погрязнув в междоусобных сварах! Ради человеколюбия, наконец!
Брови опустились, вновь заняв привычное место у переносицы.
***
Всяк про себя, а Учитель про всех.
Из сборника «Устное народное творчество»
— Осторожнее голову, здесь балка.
— Думаешь, я не вижу?
— Не знаю… темно.
По мере удаления, гул праздника затухал догорающей свечой, сменяясь звенящей тишиной.
Тишиной заброшенных секторов.
В сочетании с синюшными потемками — холодящее сердце зрелище.
— Смотри под ноги.
— Сам смотри!
Молодые люди пробирались лестницами, переходами и площадками заброшенных секторов.
Парень и девушка.
— Кажется, сюда, — невысокий, крепкий парень почесал ежик остриженных волос.
— Не полезем, не узнаем, — девичье тело перегнулось и первым юркнуло в округлый лаз, темнеющий в метре от пола.
Вздохнув, парень последовал за спутницей.
Они не ошиблись, это было именно то отверстие.
С небольшой площадки, сквозь широкое окно, открывался величественный вид на… звезды.
— Как красиво!
Словно в первый раз, Рената отступила, нащупав спиной спасительную твердь стены.
— Очень, — Брайен Гайдуковский снова взлохматил ежик волос. Звезды удостоились лишь мимолетного взгляда юноши.
— Брайен…
— Да, Рената.
— Тебе никогда не говорили — у тебя очень красивые глаза.
— Говорили, это от деда…
— И ты ими бессовестно пялишься!
— На кого?
Девушка оторвалась от звезд, посмотрела на юношу. Взгляды встретились…
Волны — жара и холода окатили юношу. Одновременно. Он словно был здесь, и вместе с тем, воспарив, душа сторонним зрителем наблюдала картину.
Вот он стоит.
А вот делает шаг.
Малюсенький шаг.
Вперед.
Как зеркальное отражение, девушка повторяет его движения.
Еще шаг.
Еще.
Душа вернулась в тело, как раз перед тем, как губы молодых людей слились в самом первом, самом жарком, самом запоминающимся и самом долгожданном поцелуе.
— Я люблю тебя, — когда губы вновь обрели возможность говорить, произнесла девушка.
— Я люблю тебя, — эхом заброшенных секторов повторил парень.
Звезды за стеклом — невольные свидетели, равнодушно взирали на зародившееся перед их глазами чувство.
***
Я — инвалид второй группы, потерял здоровье и палец на фабрике, в связи с этим не могу резво бегать, как молодые. Отсюда, на казни вынужден находиться в задних рядах, откуда ничего не видно и не слышно. Прошу Совет Церкви с оглядкой на подорванное здоровье и заслуги перед Ковчегом, выделить мне персональное место у огорожи, дабы, как всякий истинный сын Матери Церкви, я мог во всех подробностях лицезреть мучения проклятых еретиков.
С уважением Аристарх Громов — труженик и инвалид.
Толпа напирала. Особенно старались позадистоящие, мужественно отвоевывая пяди Майдана. Как раз этих, нескольких сантиметров им катастрофически не хватало до лучшего обзора.
Давление увеличивалось в геометрической прогрессии. Первый ряд, вжатый в решетку ограждения, с трудом проталкивал воздух в стиснутые легкие.
Но они не жаловались. Более того, они специально пришли. Сюда, за несколько часов до экзекуции, ради общепринятого удовольствия с трудом дышать, распластанным на прутьях.
За решеткой мужественно переминалась с ноги на ногу Армия Веры. Юношей отбирали с шестнадцатилетнего возраста, отдавая предпочтение физически крепким, высоким парням. Служба была почетна, единственным на Ковчеге, им разрешалось носить оружие — упругие дубинки с рукояткой на боку. Не удивительно, что носы молодых людей задирались много выше их немаленького роста.
Потные руки мяли мокрые рукоятки. Сегодня молодым людям — единственный раз в неделю — было страшно. Воскресенье — время аутодафе.
А ну как ограждение не выдержит?
За решеткой не люди — толпа.
Организм, да, состоящий из клеточек-человеков, но в единении, как вещество из молекул, обретший новые свойства.
Тысяча глоток взвыла — одновременно, связанная невидимыми нитями, — на возвышение начали выходить члены Трибунала. Важные, в цветастых праздничных сутанах. Холодные глаза впились в толпу, и Зверь распался на составляющие. Глаза хирурга, отсекающего опухоль, глаза мясника, привычно выбирающего с какой стороны срезать лучший кусок.
Священники выстраивались довольно медленно, словно в первый раз, занимая положенные, отмерянные рангом места.
Толпа молчала, смиренно ожидая окончания «парада».
Наконец — о чудо! Трибунал занял вожделенные позиции, на площадке, сопровождаемое офицерами Армии Веры, появилось новое действующее лицо.
Расписной колпак, видимый даже с дальних рядов, не оставлял сомнений.
Толпа взвыла, и глас тысяч глоток слился в единый голодный вой. Толпа снова была одним организмом.
Горластый Ритор, кряхтя и отдуваясь, поднялся на шаткий помост перед люком Утилизатора.
Под позволительно нетерпеливый гул толпы пухлые пальцы непозволительно долго возились с краями свитка.
— Каторжина Курникова! — высокий писклявый голос взлетел под потолок. — Пользуясь колдовскими чарами и собственным телом, завлекала молодых людей в секту, так называемого, Проповедника, где заставляла сквернословить в адрес Церкви и плевать на портрет Учителя!
— О-о-о, — кто б мог подумать, что скверна пустила столь глубокие корни.
— Высоким Трибуналом признана виновной в ереси и ведьмовстве!
— А-а-а, — рев одобрения. Зверь был единодушен.
Офицер сбил колпак, и впередистоящие узрели ведьму во всей красе. Бледное лицо, разбитые, или искусанные до кровавой корки губы, испуганные глаза молоденькой девочки.
— Нет, нет, не виновата…
— А-а-а! — рев толпы заглушал прочие звуки.
Она не желала оправданий, она желала зрелищ.
— О-о-о! — на площадку вывели новое действующее лицо, тоже в колпаке.
— Войцек Дундич! — пискнул Ритор. — Околдованный чарами Каторжины, вступил в секту!
— А-а-а! — в гласе Зверя преобладали женские нотки. Еще бы — ведьма совратила невинного мальчика! У многих женщин были сыновья.
Колпак полетел на пол, обнажив холеное, даже в маске испуга сохранившее надменность лицо молодого человека.
— Высоким Трибуналом признан виновным в ереси!
— А-а-а!
— Однако… — Ритор позволил себе бесцеремонно прервать толпу, и она это ему простила. Любимчиков прощают. С бывшими любимчиками расправляются. Жестоко. Толпа не прощает собственных слабостей. — Однако… — всего этого Ритор не знал, или не хотел знать, — Войцек Дундич искренне раскаялся и покаялся в грехах! Кроме того, назвал имена соучастников!
— О-о-о, — предателей не любили во все времена, возможно из-за опаски в аналогичной ситуации предать самому.
— Высоким Трибуналом Каторжина Курникова приговаривается к… Утилизатору!
— А-а-а! — как никогда толпа была единым целым. Не только внешне — блеском глаз, созвучными криками, даже мысли клеточек зверя походили одна на другую.
— Высоким Трибуналом Войцек Дундич приговаривается к… исправительным работам на благо Церкви Матери.
— А-а-а! — и здесь мысли не поражали разнообразием.
Девушка, конечно же, догадывалась, более того — знала об уготованной ей участи. Но пока жив — человек надеется.
Худые ноги подкосились, недремлющий конвой привычно подхватил еретичку под мышки.
Привычно потянул к помосту с пока одиноким Ритором.
Юноша, хотя конвой был готов и здесь не ударить в пыль лицом, против обыкновения, остался стоять.
Старый прием — кнут и пряник. Церковь жестоко карает еретиков, но милостиво прощает раскаявшихся, то бишь — предателей. Спешите предавать, закладывать соратников по вере. И, если вы не будете последним, есть шанс избежать помоста с его люком, а возможно и — расписного колпака. Церковь заботится о верных осведомителях.
Ноги девушки громко ударялись о ступени помоста.
— О-о-о, — толпа выказывала разочарование.
Вдруг казнимая потеряет сознание?
Такое случалось.
Какой толк кидать в топку бесчувственную куклу.
Далекий Учитель услышал молитвы тысяч верноподданных.
У люка девушка неожиданно выпрямилась, отбросила руки армейцев.
— А-а-а, — вот это уже кое что.
Ритор нажал заветную кнопку, люк начал медленно открываться.
Всякий раз, когда это происходило, воображение услужливо рисовало языки пламени и волны жара, исходящие из развернутого зева.
Отверстие оставалось холодным, огонь тысяч глаз пылал ярче любого пламени.
Девушка шагнула к Утилизатору.
Зверь замер, словно перед прыжком. Намечена жертва, и почти ничего в мире не способно остановить полет смерти.
Заботливые охранники приготовились. Поддержать… подтолкнуть.
Кто из них был убийцей? Ритор, нажимающий кнопку? Так нет в этом ничего смертельного. В утилизаторе сжигались не только еретики, но и отходы, мусор, трупы умерших. Конвоиры, «помогающие» жертве оступиться. Так и здесь нет криминала. Мало ли кто может споткнуться. Кто ж виноват, что произошло это, рядом с открытым люком Утилизатора.
Немного неловко Церковь уходила от обязанностей палача.
Раскаявшаяся жертва якобы сама шла в топку.
Девушка поставила ногу на край отверстия.
Толпа напряглась.
Конвоиры тоже.
Подняла вторую, и… шагнула.
— Слава! — Ритор приложил руку к сердцу в ритуальном жесте.
— О-о-о, — зверь был разочарован.
Намного интереснее, когда казнимый кричит, сопротивляется…
Впрочем, не все потеряно.
Пара охранников выводила новую жертву.
Учителю?
Церкви?
Толпе?
Судя по выпуклостям балахона — женщина, не молодая.
— Уна Персон, — Ритор привычно закрыл люк и открыл рот, перейдя к другому, привычному делу. — Повитуха! Лгала роженицам, поставляя младенцев для кровавых месс!
— А-а-а, — зверь был еще голоден, он готовился к очередному прыжку.
— Ну, чего там, чего там?
Лопоухий Нолан стоял на кряхтящем Тимуре, старательно отдавливая ему плечи.
Внизу пританцовывали от нетерпения Гайдуковский со товарищи.
— Видишь?
— Не-а, — Нолан высунул от усердия язык. Помогло слабо.
Толпа за ограждением вздыхала, охала и ревела. По привычным звукам мальчики давно научились определять, что происходит.
Гневное улюлюканье — вывели казнимого.
Разноголосый гул — читают приговор.
Гробовая тишина — ведут к люку.
Довольный рык — жертва принята.
Высокий голос Ритора с трудом долетал задних рядов.
— Дай я! — Андрей Гопко потянул Нолана за босую пятку.
— Пусти! — тот начал сопротивляться, пытаясь одновременно устоять на худых плечах Тимура, вырвать ногу и лягнуть свободной нарушителя.
— Нет я! — Гайдуковскому тоже хотелось увидеть еретика.
— И я!
— И я!
Назревала небольшая, или большая потасовка.
— А ну хва…
Тимур не успел договорить — Андрей наконец-то поймал неуловимую конечность Нолана, недолго думая, потянул ее на себя, и… свалился. Сверху его придавили обидчик Нолан и не удержавший равновесия Тимур.
— Я папке расскажу, он вас… — храбро пищал Гопко из-под кучи-малы.
— Ты и ты, — поднявшийся Тимур указал на Сашу и Кэнона, — ставайте к забору. Я полезу.
— Почему ты, я тоже хочу наверх! — надул губы Кэнон. — Я хочу казнь!
— Посмотрю я, потом — вы.
Кэнон подумал, для лучшего обдумывания почесал затылок, затем под носом, потом живот, и согласился.
Секунда, приятели стояли у забора, Тимур, больно ступая костлявыми пятками, карабкался по ним.
— Чего там? — Андрей забыл об угрозе отцом, вместе с остальными, заняв позицию внизу.
— Еретика видишь?
— Вижу! — важно кивнул Тимур.
— О-о-о!!
— А-а-а, какой он? — пискнул самый младший — четырехлетний Чип, и тут же спрятался за широкие спины товарищей.
— Рога, рога видишь?
— Вижу!
— А-а-а, хвост?
— И хвост.
— А-а-а, — испуганный Чип припустил по коридору.
Остальные остались стоять, пораженные мужеством находящегося вверху товарища.
***
Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день.
Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, — чужой, а не язык твой.
Тяжел камень, весок и песок; но гнев глупца тяжелее их обоих.
Жесток гнев, неукротима ярость; но кто устоит против ревности?
Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь.
«Притчи Соломона» гл.27
Мерное мерцание экранов. Успокаивающая зелень шкал. Тихое, по-деловому лаконичное перешептывание. Сосредоточенные лица. Едва слышный шелест синих одежд, гармонично вплетающийся в пчелиный гул механизмов.
На еженедельных беседах синева одежд слабо разбавляла общее одноцветье. Техникам некогда отвлекаться, у них своя работа, своя — особая миссия.
Да, важны аграрии, важны ткачи, важны текстильщики и куда уж важны — повара. Но техники — люди, поддерживающие жизнь, самое существование их мира. Отбирал их Эммануил с особой тщательностью, подолгу размышляя над каждой кандидатурой. Когда в твоих руках власть, любая власть, трудно оставаться тем же человеком. Власть — соблазн вседозволенности, безнаказанности, соблазн лишний раз дернуть, или напротив, отпустить нить судьбы. Особенно, если это судьба не твоя. Особенно, если тебе за это ничего не будет.
У техников — власть огромная.
Вот они — продукт его терзаний выбором — сосредоточенные, но без отрешения, сознающие собственную важность, но без надменности.
На шум открываемой двери, в сторону Эммануила, повернулось несколько лиц. Небрежный кивок, и они снова в работе.
Эммануил любил приходить сюда. Хотя бы потому, что на серьезных лицах не читалось почти привычного и такого нелюбимого благоговения, приторного до горечи обожания.
Не раз и не два, среди смутного шепотка за спиной отчетливо выделялось: «Учитель». Они называли его так, он сам называл себя так. Однако, каким тоном, с какими интонациями это говорилось… О-о, интонации, оскорбление — они превращают в шутку, а невинный упрек в смертельную рану.
Учитель все чаще говорилось таким тоном, как говорят: Бог.
Что ж, раньше, чем хотелось, но, видимо, пришло время уйти. Лучше раньше, чем позже.
Заразу обожествления следует пресечь. На корню. Тем более, этот корень — он сам.
***
Повышение нормы потребления кислорода связано с последней партией рабов, обусловлено особенностями их метаболизма.
Рекомендации: утилизировать всю партию (48 особей).
В тени деревьев
Сенью ободрен,
Могучий Горий
Расправляет члены…
— Погоди ты со своими стишками!
— А? — у него почти получилось, он почти вспомнил. Каприз старого, бывшего Декламатора. Сотни, тысячи стихов стерты из памяти без малейшего сожаления, а эти несколько строчек сказания о Горие не дают покоя, возвращаясь по нескольку раз в день, заставляя вскакивать ночами…
— Слыхал, что рыжий Туни говорит, — обломанный ноготь Айнута указал на двухъярусные нары, верхнюю половину которых оккупировал огненный Туни.
Инопланетянин всегда напоминал Ойтосу мукак — подвижных, крикливых попрошаек в изобилии водившихся в садах Хайлафа Багтуда.
Такой же непоседливый, громкий и… вороватый.
Свесившись с койки, удерживая равновесие коротким, толстым хвостом, бешено вращая круглыми глазами, Туни что-то горячо втолковывал прибывающим рабам.
— Хозяева не все одинаковые. Есть, которые хотят… помочь, — изо рта Айнута воняло, да и сам старик в последнее время все больше раздражал Ойтоса. Чернь она и есть чернь.
— Интересно как? Станут вместо нас к конвейерам? Или пойдут в Утиль?
Впрочем, разговоры о, так называемых, «добрых Хозяевах» уже с месяц ходили бараками.
Вроде бы где-то проводятся какие-то собрания, на которых Хозяева общаются с рабами, как с равными. Более того, обещают изменить существующее положение…
Ойтос не очень верил в подобные россказни. Жизненный опыт соглашался с хозяином. Кому как не ему, некогда владевшему сотнями невольников, знать отношение господ к слугам. Да, ты можешь выделять кого-то среди других. Ты можешь даже время от времени общаться с ним, вести философские беседы, почти как с равным… почти… стоит слуге оступиться, словом, делом, пол взглядом разгневать господина и бывший приятный собеседник превращается в грозного рабовладельца. Полновластного хозяина. Раб — вещь, как шкаф, халат или поношенный пояс. Не как драгоценная брошь — она стоит во сто крат дороже. У вещи нет чувств, эмоций, не может быть личности.
И с ней следует обращаться, как с вещью.
Таков закон.
Закон жизни.
А жизненные законы незыблемы. Что во дворце Хайлафа, что в бараках Ковчега.
— Ты не понимаешь! — обильно распространяя зловоние, шептал Айнут. — Надо только помочь им, потрудиться, совсем немного. И тогда — рожай, сколько вздумается, без утайки, без страха. Работать не надо. Старикам — почет…
Работать не надо… извечная мечтая черни. А того не понимают, что работать-то все равно придется. Не им, так кому-то. Иначе нельзя. Иначе не выживешь. И тогда, бывшие угнетаемые становятся ничем не лучше свергнутых угнетателей. А то и хуже.
Самые жестокие хозяева — бывшие рабы.
— Ты веришь в добрых Хозяев?
— Конечно, они есть, вон и Туни слышал…
Хозяева не могут быть добрыми — по определению. Сам статус хозяина мешает этому, как хвост Туни мешает ему носить штаны. То есть, оно, конечно, можно, но с нар уже не свесишься, удерживая равновесие. Да и в радости не особо помахаешь.
Так и хозяева. Возможно, они преследуют самые благородные цели, лелеют гуманные планы. Но… положение, пост Хозяина, начальника, руководителя — называй как хочешь, существа, которое заставляет других существ подчиняться, выполнять определенную работу… оказывать услуги… туманит цели, развеивает планы…
— Если Хозяева хотят что-то сделать для рабов, значит они хотят что-то сделать для себя, просто без рабов это сделать не могут.
Айнут, намереваясь выдать очередную фразу, замер с открытым ртом.
Низкий лоб пошел крупными складками, существенно помогая переваривать услышанное.
— Да ну тебя!.. — наконец нашелся сын горшечника.
***
От молитвы язык не заболит, поклоном поясницы не переломишь.
Из сборника «Устное народное творчество»
Завершал праздник относительно новый конкурс поэтов.
Помост, куда раньше поднимались выявлять физическое превосходство, заняли люди иного склада.
И здесь, Юрий Гопко был в числе первых.
Марта, стоя внизу, в толпе, не сводила с юноши глаз.
Как же он умен, высок, красив, талантлив… неужели другие не замечают этого… хорошо, что не замечают.
В финал вышло трое претендентов: бородатый дядька из цеха обслуги, тучная женщина из ткачих и Юра. Ее Юра!
Марта в пол уха слушала, о чем выкрикивали свои строки конкуренты.
Кажется, бородатый воздавал хвалу Матери Церкви, на все лады неплохо подвешенного языка превознося ее первых лиц, под руководством которых Ковчег движется к светлому будущему.
Хлопки зрителей были жидки, но улыбки судей, в числе которых преобладали первосвященники, благосклонны.
Женщина читала о любви, к сожалению, к детям, точнее, к одному ребенку — дочке. Кажется, стихи были неплохие, во всяком случае, зрители рукоплескали долго и от души. Наверное, если бы не Юра, они понравились бы Марте. Но Юрий — о, это все меняло.
Он — лучший. Он должен победить!
Под замирающий шепот юноша выдвинулся на авансцену.
Поклонился зрителям, жюри.
Громкий юношеский голос в окружающей тишине продекламировал:
В тени веков,
В потоке лет,
Пою, о чем мечтает лира.
И кто-то крикнет вслед: «Проныра!»
А кто-то скажет — Человек!
Зрители молчали, не сразу сообразив, что это все, а когда сообразили… Марте казалось, она оглохнет от аплодисментов. Возможно, ей это только казалось. Женщине хлопали — больше и дольше. Девушку подобные тонкости мало волновали. Она кричала, топала и улюлюкала, пытаясь переорать окружающий вой.
Юра, ее Юра! Какой талант! Какие стихи!.. лира, человек…
Он первый!
Он, безусловно, первый!
Еще одно радовало девушку — мымра из святош куда-то запропастилась.
Хорошо бы — навечно.
Как она могла пропустить такое! Его триумф! Как после этого он может не только разговаривать, думать о ней!
То ли дело она — Марта!
Девушка продолжала кричать даже, когда поднялся Великий Пастырь для объявления победителя.
Она продолжала орать, пока не поняла, что кричит… в тишине.
В тот же миг, Марта заткнулась.
— Единогласно, победителем конкурса поэтов, признан…
Что же он тянет, ну же! Марта чувствовала — еще чуть-чуть и бешенное от волнения сердце вырвется из груди.
— … участник под номером… один! Член цеха обслуги Виктор…
— У-у-у! — дружный недовольный гул, выразил общее мнение.
— Опять жополиза выбрали! — сплюнул под ноги один из соседей девушки.
Марта на некоторое время потеряла связь с окружающим.
Нет, этого не может быть! Ошибка! Они ошиблись. Юра! Ее Юра! Он лучший!
— Следовало ожидать.
Общее недовольство не укрылось и от Великого Пастыря. Маленькая рука поднялась.
— Специальные поощрительные призы, вручаются двум остальным финалистам…
— Засунь себе эти призы!
Сказали не громко, но отчетливо.
Великий Пастырь побелел.
Не дожидаясь приказа, к предполагаемому местоположению смутьяна потянулись воины Армии Веры.
Тихо, но этот тихий голос внезапно заглушил прочие звуки, с помоста зазвучали стихи.
Говорил Юрий Гопко. Ее Юра!
Ты невинна,
А я грешен.
Ты — серьезна,
Я — потешен.
Я хочу,
Ты — пресекаешь.
Больно мне,
Ты — понукаешь.
Ты — всезнайка,
Я глупец.
Ты — скромняга,
Я — гордец.
Голос твой,
То голос мира!
Речи клира,
Как секира.
Называюсь я –
Народ.
Ты же окликаешь –
Сброд!
Открывайся Люк
Бегом.
Поиграем в бой
С врагом.
Пусть схоронятся
Напасти.
Жизнь и смерть,
В твоей лишь власти.
На любой вопрос
Ответ –
Люк!
И спроса больше нет!
Великий Пастырь побелел, словно его вываляли в муке.
После непродолжительной тишины, зрители взорвались аплодисментами.
***
Свершилось обещанное.
Сбылось пророчество.
Пришло время разделения.
Опустилась длань карающая.
Как и было речено: «Богохульники, святотатцы, отступники падут, сраженные гневом Моим! Истинно же верующих, не трону!»
Летопись Исхода
Глава 3. часть 2
Линкольн Черчь лез на трибуну — несколько скрученных меж собой пластмассовых табуретов. Кряхтя и отдуваясь, словно после пьянки.
Взгромоздившись и широко расставив крепкие свои ноги, обутые в пластиковые сандалии, он начал речь.
— Братья и сестры! Единодумцы! Проклятые Александрийцы, Махонцы и прочие богочеловеки не позволяют нам вдохнуть ни вдоха! Они притесняют идеи, оставленные Учителем и дают нам по роже!
Взнузданные сандалиями толстые пальцы Черча с желтыми пластинами ногтей дергались норовистыми жеребцами. Данкан Левицкий еще помнил, кто такие жеребцы. Его дед служил на конюшне…
— Они убивают наших братьев. После этого досадного случая, они нам не братья!
— Точно!
— Точно!
Толпа гудела, а Данкан Левицкий, стоящий в первых рядах, никак не мог сосредоточиться на речи. Внимание отвлекали проклятые пальцы. Левицкий даже умудрился рассмотреть мозоль. На левом мизинце, почти у самого основания.
— Что за мода убивать живых людей, я вас спрашиваю?
— Точно!
— Ежели так пойдет дальше, никого не останется совсем. Тогда будем иметь полное безлюдье. То есть не с кем даже пива попить!
— О-о-о! — упоминание пива задело толпу за живое.
— А ежели мы кого убьем? Интересно, кому это понравиться?
Данкан как мог пытался сосредоточиться на речи. Хмурил лоб, вытягивал губы в трубочку… усилия привели к обнаружению второго мозоля, на этот раз на лодыжке, в аккурат под криво сидящей пряжкой.
— Поэтому будем бить морды проклятым ап… аппанентам. То есть, доводить до их сведения свою точку зрения.
— Доводить!
— Во имя заповедей Учителя и человеколюбия!
Шум за спиной слегка отвлек Левицкого, а ведь он почти разглядел третий мозоль. Так как Линкольн стоял лицом к шуму, он первым отреагировал на происходящее.
— Что за хрень?
Вслед за всеми, обернулся и Левицкий, широкий проход, ведущий в отсек, перегораживала ребристая металлическая стена. Откуда она взялась?
Данкан и не подозревал, что проход имеет дверь.
Не давая опомниться, раздался шипящий звук. Запахло чесноком и чем-то еще, чем-то цветочным.
— Что за хрень? — Линкольн не растерялся и в этот раз.
Левицкий сделал вдох, словно шило пронзило мозг. В голове помутилось, перед глазами поплыли разноцветные, на редкость красивые круги.
— Что за…
Родив неимоверный грохот, Черчь свалился с табуретов.
***
Списано:
Круп 1 т
Вода — 200 л
Мясо (в т. ч. птицы) — 100 кг
Естественная убыль 0,2 % (в пределах нормы).
Хорунди было страшно.
Хорунди дрожал.
Еще и эта пыль.
Проклятая, всепроникающая пыль.
Вот где она пряталась.
За портьерой!
Когда Хорунди выберется, он даст ей бой!
Если выберется…
— Соглядатаи докладывают, последние месяцы в среде рабов ходят разговоры… волнения…
— Я помню, ты уже говорил.
— Причем это касается не только бараков, но и домашних слуг… особенно домашних. Я предупреждал — эти их, так называемые, собрания давно следовало разогнать. Тоже мне — все существа братья. Спалим парочку недовольных, и братские чувства мигом улетучатся.
Хорунди не было видно, но, кажется, Хозяин Гопко пожал плечами. Он всегда пожимал плечами. Хорунди нравилось.
Хорунди долго тренировался, пока не научился повторять жест Хозяина.
Хорунди гордился этим.
— Люди должны во что-то верить.
— Эта вера бессмысленна, глупа… нерациональна…
Собеседником Хозяина Гопко, был Хозяин Внутренней Службы. Маленький, с бегающими глазками, страшный Хозяин Каплан.
Дыхание, собственное дыхание Хорунди показалось слишком громким.
Еще и пыль…
В ужасе он зажал рот руками.
Сердце, проклятое, обычно неслышное сердце застучало, едва не заглушая голоса Хозяев. Если бы Хорунди мог зажать и его.
— Этой вере сотни лет. Эта вера наших предков. Слишком мало прошло времени. Дай срок и она выветрится из умов людей.
— Как бы не стало поздно.
— Ты не хуже меня понимаешь, если запретим — они уйдут в подполье, заброшенные сектора. Попробуй, выуди их оттуда. Так можем хоть как-то контролировать.
— Контролировать! Они разработали систему паролей, каждый раз меняют место собрания. Допускают только проверенных людей. Чует мой нос — что-то затевается.
— Твой нос должен не чувствовать, а — знать. Для этого ты сидишь на своем месте.
— Узнаю, узнаю, обязательно узнаю… как бы поздно не было.
Нет, Хорунди не подслушивал… то есть… подслушивал, но не собирался подслушивать.
Он вытирал пыль в кабинете Хозяина.
О-о-о, проклятую, вездесущую, ненавистную пыль!
Он как раз забрался за портьеру.
Нашел рассадник!
О-о-о, как он радовался.
В кабинет вошли Хозяин Гопко и Хозяин Каплан.
Хорунди не прятался.
Он сразу не вылез.
А потом… потом сделалось страшно.
Если бы не Хозяин Каплан.
Хорунди боялся Хозяина Каплана, почти, как… Хозяйку Марту… нет, Хозяйку Марту Хорунди боялся больше.
— Даже, если они что-то и замышляют. У нас — оружие, управление системами жизнеобеспечения — сила.
— На стороне церковников тоже была сила, и армия, и столетний опыт.
Хозяин Юрий замолчал.
Сердце, проклятое сердце колотилось в грудной клетке.
Только бы не услышали, не заглянули…
— Из рубки докладывают прямо по курсу — планета. Судя по всему — обитаемая. Что ж, давай проведем рейд, по баракам и по каютам — большой рейд. Бери всех, кого посчитаешь нужным. Недовольных, инакомыслящих, просто подозрительных.
А я велю приготовиться десантной команде. После рейда пополним запасы рабов.
***
Учитель не дремлет — все видит.
Из сборника «Устное народное творчество»
Триумф!
Какой триумф!
Он не только молод, красив, силен, умен, но еще и талантлив.
И все это — Юра, ее Юра!
Вокруг хлопали и что-то кричали люди, а Марта стояла, словно оглушенная. Пленница собственных чувств. Парализованная счастьем, переполнявшим ее, радостью, за предмет обожания. Гордостью за собственный выбор.
Она стояла и улыбалась даже когда служители Армии Веры, немилосердно потчуя толпу дубинками, наконец-то пробились к помосту.
Она радовалась, когда рослые парни полезли на него, окружая выступающих.
Она улыбалась, когда, сбитая сильным ударом, упала женщина-поэт.
Испытывала чувство гордости, когда от следующего удара отлетел бородатый победитель.
Третий удар был нацелен на Юру.
Ее Юру!
— Не-е-ет!!
Мир снова наполнился звуками. Среди звуков преобладали крики. Крик возмущения Марты, каплей в стакане, потонул в них.
Мир наполнился движением. Толчками, давкой. Слабое трепыхание девушки не могло изменить мир.
Что должно — случиться.
Что случиться — должно.
Слово произнесено. Рука занесена. Жребий брошен.
Первый удар Юра отбил. Привычным, отработанным во многих схватках движением.
Второй…
Подоспела пара армейцев с тыла.
Марта кричала, срывая девичье горло.
Сама тыкала кулаками, отчаянно пытаясь предупредить… протиснуться… защитить…
Две дубинки были одновременно занесены.
И так же, словно единое целое, опустились на затылок юноши.
Юра упал.
Тело поэта скрыла груда широких спин солдат.
— Нет! Нет! Нет! Юра!!
Равнодушная к чувствам, глухая к призывам, чувствительная к страху толпа несла ее прочь.
Творя добро.
Спасая.
Помимо собственной воли.
— Пустите, пустите, вы, трусы!
И воли спасаемого.
— Они же…
Взгляд девушки, один из последних взглядов, ибо ее часть толпы добралась почти до выхода с Майдана, упал на возвышение, под люком, туда, где умостились безжалостные вершители.
Великий Пастырь.
После стихов Юрия, он был белый, как мел.
Краски жизни вернулись на маленькое лицо.
Более того.
Великий Пастырь, он… улыбался!
***
— Я, когда вырасту, тоже героем стану! Навроде Александра!
— Ты сначала вырасти.
— Еретиков бить буду. Р-раз, и в Утилизатор! Всех победю!
— Коз в носу победи.
Отзвуки утренней сирены еще бродили извилистыми переходами Ковчега, а они уже сидели на заборе.
Заборе, ограждающем Майдан.
Святая стража праздника Вознесения.
Ровно в этот день, сто с чем-то лет назад, Учитель покинул Ковчег и вознесся к звездам.
Впрочем им, натирающим до зеркального блеска прутья решетки, было плевать на далекое вознесение и мифического Учителя.
На что не было плевать, так это на широкие столы Пищевиков, на цветастые палатки цеха Обслуги, и, уж конечно, на замысловатые, пока малопонятные конструкции, сложенные у дальней стены Майдана.
— В прошлом году пряники были, с начинкой! — закатил мечтательные глаза к потолку Сашка Гайдуковский.
— Ага, малиновой.
— И вишневой.
— Объедение!
Компания принялась дружно и шумно сглатывать выступившую слюну.
— Подумаешь, а мой папка на прошлой неделе приносил пряники, тоже с начинкой. Он у меня — техник, — сглатывая, как все, Андрей Гопко умудрялся еще и говорить.
— А мне больше леденцы на палочке нравятся, — вздохнул Кэнон.
— И мне!
— И мне!
— А еще сладкая вата.
— И эти, как их — пончики.
— И слойки.
— И пирожные.
— С кремом!
— Со взбитыми сливками!
— Сгущенкой!
— А сверху, чтоб глазурь!
— И все это — сахарной пудрой!
— Объедение!
Слюна едва не капала из детских ртов.
— А мой папка на прошлой неделе леденец приносил! Я когда вырасту, техником стану, каждый день буду по леденцу. Вместо завтрака, обеда и ужина!
От будущих изысков пищевого цеха, взоры переместились к палаткам обслуги.
— Представления будут, — слово вновь взял Гайдуковский.
— Кукольные.
— Про еретиков!
— А потом Учитель приходит и в Утилизатор всех, р-раз!
— А мой папка говорит — куклы для малолеток.
Малопонятные конструкции притягивали взор больше остального.
Малопонятные, ибо было мало понятно, каким образом из, на вид страшных, груд железа рождаются такие завлекательные, такие необходимые, такие важные… карусели.
— А мой папка…
— Заткнись ты со своим папкой!
Праздник Вознесения.
Хороший праздник.
Жаль — раз в году.
***
Планета — класс 1.
Расстояние — 10.
Уровень развития — 8.
Перспективность — 0 (высока вероятность повреждения технических средств).
Великая Мать, это рай, да, рай, он в раю!
Боэта рядом.
И теплая рука в его руке.
И запах девушки щекочет нос, заставляя и без того трепыхающее сердце бешено ускорять сумасшедший бег.
Великая Мать, он в раю.
— Сейчас или никогда! Уже отдан приказ о внеочередном рейде. Они сожгут рабов, всех, кого посчитают нужным, а заодно и ненужным. Новичков придется снова готовить к восстанию. С начала, с самого начала.
Если бы не Хозяин Брайен. Как он громко разговаривает. И не остальные Хозяева… Странно, на этом собрании, кроме него с Боэтой больше не было рабов. Ни одного. Да и то, девушка говорила, стоило большого труда уговорить хозяйку взять ее с собой.
— Нам известна ваша позиция, относительно рабов. Однако разумно ли привлекать их к гм, выступлению.
— Вдохнув воздух своды, как их потом заставить работать?
— Сами станем. Труд еще никого не сделал хуже. Наши предки сами выращивали свой хлеб, сами делали вещи, да и мы… на заре Эры Техников. Не забыли еще?
Шепоток, большей частью недовольный, прошел комнатой.
Он сжимал руку девушки, он гладил податливое плечо, он терся носом, и горячая кровь стучала в висках.
Великая Мать, вот бы собрание не кончалось. Шло и шло, а хозяева говорили и говорили. Вечно.
— На стороне техников — сила.
Хозяин Брайен покачал головой.
— Ошибаетесь, сила на нашей стороне. Сколько техников, сколько всего техников, вместе с армией и десантной командой? Кучка. И пять сотен не наберется. Нас — тысячи.
— Вместе с рабами.
— Вместе с рабами. Именно поэтому, обозленные, отчаявшиеся, бывшие воины и охотники, они нужны нам.
— У техников — оружие. Их сектор всегда под охраной. Узкий, хорошо простреливаемый коридор.
— Я уже говорил на предыдущих собраниях — об этом не беспокойтесь. Я проведу вас. Мы окажемся в самом центре сектора техников. В его сердце. Рядом с арсеналом.
— Даже если это удастся, даже если мы захватим арсенал. Ни один из нас не умеет пользоваться оружием. Мы даже не знаем, как брать… на что нажимать…
— Нам и не нужно. Главное — не подпустить к арсеналу их. Именно поэтому необходимы рабы — живая, многочисленная, способная сражаться сила. Сила, которой нечего терять, кроме своих оков.
Он был счастлив.
Великая Мать, как он был счастлив.
И слова… девушка произносила их, всякий раз, как он признавался в любви.
«Ты мне тоже нравишься, Рхат!»
Эти снова звучали у него в ушах, будили ночью и… пропускали мимо ушей другие. В основном — слова Хозяев.
Хозяйка Рената в последнее время стала нервной… кричала на Рхата, на Лизу, даже на Хозяина Брайена, часто без повода. Потом плакала, просила прощения.
Даже у Рхата просила.
Он прощал.
Ради встреч с Боэтой он был готов снести все крики мира, и ругательства, и оскорбления, и даже побои…
— Это мой план, в общих чертах. Нам необходимо проработать детали. Кто войдет в нашу десантную команду. Какие позиции займут остальные сектора. Кто поведет фабричных рабов. Будет направлять. Их действия, основные и второстепенные задачи.
— Боэта, я люблю тебя!
— Да погоди, Рхат!
***
Но некоторые бывшие братья и сестры безвозвратно погрязли в грехах и скверне.
Глядя на них, сердце Великого Сонароллы обливалось кровью. И не переставал он молиться за заблудших…
Летопись Исхода
Глава 3. часть 3
— Отринь заблуждения, прими истину природы Учителя. Влейся в лоно братьев.
— Пошел ты!..
Склады были заполнены полками и стеллажами, стеллажи были заполнены вещами. Нужными, как воздух, неприметными, как тень.
Вещи вынесли, спешно рассовав по освободившемся каютам.
Склады и полки заполнили людьми.
— Выйди к братьям и сестрам, публично покайся, публично прими наши взгляды. Стань одним из нас.
— Пошел ты!..
Их вызывали по одному. Неулыбчивый Харлампов, сопровождаемый парой рослых аграриев, конвоировал… задержанного бесконечными коридорами Ковчега. И хмурые взгляды щедро рассыпали на пути процессии острые камни.
Всякий раз, вызывая очередного заблудшего, Харлампов краснел девицей на выданье и старательно прятал глаза.
— Касьянов! — кидалось в сумеречную темноту склада.
— Иду!
Беседовал Александр Сонаролла, лично, с каждым. Он не прятал глаза — худой текстильщик, имеющий титул Пастырь и окруженный сонмом единодумцев.
— Познай истинное учение, и все, ты — свободен. Выйдешь отсюда, вернешься к семье…
— Пошел ты!..
Они упорствовали, эти инакомыслящие, упорствовали в своих заблуждениях.
— Учитель, Отец наш небесный, — не раз и не два Сонаролла возносил молитву тому, кто мудрее его. — Вразуми непонятливых, наставь на путь истинный заблудших. И дай мне сил и терпения воплотить волю твою. Прибави мудрости понять ее и отыскать пути претворения. Слава.
— Слава! — эхом вторили присутствующие, возносящие схожие молитвы.
— Отринь… прими… покайся… войди…
— Пошел ты!..
Терпение в этот час было превыше мудрости.
Терпение есть добродетель. Добродетель присуща не всем.
Брат Рав Танг, раскрасневшийся от обращения инакомыслящих, подскочил к хмуро глядящему на высокую комиссию Знанскому.
— Ах, пошел я?.. Да пошел ты!
Худая рука свистнула плетью.
Знанский упал, не столько от удара, сколько от неожиданности.
Алая густая кровь текла по подбородку.
— Отринь…
— Пошел…
— На!!
Глухой звук удара и жизненная влага брызжет рубиновыми каплями.
— Прими…
— Пошел…
— Получай!
И руки убрались кровью.
Чужой кровью.
Энтони Левицкий, потирая костяшки пальцев, склонился над братом.
— Ты откажешься от своих взглядов!
Ответом служил кровавый сгусток, презрительно сплюнутый разбитым ртом.
***
Высокого Трибунала ярусами не обойдешь.
Из сборника «Устное народное творчество»
Авраам Никитченко — Великий Пастырь испытывал удовольствие. Удовольствие смотреть на врага сверху вниз.
Лакомство для гурманов.
Именно на врага.
Если таковые отсутствуют — их следует выдумать.
Авраам выдумал.
Вытащил первую попавшуюся занозу из задницы и воткнул на вакантное место недругов.
Первая ласточка.
Давняя заноза.
Ничего, за ней придет черед остальных.
Засиделась, застоялась Мать Церковь. Зажралась! Авраам Никитченко мог так говорить — кому, как не Великому Пастырю?
Скоро, очень скоро, он слегка разворошит это гнездо, добавит огня под вяло булькающим киселем.
Учитель говорит: «Мир не стоит на месте». Застоялся, заждался настоящей работы люк Утилизатора.
Его пастыриат запомнят, ах как запомнят. Благодарные потомки будут вспоминать имя Авраама Никитченко, наравне с именами легендарных Великих Пастырей: Александра Сонароллы, Хоакина Морозова, Робура Линкольна. Доброжелатели будут превозносить его до звезд. Недоброжелатели… недоброжелателей не останется.
— … празднике… конкурса поэтов… ваши люди… арестовали юношу… техника…
Этьен Донадье произносил свою речь. Пламенно, с жаром. Сбиваясь с темы на тему и делая паузы в совершенно неожиданных, самое главное — неподходящих местах.
Великий Пастырь поморщился. Технарю, проводящему большую часть жизни среди безмолвных механизмов, никогда не освоить, не осознать многозначительность пауз, силу шепота, музыку крика, исчерпываемость недосказанного.
Этьен — милый враг, ты стоишь и краснеешь, ты так и не научился скрывать своих чувств. Теперь не научишься. И дело совсем не в возрасте или закостенелости характера. Просто — поздно. Слишком поздно. Время. Этьен, оно идет, оно движется, отсчитывая последние часы, дни, возможно — по самым оптимистическим прогнозам — недели. Оно идет, и оно работает на меня, на нас.
Мальчишка — это плацдарм, с которого начнется более чем широкомасштабное наступление.
И даже таких очевидных вещей, в своей ярости, в своем праведном гневе, Этьен, ты, увы, не видишь.
— Я не разделяю цеха и вековую принадлежность, — речь старшины техников начала утомлять — еще один минус в его актив, или пассив. Затянувшийся первый акт следовало заканчивать. — Перед законом все равны!
— Он ничего не совершил!
— Он оскорбил Мать Церковь! Публично! Это, по-вашему, не проступок! В старые времена и за меньшее отправляли в Утилизатор!
— Он молод, горяч, немного глуп…
— Он еретик! Слова его, поступки его — ересь! И он понесет заслуженное наказание! Как я уже говорил — перед законом все равны!
— Не хотите ли вы сказать…
Не без удовольствия Великий Пастырь наблюдал, как старшина техников белеет. А ведь до этого он был красный, как вишня.
— … Утилизатор…
— Я ничего не хочу сказать, более сказанного. Степень его вины и меру наказания установит Высокий Трибунал, заседание…
— Ваш Высокий Трибунал! — выплюнул техник.
— Да что вы себе!.. — а здесь можно и притворно возмутиться. Конечно его, чей же еще.
— Выпустите его! Сейчас же, сегодня!
— Аудиенция окончена!
— Выпустите, я прошу, пока прошу!
— Вы угрожаете? Мне угрожаете?
Вместо ответа, Донадье резко развернулся и, почти не шатаясь, зашагал к выходу.
Великий Пастырь смотрел на худую спину.
Да, не стать ему дипломатом.
***
Авария на фабрике.
Причина — выход из строя конвейера.
Потери — 0 (5 рабов).
Рекомендуемая квота на детей — 1.
— Осторожнее голову. Не смотри вперед!
Было поздно.
А успей предупреждение вовремя, Рхат все равно бы глянул, не удержался.
Да и как можно удержаться, когда перед самым носом такое…
Великая Мать!
Голова закружилась.
Колени подогнулись, сохраняя равновесие, Рхат Лун рухнул на четвереньки.
Рядом, в похожих позах, усиленно мотая головами, стояли остальные члены отряда.
— Не смотри!
Новенький, только появившийся из лаза рухнул позади Рхата.
Великая Мать, он почти забыл, как они выглядят. Привык, свыкся с вечно нависающим потолком.
Звезды. Тьма звезд.
Точки на недосягаемой чаше неба.
Летними ночами, когда всевидящее око Великой Матери разгоняло вечное покрывало облаков, проглядывали они — звезды.
Старики говорили — то души великих охотников и вождей, подвигами своими, заслужившие честь находиться рядом с Великой. Следить за племенами, пока богиня спит.
Когда-то и сам Рхат надеялся…
Столько звезд он не видел никогда.
— Толкай, толкай! А ты — выдохни. Ну же, поднатужимся!
Рхат Лун обернулся.
Обернулись многие.
Как они и боялись — Толстый Руи застрял в норе.
Половина складчатого, покрытого редким грубым ворсом, тела торчала снаружи. Вторая, наиболее объемная, намертво закупорила ход.
— Тянем, еще раз, все вместе. А ты не дыши, сожми мышцы!
Три больших глаза Руи виновато смотрели на Хозяина Брайена.
— А вы чего расселись, помогайте!
Рхат, вместе с другими, покорно обхватил мускулистую руку здоровяка.
— На счет три. Все вместе! Раз, два…
В отряд отбирали самых крепких, самых зубастых, самых когтистых рабов. Бывших воинов, или охотников.
Словом, у Рхата не было ни одного шанса.
Он не особо огорчался.
Боэта.
Какими глазами она смотрела на отобранных.
А когда он попытался обнять девушку, привычно ткнувшись носом, раздраженно повела плечами.
И Рхат решил.
Великая Мать — он тоже из племени охотников!
К тому же отряд поведет его Хозяин.
Ему нужен, просто необходим слуга!
Труднее всего оказалось убедить в этом самого Хозяина.
— Ладно, — наконец махнул рукой Хозяин Брайен. — Но знай, там тебе придется сражаться. Возможно самому, когда ни я, ни кто другой не сможет помочь.
Зато какими глазами его провожала Боэта.
Ради этого стоило… поражаться.
С легким хлопком, зад Руи выскочил из норы.
Рхат, вместе с другими тянувшими, не удержав равновесия, повалился на холодный пол. Сверху их придавила теплая, слегка попахивающая туша Руи.
Из освободившейся дыры вывалились оставшиеся члены отряда.
Последним вылез Картхор — кряжистый коротышка, низкий лоб которого украшали пеньки спиленных рогов. Картхор тащил за собой, никому не доверяя, связку коротких метательных копий. Под древко приспособили пластиковые палки каких-то садовых инструментов. Наконечниками служили остро отточенные держатели вилок и ложек. Подобным самодельным оружием щеголял каждый в их команде. У Рхата — одного из немногих — был нож. Самый настоящий, с легкой пластиковой ручкой и зазубренным лезвием. Кажется, такими на кухне резали хлеб.
Нож, прямо перед походом, вручила лично Боэта.
— Зарежь им как можно больше техников!
Глаза девушки блестели.
— Пошли! — Хозяин Брайен указал на следующий лаз. — Я — впереди, остальные за мной. Внутри не шуметь… — глаза Хозяина остановились на Руи. — Ты — лучше останься.
***
В последние годы наблюдается интересная тенденция — дети, зачастую против их желания, идут служить в те цеха, где работают родители. Вполне естественное желание родителей помочь, защитить своих отпрысков, оборачивается против самих отпрысков. Так, отец, или мать, занимающие определенный пост, имеющие вес в том или ином цехе, проталкивают детей на наиболее, как им кажется, престижные места. Показателен в этом отношении цех техников. Привилегированное положение, необходимость специальных знаний сделало из цеха что-то вроде обособленной фармации, закрытого общества. Доходит до того, что дети техников играют только с детьми техников.
— Праздник? Вы сказали, праздник? — запуганные серые лица, обреченность в глазах, люк Утилизатора. Слово «праздник» выпадало, диссонировало с привычным набором реалий. — Чего? Урожая? Единения?
— Вознесения! — молодой человек презрительно сплюнул на пол. Длинные волнистые волосы заслонили глаза. На миг, краткий миг, затмив фанатичный блеск зрачков.
— Вознесения их проклятого Учителя к звездам!
Юноша снова сплюнул.
Чему учу? Терпению, всепрощению, а за фразами любви к ближнему брызжет плохо скрываемая ненависть.
И таких — в основном молодых людей, с горящими глазами становится все больше.
Не допускает ли он ошибку?
Не поливает ли нужными речами щедрые всходы будущих хозяев Утилизатора?
— Я хочу посмотреть.
— Что? — зрачки полыхнули с новой силой.
— Посмотреть, пойти на праздник.
— Но… — фанатики не думают. Непривычный мыслительный процесс на время затмил сияние глаз. — Учитель, это не совсем разумно…
Кто бы говорил о разуме.
— Я пойду!
Тем более — праздник посвящен ему.
— Учитель, тогда — мы с тобой!
***
Учитель говорит: Верующий в меня, в Заветы, которые Я оставил — благ.
И если что попросит именем Моим — то Я сделаю.
Просите — и дано будет, молитесь — и услышаны будете, ищите — и найдете.
Заветы. Глава 1, стих 7
— Это моя последняя… — Эммануил поперхнулся — едва не произнес: «проповедь». Да, пора, пора уходить. Много, слишком много в толпе взглядов, затуманенных пеленой безмерного доверия, или того хуже — всеобъемлющего обожания.
— … моя последняя речь.
Да и Эммануилу — ему самому начинало казаться существующее положение вещей вполне естественным. Благоговейный шепоток за спиной — нормальным положением вещей, почтительные поклоны — обычной реакцией.
Пора уходить.
Люди смотрели на него широко открытыми глазами. Они не понимали, пока не понимали. Слова, звуки без труда преодолевали кокон благоговения, однако их смысл вязнул на подступах.
Ничего — скоро поймут.
— Моя миссия в этом мире закончена. Что мог — сделал. Чему хотел — научил. Дальнейшее пребывание принесет только вред.
Ближе других, моргая такими же полными почтения глазами, стояли старшины цехов — люди, которые станут руководить Ковчегом после него. Владимир Морозов — глава цеха животноводов, Александр Сонаролла — текстильщик, Людмила Мотренко — медик, Гард Линкольн — гуманитарий, Мирза Ривз — техник, Арий Стахов — старший цеха металлургов. Такие разные: Морозов — властный мужчина средних лет, Эммануил смутно вспоминал — на Земле он служил старшим менеджером в какой-то крупной фирме. Линкольн — покладистый, тихий старик, а вот этот всю жизнь проработал библиотекарем. Ривз — как все техники всегда спокоен и сосредоточен, ну техник, он и на Земле — техник. Однако даже в них, этих разных, на первый взгляд, глазах, теплилось роднящее их и людей за ними чувство… если не любви, то достаточной доли почтения.
«Как двенадцать апостолов», — мелькнула мысль. Нет! Не дай бог! Словно это могло помочь, или что-то изменить, Эммануил отогнал ее.
— Вот вам мои последние… наставления, — и снова библейское слово «заповеди» едва не осквернило уста.
Пора уходить.
— Не убивай! — полностью отрешиться от религии не удалось. Тысячелетний опыт кое-что, да значит.
Не лги!
Не кради!
Не прелюбодействуй!
Толпа начала проявлять признаки волнения. Ага, проняло таки! Поняли, что это не очередное субботнее вече. Лаконичность фраз, однозначность толкований легко преодолевали барьер неосмысления.
— Миритесь и соглашайтесь! — вот здесь немного размыто, но ничего, дойдут своим умом.
— Почитай других, как себя! — малость двусмысленно, но ничего определеннее придумать не смог.
— Делись с нуждающимися, помогай страждущим!
— Не делай другому ничего такого, чего не сделал бы себе!
Люди вертели головами, они не понимали. То есть, заповеди-то они, конечно, понимали, но к чему все это?..
И, наконец, последняя. Вот здесь требовалась такая формулировка, чтобы даже пол мысли не возникало о двузначном толковании.
Эммануил набрал в грудь воздуха и, перекрикивая гул недоумения, выстрелил:
— Я не бог!
***
Тенденция наследования детьми постов родителей в первую очередь оборачивается против самих детей, а во вторую и далеко не последнюю, против Ковчега и, как следствие, Матери Церкви. Сколько умелых аграриев прозябает в цехе металлургов? Сколько талантливых педагогов, ученых шьет одежду? Сколько прирожденных хирургов копается в механизмах? Выход есть, однако мы — скромные гуманитарии не имеем ни возможностей, ни средств изменить ситуацию. Требуется вмешательство на законодательном, церковном уровне. В связи с этим, я предлагаю…
Лысина Бенаторе, отражая свет ламп, затмевала их своим блеском.
— Великий Пастырь, наш человек докладывает, Проповедник будет на празднике!
Артур Гвана осторожно переместил вес худого тела с одной ягодицы на другую.
Издержки хвори — когда не болело колено, мучения доставляли нерассосавшиеся уплотнения — следы инъекций.
— Прекрасно, подготовьте, что нужно.
Склонившийся секретарь победно подмигнул лысым затылком.
***
Результаты тестирования нового средства от накожных паразитов:
Обработано — 80 особей (обоего пола)
Смертность — 6,25 % (8 особей) — в пределах нормы.
Эффективность — высокая.
Вывод: рекомендовано для широкомасштабной дезинсекции.
Хорунди дрожал.
Хорунди было страшно.
Проклятые болты никак не хотели крутиться, вдобавок заточенный край инструмента — Хорунди забыл, как он называется — постоянно выскальзывал из насечки на шляпке.
И пыль.
Проклятая пыль.
Хорунди ненавидел пыль, а здесь ее было особенно много.
Страшное место.
Осторожно выкрутив очередной болт, Хорунди положил его в рот — чтобы не упал.
А если его застанут здесь?
«Раб, что ты делаешь?»
Он страха и усердия придумать ответ, Хорунди прекратил выкручивать…
Сбывающимся кошмаром, за спиной раздалось тихое шуршание, закончившееся грохотом. Хорунди он показался гласом богов, совсем как на родине, когда боги гневались, пуская на землю огненные стрелы.
Сердце замерло на полустуке, дрожащие пальцы выронили отвертку — так вот как он называется — и инструмент, грохоча рассерженным божеством, запрыгал по полу. Болты — на счастье — застряли в горле. Глотни их, хоть один, Хорунди умрет. Или лучше умереть?..
Осторожно, дрожа всем телом, Хорунди обернулся.
Кажется, он придумал — он скажет — вытирал пыль. Да, пыль. Проклятую, саморазмножающуюся, всепроникающую пыль…
Позади никого не было.
Что же тогда?..
Метла, его собственная, на длинной палке метла, прислоненная к стене, сейчас мирно лежала на полу.
Хорунди мучительно, страшно, нестерпимо захотелось уйти.
Совсем как получасом раньше мучительно, страшно, нестерпимо не хотелось идти сюда.
Совсем как мучительно, страшно, нестерпимо не хотелось принимать это задание.
Хорунди был согласен слушать, о чем говорят в покоях Хозяина Гопко и повторять услышанное другим, хорошим Хозяевам.
Хотя и Хозяин Гопко не плох…
Свобода рабам!
Хорунди был раб и он хотел свободы. Пусть не всем, но себе — хотел.
Равенство с Хозяевами!
О-о-о, Хорунди был не прочь поменяться с Хозяином местами. Целый день есть, спать, развлекаться с самками, не видеть проклятой пыли… пусть ее убирают рабы!
«Пойдешь в северный сектор и снимешь решетку с вентиляционной шахты!»
А вот этого Хорунди не хотел.
То есть он, конечно, за свободу, за равенство, но не против решеток.
Если решетки висят, они должны остаться на своих местах. Хорунди так и сказал.
А если его застанут за этим занятием?
Тогда Хозяин Брайен — кажется так звали их главного — сказал: «У тебя нет выбора».
Так и сказал: «Нет выбора».
Хорунди снова задрожал, вспомнив слова Хозяина Брайена.
Он сказал, если Хорунди не поможет, его ждет смерть от рук других рабов, и если расскажет Хозяину Гопко, его тоже ждет смерть.
«У тебя нет выбора!»
А как же свобода, равенство? Хотел спросить Хорунди, но от страха растерял все слова.
Наконец, последний болт был отправлен в рот. Вцепившись в решетку, Хорунди потянул ее на себя.
На удивление легко она поддалась.
Вот только пыль. Проклятущая пыль. В носу зачесалось, захотелось чихнуть, да так, что желание на мгновение пересилило страх. В ужасе Хорунди зажал нос пальцами, вторая рука едва не выронила решетку.
Свобода — хорошо.
Черная дыра вентиляции напоминала Хорунди нору тампанга, там, на родине.
Тампанга — толстые, неповоротливые, но очень сильные, с длинными когтями тампанга рыли свои норы в податливой глине оврагов.
Найти такую — считалось редкой удачей. Рыли норы только самки, и только перед родами.
Залезший в нору смельчак, мог найти с пол дюжины пушистых, безобидных, на редкость вкусных и жирных детенышей тампанга.
А мог наткнуться на разъяренную самку.
Внутри дыры что-то зашуршало, отвлекая Хорунди от воспоминаний.
Первой двигалась пыль — проклятая, вредная, ненавистная пыль. Хорунди снова едва не чихнул, и снова прикрыл нос ладонями.
Когда он поднял глаза — в облаке пыли проступило лицо.
— Хозяин Брайен!
Подтянувшись, Хозяин ловко спрыгнул на пол.
— Хорунди сделал свое дело. Хорунди может идти?
Словно неторопливая шеша, которая за раз откладывает два раза по две руки яиц, дыра рожала чужаков. Одного за одним.
Любопытный Хорунди принялся было загибать пальцы, но скоро забросил бесполезное занятие.
Кроме Хозяина Гайдуковского — все рабы.
Все большие, сильные с горящими глазами и оскаленными лицами.
Борцы свободы.
Страшно.
— Что за?..
Хорунди вздрогнул и обернулся. Обернулись и борцы.
В бездверном проеме, соединяющим тупик с коридором, стоял техник.
Хорунди достаточно прожил с Хозяевами. Он научился определять не только возраст, но и эмоции… Этот Хозяин был совсем молод. Над синим, застегнутым на последнюю пуговицу воротником поднималось худое перепуганное лицо.
— Вы зачем?.. Кто?..
Хорунди начал передвигаться за спины.
Вдруг не заметит.
Или… на него напали… да, Хорунди пришел на шум, а здесь — чужаки, Хорунди хотел поднять тревогу, но его ударили. Шишки, правда, нет, но это дело поправимое.
Словно прочитав мысли Хорунди, во всяком случае те, что касались нападения, к технику метнулся один из рабов. Широкоплечий, с огненной гривой, начинающейся с середины голой спины.
Мелькнули желтые когти.
Схватившись за горло, техник осел на пол.
Из широкой раны толчками хлынула кровь.
— Получи! — гривастый сплюнул на труп техника.
Внезапно, Хорунди расхотелось сражаться за свободу. Ему даже расхотелось самой свободы.
— Где арсенал? — к Хорунди подступил Хозяин Гайдуковский.
— Туда.
Лужа крови под трупом стремительно расширялась.
— Веди!
— Н-н-н, — Хорунди усиленно замотал головой — сил на слова не осталось.
— Веди! — гривастый приблизил к самому лицу Хорунди окровавленные когти.
Хорунди сделалось плохо.
Он вырвал.
Отрыжка свободы.
***
Дал Учитель церковникам много, а хочется и побольше.
Из сборника «Устное народное творчество»
Густая струя кровавой жидкости, журча, наполняла прозрачные пластиковые бокалы.
Великий Пастырь отставил графин, поднял бокал, любуясь красками жидкости, взболтал, принюхался, сделал осторожный глоток.
— Божественно! Попробуй.
Алексей Стеценко без ухищрений взял предложенный сосуд и несколькими жадными глотками осушил наполовину.
— Ничего.
— Ничего? Ты называешь это ничего! Нектар растений, соль земли, экстракт света… — Великий Пастырь щелкнул пальцами, не находя слов, и неожиданно, во всяком случае, для Стеценко, продекламировал:
Вино не только друг — вино мудрец.
С ним разнотолкам, ересям конец.
Вино — алхимик: превращает разом
В пыль золотую жизненный свинец.
*(О. Хайям, пер. И. Тхоржевского)
— Стихи? — неожиданность вылилась в удивление, а удивление в слово.
— Стихи, — согласился Великий Пастырь. — Плебс пусть хлещет свое пиво, на все лады превознося достоинства пенных помоев. Вино — напиток избранных, хозяев этого мира!
— Не думал, что ты знаешь стихи, — Великий Пастырь первым назвал его на «ты», что означало некоторую степень редкой дружеской беседы. Как в старые времена, когда не было Великого Пастыря и члена Совета Церкви, а было два молодых священника: Авраам и Алексей. В семинарии их так и называли: «два А», молодых и амбициозных…
— С виноградников Восточного Сектора, прошлогоднее, — Великий Пастырь продолжал пить напиток маленькими глотками, смакуя каждый. — Наиболее удачное. Знаешь, на вкус вина влияет буквально все: интенсивность полива, длина светового дня, прикормка… даже сейчас не выяснили всех факторов. У меня мечта… отвести под виноградники целый сектор, более того, самих виноградарей можно выделить в отдельный цех, да цех! Пусть изучают! И через несколько лет, мы получим такое вино… — Великий Пастырь смежил веки и сделал очередной глоток.
Стеценко же залпом допил оставшееся и, пользуясь витанием друга в эмпиреях, хозяйски потянулся к графину.
— Стишки-то, небось, того парня, рифмоплета, из техников?
Великий Пастырь поморщился, словно превозносимый напиток начал отдавать уксусом.
— Одного древнего автора, земного. Сейчас так не пишут.
— Во, во, не пишут. Никак не возьму в толк, дался тебе этот сопляк. Зачем вообще было его арестовывать, мало того — доводить дело до Трибунала. Что с того, что он — техник. Мелкая сошка, ученик. Мы же не с учениками боремся. Ну сожжем его, да хоть десяток ему подобных. А толку? Только разозлим верхушку цеха. Уже сейчас у Донадье разве что слюна из рта не капает.
— Алексей, ты не глупый человек, однако мыслить масштабно, в пределах Ковчега, не способен. Именно поэтому, я сижу в кресле Великого Пастыря, а ты — напротив.
— Ну да, обиженный Стеценко потянулся за очередной порцией пьянящего напитка.
— «Просите — дано будет, молитесь — и услышаны будете, ищите — и найдете». Когда этот парень, этот, как ты говоришь, сопляк, прочитал свой опус… Я не поверил, нет, не ушам — такому везению. Воистину, мои мольбы достигли ушей Учителя. Мы искали повод, разрабатывали, как спровоцировать, создать ситуацию, а тут этот парень, не иначе ведомый напутствием Всеслышащего, сам, лично давал его нам, мне в руки. Да я был готов расцеловать его прямо на Майдане!
— И расцеловал бы. Зачем казнить-то? — устав тянуться за каждой порцией, пользуясь увлеченностью хозяина кабинета, Стеценко хозяйски придвинул графин к себе.
— Ты не понимаешь. Он — первое зерно, утренняя сирена с которой начнется новый день, новая эра. Мы осудим его, вывезем на Майдан, накалим ситуацию до невозможности, и вот тогда…
— Что тогда? — подумав, Стеценко отставил бокал, и отхлебнул прямо из горлышка. Кивнул, причмокнул, отхлебнул снова.
— Они сорвутся.
— Кто?
— Техники. Неизбежно. Словесно, или действиями. Главное — они дадут нам повод. У нас войска, власть, сила. Мы вычистим этот класс, укажем на истинное место, да так, что еще много поколений они будут бояться оторвать глаза от своих приборов.
— Не забывай, техники помогли Великому Пастырю Сонаролле прийти к власти, не забывай, как они это сделали. Что, если, как тогда… — высказал неожиданно трезвую мысль Стеценко.
Великий Пастырь залпом опрокинул в себя остатки вина в бокале.
— Не смогут! Зачем, по-твоему, я приказал прорезать дополнительные ходы.
Рука Пастыря потянулась за графином и… не нашла. Стеценко виновато смотрел на друга. В абсолютном диссонансе с глазами, рот счастливо улыбался.
***
Велико было горе истинных детей Божественного. Велико желание помочь оступившимся.
И зглянулся Учитель на истовые молитвы.
И ниспослал откровение…
Летопись Исхода
Глава 3. часть 4
— Отец наш небесный! Твои слова — мудрость. Деяния твои — вечность. Не померкнет в веках слава твоя! Раскрой глаза, прочисть уши заблудшим детям твоим. Донеси до умов правду слов твоих! Дай разум постичь замыслы твои, дай силы воплотить их. Не дай сойти с пути истинного, избави от искусов, деяний и слов неправедных! Слава!
— Слава!
Александр Сонаролла тяжело поднялся с колен. И без того худое лицо превратилось в череп, обтянутый пленкой кожи. Камни желтых глаз с хрустом вращались в глубоких глазницах.
Никий Гвана тихо подошел к Пастырю. Давно не мытые длинные волосы висели слипшимися худыми прядями.
— Мы взяли Протестов и Шиинов, все в камерах. Приходят в себя.
Сонаролла устало кивнул, опухшие веки скрежетали по шершавым камням.
Владимир Морозов, вознесшийся до председателя нового Совета, подошел к соратникам.
— Еще взяли?
Гвана согласно тряхнул сосульками волос.
— Кого?
— Протестов и Шиинов.
— Выходит животноводов и химиков, — Морозов вздохнул, через силу прогоняя воздух сквозь легкие. — У нас сидят пластмасники, пищевики, металлурги, теперь вот животноводы. Мы пока держимся, пока… инфраструктура нарушена. Люди должны работать!
— Как с едой?
К компании присоединились старшины аграриев и медиков — Пол Никитченко и Людмила Мотренко.
— Запасы пока есть, пока… половина моих — арестовано. Если они не выйдут и не приступят к работе…
Недосказанность оборачивалась безрадужными перспективами.
— Они упорствуют, в основной массе, мы применяем, гм, действенные меры, нам казалось, что действенные…
Недосказанность оборачивалась признанием бессилия.
— Вот если бы их лидеры, публично, при всех отказались от взглядов, пример остальным…
Недосказанность оборачивалась бесплотными мечтами.
— Они не откажутся…
Недосказанность вернулась к безрадужным перспективам.
— Отриньте прошлую жизнь. Прошлые неблаговидные, или благовидные поступки, грехи и достоинства. Отриньте прошлое, ибо оно — зло. Сомнения, страхи, воспоминания, которые заставляют страшиться — зло. Отриньте, бросьте их в топку новой, вожделенной жизни. Пусть их огонь распаляет в вас желание перемен!
Мотренко словно продолжала молитву. Глаза, широко открытые глаза смотрели на соратников и не видели их.
— Что, откуда это! — усталым коршуном встрепенулся Сонаролла.
— Речь Учителя, последняя, на Земле, перед отлетом.
И Никитченко подхватил эстафету медика, а за ним Гвана и Морозов…
— … сожгите вещи. Напоминающие о зле, они — зло! Не раздавайте, раздав их — умножите зло. Сожгите! И обновленным, очищенным, свободным начните новую жизнь! Жизнь, о которой вы так долго мечтали!
С каждым словом, каждой фразой морщины на лице Сонароллы разглаживались, оно светлело, озаряясь сиянием истинного знания. Знания, ниспосланного свыше.
***
Уважаемый Великий Пастырь, нижайше довожу до вашего высокого сведения, что Трибунал — сплошь гнездо еретиков и саботажников. На мои неоднократные доклады о еретических наклонностях моего соседа Рустама Кекуле — цех пластмасников, они никак не реагируют. Более того, не иначе в издевательство, прислали ко мне какого-то медика, по виду — еретика, чтобы он прочитал мне лекцию о болезни — лунатизм. Скверна и ересь пустила корни в самое лоно Матери Церкви. Никому нельзя доверять. Вполне возможно — остались только Вы и я. Дабы послание не попало в нечестивые руки, отношу его лично и подбрасываю под дверь.
С уважением, Леопольд Нульсен — преданный и верный сын Матери Церкви и Великого Пастыря.
Он помнил этот Майдан, он помнил этот помост.
В дни субботних Благодарений на главной площади Ковчега было не менее людно. Как и тогда, обилие радостных глаз, шумные приветствия, общение, которое норовили продолжить за столами с едой и — самое главное — выпивкой. Как и тогда — люди приходили семьями.
На этом сходство заканчивалось.
Обилие портретов Учителя, его собственных, стилизованных до потери сходства с оригиналом портретов резало глаз. Возгласы «Слава!», сопровождаемые ритуальными жестами. Важные представители Армии Веры, нетерпеливо постукивающие дубинками по раскрытым ладоням. Толстые прутья решеток, отделяющие Майдан от проходов, или проходы от Майдана. Он чувствовал себя заключенным, которого после длительной отсидки выпустили на прогулку. Иллюзия свободы, ограниченная колючим забором лагеря.
— О-о-о!
Шевеление и множественные крики в дальнем конце Майдана привлекли внимание.
— Что там?
Верные последователи, истовые ученики окружали Учителя плотным кольцом, окончательно усиливая сходство с лагерем.
— Адам Пушкин.
— Адам Пушкин? — знакомое имя. Имя из прошлого.
— Да, старик, якобы видевший Учителя живьем.
Теперь он вспомнил, да и как мог забыть. Адам — первый ребенок Ковчега. Он присутствовал при его рождении. Он и Ганнибал — отец мальчика. Сильный мужчина, прижатый криками маленькой рожающей женщины.
Черные мускулистые руки обхватили курчавую голову…
Как же давно это было!
В прошлой жизни.
И вот она — связь времен, имя, лицо из прошлого.
— Чудо, что мальчик жив!
Он сам не заметил, как произнес фразу вслух.
Верные последователи истолковали по-своему.
— Старику больше ста лет — песок сыпется. Последние годы врачи не выпускали его из палаты, а тут… на праздник.
— Ха! Наверное боятся — до следующего не дотянет.
— Я хочу увидеть… посмотреть…
— Учитель, это не совсем…
— Я увижусь с ним!
Он помнил его — кофейный младенец с любопытными глазищами-пуговками.
Конечно, младенца давно нет. Эммануил знал — старость не красит, но то, что увидел перед собой… мумия, пергаментная мумия. Мысли, чувства, воспоминания давно покинули это бренное тело. Лишь душа, крупица жизненной силы возрастным склерозом, стараниями врачей отчего-то задержалась дольше обычного.
И комар имеет душу.
Душа не есть личность.
Ибо личность давно умерла.
Трясущаяся голова на дряблой шее, бездумные глаза, возможно, просматривающие картины прошлого, возможно, обозревающие воронки царства смерти, но определенно не настоящее.
Люди подходили к мумии, дотрагивались до костлявой руки — пока живым мощам, и тихо отходили. Наверное, просветленные.
Эммануил не смог сдержаться. Назойливо шипели верные последователи. Подошел, дотронулся… заглянул в глаза.
— Адам, ты…
Проблеск воспоминания, искорка узнавания… безжизненные зрачки смотрели сквозь него, наблюдая недоступное, но никак не Эммануила.
Подталкиваемый нетерпеливыми паломниками, он тихо отошел.
Не узнал.
Он здесь чужой.
Чужой этому миру, этим людям, этому Ковчегу, и даже портретам на стенах отдаленно напоминающим оригинал.
— Он, это он!
Истошный вопль женщины взрезал ткань воспоминаний.
Женщина указывала на него.
Неужели узнала?
Неужели кто-то сопоставил портреты и смиренного паломника?
— Это он!
Ученики недоуменно вращали головами.
— Он, он! — кричала женщина. Вокруг Эммануила начало образовываться кольцо. — Я узнала! Еретик! Детоубийца!
«Что за?..»
Кольцо уплотнилось. Кольцо учеников.
Вернее, попыталось уплотниться.
Широкие спины умело оттеснили последователей Эммануила, другие спины умело скрутили их. Повалили на пол.
Кто-то предпринял попытку скрыться. Окружающая толпа спрессовалась до плотности монолита.
— Еретик!
— Детоубийца!
— Учитель, беги! — кричал с пола молодой человек. Вьющиеся волосы слиплись от пота, в глазах полыхало пожарище фанатизма.
Он не сдвинулся.
Не мог.
Не хотел.
Крепкие руки уже держали его.
Что Эммануил, Учитель испытал в данный момент?
Облегчение.
Саша Гайдуковский со товарищи выстаивали длинную очередь к цветастой карусели. Крики на противоположном конце Майдана на мгновение заглушили звуки праздника.
Что за?..
Снова дают пряники?
Вкусные пряники с начинкой!
Или началось представление?
Побежать!
А как же карусель — очередь почти подошла…
Дети терзались и мучались.
Им было тяжело.
***
Я стар, родилось от меня двенадцать сыновей, а от каждого из них по тридцать дочерей, и каждая сиреной воет. Кто я?
(Год)
Из сборника «Устное народное творчество»
Серый пластик стен.
Тусклый свет ламп.
Из мебели — кровать со старым матрасом, привинченная к полу.
Вместо дверей — решетка.
Что раздражало больше всего — охранник. Солдат Армии Веры, поминутно дефилирующий перед дверьми.
Юра попытался сложить строки, описывающие его состояние, мерную поступь армейских подошв… рифмы, предатели-рифмы в страхе бежали его головы. Счастливые. Рифмы не удержишь решетками.
Жалел ли он о своем поступке. Может… немного, хотя зарвавшихся священников давно следовало поставить на место.
Кому как не им — техникам. Единственным, способным разговаривать с церковниками на равных!
Единственно о чем Юрий Гопко действительно жалел — Рената не видела его в тот момент. Момент триумфа!
Куда подевалась девушка?
И Брайен?
Шевеление по ту сторону решетки сбило мысли.
Он почти привык, свыкся с отсчитывающими время шагами стража…
— Юра, ты здесь?
— Рената!
Слетев с кровати, Юноша кинулся к решетке.
Она здесь, пришла!
— Ну и кашу ты заварил!
— Брайен.
Отчего-то в этот момент он не очень обрадовался другу. Возможно, виной тому проклятая решетка, особенно то, что он по одну сторону, а они — по другую. Вдвоем…
— Как ты мог! О чем думал! — набросилась на пленника девушка.
— Я собственно… не думал…
— Очень на вас похоже. На мужчин!
— Постойте, ко мне же никого не пускают, даже родственников, каким образом?..
Рената хитро улыбнулась.
— Ты забываешь, я дочь священника. И не рядового священника.
— Видел бы ты, что она устроила в караулке. Настоящее представление, вплоть до жалобы отцу и угрозы Трибунала.
— Спасибо вам.
— Пустое, мы же ничего не сделали, просто пришли.
— Другие и того не смогли.
— Они не виноваты.
— Все это чудовищное, невероятное недоразумение, — затараторила Рента. — Тебя обязательно освободят, вот увидишь. Я поговорю с отцом. Он поможет. Обязательно поможет! Правда… сейчас он немного занят. Чуть ли не каждый день у них какие-то совещания…
— Все нормально. Я посижу. А что — кормят регулярно, делать ничего не заставляют. Компания, жаль, скудновата…
— Держись, старик, все образуется, вот увидишь, обязательно образуется.
— Не сомневаюсь, — Юра почувствовал, что краснеет. Совсем как в детстве, в редкие минуты вынужденного вранья родителям.
***
Произведено: сандалий человеческих — 1000 пар
Платья женского (фасон 4) — 600 шт.
Платья женского (фасон 2) — 300 шт.
Одежды мужская (серая) — 800 компл.
Униформа синяя — 100 компл.
Роба рабская — 3000 компл.
— Бей техников!
— Круши!
— Р-р-р!
Завал из мебели перегораживал коридор. Река рабов, бурля и взбрыкивая, полноводным потоком полилась на него. Похожее происходило на родине, у Рхата. Мутная река, прорвав что-то в недосягаемых верховьях, неслась вниз, сметая все на своем пути. Впрочем, вода быстро сходила, оставляя покореженные деревья и трупы.
Совсем, как здесь.
От завала, в сторону рабов засверкали лучи. Он помнил эти лучи по тому, роковому бою в деревне. И река схлынула, оставив после себя искореженные трупы.
— Все вместе, вперед! Смерть или свобода!
— Смерть или свобода! — дружно рявкнула река и полилась на очередной приступ.
Смерть или свобода.
Смерть была везде.
Свобода…
Трупы техников в синих одеждах, в безмолвном единении лежали в обнимку с трупами рабов.
Кое где попадались трупы людей, не техников. То ли борцов за свободу, то ли жестоких хозяев, под шумок поплатившихся за полузабытые грехи.
Свобода.
Равенство.
Братство.
Отдельно от других лежала растерзанная женщина. Кажется, жена главного техника. Длинные рыжие волосы разметались по полу. Смешавшись с кровью, они образовали бурые наросты, словно болезнь поразила вечно чистый пластик Ковчега.
Болезнь.
Зараза.
Поразила их всех.
И имя этой заразе… свобода?
Над бывшей хозяйкой стоял раб… бывший раб, кажется, это он впустил их к техникам.
Он просто стоял и смотрел.
И глаза его странно блестели.
Счастье?
Слезы?
Невдалеке от него несколько звероподобных рабов с клыкастыми мордами пировали над трупом техника.
Куски мяса, некогда ходившего, смеявшегося, влюблявшегося, радовавшегося жизни равнодушно исчезали в окровавленных пастях.
За печень техника между рабами произошла потасовка.
Недолгая.
Один из звероподобных упал с вырванным горлом, победитель же удовлетворенно отправил сочащийся кусок в ненасытный рот.
Свобода.
Техники сопротивлялись отчаянно. Если они и ожидали нападения, то уж никак — удара в спину. И того, что в столь важный момент останутся без своего страшного, любимого оружия.
К тому же рабов было много. Слишком много обозленных, отчаявшихся, готовых на все существ. Сомкнуть челюсти на горле врага, пусть за мгновение до собственной кончины. Ощутить вкус соленой влаги на губах. И умереть.
Счастливым.
Свободным.
Все-таки у нескольких техников оказалось оружие.
Вместе с десятком выживших, они сопротивлялись в конце коридора.
Рабов много.
Слишком много.
И вкус крови врага манит жарче самки, больше еды, сильнее жизни.
Рхат знал.
Он испытал это на себе.
Он тоже убивал. И зазубренное лезвие впивалось в шеи врагов, вспарывало синие животы, жалило сердца.
Он был почти счастлив.
Почти свободен.
Познал упоение боем, о котором слагалось столько песен. Обонял аромат победы. Испробовал вкус крови.
Вспоминая себя… Рхату делалось… противно, больно и… страшно.
Ужели он — Рхат Лун, тихоня Рхат способен на такое…
Ужели это он?..
Усталость навалилась неподъемной ношей.
Усталость и отвращение.
К себе.
К тому, что он, они сделали.
К свободе.
Боэта!
Едва первые рабы секторов прорвали оборону техников, соединившись с их отрядом, он ринулся искать девушку.
В такой-то неразберихе.
Вдруг кто обидит.
Ей нужна защита.
А он — воин!
Подтверждением статуса зазубренное лезвие сочилось кровью.
И он нашел ее.
Сжимая похожий на его нож, нежными милыми ручками, которые он так любил ласкать, Боэта вспарывала живот мертвому Хозяину.
— Рхат, свобода!
Тогда его вырвало.
В первый раз.
Потом тошнило еще не раз, словно не он часом ранее участвовал в кровавой бойне у арсенала.
Тошнило, пока желудок, как и голова, как и душа не опустошились.
Свобода.
***
Того могуществом умудрены поколения,
Кто оба мира порознь укрепил, сколь не огромны они,
Протолкнул небосвод он вверх высоко,
Двуединым взмахом светило толкнул и раскинул землю.
Ригведа. Гимн Варуне.
(Пер. Т. Елизаренковой)
«… пишу эти строки, не объясняя деяния — сделанного не воротишь, не растолковывая мысли — что хотел — сказал, и не в надежде на понимание — понимание подразумевает прощение, а мне не за что просить его. Во всяком случае, пока…»
Завитки букв ловко плели замысловатое кружево на канве бумаги. Складывались в слова, слова — в фразы.
Сюда, в дальние отсеки не долетали шумы жизни, жителей, лишь вечный гул корабля, почти родной, совсем незаметный там, нарушал одиночество полутемных переходов.
Здесь, в тусклом свете ламп, в компании гуляющего эха, создавалась иллюзия, что ты на необитаемом острове, один среди безбрежного моря звезд, один на один со звездами, а не на корабле, населенном тысячами индивидуумов.
Эммануил вернулся к письму. Перечитал. Для чего же он писал его? Словно самоубийца, в надежде оправдать поступок, либо оставить какой-либо след.
Аккуратно перегнул лист.
Его никто не видел, никто не последовал за ним. Возможно, люди все еще стоят на площади, раздумывая над последними словами. Еще не зная, не осознав, что они были последними.
Ковчег — большой корабль, здесь достаточно укромных уголков. В одном из них пряталась, похожая на гроб, креокамера.
Возможно, оправдывая схожесть, она станет таковой для него.
В таком случае — Эммануил надеялся — ее, их не отыщут, и холодная могила не станет местом поклонения и паломничества.
Сложенный листок он опустил в контейнер на боку креокамеры.
Быстро, словно боясь передумать, разоблачился.
Ладони непроизвольно обхватили плечи. Да, здесь, в неосвоенных секторах оказалось далеко не жарко.
Металлическая сетка пола заставляла топтаться на месте. Кляня проклятый холод, Эммануил выругался.
Смешно — через минуту он превратится в лед, возможно умрет, а его заботят холодные пятки.
Перепрыгивая с ноги на ногу, подгоняемый ознобом, а может, страшась отступления, забрался в камеру.
Ледяные пол и стены изголодавшимися кровососами кинулись тянуть из тела остатки тепла.
На сколько же поставить пробуждение? Лет на сто! Да, века должно вполне хватить.
Палец утопил кнопку.
Крышка камеры начала медленно опускаться.
***
«Они превращают Ковчег в рассадник разврата. Учитель, Учитель, глядя со звездного жилища, страдает. Любящее сердце обливается кровью, видя падение детей своих. Разве этому учил Всепрощающий! Разве ради этого мы покинули гнездилище порока — Землю!
Выбирай, с кем ты — отступниками и вольнодумцами, поправшими идеи, само имя Учителя, либо с истинными сынами и дочерьми Его!»
Опустился на колени техник, и увлажнились глаза, и протянул он дрожащие руки.
«С тобой, тобой, Пастырь. Ты — слово, и глаза, и дело Учителя на Ковчеге!»
Летопись Исхода
Глава 4. часть 1
Выцветшая синева куртки Техника кощунственно выпячивалась на сером пепелище кровати.
Еще одна синева нарушала тлен серости. И синевой этой были глаза техника. Впервые за столько лет, Сонаролла разглядел их цвет. Цвет безоблачного неба. Неба, которое они уже никогда не увидят.
Под немигающим взглядом небесной синевы, Пастырю неожиданно сделалось неуютно.
— В данный момент… — предатель голос разлаженным органом неожиданно взлетел к высоким нотам.
Сонаролла откашлялся. Сапфиры глаз продолжали сверлить его.
— В данный момент… — заготовленная, написанная в муках и в еще больших муках выученная речь цеплялась зубами, драла острыми когтями, обогретым котенком не желая покидать уютное горло.
Речь, как и Сонаролла, испугалась небесно-бездонной голубизны глаз.
Она должна была взбираться на осыпающиеся остроги крутых гор, описывая ужасающее прошлое, пройтись по шаткому подвесному мосту настоящего, растечься кисельной рекой более чем светлого будущего, подняться густым туманом, заслоняющим вожделенную реку и, наконец, подойти, подплыть, подползти к главному.
Это была отличная речь, лучшая речь, бриллиант среди речей. Отзвуки ее будоражили бы нерушимые, как мир стены Ковчега, слова, подправленные учебниками, цитировались бы поколениями желающих блеснуть ученостью…
Всякой речи, как никому другому, свое место и время. Произнесенная в сочетании этих факторов, она остается веках, но та же речь, сказанная минутой позже, живет не дольше времени произнесения.
Серая каюта, голубые глаза — было место и время. Триумф речи, звездный час, минута славы…
Всего этого речь не хотела. Ей было уютно и тепло в шершавом горле. Ей было проще не вылезать.
Усилием воли Сонаролла попытался обуздать строптивицу, и речь неожиданно послушалась. Но по своему. Самый конец, суть покинула утробу горла, дабы изменить мир.
— Утилизатор… люк на Майдане… прощаясь с покинувшими нас, мы опускаем трупы в него…
Небеса глаз внимательно изучали каждое слово, давили всепонимающей синевой. Но речь уже осмелела.
— Если… живого человека… сильно мучиться?
Голубизна должна была налиться предгрозовой синевой, против ожидания, она осталась неизменна.
— Нет. Зачем вам?
— Все, что хотел услышать. Все что хотел.
***
Умер Адам Пушкин. Торжественная кремация состоится в воскресенье, после аутодафе.
Он шел.
Протискиваясь и толкаясь.
Обгоняя и дыша в спину.
Сам.
Отец привычно протянул ладонь. Движением головы Саша отказался.
Он сам.
Не пристало взрослому идти по коридору, держась за руку.
Он — взрослый!
Пару раз его толкнули.
Столько же — он.
Взрослый!
Лампы светили ярче обычного, серые одежды поражали обилием оттенков, пластиковые стены с кляксами заветов радовали яркостью красок.
Взрослый!
Сегодня — воскресенье — день казней. Сегодня отец Саши встал раньше обычного и сказал — он пойдет на казнь!
Казнь! Казнь!
Мать была против, но отец сказал — он, то есть Саша — уже взрослый. Должен стать мужчиной.
Взрослый! Взрослый!
Звуки подпрыгивали, кружили вокруг головы, шумели в ушах, складывались в песню, песню из повторяющихся слов.
Взрослый. Мужчина.
Саша представлял, как он придет сегодня к коровнику — месту обычного сбора — и на вопрос друзей: «Где был?», — небрежно ответит: «На казни».
Тимур обзавидуется — ведь он старше Саши на пол года, а ни разу не видел казни. А задавака Андрей умрет от зависти, вместе со своим отцом-техником.
Потом он начнет рассказывать, в подробностях, а они будут просить рассказать еще и еще, и так до следующей недели. Следующей казни, на которую он тоже пойдет, ведь он — взрослый!
Мужчина!
Множество людей, как и он, двигались в одном направлении — к Майдану.
Едва не сворачивая шею, до рези в глазах, Саша вглядывался в лица.
«Учитель, миленький, пожалуйста, пусть попадется хоть один, хоть какой-нибудь знакомый. Лучше Тимур с Андреем, но, если не они, можно и жадину Нолана, или Кэнона, на худой конец — малолетку Чипа! А, Учитель?»
Он свернул в широкий коридор. В конце — долгожданно распахнутые решетчатые ворота с парочкой скучающих армейцев. А за ними…
Различные на подходах, там, за воротами, непостижимым образом одежды, люди сливались в сплошную серую массу.
Саше внезапно сделалось страшно. И лампы светили здесь не так ярко.
Судорожно нащупав шершавую ладонь отца, он изо всех сил сжал ее своими ручонками.
Ему повезло. Широкие плечи отца прочистили путь почти к самой решетке.
Шеренга бойцов Армии Веры замерла перед ними. Протяни руку — дотронешься. Саша отчетливо видел каждую складку на отутюженной униформе, каждую дырочку, потертость на кожаных ремнях… кроме этого не видел ничего.
Отец все понял и взял сына на руки.
Не пристало взрослому, да еще — мужчине сидеть на руках отца… любопытство было превыше гордыни.
Старые знакомые — помост, люк Утилизатора. Сколько раз видел, сколько играл здесь… сегодня они наполнились особым смыслом… Александр почесал затылок, да, особым. Каким, пока неясно.
Когда он уже начал скучать, толпа загудела.
Оно! Началось!
На площадку начали выходить священники. Наряженные, как на праздник.
Хотя Саша и ждал этого, ждал с нетерпением, внезапно сделалось страшно. Более того, захотелось слезть с отца и спрятаться за широкую спину.
Мужчины так не поступают!
Они мужественно, не ерзая, сидят на руках. До конца!
— А-а-а! — взревела тысяча глоток.
Мало что понимающий Саша закричал вместе со всеми.
Человек.
Вслед за священниками, конвоиры вывели человека.
Человек споткнулся. Высокий расписной колпак сбился, обнажив синяки под глазами, ссадины, разбитые до ран губы.
— Еретик!
— Убийца!
— Сдохни!
Это — еретик?
Для лучшего обзора, Саша вытянул шею и прикусил язык.
Хвоста — нет, рогов тоже. Человек как человек. Побитый. Даже немного жаль.
Толстый священник забрался на помост под люком и что-то закричал высоким писклявым голосом.
Саша был разочарован. Он ожидал страшилище, а увидел… может, это не совсем еретик, или… самый захудалый из них?
Толпа за спиной ревела и улюлюкала, встречая каждое слово толстого приветственными криками.
Александр не смотрел на них. Он смотрел на еретика. Еретик смотрел на людей внизу. Побитые губы двигались. Кровавые раны складывали слова. Одно слово. Саша отчетливо услышал его, словно стоял рядом.
— Простите.
Кажется, толстый закончил.
Плечистые армейцы, подхватив под руки, потянули еретика к люку.
Саша не заметил, когда крышка того успела открыться, обнажив черный зев.
Не останавливаясь, конвоиры поднесли казнимого к дыре и бросили в нее.
Толпа взревела.
Разочарованный мальчик недоумевая крутил головой.
Он уже стал мужчиной?
***
Без ответа не в пользу и Заветы.
Из сборника «Устное народное творчество»
Майдан был заполнен до краев.
Казалось, пришли все обитатели Ковчега. Может, оно так и было. Во всяком случае, Великий Пастырь Авраам Никитченко давно не видел такого скопления народа.
Головы, головы, головы.
Людские головы.
Лысые и заросшие, длинноволосые и стриженные, в головных уборах — от тюбетеек до платков — и без.
Море голов.
Узкий редут волнорезов, отделяющих бушующее море от берега, где обосновались священники, образовывали две шеренги солдат Армии Веры.
Плечом к плечу. Дубинки нервно подрагивают в потеющих руках.
Авраам Никитченко никогда не видел моря. Видеозаписи, старые фильмы не передавали, не вызывали и десятой, сотой доли тех ощущений, эмоций, которые рождала бесконечная голубая стихия в душах землян. Он читал стихи и не понимал их, перелистывал романы и недоуменно пожимал плечами.
Что может быть романтического, завораживающего в огромном количестве воды?
Теперь, перед лицом иного, но тоже моря — моря человеческих голов. Стихии, на первый взгляд спокойной, даже успокаивающей, но в любой момент готовой вырваться, прорваться, проявить буйный нрав, выплеснуть скрытую мощь, дабы в безумии ослепленного смести все на своем пути: солдат, Пастыря… о-о-о — он — Великий Пастырь Авраам Никитченко понял слова Заветов: «Понимание сродни знаниям — приходит с опытом; в отличие от знаний — воспользоваться им зачастую поздно».
И хотя в море голов каждый двадцатый был либо переодетым солдатом Армии Веры, либо тайным осведомителем Высокого Трибунала, спокойствия это не прибавляло.
Авраам Никитченко слегка мотнул головой, отгоняя подобные мысли. Сегодня особый день! Прочь сомнения, страхи! День его триумфа и триумфа Матери Церкви!
Недальновидные глупцы внизу думают — они пришли просто на казнь.
Нет!
В свое время Авраам Никитченко изучал историю. Историю Земли, цивилизаций, историю Церкви, неотделимую от человечества. Сейчас, глубины памяти выдали словосочетание, аналогию как нельзя подходящую к моменту.
Крестовый Поход!
Именно!
Он — Великий Пастырь, мало что понимающие люди внизу, солдаты Веры и даже озлобленные техники присутствуют именно при зарождении, начале Крестового Похода.
Вооруженной борьбы за Святое Дело.
Разряженный Совет Церкви в полном составе сидел здесь же. Рядом с Великим Пастырем. Ближайшие соратники. Закадычные враги. Даже они не понимали, или недопонимали всего творящегося на Майдане. Под люком. Истории! Легенды! Так уж получилось — их история неизменно связана с Утилизатором.
Море загудело, совсем как в фильмах, людскими головами пошла рябь. Плотнее сжались плечи солдат Армии Веры.
Великий Пастырь знал, что произошло.
Он даже не повернул головы.
Вывели заключенного.
Необычно выпрямленный и необычно бледный юноша стоял между солдатами.
Авраам помнил эти глаза, когда наглец читал свои стишки. Уже не так блестят. А скоро потухнут навеки.
Юрий Гопко. Имя отчего-то врезалось в память.
Скоро оно исчезнет, вместе с обладателем. Растворившись в десятках имен жертв Крестового Похода.
Жертв не помнят.
Помнят победителей!
А победитель он — Авраам Никитченко.
— Смерть!
— Смерть еретику!
По замыслу, крики шпионов должна подхватить толпа, скандируя в едином порыве.
И величайшие замыслы терпят крах.
Толпа молчала. Мало того — не двигалась. Из неспокойного моря, превратившись в монолит.
Всему свое время.
Еще будут. Кричать. Скандировать. Проклинать.
Всему свое время.
Вперед выступил Ритор.
— За нарушение канонов Матери Церкви. За порочащие ее публичные высказывания. За мысли и действия, признанные еретическими. Юрий Гопко — цех техников, ученик, приговаривается Высоким Трибуналом…
— Остановитесь!
Крик, как падение предмета в абсолютной тишине.
Вздрогнули зрители. Вздрогнули первосвященники. Вздрогнул и замолчал Ритор. Вздрогнули даже обученные солдаты Армии Веры.
Не вздрогнул один Великий Пастырь.
Он ждал, более того — молил Учителя об этом крике.
И крик раздался. Очередное доказательство святости дела.
Море разошлось. Где-то Пастырь читал о подобном…
На образовавшемся пяточке, один в поле возвышался Этьен Донадье — старшина техников.
— Отпустите его!
Этьен, Этьен. Близкий друг, лучший враг.
Все идет, как по писанному. Жаль, окружающие глупцы не понимают, не знают режиссера.
Ничего, еще поймут, узнают, оценят.
— Нет.
Авраам даже не сдвинулся с места и не повысил голос. Еще придет время потрясания кулаков и громового крика.
— Отпустите! Последнее предупреждение!
А вот это интересно. Угроза. Не совсем по сценарию, но тоже ничего. Невозможно же требовать от актера дословного следования пьесе, которую он даже не читал.
— Предупреждение! Мне — Великому Пастырю, нам — цвету Церкви! — здесь можно и подняться, и голос повысить. — Да как смеешь ты! Ты!
Авраам Никитченко видел, как напряглись капитаны Стражи, ловя каждый жест патрона. Преданные люди заняли положенные места не только в толпе, но и в секторах — у жилищ техников.
Рано.
— Арестовать его!
Нарушая мол волнорезов, к Донадье двинулось пол десятка фигур с дубинами.
Словно по волшебству, море родило пол десятка мужчин в синих одеждах. Жидкий индиговый строй замер перед руководителем. Жалкая преграда.
Все шло даже лучше, стремительнее, чем он предполагал.
Вот теперь пришло время заветного жеста.
И слов.
— Арестовать их всех!
Засуетились армейцы.
К месту предполагаемой схватки начали усиленно пробиваться неприметные люди. Их соратники уже брали в плотное кольцо редкие синие островки…
Защитники Донадье подняли небольшие темные палки.
О-о! Овцы, оказывается, готовились, отращивали клыки. По примеру Армии Веры обзавелись дубинками. Слабое утешение против тренированных бойцов, но так даже интереснее.
Из дубинок вырвались лучи. Неяркие, тонкие, как карандаш. Лучи на миг соединили концы дубинок с телами солдат.
Остро запахло паленым мясом.
Схватившись за те места, куда упирались лучи, солдаты упали.
— Что за?..
Сдвинулись с места оставшиеся воины. Глаза блестят, рты перекошены, руки занесены для ударов.
И снова лучи.
Причем, не только вокруг Донадье, но и в толпе.
Запах мяса становится почти нестерпимым.
Около десятка солдат падают… Замертво?
Толпа рождает крик, он идет, набирает обороты, силу…
Солдаты, верные армейцы в недоумении останавливаются. Несколько отчаянных смельчаков с возгласами кидается на техников и падает. Мертвыми. С перекошенными ртами. В груди — обугленные дыры. Вот откуда разит жаренным.
Выверенный сценарий, отрепетированная пьеса дает сбой. Актеры несут отсебятину, статисты выходят на авансцену, чтобы родить длинные монологи, оркестр, вместо положенного набата, играет польку, в такт которой приплясывают декорации.
Откуда?
Как?
Почему?
Учитель, я же служил тебе! Как ты можешь спокойно смотреть на такое!
Откуда эти дубинки, рождающие лучи? И что за лучи? Не иначе сам Нечистый надоумил синеробых!
Учитель! Если ты есть, самое время вмешаться! Помочь истинным слугам твоим!
В исступлении отчаянного, Авраам делает знак конвоирам.
Мальчишка!
Из-за тебя все началось!
Ты поплатишься!
Когда свобода так близко!
Ты не увидишь собственного триумфа!
Мы тоже можем палить мясо!
Растерявшийся Ритор рассеянно тянется к кнопке открывания люка.
Но что такое?
Пленник радостно улыбается.
Вместо рослых фигур солдат, рядом, ненавистные синие одежды!
Не-е-ет!!
Прокляты!!
Будьте вы прокляты!
Медленно, но уверенно расползаются Первосвященники.
В числе первых — верный Стеценко.
Трусы!
Предатели!
— Люди! — Великий Пастырь воздел руки. — Люди! Нечистый вырвался на свободу! Завладел неокрепшими душами братьев ваших! Восстанем же! Защитим Мать Церковь! Не отдадим на поругание! Все вместе!
Точно. С толпой, с разбушевавшейся стихией, им не справиться, будь у них хоть трижды лучи.
Тишина.
Как перед казнью.
Как перед бурей.
Хорошо.
Не все потеряно.
Еще поборемся.
Авраам открывает глаза.
Море, безликое море неожиданно обрело индивидуальность. Лица. Десятки, сотни лиц. Таких непохожих. Но… родня, вновь обезличивая в колышущуюся серую массу, на десятках, сотнях таких разных лиц… выражение. Размноженное, словно в поставленных друг против друга зеркалах.
Счастье.
Авраам Никитченко — Великий Пастырь никогда не думал, что счастье может быть столь ненавистно.
— Будьте вы!..
Смех.
Зародившись редкими хихиканьями в задних рядах, словно эпидемия, он расширялся, набирал силу, обороты… и вот уже весь Майдан — единый как никогда — хохотал охваченный веселящим безумием.
Что почувствовал Великий Пастырь в этот момент?
Нет, не ненависть.
Опустошение.
Как они могли. Вот так, легко. В один момент. Отступить от веры. Это же их вера. Пращуры ради нее взошли на Ковчег. Знали бы, что неблагодарные, оглупевшие потомки…
— Свобода! Конец власти святош!
Великий Пастырь обернулся — Этьен Донадье, старшина техников забрался на самый верх, на помост, приготовленный для казнимого, к люку Утилизатора.
И откуда только ораторский талант взялся.
— Прогресс не остановишь! Свобода и равенство!
Вот так творится история. Лет через сто, под карандашами хроникеров, эта речь расцветет бриллиантами метафор и перлами оборотов. Убийство нескольких солдат обретет черты долго вынашиваемого, далеко идущего, не обсуждаемо гениального плана. Имена Этьена Донадье, Юрия Гопко станут нарицательными. Кто знает, возможно в пантеоне нарицания отыщется место и для Авраама Никитченко. Мечта исполнится. Он останется в веках. Учитель! Тебе не чуждо чувство юмора.
— Казней больше не будет! Никогда!
Майдан машет руками и кричит: Ура.
— Отныне и навеки! Мы будем жить мирно и счастливо!
***
Суббота — без происшествий.
Они называли это место — Майдан.
Рабам на Майдане, кроме как возле люка Утилизатора, нет места.
Майдан был заполнен.
Под завязку.
До отказа.
Рабами.
Победителями.
Массой.
Масса ликовала и улюлюкала.
Махала руками.
Обнималась.
Радовалась.
И выступала.
— Победа! Полная и безоговорочная победа! — с помоста, под люком Утилизатора, вещал Брайен Гайдуковский.
И иззубренный в стычках нож качался в такт великим словам.
— Да-а-а! — взревела тысяча глоток, и тысячи ножей ощетинились иззубренными лезвиями.
Гайдуковского оттеснил другой Хозяин.
— Свобода! Свобода и равенство!
— Да-а-а! — взметнувшиеся лезвия пригрозили далекому потолку.
— Старикам почет!
— Почет! — соглашались потрясатели лезвий.
— Все равны!
— Равны!! — и лезвия — символ равенства — отбросили тысячи одинаковых бликов.
Хозяева, их было мало. Десяток человек на помосте, да испуганные крохи, жмущиеся к стенам Майдана.
Конец тирании Техников. Это делалось и для них, для Хозяев — жителей Ковчега.
Потом поймут, осознают, прочувствуют.
Плакать станут от благодарности.
— Отныне и навеки! Мы будем жить мирно и счастливо!
— Мирно, — подтверждали лезвия.
— Счастливо, — соглашались их хозяева.
Свобода!
— Плодитесь, размножайтесь, рожайте кого вздумается, сколько вздумается, никаких запретов! — новый, неизвестно какой по счету Хозяин обрисовывал перспективы светлого будущего.
— Размножаться! — лезвия качались стальными фаллосами.
Стоящая рядом с Рхатом Бэта кинулась ему на шею.
— Дети! Рхат, ты слышишь, у нас будут дети!
Засохшая корка крови растрескалась вокруг улыбающегося рта.
Дети, да дети.
Отчего-то Рхату, в момент всеобщего счастья и ликования, было не очень хорошо, и совсем не радостно.
Глупый.
Свобода.
На пульте, далеком пульте забытой рубки Ковчега, выстроились в ряд три неприметные лампочки.
И одна из них горела.
Зеленая?
Оранжевая?
Красная…
КОНЕЦ



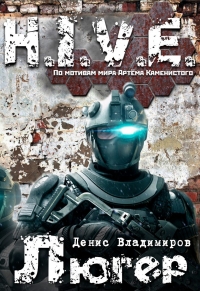







Комментарии к книге «Пути Господни (СИ)», Руслан Владимирович Шабельник
Всего 0 комментариев