Олег Николаевич Верещагин
Клятва разведчика
На экране я вижу
Бегущих солдат.
Я б сумел им помочь!
Погибает отряд,
Не хватает бойцов…
Мне бы ринуться в бой!
Но меня еще нет
Над усталой землёй.
Для того, чтобы мне
В этом мире расти,
Надо было сначала
Россию спасти…
Л.Родионов1
Из‑под открытого передка «газели» валил пар пополам с дымом. Пассажиры напряжённо наблюдали, как водитель, исполнивший около двигателя ритуальный танец, отступился с обиженным выражением лица – и угрюмо заворчали, когда он сказал:
– Всё, часа три простоим, не меньше.
Кто‑то подал реплику в том смысле, что это не лучшее начало дня и задал вопрос – мол, что теперь делать? Для водителя, похоже, подобной проблемы не существовало. Он пожал плечами:
– Я чиниться буду, вы город посмотрите. Вон там кафе есть. К одиннадцати, – он взглянул на часы, – подходите сюда и поедем… – он задумался и добавил не‑что, не внушавшее оптимизма: – На крайняк я сменку вызову, доедете…
Пассажиры начали расползаться. Некоторые отправились под навес с гордой надписью:
АВТОВОКЗАЛ П.Г.Т. БРЯНДИНО
Большинство и правда поползли в сторону призывно краснеющего навеса летнего кафе, лениво обсуждая, есть там пиво, почём и какое. Глядя им вслед, я довольно громко сказал:
– Мы не скорбим от поражений
И не ликуем от побед.
Источник наших настроений:
Дадут нам водку, или нет?
Никто не оглянулся, и я пошёл в сторону, где начиналась улица посёлка.
Через двадцать минут я совершенно точно знал, что:
– ничего более типичного для русских посёлков, чем это Бряндино, нет;
– взрослое население отсутствует по причине жары;
– детское население представлено двумя пацанами, моющими велосипеды у колонки;
– собакам жить настолько скучно, что они даже не брешут;
– до реки три километра (это сказали те самые пацаны), и народ в основном там и обретается;
– зелёные насаждения вдоль улиц недавно (пеньки свежие) попилил какой‑то идиот по чьему‑то идиотскому приказу;
– этих улиц восемь и они расположены клеткой 4х4 в неимоверную длину.
ВСЁ.
Мне стало скучно. Оставалось только идти в кафе, сидеть, есть мороженое и слушать, как все, обливаясь потом, ругают правительство, США, шофёра, молодёжь, погоду и Сталина, поглощая при этом дикое количество пива и матерясь так же скучно, как скучны здесь улицы. Меня, собственно, никто особо не ждал и не имело принципиального значения, когда я прибуду в облцентр – в полдень или в десять утра. Да и остальных, так жаловавшихся на опоздание, не ждали никакие серьезные дела – разве что добывание очередной порции ставших смыслом жизни зелёных бумажек, которые они почитали основой основ…
Я в третий раз прошёл мимо разлапистого храма, гордо вознёсшегося возле общественного туалета и раздрызганного клуба – и вдруг заметил в глубине тупичка между клубом и храмом небольшое зданьице старинной постройки, флигель, в которых во времена Российской Империи любили селить приезжих гостей и доверенную прислугу. На флигеле висела старая табличка и, помедлив, я направил туда свои стопы.
Ну конечно же. Табличка гласила:
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ П.Г.Т. БРЯНДИНО
А ниже – что‑то насчёт Министерства Культуры и того, что музей работает ежедневно без перерывов с восьми утра до шестнадцати ноль‑ноль.
Это уже было интересно. Именно в таких вот музеях я встречал самые замечательные экспонаты, на которые стоило бы просто обязывать смотреть людей… Но ходить по таким музеям было тягостно. Пустые, со следами дешёвого ремонта, тихие, словно смертельно больной человек, осознающий свою болезнь, они держались как правило благодаря самоотверженному энтузиазму фанатиков‑хранителей, всё ещё надеявшихся: вот сейчас власть образумится, не может же она не понять, что… и так далее.
Я оглянулся. Сквозь деревья за туалетом хорошо было видно яркую крышу кафе.
Нельзя презирать людей, среди которых прожил тридцать лет. И я их не презирал. Временами я их ненавидел. Уже просто за то, что никто из них и не подумал отойти от вокзала – просто чтоб посмотреть новое место…
Вздохнув, я поднял руку и позвонил.
В глубинах музея раздался тихий перезвон. Я стоял и думал, кто мне откроет. Вариантов было три, все – интересные и печальные, как сами провинциальные музеи.
– старик‑краевед, всезнающий и обречённо‑спокойный от мысли, что ЭТО никому не нужно;
– пожилая женщина, подрабатывающая здесь для прибавки к пенсии;
– молодой мужчина с горящими глазами, увлечённый историей родного края и не на жизнь а на смерть сражающийся за нее с поступью ХХ1 века.
Я не услышал шагов и поэтому слегка подался назад от удивления и неожиданности, когда дверь мне открыл подросток.
В наше время с этим путаница. Восемнадцатилетних дылд называют «мальчиками», пятнадцатилетних парней – «детьми», десятилетних пацанов – «подростками»… Всё зависит от того, кто и для чего употребляет эти слова. Надо, например, выплеснуть очередную порцию грязи на армию – говорим о «несчастных мальчиках». Надо заставить читателя пролить слезу над судьбой юных зэков – пишем о «детях за решёткой». Надо убедить власти в том, что в двенадцать лет человек готов для половой жизни – находим учёного, у которого дети превращаются в «подростков». В дни моего детства всё было разграничено чётко: до 14 лет – мальчик, до 18 лет – подросток, потом – юноша. Так вот это был именно подросток, лет 15. Высокий, коротко стриженный, но со светло‑русой чёлкой, узколицый, сероглазый и сильно загорелый, он был одет в широкие шорты, подпоясанные ремнём с массивной пряжкой и свободную рубашку защитного цвета. Правую руку от запястья до середины предплечья закрывал кожаный напульсник. На меня смотрел внимательно и без любопытства, а я настолько растерялся, увидев его, что тоже молча пялился. Первым нарушил молчание он:
– Вы хотите осмотреть музей? – не то чтобы вежливо, скорей безразлично, спросил он меня.
– Вообще‑то да, если можно.
– Цена билета – десять рублей взрослый, пять – детский, – просветил он меня. Я удивился:
– А что, к вам и дети ходят?
Он не ответил. Ясно – глупый вопрос. Около кафе – два игральных автомата, а пятак – это ж шанс сунуть его в щель и ждать: вдруг хозяин «игрушек» оказался лохом и сейчас на тебя упадут десять тысяч?!
– Экскурсия – по цене детских билетов, но с оплатой экскурсовода, пятьдесят рублей, – продолжал он, как‑то странно меня разглядывая, непонятными глазами. – Если желаете сфотографироваться с экспонатами – снимки «поляроидом», десять рублей штука.
– Да нет, спасибо, – ответил я. – Уж сам как‑нибудь…
– Проходите, – он посторонился…
…Внутри флигель оказался не маленьким – шесть комнат! Как объяснил мне единственный, судя по всему, обитатель музея – четыре комнаты уже сейчас заняты экспозициями, а ещё в двух неразбериха и бардак, потому что музей недавно переехал. Я хотел спросить – откуда, но вспомнил гордую церковь и сразу сообразил. Конечно, духовность народа сильно поднялась от того, что экспонаты – молчаливых свидетелей прошлого – свалили в комнаты флигеля, а здание «вернули законным хозяевам». Судя по количеству и весу нательных крестов на жирных грудях и над голыми пупками, у нас в самом деле расцвет нравственности… Очевидно, что‑то такое отразилось на моём лице, потому что парень, отрывавший мне билет (я обратил внимание, что использованных там совсем мало), сказал вдруг:
– Мы потихоньку разгребаемся – дядя Лёша и я. Но рук не хватает…
– Дядя Лёша – это смотритель? – уточнил я. Парень кивнул: – А у тебя что, такая школьная практика?
– Нет, – он снова замкнулся. – Мне просто нравится… Проходите, – и он впереди меня ушёл в те комнаты, где надо было «разгребаться».
А я побрёл по комнатам.
В двух оказалась очень неплохая выставка фауны и флоры, сделавшая бы честь и областному музею – если не размерами, то подбором, расположением и ухоженностью экспонатов. В одной – самой большой – были представлены экспонаты на тему «Наш край с древнейших времён по годы Великой Отечественной Войны». Тут я подзадержался, думая, что с удовольствием лично вышвырнул из соседнего здания весь мишурный новодел, чтобы поместить там предметы, лежащие в горках и витринах, куда более древние и даже просто намного более ценные в чисто материальном выражении.
Очевидно, современность и ещё что‑то должны были быть представлены в последних двух залах, ещё не оформленных – ну в четвёртый занимала война.
Грешен – не люблю бывать в таких залах. Они везде одинаковы. Медали и ордена, германские каски и противогазы, корпуса гранат, документы, листовки… Правда, через эти места война прошла здорово, экспозиция была побогаче, но не выходила за пределы указанной темы. Я всё‑таки побродил туда‑сюда, привычно определяя предметы. Постоял перед витриной с холодным оружием. По соседству находилась другая –
« ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В НАШЕМ КРАЕ В ПЕРИОД ОККУПАЦИИ»
Я перешёл к ней, подумывая, что стоит всё‑таки сделать по соседству с десяток снимков и оставить еще рублей пятьсот музею, как дар. Не замылил бы этот отрок только – ну ничего, заставлю при себе оформить бумагу.
В правом нижнем углу витрины лежала жестяная коробка из‑под печенья – старая, по возрасту ей самое место по соседству, а не здесь. Она была вскрыта, даже распорота скорее. А рядом лежали четыре пионерских галстука – неожиданно яркие сатиновые треугольники, расположенные веером, потёртые, подштопанные, разлохмаченные. Отпечатанная на компьютере (!) табличка гласила:
«Найденные недалеко от деревни Кабанихи галстуки юных бойцов с оккупантами. Предположительно принадлежали разведчи‑кам партизанского отряда „Смерч“ Саше Казьмину, Юле Маковец, Же‑не Стихановичу и Боре Шалыгину, пропавшим без вести при выпол‑нении боевого задания в сентябре 1942 года. Найдены Б.Ю.Шалыгиным и переданы в музей 14.07.2004 года.»
Я перечитал фамилии. Шалыгины… Похоже, кому‑то из потомков повезло найти галстук предка. Интересно, сколько содрал за находку… И тут я обратил внимание на одну интересную в своей странности вещь – четвертый галстук, лежавший под всеми остальными. Он был такой же, как остальные – потёртый и поношенный. Но – зелёный . Это не сразу замечалось – освещение было скверным, галстук лежал, как уже было сказано, под остальными.
И всё‑таки он был зелёный, как листва на дереве.
Я пошёл искать того парня.
Он разбирал завал в комнате по соседству и воззрился на меня с некоторым нетерпением. Я кашлянул, кивнул в сторону двери и спросил:
– Не можешь кое‑что объяснить? Я… э… заплачу, как за экскурсию.
– Пойдёмте, – он поднялся легко и быстро. А пока он сидел, я заметил под самой задравшейся левой штаниной шортов, на внешней стороне бедра, белёсое пятно с двухрублёвую монету размером. Ожог, что ли? Или… да нет, откуда… – Что вас интересует?
– Это, – я первым прошёл к витрине. – Я сам носил такой несколько лет. И точно знаю, что в годы Великой Отечественной галстуки были красными.
Мальчишка, рассматривавший галстук в витрине, быстро поднял на меня глаза и так же быстро опустил.
– Что нашли, то и выставили.
– Я понимаю, – терпеливо сказал я. – Но это странно. Ты уверен, что это не подлог?
– Зачем? – удивился он, пожимая плечами. – Не сенсация, славы на этом не сделаешь.
– Ну, верно, – согласился я. – Может быть, ошибка?
– Нет, – он снова мельком посмотрел на меня. Помедлил. – Я сам нашёл эти галстуки.
– О! – оценил я. – Погоди… Тут написано – галстук Бори Шалыгина… И ты – Б.Ю. Шалыгин… Это твой дед, прадед?
Он в третий раз поднял глаза и уже не опустил их, внимательно и пристально разглядывая меня. Потом вдруг спросил:
– Вы кто?
– Я? – вопрос и его тон меня ошарашили. – Ну… Был военным, три года уже работаю учителем…
– А вы здешний? – продолжал он допрос.
– Нет, я тут проездом… Это имеет значение?
– Не знаю, – он пожал плечами. – Просто вы первый, кто на это обратил внимание… Большинству всё равно, а дядя Лёша считает, что это какая‑то ошибка.
– А что это? – почти требовательно сказал я. Глаза парня стали сердитыми.
– Зачем вам это? – спросил он.
– Хотя бы затем, что я заплачу за экскурсию, и ты должен удовлетворять моё любопытство.
Он опустил глаза. Усмехнулся. Повёл плечами. Посмотрел в окно.
– Ну хорошо, пойдёмте… Только… хотя ладно, всё равно.
Как загипнотизированный, я прошёл за ним в маленькую комнатку офисного типа – через незаметную дверцу из коридорчика, где стоял стол, у которого я покупал билеты. Там стоял компьютер, ещё что‑то; на вешалке болтался планшет из рыжей кожи, вопиюще несовременный. Борис полез в него, достал бумажник и, открыв его, вытащил чёткую чёрно‑белую фотографию, относительно новую, хотя и потёртую по краям. Молча протянул мне.
Я её удивлённо взял. На фоне большого стога были сняты четверо подростков военного времени – что это настоящий снимок, сомнений не было, не подделать сейчас ни позы, ни выражение лиц, ни качество снимка, как ни старайся. Скуластый курносый паренёк в солдатской форме, сидя на земле, растстелил на колене портянку и, что‑то вытряхивая из сапога, смотрел на одетую в шаровары и рубашку девчонку, перебросившую на грудь косу; девчонка смеялась. К стогу привалился худощавый мальчишка в кепке, кожаной куртке и потрёпанных брюках – он смотрел в небо и грыз соломинку. Сбоку на корточках пристроился почти по‑современному одетый третий мальчишка – в широком камуфляже и высоких ботинках; он, кажется, что‑то спрашивал у скуластого. На шеях у них и правда были галстуки, только цвет неразличим.
– Это они и есть, которые пропали? – с интересом спросил я. – Ты нашёл там же, где и галстуки? А почему…Ничего себе! – вырвалось у меня. – Это твой дед?! Как похож!
Действительно, мальчишка в камуфляже был похож на моего странного экскурсовода, как две капли воды – ну, разве что чуточку младше. Я продолжал:
– Но погоди… Если он пропал, когда ему было столько лет, то как же ты на свет‑то появился? Или он не погиб?
– Он не погиб, – сказал мальчишка. – Только мой дед не воевал, а прадед в это время сражался на Кавказе… Понимаете… – он облизнул губы. – Если хотите, я расскажу. Только дослушайте до конца, даже если вам покажется…
– Ты меня уже заинтриговал, – я украдкой глянул на часы – у меня было еще почти два часа. – Так что это за история?
Борис взял у меня фотографию. Глядя на неё, заговорил:
– Это правда, что я нашёл галстуки. Это было нетрудно. Я хорошо запомнил, где мы их спрятали, когда… – Борис вскинул на меня глаза и улыбнулся: – Снимок сделали в сорок втором, почти год назад. И этот парень на фотке не мой предок. Это я сам. Будете слушать?
Говоря, он расстёгивал напульсник и сейчас освободился от него совсем. Под кожаным браслетом была татуировка – но не модная сейчас среди подростков" плетёнка», а простой и не очень искусно наколотый ряд цифр.
92745
– Будете слушать? – повторил он.
2
На свете есть олухи, которые ничего не боятся.
Я не из таких. Это я говорю не в укор себе и не в оправдание. Просто я не из таких – и всё.
Я боюсь темноты. Боюсь того, что родители будут ругать за двойку, которую боюсь получить. Боюсь драться, боюсь незнакомых компаний на тёмных улицах. Боюсь заболеть чем‑нибудь неизлечимым. Боюсь коров. Боюсь девчонок – куда больше, чем коров. Боюсь высоты и глубокой воды.
А больше всего боюсь, что кто‑то узнает о том, чего я боюсь.
Вчера, 6 мая, мне исполнилось четырнадцать лет. Полтора года назад я вступил в скауты, в только‑только образовавшийся в нашем городе отряд. Отряд – это неправильно, хотя нас так даже в телепередачах называют, и в газетах. Правильно – дружина. Мы и есть – дружина имени Лёни Голикова.
Вообще‑то это тоже не совсем правильно. Не по скаутским правилам на‑зывать организации в честь пусть сколько угодно знаменитых людей – ну, если только в честь святых. Но я, если честно, не знаю, чем Лёня Голиков хуже святого. Любого, хоть кого возьми. Тем, что носил красный галстук?
Когда – ну, полтора года назад – бывший майор морской пехоты, наш земляк Анатолий Сергеевич Кузьмичёв (или «АСК», как мы имеем наглость его называть даже не за глаза), вернувшись в Новгород, организовал нашу дружину, у неё долго не было вообще никакого названия, и мы возмущались, на каждом сборе предлагали кучу разных. АСК только усмехался. Потом‑то мы допёрли, что к чему. Сперва в дружину записалось человек полтысячи, не меньше. Но потом схлынули – и вот уже с год её численность держится примерно на уровне 150–200 человек. АСК этого и ждал. Дело в том, что скауты – это не только сплошная романтика, походы, стрельбы, костры и прочее. Это ещё и армейская дисциплина, и ранние подъёмы, и разносы за плохо подогнанную форму, и насмешки над этой самой формой… В общем, те, кто хотел «потусоваться» – сплыли. Когда же дружина в самом деле стала похожа на дружину – тут и настал черёд давать ей имя. Вообще‑то это мудро, если честно. Зачем трепать хорошее слово, если через месяц всё развалится?
Так вот. АСК это и предложил. Мы, сказать по правде, и не знали, что у нас был такой земляк. Двести здоровых парней и девок – ни ухом ни рылом. А вы сами подумайте! В четырнадцать лет – партизанский разведчик, участник рейдов по вражеским тылам. В пятнадцать – в поединке убил гитлеровского генерала и добыл секретные документы, потом – спас жизнь раненому товарищу, вынес его на себе из‑под огня. В шестнадцать – прикрывал отход командира и погиб в бою с егерями. А то мы… Нам даже как‑то неловко стало, но мы так и решили назваться.
За этот год много было разного. В основном – интересного. И походы, и военные игры, и стрельбы, и в Данию мы ездили к тамошним скаутам, и на местах боёв искали останки погибших, и на стройке работали, и концерты давали, и… ну, долго всё перечислять. Что до меня, то я от волчонка поднялся до медведя [В разных скаутских организациях существуют различные степени и ранги. В данном случае, волчонок – первое звание на иерархической лестнице, медведь – предпредпоследнее перед скаутмастером и старшим скаутмастером. ] и научился массе вещей нужных и интересных. Это, кстати, великая вещь – ощущать себя частью большой силы. И не потому, что в случае чего «заступятся». Просто в дружине – настоящие друзья и настоящее дело. А что многим не нравится маршировать и подчиняться – у нас демократия в стране, вольному воля, спасённому рай. Пусть сидит с пивом на лавке или торчит в подъезде, пока не придёт к закономерному финалу, которым пугают взрослые. Правильно, кстати, пугают, если честно.
Так вот. АСК мужик железный, точнее – стальной. По‑моему, он считает свою дружину даже более важной для нас, чем школу. Как‑то раз он на совете ГорОНО [Городской отдел народного образования – организация, ведающая школами какого‑то города. ] он озверел и сказал: «Большинству ребят и девчонок в жизни не пригодятся ни синусы, ни косинусы, ни химическая формула поваренной соли, ясно?! А вот то, что они не знают, кто такой Кутузов [Михаил Илларионович Кутузов – русский военный и политический деятель XVIII–XIX в.в. Наиболее известен тем, что именно под его руководством была уничтожена наполеоновская армия в Отечественной войне 1812 года, но на самом деле М.И.Кутузов знаменит множеством других дел на благо Отечества. ] – это начало конца, понимаете?!» Вообще его в школах не любят, но стараются не связываться – у него пробивная мощь артиллерийского снаряда.
В общем, наступало 60‑летие победы в Великой Отечественной. И АСК, заручившись поддержкой полудюжины организаций, решил устроить выезд аж за Псков, под Гдов, чуть ли не на эстонскую границу. Предполагалось устроить Лагерь Памяти с телевидением, инсценировками, концертом и прочим аж на всё 8‑е и 9‑е мая. Такие вещи без разведки не делаются, тем более, что в тех местах мы никогда не были. В результате пять человек с опытом и надёжных, в число которых попал и я, отправились в указанном направлении именно 6‑го. Утром, снабжённые деньгами, средствами связи и снаряжением, с задачей в рекордный срок найти место для лагеря. Живописное, но доступное для транспорта телевизионщиков и влиятельных лиц.
Мой день рождения праздновали в автобусе.
* * *
Почему‑то считают, что мы носим шортики и рубашки‑безрукавки. Нет, я понимаю, откуда это заблуждение… Исторически это так. Но в наших не очень‑то тёплых, комариных и лесистых местах в такой форме живо двинешь коней и на том свете будешь обвинять Би‑Пи [Сокращение от начальных букв английского произношения фамилии Baden‑Powell – английский офицер, основатель скаутского движения, чью фамилию так сокращают скауты всего мира. ] в том, что он придумал неудобную форму. Поэтому она у нас вполне практичная и довольно обычная – камуфляжи, кроссовки, береты. То, что мы скауты – можно понять лишь по зелёным галстукам, которые вручают только после испытаний и очень торжественно. (Можете смеяться, но мне мой дорог. Не потому, что он что‑то там такое символизирует или куда‑то зовёт. Просто я за него горбатился; если он что и символизирует, то пролитый мною пот, а это немало.) Есть ещё эмблемы, но их носят только при параде, а галстук – всегда.
Скорее всего, вы о скаутах не знаете вообще ничего, а эта тема благодатная. Жил на свете сэр Роберт Стефенсен Смит Баден‑Пауэлл первый барон Баден‑Пауэлл оф Хиллуэлл. Тот самый «Би‑Пи». Плохо учился в школе, был хорошим спортсменом и мечтал о военной службе – короче, по всем меркам являлся «нашим человеком». В 19 лет стал офицером королевских гусар и отправился воевать. Англия тогда воевала дополна, его носило по Индии, Ближнему Востоку и Африке и начальство он раздражал (точь‑в‑точь как наш АСК!) тем, что постоянно изобретал какие‑то новые способы ведения войны. То лицо в зелёный цвет раскрасит, то в ночной бой ввяжется, то обдурит местных, считавших себя самыми умными, а англичан – дураками. Короче, был он из тех офицеров, которые на войне буквально спасают армию, а в мирное время – головная боль для всех вышестоящих бездельников. Вдобавок он писал в разные журналы возмутительные статьи, в которых – вольно или невольно, кто его сейчас разберёт! – выставлял начальство не только бездельниками, но и дураками – и заслуженно… Конечно, огребал за это, но были у него и защитники – из тех военных, которые и в мирное время готовятся выполнять свою работу.
В 1899, чтобы от него отделаться, его произвели в полковники и загнали командовать гарнизоном маленькой (но важной!) крепости Мафекинг в Южной Африке. Думали, наверное, что на этой службе он надорвётся. А получилось так, что он стал национальным героем – буквально через какой‑то месяц грянула война с бурами (посмотрите, кто это такие, кому интересно!) и Мафекинг попал в осаду, на семь месяцев.
Гарнизон крепости был дай бог полторы тысячи человек, а буров – не меньше восьми тысяч. Тогда Баден‑Пауэлл воззвал к патриотизму жителей (тогда это для англичан были не пустые слова!) и создал народное ополчение – а в его составе первый в мире отряд скаутов.
Да‑да, он поставил под ружьё 12‑14‑летних мальчишек‑добровольцев. Они наблюдали за позициями буров, носили боеприпасы, воду, медикаменты, пробирались из осаждённого города к своим и обратно, принося донесения. Ну, вообще‑то, наверное, это им казалось игрой. А сам Баден‑Пауэлл понимал, что это не игра. И за всё время осады его один раз видели плачущим – над трупом убитого бурской пулей пацана‑связиста.
Мафекинг осаду выдержал, и Баден‑Пауэлл вернулся на родину генерал‑лейтенантом. Там он опять‑таки не успокоился, а стал писать книги о воспитании подростков – и подтверждать теоретические выкладки тем, что усиленно организовывал, добившись в этом помощи влиятельнейших людей, отряды скаутов по всей Британской Империи.
Скоро эта мода перебралась и за её рубежи, в том числе и в Россию. И из моды превратилась в стиль жизни для тысяч, а потом и сотен тысяч мальчишек. Особенно ухватились за скаутов военные – для них таким образом воспитанный парень был идеальным бойцом. И русских скаутов тоже организовывал военный – Олег Пантюхов, при поддержке императорского двора. Только назвали русских скаутов «юными разведчиками», перелицевав английское «бойскаут» – «мальчик‑разведчик».
Потом начались всем известные события – гражданская, то да сё… Скаутов запретили. Сперва неофициально, а потом и официально. Кто не успел скрыться – посадили даже, тем более, что большинство скаутов активно участвовали в той войне на стороне белых. Для меня лично всё это глупость несусветная – белые, красные… Чего делили, кто больше Россию любит? Но «свято место пусто не бывает» – и на место скаутов пришли пионеры.
Они нахально слизнули у наших разгромленных предшественников кучу всего – от галстука (только он стал красным) до приветствия (только вместо трёх пальцев ко лбу стали вскидывать пять), от девиза «Будь готов!» до песни «Картошка». Но ругать их особо я не буду. Лёня Голиков тоже был пионером, кстати. И, когда приходила какая‑то беда, эти пацаны в красных галстуках мужественно боролись с ней – и на войне, и в мирное время. И книжки про это есть интересные, и фильмы… Правда, уж очень эта организация была политизированной, как взрослые скажут. Всё было «завязано» на политику. Поэтому, наверное, в конце концов она и выродилась – стала скучной большинству ребят и девчонок.
В конце уже прошедшего ХХ века у нас в России возродилась ОЮCР – Организация Юных Скаутов‑Разведчиков, с которой, собственно, и связался АСК после увольнения из армии, и филиалом которой стала наша дружина.
Конечно, ни по размаху, ни по финансированию нам с пионерами из прошлого не тягаться. Их‑то содержало государство. Но зато у нас – только добровольцы, и это огромный плюс. От добровольца всегда в сто раз больше пользы, чем от десяти загнанных куда‑то насильно. Если он куда‑то приходит, то это как минимум значит, что он этого хочет.
Конечно, бывают и разочарования, я уже говорил про это. В скаутах – не балдёж, а дисциплина, подчинение, форма. Я и про это говорил. И далеко не всем это нравится, поэтому и уходят, помотавшись в дружине месяц‑полтора. Никто их не держит. Зато сколько у нас ребят из неблагополучных семей?! Они не плохие, им всего‑то и требовалось, что место, где можно чувствовать себя среди своих, нужным, защищённым… А раз они у нас – значит, не пойдут ни наркоту искать, ни в парке бумажники и мобильники трясти. Они‑то и становятся сплошь и рядом самыми лучшими скаутами – потому что для них это жизнь, тропинка какая‑то, что ли, из болота к солнцу…
Красиво слишком говорю. Но ведь это так. Я и сам‑то в скауты прибежал потому, что… ну да ладно. У меня семья благополучная, но личные проблемы были ой.
Как‑то раз не очень давно меня попросили на собрании руководителей областных детских и подростковых организаций сделать доклад о нашей дружине. Вот тут я здорово сел. Оказалось, что информации – море, постороннему человеку и не разобраться. Да и я‑то запутался.
Ну, начать с того, что у нас нет ни единой системы званий и знаков отличия, ни даже однообразной формы. Каждая дружина старается на свой лад! С одной стороны это хорошо – простор для самодеятельности. А с другой… Я тогда плюнул и приготовил выступление о нашей дружине конкретно.
Я уже упоминал, что у пионеров галстуки были красные? В смысле – у всех. У них там тоже как‑то обозначались звания и должности, но я не знаю, как. А у нас именно галстук на звание и указывает в первую очередь. Ну вот в нашей дружине. Волчонок – это младший скаут – носит коричневый галстук. Волк – ступенькой старше – красный, как раз как у пионеров. Орёл – синий. И медведь – ярко‑зелёный. Как у меня. Кстати, наш галстук – это ещё и очень удобный инструмент. В зависимости от необходимости он превращается в бандану, перевязочную косынку, крепёжную верёвку… А уж что некоторые на них пишут (это тоже не возбраняется) – так это и вообще не поддаётся описанию, пардон за каламбур. У меня лично ничего не написано, зато на самодельном зажиме из берёзовой коры вырезан кукиш. Так. Низачем.
Чтобы перейти на следующую ступень, нужно выдержать испытания, и серьёзные – и спортивные, и на выживание, и по военному делу. Во всяком случае, у нас это не формальность, некоторым приходится не по одному разу пробовать. Но уж если пошёл «вверх по лестнице» – то возможностей для интересной жизни масса.
Есть у нас традиция присваивать тем, кто «дослужился» до волка, и побывал более чем в одном походе минимум четыре дня, прозвища. Ну, как у меня – «Шалыга». Имена выбираем себе сами, а вот для присвоения даже церемония особая есть – у лагерного костра. Я её помню хорошо – имею в виду, свою помню. Как меня вызвали к костру. Я встал перед АСКом… Двое парней из старших (сейчас они уже в армии) взяли мой галстук, пронесли его за концы над огнём и над моей головой. А потом АСК громко сказал моё прозвище… Вот такие игрушки – а вспоминается до сих пор. Наверное, как рыцарю – его посвящение…
Кстати, и цвета у нас не «просто так». У каждого цвета есть своё значение – немного не такое, как в рыцарской геральдике, но строго определённое. Белый – чистота. Синий – вера. Красный – сила, энергичность, упрямство. Чёрный – спокойствие, серьезность. Зелёный – надежда, природа. Оранжевый – ловкость, быстрота. Коричневый – практичность, закалка. Жёлтый – хитрость, сообразительность. Серый – скромность, терпеливость. Розовый – любопытство.
А уж знаками различия и отличия мы вообще увешаны с ног до головы – на парадной форме, конечно, как я уже упоминал. Иногда даже кажется, что лишку хватили, но – особенно младшим – «народу нравится». Тут и нагрудный крест – поверх зажима галстука, не награда, а просто крест. Тут и галстук с этим самым зажимом. И скаутская лилия с Георгием Победоносцем на головном уборе. И муфта на погоне – цветов государственного флага. Знаки должности. Знак специальности (их бывает по несколько штук) Знак звена (а дружина делится именно на звенья и на шестёрки – это для волчат). Шевроны‑угольники – по одному за каждый год «безупречной службы» (или «год нераскрытых преступлений», как мы шутим). Парадный ремень с пряжкой. Витой шнур для свистка (это у медведей и мастеров). Знаки отличия в виде планок и значков. Короче, каждый скаут – это «иконостас». Зато можно с ходу (если разбираться) прочитать всю информацию о нём. Правда, я говорил раньше, на полевой форме всё это не носится, иначе каждый скаут был бы потенциальной мишенью – если не для настоящего снайпера, то уж во время военной игры – точно.
Когда я говорил, что пионеры у нас «слизнули» приветствие, я всё‑таки немножко переборщил, как скажет моя мама. Наши три пальца ко лбу (за Бога, короля и страну в изначальном английском варианте) к военному отданию чести отношения не имеют, в отличие от их вскинутой ладони. (А «волчата» вообще приветствуют друг друга поднятой над плечом ладонью с пальцами, разведёнными буквой V. Это не «победа», как думают некоторые, а «волчьи уши».) Но вообще‑то общего немало, это точно. Может, тут дело даже не в заимствовании, а просто «у дураков мысли сходятся». Во всяком случае и у нас и у них есть знамя дружины. И флажки подразделений – звеньев и стай. И дружинная песня (у нас как раз та самая «Картошка»), и речёвки. У нас очень хорошая, и правда помогает, если твердить её про себя, когда трудно…
Вдаль иди,
Не сверни
И не падай!
Упадёшь – поднимись!
И будет тебе наградой
Цели заветной высь!
По‑моему, классно.
А скаутские заповеди? АСК их взял у знаменитого польского путешественника Яцека Палкевича, мы их заучили наизусть:
– Уметь принимать быстрые решения.
– Уметь импровизировать.
– Уметь постоянно и непрерывно контролировать себя.
– Уметь распознавать опасность.
– Уметь оценивать людей.
– Быть самостоятельным, но уметь подчиняться.
– Быть настойчивым.
– Признавать, не отчаиваясь, пределы своих возможностей.
– Искать, когда кажется, что возможностей больше нет, другие пути для выхода из положения, прежде чем сдаться окончательно…
10…. и даже тогда не сдаваться!
Последнее – особенно здорово, мне кажется. Почти так же, как наш лозунг: «Будь готов!» и ответ «Всегда готов!» А почему бы нет? Морщитесь, сколько угодно, если хотите. По‑моему, быть всегда готовым ответить на вызов, помочь человеку, защитить страну – куда лучше, чем всегда «готовым» на парковой скамейке с пузырём пива. А чем плохи спортивные соревнования, сборы, походы, военные игры? Конечно и это всё может превратиться в формальную нудистику – но тут уж всё зависит от руководителя. Нам с руководителем повезло…
…И всё‑таки скаут (пока, во всяком случае!) на наших улицах зрелище не слишком обычное.
Но, когда мы вечером высадились на улице Бряндино, откуда должно было начаться наше путешествие, никто особо не удивился. Решили, что мы туристы или те же поисковики.
Мы здорово устали, если честно. Шёл мелкий дождик, было прохладно, хотелось есть, в автобусе нас натрясло, всё провоняло бензином. В принципе, надо было двоим‑троим остаться с вещами на привокзальной площадке, а троим‑двоим идти искать гостиницу или хоть какой‑то ночлег. Но это означало, что мы непременно нарвёмся на драку – не те, так другие, потому что в подобных посёлочках у молодёжи всех развлечений выпивка и драки. А с пятью сразу связываться не станут почти наверняка.
И мы пошли впятером.
Такое достижение цивилизации, как уличный фонарь, здешних жителей, очевидно, раздражало, потому что, как я видел, все лампочки были побиты. Быстро вечерело.
– Если и найдём гостиницу, то окажется, что там «местов нет», – пророчески объявил Валька Шалгин, мой лучший друг ещё с первого класса школы. Он Шалгин, я Шалыгин, но мы не родственники. Хотя на уроках, когда к доске вызывают, часто путаемся…
– Ага, какой‑нибудь Девятый Всероссийский Сполз Любителей Граненого Стакана, – поддержал его Олег Строкалов. И сам сократил: – Дэвэсэлэгэс. Звучит‑то как…
– Знаете, как по‑сербски «летучая мышь»? – спросил Игорь Островой. – Пырац.
– Ну и что? – не понял Игорь Демидов. «Остров» пожал плечами:
– Ничего. Похоже.
– На что? – удивился «Дэм». «Остров» снисходительно объяснил:
– На летучую мышь, дубина. Пы‑рац. Представь себе.
– Я себе только ужин могу представить реально…
«Пырац», – повторил я.
Слово действительно было похоже на летучую мышь. А гостиницу мы нашли через полминуты – за поворотом улицы.
Притон гостиница не напоминала ни снаружи, ни изнутри. Это был ветхий одноэтажный домик, похожий на обычный жилой особнячок, но табличка над крыльцом с расшатанными перилами возвещала однозначно:
МУП ЖКХ «ТЕРЕМОК»
– А что такое МУП ЖКХ? – спросил Валька, уставившись на эту вывеску.
– Муниципальное предприятие жилищно‑коммунального хозяйства, – разъяснил «Дэм». – Дэвэсэлэгээс.
Внутри было чистенько и тихо, горела над стойкой единственная лампочка, под ней дремала какая‑то бабулька. У Олега и «Острова» паспорта уже имелись; мы трое по возрасту тоже должны были… но не успели оформить, сами понимаете. Впрочем, бабулька и не настаивала. Места тоже были. Олег спросил:
– У вас люксы есть? И чтоб девочек заказать.
– Вы кто ж такие? – поинтересовалась бабуля, передавая нам ключ. – Туристы?
– Знатоки родного края, – подтвердил Олег. – Землепроходимцы, золотоискатели…
– А где ж руководитель ваш? – продолжала допрос бабка.
– В болоте потоп наш старшой. Аккурат вчерась с утречка, – сообщил Олег. – Завтра по свету поминки по нём гулять будем… Это нам куда?
– Вон туда по коридору, – показала бабулька. – Солома там свежая, вчерась перестлали. А собак шуганите, ежли брезгуете. До ветру на двор…
– Здорово она тебя, – заметил я, когда мы уже открывали дверь в номер.
Номер оказался с пятью кроватями вдоль стен в одной‑единственной комнате. Посредине стоял стол со стульями и искусственными цветами в вазе, у двери – шкаф, в котором висела вешалка. В небольшой выгородке обнаружился умывальник и унитаз. Одно окно из комнаты выходило в сад за гостиницей.
– Ничего, – сказал Валька, сбрасывая рюкзак на пол. – Даже уютно.
– Все самые зловещие преступления совершаются вот в таких тихих местах, – сообщил Олег. – Вампиры, оборотни, сектанты, людоеды…
– Где бы нам поесть существенно? – спросил «Дэм». – Интересно, тут буфет есть?
– Есть‑поесть… – пропел Валька. – Какой буфет, опомнись, «Дэм»! Сухим пайком перебьёмся… Вали всё на стол, скауты!
В рюкзаках у нас и впрямь было достаточно всякой всячины, взятой в дорогу или положенной родителями, и скоро мы уже сидели вокруг стола и лопали.
– А знаете, – вдруг сказал Олег, посерьёзнев, – вот именно в эти дни в сорок втором Северо‑Западный и Ленинградский фронты начали наступление, чтобы снять блокаду Ленинграда…
Олег" Строк» о Великой Отечественной знал если не всё, то намного больше школьных учителей истории и вообще взрослых. Мы перестали жевать.
– И что? – спросил Валька. – Наши победили?
– Не, – «Строк» мотнул головой. – Гитлеровцы очень упорно оборонялись… Ничего не получилось. А Вторую ударную армию заманили в болота и уничтожили. Тогда ещё Власов сдался.
Про Власова мы помнили хорошо. Великую Отечественную мы должны были проходить только в будущем году, но «Строк» ходил в исторический кружок и в марте накричал на Виктора Константиновича, учителя истории, который кружок вёл. Тот сказал, что генерал Власов просто боролся со сталинским режимом и искренне хотел пользы для России.* Говорят, что Олег покраснел, как помидор, вскочил и сказал, что Власов сволочь и предатель, да ещё и трус, что награды от Сталина он брать не стеснялся, а как припёрло – так сразу стал «борцом с режимом»… Виктор Константинович запретил ему появляться на заседаниях…
[А.А.Власов – генерал, один из любимцев Сталина, отличившийся в боях под Москвой зимой 1941/42 г.г. – это правда. Но правда и то, что летом 1942 года самонадеянность Власова послужила причиной того, что его 112‑тысячная 2‑я ударная армия, созданная для деблокады Ленинграда, почти полностью погибла в окружении. Большинство бойцов героически сражались и пали смертью храбрых, но их командир, даже не попытавшись оказать сопротивления, сдался в плен врагу. Более того – в плену Власов стал активно сотрудничать с гитлеровцами, обманом и угрозами вербовал, разъезжая по лагерям для военнопленных, в созданную им Русскую Освободительную Армию отчаявшихся, напуганных людей, а то и просто уголовников и бандитов. В военном отношении его «армия» была почти бесполезна, но власовцы прославились расправами с мирным населением не только в СССР, но и во Франции и Югославии. Впрочем, часть людей поступала в РОА, чтобы получить оружие и перебежать обратно к своим, а другие подготавливали и осуществляли восстания против гитлеровцев (как, например, весной 1945 в Чехословакии). Сам же Власов был казнён уже после войны, как предатель. В настоящее время многие «историки» пытаются выставить неудачника и труса в роли «борца со сталинским режимом» – но это не только исторически недостоверно – это ещё и порочит память русских бойцов, попавших в плен, но сумевших сохранить воинскую честь и человеческое достоинство. Таких было подавляющее большинство как среди солдат, так и среди офицеров и генералов. ]
– А странно вообще‑то, – Валька подпёр голову рукой. – Вот всё это было… И не так уж давно, а кажется – как в сказке. Интересно, вот в этом здании что то‑гда располагалось? Оно же старое…
– Какое‑нибудь германское учреждение, – сказал «Строк». – Можно у той бабульки спросить, она наверняка знает.
Но спрашивать мы не пошли – ещё пожевали и расползлись на кровати. За окнами по небу ползли тучи – нехорошие, уже с явным дождём, сразу со всех сторон. Смотреть на них было скучно, да и вообще почти стемнело.
– Давайте карту посмотрим, – предложил «Остров». – Хоть предварительно определим, куда завтра идти.
Мы снова собрались у стола и развернули на нём большую карту района, в котором оказались – её нам выдал «АСК». Район покрывалом затягивали леса с раскиданными в них редкими деревушками, пересекали кое‑где железные дороги и шоссейки.
– Надо бы выбрать какое‑нибудь более‑менее доступное место, – предложил Валька, – но чтоб с историей… Где, кстати, Лёня Голиков погиб?
– В селе Острая Лука, – ответил я, – это далеко.
– Жаль…
– Э, а в гостинице не мы одни живём, – вдруг совершенно не в тему сказал «Дэм». Мы подняли на него глаза, и он пояснил: – Во, слушайте. Кто‑то музон крутит.
Мы прислушались. Да, правда… Где‑то – то ли в коридоре, то ли в одном из соседних номеров – слышалась музыка. Гармошка, кажется (у кого это такие вкусы?!) и мужские голоса.
– Народное что‑то, – определил «Остров», – нам‑то что? Я предлагаю…
Прежде чем склониться над картой, я вдруг понял, что знаю эту музыку.
И слова знаю, но только по‑русски.
У каланчи пожарной,
У больших ворот,
Столб стоит фонарный
Уже не первый год.
Ты приходи побыть вдвоём
Со мной под этим фонарём –
Лили Марлен,
Лили Марлен…
[ «Лили Марлен» – лирическая песенка, любимая гитлеровскими солдатами, в какой‑то степени аналог нашей «Катюши». ]
У кого‑то и в самом деле странные вкусы.
3
Я проснулся от того, что под окном, в саду, без конца заводили и никак не могли завести мотоцикл – он глох. С полминуты я лежал, соображая, где нахожусь. Ребята сонно дышали на соседних кроватях. Что‑то мягко шуршало по крыше. Мои часы показывали половину второго ночи. Глядя на их циферблат с мягко фосфоресцирующими цифрами, я почти уснул снова, но мотоцикл опять взревел и оборвался нехорошим хрипом. «Свечи,» – подумал я, вставая. Мне не перестало хотеться спать, но посмотреть на людей, которым в полвторого приспичило куда‑то ехать, стоило.
Пол был холодный даже сквозь прикроватный коврик, да и вообще – когда я вылез из‑под одеяла, в комнате оказалось очень холодно. Протиснувшись между кроватями, на которых спали «Остров» и «Шалга», я подошёл к окну.
Мне сразу стало ясно, откуда тот монотонный шорох. Снаружи шёл дождь. Добротный, несильный, но занудный. На небе – ни просвета. Над чёрным ходом гостиницы – ну, в саду – горела тусклая лампа под жестяным абажуром. В её свете я увидел двух человек в блестящих от воды широких плащах с пелеринами, цветом похожих на мокрую клеёнку. Они возились возле здоровенного «урала» с коляской. «Менты,» – сонно подумал я и, пробираясь обратно к своей кровати, задел свесившуюся руку Вальки. Он немедленно сел и спросил, не открывая глаз:
– Чпрж?
Несомненно, это означало: «Что, пора уже?»
– Да никуда не пора, спи, – буркнул я, и «Шалга» рухнул обратно в постель. Я тоже уселся, готовясь лечь и проклиная себя за излишнюю возбудимость: никто не колыхнулся, один я вскочил!
По коридору быстро прошёл человек, неразборчиво окликнул кого‑то. Ему ответили, потом двое громко, но так же непонятно заговорили. Вот вам и пустая гостиница… Днём выспались, ночью гуляют, мотоциклы заводят… Я посидел и начал одеваться, собираясь выйти и попросить!!! вежливо попросить!!! чтобы заткнулись!!!
В майке, штанах и кроссовках на босу ногу я вышел в коридор.
Горела у поворота дежурная лампочка.
Пусто.
Тихо.
Я озадаченно потёр нос. В коридоре было ещё холоднее, чем в номере. Стараясь ступать потише, я прошел до поворота, выглянул.
В маленьком вестибюле было пусто. Дежурная бабулька хрестоматийно вязала, сидя за стойкой, но, едва я высунулся, подняла голову и улыбнулась:
– А ты что ж не спишь?
– Не спится… – неопределённо ответил я. – Бабушка, а кто тут сейчас разговаривал? Громко очень, я хотел сказать, чтобы тише…
Она отложила вязание, посмотрела на меня странным взглядом. Краем уха и мозга я отметил, что мотоцикл заткнулся… а каким‑то ещё чувством понял – за моей спиной прошёл человек.
Я обернулся. Он удалялся по коридору – быстро, широко шагая, а мне лампочка била в глаза и, когда я проморгался, в коридоре уже никого не было. Я вновь повернулся к дежурной. Она так и смотрела на меня, потом опустила глаза и тихо сказала – так говорят пожилые люди, когда не хотят, чтобы их услышали, забывая, что у них самих слух уже плоховат, а подростки слышат намного острее взрослых:
– Опять… Никак не уймутся… – она снова подняла глаза и улыбнулась: – Иди спать, мальчик. В гостинице никого нет. Тебе приснилось.
Я открыл было рот, чтобы возразить, но мне внезапно стало очень страшно. Не жутковато, а именно страшно – даже бабулька показалась мне какой‑то зловещей. Я попятился, мечтая об одном – оказаться в своём номере, возле ребят. Потом повернулся и быстро пошёл по коридору. Почти за всеми дверями отчётливо звучали голоса – тише, громче, два, несколько… Говорившим было плевать на ночное время – они перебивали друг друга, спорили, шумели, и я не мог понять, что они говорят. Стиснув зубы и опустив глаза, я дошёл до своей двери; меня обогнал человек, вошёл в соседний номер. Еле сдерживаясь, чтобы не заорать, я ввалился к себе и, прихлопнув дверь, запер её на задвижку, не осмеливаясь даже поглядеть в окно: в голову лезли строчки из песни –
Мы на краю села
С тобой вдвоём живём.
Нечистая родня
Нас хочет съесть живьём…
Смотри – в окно глядит
Твой умерший отец!
Ещё немного, и
Нам всем придёт конец…
Звуки как отрезало. Я поднял голову. Света в саду не было, никто не возился в темноте с мотоциклом… Погасили и уехали? А звук?
Тебе я говорил:
Мол, лучше не ходи
В сортиры по ночам –
Избави господи!
Но ты была горда…
Я вижу результат –
Твой бездыханный труп
Они низвергли в ад…
Чушь какая… Я потряс головой, потёр лицо руками. Отошёл от двери и сел на кровать, не сводя с неё глаз. Сейчас поскребётся в неё бабулька (когтями!!!), скажет: «Мальчик, отдай мою голову…» Или типа: «Открой, я хочу есть…»
– Ты чего не спишь?
Я аж подскочил. Приподнявшись на локте, Валька смотрел на меня – поблёскивали белки глаз.
– Я‑а?!
– Ты‑и, – передразнил он меня, садясь на постели: – Уй, холодильник какой… То к окну таскаешься, то на кровати сидишь… Бессонница, что ли, «Шалый»?
– Да нет… – промямлил я, – всё нормально… – но потом выпалил: – Мне чего‑то страшно, Валь…
Я уже говорил, мы с ним знакомы полжизни. Валька не стал смеяться или обзываться. Он подумал и сказал спокойно:
– Да это просто на новом месте. И приснилось что‑нибудь.
А ведь точно… Может, я и не ходил никуда? Сел на кровати спросонья, а всё остальное – сон? Ффуххх…
(…и оделся я тоже во сне?!)
* * *
Утро было солнечное и тёплое, от дождя и туч – ни следа. Все ночные страхи казались мне не то чтобы беспочвенными, а скорей так – нервы и все прочее. Мало ли что? Как‑то, лет в десять, я нюхнул клейку в пакете, скажу вам честно, и видел разную фигню – ну, «мультики». Может, и тут что‑то похожее, а я уж пошёл копытами бить…
На нашу толкотню возле умывальника в дверь постучалась дежурная – уже не та бабулька, а вполне молодая и энергичная женщина, которая с ходу на нас наорала и заявила, что подтирать пол за нами не будет. Мы заверили её, что и сами подотрём, а потом спросили, где тут можно поесть, и она, сменив гнев на милость, сказала, что за углом есть закусочная, а вещи можно пока оставить в номере, даже если мы больше тут не останемся, всё равно гостиница пустует.
Снаружи было тепло, и всё говорило, что скоро лето. Мы неспешно прошли квартал «за угол» и обнаружили эдакое семейное предприятие под вывеской:
«ЗАХОДИ!!! У нас – как дома»
Вообще‑то там и правда оказалось, «как дома». Несколько столиков, окошко; столики пустовали – наверное, из‑за раннего часа. Они были четырёхместные, но мы придвинули ещё один стул и уселись сообща. Довольно мелкая девчонка пришла за заказами и, приняв их, сообщила, что всё будет готово в наикратчайшие сроки, а пока пусть мы немного подождём.
Мы согласились, естественно. И уставились за окно на улицу – такую же тихую и сонную, как и весь посёлок. Вчера мы договорились, что поедем в местечко под названием Сухой Лог – про него в путеводителе было сказано, что во время освобождения там были тяжелейшие бои, и само местечко находилось недалеко от поселка. Может быть, туда даже ходил автобус – это ещё предстояло выяснить…
…Выяснять это пришлось мне – я поел первым и в общем‑то без особых раздумий предложил сходить на станцию, пока остальные едят, а они пусть зайдут за рюкзаками и тоже идут туда.
Вчера, во время нашей высадки, из‑за усталости и погоды мы не заметили, что неподалёку от станции располагается старая церковь. Я плохо в этом понимаю, но церковь была красивая и сейчас её занимал музей, о чём говорила табличка. Около резных металлических ворот стоял немолодой мужчина в брезентовой балахонистой куртке и сапогах – у него был вид только что вышедшего из чащобы лесника. Он меня и окликнул, когда я проходил мимо:
– Эй, парень! – я обернулся. – Можно тебя на минутку?
Вокруг было пусто – раннее утро оно и есть раннее утро. У меня в душе шевельнулось опасение. В принципе я мог бы от него отбрыкаться… ну а если я подойду, а он фуганёт в лицо чем‑нибудь из баллончика? Прошлым летом у меня вот так погиб одноклассник. Его потом нашли на одном пустыре, где начинали когда‑то стройку. Сперва хотели списать на то, что, мол, мальчишка обнюхался или обкурился, но родители подняли шум и выяснилось, что его усыпили хлороформом, изнасиловали, а потом просто добавили ещё порцию снотворного. Того, кто это сделал, так и не нашли.
Так что я не торопился подходить, и мужчина подошёл ко мне сам. Пятиться было как‑то глупо, я остался стоять на месте.
Он не торопился на меня нападать. От куртки пахло дымом, глаза у незнакомца были серьёзные и беспокойные.
– Не бойся, – сказал он. – Я просто спросить… Это вы приехали вчера и ночевали в гостинице?
– Да, – коротко ответил я, краем глаза увидев, что на улице появились несколько человек – они неспешно шли к вокзалу. Я расслабился.
– Может быть, мой вопрос покажется странным… – он нахмурился. – Ночью…Ничего непонятного не происходило?
– Что вы имеете в виду? – вопросом ответил я. Шевельнулось почему‑то желание всё рассказать.
– Я Скворцов, Алексей Данилович, – он достал паспорт, протянул мне. – Смотритель музея и краевед… Видишь ли… – он вздохнул, смерил меня взглядом и покачал головой: – Нет, ничего. Извини.
И пошёл прочь – к своей церкви‑музею.
Несколько секунд я боролся с искушением – мне страшно хотелось догнать его и рассказать всё. Но только несколько секунд.
Не сумасшедший же я, в самом деле.
4
В Сухой Лог автобус ходил аж дважды в день, и в тот момент, когда он уже подошёл, а я начал нетерпеливо подпрыгивать, явились все наши с вещами.
Мы заняли заднее сиденье, устроив рюкзаки на полу. Кроме нас и двух бабулек, да еще женщины‑контролёра, у которой мы купили билеты (касса не работала), в салон больше никто не сел, и водитель (с опозданием на пятнадцать минут), буркнув контролёру: «Ну, поехали, что ль?» – отчалил от вокзала. Именно отчалил. Вам никогда не приходило в голову, что автобус в своём движении похож на десантный корабль?
Мы минут пять ехали по асфальту, а потом свернули на грунтовку, и по обе её стороны сразу же непроходимой стеной встал лес. Не посадки, а именно лес, зелёный на опушке и аж чёрный в глубине. В таком лесу таились болота, бродили лешие и сидели на ветвях русалки. Несмотря на то, что май только начинался, в подлеске расправил ветви какой‑то обалделый папоротник, наверное, мне по грудь. Автобус не монтировался с лесом и даже с этой дорогой, на которой непременно обязан был расположиться на семи дубах Соловей‑Разбойник, ожидающий путников, чтобы совершить рэкет и убийство с особой жестокостью. Мы все видели леса – и каждый раз они производили оглушающее впечатление своей мощью и вечностью. Просто не верилось, что человек может с ними хоть что‑то сделать.
– Вот где партизанить‑то, – сказал Валька благоговейно. И, когда навстречу проскочила легковушка, мы проводили её недоумёнными взглядами, настолько она показалась неуместной. Мы уже собрались порассуждать на эту тему, но автобус вдруг подскочил, как взбрыкнувшая лошадь – и встал.
Водила вывалился из кабины – и через полминуты сказал, открывая дверь пассажирского салона:
– Пиндец, колесо прокололи.
– Милок, а когда поедем‑то? – робко подала голос одна из бабулек.
– А вот поменяем – и поедем, – бодро отозвался, чем‑то звеня, водитель. «Дэм» поинтересовался:
– Помощь не нужна?
– Нужна будет – позову, – определил водитель положение.
Оставив рюкзаки в салоне, мы выбрались наружу. На лесной дороге было прохладно – чувствовалось, что ещё ой как не лето. «Остров» предложил:
– Ну чего, мальчики направо, девочки налево?
Налево не пошёл никто, а направо – только мы с «Островом».
Мы углубились метров на десять и повернулись друг к другу спинами. Я сделал ещё шаг – ближе к дереву, здоровенной сосне – и что‑то подалось у меня под левой ногой.
Ругнувшись от неожиданности, я плюхнулся на мягкое место, потом – на спину и съехал в какую‑то яму…
8 мая 2005 года.
ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ПО РАЙОНУ
На отрезке грунтовой дороги пгт. Бряндино – село Сухой Лог при загадочных обстоятельствах пропал без вести Борис Юрьевич Шалыгин (14 лет). Во время вынужденной остановки автобуса, на котором он с друзьями (все они члены скаутской дружины им. Лёни Голикова г. Новгорода; данные и протоколы допроса см. ниже) ехал в Сухой Лог с целью подготовки места для проведения праздничных мероприятий, посвящённых 60‑летию победы в В.О.В., Борис отошёл в сторону от дороги и не вернулся. Он не был найден и в результате последующих поисков, организованных сперва его товарищами, позднее – представителями власти. След Бориса загадочно обрывается в восьми метрах от дороги. Чужих следов не обнаружено…
* * *
На дне ямы я крепко приложился затылком о корень и с полминуты ниче‑го не соображал – лежал и глядел в крону сосны высоко‑высоко над головой. Сквозь неё ярко просвечивало небо. Потом стало больно, я охнул и сел, опираясь на руки.
Так и есть. Я поскользнулся на размокшем куске земли – след моего скоропостижного спуска по откосу ямы ясней ясного об этом говорил. Наверху почему‑то было тихо, и я позвал:
– «Остров»! Олег, ты где?
Ответом было молчание. Скауты в принципе ругаться не должны, но я, подождав ещё полминуты, обложил крону сосны как следует и, не считаясь с грязью, выкарабкался – аж комья из‑под кроссовок летели – на край ямы. Просто удивительно было, как я её не заметил, она оказалась свежей…
Олега не было. И вообще – что‑то странное сквозило в окружающем. Настолько странное, что я не очень понимал, откуда это чувство тревоги, охватившее меня. Я свистнул, чертыхнулся и пошёл к дороге.
Автобуса на ней не оказалось. Это до такой степени было неожиданно и дико, что я минут пять, не меньше, стоял и таращился то в одну сторону, то в другую. Потом спросил:
– Что за шутки?
Иначе как идиотскую, дичайшую шутку – совершенно не в стиле моих друзей – и расценить было нельзя. Это что же – когда я сверзился в яму, Олег бегом рванул к автобусу, прыгнул в него (а водила как по заказу закончил ремонт) – и сказал что‑то вроде: «А Борька решил там остаться.» И все поехали дальше с песнями.
Я хихикнул. И понял, в чём дело. Что меня так беспокоит, стоит мельком посмотреть по сторонам.
Вокруг меня был не тот лес. И я стоял не на той дороге.
Изменилось всё. За какие‑то минуты исчезли одни деревья и появились другие, разросся подлесок, буйно вымахали кусты на обочинах, куда‑то пропали дренажные канавы. А сама грунтовка сузилась на треть. Именно потому, что поменялся весь пейзаж целиком, я и не сразу сообразил, в чём дело.
– Господи, – сказал я и перекрестился. Зажмурился, помотал головой. Неужели я так сильно ударился затылком? Или я вообще умер?
Открыв глаза, я прислушался. Вокруг царила лесная тишь. Ни единого человеческого звука.
Мне стало страшно. Именно от этой тишины. Я ещё раз осмотрелся и ущипнул себя за руку. Сильно, больно ущипнул, и эта боль заставила меня поверить в реальность окружающего меня пейзажа. Но с другой стороны – этого же не могло быть. Вообще не могло. В принципе.
И всё же это было.
Я раньше иногда задумывался, куда пропадают те десятки людей, которых постоянно кто‑то разыскивает. Нет, большинство или убегают, или их похищают. Но ведь есть случаи, которые никак объяснить нельзя. У «АСК" а есть приятель, майор милиции. Однажды он с нами ходил в поход и беседовал вечером, ну, костёр, всё такое… Он клялся нам, что из ста случаев неожиданных пропаж 75 – побеги и уходы (такие люди, что взрослые, что дети, почти всегда или сами возвращаются, или их находят), 24 – похищения (и этих не находят почти никогда). Но есть ещё один случай из ста – один процент – который необъясним в принципе. Вообще никак. ВООБЩЕ, понимаете? Ну – мать выглянула из комнаты в коридор – на секунду, не больше – а у неё за спиной пропал шестнадцатилетний парень; отворачивалась по счёту „раз“ – сидел за столом, повернулась по счёту „два“ – нету. Или водила обошёл вокруг грузовика на пустынной полевой дороге, на пару секунд скрылся из глаз напарника – и всё.
Кажется, теперь мне предстояло точно узнать, что с ними случается. Ведь это так и выглядит – Олег повернётся на мой вскрик, подойдёт к яме, а меня нету.
И что тогда? Меня будут искать… А мама?! А отец?!
В этот момент я готов был принять или придумать любое объяснение, лишь бы защититься от этих мыслей.
– Лю‑ди‑и‑и!!! – заорал я отчаянно, даже кулаки стиснул и на цыпочки привстал. Ответом мне было молчание леса.
На дороге отпечатались множество следов – и каких‑то колёс, и человеческих ног, и некоторые выглядели свежими. Я побежал в ту сторону, где располагался Сухой Лог. До него оставалось ещё немало, но, в конце концов, это же не пешком до Китая, а люди тут есть. Я доберусь туда и попробую выяснить, что и как. Может быть, это всё‑таки некая глупейшая шутка, какой‑нибудь выверт природы, и всё разъяснится, как только я окажусь в деревне…
…Переходя с рысцы на шаг и обратно, я двигался по дороге часа два, не меньше, стараясь сосредоточиться только на беге и больше ни о чём не думать. Становилось всё теплее, солнце поднималось выше, прогоняло утренний майский холод, от вчерашнего дождя не осталось и воспоминаний. Берет я убрал под погон, расстегнул пошире куртку.
Дорога кончилась неожиданно. Вернее, она не кончилась, а повернула под прямым углом, и на этом повороте стоял указатель. Я затормозил и остался стоять, задрав голову.
Чёрным по белому на нём было написано:
dorf. Suchoj Log
5
Я стоял и смотрел на столб с указателем непонимающими глазами. Потом пошарил взглядом вокруг – сам не знаю, зачем – и увидел в молодой траве обломок синей с белым таблички. Медленно наклонившись к ней, я прочитал пошедшие пузырями белые буквы вслух:
– "…ой Лог».
Выпрямился и посмотрел туда, куда показывала стрелка.
Дорога резко шла под уклон. Под горкой начиналась деревенская улица. Два крайних дома чернели развалинами. Оттуда не доносилось ни звука, хотя остальные видимые дома были целы. За деревней снова начинался лес, на его фоне что‑то двигалось. Я присмотрелся. Трактора?
Но это были не трактора. Впереди юрко подскакивала коробочка мотоцикла с коляской. А за ним неспешно, переваливаясь с борта на борт, ковыляли на фоне березняка два бронетранспортёра. Из воинской части, что ли? Или кино снимают?
Я снова посмотрел на указатель.
Дико вскрикнул и со всех ног бросился бежать в лес, не разбирая дороги.
* * *
Сжав голову ладонями, я сидел под сосной и пытался не думать. Если не думать, то всё разрешится само собой. Я посижу‑посижу, встану, пойду на дорогу и там найду остановку автобуса. И поеду на нём домой. Подальше от этого сумасшествия. Если не думать, то ничего и не будет. я посижу‑посижу и всё утрясётся. Я поймал себя на желании сунуть палец в рот и, отдёрнув руки от головы, зажал их между колен и закачался, тихо постанывая.
Перед глазами у меня плавала вывеска.
dorf. Suchoj Log
Я зримо ощущал её, он змеилась и текла через моё сознание чёрной струйкой.
Надпись на немецком языке…
Я зачем‑то посмотрел на часы. Было двадцать минут двенадцатого. 8 мая 2005 года. Так показывал календарь. А столб – это чья‑то дурная шутка…
…так вот почему грунтовка была такой узкой и такие странные следы от колёс! Тут почти не ездят на машинах. А от тех, кто ездит, надо держаться как можно дальше…
Я всхлипнул, но тут же заставил себя умолкнуть. Слезами не помочь делу. Надо вернуться к той яме. Обязательно и поскорей. И ждать. Может быть, то, что вышвырнуло меня в это время, сработает и обратно?! Буду биться головой о корень, пока не посинею – может, всё дело в этом?! А если нет…
Об этом не хотелось и думать. Как не хотелось думать и о том, что тут хозяйничают настоящие немцы. Нет, не немцы. Немцы – это были те ребята, которых мы видели, когда ездили в Данию. Весёлые, в яркой форме со множеством нашивок, дружелюбные, перенимающие у нас русские словечки. А здесь нет таких немцев.
Здесь – фашисты.
Я развязал узел галстука и, бережно его сложив, спрятал в кармашек для ножа на камуфляжных штанах. Не знаю, зачем – скаутский галстук был зелёный, а не красный, как у пионеров в эти годы. Потом поднялся и начал красться через лес обратно, к дороге.
Я не боялся заблудиться. Кроме того, во мне ещё жила неистовая надежда, что всё само собой «устаканится» – точно так же, как само собой произошло. И всё‑таки возле дорожной обочины я сидел в кустах не меньше получаса.
Жизнь в деревне была, я слышал звуки, но какие‑то вкрадчивые, осторожные – дверь скрипнет, пара слов донесётся… Ни собачьего лая, ни каких‑то признаков домашней скотины или птицы не имелось – как отрезало. Чтобы идти обратно к той яме, надо было повернуться спиной к деревне и, хотя её скрыл поворот, я оглядывался почти на каждом шагу. Мне почему‑то казалось, что немцы именно там, сзади.
Я забыл, что они могут быть везде. И попался, как последний щенок, а не как «медведь».
Они вышли из леса буквально метрах в десяти от меня – там сворачивала в сторону какая‑то тропинка. И – высшая степень досады!!! – явно меня не видели до последнего, уделяй я побольше внимания тому, что впереди, всё было бы благополучно, я бы успел спрятаться. А так мы – я и двое немцев – обалдели почти одинаково и смотрели друг на друга секунд десять.
Не знаю, что они увидели и за кого меня приняли. Но когда я повернулся и пошёл – как в глупой комедии поступает герой при неожиданной и нежеланной встрече – обратно, они ещё столько же недоумённо переговаривались, не окликая меня. А я шёл, как во сне, всё больше и больше убеждаясь, что это неправда. И даже когда один меня окликнул, в его голосе было скорей недоумение и даже какое‑то расположение:
– Хай, ду, гитлерюнге! Вохинст ду?! [Эй, ты, гитлерюгенд! Откуда ты?! (нем.)]
Я отмахнулся рукой, не оборачиваясь. И тогда один из них крикнул – уже строго, хотя ещё и не зло:
– Хэй, кнабэ, цурюк, шнеллер! [Эй, мальчик, назад, быстро! (нем.) (Прим. автора: не надо удивляться странному поведению описанных мной немцев. Дело в том, что на оккупированную территорию Прибалтики в 1941–1942 г.г. было переброшено до 30 тысяч детей и подростков из организации «Гитлерюгенд». Они должны были осваивать навыки сельского хозяйства на завоёванных территориях (такая вот странная школьная практика!) но часто бегали на проходивший не очень далеко фронт. За одного из таких беглецов солдаты и приняли моего главного героя, введённые в заблуждение его странной одеждой и поведением.)]
И я сделал ещё одну глупость. Я не прыгнул в кусты, а побежал по дороге. И продолжал бежать, пока не услышал выстрел и не замер на месте, боясь оглянуться.
Немцы, судя по звукам, бежали ко мне. Один что‑то сердито кричал другому, тот вроде бы оправдывался. Я повернулся – медленно, не дыша – и теперь рассмотрел их как следует.
Они правда походили на немцев из фильмов – именно с таким оружием, в серой форме с большими карманами, в пилотках, обоим – где‑то лет по тридцать. Лица у них были сердитые, но не злые. Они что‑то говорили, перебивая друг друга, один дал мне подзатыльник, но несильный, и во мне опять ожила дикая надежда: кино! Да кино же! А это артисты из Германии…
И тут же всё переменилось. Они примолкли, приглядываясь ко мне. Один спросил:
– Шпрейхн зи дойч? [Говоришь по‑немецки?]
Вопрос я, конечно, понял. И медленно покачал головой.
– Ти рюски? – сразу спросил второй.
Какой смысл имело говорить «нет»? А «да" сказать было так страшно, что я промолчал. И понял, до чего это жутко: бояться сказать, какой ты национальности. Для меня всегда было естественно, что я русский.
А сейчас это сделалось почти что смертным приговором…
…В лесу немцев оказалось до чёрта. Вернее, это мне так сперва показалось, что до чёрта – на самом деле, где‑то полсотни. Вкусно пахло – я увидел полевую кухню, возле которой торчали, что‑то говоря, несколько солдат в нижних рубашках. Повар в белом огрызался со своей высокой приступочки, помешивая в котле, замахнулся половником, кто‑то подставил миску, что‑то сказал, остальные заржали… По периметру поляны в траве валялись другие. Несколько человек играли в карты, ещё несколько собрались вокруг молодого парня с гармошкой, который играл на ней и пел низким голосом. За деревьями я различил ходящих часовых. Около ручейка несколько человек мылись или стирались, не поймёшь.
Меня вели через этот лагерь, и никто вокруг не обращал на меня внимания. Вели к раскладному брезентовому столику, возле которого сидели двое – ничем не отличавшиеся от солдат вокруг. Но, когда мы подошли ближе, я увидел на столике поверх бумаг мятые фуражки. Это были офицеры, и они подняли головы.
Мне почему‑то представилось, что сейчас солдаты, которые меня привели, вытянутся в струнку и вскинут руки, но они просто козырнули, как и наши и особо не тянулись. Один из офицеров – постарше, сильно небритый – что‑то ворчливо спросил. Второй – совсем молодой, как старшеклассник, с красными сонными глазами – просто откинулся к стволу дерева и… задремал. Солдаты начали что‑то объяснять – точней, объяснял один, а второй то и дело тыкал меня пальцем в спину и кивал. Мне это страшно надоело, и после шестого или седьмого тычка я огрызнулся:
– Отстань, заманал!
Удивились все (кроме спящего офицера) и больше всех я. Небритый офицер наморщил лоб, покопался в полевой сумке, что‑то бормоча, потом махнул солдатам рукой, и те, повернувшись кругом, пошли прочь. Офицер достал толстую разлохмаченную книжку, она немедленно рассыпалась на листки, два спланировали к моим ногам, я машинально нагнулся и, подняв их, положил перед немцем. Он буркнул:
– Йа, данке… [Да, спасибо…] – и начал перебирать эту кучу. Всё было до такой степени абсурдно, что мне захотелось спать и я с завистью смотрел на молодого офицера. А тот всхрапнул, сам от этого проснулся, обалдело посмотрел по сторонам, что‑то бормотнул и уснул опять. Я хихикнул. Немец наконец разродился: – Ти кто? – он ткнул в меня пальцем с обручальным кольцом.
– Борис Шалыгин, – не стал вертеть я. Он кивнул:
– Ти от… откюда? – и сам поморщился, повторил: – От‑кю‑да… унмёглихь [Невозможно (нем.)]
– Из Новгорода, – опять не нашёл ничего лучшего, как сказать правду, я.
– Ти беженец? – я пожал плечами. – Ти должен отвьечат.
– Ну… да… беженец… – согласился я.
Он опять зарылся в книгу, то и дело что‑то бормоча, явно ругаясь. Потом, стараясь держать пальцы в качестве закладок сразу в десяти местах, он начал вымучивать:
– Форма… какая… твоя… есть…? – и посмотрел на меня с надеждой.
– Это не форма, – я замотал головой. – Точнее, форма… моя старая одежда изорвалась… я снял с убитого…
Он свёл брови, потёр висок и толкнул соседа. Тот немедленно пробудился и начал вставать, ещё не открыв глаз. Старший его усадил и что‑то долго объяснял, потом повторил:
– Форма… какая… твоя… есть…? Форма… Форма… – и потряс себя за лацкан френча. Младший рылся в этой книжке.
– Убитый… – я показал, что падаю. – Я снял с убитого. Моя разорвалась… – и я рванул рукав. – Ну ясно?
– Ти… бил… – старший отобрал у товарища половину книжки, они коротко поругались. Я терпеливо ждал. – Ти бил… ранен? Ти… упал? Я просить про… форма, малтшик!
– Господи… – я вздохнул и хотел снова пуститься в объяснения, но тут молодой разродился длинной тирадой, и оба уставились на меня неприязненно:
– Ти растеват мёртви дойчес зольдат? – угрюмо спросил старший. – Ти ест мародёр!
– Что мне, голому было ходить, что ли?! – возмутился я. – И на нём не было написано, кто он! Лежал себе…
– На‑пи‑са‑но? – офицер потряс перед лицом руками. – Знак… знак… не бил?
На этот раз я вообще не понял, о чём он и промолчал. Кажется, ему это было до фонаря. Оба офицера начали о чём‑то дискутировать. Потом вёдший допрос опять начал мучить себя и меня:
– Куда… Куда бил убит зольдат? – я молча показал на голову. Подловить решили… Мол – а где следы от попаданий на форме?! – Ти партизан?! – неожиданно гаркнул он, привстав. Его товарищ испуганно‑удивлённо посмотрел на соседа, но тот сам уселся обратно и махнул рукой. Потом опять крикнул: – Ваксберг! Уху, Ваксберг, Отто! Ком хир! [Сюда! (нем.)]
Я понял, что им совершенно неинтересен.
Вот только неясно было, что они решили со мной делать?
6
Немец, который меня конвоировал, был не молодой и не старый, лет где‑то 35, и не очень похожий на немцев из кино – невысокий, с простоватым лицом какого‑нибудь колхозного тракториста, без каски и вообще без головного убора. И даже без знаменитого автомата, как у тех, которые меня схватили – он нёс под мышкой винтовку. Именно под мышкой, держа руки свободными.
Пока мы шагали через поле, я лихорадочно думал, не рвануть ли мне в сторону. Слева было открытое пространство, всё в весенней грязи, но вот справа росли какие‑то кусты. Я был уверен, что догнать меня он не догонит. А что он будет стрелять – вообще не верилось. Но в то же время мне было страшно. Вообще страшно, в целом, а не из‑за конвоира или винтовки у него под мышкой. Это был противный, оглушающий страх, от которого я стал безвольным и вскоре бросил даже мысли о бегстве, а смотрел, как приближается опушка рощи вокруг станции и зачем‑то считал шаги.
Как я и предположил, немцам я был на фик не нужен. Не знаю, за кого они меня приняли сперва, но возиться со мной желания не имели. Я сообразил теперь, что эта часть шла, скорей всего по своим делам – фронтовая часть, неполного состава, и пойманный случайно на лесной дороге русский пацан в камуфляже для них был лишней головной болью. А „АСК“ учил нас, что любой хороший командир‑фронтовик старается головную боль спихнуть с плеч своих людей на плечи тех, у кого голова обязана болеть по должности. Небритый, скорее всего, был хорошим командиром – его люди выглядели сытыми, весёлыми и быстро подчинялись приказам. Вот он и отрядил бойца – веди, мол, Отто Какойтович, это чучело… куда?
Вот это и интересно. Не для Отто – он меня сдаст и обратно пошагает, на обед успеет, наверное. А вот для меня – интересно, и очень.
Немец меня не торопил. Он вообще ничего не говорил, а когда я пару раз оглянулся, то увидел, что у него абсолютно равнодушные глаза. От этого мне стало ещё страшнее. Я понял вдруг: он доведёт меня, куда надо и сдаст кому надо, а потом забудет обо мне. Если бы ему приказали меня накормить и отпустить – он бы сделал так и тут же забыл обо мне. Приказали бы отвести в поле и расстрелять – он выполнил бы приказ и забыл бы обо мне точно так же. Это и было страшно.
Нет, если я побегу, он выстрелит. Потом проверит, убил ли меня, пойдёт обратно и доложит о произошедшем. А потом пойдёт на кухню получать обед. Я почувствовал дикий спазм в животе и даже замычал от этой резкой боли, а потом опять оглянулся.
– Хальт, – сказал немец и показал рукой, чтобы я остановился. Что‑то ещё сказал – я не понял и заискивающе пожал плечами, даже самому стало противно. Но немец был не из кино, он был настоящий, понимаете? Я не мог ничего с собой поделать. – Идти… штат, – он показал рукой налево, сошёл на обочину сам и потыкал рукой. Какой „штат“? А, он сказал „ждать“! Я подошёл – мои кроссовки с чавканьем погрузились в грязь. Немец был в грубых ботинках с короткими гетрами, ему легче. Он сел на сухую кочку, а я остался стоять. Меня начало потряхивать, я сунул руки в карманы, стоял и смотрел на него, не понимая, зачем мы сошли с дороги. Немец достал сигареты в яркой пачке – я с удивлением узнал „Pall‑Mall“ и невольно улыбнулся. Наверное, улыбка получилась тоже жалкой, потому что немец вдруг протянул мне пачку и, прикуривая другой рукой от зажигалки, сказал: – Раухен, нун?
– Я не… – у меня сорвалось в горле, я кашлянул и сказал: – Я не курю, спасибо.
Он что‑то буркнул неразборчиво и стал глубоко затягиваться, глядя куда‑то за мою спину. А я стоял и думал, что вот сейчас можно ударить его носком ноги в подбородок. Он здоровый, но от такого удара вырубится точно. И сидит он удобно. Забрать винтовку. Его хватятся не скоро. Бежать. Ведь ясно же, что он в хорошее место меня не приведёт. Офицер не захотел возиться со странно одетым мальчишкой и свалил это дело – а на кого? Да на каких‑нибудь гестаповцев. Они увидят, что я форме, узнают, что меня поймали на лесной дороге – и начнут узнавать то, чего я сроду не знаю. Как им докажешь, что я не парашютист и не партизан, а скаут из 2005 года? Я и сам не очень верю, а они не поверят тем более. Рассказывать про убитого солдата, с которого я всё это снял? Ну‑ну, они прямо шнурки погладили и побежали мне верить…
Но мне было страшно. А если я не смог свалить его одним ударом? А если меня поймают быстро? Если будут ловить с собаками? Тогда сразу убьют. Тут же… И чего он сидит, чего ждёт?
А потом я понял – чего.
Точнее сперва я услышал. Мне показалось, что по дороге гонят стадо – коров, что ли? Звуки – сопение, шлёпанье, чавканье – мне живо напомнили такие стада, которые я видел в деревнях. Я сразу обернулся.
Но это были не коровы.
Это была первая увиденная мною здесь сцена, точно похожая на фильм.
По дороге шли люди.
Их было много, сотня или больше. Они шли медленно, даже волоклись скорее, в каком‑то подобии строя, но в то же время строем не были – толпа, хотя на всех была военная форма. Вернее – её остатки. На многих – шинели и даже ушанки, на других – гимнастёрки, на ком‑то – только галифе и нижнее бельё, кто в ботинках, кто в сапогах, кто босиком… Это были мужчины – одинаково небритые и с одинаковыми лицами, серыми и безразличными, как небо осенью. Они казались сильно выпившими, не знаю, почему – но это так. И только когда они оказались уже совсем близко, до меня дошло, что это пленные. Наши пленные. Я так и застыл – вполоборота, приоткрыв рот и распахнув глаза.
По бокам от колонны шли с десяток конвоиров. Они тоже шагали неспешно и были почти такие же усталые, но с живыми лицами и глазами. Без собак и тоже с винтовками, как мой конвоир. Только у одного, уже совсем немолодого (или просто седоватого, потому что в остальном он был мощный, крепкий и шагал широко), был хорошо знакомый мне уже в реальности автомат „шмайссер“, который на самом деле не автомат и не „шмайссер“, как объяснял нам „АСК“ [То, что называют „автоматом „шмайссер““, на деле пистолет‑пулемёт (оружие, стреляющее очередями и использующее пистолетные патроны) МР‑38 или ‑40. Конструктор Шмайссер действительно был в Германии, но он создал не это оружие, а появившийся летом 42‑го настоящий автомат – оружие, стреляющее специальным патроном, мощнее пистолетного, но слабее винтовочного. ]
Я смотрел на идущую мимо колонну и не мог толком вдохнуть – воздух лился в горло тонкой струйкой и мне казалось, что сейчас я умру. Пленные равнодушно скользили по мне взглядами, и я вдруг сообразил, что они считают меня немцем. А как иначе? Одежда, конвоир сидит мирно и скорей похож на сопровождающего… Мне стало совсем нехорошо, но что я мог сделать? Крикнуть, что я свой? А смысл? И какой я свой?! Я вообще не отсюда!!! Я не сейчас!!!
Многие пленные были в бинтах, чудовищно грязных, не только окровавленных, а именно грязных. Кто‑то помогал кому‑то идти, кто‑то кого‑то почти волок, но в хвосте еле плелись человек пять или шесть. Один из них – круглолицый мужичок в лаптях и галифе с болтающимися завязками – негромко и заунывно говорил:
– Братцы… помогите, братцы… не бросайте, братцы… помогите, братцы…
Тем не менее, он шёл сам. А вот тащившийся рядом с ним худой молодой парень вдруг прямо на ходу рухнул наземь. Двое – они шли в самом конце – обошли его. Я видел, как он попытался подняться – снова и снова. Около него задержался один из конвоиров, такой же молодой как и упавший, тоже с непокрытой головой. Он не бил пленного и не помогал ему, просто стоял рядом, широко расставив ноги в коротких грязных сапогах. Потом посмотрел на удаляющуюся колонну и свистнул через губу. Шедший позади конвоир отмахнулся, не оглядываясь.
Тогда этот парень воткнул в спину пленному – под левую лопатку – широкий плоский штык на своей винтовке. Пленный дёрнулся и затих. Немец поворочал штык, выдернул его, вытер о гимнастёрку заколотого и быстро пошёл следом за колонной. Он прошёл совсем близко, и я увидел, что он курносый, чуть веснушчатый, с грязными потёками на лице.
– Форвертс [Вперёд. ] – буркнул, вставая, мой конвоир. – Гее, гее… [Пошёл, пошёл…] – и мотнул стволом винтовки со штыком.
Я почти бегом бросился на дорогу. Поскользнулся, упал, но тут же вскочил. Во мне ничего не осталось, кроме страха. Раньше, когда я читал книжки про своих ровесников, попадавших в схожие ситуации, я часто удивлялся и даже возмущался тому, как нас описывают – как трусов настоящих! А теперь… Да что теперь? Я прошёл мимо заколотого человека, не в силах на него не глядеть. Он выглядел не так уж и страшно. Но я же видел, как его только что убили – просто за то, что он не смог идти!!! У меня в сознании это не укладывалось, но это было правдой. Я шагал, как ледяная статуя, у которой движутся только ноги. Потом начал плакать – независимо от моего желания или нежелания, у меня просто потекли по щекам слёзы, и я всхлипывал, не стесняясь, и вытирал их рукавом. Потом и плакать перестал, и слёзы высохли на щеках от тёплого ветерка… А мы всё шли и шли и, казалось, роща на горизонте никогда не приблизится достаточно…
…За рощей пряталась станция. Она была шумная, людная, но не как обычный вокзал. Свистел пар, перекликались гудки, везде было полно народу в форме. Люди в гражданском пробирались по стеночкам, хотя они явно тоже занимались каким‑то делом. Я поймал взгляд одного немолодого мужика с длинными усами, который шёл куда‑то с большим гаечным ключом – в этом взгляде были безнадёжность и тоска. Говорили в основном по‑немецки, но я услышал и ещё какую‑то речь, совсем не похожую на немецкую, и другую – наоборот, похожую, и непохожую третью, чем‑то напоминавшую французскую, но отличавшуюся, и датскую – я выучил в Дании довольно много слов. От всего этого я обалдел. Составы ползли по рельсам – волокли вагоны, платформы, на которых громоздилось что‑то под брезентом или открыто стояла техника с часовыми в глубоко надвинутых касках. Грузили уголь, дрова, заливали воду, волокли какие‑то мешки, и все были очень заняты. Около одного из составов – в промежутке между другими – я увидел толпу гражданских, молодых ребят и девчонок, молчаливую и неподвижную, в оцеплении солдат. „Меня туда?! – вдруг вспыхнула мысль. – В Германию, на работы?! Но я не хочу!“ Я даже обернулся на конвоира, но он вёл меня мимо и в конце концов ткнул пальцем в открытую дверь, припёртую кам‑нем, чтобы не закрывалась.
Почти сразу за дверью была конторка, за которой стрекотала на пишущей машинке женщина и сидел толстый немец в расстёгнутом кителе. Я почему‑то сразу подумал, что он не военный, хотя и в какой‑то форме. Ещё один – пожилой, я сообразил, что он железнодорожник, по петлицам – пил на конторке кофе. Мне тоже захотелось. И ещё начинало хотеться есть…
Мой конвоир им что‑то долго объяснял. Они так же долго недовольно отнекивались. Женщина долго печатала, не поднимая глаз. Я долго ждал и думал про кофе и про то, как бы присесть. Позади меня стояла скамья, но я боялся на неё садиться.
Наконец, конвоир, судя по всему, одолел оппонентов, сунул им бумажку рапорта, отдал честь и вышел, что‑то насвистывая. Я представил себе, как он пойдёт обратно, пройдёт мимо трупа на дороге… Потом вернётся к своим и будет есть. А я в это время… Мне захотелось завыть, и я не удержал стона, но тут же испуганно стиснул зубы.
Немцы уставились на меня оба, и толстый спросил на чистом русском:
– У тебя что‑то болит?
– Нет, – поспешно ответил я, – нет, не болит…
– Герр обербаулейтер, – добродушно сказал он. Я моргнул:
– Что?
– Добавляй „герр обербаулейтер“, когда отвечаешь мне.
– Хорошо, герр обербаулейтер, – поспешно сказал я. Он кивнул:
– Так. Ты сельский мальчик?
– Нет, я из Новгорода, герр обербаулейтер.
Он пожал плечами и, отвернувшись к машинистке, начал перебирать какие‑то бумаги. Потом сказал через плечо железнодорожнику:
– „Бауэр, бауэр“… Ферфлюхте думмкопф, ландскнехтен… аллес идиотен зи! [„Крестьянин, крестьянин…“ Проклятое дурачье, солдатня… они все идиоты!]
– Хильфе мир [Помоги мне. ] – сказал пожилой. Толстый вздохнул:
– О, йа, ихь бин дольчмейер, йа, йа, рихьтигь… [О, да, я ведь переводчик, да, да, верно…] Итак, мальчик, мы можем передать тебя в гестапо. Но у них полно дел. Кроме того, судя по записке, ты не замечен ни в чём предосудительном. Я уж не говорю о том, что придётся заполнять кучу анкет, как будто ты жеребец‑производитель, купленный за границей. Поэтому ты будешь кататься на одном из поездов господина Фунше, пока его начальству не надоест эта идиотская затея. Там у тебя будет компания, еда и масса свободного времени…
– Зоя, шрайб, айн кнабэ – нуммер… ух, арштойфель! [Зоя, пиши, один мальчик – номер… ах, чёртова задница!]
– Аллес зер гут [Всё хорошо] – пожилой достал из кармана записную книжку и, заглянув в неё, сказал: – Цвай унд нойнцейн таузанд зибн хундерт фюнф унд фирцейн. [92745. (нем.)]
Сделав какую‑то пометку, он обошёл вокруг конторки, взял меня за плечо и, подталкивая перед собой, вывел в небольшую комнатушку по соседству – я даже не сразу заметил дверь в неё. Это была подсобка‑не подсобка, какая‑то хренотень вроде этого. Он молча кивнул на стул, стоящий возле стола под забитым пылью окном, а сам завозился у настенного шкафа. Потом повернулся ко мне и жестом показал, как закатывает рукав на правой руке.
Я похолодел. В горле поперечной планкой встало дыхание. Мне вспомнилось, что немцы брали у детей кровь для раненых. Неужели?!. Но в таких условиях… Да нет, не может быть! Негнущимися пальцами я закатывал рукав камуфляжа и защитной водолазки под ним. Немец подошёл, что‑то неся в руке – от страха я не мог понять, что это, но не шприц – точно.
Он приложил этот предмет к моей руке на ладонь выше запястья – и резко нажал. От острой боли я вскинулся, но немец пихнул меня обратно и что‑то буркнул.
Я посмотрел на свою руку.
На незагорелой коже оплывали кровью сине‑алые цифры –
92745
7
Конвоировали меня не немцы. Они были одеты в немецкую форму, оба – с оружием, с автоматами, у которых слева торчал круглый барабан магазина, я таких раньше нигде не видел, – а на рукавах – сине‑чёрно‑белые нашивки. Это были эстонцы, и сразу за порогом конторы, где мне поставили на руку номер, один из них с такой силой врезал мне между лопаток автоматом, что я перестал дышать и упал. Нас обходили равнодушно, только какая‑то женщина в гражданском, с ведром в руке, остановилась, и я, приподняв голову, увидел в глазах её слёзы.
– Прохоттии, рюская сфиньйа, – сказал один из конвоиров, молодой, на пару лет старше меня.
– Он же… – начала она, но второй эстонец спросил:
– Тти тоше хоччешь? – и она, согнувшись, поспешила прочь.
Я тем временем научился кое‑как дышать и встал на ноги. Никогда в жизни меня не били с такой силой и злобой. И, может быть, поэтому страх вдруг выключился… а точнее – перегорел, как лампочка. Я вытер о боковые карманы куртки содранные ладони – и зашагал дальше.
Мы перешли через пути, через другие… На третьих стояла коричнево‑жёлтая громада броневагона с танковой башней, на ней сидели двое солдат в расстёгнутых комбинезонах и играли в карты. А левее двое часовых – в чёрной форме, в кепи и с повязками на рукавах, с винтовками через плечо – прохаживались туда‑сюда вдоль стенок вагона‑скотовозки. На повязках я различил надпись: Polizej Полицаи… Эстонцы заговорили с ними по‑немецки, и один из полицаев откатил в сторону вагонную дверь – на полметра, только пролезть. Тот, который ударил меня прикладом, подпихнул в спину и усмехнулся:
– Полесай, рюски. Польше не уфиттимса.
– Как знать, тварь, – ответил я ему через плечо. – Но молись, чтоб не увиделись.
И полицай задвинул дверь прямо перед побелевшими глазами эстонца…
…Я почему‑то думал, что внутри вагона будет темно, но там оказалось достаточно света – доски были пригнаны неплотно, тут и там перекрещивались лучики. Пахло несвежей соломой и людьми. Я стоял около захлопнувшейся двери, не решаясь сделать хотя бы один шаг. Мне вдруг стало опять очень страшно – не от чего‑то, а вообще – и я просто осматривал вагон.
Тут были дети. В основном – маленькие, лет по 5‑10, девочки и мальчики, не меньше тридцати. Большинство из них спали аккуратным рядком на этой соломе, несколько сидели, приникнув к самым широким щелям и тихонько переговаривались. Если я что‑то понимаю в одежде, то дети были городские, хотя всё их барахло было грязным и потрёпанным. На меня никто из них не посмотрел.
Вместе с этими детьми были три или четыре – я внезапно разучился воспринимать окружающее как цельную картину – девочки постарше, может – моего возраста, может – чуть младше или чуть старше. Я не оговорился – именно с этими детьми, потому что девчонки находились вместе с младшими и одна, что‑то приговаривая, переплетала косы сразу двум мелким. А в правом конце вагона сидели старшие мальчишки, тоже моих лет. Вот они на меня смотрели, и потом один из них – скуластый и курносый крепыш – негромко окликнул:
– Эй. Чего стоишь, иди сюда.
Я подошёл и сел без приглашения. Вытянул ноги, прислонился спиной к щелястой стене и вдруг понял, что невероятно устал. Это было последнее, что я успел подумать связно – дальше надвинулась чернота. Если ребята что‑то и хотели у меня спросить – это им не удалось.
Даже во сне я продолжал помнить, что со мной случилось и не удивился, когда, разбужденный толчками в плечо, открыл глаза и увидел всё тот же вагон. Младшие гомонили сдержанно, словно чего‑то ждали… и я как‑то не сразу сообразил, что принесли еду – большой бачок. Что интересно. Старшим пацанам ничего не стоило, конечно, установить в вагоне свою диктатуру. Но они спокойно смотрели, как девчонки раскладывают какую‑то кашу и тонкие ломтики серого хлеба в ладони младшим. Мне это понравилось, и я поинтересовался у разбудившего меня курносого:
– Чего, пайку принесли?
– Мотал, что ли? – поинтересовался быстроглазый худощавый паренёк. Я понял, что он спрашивает про зону и отозвался:
– Не, так…
– Жаль, я думал – своего брата блатнячка встретил а ты тоже фраер… – вздохнул он. Курносый молча показал ему кулак, а я понял, что это всё просто приколы. Худощавый усмехнулся, откинулся на сено и негромко запел:
По карманам ловко смыкал,
В драке всех ножом он тыкал
И за то прозвали его Смыком – оппа!..
Странно, но я чувствовал себя сейчас намного лучше, чем раньше. Может быть, потому что появилась какая‑то определённость… Кстати, никто не спешил мне представляться и никто ничего не спрашивал у меня. Старших ребят кроме курносого крепыша и приблатнённого быстроглазика оказалось ещё трое. Двое типично сельские мальчишки, угрюмые и малоподвижные. И белокурый мальчишка, то и дело покусывавший уголок губы. Я присматривался к ним, они – ко мне, каждый по‑своему.
Девчонки выделили нам кашу и хлеб. Каша оказалась овсянкой, и то, что её плюхали в ладони, настроения не улучшало. Бачок и картонный ящик никто забирать не спешил, зато вдруг вагон дёрнулся, лязгнул, по полу загуляли сквознячки, и я понял, что мы едем. Вот тут я не выдержал:
– Куда нас? – спросил я сразу у всех и ни у кого. Ответил курносый:
– Перед паровозом поставили. От партизан. Да всё как всегда.
– Перед каким паровозом? – не понял я. – Зачем перед паровозом?
– Товарисч не из нашей камеры, – заметил приблатнённый. – Он сел не на тот поезд.
– Можно подумать, что ты тут всю жизнь мечтал оказаться, – огрызнулся я. Он покладисто согласился:
– Тоже верно… А перед паровозом нас пускают уже две недели, чтобы партизаны состав не подорвали. Вся округа знает, что в вагоне гоняют младших из детского дома. Под это дело они своих раненых с фронта вывозят, а на фронт, само собой, гонят подкрепления и технику. Знают, что наши ничего делать не станут. Вот и вся история.
– Ччёрт… – процедил я и яростно облизал ладони. Чуть не спросил, где помыть руки и свирепо вытер их о стену. – Вы тоже из детдома, что ли?
– А ты? – спросил курносый.
– Я нет… Я беженец. Из Новгорода. В общем, так получилось…
– Мы тут все беженцы и у всех так получилось, – сказал белобрысый. – Кто постарше, я имею в виду. Из детдома младшие и девчонки. Их сперва не трогали, как они тут застряли. В одном селе. А потом раз – и сгребли…
Я посмотрел в сторону младших. Девчонки собрали тех полукругом, и од‑на из них что‑то строго говорила. Я различил слова: „СССР… Сталин… война… фашисты…“ Политработа. Великая вещь, как говорил „АСК“. Но мне‑то что делать?
– Бежать не пробовали? – деловито спросил я. Все пятеро переглянулись. Курносый сказал:
– Они предупредили, что младших убьют, если кто‑то сбежит. У них это быстро.
– Сволочи, – искренне сказал я и сообразил вдруг, что это касается меня напрямую! Я тоже во всём этом по уши! – Давайте познакомимся, что ли… Вот честное слово, я не провокатор. Я Борька. Шалыгин.
– Сашка Казьмин, – протянул мне руку курносый.
Блатнячок оказался Гришей Григорьевым (я так и не понял, правда ли это). Сельских ребят звали Савка Пантюхин и Тошка Буров. Белобрысый оказался Колькой Витцелем.
– Так ты немец, что ли? – удивился я.
– Я советский человек, – упрямо сказал он. – И родители у меня советские люди. Мне эти, – он мотнул куда‑то головой, – уже говорили, ты, мол, фольксдойче, твоё место в наших рядах… Пусть подавятся своим местом, гады, фашисты…
– Ясно, – пробормотал я. Гришка заметил:
– Камзол у тебя высший класс. С кого снял?
– С убитого немца, – ответил я. – Удобная вещь в лесу, – и заметил, что меня смерили внимательными взглядами. – А как тут с туалетом?
– Дырка вон там, – Сашка ткнул в переднюю часть вагона, где была перегородка из висящих одеял. Я снова ругнулся:
– Номер с удобствами… – оперся спиной о стену плотней и охнул.
– Били? – спросил Сашка. Я поморщился:
– Да‑а… Прикладом один раз… Ерунда.
Вагон поматывало на рельсах, под полом скрежетало и ухало. В щелях начинало алеть – закат… Подходил концу первый день моего пребывания в… Кстати, какой же это год? Не сорок первый – весной войны ещё не было, а тут явно май. Весна сорок третьего или, скорей, сорок второго. В сорок четвёртом они уже не были такими наглыми, а в сорок пятом война закончилась… Эх, сюда бы Олега, он бы по форме догадался… Нет, стоп. „Строк“, оставайся на своём месте, такое желать даже в шутку не стоит…
Я сходил за занавеску – отлить, весь день ведь терпел. Как‑то особо стыдно не было. Что делать, раз обстоятельства такие? Вернувшись, снова улёгся на солому. Меня поразило, как тихо и послушно вели себя младшие – подчинялись практически каждому жесту девчонок и буквально глядели им в рот. Следя за этим, я сказал бездумно:
– Когда меня вели, навстречу пленные шли… Один упал, и конвоир его заколол. Я не думал, что это так… просто.
– Это ты ещё мало видел, – сказал Сашка.
– Немного, – согласился я. – А такого и вовсе не видеть бы.
– Это правда, – он улёгся рядом и закинул руки за голову. Мне хотелось спросить, каким образом он сам попал к немцам, но я понимал, что задавать такой вопрос небезопасно. Придушат ночью, долго ли. Решат, что провокатор или предатель. Колька спросил из полутьмы:
– Ты не слышал, что на фронте?
– Нет, – отозвался я. – Я в лесу долго был… А что было последний раз?
– Наши начали наступление на Севастополь, – надо было слышать, как Колька произнёс „наши“… А я промолчал. Олег нам буквально все уши прожужжал, и я сейчас хорошо вспомнил всё, им рассказанное.
8 мая 1942 года – именно сегодня – армия Манштейна встречным ударом разгромила наши войска в Крыму, пытавшиеся деблокировать Севастополь. 14 мая падёт Керчь. Через четыре дня – 12 мая – наши пойдут в наступление на Харьков, немцы заманят армию в „мешок“ и в конце мая, разделавшись с ней, по степям рванут на Сталинград и Кавказ… А ещё именно в эти дни в сорок втором Северо‑Западный и Ленинградский фронты начали наступление, чтобы снять блокаду Ленинграда – и скоро генерал Власов где‑то недалеко от нас погубит в болотах 2‑ю ударную армию…
О господи. Самое страшное ещё впереди… И посреди всего этого страшного – я. Как муха в клею. И что делать – совершенно, до стона, непонятно.
Может быть, просто сейчас поспать? А там решим?
С этими мыслями я и уснул.
8
Спал я одновременно глубоко и плохо. Это возможно, если кто не верит. Меня донимала боль в руке, шум под полом, грохот и свист, гудки и ещё чёрт‑те‑что. Но проснуться при этом я не мог – слишком устал. Усталость не давала никак реагировать на все эти мутные заморочки, требуя одного: спать. Отдыхать. Может, оно и было к лучшему. Ещё мне снилось, что я дома и то, что со мной случилось – сон.
С этой мыслью я и проснулся. Как раз к завтраку. И снова – каюсь – зажмурил глаза, надеясь, что всё окружающее растает и пропадёт.
Чёрта с два…
Двери были открыты настежь. За ними маячили конвоиры – немцы, кажется. А за их спинами были угрюмые строения, составы и – море! Совсем близко! На берегу лежали несколько корабельных корпусов. А подальше угрюмо серели на рейде боевые суда. Два или три не очень больших конвоировали подводную лодку, на палубе и рубке которой суетились люди.
– Рига, – сказал Сашка.
Он привстал, опираясь на локти. Остальные ещё дремали… хотя нет, мелкие уже возились и девчонки проснулись.
– Рига? – заторможенно спросил я. – Литва? Сашка кивнул и проводил взглядом проплывающие по соседнему пути платформы, на которых стояли окрашенные в жёлто‑коричневое танки. – В Африку собирались отправить, – машинально сказал я. Сашка повернулся:
– Откуда знаешь?
– А окраска… Такая для пустыни.
– В Африку… – он проводил взглядом ещё один танк. – Значит, плохо у них, раз резервы с фронта на фронт кидают…
– Не особо радуйся, – покачал я головой, рассматривая свою руку. – Сил у них ещё ого‑го… Вся Европа на них работает. И многие – охотно.
Сашка промолчал. Но глаза у него были не просто ненавидящие – я прочёл в них что‑то такое, чему просто не было названия в человеческом языке. Чтобы отвлечься, я снова стал смотреть в дверь. Двое мелких пацанов, присев и свесив ноги наружу, повторяли за одним из солдат – молодым весёлым парнем – под смех некоторых его товарищей – исковерканные матерные русские слова – старательно и непонимающе. Но уже немолодой немец с какими‑то нашивками, подойдя, отпустил молодому подзатыльник и что‑то сказал. Подошла и одна из девчонок, взяла младших, не глядя на немцев, за шиворотки, поставила на ноги и несильно ударила по губам одного и другого:
– Чтобы больше не слышала, – сказала она. – Пошли на место.
– Айн момент, фроляйн [Минутку, сударыня. ], – сказал кто‑то из немцев и протянул большую шоколадку. – Битте, фроляйн. Фюр кляйне киндер, битте [Пожалуйста, сударыня. Для маленьких, пожалуйста. ]
– Возьми, Лен, – сказал Сашка. Девчонка взяла молча, не поблагодарив. И, вернувшись на место, начала делить шоколад между младшими.
– Сволочи… – прошептал Сашка. – Откупаются, что наши дома жгли…
– У них тоже дети, наверное, – сказал я. – И дома…
– Ну и сидели бы со своими детьми у себя дома, – сказал Сашка. И почти выплюнул: – Ненавижу…
– А где твои родители? – спросил я. Сашка не ответил.
Одна из девчонок бросила на пол обёртку от шоколадки. Я присмотрелся и увидел с изумлением, на миг перешедшим в ступор, невероятную надпись:
N e s t l e
Пару секунд я на эту надпись просто смотрел. Потом хихикнул и начал смеяться. Проснувшиеся от смеха ребята смотрели на меня с испугом, потом Тошка спросил:
– Ты чего, с ума спятил?
Я не мог ответить. Я хохотал уже в голос, с повизгиваньем, так, что даже немцы недоумённо заглядывали в дверь и переговаривались. Стоило мне бросить взгляд на эту надпись на мятой бумаге с рисунком, совсем не похожим на рисунки того же шоколада моего времени, как меня опять пробивало на хи‑хи. Я ничего не мог бы объяснить, даже если бы перестал ржать.
Но я и перестать не мог…
* * *
Нас поставили впереди состава, в котором – как мы успели заметить, когда его перегоняли по параллельным путям – были вперемешку вагоны с солдатами и платформы с орудиями. Мы с ребятами, не сговариваясь, перебрались ближе к двери – её так и не закрыли пока – и смотрели, как всё это плывёт мимо нас. Сашка негромко считал платформы, потом сказал:
– Если считать по сорок человек в вагоне, то не меньше полка… И пушек штук тридцать.
– Это, наверное, и есть артиллерийский полк, – заметил Колька. – Стапятимиллиметровые гаубицы… Сейчас бы…
Он не договорил. Один из оставшихся на часах у двери солдат, слушавший нас, что‑то сказал, ткнув в эшелон, потом кивнул и ещё довольно долго о чём‑то распространялся, а в конце добавил по‑русски:
– Ленинград… рус конец, бум! – и показал, как взрывается снаряд. – Рус плен, – поднял руки и засмеялся добродушно.
Сашка побелел. И, прежде чем я успел хоть что‑то сказать, выкрикнул:
– Сам конец! Сам плен! Гитлер капут, бум!
Я офонарел и ожидал, что сейчас начнутся – мягко сказано – неприятности. Но немец только серьёзно покачал головой и, назидательно подняв палец, опять заговорил, начав со слова „фюрер“ и закончив словом „уберменш“. Потом усмехнулся и отошёл в сторону.
– Говорит, что фюрер великий человек, – сказал Колька. Я спросил:
– Ты знаешь немецкий?.. А, да, конечно…
Сашку трясло. Он кусал губы и смотрел бешеными глазами. Я, честное слово, обрадовался, когда после „завтрака“ – кружки с невероятной бурдой, одно хорошо, что горячей, и ломтики серого хлеба, намазанные чем‑то невообразимым, сладковато‑химическим – дверь закрыли и мы опять куда‑то отправились. Скорее всего – в обратный путь, к фронту.
Девчонки занимали младших – на этот раз не уроком, а какой‑то игрой, с их стороны то и дело слышался смех. Хорошо им… Гришка доматывался с какой‑то ерундой к Савке и Тошке, называя их „куркулями“,„пособниками“ и ещё разными непонятными словами – те ворчливо отругивались, явно уступая оппоненту. Колька о чём‑то думал, лёжа на соломе. Сашка замер лицом к стенке вагона.
От безделья я тоже начал думать – в первую очередь, о том, что же теперь со мной будет, как я сюда попал и что станется с моими родными. От этих мыслей хотелось повеситься прямо тут же, и я понял, что так и сделаю в скором времени, если не отвлекусь. На что угодно.
Подумав так, я заставил себя встать с соломы (чёрт, каких усилий это потребовало! Не физических, но мне кто‑то словно шептал на ухо: „Не ворошись, лежи, успокойся, чего трепыхаться?“) и стащил куртку и водолазку. На меня смотрели все, кроме Сашки – с недоумением. А я совершенно невозмутимо принялся за разминку – как обычно перед занятиями штурмовым боем в дружине. Когда я закинул ногу на стенку выше своей головы и начал растягиваться, Гришка сказал:
– Ловко, – и, встав, попытался сделать то же самое. – Чёрт, ну ты даёшь! – сообщил он, когда ничего не получилось. Вместо ответа я ткнул его в плечо. – Ты чего? – я повторил тычок, и он отмахнулся… после чего полетел на солому через моё бедро. Но тут же вскочил: – Опа! Это ты как?! А ну…
Я кинул его ещё раз. Очевидно, он умел драться, конечно – и всё‑таки не успевал защититься или атаковать. Когда я побросал его ещё пару раз, Гришка растянулся на соломе и поднял руки:
– Всё, пас. Тебе только в мусорне работать, один малины грёб бы… У тебя папахен не мусор?
– Нет, – усмехнулся я. И увидел, что поднялся Колька:
– А со мной?..
…Короче, я расшевелился сам и расшевелил остальных, даже Сашку, хотя, если честно, этого делать не собирался. Младшие и девчонки прекратили свои игры и смотрели на нас, как на стадионе. Дольше всего мне пришлось возиться с Колькой. Тошка и Савка дрались по‑деревенски, нанося размашистые удары кулаками и совершенно не умели бороться. Примерно так же дрался и Сашка, хотя он, кажется, знал кое‑какие броски и захваты. А Колька вдруг оказался опасным соперником, и я поинтересовался, когда мы отдыхали на соломе:
– Ты борьбой занимался, что ли?
– Французской борьбой и французским боксом [Французская борьба – то, что сейчас называют вольной борьбой. Французский бокс – малоизвестный в России вид боевого единоборства, сочетающий удары ногами и кулаками. ] , ‑ ответил он. – Сосед учил, товарищ Лепелье. Он был коминтерновец… [Коминтерн – Коммунистический Интернационал – организация коммунистов всего мира, в 30‑х годах ХХ века активно противостоявшая так же международному фашистско‑нацистскому движению. Наиболее активны коминтерновцы были в Испании и Франции. Объективно Коминтерн был во многом орудием СССР в борьбе за мировое господство, но большинство его членов являлись мужественными и убеждёнными в правоте своего дела людьми. ] – и Колька вдруг из сидячего положения лёгким взмахом ноги достал стенку у себя над головой.
Общая разминка нас как‑то сблизила, и я неожиданно для самого себя сказал:
– Послушайте, нас ведь так будут возить до скончанья века. Надо бежать.
– Малышей убьют, – напомнил Сашка.
– Значит, надо бежать всем, – отрезал я.
На меня уставились со смесью интереса и раздражения. В щелях мелькал весенний лес. Ветерок крутил на полу солому и пыль. Младшие, увидев, что представление кончилось, снова вернулись к своим делам.
– Слушай, – наконец сказал Колька, – ты не думай, что ты один такой умный и хочешь на свободу… Мы тут все головы себе сломали…
– Ага, – радостно перебил его я, – так вы меня не считаете провокатором?!
– А смысл? – это спросил Сашка, пожав плечами. – Нахрена им нас подбивать на побег? Тем более, что отсюда и сбежать невозможно.
– Сортирная дырка, – быстро сказал я.
– Тридцать сантиметров в диаметре, – фыркнул Колька.
– Расширить, – подал я идею. – А, да… Она железкой оббита…
– Во‑во, – кивнул Сашка.
– А вы вообще пол проверяли? – настаивал я. – Может, где‑то можно доски расшатать…
– Смысл? – коротко спросил Колька. – Мы бы ещё смогли на рельсы спуститься на ходу. А младшие сразу под колёса полетят. А если на остановке – то кругом эти гады.
Я заткнулся. Да, теперь я понимал, почему ребята моего возраста в моём времени часто не убегают, когда есть возможность, от разных там террористов и прочее. Не от трусости. Почти всегда рядом младшие… Мне они, например, никто. Но я уже чувствовал, что не смогу их бросить, зная, что за мой побег их убьют.
– Может, пугают насчёт расстрела, – предположил я неуверенно. – Ну, вот эти немцы, из охраны… Неужели правда маленьких будут убивать?
– Они не будут, – согласился Сашка. – Начальник охраны эстонцам скажет. А те… – и он поморщился. Я вздохнул и сел удобнее.
Что ещё оставалось?..
…Не знаю, как назывался этот город, где охрана снова открыла дверь. Тут тоже стояли поезда. И прямо напротив нас – санитарный.
Ещё когда мы только останавливались, я услышал шум – крики, стоны, ругань – и настроился на то, что сейчас увижу какую‑нибудь зверскую расправу или, как минимум, эшелон с угоняемыми в рабство. Но напротив нас грузили в вагоны и сгружали с них раненых – царила невероятная сутолока. Я лично не видел никакого порядка – через носилки с лежащими на них людьми переступали, тащили куда‑то, кто‑то орал… Прямо напротив дверей сидел человек в чёрной куртке и маске. Он курил сигарету, вставленную в алую прорезь. И только через полминуты я сообразил, что нет ни куртки, ни маски – я видел обгоревшего, кожа тут и там полопалась трещинами, всё это сочилось сукровицей. Глаза у человека уцелели, и он смотрел на нас отсутствующим взглядом откуда‑то из‑за такой боли, что вряд ли понимал, кого видит перед собой. Возле него на носилках лежал огромный солдат с безучастным лицом – огромный до бёдер, а ниже начиналась бурая от засохшей крови простыня. Дальше – молодой парень без нижней челюсти, он раскачивался по кругу, а другой солдат, с перевязанной головой, то и дело вытирал какой‑то тряпкой розовую пену с его лица. Тоже молодой офицер в форме ЭсЭсовца читал книжку левым глазом – справа у него всё было снесено, половина носа, губы; щека висела лохмотьями, зубы торчали через один, пошевеливался язык…
И я услышал, как Сашка смеётся. Потом он крикнул:
– Ну что, фрицы?! Получили нашу землю?! Погодите чуть – вас в ней и похоронят! Вот тогда ваша будет – два на три, всё ваше!
Его услышали. Наш поезд тронулся, двери закрыли, но я видел сквозь щель, как за нами на костыле прыгает рыжий солдат с перекошенным лицом. Он стрелял в наш вагон из пистолета, пули расщепляли, не пробивая, толстые доски, а он выкрикивал что‑то и не отставал, пока его не перехватили санитары.
Сашка смеялся. Это было почти так же страшно, как увиденная мною картина раненых.
Сашка смеялся.
9
… ‑ Мы жили на краю села. Я, мама, батя, сестры… Они старше меня были, а мама и батя уже немолодые. Я у них последний, пацан к тому же. В общем, они меня баловали даже… Батя ушёл летом, в августе, а в начале сентября мы на него уже похоронку получили… Смертью храбрых… А потом немцы пришли. Я даже не верил, что так может быть. Вот смотрел и не верил. Сперва они и не делали ничего, пёрли и пёрли через село… А потом у нас остановились, которые обратно шли, с фронта на переформирование. Сразу волками смотрели, потом перепились в хрень, я наших мужиков, уж на что мастера у нас были треснуть, даже по праздникам такими не видел. Половина под стол попадала, а остальные сперва пели, я так понял – своих поминали… Мы с матерью им прислуживали. Я сперва не хотел, а потом подумал – пусть лучше я, чем сёстры. Они в сарае прятались. Мамка уже немолодая, а ко мне‑то лезть не будут… Не лезли, конечно, только пинки отвешивали. Мы им самогон носили, думали – ужрутся же в конце концов! Ну, почти все упились. А пятеро – ни в какую, хлещут, как воду, и ни в одном глазу. Один такой… как бык здоровый, но подобрей остальных. Двое так, обычные мужики, ещё один немолодой, но питух позлей остальных. И пятый молодой совсем, года на три‑четыре вот нас постарше. Самый заядлый… Он сестрёнок и нашёл. По нужде, гад, вышел, и услышал, как они в сарае переговаривались… Вернулся, своих зовёт, ржёт… Мамка поняла, что к чему, и в дверях как окаменела. Они сперва со смехом, а она не пускает… Тогда этот младший достал нож и её – раз, раз, раз… Я за вилы, в сенях стояли. И в живот ему… Он только охнул, и всё. Тогда они меня схватили и тоже в сарай. Привязали к двери и своих из других домов зовут. Человек двадцать собралось. Я не хотел смотреть, а один мне глаза пальцами раскрыл, чтобы я видел, как они сестрёнок… Я уже думал – ну чтоб они умерли поскорее… А они ещё до утра живы были. И эти… Устали, разошлись, а нет‑нет кто‑то зайдёт обратно и опять… Знаешь, как будто поссать – и не очень хочется, а надо… А под утро они всё внутри керосином облили. И сестрёнок, они уже… неживые были. И меня. И подожгли… Я не знаю, как там дальше получилось. Я в себя только за сараем пришёл, в канаве. Даже волосы почти не обгорели. Там и прятался, думал – только бы они ещё на ночь остались, я бы им сделал… Не остались, ушли. И я ушел, в лес. Дня три бродил один, думал – с ума сойду, мамкин голос слышал. Потом встретил наших окруженцев. С ними пошёл. Всю зиму тут кружили, где могли – нападали. А в конце апреля нас расколотили. Я ушёл, а на одном кордоне хозяин меня фрицам выдал. Хорошо ещё, решил – я просто бродяга…
…Сашка замолчал. Я видел в темноте его блестящий глаз и капельки пота на лбу. И молчал. Что я сказать‑то мог? А он помолчал ещё и спросил:
– Ты кем мечтал быть? Ну, до войны? – я пожал плечами. Я не знал: – А я полярником, – признался он. – „Семеро смелых“ смотрел? Как там… Хотел узнать, где на них учат. Или даже сбежать, тоже как в кино… Я вот думаю – и какое право они имели придти и всё порушить?
– Да никакого, – согласился я.
Я что‑то ещё хотел спросить, не помню, что. И не вспомню, потому что в этот самый момент ахнул взрыв!
В какой‑то момент мне показалось, что подорвали наш вагон. Истошно завыл гудок паровоза, под полом страшно заскрежетало, вагон сунулся вперёд, закричали и заплакали младшие, кто‑то – кажется, Гришка – крикнул: „Чо за х…ня?!“ И тут всё это перекрыл грохот пулемёта.
– Ложись! – прокричал Сашка. Но мы не успели упасть на пол – дверь дрогнула и отскочила в сторону, человек, видневшийся в проёме смутным силуэтом, крикнул:
– Скорее наружу!
– Младших! – мгновенно сориентировался Сашка.
Мы попрыгали под откос. Паровоз ревел, гудел и выл, около вагонов кричали и стреляли, от леса – совсем недалёкого – и в лес летели огненные строчки и точки. Я хватал младших, которых мне передавали девчонки, и пихал их в сторону леса, сам ещё не понимая, что происходит. Открывший дверь человек – в гражданском, но с винтовкой – вдруг сорвал её с плеча, упал на колено и начал стрелять. Кто‑то из младших тоненько закричал, что‑то свистнуло у меня над ухом, и я увидел, что вдоль паровоза бегут трое. „Дзанн, вжжиг, вжжиг!“ – с воем отскочило что‑то от засова на дверях. Один из бегущих упал, двое других упали на колено – и освободивший нас человек опрокинулся на спину. Я видел, как Тошка нагнулся за его винтовкой – и вдруг дёрнулся и встал на колени, изо рта у него полилось чёрное, и Тошка тоже упал… Но Колька подхватил винтовку – выстрел! Стоявший на колене упал под колёса. Второй вскочил и побежал обратно, но Колька выстрелил снова – и тот покатился под откос. Сашка зачем‑то рванулся вперёд, я, ничего не понимая, побежал за ним. По‑прежнему без мыслей я повторил его движение – он поднял выпавшую из рук убитого (это был не немец, не эстонец, а полицай) винтовку, я так же подобрал винтовку у второго, сорвал патронташ, уже сам об этом догадавшись. Мы прыгнули под откос и побежали к лесу…
…Мы похоронили маленького – мальчика лет восьми, его звали Женя – у корней большого дуба. Пуля попала ему в шею и он умер на руках у Севки, пока мы бежали к лесу. Больше из нас никого не задело, если не считать убитого Тошки, оставшегося на путях. Помню, что я хотел помолиться и перекреститься, но люди, стоявшие вокруг, не делали этого.
Отрядом это назвать было нельзя – четыре человека и пулемёт, „максим“. Трое были военными. Точнее – все четверо, просто четвёртый – медлительный и большой эстонец – всё ещё носил немецкую форму, хотя и без знаков различия. Командира знал Сашка, это был Ряжин Сергей Викентьевич, подтянутый такой высокий человек лет сорока, капитан Красной Армии. Они с Сашкой долго и без стеснения обнимались, Сашка что‑то сбивчиво рассказывал и твердил: „А я думал, вас убили всех… я что один спасся…“ – а мужчина улыбался и ерошил Сашке волосы. Мне сперва даже неудобно стало на это глядеть, я только потом понял, что в этом времени ничего такого между мальчишками и мужчинами не бывает.
Они давно собирались напасть на этот поезд, но никак не могли придумать, как это сделать. Тогда они просто взорвали рельсу перед поездом остатками тола и открыли пальбу по вагонам, а под шумок вытащили нас. Впрочем, как оказалось, радоваться было рано. Сергей Викеньтевич сказал почти сразу:
– Сейчас они полезут нас искать… Девочки, – обратился он к девчонкам, собравшим вокруг себя младших, – мы вас прикроем. Кто‑нибудь знает, как стороны света определять? – отозвались сразу несколько. – Пойдёте по лесам прямо на юг. Так доберётесь до села Белебелка. Там партизанская республика. Идите не останавливаясь, как бы трудно не было. Это далеко, но вы дойдёте… Ты, и ты, – он посмотрел на Севку и Гришку, – пойдёте с ними. Лишнего оружия у меня нет. И девочкам будет трудно одним.
– За что? – Севка побелел и так посмотрел вокруг, что я крепче вцепился в свою винтовку, готовясь, что он бросится её отбирать. – Я… за что вы меня?! – Гришка промолчал, но вдруг стал часто моргать…
– Без разговоров! – прикрикнул Сергей Викентьевич. – Марш! – и смотрел вслед уходящим, пока они не скрылись за деревьями. После этого повернулся к нам. А я стоял и думал ошарашенно, до чего остервенело вцепился в собственный билетик на тот свет. По идее я должен был ещё и приплатить тому, кто у меня заберёт оружие… – Все за мной, на позицию.
* * *
Я не очень много понимаю в военном деле. Но у нас было шесть винтовок, пистолет‑пулемёт, два револьвера и пулемёт, а к нему – около сотни патрон. Гранат не имелось вообще. В эшелоне ехало не меньше батальона фрицев, человек пятьсот. Поэтому предстоящий бой выглядел чистейшим самоубийством.
Так я подумал. А потом подумал ещё, что и окружающие это знают наверняка. Просто есть три с половиной десятка маленьких детей и девчонок, которые сейчас уходят сквозь лес от рабства. А нас семеро, и мы – мужчины. Естественно, что мы должны их прикрыть собой.
Эта мысль меня успокоила. Смешно, но это правда.
Сергей Викентьевич расположил нас на пригорке, в который утыкалась лесная прогалина – в центре пулемёт, по сторонам остальные. За пулемёт лёг тот здоровяк в немецком мундире. Увидев, что я на него смотрю, он улыбнулся и сказал, показав на себя:
– Эйно Парк… я эстонес, так, – очевидно, мой взгляд выдал мои же мысли, потому что он указал в ту сторону, где была железная дорога, покачал головой и сказал неожиданно горячо: – Те – не эстонцы. Кайтселийт [Кайтселийт – военизированная фашистская организация в Эстонии 20‑40‑х г.г. ХХ века. Из кайтселитчиков набиралась охрана многих концлагерей, они „прославились“ карательными экспедициями в тылах группы армий „Север“ и расправами с мирным русским населением, хотя при этом, следует признать, отличались храбростью и в настоящих боях. ] , тьфу, бантиты! – и сплюнул. – Я пежал… к партисаны… Я эстонес, не они.
– Борька Шалыгин, – сказал я и занялся своей винтовкой.
Это оказался немецкий „маузер“. Я в принципе знал, как им пользоваться и даже знал, что у него сильная отдача, но в руках никогда не держал. В магазине не хватало патрона, я дозарядил его и начал целиться между двумя деревьями на прогалине. Лежал и думал, что, может, немцы ещё и не станут организовывать преследование. И что если бы не это нападение, мы бы так и ехали в поезде, в относительной безопасности – и поэтому, наверное, многие люди быстро мирятся с рабством: ты несвободен, зато в безопасности, а начнёшь бунтовать – и всё…
– Идут, – сказал Сергей Викентьевич. Я встрепенулся, прислушался – и услышал голоса, перекликавшиеся вроде бы совсем недалеко. Они звучали не по‑немецки, и я к своему изумлению узнал датскую речь! Но над этим некогда было особо задумываться, потому что первые из преследователей появились между деревьями – они шли далеко друг от друга, перекликаясь и вертя головами. То есть вели себя так, как в лесу вести нельзя. Я увидел, как Эйно припал к пулемёту, чуть опустил любопытное чёрное рыльце. И сам приложился, поймав в прицел вооружённого пистолет‑пулемётом солдата, шагающего прямо на меня. Ни страха, ни жалости я не ощущал. Я вообще не воспринимал идущего ко мне человека, как человека. Вот и всё. Нет, я не видел в нём персонаж компьютерной игры, всякая такая ерундень, которую обычно приписывают подросткам. Просто он был до такой степени чужим в весеннем утреннем лесу (а уже почти совсем рассвело), что…
– Огонь!!! – прокричал Сергей Викентьевич.
Я выстрелил. Отдача действительно оказалась мощной, я увидел, как промахнулся – солдат присел и тут же бросился в сторону. Звуков сразу не стало – рядом бил „максим“, начисто глуша их. Я дёрнул затвор, прицелился и выстрелил снова, в то дерево, за которым прятался мой. Мне почему‑то хотелось достать именно его. От берёзы полетела щепа. Он ответил очередью и выкатился наружу, за корни. Слева ещё один тащил в укрытие товарища, я бы мог легко его подстрелить, но не стал и снова выстрелил в этого, но он уже укрылся за деревом.
Датчан – откуда бы они тут ни взялись – было больше нас раз в десять, но „максим“ слегка уравнивал шансы – у них не имелось пулемётов. Я видел боковым зрением, как Колька подаёт Эйно матерчатую ленту, и" максим» грохочет, срезая не только кусты подлеска, но и солидные деревца. На прогалине лежало с полдюжины трупов, это могло показаться удивительным, но я вспомнил, как «АСК» говорил нам: в современной войне на то, чтобы убить одного противника, тратят по нескольку тысяч патронов. Конечно, это не современная война, но я, например, потратил уже четыре патрона и не попал… ага! Около дерева появился наугад брызжущий огнём ствол, и я опять вспомнил, что нам говорили на стрельбах – откуда появился ствол, оттуда высунется и враг! Я прицелился в край дерева повыше ствола и нажал спуск.
Светловолосая голова – пилотка с неё свалилась – брызнула алым и ткнулась в корень.
Убил? Да, убил. Я его убил.
Затвор почему‑то не двигался. Ах да – патроны кончились… Я вытащил из кармана камуфляжа обойму, вставил в магазин, дёрнул затвор – пустая обойма вылетела вверх. Есть…
– Слева! – крикнул кто‑то. Я крутнулся на бок и увидел, как худощавый чубатый парень закалывает кинжалом, навалившись сзади, одного из наших, а другой – в расстёгнутом френче – оскалившись, стоит на коленях и в занесённой правой руке у него граната. Я выстрелил от бедра, по стволу – гранатомётчик запрокинулся, падая, граната взорвалась где‑то сзади… на меня прыгнул тот, с кинжалом – Эйно встретил его в броске ударом кулака в лоб, я услышал, как что‑то хрустнуло… Коротко вскрикнул Колька – и упал на станок пулемёта. Пуля, попавшая в прорезь щитка, угодила ему в лоб.
– Потафай! – крикнул Эйно, сваливая Кольку в сторону. Я перекатился к цинку, потянул ленту, и «максим» снова загремел. Мимо меня проскочил пригнувшийся Сашка, наклонился над телом убитого врага и, покопавшись, встал на колени, одну за другой бросил две гранаты, залёг снова и начал стрелять. – Потафай!
– Всё! – закричал я, отпихивая цинк и хватаясь за винтовку.
До меня дошло, что нас осталось четверо – мы с Сашкой, Эйно и Сергей Викентьевич. За деревьями что‑то кричал повелительный голос, потом ударил пулемёт – один, а следом другой, «максим» содрогнулся, в его щитке открылись сразу несколько рваных дыр. Сашка снимал с убитого мною гранатомётчика пистолет‑пулемёт. Я выстрелил точно в грудь перебегавшему солдату… Сергей Викентьевич, стоя на коленях, стрелял из нагана с вытянутой руки, потом поднёс оружие к виску, нажал спуск – и отбросил револьвер с перекошенным лицом, выстрела не было.
БУМ!
10
– Ты как, Борька?
Сашка держал мою голову на коленях. Я оттолкнулся и сел.
Мы сидели в телеге. Точнее – сидели Сергей Викентьевич, Эйно и Сашка, а я до последнего момента лежал. Возница похлопывал вожжами, слева, справа и сзади шагали с десяток полицаев – устало и молча. Я обнаружил, что изо всей одежды на мне остались одни штаны. Сашка, поймав мой растерянный взгляд, невесело усмехнулся:
– А как же… Тебя гранатой оглушило. Я к тебе – а тут сзади навалились. Нас четверых и взяли. Недолго мы на свободе пробыли.
Я промолчал, подумав, что между прежней несвободой и нынешней всё‑таки есть разница. Сейчас‑то я пленный. А точнее – бандит, потому что партизан считали бандитами. И я не удержал вопроса:
– И чего теперь?
– Теперь расстреляют или повесят, – буднично отозвался Сашка. – Если не извернёмся удрать… А ты здорово стреляешь, я видел. Раз – и тот только башкой дёрнул… Кольку жалко.
– Нас пожалеть надо. – выдавил я. Сашка подумал и кивнул:
– И то…
– Болтать‑то хватит, хватит болтать, – уныло пробурчал длинный полицай.
– А что? – Сашка огрызнулся. – Застрелишь, шкура? Давай…
– Да ладно, чего ты… – буркнул полицай. – Не надо болтать‑то…
– Мальчишки, – услышал я шёпот Сергея Викентьевича, – если удобное место увидите – прыгайте и бегите. Мы с Эйно их задержим. Сразу бегите, как увидите, что можно.
Я бы не испугался бежать, честно. Но тут было некуда. Я зло спросил в пространство:
– Кто мои колёса с…дил? Они же вам малы, пидарасам, – и подумал: «Господи, прости за ругань…»
– Мне в самый раз, – отозвался без обиды один, шедший сбоку. – Важные ботинки. А тебе что. Тебя всё равно шлёпнут. Лучше я буду носить, чем немцы.
– Да лучше чёрту, чем тебе, – искренне сказал я. – Хорошо вас кормят‑то хоть, шакалы? Или объедки позволяют подбирать?
– Лайся, лайся, – опять не обиделся он. Я пожелал:
– Можешь ещё из моих носок суп сварить и схавать, козлина.
Голова, болевшая сначала, прошла быстро. И, оглянувшись в первый раз, я увидел, что мы вползаем на деревенскую улицу. Посреди неё стоял танк – какой‑то не страшный, смешной, похожий на утку, даже без пушки, с двумя пулемётами в маленькой башенке. Возле большого дома, стоявшего в вырубленном палисаднике, замер мотоцикл, легковушка, возле которой возился шофёр. Больше солдат не было видно. Над входом висел флаг. Ближние дома тоже были разрушены, хотя подальше деревня была вполне обычной, я даже увидел людей – гражданских, так сказать.
На крыльцо вышел длинный – не высокий, а именно длинный, худой и нескладный – молодой офицер. Не армейский, а ЭсЭсовец, я званий не знал, но по петлицам отличил. Наверное, он нас увидел в окно и сейчас смотрел недовольно, что‑то дожёвывая. Обедать помешали… Или завтракать, судя по времени. Один из полицаев подбежал к немцу и начал что‑то объяснять на ломаном немецком. Немец смотрел сверху, с крыльца, как смотрят на пытающуюся подражать человеку обезьяну. Потом махнул рукой и свистнул.
Из‑за дома появились четверо солдат – тоже ЭсЭсовцев, здоровых, как шкафы. Офицер ушёл в дом, несколько раз ткнув пальцем и что‑то прогундев. Если бы эти чёртовы полицаи тоже куда‑нибудь ушли… но они торчали вокруг и смотрели, как нас сдёргивают с телеги.
Один из ЭсЭсовцев вывернул мне руки – так, что локти сошлись за спиной, и я невольно вскрикнул и рванулся. В тот же момент второй ударил меня кулаком в грудь, и я пришёл в себя только внутри дома, когда меня, абсолютно голого, впихнули в небольшую комнату.
Этот самый офицер сидел за столом в углу и пил кофе. (Сволочи, ну что они, сговорились, что ли?!) У торца стола пристроилась пышноволосая красавица в безукоризненном мундире, перед ней лежали блокнот и ручка. Она сразу уставилась на меня, дёрнула углом рта и что‑то сказала офицеру. Тот засмеялся. Я понял, что им смешно, как я прикрываюсь ладонями, но отвести их не мог. А в углу, около другого небольшого столика стоял амбал в резиновом фартуке поверх формы. А на столике лежали предметы.
«Вот и всё,» – подумал я, уже не в силах отвести от них взгляда. Я даже не сразу сообразил, что женщина меня спрашивает – почти без акцента, только очень медленно и раздельно, явно подбирая слова:
– Мальчик. Твоё имя?
– Шшшшшалыгин… Ббббборрис, – это получилось унизительно, но я ничего с собой не мог поделать.
– Сколько тебе лет?
– Ччччетрнацть…
– Ты бежал из поезда?
– Ддддда.
Они какое‑то время что‑то сверяли по бумагам. Амбал перекладывал с места на место свой инструмент и зевал, потом щёлкнул резиновой плёткой и подмигнул мне. Я чуть не обоссался и судорожно стиснул ладони. Женщина тем временем снова начала спрашивать:
– Ты стал партизан?
– Ддда…
– Где младшие дети?
– Й…йа нннн… я не знаю. Они ушшшли.
– Куда?
– Я не ззззз… я не знаю. Им кккомандир скк… сказал.
– Кто ваш командир?
– Он уббббб… Убит он.
Она кивнула. Потом сделала амбалу жест ладонью. Я почувствовал, как по спине катится пот и слабеют ноги. И попросил:
– Не надо. Пожалуйста.
– Кто ваш командир? – повторила она.
– Я честно говорю… – меня снова тряхнуло: – Уббит…
Амбал рывком отбросил меня к стене, и я опомниться не успел, как мои руки за спиной взлетели к потолку. Я выгнулся, стараясь сохранить контакт с полом хотя бы кончиками пальцев – и поперёк живота лёг удар той самой плёткой. Мне показалось, что всё тело ниже живота оторвалось и упало на пол. От боли я даже не закричал, хотя из глаз хлынули слёзы.
– Кто ваш командир? – снова спросила женщина. Я всхлипнул, подавившись воздухом. Если я скажу – Сергея Викентьевича точно расстреляют. А нас? А меня? Так и так ведь убьют… Мои мысли прервал новый удар – между ног. От него я закричал и пополз ногами вверх по стене. Офицер допил кофе и засмеялся. Женщина сказала:
– Тебя могут просто расстрелять. А могут тут долго мучить. Если хочешь получить пулю, мальчик, то ты должен говорить, кто ваш командир.
– У! У! У! Би‑ит! – выкрикнул я, корчась так, чтобы прикрыться от новых ударов. Их не последовало… в тот момент. Когда же я снова обвис, женщина сказала:
– Пауль, бейте его, пока он не скажет правду…
…Воду мне выплеснули прямо в лицо. Она была ледяная, колодезная. Женщина со стаканом в руке стояла передо мной.
– В конце концов, это не важно, – сказала она, допив из стакана остатки. – Мы вас всё равно расстреляем. Но если кто‑то из других скажет, что командир среди вас, то его мы расстреляем. А вас, – она улыбнулась, – вас посадим на колья. Прямо на заборе.
– Вам… – я давился дыханием, страшно болело всё тело. – Вам не… противно это… делать? За… зачем? Если бы что‑то… важ… ное… А так… за… зачем?
– Профилактика, мальчик, – пояснила она так, как будто объясняла классу новую тему. – Вы должны нас бояться. Нас – своих будущих хозяев. Только так можно держать в повиновении рабов. У нас с Клаусом, – она улыбнулась офицеру, – будет имение недалеко отсюда, когда война закончится. Нужно тренироваться уже сейчас. Если бы у нас было побольше времени, я бы приказала Паулю поработать над тобой, как следует и ты бы назвал командиром любого, хоть самого себя, только бы это прекратилось. Но надо отдать тебе должное – ты выносливый. Посмотрим, что скажут твои товарищи…
И она, отшагнув назад, нанесла мне удар – ногой в изящном сапоге в пах. И засмеялась…
…Мы с Сашкой провалялись на соломе в каком‑то сарае до полудня почти без сознания. Его били ещё сильней, чем меня, а вот взрослым нашим товарищам досталось меньше – очевидно, их бить было не так интересно. И вообще у меня создалось впечатление, что эта сука не лгала – им в принципе не было дела до того, что мы скажем и что мы можем знать.
Они были настолько уверены в своей победе, что не боялись нашего сопротивления.
Земля в сарае, куда нас бросили, под соломой была утоптана до каменного состояния. Стены – щелястые, но вокруг ходили аж трое часовых. Это Эйно и Сергей Викентьевич проверили без нас, пока мы валялись никакие.
Когда я пришёл в себя и смог натянуть брошенные следом трусы и штаны, то первым делом нащупал галстук. Он был цел. Почему‑то это меня успокоило.
Странно, но правда.
11
Рассвет был какой‑то нелетний, серый и робкий. Он вползал в щели неохотно, словно ему было стыдно за то, что он должен принести людям в сарае. Я лежал на соломе и ни о чём не думал. Голова была пустая и лёгкая. Спать не хотелось совсем и страшно не было. Я смотрел, как медленно светает, слушал какие‑то звуки в просыпающейся деревне и видел спину Сашки, который, не отрываясь, смотрел в широкую щель. Потом, когда стало почти совсем светло, Сашка повернулся и сказал негромко:
– Вставайте, нас расстреливать идут. Яму выкопали.
Сергей Викентьевич и Эйно завозились и сели. Я понял, что они тоже не спали. Всё тот же серый свет обрисовывал их совершенно спокойные лица. Сергей Викентьевич пробормотал:
– Побриться бы, а то зарос… – под его ладонью отчётливо зашуршала щетина на подбородке. – Ну что, значит, всё… Встали, а то подумают, что мы боимся.
Мы поднялись – все четверо. Сергей Викеньтевич положил ладони нам на плечи, и я услышал:
– Будьте мужчинами… – и не понял, о чем он говорит и кому.
Дверь открылась.
За нею не было ни солнца, ни утра – ничего, кроме тумана, в котором чернели ветки кустов, забор и отвал свежей земли. Совсем рядом, шагах в десяти от сарая. По обе стороны двери стояли с полдюжины карателей в глубоких шлемах, с винтовками. Около ямы виднелись ещё двое – похоже, местные полицаи. Немец был только один – высокий, худощавый, стройный и улыбающийся. Не тот, который меня допрашивал вчера. Но тоже ЭсЭсовец – под маскхалатом виднелись петлицы.
– Кто рано фстайот, тому Бок потаёт, – сказал он. – Топрое утро, товарищи коммунисты. Прошу на расстрел.
И он сделал изысканный жест рукой. Я вяло подумал, что немец боксёр – очень характерные пальцы – и пошёл к двери первым. Один из карателей взял меня за плечи, второй каким‑то тросом быстро скрутил запястья за спиной. От обоих пахло сырой формой и табаком. Трос больно врезался в тело, но я ощутил эту боль, как нечто очень далёкое. Больше всего мне хотелось, чтобы выглянуло солнце. Хоть на секунду.
– Ну, пошёл, – сказал немец весело. – С Боком.
Трава оказалась обжигающе холодной. Я считал шаги и смотрел на нашивку идущего слева карателя. Чёрный – наша эстонская земля… синий – наше эстонское море… а белый – снега Сибири, куда вас, козлов, всех сошлют… И ведь сошлют. Исторически доказано. Только я, Борька Шалыгин, сейчас погибну от рук человека, которого для меня, Борьки Шалыгина, и нет, быть не должно…
Свежевырытая земля была неожиданно намного теплее травы, я переступил на неё почти с удовольствием. Она поползла под ногой, я качнулся и почти упал, но один из полицаев – молодой, с какими‑то больными глазами – поддержал меня и сказал:
– Это… осторожней.
Его напарник – невысокий и толстый, с маленькими глазками – заржал и кивнул:
– Это верно. А то упадёть – чего сломаеть ишо, – и замахнулся на меня прикладом: – Змеёныш!
– Хальт! – крикнул ЭсЭсовец, и полицай испуганно вытянулся в струнку.
А на меня обрушился страх, и это было отвратительно. Туман заплясал, закружился, в ушах взревело, рот наполнился вкусом горячего металла, а живот свело мучительной судорогой и я едва удержался от того, чтобы наложить в штаны. Даже в бою я так не боялся! Очевидно, Сашка заметил это – он подставил мне плечо и прошептал:
– Ну держись…
– Я… ничего… – с трудом ответил я. Приступ отхлынул, но страх остался – леденящий страх, замешанный на понимании, что сейчас меня убьют. И уже ничего не изменить, не спастись, даже чудом – нет партизан, которые вот сейчас должны ворваться на околицу под победный автоматный треск… Я покрепче прикусил губу и встал прямо.
Какая же тёплая и сырая земля…
Каратели не спешили строиться. Один из них что‑то сказал Эйно, мотнул головой недвусмысленно – отойди в сторону. Эстонец страшно побледнел, глаза сузились и он отвернулся с такой гадливостью, что каратели недобро запереговаривались. Но ропот умолк – от сарая шёл офицер. Он шёл неспешно, пощёлкивал по штанине маскхалата прутиком и насвистывал что‑то бодрое. Носки сапог блестели от росы и я смотрел на них, как заворожённый. Мне казалось, что немец идёт медленно‑медленно, и я желал, чтобы тот не дошёл никогда. Шаги были длинные и тягучие, как кисель. Может, он и правда не дойдёт? Не может он дойти, потому что я не могу умереть…
Офицер встал перед приговорёнными. Перед нами. Он по‑прежнему улыбался, но в глазах улыбки не было.
– Он стелаль сфой випор, – подбородок указал на Эйно. – Но ви ещё мошет спасти сфою шиснь. Это просто. Кто кричит: «Шталин капут!» – он перестал улыбаться, – тот жифёт. Кто нет – тот бутет мёртф. Всё просто, – он бросил прутик через головы стоящих у ямы людей в неё и коротко рассмеялся. – Я срасу его отпускаю. «Шталин капут!» – и… – он сделал широкий жест рукой. – На фсе шетирь стороны. Зо? – он сделал шаг влево и кивнул Сергею Викеньтевичу.
– Могли бы и не задавать этот вопрос, – казалось, что Сергей Викеньтевич ведёт светскую беседу. – Вы же знаете, что я коммунист.
– Ти мёртф, – ЭсЭсовец улыбнулся, и я обмер от этих слов.
– Вы тоже, – сказал Сергей Викеньтевич. – Просто вы этого ещё не поняли… Мальчики, – он чуть повернул голову, – крикните. Я приказываю. ОН простит. Вы должны жить. Понимаете, должны жить. Вы будущее страны.
– Кароший совет, – ЭсЭсовец шагнул к Сашке. – Ти?
– Гитлер капут, – сказал Сашка. – Простите, дядь Серёж… но на губу за нарушение приказа вы меня уже не посадите. Гитлер капут, – повторил он, снова повернувшись к немцу. – Всем вам капут. Повторить?
– Ти мёртф, – немец снова улыбнулся и шагнул ко мне. – Ти бутешь жиф? Или ти есть ещё отин мертфец?
Я слышал, как свистит в моём собственном горле дыхание. Как ветер в трубе. Я жив. Я дышу. Я хочу жить. Пусть как угодно, но жить. «Сталин» для меня – просто слово. Человек с трубкой и усами, погубивший миллионы своих сограждан, чуть не проигравший эту самую войну. Я опустил глаза. Ноги были грязные. Помыть бы. В ванну бы. Лечь в горячую ванну и лежать, и чтобы мама потом позвала: «Ну скоро ты, за стол пора, остывает всё!» Откуда‑то возникла дикая, но непоколебимая уверенность: сейчас меня отпустят, я пойду, просто пойду – и вернусь домой. Так же странно и необъяснимо, как попал сюда. Обязательно. Мне казалось, что я думает долго, страшно долго – и удивительно было, что ЭсЭсовец не торопит…
ЖИТЬ! ЖИТЬ!! ЖИТЬ!!!
Я поднял голову, облизнул царапающие язык губы и отчётливо сказал, глядя прямо в глаза немцу:
– Обоссышься, тощая жопа.
Сашка засмеялся – весело и бесстрашно – и подтолкнул меня плечом (я чуть не упал в яму):
– Молоток!
Немец покачал головой и кивнул старшему из полицаев. Тот со злорадной охотой, враскорячку, подбежал ближе, сдёргивая с плеча винтовку:
– Кончать, пан начальник? Это… шисен?
Немец кивнул и, отойдя в сторонку, склонил голову к плечу. Он смотрел почему‑то только на меня. И я смотрел на ЭсЭсовца, пока не грохнул выстрел – и Сергей Викентьевич, согнувшись вбок, упал в яму. Его рубашка расцвела алым напротив сердца. Тогда я, не помня себя, крикнул немцу:
– В мае сорок пятого наши возьмут Берлин!
Винтовка, нацеленная в грудь Эйно, дрогнула и опустилась. Полицай с испуганным лицом повернулся к ЭсЭсовцу… и тут же одновременно произошли несколько событий – молниеносных и путаных, неожиданных даже для меня, хотя я принимал в них самое живое участие.
Сашка вдруг присел, отчаянным прыжком взвился в воздух, перемахнул яму и побежал в туман. Он бежал неловко, мешали связанные руки; полицай с матом рванулся вперёд, но я метнулся и всем весом тела сшиб его наземь. Вокруг кричали, ревел, как бык, Эйно, меня начали бить ногами, попадая по старым побоям, а потом подняли за волосы… но Сашки не было видно, и я засмеялся, сам того не ожидая:
– Сбежал, гады! Сбежал! А‑аххх‑ха‑ха, сбежал! Беги, Сань, беги‑и‑и‑и!!!
Полицай замахнулся прикладом. Я плюнул ему в лицо, попал. Меня толк‑нули на край, к Эйно, лицо которого было в крови. ЭсЭсовец, оскалившись, широким шагом приближался, расстёгивая рыжую кобуру. Убьют?! Расстреляют?! Пусть! Брызнуло бледное пламя из нескольких стволов сразу, Эйно толкнул меня за спину, что‑то горячо ударило в бедро – и я полетел в сырость, в запах земли, в бездну…
…Когда я очнулся, то понял, что меня зарыли. Жутко мозжило левое бедро, но это я заметил только в первые секунды, когда пытался определить, что навалилось мне на грудь так, что трудно дышать и почему такая беззвёздная и тихая ночь?
А потом до меня дошло, что я похоронен заживо.
Я окостенел. Мозг замер, завис, отключился. Мои связанные руки ощущали что‑то… и я понял, что это такое – человеческое лицо. Нос. Зубы. Глаза. Пальцы касались их.
Эйно. Это мёртвый Эйно.
– Помогите, – сказал я, и в рот равнодушно посыпалась земля. Я вытолкнул её и крикнул: – Помогите! – и опять вытолкнул засыпавшую рот сырую, пахнущую грибами и рекой, землю. Но она была вокруг, она лежала надо мной – между мною и воздухом, небом, травой. Ей было всё равно, что я жив и дышу.
И я понял, что это не просто земля. Это – могила.
Моя могила.
Тогда я закричал – жутко, отчаянно, протяжно – кашляя и выплёвывая землю, завыл и начал с безумной быстротой и целеустремлённостью рваться наверх, изгибаясь всем телом. Я грёб и отталкивал, отталкивал и грёб землю, а она сыпалась и сыпалась, выдавливая своей равнодушно мёртвой тяжестью остатки воздуха, остатки жизни, не отпуская, обволакивая… Потом я увидел свет – водопады света, лавины света, разрывы света – и подумал, что умираю.
Но не перестал бурить землю, как червяк…
…Сашка поверил, что убежал, только когда ноги больше не смогли нести его. Он рухнул на бегу – на живот с размаху – и какое‑то время не мог дышать и ничего не понимал от боли. Потом с трудом сел и прислушался.
В лесу был только туман и больше ничего. Сашка сидел минут десять. Потом упал на спину, на связанные руки, и сказал со всхлипом:
– Ж‑живхх…
Совсем рядом оказался тихий ручей с тёмной водой, дно выстилал коричневый ковёр прошлогодних опавших листьев. Сашка напился, потом сунул в воду голову, вытащил её, помотал, фыркая. Его била дрожь. Он посидел на берегу в неловкой позе – ноги вбок, связанные руки за спиной опираются о землю – прислушиваясь. Нет, тихо по‑прежнему. Сашка стиснул зубы и стал перетаскивать руки из‑за спины вперёд через ноги. Сжавшись в клубок, он тянул и тянул, тихо бормоча матерные ругательства и шипя от боли – трос вспарывал кожу.
Сашка тянул. Потом долго мочалил зубами и рвал оказавшийся впереди узел, мокрый от пота, слюны и крови. В глазах темнело от злости и натуги. Отхаркиваясь и не переставая ругаться, Сашка драл трос, вцепившись в него, как хороший сторожевой пёс…
…Освобождённые руки кровоточили. Сашка промыл их в воде и снова поболтал в ручье головой. Теперь ему стало холодно. Но он думал не об этом, а только о том, что надо вернуться. Обязательно вернуться, чтобы убедиться, что остальные мертвы. Может быть, это было глупо, но Сашка не видел Эйно и Борьку мёртвыми и не желал признавать их гибель. Особенно Борьки. С этим парнем его связывало столько всего, что его смерть казалась просто невозможной. Они выбрались из того проклятого поезда. Они столько пережили всего за одни сутки, что Борька стал почти что частью Сашки – как брат, больше, чем брат.
Сашка обязан был убедиться, что Борька мёртв…
…Холма почти и не было – так, горбик‑проплешина свежей, но уже подсохшей под лучами полуденного солнца земли. Сашка присел рядом. Почему‑то совсем не было страшно, что сейчас из‑за сарая могут выйти фашисты и увидеть его. Второй раз не убежишь… Но это не беспокоило.
– Сергей Викентьевич, Эйно… – он потрогал ладонью землю. – Борь…Это. Значит. Прощайте… – и шмыгнул носом. Нет, не от слёз. Холодно было от мокрой одежды… – Простите. Я… – и Сашка замер.
В его ладонь передалась отчётливая и рваная дрожь земли.
Издав короткий невнятный звук, Сашка сел на мягкое место, чувствуя, как встают дыбом волосы. Он хотя и не был пионером, но никогда в жизни не верил ни во что такое. Но… Ещё секунда – и он бросился бы бежать быстрей, чем от карателей, опять не разбирая дороги и не останавливаясь. Но сделал над собой усилие – и ужас отхлынул.
– Живые!.. – вырвалось у него. Через секунду Сашка рыл землю там, где ему почудилось шевеление… нет, не почудилось!!! Не глядя по сторонам, он расшвыривал землю горстями, срывая ногти… пока не схватился за что‑то, оказавшееся рукой – белые растопыренные пальцы сомкнулись вокруг запястья Сашки так, что затрещали кости, но он только охнул коротко и продолжал рыть одной.
Борька обнаружился в яме стоя – он явно пытался выбраться. Глаза были широко раскрыты, но не видели, их забила земля, земля была во рту, ушах, в носу, пересыпала волосы. Борька икал. Сашка потащил его обеими руками и вывалил на траву. Стал колотить по груди, открыл ему рот, начал выгребать землю. Борька укусил его, кашлянул и начал блевать. Сашка перевернул друга на живот, ударил по спине, шепча:
– Дыши, дыши, дыши… пожалуйста, дыши…
Борька со свистом втянул воздух и задышал по‑настоящему, кашляя и плюясь землёй. Он был ранен в левое бедро – пуля явно осталась внутри, синело сквозь разорванную штанину входное бескровное отверстие. Сашка примерился подхватить Борьку на спину – и…
И, подняв глаза, увидел в десятке шагов толстого полицая. Щерясь, тот держал мальчишек на прицеле винтовки.
– Откопал, значить, – сказал полицай. Сашке показалось, что угловатые готические буквы надписи – чёрные на белой повязке – у него на рукаве шевелятся, как пауки, мальчишка сморгнул. – Ну ить ладно. Счас обоих в обрат и прикопаю.
– Наши придут, – процедил Сашка, ощущая жуткую тоску и досаду от того, как нелепо всё обернулось. – И будет тебе, гнида, петля на осине. Вздёрнут тебя и будешь ногами дрыгать, прихвостень фашистский…
– Лайся, лай… – лицо полицая вдруг стало удивлённым, он издал непонятный звук, и из‑под немецкой фуражки хлынула кровь. Не выпуская из рук винтовки, он повалился в траву.
Тяжело дыша – грудь ходила ходуном – за ним стоял мальчишка. Худощавый, с белым лицом и огромными глазами, одетый по‑городскому: в кожаную курточку, брюки (правда потрёпанные) и ботинки. На голове мальчишки сидела кепка, из‑под неё сползали струйки пота.
– Я… Стиханович… Женька… – одышливо выдавил он. – у меня отец и мама… он их выдал немцам… их пове… – на шее мальчишки запрыгал кадык. – Повесили, а меня… спрятали… я… мы тут прятались, в деревне…
В правой руке Женька держал окровавленный плотницкий топор. С лезвия падали увесистые чёрные капли. Потом Женька посмотрел на него, уронил, согнулся и сказал:
– Уакк…
Сашка закрыл глаза.
12
Когда я очнулся, было прохладно – с одного бока, а с другого здорово пекло от костра, возле которого я лежал, глядя в небо. Небо было черное с дырочками звёзд, которые перемигивались – или, может, подмигивали? По другую сторону огня переговаривались два человека.
– Пить, – попросил я первое и самое искреннее, что пришло в голову.
– Очнулся! – и возле меня оказался Сашка. Он, улыбаясь во весь рот, встал на колени и поправил какой‑то мешок, которым я был укрыт. Скуластое сашкино лицо было счастливым; за его плечом появился ещё какой‑то пацан нашего возраста, худощавый и серьёзный. Он тоже улыбался, хотя и сдержанно. – Пить хочешь, Борька, да? Я сейчас…
– Я принесу, – сказал пацан и канул в темноту. Я со стоном сел и охнул – ногу пробила тупая боль.
– У тебя пуля внутри, в ноге, – сказал Сашка, помогая мне сесть удобней. Мы были на какой‑то проплешине в овраге, заросшем кустарником. За моей спиной нависал глинистый козырёк, под которым угадывалась небольшая пещерка. – Тебя похоронили заживо.
– Эйно… – я сморщился. – Эйно меня закрыл собой. А как я вылез?
– Ну… вылез, – почему‑то смутился Сашка и сев, взялся за большие пальцы ног. – Вылез, и всё. Чего тут.
– Ты меня вытащил? – тихо спросил я, вглядевшись в его раскрашенное бегучими бликами огня лицо. Сашка отвернулся и молча пожал плечами. – Ты, – уже уверенно повторил я. – Сань, я…
– Да херня всё, – матерно‑грубо сказал он. – Нас вон Женька спас обоих, полицая топором завалил, который Сергея Викентьевича расстрелял. Он нас опять почти поймал…
– Завалил? – я ощутил злую радость. – Жаль…
– Жаль? – Сашка свёл брови.
– Жаль, что не я его…
Вернувшийся Женька принёс в кепке холодной воды, и я жадно напился, в этот момент ощутив, что меня колотит, как при высокой температуре. Женька сказал тихо:
– У тебя жар сильный… Я знаю, у меня мама фельдшер… была.
– Они из Пскова, – пояснил Сашка. – Отец врач, мама фельдшер… Не хотели на фрицев пахать, сюда убежали, а их тут выследили и за саботаж… – Сашка не договорил, а я увидел, что глаза Женьки наполнились слезами. Но он мотнул головой и сказал деловито:
– Я хотел к партизанам, отец и мама знали, где они…. Только решил не уходить, пока этого гада не… достану.
– Партизаны тут точно есть, – сказал Сашка. – Стопроцентно есть, надо только искать. Сергей Викентьевич с ними хотел соединяться… – он вздохнул тяжело.
Они заговорили о партизанах. А меня колотило всё сильнее. Сколько же у меня? С такой температурой только под одеялом в постели, а не в майском лесу на подстилке из лапника под какой‑то дерюгой. Я с испугом подумал, что не только искать кого‑то – я просто идти не смогу, тем более с раненой ногой. Я хотел об этом сказать, но испугался, что меня сочтут слабаком… а потом начал опять куда‑то проваливаться. К счастью, это была не расстрельная яма, а просто сон…
…Но спал я плохо. Мне было жарко, душно, мучили кошмары, болела нога. Каратели вламывались в нашу квартиру, хватали родителей и сестрёнку, я кричал, и кто‑то убирал кошмары влажной прохладной тряпкой, как стирают мел с доски. «Мам?» – жалобно спрашивал я, на миг просыпаясь, засыпал снова и через какое‑то время всё повторялось.
Под утро я проснулся разбитый, невыспавшийся. Не хотелось есть, а ведь я не ел чёрт‑те‑сколько… Зато пить хотелось мучительно. Жара почти не было, но я понимал – это временно, он вернётся. Бедро распухло и стучало болью в кость. Костёр горел, придавленный туманом. Около него сидели ребята. Сашка какой‑то деревяшкой ловко что‑то делал – я не сразу понял, что он плетёт лапти. Он сидел голый до пояса и непохоже было, что мучается от холода – а своей гимнастёркой добавочно укутал меня. Так же поступил и Женька со своей курткой, и я понял – с облегчением, от которого хотелось расплакаться – что они меня не бросят.
– Плохо, – говорил Женька. – У него жар даже сильнее, чем я думал. Это от раны и вообще… И ещё хуже – если пулю не извлечь и не почистить рану, то будет заражение крови. Ему туда и земля попала, и материю загнало пулей…
– А ты можешь? – спросил Сашка. Женька заколебался:
– Ннну‑у… В теории. Она в мякоти, сосудов там нет… Но он же от боли с ума сойдёт…
– А так он помрёт… С жаром я что‑нибудь сделаю. Ты только пулю достань и это. Рану почисть. Ты знаешь, какой он парень? Во, – и Сашка показал большой палец. – Смелый. Ловкий. А как с ним говорить интересно, он столько знает… Он тоже городской, вроде тебя, только из Новгорода… Что ж ему, из‑за такой ерунды помирать?
– Ну тогда давай прямо сейчас, – Женька передёрнул плечами, – чего ждать.
Они посмотрели в мою сторону. Сашка перестал работать своей кривулькой и неумело улыбнулся:
– Не спишь? Слышал?
– Слышал, – я привстал на локтях. – Резать будете?
– Надо, Борька, – вздохнул он.
Я стиснул зубы и постарался ответить как можно твёрже:
– Давайте…
…Если честно, особо страшно мне не было. Я устал и ослабел, поэтому смотрел на происходящее почти равнодушно, подставил руки, которые связали над головой и прикрутили к дереву. Ноги тоже пришлось привязать, используя барахло – Сашка пошёл искать какие‑то травки и прочее. Место раны опухло и посинело, но Женька удовлетворённо хмыкнул:
– Заражения ещё нет. Полосок не видно.
Он калил над огнём лезвие своего перочинного ножа. Я отвернулся и хрипло, но нарочито‑бодро сказал:
– Больше мне ничего не отрежь. А то там рядом, я ещё ни разу этим всерьёз не пользовался. Обидно будет.
– Не отрежу, – обнадёжил он. – Ну всё, Борь. Ты потерпи, – он сунул мне в зубы палку. – Кусай и терпи. И ещё… если вдруг она глубже… там артерии… в общем, я же не врач, даже не фельдшер, я только видел кое‑что, ну и читал… А, ладно, всё будет хорошо!
«Не знаю,» – успел подумать я – и меня выгнуло дугой. Я почувствовал во рту вкус крови и начал грызть сырую, пахнущую грибами, как та земля, палку. Обрушилась гулкая тишина, звуки умерли, только колотилось в ушах: «Умп, умп, умп, умп…» Я повернул голову и увидел, что по рукам Женьки течёт моя кровь, а сам он что‑то делает – губа прикушена, лицо мокрое, на лбу – тёмная от пота прядь. Боль была такой, что после первой вспышки стёрла сама себя, и верхушки деревьев плавно и противно закружились, опрокинулись влево, перевернулись и утонули во мраке, полившемся между одетых яркой майской зеленью веток…
…Я пришёл в себя от невероятного жара, буквально пронизывавшего меня, как окорок в микроволновке. Нога болела остро и режуще. Я лежал, закутанный всем, чем только можно, в пещерке, где даже стены источали горячее дыхание, на толстой подстилке всё из того же лапника. Сашка, отдуваясь и смахивая локтем со лба пот, протягивал мне всё ту же кепку Женьки.
– Пей залпом, ну?
Там оказалась невероятная горечь – меня чуть не стошнило. Кашляя и моргая, я с трудом спросил:
– Это… что‑о?!.
– Одуванчиковый сок, – пояснил Сашка. – С водой.
– Га‑адость…
– Ничего, зато пропотеешь как следует. Только не ворочайся, а то сожжёшься. Я тут час костёр палил, чтобы всё прокалить.
– Вот она, – Женька, подойдя, присел на корточки у входа и подкинул на ладони тупоносую пульку. – В кость попала и обратно срикошетировала…Я там почистил всё и промыл, потом завязал с подорожником. Хорошо, что бы без сознания был.
«Ох, хорошо,» – мысленно согласился я, вспомнив, как меня резали. Жарища была невыносимая, я отогнул край дерюги, но Сашка стукнул меня по руке и сердито сказал:
– Лежи терпи. А мы что‑нибудь поесть раздобудем.
Легко ему было говорить, чтоб я терпел. С меня почти сразу ручьями начал литься пот. Дико хотелось пить и раскрыться или хоть передвинуться так, чтобы отыскать прохладное место – как дома, когда я болел. Не знаю, как, но я заснул и, наверное, сжёгся бы, но Женька остался в нашем лагере и следил за мной.
Проснулся я под вечер – слабый, со звенящей головой, но явно без температуры. Нога ныла. Когда Женька начал менять повязку, я увидел синевато‑багровый крестообразный разрез, засочившийся кровью – не очень большой, но жутковатый – и поспешно отвернулся.
Сашка около костерка что‑то жарил – я присмотрелся и узнал лягушек, но не испытал ничего, кроме голода. Он поймал мой взгляд и пообещал:
– На всех хватит… Скоро уже. Французы едят, и ничего.
– Ссать хочу, – признался я. И, сказав это, понял, что и правда ужасно этого хочу. Больше чем есть. По‑большому не хотелось (желудок‑то пустой), а вот…
– Давай к стенке, тебе вылезать нельзя, – сказал Женька. – Не бойся, – он хихикнул, – там остыло всё почти.
– Это чего, прямо здесь?! – я заморгал. – Не, я так не могу…
– Ну извини, кепку я тебе на это не отдам.
Я покраснел почти до слёз. Мне было стыдно и, хотя мальчишки отвернулись, а я пыжился с минуту, у меня ничего не получилось – я никогда в жизни не делал этого лёжа, да ещё там, где сплю; эти мысли полностью всё блокировали.
– Не могу, – признался я. – Я не стесняюсь, просто не могу так. Правда.
– Ну что с тобой… – Сашка помог мне вылезти. Я с невероятным облегчением отлил возле кустов и тут же задрожал; он с матом запихал меня обратно. – Простынешь опять, вот тогда…
– Пионер, а так материшься, – заметил я, укутываясь в тряпьё. Сашка неожиданно смутился:
– Это. Не пионер я. Меня не приняли. По хулиганке, – и посмотрел на нас жалобно. – Я ничего такого серьёзного не делал, просто от дурости…
– Эх ты, будущий полярник, – подколол его я.
– А ты пионер, Борь? – вдруг спросил Женька, застав меня врасплох. Он вроде и не ждал ответа – взял и начал перечищать трофейную винтовку полицая.
– Я?.. – пока я раздумывал, что же мне ответить, Сашка это сделал за меня:
– Да конечно пионер. У него даже галстук есть, правда, Борьк?.. Я сам видел, как он его перепрятывал.
К счастью, этот разговор продолжения не имел. Мне трудно было даже предположить, что подумали бы ребята, обнаружь они зелёный галстук.
13
Ночь была неприятной, если так можно сказать. Я выспался днём и лежал, уставившись в потолок пещеры. Холодно не было, Сашка и Женька улеглись с боков и сверху мы завалились всем барахлом, которое у нас ещё оставалось, плюс подобие одеяла, сплетённое из молодых веточек. Болела нога, мне было тошно и грустно.
Где‑то на самой грани слуха я различал размеренный гул и догадался, что это артиллерийская пальба на фронте. Там были наши… Но для меня это ничего не меняло. Если мы найдём партизан, если доживём до конца войны, если… да что бы не случилось «если», я‑то всё равно тут буду чужим! Ну что можно представить нелепее и страшнее – воевать за дело, финал которого тебе заранее известен! Мы победим. Потом будет великая страна, новые войны, новые жертвы, стройки и всё такое. А дальше эта страна развалится. И мы будем восхищаться тем, как хорошо живут побеждённые, а кое‑кто станет говорить: «Лучше бы нас Гитлер завоевал!» И всё.
Блин, нет, не всё… Я отчётливо вспомнил лицо той немки, которая меня допрашивала. Ничего «лучше» не было бы. Правда, и это в моей судьбе ничего не меняет…
Мой прадед сейчас воюет где‑то на юге. А дед совсем пацан, младше меня – и он на самом деле в оккупации в Новгороде. А я лежу в какой‑то норе, раненый в ногу, не слишком‑то сытый, между двумя помешанными на мести мальчишками, на глазах которых убили их родных. И уже не думаю о том, что успел застрелить трёх человек. Причём вообще датчан, что ж тут датчане‑то делают, чего их сюда понесло?! Мне почему‑то вдруг стало до слёз жалко именно этих датчан, и я всплакнул – без стеснения, хотя и тихонько. Скауты плакать не должны, но видит бог, я и так уже вынес столько всего, что ой… Размазывая слёзы рукой и сопя, я жалел теперь опять уже себя, пока не услышал, как хныкнул Женька – именно тихонько хныкнул и застонал: «Ммммм‑ааааа… ммааааммм…» Я пихнул его локтем, и он проснулся, привстал на локтях:
– А? – но я сделал вид, что сплю. Женька посидел так, а потом лёг, и я услышал, как он заплакал, уже наяву. Тихонько, как я недавно. И безутешно…
* * *
Утром, кажется, был заморозок. Во всяком случае, мы задрогли даже в прогретой пещерке, прижавшись друг к другу. Я читал статьи, в которых скороспелые психологи объявляют вот такие ночёвки «своеобразной формой удовлетворения скрытого сексуального влечения к лицам одного с собой пола» – во что запомнил, дословно! Ага. Их бы сюда, в место, где лицо одного с тобой пола – единственный источник тепла, из одежды на тебе – только драные штаны, а вместо одеяла – долбаная плетёнка из веток.
Я начал просыпаться, когда встал Сашка. Именно мерзко «начал» – просыпаться мне не хотелось, я не выспался и замёрз, долго шарил в поисках одеяла и что‑то бормотал (не помню, что), а потом проснулся окончательно.
Очевидно, Женька проснулся буквально за полминуты до меня – он сидел и шнуровал ботинки, то и дело мотая головой, чтобы сбросить с глаз волосы. Сашки не было.
– Доброе утро, – без насмешки сказал Стиханович, увидев, что и я не сплю. Изо ртов у нас валил пар. – Давай‑ка ногу посмотрим.
– Доброе утро, – кивнул я, тоже садясь удобнее.
Осмотром Женька остался доволен. Он перебинтовал рану и обнадёжил:
– Вообще‑то сегодня можно попробовать вставать потихоньку.
Этого он мог и не говорить – мне и правда требовалось встать. Организм, судя по всему, усвоил лягушек…
Снаружи оказалось в сто раз холоднее, я босиком вынужден был шагать по инею! Оставалось надеяться, что Сашка сегодня доплетёт лапти… и кстати, где он сам‑то?
Сашка объявился, как раз когда я пользовался молодым лопухом за кустами, а Женька приводил в чувство костёр. Он был хмурый и нёс в одной руке двух здоровенных змей без голов, а в другой – свёрнутый берестяной фунтик, в котором лежали грибы – я узнал сморчки. Сев на валежину, Сашка начал ожесточённо растирать ступни и дышать на них:
– Замёрз, как щенок на холоде, – буркнул он. – Заячьего помёта видел до хрена… думал, вспомню, как силки делать, отец учил. Ни черта не вспомнил…
– Я знаю, – подал я голос. Ходить мне было больно, сцепив зубы, я дотащился до валежины и сел рядом. – Вот, смотри… – я отломил кусок коры и начал чертить на влажной земле. – Сгибаем дерево, вбиваем рядом кол с сучком… Делаем такой зацеп, привязываем верёвку одним концом к дереву, на другом делаем затяжную петлю, зацеп ввязываем посередине и заводим под сучок на колу. А петлю раскладываем на сучках по обе стороны от заячьей тропки. И всё. Заяц прыгает, срывает петлю, зацеп тоже сдёргивает и повисает…
– По‑моему, батя так и показывал, – с лёгким сомнением сказал Сашка.
– Только у нас верёвки нет, – подал голос Жеька, которому удалось раздуть огонь, и теперь он интенсивно размазывал по физиономии копоть.
– Верёвку я сплету, – решительно объявил Сашка. – Сегодня на ночь штуки три таких силков поставлю…
…Сморчки пришлось вымачивать, а вот со змеями проблем не было – со спущенной шкуркой и выпотрошенные, они напоминали, как ни странно, сосиски и вызывали прямо желание вцепиться в них зубами и сожрать сырьём.
– Я ночью канонаду слышал на востоке, – сообщил я, когда мы уселись около костра ждать завтрака.
– Наши наступают, – с надеждой сказал Женька. – Может, скоро придут…
Я знал, чем кончится это наступление, но промолчал, конечно. А Сашка заявил:
– Как у тебя нога подживёт, будем искать партизан.
– Я и так могу хромать, – ответил я, но Сашка поморщился:
– Не валяй дурака, без ноги останешься.
– Да я опухну на одном месте лежать… – начал было я, но потом заткнулся.
Змеино‑грибной шашлык без соли мы смели на раз, обваляв в пепле, чтобы хоть немного отбить пресный вкус. Теперь предстояло просто‑напросто ничего не делать. А это очень тягостное времяпрепровождение, честное слово. Правда, Сашка нашёл себе занятие тут же – он уселся доплетать лапти себе и мне. Женька начал мастерить лук.
– Ни фига не выйдет, – объявил я. Женька, вымучивавший стволик ольхи, оглянулся на меня:
– Почему это?
– Да потому, что на лук лучше всего брать можжевельник, – со знанием дела сказал я. – Это раз. И два – просто из сырого дерева ничего не сделаешь. В смысле, ничего путного.
– Я всё равно попробую, – решил Женька.
В результате мне заниматься было просто нечем. Я даже обиделся, хотя это и было глупо. Тогда, чтобы хоть чем‑то занять руки, я дотянулся до винтовки и начал её исследовать.
Это оказался наш «мосин», произведённый аж в 1915 году. Держа винтовку на колене, я вздохнул:
– Ружьё бы охотничье…
– Пэпэша лучше, – сказал Сашка, умело орудуя своей кривулькой. – Самое то для нынешней охоты. У фрицев, гадов, полно автоматов…
– Не так уж много, – возразил я. Сашка поинтересовался:
– А ты умеешь с фрицевским обращаться?
– Более‑менее, – отозвался я. Я не раз перебирал, восстанавливая перед сдачей в музеи, найденное на полях сражений оружие, в том числе и ЭмПи нескольких моделей.
– А кто же у тебя всё‑таки батя? – спросил Сашка. Я отмолчался; тем более легко это получилось потому, что как раз в этот момент «лук», который Женька гнул, врезал ему по зубам, вырвавшись из ладоней. После того, как мы просмеялись, Сашка заметил:
– Дурная голова рукам покою не даёт, – а Женька что‑то буркнул и пустил неудавшуюся заготовку на дрова.
– Зря, – сказал я. – Сырая, дымить будет. Женька отмахнулся:
– Нет тут никого. яму мы зарыли, а полицая кто угодно грохнуть мог… – и передёрнул плечами. – Немцы в лес не сунутся.
– Мы тоже так думали, – сказал Сашка. – А нас как раз в лесу и накрыли. Егеря накрыли. Подползли, часовых финками порезали… Сперва гранатами закидали, а потом как рубанули из пулемётов с трёх сторон… Такая каша была…
Женька молча вынул из костра палку.
Несмотря на холодное утро, день как раз обещал быть тёплым, что надо. Я был почти сыт, нога болела несильно и начинала чесаться. Хотелось думать, что всё ерунда, что мы просто застряли в не очень удачном походе, о котором потом даже весело будет вспоминать…
– Мы до войны часто в походы ходили, – вдруг разгадал мои мысли Женька. – Так здорово было… Я думал, кем лучше стать – врачом, или геологом? Прямо разрывался… Камни в квартиру таскал…
– Мы тоже ходили, – вспомнил Сашка.
– Слушай, а за что тебя всё‑таки в пионеры не приняли? – спросил я. Сашка смущённо поерошил волосы:
– Да‑а… Меня иногда как срывало… Один раз на спор по крыше прошёл, по коньку. Ну, в школе. А она у нас двухэтажная, крыша крутая… Директриса увидала и в обморок – бух!.. Другой раз на речке – в общем, старшие девчонки купались, а я подплыл под водой, трусы стянул и всплыл, как буёк, задом кверху… Ну и разное ещё такое. За меня уж и просили, а совет дружины упёрся – и ни в какую… Кое‑кто уж и комсомолец в моём возрасте, а я ещё даже не пионер… Меня и в Москву из‑за этого не взяли, когда класс ездил…
– Я тоже в Москве не был, – вздохнул Женька. – Борь, а ты был?
– Был, – коротко ответил я.
– Красиво?
Я вспомнил огни реклам, шум улиц, реки людей, потоки машин… Ничего красивого не приходило на ум, но я отозвался:
– Да. Очень.
– Ещё бы, – вздохнул Сашка. – Столица… После войны обязательно поеду… – он посопел и вдруг продолжал: – Я знаете о чём иногда мечтаю? Чтобы… ну… подвиг совершить. Настоящий, большой, чтобы наградили… может, даже Героя дали… И чтобы сам Иосиф Виссарионович мне… – Сашка вдруг покраснел и махнул рукой. Женька засмеялся и пропел:
– И в какой стороне я не буду,
По какой не пойду я тропе –
Друга я никогда не забуду,
Если с ним повстречался в Москве!.. Помните «Свинарка и пастух»? Как он с волками дрался?
– А ты «Волга‑Волга» смотрел? – снова оживился Сашка.
– Конечно! Как тот: «Я все мели на реке знаю!.. Первая!.. Вторая!..» Но мне «Весёлые ребята» больше нравится – как там музыканты…
– А «Праздник святого Йоргена»?.. Ильинский – вот здорово!..
– А «Александр Невский», скажи!..
– А помнишь «Дети капитана Гранта»?..
– Ага! А «Остров сокровищ»? Только там не как в книжке…
– А я книжку не читал… А «Чапаев»?! Я так хотел, чтоб он доплыл… Он бы и сейчас ещё не старый был, вот бы рубал фрицев!..
Я выпал из разговора, но мне не было обидно. Смотреть на моих новых друзей было интересно и немножко завидно почему‑то. Все эти фильмы я смотрел – но смотрел просто так, а для них старые ленты были совсем недавним событием, их герои – живыми людьми…
– Говорят, цветное кино снимают, – вспомнил Сашка тем временем. – Прямо всё как по‑настоящему…Борька, ты не видел цветное?
– Видел, – отозвался я, не подумав. Они вытаращились на меня, Женька недоверчиво спросил:
– А где?
– Тоже перед войной, – ругнув себя за опрометчивость, сказал я. – Не наш фильм, английский. Плохо помню, про что, маленький ещё был…
К счастью, дальнейших вопросов не последовало. Они опять начали разговаривать про довоенное, а я вдруг подумал, что они совсем не говорят про девчонок. В моём времени об этом обязательно бы болтали вовсю – так или иначе, грубее или романтичнее, но парни нашего возраста говорили бы точно, делясь или переживаниями, или мечтами, а то и постельным опытом – выдуманным или реальным, у кого как, не разберёшь. Вот интересно – они же нормальные ребята, здоровые, взрослые. Не может же быть, чтобы им – ну! – хотя бы не снились девчонки… ну и всё такое прочее. Что они об этом‑то думают? Не спросишь, и разговор не начнёшь – не поймут…
– Чего ты так вцепился в винтовку? – прервал мои мысли Женька.
– Да так, – я улыбнулся ему и перекинул «мосин» ему. – Держи свой трофей.
14
В середине мая вода очень холодная. Очень. Я и раньше это подозревал, а теперь совершенно в этом уверен. Но за компанию люди совершают временами абсолютные глупости.
– Оуу… аахх!!! Й…ааа, блл…инн!!!
Рана в бедре последние два дня чесалась просто‑напросто нестерпимо, в воде это не ощущалось. Вообще мало что ощущалось, кроме того, что вода, судя по всему, несёт остатки зимнего льда. Я барахтался над омутом, не сдерживая воплей – полуликующих, полуиспуганных. Сашка, который подбил меня на это безумие, явно не ощущал холода – курсировал, паразит, саженками вдоль берега. Я всегда неплохо плавал, но температура воды +14, не больше, располагала к полной потере всех навыков, кроме самых насущных. К ним относилось и умение ориентироваться – я выбросился на песок, показавшийся мне невыразимо приятным, тёплым и ласковым.
– Слабо‑слабибо! – гаркнул Сашка, но сам уже последовал моему примеру и сейчас приплясывал на одной ноге, отчётливо стуча зубами.
– Открыл купальный сезон, – я перевернулся на спину. – Ффуу… – я сел и начал ожесточённо тереть рану ладонью. Мне захотелось есть, а с этим как раз была проблема – зайцы резко поумнели после того, как пять из них нашли себе безвременный конец в петлях ловушек. – Дурак ты, Сашка, в такой холодильник купаться.
– Да ну, – он шлёпнулся рядом на песок. – Я один раз в середине апреля начал купаться.
– Я же говорю, дурак ты и есть дурак… – я дотянулся до своего барахла. Сашка отдал мне нижнюю рубашку, а сам щеголял в гимнастёрке на голое тело. – Пошли, посмотрим, может, какой удавился… Же‑ень!
– Тише, – Сашка вдруг распластался на песке. Я, ничего не спрашивая, растянулся рядом с ним, подгребая к себе штаны.
– Чего?
Сашка замотал головой и показал вдоль речного берега. Я посмотрел в ту сторону.
Женька – с винтовкой наперевес – замер за большим дубом метрах в двадцати от нас, где стирался. И буквально к его ногам правила лодка – обычная деревенская плоскодонка‑долблёнка, каких уже не встречается в моё время. В ней расположились трое немцев.
Нет. Не немцев. Я отчётливо различил на рукавах трёхцветные нашивки эстонских легионеров. Все трое были вооружены пистолет‑пулемётами, но на корме торчали удочки. Двое – молодых – гребли. Третий – намного старше, лет сорока – сидел около удочек.
– Борь… – услышал я шёпот Сашки и обернулся. Глаза у моего друга были отчаянные. – Три автомата…
– Ты что?.. – зашипел я в ответ, но осекся.
Эстонцы причалили между нами и Женькой, попрыгали на берег, громко переговариваясь. Старший передал удочки, вылез, они выдернули лодку на песок. Один попробовал воду, начал раздеваться, другой молодой заржал. Старший налаживал удочки.
Сашка, сидя на корточках, приподнялся и тихо начал красться вперёд. Я чертыхнулся и двинулся следом. Молодой эстонец прыгнул в воду и заорал. Старший присел с удочкой на какую‑то корягу; оружие висело у него на бедре. Второй молодой, стоя на берегу – руки в боки – орал какие‑то то ли советы, то ли оскорбления своему сумасшедшему приятелю.
Я увидел, как Женька поднимает винтовку.
Эти люди не нападали на нас. Во всех стычках до сих пор я оборонялся. Только оборонялся. Но сейчас предстояло напасть первыми. На ничего не подозревающих людей. Мне казалось, что включился некий автопилот – и ведёт меня независимо от моей воли.
Сашка махнул рукой и прыгнул вперёд.
Женька выстрелил. С такого расстояния винтовочная пуля, попавшая старшему из рыбаков в правый висок, подняла его на ноги и разнесла голову, словно кувалда – он рухнул в воду плашмя, подняв фонтан брызг. Сашка сшиб не успевшего повернуться парня, стоящего на берегу, и я, повинуясь этому самому автопилоту, прыгнул ему на помощь и перехватил руки эстонца. Сашка вдавил его голову под воду…
Это было ужасно. Я ощущал, с какой бешеной, безумной силой человек, которого мы придавили к песку, старается вырваться. Сашка хрипел матерные ругательства и вжимал голову легионера в песок на дне. Несколько раз эстонец сумел ударить меня коленом в спину. Я увидел, как рука Сашки с растопыренными пальцами скользнула к поясу легионера… в ней мелькнул финский нож – и парень перестал рваться.
Сашка пырнул его ещё раз – в бок. Женька выстрелил вторично – и я увидел, вскинув голову, как успевший выбраться на противоположный берег эстонец, отпустив кусты, в которые вцепился, медленно упал обратно в воду. И поплыл по течению…
– Готов, – сказал Женька, выбрасывая гильзу из‑под затвора…
…Сапоги оказались нам беспощадно велики – никак не носить, чтобы ноги не сбить. А форму забрызгало кровью. Но снаряжение мы сняли и оттёрли. К сожалению, у легионеров не оказалось никакой еды.
И что смешно – у всех троих были разные пистолет‑пулемёты. Совсем смешно, что у старшего – наш, русский ППШ. Сашка взял его себе вместе с большим пистолетом «штейр».
По финке – настоящей финке, в смысле – финской финке – досталось всем, и мы с Женькой разыграли остальное оружие, чтобы не спорить и никому не было обидно. Я «выиграл» обычный МР‑38 и «парабеллум». Женьке достался старый МР‑28 (магазин сбоку) и опять‑таки наш «наган». Гранат не было совсем, да и патронов маловато оказалось…
– Вот мы и с оружием, – Сашка провёл ладонью по дырчатому кожуху ППШ и перевёл дух – словно что‑то выплюнул из себя. Я его понимал – мне и самому не очень‑то хорошо. То и дело вспоминалось, как дёргался «наш». Он хотел жить. Конечно, он был враг, может быть, даже худший, чем немцы. Но он хотел жить, как все люди. А Сашка его зарезал.
Я поймал себя на том, что тоже выдыхаю, стараясь успокоиться. Откинул приклад ЭмПи и прикрыл глаза.
Да, мы с оружием. И это уже обязывает. Три пистолет‑пулёмёта – это не одна винтовка с десятком патрон… Не открывая глаз, я сказал с расстановкой:
– Да, у нас теперь оружие… И нога у меня почти зажила. Можно двигать. Партизан искать или ещё куда. В эту… – я вспомнил название, которое говорил Сергей Викеньтевич. – В Белебелку, например.
– Можно и туда, – Сашка жевал веточку и задумчиво глядел в огонь. – Но тут в любом случае оставаться нельзя. Этих гадов будут искать. А с нашим запасом патронов лучше, чтобы мы врагов находили первыми.
– Час назад мы и о таком запасе мечтать не могли, – заметил Женька, осваивавший свой пистолет‑пулемёт.
– Это час назад, – ответил Сашка. – Лады. Чего ждать, прямо сейчас и снимемся…
– Только лаптей в дорогу наплетём, – ядовито сказал я. Сашка неожиданно смутился:
– Ну я забыл…
– Да ладно, ты чего. – я даже удивился. – Я просто так. Чёрт, жаль сапоги так велики! Встретить бы того полицая, который мои ортопепды свистнул… Я бы ему сделал раскулачиванье. Ему бы вообще ботинки больше не понадобились… – я злым рывком затянул ремень с подсумками, финкой и пистолетом и, вставая, забросил на плечо ЭмПи…
…В лесу вовсю бушевала весна – что тут ещё скажешь? Мы прихватили с собой остатки зайца и жареной щуки, которую Женька поймал в заводи и шагали обычным порядком – Сашка впереди, Женька между нами, я в хвосте. Босиком идти было тяжеловато, если честно. Сашка ничего – вышагивал, как будто так и надо, бесшумно, словно индеец. А я втихую завидовал грубым, но явно несокрушимым ботинкам Женьки.
Надо сказать, что я давно уже потерял ориентацию и совершенно не понимал, в какой части Северо‑Запада мы находимся. Оставалось полагаться на Сашку. Да, собственно, и не всё ли равно? Как говорил один из персонажей фильма «Человек, который хотел стать королём»: «Враги везде!» И он был прав. Как правы и те, кто говорит, что на войне всё буднично. Ехали в поезде, сбежали, попались, расстреливали – не расстреляли; прятались в лесу, напали на потерявших нюх врагов, разжились оружием… Всё в порядке вещей, если ты жив. А если нет – то уже не пожалуешься на невезение.
– Нога как, Борь? – нарушил Женька мои размышления. Я пожал плечами:
– Да нормально…
Если честно, нога побаливала. Но это была несильная и неглубокая боль. Рана зажила и беречь её теперь значило просто лениться. Я уже почти забыл, как пережил «операцию».
– Пст, – услышали мы, и я увидел, что Сашка застыл, подняв руку.
Пару секунд мы просто стояли. Потом я услышал (и нервно облизнул губы) звук моторов. Он был не так уж далеко, но не приближался, а как бы двигался параллельно нам.
– Дорога, – сказал я тихонько, обогнув Женьку и подойдя к Сашке. Тот кивнул, продолжая всматриваться в свежую зелень. – Пойдём?
Сашка опять кивнул. Я указал Женьке в сторону, сам отошёл в другую – теперь мы двинулись цепочкой метрах в пяти друг от друга. Я передвинул стволом вперёд оружие, натянул ремень на локоть для упора. В голове звенело от напряжения… но с другой стороны я почти хотел, чтобы сейчас появились враги. Не знаю… чтобы посмотреть, у кого быстрее реакция, что ли? Успею я выстрелить первым – или нет? Внутри меня буквально выкручивало, как мокрую тряпку, капающую страхом – и в то же время нервы и мускулы пели, как туго натянутые струны на гитаре, мне казалось, что я вижу жучков‑паучков на листьях деревьев метров за двадцать и слышу, как шуршит листьями ёжик чуть ли не на дистанции стометровки…
Вот теперь шум приближался. Сашка остановился, я замер секундой позже, а ещё через секунду остолбенел и Женька. Метрах в трёх перед нами по до‑роге переваливался бронетранспортёр с немцами (корма ещё одного уплывала за поворот), следом двигался открытый грузовик, в котором покачивались каски и стволы легионеров. Замыкали колонну два мотоцикла с пулемётами в колясках, развёрнутыми в разные стороны.
Конечно, нападать на этот отряд было бессмысленно. Мы стояли и ждали, пока последний мотоцикл не скрылся за поворотом – и только после этого вышли на дорогу. Пыль на ней была теплой и глубокой.
– В той стороне – Крохино, – Сашка вертел головой. – Они оттуда ехали, но там не может быть такого гарнизона, там полтора полицая и заготовители, вечно пьяные…
– Дымом пахнет, – сказал Женька. – Не чувствуете?..
…Деревню сожгли без жителей. Судя по следам, люди ушли в лес, угнав с собой немногочисленную скотину и даже что‑то унеся из вещей. Но при въезде на поспешно сколоченной виселице раскачивались два тела – пожилой мужик и девчонка лет шестнадцати. На их вытянутых шеях (особенно это было заметно у девчонки; у мужика борода прикрывала петлю) висели грубые таблички – просто куски картона на верёвочках. Там не было ничего о «партизанах», как в кино. Там было просто написано два слова:
русские свиньи
Правда, на одной из боковин виселицы был прилеплен плакатик с двойным типографским текстом о том, что деревня подверглась возмездию за укрывательство бандитов. Но я прочитал это мельком.
Все ноги у девчонки были залиты кровью. А глаза смотрели на меня, как бы я не поворачивался и не переходил с места на место – синие и пыльные.
Девчонка была похожа на Машку Корзун, с которой я целовался на дискотеке на 8 Марта. Очень‑очень похожа. Я тряс головой и жмурился, пока Женька не ударил меня по щекам.
– Спасибо, – поблагодарил я. – Их надо похоронить…
– Надо, – сказал Женька, и я увидел, что Сашка уже несёт какую‑то лопату с полусгоревшей ручкой. Я достал финку – перерезать верёвки…
…В деревне не осталось ни одного целого дома, сарая или вообще строения. К тому времени, когда мы закончили копать две – нет, не могилы, это сильно сказано – а так, ямы – собрались тучи. Рукоятка к хренам обломились посередине, это прибавило работы. А когда мы ставили кресты – это я взялся их ставить, и ни Сашка, ни Женька не возражали – пошёл дождь. Не холодный, но бурный и явно затяжной. В мгновенно образовавшихся кое‑где лужах танцевали пузыри. По деревне поплыл отвратный запах сырой гари. Мы вымокли насквозь. Не знаю, что стали бы делать дальше – может, потащились бы в лес – но тут Женька буквально натолкнулся на полуобвалившийся погреб. Судя по быстро размывавшимся водой следам, на погреб наехал транспортёр – кажется, его вытягивали другим и разворотили то, что осталось. Но в погребе сохранились в песке какие‑то морковки и часть кровли. Под неё мы и забились. Сели на остатки настила, а ноги стояли в луже, и к ним стекали всё новые и новые ручейки, размывавшие скаты ямы. При попытке задрать ноги на настил, которую я предпринял, тот предупреждающе хрустнул – и я поспешно вернулся в ножную ванну. А то и сидеть не на чем будет. «Голым задом – в мокрую воду?! Увольте‑с!»
Мы хрустели морковкой, отмывая её под сочащимися сверху струйками. Морковок пришлось по две с третью на брата. Потом доели щуку и зайца и ловили всё те же струйки ртами. Вода была тёплая и пахла землёй – этот запах у меня вызывал нервную дрожь, и Сашка спросил:
– Замёрз?
– Нет, – я вздохнул. – Так… Что будем делать?
– А что тут делать? – пробормотал Женька. – Будем сидеть, пока дождь кончится. И пойдём дальше… Тут безопасно, они сюда не вернутся. Незачем им сюда возвращаться…
– Если бы они вернулись… – Сашка не договорил. Я напомнил:
– Гранат всё равно нет… – и опять вздрогнул.
– Да что с тобой? – Сашка заглянул мне в лицо.
– Та девчонка… Она на одну мою знакомую похожа.
– Может… – Сашка помедлил. – Может, это она и есть?
– Нет, – я покачал головой. – Та девчонка далеко…
Подняв голову, я прислонился затылком к влажным брёвнам. Прямо надо мной была щель, и сквозь неё я видел медленный шаткий полёт капель с серого неба. По краям щели на моё лицо цедились струйки, и оно скоро стало мокрым. Всё. А не только щёки.
Хорошо…
…Когда я открыл глаза, то увидел направленный на нас сверху ствол карабина. Над ним, в чистом утреннем небе, виднелось лицо молодого – на пару лет старше нас – парня в кепке и лыжной куртке нараспашку:
– Дядь Гриш! – крикнул он, не сводя с нас взгляда и ствола. – Тут кто‑то сидит. С оружием…
15
В общем и целом партизанский лагерь как две капли воды соответствовал моим о нём представлениям. Тут были землянки, кухня под навесом, полугражданские люди с оружием, занятые какими‑то своими делами, разговоры и даже гармошка, под которую пели:
А как Гитлера пымаем –
То возьмём железный лом.
Докрасна лом раскаляем,
В ж… лом яму вобьём.
Но вобьём концом холодным,
Прямо в ж… между ног.
Почему так, догадайся?
А шоб выташшить не мог.
Добрая песенка, что и говорить…
Скорее всего, командование уже предупредили, что нас ведут, потому что около одной из землянок нас ждали. Во‑первых, ждал какой‑то пацан лет 12 в гимнастёрке, галифе и сапогах, в пилотке со звёздочкой и с карабином. Конечно, это ему давало право смотреть на нас свысока, но я мысленно пообещал, что он у меня ещё огребёт пару щелбанов за то, что, изучив нас, длинно сплюнул в траву – вожжой слюны, во мастер! – и презрительно хмыкнул.
За пацаном стоял явный командир отряда. Если я не угадал, то готов съесть червяка. Высоченный, худощавый, с хмурым рубленым лицом мужик лет тридцати пяти стоял, широко расставив ноги. Кожаную куртку перетягивали ремни с финским ножом, пистолетом и подсумками. На боку очень естественно висел немецкий ЭмПи. На светлых волосах – фуражка со звёздочкой. В сапоги можно было смотреться, как в зеркало. На защитных галифе – ни единой морщинки. Серые глаза смотрели с оценивающим прищуром, и мне захотелось подтянуться и вскинуть подбородок.
– Значит, это вы и есть? – спросил он, рассматривая нас. Наши конвоиры сложили к его ногам отобранное оружие, а я поздравил себя с правильной догадкой – командир. Говорил он с каким‑то лёгким акцентом, но чисто. – Ну что, назовитесь.
Мы представились. Кажется, он готовился прямо здесь продолжать разговор – а точнее, допрос, – но вмешался его спутник, которого и заметить‑то на фоне командира было непросто. Он вышел из землянки чуть позже – маленький, уже лет за пятьдесят, в накинутом на голое тело гражданском пиджачке и… в лаптях. Мне этот персонаж показался похожим на гнома из американских мультиков – не только ростом, но и розовощёким добрым лицом, клочковатыми седыми волосами. И вообще. Он тронул командира за рукав и подал голос:
– Ты это погоди, ты это чего спешишь‑то? Ты это смотри на них, это глядеть жалесно… Ты это на ноги их глянь – это не то ноги не то это сапоги… это бархоткой чистить можно, как твои это… Успеешь это – поговорить… Юля! – окликнул он дребезжаще, из той же землянки появилась девчонка. Примерно наша ровесница, в широченных шароварах, грубых ботинках и мужской рубашке. На грудь переброшена толстенная коса. Она скользнула по нам равнодушным взглядом большущих синих глаз (как у персонажей японских мультиков – об‑балде‑е…) и спросила:
– Чего, Мефодий Алексеевич?
– Это, дочка, – он повернулся к ней, – ты это на кухню сходи, скажи это – пусть там троих накормят, это – придут сейчас. А потом слетай, дочка, это, скажи, чтоб баню сделали. Сделаешь? Ну, вот, это и хорошо… – и обратился к нам: – Ну, сейчас это поедите, помоетесь, а там и поговорим, это – кто вы, откуда…
– Оружие, – хмуро сказал Сашка, – мы его не на помойке нашли.
– Никуда не денется ваше оружие – это, если всё хорошо будет, – гном по имени Мефодий успокаивающе кивнул, – так и получите его это – обратно.
– Да вы что, – звонко начал Женька, хлопая глазами. – вы нас за немецких шпионов принимаете?!
Я, признаться, перетрусил очень. Раньше мне такой аспект встречи с партизанами в голову как‑то не приходил – я просто заведомо считал их «своими», а вот что мы можем для них показаться «чужими» – я не думал. Женька пробудил во мне не очень приятные мысли… Но с другой стороны – как им ещё‑то быть?
Гном подтвердил мои мысли. С извиняющейся улыбкой он сказал:
– Ну а это – чего вы хотели‑то? Это – доверяй, но проверяй… А что ж думаете – фрицы это – дурней ветряной мельницы? Не дурней, и они, это, много раз это уж доказали. И вашего брата засылают, и беглецов это – из плена, и все это жалистные до невозможности… Когда б мы это все вот это верили так сразу, нас бы это уж давно по деревьям это – развесили…
Что тут было возразить? Что всеобщая подозрительность – это плохо? Плохо. Когда ты сидишь дома в начале ХХI и рассуждаешь об этом около телика или с книжкой на коленках.
Мы развернулись и пошли к кухне. По‑прежнему под конвоем…
…В три глиняных миски нам положили пустой овсяной каши, кажется, даже на воде. Лично я был такой голодный, что понял это уже потом, когда выскреб ложкой последние разваренные крупинки. Повариха – просто неприлично здоровенная – не толстая, а именно здоровенная – баба смотрела на нас с жалостью, потом сказала нашему конвоиру, сурово за нами надзиравшему:
– Скажи там, что не шпиёны они никакие. Что я – шпиёна от мальца голодного не отличу? – потом подперла щёку ладонью и вдруг со слезами сказала: – А я вам и добавки положить не могу, нету ничего почти… а вы вон какие голодные, ребятишки мои…
– Ну хватит реветь, тёть Фрось! – свёл брови наш конвоир и получил половником в лоб:
– А чтоб тебя!.. Тоже только с горшка слез, ружьё ему дали – он и вспузырился! Бррысь!.. – и снова обратилась к нам: – Намучились небось… Да вы не бойтесь, вы правду сразу говорите, всё, как есть, и всё сладится… Поели? Вот и ладно…
Мы вразнобой сказали «спасибо», и она снова запричитала:
– Да разве ж в прежнее время я б так вас накормила? Вы б и «спасибо» сказать не смогли… Да что ж этот Гитлер проклятущий нам жизнь‑то порушил…
Пока мы ели, рядом снова появилась та девчонка – стояла и в упор нас рассматривала. Потом спросила:
– Готовы? Пошли, – и мотнула головой конвоиру: – А ты свободен.
– Убегут же, – попробовал возразить он. Девчонка (кажется, её Юлькой зовут) смерила его таким взглядом, что парень покраснел и остался стоять на месте. Слышно было, как повариха удовлетворённо сказала:
– Как она тебя? То‑то…
Честное слово, я ни разу в жизни – ни там, ни тут – не чувствовал себя так идиотски‑неловко, как в этот момент, когда шагал следом за девчонкой. Я был босиком, грязный и вообще какой‑то перекошенный снаружи и внутри. В голове вертелось почему‑то: «Давай познакомимся.»
Нужен я ей, как собачий хрен.
– Значит так, – она остановилась возле землянки, из которой сочился через задёрнувший вход брезент пар. – Это баня. Вы, я вижу, подзабыли, что это такое. Там моются. Дальше разберётесь сами.
– Уж как‑нибудь, – буркнул Сашка. – Там постираться есть где?
– Барахло кидайте наружу, – отрезала она. – Потом подождёте, тут постирают.
– По‑моему, командир отряда – она, – сказал ей вслед Женька. Предполагалось, что она уже не слышит, но Юлька резко остановилась:
– Ты. Длинный. Вот так сможешь? – она что‑то сделала рукой, и в бревно наката землянки в дециметре от щеки Женьки воткнулась финка. Откуда и как она её достала и как бросила – я не заметил. – У меня батя был лесником. Он меня один вырастил. А летом прошлым немцы за то, что он лошадей им не отдавал, привязали ему к ногам два мешка с песком и в колодец кинули. А я видела. И сделать ничего не могла… Дай финяк.
Женька не сразу смог его вырвать…
…Я сидел и рассеянно потирал номер на руке. Да, это не переводная та‑тушка. Прочная работа, не ототрёшь… Сашка с Женькой ещё плескались в глубине землянки.
– Закончил мыться? – внутрь просунулась голова Юльки. Я охнул и согнулся животом к коленям. Она смотрела на меня без малейшего любопытства, и я спросил:
– Ты что, озверела? Сгинь.
– Я спрашиваю, закончил мыться? Давай к товарищу Хокканену, – она бросила мне белые кальсоны. – Пока это натяни. Твоё сохнет… И вы там побыстрее! – повысила она голос для моих друзей, прятавшихся один за другого с огромными глазами.
Её деловитое нахальство начало меня раздражать. Не сводя с неё глаз, я встал в рост и начал неспешно натягивать кальсоны.
Юлька побагровела и выскочила наружу.
– А то, понимаешь… – буркнул я…
…Когда я выбрался наружу, она ждала, но на меня не смотрела. Та часть щеки, которую я видел, была алой.
В кальсонах я чувствовал себя совершенно по‑дурацки. Всюду болтались какие‑то завязки, и вообще эта одежда наводила на мысль о предстоящем расстреле. В таком поганом настроении я шагал рядом с девчонкой через весь лагерь, и мне казалось, что все на меня смотрят. Скорее всего, никто и не думал смотреть – тут такая одежда была вполне привычной. Но избавиться от такого ощущения я не мог.
– А твои родители живы? – вдруг спросила она.
– Да, – сказал я. – Они в Новгороде. В… в оккупации.
Только этой репликой мы и обменялись, пока шли к штабной землянке. Юлька за мной следом туда не полезла, да и вообще – том был только тот рослый мужик, командир. Гнома Мефодия не наблюдалось, и я поёжился – хоть какая‑никакая, а защита… Наверное, он тут завхоз.
Странно, но командир не спешил меня допрашивать, грозить тэтэ, бить по вискам и орать. Он ткнул пальцем на самодельную скамейку и грустно уставился на стоящую посреди стола радиостанцию – переносную, немецкую. Потом спросил вдруг:
– Слушай, шпион. Ты случайно не разбираешься в радиоделе?
– Ну… – я осторожно сел. – Так… Средненько.
– Тебя ведь Борис зовут? – вспомнил он. – Ну посмотри аппарат. Без него вообще край приходит.
– Но я таких никогда не видел даже… Я же могу испортить…
– Испортить уже испорченное невозможно, – философски сказал он. – Можно только починить. Так что хуже не будет.
Я пересел к столу и вскрыл корпус. Когда я сдавал норму на медведя, то чинил мелкие неполадки в армейских радиостанциях и показывал, как умею с ними работать – вести и принимать передачи, пеленговать сигнал… Надписей на немецком я не понимал, лампы здорово отличались от транзисторов – с минуту я тупо смотрел на внутренности станции, а командир что‑то насвистывал. Потом я сказал:
– А инструменты, запаска есть?
Он молча выложил передо мной ящик защитного цвета и спросил:
– Номерок‑то откуда?
– Нас в поезде возили, – ответил я. – Как прикрытие… Меня и Сашку. Ну, и других, но из нас троих только мы с поезда, Женька…
– Ясно… Ну что там?
– Пока не пойму.
С рацией обращались по‑хамски всё последнее время. Может быть, и когда она была в руках у немцев, но уж тут‑то – точно.
– А фамилия‑то твоя как?
– Шалыгин, я уже говорил… – я аккуратно извлекал лампы, просматривая штекеры контактов.
– А родители в Новгороде, говоришь?
– Да.
– А сюда как попал?
– Сбежал, – всё это напоминало допрос в милиции, куда я однажды попадал. – К партизанам и сбежал.
Хокканен задавал вопросы снова и снова. По несколько раз повторялся, спрашивал иногда ну абсолютную ерунду. Я терпеливо отвечал, пытаясь реанимировать рацию, и на вопросе: «А сколько тебе лет, ты говорил?» – она вдруг каркнула, свистнула и выдала:
– …под Ленинградом велась контрбатарейная борьба. Артиллерией врага повреждены три катерных тральщика. Авиация Балтийского флота бомбила Хельсинки, Таллин и остров Гогланд, позиции противника у посёлков Володарского и Михайловского, железнодорожный узел Пскова, прикрывала Кронштадт и корабли на Неве, отражала налёты на перегрузочные пункты Кобону, Лаврово и Волховстрой. В воздушных боях сбито два и повреждено пять самолётов неприятеля…
Триумфально откинувшись назад, я повернул верньер настройки (его ни с чем не спутаешь) и в землянке раздался отчётливый стук в дверь.
– Это Би‑Би‑Си, – сказал Хокканен. – Ну что ж, неплохо. Ты, Борис, пойди посиди наверху. А Сашку позови. Белобрысый – это ведь Сашка?
16
Отряд «Смерч» был остатком партизанского полка имени Яна Фабрициуса, разгромленного немцами страшной зимой 41–42 годов. Полк насчитывал почти пятьсот человек и имел даже артиллерию. К сожалению, его командир – бывший секретарь райкома – при всей личной храбрости и преданности делу был ещё и крайне глуп (прямо об этом не говорили, но я понял) и путал руководство посевной с руководством боевыми действиями. Он ввязался в настоящий бой со следовавшими к фронту частями немецкой 227‑й пехотной дивизии, которые превосходили партизан и численно и в вооружении, а главное – в свирепом умении воевать, приобретённом за два года на просторах Европы. В результате немцы полк разгромили, а каратели, полицаи и егеря гнали его остатки, пока не затравили практически последних.
Вот в те дни пожилой, похожий на удивлённого гномика человек, в мирной жизни – бригадир торфоразработчиков Дубасов Мефодий Алексеевич спас полсотни человек, уведя их тропами в глубь хорошо известных ему лесов. Он и стал командиром отряда. Придётся мне есть червяка.
Хотя я, признаться, думал, что он завхоз. За командира я принял того, высоченного, в коже. Но это оказался политрук отряда, Илмари Ахтович Хокканен, действительно настоящий политрук Красной Армии, финн по национальности, прибившийся к отряду позже с группой окруженцев.
Дела у отряда были так себе. Он насчитывал сейчас сорок семь человек – два взвода – двадцать и двадцать два человека – плюс пятеро в отделении разведки (стало; почему – поймёте!). Имелись три пулемёта – два польских «браунинга» и наш «дегтярь» – но в страшном дефиците были патроны и гранаты, хронически не хватало взрывчатки, не было совсем медикаментов и не хватало еды. Связи с Большой Землёй не имели уже месяц – вышла из строя рация, что с ней делать – не знал никто (пока не пришёл славный я). Связи с подпольщиками в городе не было тоже – подпольный райком немцы разгромили в марте. Связь с агентурой в деревнях приходилось осуществлять с огромными трудностями. Почти не было связи и с соседями – иногда по нескольку недель не знали, что они делают и целы ли вообще. Принимать новых людей в отряд – а желающие были, и немало, численность можно было сразу увеличить втрое! – стало бессмысленно за отсутствием оружия.
Правда, как ни странно, в отряде сохранялся очень высокий моральный дух. Большинство бойцов пострадали от оккупантов – даже не столько от немцев, сколько от эстонских карателей – и настроены были сражаться до победы или до смерти, не особо думая о политике. Остальные – военные, пришедшие с Хокканеном – просто не мыслили себе поражения Красной Армии и воодушевлялись пониманием того, что помогают ей сражаться.
Поразило меня, что собой представляет наш враг. Ну, немцы – это ясно. Я знал и о том, что на их стороне тут воевала испанская «Голубая дивизия». Естественно – эстонцы и латыши. Конечно – наши предатели. Датчан сам видел. Но тут оказались голландцы, фламандцы, валлоны, норвежцы… Воистину – всякой твари по паре! Убиться можно… Мне оставалось только гадать, почему, стоит какому‑нибудь козлопсу попереть на Россию – как к нему немедленно и охотно присоединяются толпени желающих поучаствовать. З‑загадка. То ли нас там так боятся, что пытаются бить всем миром. То ли не любят за то, что мы не такие, как все.
Это всё мы узнали, надо сказать, немного позже. А пока что Григорий Ефимович – так, оказывается, звали второго нашего конвоира, старшего группы, обнаружившей нас – притащил ворох одежды и вывалил прямо перед нами на траву. Мы втроём сидели возле штабной землянки и гадали, что будет дальше.
– Выбирайте, мальца, – сказал он добродушно. – Тут всякое есть. Этого‑то хватает. Если какое побитое, с мертвяков – то потом подштопаете.
Раз одевают – то расстреливать не будут во всяком случае. Я рассудил так и вытащил из общей кучи камуфляж. Не такой расцветки, как мои штаны, но целый, мешковатый, с капюшоном на кулиске. А в следующую секунду обнаружились… ботинки. Мне даже сперва показалось, что это мои – но это оказались просто высокие ботинки, потёртые, на мощной подошве, с медными пистонами и кожаными шнурками с узелками на концах. Вторым чудом оказалось, что они подошли мне по размеру. У кого‑то была маленькая нога…
Мы ещё и прибарахлиться не успели – нас окликнули:
– Э, – мы подняли головы. Это оказался Лёшка, здорово кренившийся на сторону под тяжестью нашего оружия и снаряги. – Мефодий Алексеевич приказал вернуть вам… вот, держи, – Лёшка протянул мне свой карабин. Я посмотрел – на боку у него среди прочего висел явно мой ЭмПи.
– Верни, – коротко сказал я, кивнув на пистолет‑пулемёт. Лёшка сузил глаза:
– Бери, что дают.
– А мне его никто не давал. Я его сам добыл. Ну?
– По морде хочешь? – прямо осведомился он. – Ты тут ещё никто. Так что всё честно.
– Речь не о честности, – сухо сказал я. – Это, – и я снова кивнул, – моё оружие, а не твоё.
– Ты мне надоел, – сообщил Лёшка. И ударил в ухо.
Конечно, он бы меня свалил – старше на несколько лет и здоровей чисто физически. Но я был начеку – и помог ему продолжить удар, а, когда он оказался ко мне спиной, отвесил ему пинка. Лёшка пробежал несколько шагов под общий смех, спотыкаясь и бурно размахивая руками, но удержался на ногах. Повернувшись ко мне с багровым от злости лицом, он бросил оружие в траву и устремился на меня. «Отмщать».
Ню‑ню.
Я швырнул его через себя с упором в живот и, сев сверху, коротко и резко стукнул в верхнюю губу сгибом пальца. Из глаз Лёшки потоком полились слёзы. Я встал, положил возле него карабин и поднял свой ЭмПи.
– Погоди… Борис, так тебя?
Я оглянулся и увидел молодого лопоухого офицера – именно офицера, хотя в знаках различия я не разбирался – кубики‑ромбики… Я его видел и раньше, но как‑то не обращал внимания. Он кивнул мне:
– Ну‑ка?
В его руке появился нож – разведчицкий, с воронёным лезвием. Начавшие было расходиться зрители заинтересованно притихли и остались стоять. Я положил в траву оружие и пригнулся. Офицер скользнул вперёд, но я не дал ему закончить броска – ударом ноги в колено заставил его потерять равновесие, перехватил руку и, вывернув её с нажатием на локоть снаружи, вырвал нож, а потом дал противнику упасть.
– О‑о‑о‑о… – пронеслось по толпе. Офицер встал, как ни в чём не бывало и спросил:
– Самбо? – я кивнул, протягивая ему нож. – А боксом занимался?
– Немного.
– Служишь у меня, – коротко сказал он. – Лейтенант Горелый, Виктор Викторович, командир отделения разведки.
– Я только с Сашкой и Женькой, – тихо сказал я. Офицер склонил голову к плечу, отчего стал похож на задумчивого Чебурашку:
– Я ведь и приказать могу.
– Я понимаю…
– Ладно, – он хлопнул меня по плечу. – Вместе так вместе. У меня всё равно людей не хватает. Я и ещё двое… Пошли устраиваться, вон наша землянка…
… ‑ Я, сын великого советского народа, по зову нашего народа и партии, добровольно вступая в ряды партизан Ленинградской области, даю перед лицом своей Отчизны, перед трудящимися героического города Ленина свою священную клятву партизана. Я клянусь до последнего дыхания быть верным своей родине, не выпускать из своих рук оружия, пока последний фашистский захватчик не будет уничтожен на земле моих дедов и отцов. Мой девиз – найти врага, убить его! Стать охотником‑партизаном по истреблению фашистского зверья. Я клянусь свято хранить в своём сердце революционные и боевые традиции ленинградцев и быть всегда храбрым и дисциплинированным партизаном. Никогда, ни при каких обстоятельствах, не выходить из боя без приказа командира. Презирая опасность и смерть, клянусь всеми силами, всем своим умением и помыслами беззаветно и мужественно помогать Красной Армии освободить город Ленина от вражеской блокады, очистить все города и сёла Ленинградской области от немецких захватчиков. За сожжённые города и сёла, за смерть женщин и детей наших, за пытки, насилия и издевательства над моим народом я клянусь мстить врагу жестоко, беспощадно и неустанно. Кровь за кровь, смерть за смерть! Я клянусь неутомимо объединять в партизанские отряды в тылу врага всех честных советских людей от мала до велика, чтобы без устали бить фашистских гадов всем, чем смогут бить руки патриотов: автоматом и винтовкой, гранатами и топором, косой и ломом, колом и камнем. Я клянусь, что умру в жестоком бою, но не отдам тебя, родной Ленинград, на поругание фашизму! Если же по своему малодушию, трусости или по злому умыслу я нарушу эту клятву и предам интересы трудящихся города Ленина и моей Отчизны, да будет тогда возмездием за это всеобщая ненависть и презрение народа, проклятие моих родных и позорная смерть от руки товарищей…
– Клянусь.
– Клянусь.
– Клянусь, – повторил и я, после чего вывел в указанной графе имя, отчество, фамилию и роспись.
Слова присяги, зачитанной Виктором, были торжественными, хотя и многословно‑пышными на мой взгляд. Но происходило всё офигенно буднично. Не было ни торжественного построения, ни всеобщего внимания – такой междусобойчик возле землянки. Правда, командование всё‑таки присутствовало, и Мефодий Алексеевич – по‑прежнему в лаптях, как и утром – пожал нам руки со словами:
– Ну вот, это, и хорошо, что ещё‑то? Клятва‑то она это – что, вроде печати на документ там это. Человек он и без документа это – человек. А документ это так – для порядку.
Поразмыслив, я решил, что слова эти были прямо‑таки мудрыми. Но обыденность происходящего была убийственной! Два часа назад неясным оставалось, что с нами дальше станется, а тут, когда мы расходились после присяги, какой‑то мужик спросил у меня махорки и огорчился, узнав, что я не курю, а другой – моложе и гладко выбритый – поинтересовался, не из Пскова ли я, а потом пригласил вечером пить чай – «настоящий, трофейный, всего щепотка‑то и осталась!»…
…Любой парень, который побывал в спортивном или оборонном лагере, на турбазе – знает, как это. Наверное, так было и до нашей эры – могли меняться одежда, обстановка в помещении, язык – но не атмосфера. В нашей землянке она ничем не отличалась от «спальника» на летнем выезде нашей дружины.
Помещение – высотой около двух метров – было в плане квадратом три на три. Вдоль двух стен – нары, вдоль третьей – стол и вкопанная скамейка, около входа – оружейная пирамида и печурка из жестяной бочки, труба которой – выдолбленная деревяшка – уводила наверх, на воздух. Посредине места почти не оставалось. Пахло… пахло землёй, и я невольно зажмурился, когда мы вошли в это помещение, где кто‑то наигрывал на «губнушке».
Опа!!!
Ну, то, что тот парень, младший, оказался здесь – это бог с ним, хотя на гармошке играл именно он, и неплохо; валялся на нарах и играл. Но тут же оказалась и та «Сэйлормун – Луна В Матроске», Юлька! Когда я открыл глаза, она вовсю таращилась на нас – примерно так же, как и мы на неё.
– Добрый вечер, – сказал Женька. Мы с Сашкой промолчали – от удивления, а не из грубости. Лейтенант, вошедший следом за нами, засмеялся:
– Ну вот, отделение в сборе… Юль, Ромка, это ваши новые сослуживцы.
– Очень приятно, – сказала Юлька и, глядя на меня, фыркнула. А Ромка пожал плечами и изобразил на губной гармошке «Свадебный марш» Мендельсона. Уж что он имел в виду – чёрт его знает, но мне внезапно захотелось ещё больше дать ему по шее…
…В эту ночь я долго не спал. Нога опять чесалась, но не в этом дело. Под потолком занудно зудели комары, но не снижались – отпугивала развешанная над нарами полынь. От её запаха немного плыла голова.
Человек, который спал на моём нынешнем месте, три недели назад подорвался на мине на окраине Бряндино. Вот и выяснилось, где мы – там, откуда десять дней назад мы с ребятами выехали на автобусе. Покрутился и вернулся на прежнее место… Теперь подрываться – наш черёд. Мы – разведка. Вот мы все, трое четырнадцатилетних парней, того же возраста девчонка, двенадцатилетний сопляк с сомнительным чувством юмора и похожий на озверевшего Чебурашку летёха‑окруженец, по которому НКВД плачет за то, что к своим не прорвался. Разбегайся, вермахт, стреляйся, Гитлер – мы на тропе войны!
«Чебурашка» (если бы тут знали этого персонажа, вот как пить дать я бы приклеил Витьку такое прозвище!) между тем не спал. Сашка не спал тоже – они на пару сидели за столом около коптилки из артиллерийского снаряда и что‑то химичили над картой, от чего по потолку скакали насмешливые тени. Женька храпел – раньше за ним такое не водилось, кажется. Кричать во сне – кричал, но не храпел.
Есть на свете люди, которые рождены, чтобы быть военными. Они вовсе не всегда безлобые амбалы с бычьей шеей и метровыми плечами. Вот Сашка, например, такой… Вон, что‑то доказывает… Мне внезапно стало жутко интересно – что же они там обсуждают‑то? Я же всё равно не сплю…
Я слез с нар и подошёл к столу. Мне на миг показалось… да, показалось, что я тут уже сто лет и всё вокруг не просто знакомое теперь – а вообще привычное. Словно я по‑другому и не жил. От этого чувства почему‑то захотелось плакать, и я, кашлянув, сел на лавку.
– Держи, – Витька пододвинул мне бумажку, на которой был насыпан сахар. Так, на одну ложку. Они по очереди тыкали в сахар пальцами и облизывали. Я пожал плечами, ткнул тоже и облизал. Почмокал и спросил:
– Чего не спите?
– Решаем мировые проблемы, – буркнул летёха. – Ты рацию починил, а мог бы и не чинить.
– Какого х…ра? – оскорбился я.
– Спокойней было бы, – обстоятельно разъяснил Витька. – Тебя как в школе звали?
– Шалыга, – не подумав, ответил я.
– Так вот, Шалыга, – тут же пустил моё прозвище в обиход командир, – ты, может, заметил, что мы тут как бы и не партизаним. Нечем. Патрон нету, с гулькин деткодел патрон. А самое главное – взрывчатка. Мы её помаленьку из подобранных боеприпасов плавили, был у нас минёр. Но сейчас это добро подвыбрали, да и минёр наш что‑то там не так повернул – хоронили сапог и скальп, как после индейцев. Читал про индейцев?
– Читал, – слегка ошалел я от такой эпитафии. Хотя – если по каждому плакать… – Ну и чего?
– Кумекаем, где взрывчатку брать, – встрял Сашка и ткнул в сахар. – Я до войны монпасье любил. Карамельки такие. В жестянках. Ел, Борь?
– Ел, – кивнул я, глядя на карту. Она была знакомая – практически по такой же и мы «кумекали» в гостиничном номере, только лесов было намного больше, дорог – в сто раз меньше и вообще… – А это чего? – я пододвинул к себе выглядывавший из‑под карты клочок бумаги с карандашными строчками:
В паселки чел. 20 палицаив и стокаже немцев из тыла загатавитилей и все пют самагон миняют на всяку ху…ту и пют. Эти ниапасныи. А на станцие седят дарожники и все саружием и тверёзыи в сегда. Многа наши мужики гаварят што сто ато и болши. И паизда вседа бывають много и разнаи. Но сичас ссаладатами нету а тока с машинами и с пушками под бризентом видать пушки. И падолга не стаять а идуть на фронт. Пранисти ни чиго нильзя патамушта всех обрыскивають чисто афчарки. Ищо стаить такая как бранипоизд в прошлу войну. Када стаить а када ежжаит куда точна неузанл. Но без паравоза и с танкавой башней. А на пакгауси где сам знаити хто работаит копят уж в третой рас парней да девок старшей пятнацати и в Германию кидають. Наши плачуть и вы б памагли чем ради Христа Бога а то загинуть детишки в чужой зимле.
Астаюс преданый Сов. Власти.
А ищо вот забыл авы пра ета прасили. За водаливной ст. в сараях свизли фрици тол в точ в точ как до войны крали са стройки штоп рыбу глушить. Я сам тада крал и помню харашо. Многа свизли. Тону не то все две. С таго полза можеть стаца. За бисграматност прастити. Прошлыи расы сын середний писал да его побрали в пакгаус.
– Матерь божья, что это?! – потрясённо спросил я. Летёха засмеялся:
– А‑а, тоже перепугался?.. Это, брат, агентурное донесение, Ромка вчера принёс с Борков, как раз где тебя на эшелон сажали… – я потёр руку с номером. – Связь с Ленинградом была вечером, – продолжал Витька. – Требуют активных действий и подготовки аэродрома совместно с соседними отрядами.
– Так это ж хорошо, – я снова макнул палец в сахар. Сашка фыркнул и перебил командира:
– Хорошо, кто спорит. Только с чем эти активные действия вести‑то?
– Товарищ в корень смотрит, – заметил лейтенант и достал из планшетки подробный план станции Борки. – Вот мы и сидим думаем. И взрывчатка есть, да и боеприпасами разжились бы. Только рискованно. Да и вывезти не на чем. Двадцать полицаев и двадцать заготовителей в посёлке – это так, мелочи. Поставить на дороге пулемёт и постреливать, они и не сунутся, там по сторонам открытое поле… Можно момент выбрать, когда эшелонов с солдатами не будет. Но на самой станции железнодорожники…
– У них старший – Фунше, – вспомнил я. – А отправкой рабсилы заведует такой толстый, обербаулейтер, как зовут – не знаю… Вот тут у них контора, – я нашёл на плане станционного здания обозначенную дверь
– Ага, этого мы и не знали, – Витька поспешно начал писать на загнутом уголке плана. – Фунше?
– Фунше, – кивнул я, изучая план. – А что за бронепоезд без паровоза?
– Бронелетучка, – скривился лейтенант. – Поганая вещь… В башне два пулемёта минимум, а у нас гранат нету почти…
Брезентовый полог, закрывавший вход, откинулся, мы обернулись. Внутрь проник Илмари Ахтович. За ним грозно двигалась тётя Фрося.
– … и я тебе говорю, Ахтыч, что людей мне скоро кормить навосе будет нечем. Я сейчас сидела‑считала – слёзы горькие. Крупы осталось – кот наплакал, да и та вся овёс, мужики скоро иржать начнут…
– А вы чего не спите? – начальник штаба уставился на нас.
– Вместе думаем, – сообщил Витька.
– И много надумали?
– …заместо ваты мох щиплем, бинты перестираные; хорошо – раненых нету, а как будут? Завтра‑послезавтра мне в голову котелком запустят и скажут: «Уморить нас надумала, старая?!» Мне их к тебе посылать, али как?..
– Да ничего пока, – Витёк виновато пожал плечами
– Ну вместе давайте думать, – капитан присел к столу. Тётя Фрося высилась рядом, подобно символу рока:
– …и скажи, чтобы выгребную яму новую выкопали, да не ленились, паразиты, а то мухи так и вьются; летом‑то ещё не то будет, по запаху нас найдут…
– Иди отдохни, а? – безнадёжно попросил Хокканен. – Будет тебе выгребная яма. Про остальное – по мере сил.
– Смотри, Ахтыч, – тётя Фрося покачала пальцем и удалилась, но ещё довольно долго было слышно, как она кроет Гитлера, войну и нехватку продуктов.
– Угнанные в пакгаузе, – Витька подчеркнул здание на плане ногтем. Илмари Ахтович безразлично спросил:
– Ну и что?
– Вытащить их надо, товарищ капитан.
– Вольно им было в рабство идти.
– Силой забрали…
– Могли в лес убежать… Нам про взрывчатку надо думать. Где она?
– Тут, – Витька указал место. – Сашка говорит – вышки кругом. Мёртвое дело. Даже если и захватим станцию – а там немчуры больше, чем наших, в два с половиной раза – как тол вывезем?
– На себе не получится?
– Даже если там тонна – это на каждого навьючить по полтора пуда. Тогда вынесем. А там не тонна, там больше… Товарищ капитан… а если доложить в Центр, что не можем выполнять задания технически? Подготовим аэродром, пусть перебросят хоть полтонны взрывчатки. Для начала…
– Ерунды не пори, Виктор.
– Есть ерунды не пороть…
– У нас совсем взрывчатки нет? – спросил я. На меня посмотрели все; я бы непременно смутился, если бы не одна мысль, всё более и более чётко оформлявшаяся в мозгах. – Без неё никак?
– Кило двадцать будет, – пожал плечами Витька. – Никак…
– А если так, – я стал коленками на лавку и лёг на стол животом. – На дороге выставить пулемёт, как… как товарищ лейтенант предлагает. Чтобы из посёлка не прибежали зрители… Вот тут казармы дорожников? – Витька кивнул. – А какое здание?
– СЩБ. Сборно‑щелевой барак.
– Кайф. В смысле – то, что надо, – я заёрзал животом на бумагах от возбуждения. – Убираем с вышек часовых… Я сам могу, ещё парочку стрелков хороших найдём?.. Синхронно главное это сделать. Одновременно с этим несколько человек захватывают этот самый броневагон. Если окажется, что дверь или что там закрыта – взорвать её, заряд заранее приготовить…
– Ну‑ка, ну‑ка… – Хокканен сел удобнее. – И?..
– Тут же жмём вот сюда, становимся прямо напротив этого барака и хреначим его из пулемётов, – развивал план я, пыхтя от возбуждения. – Кого не убьём, тот пересрёт или просто потеряется – чего, откуда, типа почему сим‑сим?.. В общем, удивятся, – смягчил я сказанное, увидев недоумённые взгляды. – И станция наша.
– Это всё неплохо‑о… – протянул Хокканен. – Честное слово, очень неплохо. Но остаётся проблема – как вывезти взрывчатку?
– А мы её вынесем всё‑таки, – подал голос Сашка. – Только не на себе. Освободим угнанных. Там наверняка мои сельчане есть. Навьючим, хоть силой. И вытащим в лес, на опушку.
– Оттуда растащим по схронам, – дополнил Витька, – сами. И тут же, на месте, кликнем желающих в отряд. Ребята‑девчонки молодые, рисковые. Оружие, боеприпасы на месте соберём. Сколько‑нисколько. Напоследок подожжём всё, что горит, вагон с рельсов спустим. И пусть разбираются, что сгорело, что пропало и куда унесли.
Хокканен задумался. Потом стукнул кулаком по столу:
– Честное слово, может получиться. Только надо всё подробно расписать, как роли в театре… Вы спать ложитесь, – кивнул он нам, – а мы пойдём к командиру, кумекать дальше.
– Во, – оскорбился Сашка, – план наш, а кумекать вам? – но тут же зевнул и махнул рукой: – Есть спать, товарищ начальник штаба.
Мы завалились на нары. Офицеры, потушив коптилку, вышли. Сашка, повозившись, прошептал:
– Здорово ты придумал.
– Мы, – поправил я. – Я бы и не допёр, как взрывчатку вынести… Чего здорово, ломать – не строить. Нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики.
– Это точно, – серьёзно ответил Сашка. – Давай спать.
Смешно, но теперь я уснул почти сразу, как будто сделал невероятно важное дело.
17
Нас никто не будил.
Сперва я принял это, как признак партизанского беспредела, но потом понял, что в отряде существует довольно жёсткая дисциплина. Просто у разведчиков, в которые нас угораздило попасть, имелись определённые вольности и послабления.
В обмен на готовность в любой момент взяться за выполнение задания, которое нельзя поручить никому другому просто потому, что оно невыполнимое.
Но в то утро я об этом и не думал. Проснулся и лежал с закрытыми глазами, слушая, как снаружи неразборчиво перекликаются голоса, раздаются какие‑то ещё звуки и вроде бы даже кто‑то напевает. Это всё тоже довольно сильно напоминало спортлагерь. Даже поверить в то, что идёт война, было трудно.
Когда тебя никто не поднимает, то долго валяться в постели (даже если это нары с соломой и брезентом) трудно, тем более, что хотелось есть. Я открыл глаза, сел и широко зевнул с подвывом.
Ромки и Юльки не было. Сашка всё еще спал – раскидав руки и ноги. Женька разбирал на столе какую‑то фигню. Терзая одной рукой волосы, я слез с нар и подошёл к нему:
– Доброе утро… Это чего?
– Это остатки медикаментов отряда, – с отвращением сказал Женька, – которые передали в моё распоряжение, едва узнали, что я знаком с санитарным делом. Бинты несвежие. Упаковка ваты. Йод. И пирамидон.
– Пирамидон? – тупо спросил я.
– Пирамидон, – человеконенавистнически подтвердил Женька. – Ещё мох. Сфагнум. Много.
– Ты богач, – уважительно сказал я, обнимая его за плечи. – Вот что, Женёк. Я сейчас пойду немного посикаю, чтобы штаны не намочить. А потом мы с тобой поговорим на тему, что такое ничего и как из него сделать что‑то. Найди на чём писать и разбуди этого дубка, – я кивнул на Сашку. Женька фыркнул:
– Почему дубка?
– Потому что могучий, как дуб, – ответил я и, запрыгнув в штаны, поскакал наружу.
Лагерь, очевидно, только‑только проснулся. Я было вознамерился отправиться к ближайшим кустикам, но потом увидел за деревьями камышовую загородку. Те, кто её делал, обладали чувством юмора, так как там имелись стрелочки с буквами «М» и «Ж», а так же ещё одна – она указывала прямо вверх и была украшена целым словом:
ФАШИСТАМ
Я так прибалдел, что даже подзабыл о том, зачем пришёл – и вздрогнул, когда на моё плечо, легла чья‑то рука. Но ещё больше я вздрогнул, увидев… священника.
Да‑да, это был самый обычный православный священник, в рясе, скуфейке, с крестом на груди, с карабином за плечами и патронташем под крестом. Вроде бы ещё молодой. Он смотрел на меня и улыбался. Потом кивнул на среднюю надпись:
– Глумление… Путь в рай не для фашистов, стрелку‑то следовало бы перевернуть… Новенький?
– А… ага, – я кивнул и сделал попытку поцеловать протянутую руку, но в последний момент пожал её. Священник сузил глаза и тихо спросил:
– Верующий?
– Да, – вздохнул я.
– Как вышло?
– Да вот…
Священник быстрым движением благословил меня:
– Ну и хорошо, – он усмехнулся. – В наши дни к церкви вновь лицом повернулись [Не вдаваясь в подробности, скажу, что роль Православной Церкви в борьбе с оккупантами действительно очень и очень велика. Добавлю так же, что И.В.Сталин никогда не был рьяным гонителем церкви и её служителей (в отличие от «правоверных» большевиков 20‑х годов) и неоднократно встречался с церковными иерархами, пользовался их поддержкой и через них воздействовал на верующих людей в интересах страны (и личных!)] , а всё ж таки не надо открыто… Отец Николай. Тут вместе с частью своей паствы исполняю религиозный и воинский долг русского человека.
– А… – я неловко улыбнулся. – А как же… вам не мешают?
– Кто помоложе – те смеются, – мягко сказал священник. – Илмари Ахтович не гонитель веры, а просто к ней равнодушный… А Мефодий Алексеевич верует, хоть и не показывает того открыто.
Я, если честно, не знал, что и сказать, настолько это не соотносилось с моими представлениями о временах войны. А отец Николай уже пошёл прочь, шумно окликая:
– Ефросинья Дмитриевна! В рассуждении того, что бы поесть, так как заступать мне в караул…
– Блин, – некультурно сказал я и перекрестился.
…Сашка уже не спал. Сидя на нарах, он разбирал ППШ и оживлённо диктовал конспектирующему Женьке:
– В общем, когда башка болит – примочки надо делать из полыни, из настоя, в смысле… Записал? Так… Зубы если болят, то можно рот полоскать чаем, прям кипятком, на чесноке настоянном. А можно – настоем фиалки… Если глаза болят, там воспалились – то надо закапывать клеверный сок… На сильные ушибы кладут примочки из маргаритки… Если занозу загнал и не вытащить, то толкут лебеду и обкладывают, вытягивает… Ну, про подорожник все знают, а ещё можно рану присыпать ивовым порошком, кору насушить и истолочь, это если кровь сильно идёт… Когда ожог, то примочку из дубовой или осиновой коры делают…
– А при поносе настаивают листья черники, брусники или ежевики, – добавил я с порога, присев, вытер ноги о брючины и начал обуваться. Сашка с интересом следил, как я мотаю под ботинок портянки. – Или осиновую кору. И хлебают вёдрами. Так и пиши! – прикрикнул я на Женьку. – А от головной боли ещё помогает отвар коры ивы.
– Ничего про это не знаю, – сообщил Сашка. Я кинул в него курткой, он свернул её в рулон и, устроив вместо подушки, опять улёгся, водрузив ППШ себе на живот. Я обулся, потопал ботинками и протянул руку – Сашка пожал её, дернул к себе, я уперся, и в этот момент он отпустил мои пальцы, из‑за чего я неловко плюхнулся на нары.
– А в чём разница между отваром и настоем? – уныло спросил Женька.
– Завтракать! – внутрь просунулась Юлька. У неё на бедре висел такой же, как у Женьки, пистолет‑пулемёт, магазин сбоку. – Вы чего всё ещё лежите?
– Сигнала ждём, – серьёзно сказал Женька и протрубил в кулак «подъём».
– А я думала – приглашения, – фыркнула Юлька и исчезла.
– Ну и глазищи, – оценил я. – Дырку прожжёт запросто. Как бластер.
– Как что? – не понял Женька. Я поправился:
– Гиперболоид. Вжжик – и нету… Сань, ты завтракать идёшь?
– Иду, – неожиданно мрачно ответил он, натягивая сапог на задранную выше головы ногу…
…На завтрак была всё та же каша с чем‑то тушёным, в чём я не сразу, но всё‑таки опознал лопуховые ростки – и чай, заваренный с листьями. Ничего чай.
– Хлеба нету, – объявила тётя Фрося всем сразу. – Последнюю муку на болтушку для обеда пустим, так что…
Никто особо не жаловался. Командиры наши сидели во главе длинного стола и о чём‑то совещались, поглядывая на нас. Я понял так, что мой и Сашкин план решили принять – и вскоре вяснилось, что не ошибся.
Мы всё ещё скребли выданными ложками по днищам мисок, когда к нам подсел Мефодий Алексеевич. Он начал совершенно без околичностей:
– Ну чего, мне это – обрисовали, как вы это всё задумали, – он поглядывал на нас, как дедушка на «удачных» внуков. – Тут мы поговорили это, значит – хорошо придумано, получиться может… только это – если что, так это все головы и сложим. Оно и не так чтобы это страшно, но однако ж обидно – это…
– Если всё сделать точно, то должно получиться, – сказал я, и Сашка кивнул. Женька непонимающе на нас посматривал, но молчал. Мефодий Алексеевич покивал и сказал буднично:
– Ну так это что ж – вот утречком завтра это Ромка вернётся и обскажет, как это что на станции – в Борках это, значит. Если это – эшелонов с пехтурой нету, то это – ночкой всё это и обделаем. А пока ещё это обдумаем. И ясно дело это – готовиться будем… Вот ты, Саш, это, значит, – он посмотрел на Сашку, который отложил ложку совсем. – Ты говорил это – ваши там есть, в пакгаузе?
– Наверняка, – сказал Сашка.
– Ну так это, значит – ты их и выводить будешь. Возьмёшь ещё это – троих и будешь. И всё это на тебе.
– Не подведу, – твёрдо сказал Сашка. – Или погибну – или сделаю.
– Да уж это – сделай, погибших‑то и так – это – немало, – покачал головой Мефодий Алексеевич и повернулся ко мне. – Теперь это – вышки. Вышек там аж четыре. Хоть на одной это – пулемёт уцелеет, и всё, порубят это наших враз. Я тут это – лучших стрелков тебе назову, так ты возьми ещё троих, а сам‑то, это, говорят и так хорошо стреляешь? Это что значит – вышки на тебе, Бориска, так что уж и ты это – не подведи.
– Борь, возьми меня, – сказал Женька. я вспомнил, как он стреляет, и кивнул.
– Это значит – ещё и Юлюшку бери, она хорошо стреляет, – посоветовал командир. – Ну а четвёртым с вами сам Илмари Ахтович пойдёт, он это – стреляет‑то тоже знатно. Вот только винтовок‑то это – с трубками – у нас всего одна. Вы уж пристреляйтесь, только это – по пять патрон дам, это – больше никак…
… «Винтовкой с трубкой» оказалась личная винтовка Хокканена – безукоризненный «маузер» в промасленном чехле, на который оставалось только облизываться. Женьке, Юльке и мне тоже достались «маузеры» – у них хоть и сильная отдача, но они и потяжелей, чем «мосинки», а значит – устойчивей.
После короткой тренировки – длинной она быть и не могла – я хладнокровно позимствовал у тёти Фроси драный пограничный маскхалат, распустил его на ленты и несколькими обмотал «маузер», а остальные на скорую руку пришил тут и там, фестонами и просто одним концом, к своей куртке. Юлька, увидев ме‑ня в этом наряде, звонко расхохоталась:
– Ой, не могу! Леши‑ий!!!
– Именно, – бесстрастно сказал я. – Могу поделиться.
Хокканен хмыкнул и покачал головой. Женька почесал нос. Моему примеру никто не последовал – да ну и фик с ним. У меня, кстати, почему‑то было совершенно точное ощущение, что операцию откладывать не придётся.
– Ну что, давайте снаряжаться заранее, – капитан простецки высыпал на остатки моей материи горку золотисто‑масляных парабеллумовских патрончиков, положил тут же полдюжины пустых плоских магазинов к ЭмПи. – Борис, Евгений, у вас по скольку полных магазинов?
– По три, – сказал Женька за обоих.
– Ещё по одному можете забить, – кивнул Хокканен. – И это весь лимит на завтра.
– Сто двадцать патрон на брата – весь лимит?! – возмутился я. – Мы в бой идём, или на стрельбы?!
– Сто двадцать восемь, – поправил Хокканен. – Ещё у тебя восемь в пистолете, а у Евгения семь в нагане. Кстати, нагановских патронов у нас нет вообще.
Усевшись вокруг материи, мы начали снаряжать магазины. Капитан неожиданно сказал:
– Форма на тебе здорово сидит, Борис. Носил до войны?
– Носил, – буркнул я. – А вы?
Он засмеялся. Я не понял, для чего он задал этот вопрос, но сам вопрос показался мне каким‑то провокационным.
– Что ж, – сказал Хокканен, не продолжая этого разговора. – Завтра мы или обретём второе дыхание – как уставший бегун – или упадём замертво, не достигнув конца дистанции.
18
Налёт – вещь очень опасная, особенно налёт на превосходящего по силам врага. Я это знал, спасибо «АСКу», хотя кое‑кто из родителей даже возмущался, что «слишком много времени тратится на военную подготовку – зачем это нужно скаутам?!» Почему‑то считают, что скауты нужны, чтобы снимать кошек с деревьев, переводить бабулек через дорогу, восстанавливать монастыри и хором петь песни. Вообще мало кто знает, что Би‑Пи в 1899 году призвал добровольцами под ружьё в осаждённо городе Мафекинг, гарнизоном которого командовал, мальчишек, многим из которых ещё не было четырнадцати. Они и воду с патронами на позиции носили, и служили связными, и в разведку ползали, и за ранеными ухаживали… В общем, просто – воевали, как взрослые, вот и всё. Заметьте – англичане, не русские, которые, как многие говорят, «ничьих жизней не ценят». Очевидно, Баден‑Пауэлл, в отличие от нынешних горе‑лидеров, верил, что на свете есть вещи поважнее жизни… даже для четырнадцатилетнего мальчишки.
Я опять не спал – сидел возле землянки и думал, что сейчас очень стильно было бы покурить самокрутку. Было звёздно‑звёздно и довольно холодно для второй половины мая. Канонады не слышно…
Есть ли на свете вещи поважнее жизни? Я попытался проанализировать причины своих поступков. И вдруг понял, что мною движет целый комплекс желаний…
– мне хотелось мстить. Об этом я подумал в первую очередь, но само желание было ещё робким‑робким и слабеньким, потому что я понимал – это не моё время, это просто история, данность, то, что было и что не изменить. Но это желание всё‑таки имелось. Мстить и за себя – за то, что меня били, что заклеймили номером, что издевались… И за других. Да хотя бы за сожжённую деревню и труп изнасилованной и повешенной девчонки.
– мне стыдно было стоять в стороне. Это желание было определяющим, наверное. Русские чаще всего ярко выраженные индивидуальности, но почти никогда не бывают индивидуалистами. Раз все вокруг – и тем более, все, кто мне лично симпатичен! – делают какое‑то дело, то как‑то неловко отойти в сторону и начать пить холодную колу под зонтиком.
– мне было интересно. Да‑да, как это ни ужасно – именно интересно. Ну с кем ещё такое случится?! Кому ещё доведётся такое пережить?! Интерес был жгучим – с таким вот интересом карабкаются на скалу или идут по болоту; а вот ещё шаг – и… ау?! Нет, стоп, ещё шаг… ещё… И мысль о том, что каждый следующий шаг может стать последним, буквально накачивала кровь адреналином. Ууххх, кла‑асс!!! Смешно, но так…
– я хотел проверить себя. Да‑да, именно это глупое, хрестоматийное желание, которое сейчас многие отрицают и принимают за пережиток, атавизм. А чего я стою? Вот смогу я завтра сделать так, чтобы вышки не открыли огонь? Смогу я стрелять, бегать, прыгать, реагировать быстрее, чем те, другие, враги?! Когда я думал о том, что кто‑то из них может оказаться быстрее, метче, ловчее – мне становилось страшно. Но это был сладковато‑затягивающий страх, толкающий проверять себя снова и снова…
Да вот, пожалуй, и всё… но это уже целый комплекс причин. Странно, но среди них не было желания сражаться за Родину. Я не мог воспринимать это государство, как своё. Я вообще не воспринимал тут государства, как такового – вокруг были оккупанты, мы прятались от них в лесу, Москва, Сталин, Красная Армия были далеко и я не думал, что помогаю им одержать победу. Триколор, который я считаю своим флагом, тут скоро поднимет власовская армия предателей. А злобные деды в моём времени размахивают знамёнами, которым тут буквально поклоняются. Хотя бы вот такой пример.
– А ты чего тут сидишь?
Я поднял глаза. Это была Юлька – она шла откуда‑то из леса, без пистолет‑пулемёта, но на поясе висели финка и маузер. Мне вдруг захотелось спросить, каково ей в одной землянке с четырьмя пацанами, но за такой вопрос можно схлопотать с размаху по морде и в моём времени, а уж тут…
– Не спится, – усмехнулся я. – Ночь перед боем. Всё такое. «Войну и мир» читала?
– Ну читала, – пожала она плечами. Потом подумала и поправилась: – Начала. Мы в школе ещё не проходили, я попробовала сама, но не смогла… – в голосе девчонки послышалось раскаянье в своей тупости. – А ты что, правда читал?
– Ну… читал, – кивнул я. Юлька присела рядом, вытянула ноги.
– И что там про ночь перед боем?
Упс.
Я лихорадочно стал вспоминать мельком прочитанную сцену из этого скучнейшего романа – ну, где Петя Ростов сидит возле телеги и… что «и»? Так и не вспомнив, я пояснил:
– Вообще. Мысли всякие.
– А, – понимающе кивнула она, достала финку и начала строгать палочку, подобрав её из‑под ног. – Здорово ты дерёшься. Поучишь?
– Если будем живы – то конечно, – не без юмора ответил я, но Юлька сказанное восприняла совершенно серьёзно:
– Ну, это конечно…
«Стихи, что ли, её почитать?» – подумал я. Вздохнул и сказал:
– Звёзды красивые.
– Красивые… – она кивнула. – А вон Луна… Как ты думаешь, там жизнь есть?
«Есть ли жизнь на Марсе?» – промелькнула у меня ироничная фраза. Я ответил:
– Нет. Там даже воздуха нет.
– А может, они внутри планеты живут, – возразила Юлька. – Как у Уэллса. Ты не читал?
Если честно, я даже не понял, какую книгу она имеет в виду [Роман английского писателя Герберта Уэллса «Первые люди на Луне». ] Но, чтобы не показаться полным пнём, я спросил:
– А ты не читала «Луна – суровая хозяйка»? Хайнлайна, писателя американского?
– Нет, – она покачала головой. – Расскажи?
Естественно, я умолчал, что в данный момент тридцатипятилетний Роберт Энсон Хайнлайн служит на станции морской авиации США в Филадельфии и, кажется, ещё только‑только пробует печататься. А уж «Луну…» напишет только ещё через тридцать пять лет… К чему не относящиеся к делу подробности? Главное, что Юльке понравился рассказ – точнее, роман, который я рассказывал. Она ни разу не перебила, а потом, когда я умолк (язык отболтал, честное слово!), сказала с сожалением:
– Нет, я такого не читала…
– Его мало переводили, – нашёл я объяснение. – Я в библиотеке брал… Слушай, смотри, уже скоро светать начнёт!
Ёлки‑палки!!! Это было правдой. Пока я рассказывал роман, вокруг посерело, выступили из лесной темноты деревья, поволокся по траве от близких болот. Из штабной землянки вышел Мефодий Алексеевич, постоял, позевал, потом перекрестился (вызвав у меня тихий восторг!), прошёлся туда‑сюда, но нас не заметил, да и не стремился, кажется. Вернулся обратно, задёрнул полог… Прошла смена часовых. Юлька с явной неохотой сказала:
– Пошли спать, что ли?
– Иди, я ещё посижу, покурю, – ответил я, и девчонка вытаращилась:
– Ты куришь?!
– Не, это так говорится, – я зевнул, прикрыв рот ладонью. – Иди.
Она ушла в землянку. Я, сам не зная почему, улыбнулся – просто так, в пространство. И увидел Ромку – мальчишка бесшумно вышел из лесной чащи: босиком, в какой‑то невообразимой хламиде, с торбой через плечо.
– Доброе утро, – вполне дружелюбно кивнул он мне. – А дядя Мефодий спит?
– Только что выходил, – я кивнул. – Доброе утро. Как дела?
– Сначала командиру, – важно сказал Ромка и, поддёрнув штаны, зашагал к командирской землянке.
«Дам я ему щелбана, – беззлобно подумал я, поднимаясь. – А сейчас – поспать надо хоть немного. Засиделись на завалинке…»
В землянке все спали – даже Юлька успела уснуть. Я присел на нары, разулся. От портянок бы избавиться – ну не привык я к ним. И не привыкну… Или привыкну? Человек ко всему может привыкнуть.
Наверное, ко всему. Или почти ко всему.
Я откинулся на солому и, глядя в потолок, сказал негромко, но отчётливо:
– Спокойной ночи, мама.
19
На станции перекликались гудки. Лёжа в трёхстах метрах от неё, я подумал, что сегодня не слышал канонады, хотя лежал тут с полуночи, когда мы вышли из леса и заняли заранее определённые на плане позиции. За это время по дороге – той самой, которой меня вели под конвоем – проехал только один мотоцикл, без коляски. Связист или ещё кто‑то вроде… Но станционная жизнь отличалась оживлённостью. Оставалось только надеяться, что наши люди, с которыми говорил Ромка, не ошиблись и среди эшелонов, которые тут будут под утро, не окажется состава с пехотой. В этом случае нам крантец.
Наверное, все уже заняли позиции и ждут нашего сигнала – выстрелов по часовым на вышках возле склада. «Свою» вышку я видел и так – решётчатая конструкция на фоне неба. Даже часового временами видел наверху. Но попасть сейчас, конечно, не сумел бы… хотя нет, уже и не темно.
На запястье у меня были часы Хокканена. Мефодий Алексеевич сказал, что начинать будем в четыре тридцать. Непривычные стрелки на большом циферблате отсчитывали время – четыре пятнадцать… Ещё пятнадцать минут… Пожевать бы чего‑нибудь. Ладно, потом пожуём. Может, продуктами разживёмся… Интересно, зачем немцы собирают на станции взрывчатку? Не для нас же…
Хотя – почему не для нас?
Я аккуратно вытянул руку и снял с прицела кожаную покрышку. Позицию я оборудовал за кустами на меже, в дренажной канаве, где можно было в случае чего встать на колени. Сейчас в этом не было нужды. Я лёг удобнее и устроил обмотанный лентами ствол винтовки в толстой развилке. Наши уже все на местах. Вот странность – я и в лицо‑то ещё не всех знаю, не говорю уж по именам. Но они уже – наши. Это очень важно, когда есть наши и чужие, хотя снобствующие кретины не устают твердить, что «лучшая партия – это партия самого себя».
Может, потому что они никому не интересны и не нужны? Вот и остаётся считать, что окружающие тебя недостойны… Удобная и незатратная позиция, а главное, общество, в котором она доминирует, можно брать голыми руками…
Так, а чего там, на часах? Ещё пять минут… И светает быстро. Триста метров… Я приложился к прицелу. Прицел был немецкий, естественно, 2,5х. На остриё прицельного пенька плавно села и неподвижно застыла голова часового в каске. Ниже… Шея… Ветра нет, очень тихо, хорошо… А вот лицо немца различалось плохо. Или он эстонец? Хорошо бы – эстонец. Тот, который меня треснул прикладом… Часовой зевнул, прислонился к перильцам возле пулемёта, застыл. Сейчас наши режут провода телефонных линий. Кто‑то, может быть, звонит… растерянно отодвигает трубку от уха, дует в неё (я видел в кино; зачем, интересно?). Приклад плотно упереть в плечо. Ещё раз проверяем прицел… Не двигайся, не надо… «АСК» нас учил стрелять очень неплохо, а «Шалыга» был из лучших; недаром – «медведь»… На наших мишенях были изображены американские солдаты… Каски похожие, вот что интересно… Выбрать холостой ход… Выдох…
Выстрел!
Я увидел, как дёрнулась голова И, вскакивая, перебросил винтовку за плечи, схватил ЭмПи. Утренняя тишина обрушилась, её раскололи, как стеклянный красивый витраж, резкие выстрелы винтовок, деловитое тарахтенье пистолет‑пулемётов, гром пулемётных очередей, гранатные разрывы, выкрики и – я впервые услышал это в жизни! – нарастающий крик «ура!»
Это было страшно. Непохоже на мои представления об этом кличе. Словно кто‑то с тягучей угрозой давил из себя «ыыыыыыыррррыыыы!», зверь какой‑то поднимался из берлоги, разярённый и неостановимый. Наверное, у врага рождалась та же ассоциация. И я на бегу понял, почему бывало в истории – наши обращали врагов в бегство одним только этим рёвом, унылым и диким…
…Когда я вбежал в пристанционный скверик, за деревьями промелькнул броневагон. Его башенка разворачивалась, пулемёты опускались на минус, чтобы бить в упор. Кто‑то – в белом белье – перескочил было через решетчатый забор, его догнала тёмная фигура, начала колоть тускло блестящим штыком на винтовке, что‑то крича, а белая фигура крутилась, выла и отмахивалась руками, застряв на заборе. Рвануло – страшно, так, что я присел, почти упав. Алое зарево встало над путями. Наш тащил из убитого немца, висящего на ограде, штык и орал:
– Отдай! Отдай, б…я, убью, с‑сука, отдай! – а потом вдруг вскинулся и обмяк, роняя винтовку и цепляясь за ноги убитого; так и стащил его на себя. Через ограду перевалился гимнастическим броском немец – в галифе, с длинным тяжёлым «маузером», как в кино про Гражданскую, не с винтовкой, с пистолетом. Присел, целясь – и я врезал в него шагов с десяти не меньше пяти пуль.
– О‑аххх… – выдохнул немец, запрокидываясь. Я сунулся к забору и меня чуть не убили свои же – двое лежали на путях и стреляли. Я присел и заорал (ни малейшего испуга не было!):
– Свои, вы чего?!
На путях горел целый эешелон – как‑то бешено, свирепо, вымётывая огненные хлысты, щупальца какого‑то спрута. Около огня плясали три или четыре живых факела, смешно размахивали руками, подпрыгивали, крутились, потом начали падать и замирать, подёргиваясь… Рядом кто‑то протащил под мышки раненого, тот кричал тоненько: «Ойойойойой!..» я увидел, что броневагон стоит напротив СЩБ и разносит его буквально в клочья очередями, а оттуда – через дверь и через окна – прыгают немцы, бегут и падают, и СЩБ уже занимается огнём…
– Там, в конторе, там немцы тоже! – прохрипел кто‑то, и мы бросились по знакомому перрону к той самой двери. Окно вылетело со звоном; я сразу упал, и кто‑то ещё упал тоже, а ещё один замешкался, подпрыгнул, сказал «мама» и начал плеваться кровью во все стороны, а потом упал и заколотил сапогами. Я начал стрелять по окну, поменял магазин, а мой напарник – молодец! – уже перебегал к двери ближе… В руке у него появилась граната – немецкая «колотуха» на длинной ручке – и он по дуге бросил её в окно, сказав:
– Хек! – и оттуда ударило дымом. Дальше я сам не помню, как, но я уже был на пороге комнаты, где меня допрашивали, и обербаулейтер (горит человек на работе, утро – а он всё ещё тут!), зажав рукой левое плечо, пытался дотянуться до лежащего на полу небольшого пистолетика.
– Гут морген, герр обербаулейтер, – кивнул я. Ничего общего с трусоватыми немцами из старых фильмов: этот толстячок оскалился и достал‑таки пистолет, хотя из плеча брызгала кровь:
– Руссише швайн! – ненавидяще прохрипел он, даже не узнавая меня. Я отсёк очередь в пару выстрелов, и он завалился головой к конторке. Я схватил какой‑то портфель, начал набивать в него без разбора бумаги, бумаги, бумаги, то и дело спотыкаясь о чьи‑то ноги; только потом я сообразил, что это убитая гранатой женщина, та машинистка. Так вот что он тут делал – на рабочем месте…
– Бориска! – в окно всунулась голова Мефодия Алексеевича. – Бориска, ты это, тут?! Ты это чего тут?!
– Бумаги! – чужим голосом пролаял я. – Может, чего важное! Держите! – я пихнул ему портфель прямо через окно. – Этот обербаулейтер убит…
– Это, Фунше твоего тоже это – грохнули, не разобрались это, – огорчённо сказал командир, беря портфель в обнимку и становясь похожим на гнома из «Белоснежки» вообще до неприличного. – Он, значит, это – в вагоне и сидел, кофей это распивал с командиром. Витька их обоих это, того… Ты вылезай это, ещё и не кончено ничего это…
Я ещё секунд десять поискал гранаты – меня почему‑то заклинило, что тут должен стоять ящик гранат, я его вроде даже видел. Ничего подобного…
Снаружи бой не шёл, а скорее догорал вспышками где‑то за путями. Какие‑то люди тащили ящики, и я понял, что это те самые, подготовленные к отправке в рабство, выносят взрывчатку. Мелькнул Сашка, он что‑то орал и, кажется, дрался прикладом ППШ с кем‑то особо непонятливым. СЩБ полыхал костром – что же они там держали, самогон, что ли?! Откуда‑то взялись две подводы, на них со страшным матом грузили – на одну оружие, на другую трупы и сюда же раненых. Мне казалось, что в отряде не полсотни, а все триста человек, столько вокруг бегало людей. Ну, я и сам побежал – к складу, где должна была находиться взрывчатка…
Там распоряжался Хокканен – неожиданно весёлый.
– Эти ящики оставить! – махнул он рукой. – Подорвём их, пусть гадают, что унесли и сколько… и унесли ли вообще… А, Борис! – он даже улыбнулся мне. – Кажется, получилось, да?
– Да вроде, – я пожал плечами. – Делать‑то мне что?
– А всё, – кивнул он на здание, из распахнутых ворот которого безоружные и, похоже, ещё ничего не понимающие ребята тащили груз. – Сейчас уходим…
– Ну что ж… – я осмотрелся, подобрал из‑под ног кирпичный обломок и, по‑дойдя к белёной стене станционной будки, размашисто написал на ней:
ТЕРПЕНЬЕ И ТРУД ВСЁ ПЕРЕПРУТ!!!
…Когда на опушке леса, чуть углубившись в чащу, мы остановились и ребята начали сбрасывать груз, выяснилось, что мы освободили почти сорок парней 15–18 лет и десятка два девчонок того же возраста. Сашка с матом уверял, что было больше, но человек десять он не сумел удержать. Мефодий Алексеевич махнул рукой:
– Ну вот это – ладно, что это теперь…Сейчас это – поговорю с ними, а чего ж…
С непонимающими и перепуганными лицами освобождённые стояли, переминаясь с ноги на ногу, возле линии кустов, невольно выровнявшись в ряд. Я сперва не мог понять, кого они мне напоминают – а потом сообразил: точно так же ещё недавно вёл себя я сам, растерянный и непонимающий.
К нам подошли Женька и Юлька. Я их не видел с начала боя и вдруг ужасно обрадовался, что они целы и здоровы. Кажется, они испытали то же самое, потому что мы все четверо расплылись в улыбках, а Женька замахал рукой нашему лейтенанту:
– Эгей, мы живы!
– Ну значит что, – Мефодий Алексеевич поправил ремень и подошёл к строю освобождённых. – Это значит. Спасибо за помощь. Теперь так это. Парни, кому восемнадцать это – исполнилось… они сраз выходи. Если кто обмануть это захочет – не надо, у нас это – бумаги немецкие…
Из строя – кто медленней, кто быстрей – вышли человек восемь. Один спросил:
– А оружие дадите?
– С голыми руками это – не пошлём, – камандир кивнул Хокканену: – Значит это – в лагере по взводам разделим… А теперь это – остальные. Вы это – свободны, значит. Но кто захочет – те пусть к нам идут. Кто не захочет – это, неволить не будем, конечно. По домам или это – куда там ещё…
Оставшиеся мальчишки переминались и переглядывались. Хокканен сказал довольно громко:
– Добрый ты, Мефодий Алексеевич… Могли бы и просто силой взять.
– На что это силой‑то? – поморщился наш «гном».
– Во многих других отрядах берут.
– А у меня это – не будут! – неожиданно вспылил, покраснев командир, но тут же улыбнулся: – Да пойми это ты, Ахтыч, душа твоя чухонская. Дело ли это – детей силком загонять это на войну? А кто это – потом жить станет? Мне и так‑то это – во как тяжело брать…
Между тем из строя вышел один парень, потом второй… ещё двое, ещё один… Кто‑то из девушек постарше спросил возмущённо‑испуганно:
– А мы, товарищ командир?! – Мефодий Алексеевич развёл руками. – Так что же нам – к немца возвращаться, в подстилки, или в Германию, пахать на них?! Нет, мы с вами!..
– С вами… Чего там!.. И нас берите!.. – разноголосо зашумели почти все остальные девчонки.
– Ладно, – командир отмахнулся, – ладно, это Ефросинье Дмитриевне отдельный взвод под команду дадим, это ладно…
… Наш отряд пополнился сорока четырьмя бойцами – то есть, вырос почти вдвое. Правда, из этого пополнения одиннадцать были девчонки, да и оружия хотя захватили немало, боеприпасов по‑прежнему было так себе. Со станции вытащили девятьсот с лишним килограммов взрывчатки, кое‑какие медикаменты и продукты и уложили, по грубым прикидкам, около шестидесяти врагов.
У нас были пятеро убитых и трое тяжелораненых. Среди убитых оказался Лёшка – автоматная очередь снесла ему череп.
20
Коробка была из‑под печенья, жестяная, с уже неразличимой картинкой, но на боковине ещё можно было прочитать
…Жоржъ Борманъ
Юлька, сидя на песке, деловито раскладывала рядом маленькие катушки с несколькими иголками, зеркальце (с отколовшимся в нескольких местах чернением), какую‑то фотографию, ещё что‑то, искоса посматривая на меня. Наверное, боялась, что я буду смеяться. Но я всего лишь ждал, пока она зашьёт мне куртку.
Собственно, я просто попросил у неё нитку с иголкой, чтобы сделать это самостоятельно. Но Юлька заявила, что у меня ничего не выйдет, что я куртку пришью к себе и вообще так меня наоскорбляла, что я безропотно отдал куртку ей, а сам сидел рядом на речном бережке и смотрел.
– Я отца всегда обшивала, – говорила она между делом. – Счастливый ты, Борька, после войны вернёшься к родным…
– Не вернусь, – я отвернулся, чувствуя, как отсыревают глаза. Юлька махнула рукой:
– Брось ты! Я тебе точно говорю, что они у тебя живы и ждут.
– Да не в этом дело… – я не стал говорить дальше, а Юлька не стала расспрашивать.
– Ну вот, готово, – она протянула мне куртку, аккуратно сложила вещицы в коробочку и встала: – Ты не смотри, я буду купаться, – сказала Юлька, расстёгивая рубашку.
– Чокнутые вы тут все, – ответил я. – Вода же холодная. Май не кончился.
– Да ничего и не холодная… Не смотри, говорю!
– Я за кусты уйду, – кивнул я. – Шумни, если что.
– Ага.
Я обогнул ивовые заросли и наткнулся на корягу, выступавшую над поверхностью воды удобным изгибом. Сбросив ботинки и размотав портянки, я подкатал свои верные штаны, не без удовольствия прошлёпал босиком по воде (может, и холодная, но ноги так устали, что даже здорово!) и сел в этот изгиб, как в кресло. Отсюда было слышно, как Юлька плещется, и я поймал себя на том, что стараюсь рассмотреть её через ветки. Это было не очень‑то красиво, но… Под мужской рубахой и мешковатыми шароварами не поймёшь, какая она – по фигуре, в смысле. Мои щиколотки облепила комариная сволочь, и я опустил ноги в воду. Течение – сильное возле берега – приятно потянуло их в сторону. Я усмехнулся, поправил ремень. Посидел ещё. Юлька плескалась… Я соскользнул в воду и начал, подволакивая ноги по дну, красться ближе к кустам. Щёки у меня горели, в ушах звенело, но не от комаров. Я ругал себя последними словами, но не мог остановиться.
Юлька стояла лицом ко мне на отмели неподалёку от берега – вода доходила ей до колен – и смотрела на другой берег из‑под руки, а левую уперла в бедро. Бёдра у неё были неширокие, почти как у пацана, но грудь – неожиданно оформившаяся, рельефная…
Она завертела головой, и я отпрянул от кустов, ругательски себя ругая. Во‑первых, то, что я сделал, было подло. Во‑вторых, она, конечно же, почувствовала взгляд… Но избавиться от стоящего перед глазами я теперь не мог, хотя ожесточённо поплескал себе в лицо водой – на пылающей коже та показалась ледяной.
Юлька была красивая. Очень красивая. Очень‑очень красивая. Что тут ещё сказать – разве что в третий раз повторить «очень»? Я стоял в воде и представлял её тело, лицо и глаза…
…Девчонка вдруг негромко, но очень сильно запела – кажется, выходила из воды:
Широка страна моя родная!
Много в ней лесов полей и рек!
Я другой такой страны не знаю,
Где…
– Бориска, я всё, ты где?!
– Иду, – отозвался я, но Юлька уже сама появилась из‑за кустов.
– Ты не купаешься?.. Извини…
– Да ничего, – я остановился по щиколотку в воду, разглядывая её. Юлька распустила косу и сейчас аккуратно расчёсывала пряди мокрых волос расчёской из своего запаса. Она была всё ещё босиком, а рубашка расстёгнута низко, и…
– Ты чего? – каким‑то не своим голосом спросила она, поймав мой взгляд. – Бо‑орь?..
– Погоди, – голос у меня тоже стал чужим, я вышел из воды и, подойдя вплотную, обнял её за талию, не сводя глаз с её лица. Юлька не двигалась и тоже смотрела. – Погоди, – повторил я и, чуть нагнувшись, поймал её губы своими, накрыл. Губы были горячие, влажные и отдавали свежей водой и земляникой – это я успел почувствовать и успел пережить две или три восхитительных секунды, лучших в моей жизни секунды… а затем я получил такой силы удар раскрытой ладонью по лицу – обычную пощёчину, но размашистую и беспощадную – что в голове грохнуло, и я сел на песок.
– Подглядывал?! – Юлька стояла надо мной, из её глаз синими электрическими искрами брызгало презрение. – Целоваться лезешь?! Не подходи ко мне – убью, укокошу! – и, выхватив «маузер», она выстрелила в песок точно между моих ног – песчинки брызнули мне в лицо, и я вскрикнул от неожиданности и зажмурился.
Когда я проморгался, то Юльки, конечно, не было. В голове у меня гудело, щека онемела и ощутимо распухла. Я перевалился к воде и начал остужать разбитое место. Мне было смешно и стыдно, никакой обиды на девчонку я не испытывал. Как она меня!.. Ну сила… Таких бы в моё время штук двадцать хоть. Или они есть, только мне не попадались?.. Вот это хрястнула, с ног ведь сбила!..
Несмотря на занятость переживаниями, я ощутил, что кто‑то приближается и, достав «парабеллум», замер, вглядываясь в кусты. Послышался голос Сашки:
– Борька, это я, не стреляй, – а через пару секунд он сам вышел на отмель. – Кто тут палил?
– Юлька, – отозвался я, не вставая с корточек. – Показывала, как стрелять умеет… А ты чего?
– Да был тут недалеко, слышу – выстрелили… – он рассматривал меня. – А она где?
– Ушла… – я убрал оружие. Сашка помолчал и спросил:
– А со щекой что?
– Иди, куда шёл, – отозвался я. Сашка пожал плечами:
– Так я сюда и шёл… Целоваться к ней полез?
– Да! – я вскочил. – Полез! Что ещё?!
– И как – получилось?
– И получилось, и получил, – честно сказал я. – Ещё вопросы будут?
Сашка пожал плечами, круто развернулся и исчез в зарослях – как обычно, совершенно бесшумно.
– Чингачгук, блин, – сказал я и выматерился от души. Потом засмеялся…
…В лагере стало многолюднее и веселей. Мне надо было тренировать пополнение по рукопашному бою, опаздывать не стоило, но, когда я почти бегом прибежал в лагерь, меня перехватил Витька.
– Тренировка отменяется, – сказал он. – Сейчас иду на совещание к командиру. Вернусь – скажу, что и как, но вы сидите в землянке или около, не разбегайтесь.
– Понял, – я пожал плечами… – Вить, знаешь, мне всё время снится, что я лошадь и жую сено.
– Ну и что? – подозрительно затормозил уже разлетевшийся бежать командир разведки.
– А то, что утром каждый раз половины сена с нар нету.
– Иди ты, – он отмахнулся, я крикнул вслед:
– Э, Вить, ты про Фрейда слыхал?!
Он явно не слыхал. Я вздохнул и решил, что сейчас отправлюсь в кусты, смяду поудобнее, закрою глаза, представлю Юльку и немного самоудовлетворюсь. Но меня опять – уже не в первый раз за последние дни – окликнули двое пацанов из пополнения. Я уже отлично знал, что им нужно: чтобы я ходатайствовал о принятии в отделение разведки, поэтому сделал вид, что не слышу их и юркнул в землянку.
Тут все были в сборе. Ромка пиликал на своей губнушке что‑то оптимистичное. Я сообщил, стараясь не встречаться взглядом с Юлькой:
– Похоже, скоро на дело. Витька побежал на совет.
– Ну и отлично, – Сашка потянулся. – А то взрывчатка есть, а мы уже пять дней сидим, ничего не делаем…
– Странно, что немцы ничего не сделали, – заметил Женька задумчиво.
– Они скорей всего просто не знают, где нас искать, – предположил я, садясь на нары. – Отряд‑то был маленький и почти бездействовал…
– Пока не пришли мы, – Сашка пересел за стол и начал разбирать «штейр». – Ром, а ты спеть не можешь?
– А у меня рот занят, – ответил младший, на секунду вытолкнув губнушку изо рта. И опять запиликал.
Мы посидели в молчании ещё пару минут, и я поднялся. Все уставились на меня, явно ожидая каких‑то действий по убийству времени.
Я поставил перед собой два котелка, зажал между пальцами по гильзе и простучал короткую дробь. Потом подобрал ритм для аккомпанемента, посмеиваясь над собой – наверное, именно так подыгрывали себе первобытные люди… И, постукивая по металлу, запел:
Время бродить
По лесу…
Время разгадывать тайны…
Время бродить
По лесу…
Время разгадывать тайны…
Время обеда, ужина, сна.
Время зима. Время весна.
Лето ли, осень – нечем помочь!
Врёмя – тёмная ночь!
Время бродить
По лесу…
Время разгадывать тайны…
Время бродить
По лесу…
Время разгадывать тайны…
Поздно бояться, поздно болеть.
Поздно смеяться, поздно шуметь.
Поздно болтать, воду толочь.
Поздно – тёмная ночь!
Время бродить
По лесу…
Время разгадывать тайны…
Время бродить
По лесу…
Время разгадывать тайны…
Ну‑к, хозяин – ну‑ка, скажи,
Как тебе нравятся наши ножи?
Ну‑ка – и голову нам не морочь!
Ну‑ка – тёмная ночь!
Время бродить
По лесу…
Время разгадывать тайны…
Время бродить
По лесу…
Время разгадывать тайны…
Время не терпит, время не ждёт.
Время упустишь – время уйдёт.
Время, время, время – не в мочь,
Время – тёмная ночь!
Время бродить
По лесу…
Время разгадывать тайны…
Время бродить
По лесу…
Время разгадывать тайны…
Я несколько раз – всё тише и тише – повторил припев и замолчал. Наступила тишина – и удивлённая, и какая‑то даже недовольная. Я опасливо подумал, что хватил лишку – такой символизм в век конкретики во всём, даже в песнях…
– Странно, – вдруг с каким‑то удивлением сказал Женька. – Я сперва… Эта песня – она ведь ни о чём? – он подумал и сам утвердительно кивнул. – Ни о чём… и всё‑таки…
– Хорошая песня, – сказал Сашка. – Она как бы… ну, это… – он засмеялся и махнул рукой. – Короче, не знаю, но хорошая.
Я усмехнулся. Они не могли выразить чувств, но я понимал, что именно мои друзья ощущают. И был рад.
– Время бродить по лесу, время разгадывать тайны… – сказала Юлька задумчиво. – Да, хорошо… Ладно, мальчишки, я пойду. Мне ещё на кухню.
Она поднялась и вышла. Помедлив и подождав, пока ребята занялись разговорами, я потихоньку выскользнул следом. Уже стемнело, но вообще‑то ощущение такое, что на кухне жизнь не прекращалась вообще никогда. Тётя Фрося была на месте, и я переминался за деревьями, пока Юлька, подхватив ведро, не зашагала к выгребной яме. Тут я её и перехватил:
– Юль, давай понесу.
– Не надо, пусти, – безразлично сказала она. Я отпустил дужку, но пошёл рядом:
– Юль, я тебе пел. Честно.
– Ну и ладно.
– Юль, – я обогнал её и встал на колени. – Юль, прости. Я дурак, прости.
– Встань, ты что?! – она почти испугалась и отгородилась от меня ведром. Я замотал головой на полном серьёзе:
– Юль, прости, я виноват.
– Да встань, ты что?! – жалобно попросила она.
– Не встану, если не простишь. На коленях за тобой буду ползти.
– Да ты что, Борьк! Борьк, увидят! – она заоглядывалась. – Встань! Ну?!
– У‑уххх… – выдохнула она и поставила ведро на дорожку. – Прощаю… Но больше так не делай, – она серьёзно посмотрела мне в глаза. – Это нечестно и вообще… ты такой хороший парень, а это мерзко, понимаешь?
Если честно – я не понимал. Не понимал, потому что Юлька была красивая, просто очертенело красивая. И… и без одежды – тоже. А‑аббалдеть. Но я закивал без раздумий. Если бы Юлька попросила меня признать, что луна сделана из сыра – я бы согласился немедленно.
– Давай ведро донесу! – вскочил я и уцепился за дужку ведра. – Пожалуйста!
– Ну неси, – со смехом разрешила она. – Только на кухню я сама понесу, а то…
Она не договорила…
…Когда мы вернулись в землянку, Витька уже был там.
– Наконец‑то, – сердито сказал он. – У Юлии на кухне дела, а ты‑то где бродил?
– М? – я сел на нары и обнялся с ЭмПи. – Воздухом дышал‑с. А что‑с?
– А кто его знает, – сердито сказал Сашка. – Пришёл и молчит сидит.
– Да ничего, просто собирайтесь, сейчас выходим, все, кроме Ромки, – заявил Виктор. Ромка немедленно вскинулся:
– А я?!
– А ты останешься в распоряжении штаба.
– Куда выходим‑то? – деловито спросил я и только теперь увидел на столе консервные банки, сухари, патроны, гранаты. – О, это дело…
– А вот выйдем, я и скажу, – сказал лейтенант.
– Идём, а потом я скажу – куда, – буркнул Сашка. Он почему‑то был не в настроении. Впрочем – я, кажется, догадывался, почему. И ничего приятного в этом не было, сказать по правде. История, вечная, как мир, но от этого ничуть не более приятная. Я даже хотел сразу с ним поговорить, но тут же отказался от этой мысли – почему‑то стало страшновато. Просто не знаю, почему. Поэтому я занялся сбором снаряжения.
Я набил патронами все шесть магазинов и запасную обойму к «парабеллуму», но Виктор кивнул мне:
– Сыпь ещё полсотни в подсумок, – он перебросил мне пустой брезентовый мешок из‑под противогаза.
– Какая щедрость, – проворчал я. – С чего бы? – но охотно догрузил патроны.
– К моему пистолету опять нет? – грустно спросила Юлька. Виктор развёл руками и предложил:
– Возьми лишнюю гранату.
– Впервые слышу, чтобы они были лишними, – подозрительно отозвалась Юлька. – Действительно – с чего бы?
Ей никто не ответил, да она ответа и не ждала, в общем‑то. А я, кстати, решил воспользоваться предложением и подцепил сразу четыре гранаты – нашу «лимонку» и три немецкие, но не «колотухи», а похожие на пивные банки осколочные. В ту же сумку я сложил две банки выданных мне консервов, сухари, кулёк с пшеном, а сверху приторочил туго свёрнутое немецкое одеяло, а на него сбоку – котелок. Виктор наблюдал за мной с одобрением, потом сказал:
– По тебе не поверишь, что ты городской… Не хуже Сашки.
– Я в походы много ходил, – не стал я вдаваться в подробности. И, подумав, достал из внутреннего кармана штанов галстук и повязал его. Надо сказать, что реакция была предсказуемой – у всех глаза полезли на лоб.
– Это что? – удивился Сашка. – Зелёный…
– Это? – я словно впервые увидел галстук и довольно натурально засмеялся: – А, да это просто шейный платок такой. Он мне… дорог, как память кое‑о‑чём.
Вопрос был снят, но Юлька задумчиво сказала:
– А вообще‑то надо нам пионерские галстуки найти… Я свой в дупле спрятала, недалеко от сторожки…
– А у меня мой с собой, – гордо сказал Женька и, достав из кармана аккуратно сложенный треугольник, ловким заученным движением повязал его прямо на шею и спрятал под курточку. – Только я так буду носить, – немного извиняющимся голосом сказал он, – а то очень яркий, в лесу сразу видно…
– А у меня галстука нет, – Сашка взохнул, и я спросил:
– А тебя принять никак нельзя? По‑моему, уже выше крыши есть за что.
– «Принять»! – фыркнул он. – Для этого отряд должен быть…
– А мы чем не отряд?! – возмутился я.
– Ладно, это вы потом обсудите, – Витька поднялся. – Снаряжаемся и выходим. До рассвета мы должны быть… в одном месте, а рассветёт уже скоро.
21
Рассвет мы встречали на краю здоровенного лесного оврага, заросшего орешником и можжевельником. Витька подал сигнал остановиться, огляделся, прислушался и удовлетворённо кивнул:
– Днюем здесь. Часовых выставлять не будем; советую выспаться. И на сон грядущий – самое главное: мы идём востанавливать контакты с соседними партизанскими отрядами для организации совместных действий.
Мне уже было известно, что после разгрома подпольного райкома, координировавшего ( пытавшегося координировать) действия партизан, о совместной борьбе не было и речи. Так что желание наладить взаимодействие говорило и о желании развернуть более широкие действия. Гадать можно сколько угодно, но точно знают только командиры. И это правильно. Вообще‑то многих такое возмущает – мол, приказы отдают, а ничего не объясняют, да что мы – машины, что ли?! (Я имею в виду – в нашем времени возмущает.) Да ещё приводят в пример слова Суворова: «Каждый солдат должен знать свой маневр!» Только по своей дурости не понимают, что именно свой маневр. Вот мы и знаем – идём устанавливать контакт. А об остальном можем гадать сколько угодно…
Гадать . И не больше.
Часового мы не выставляли. В принципе, это верно – заметить нас было трудно, а уж если заметили, то часовой не поможет. Просто расстелили неско‑лько одеял и завалились на них, укрывшись другими. Я нацелился было ещё поесть, но наш лейтенант двинул бровями, и я «отставил». Одно дело – прикалываться над Чебурашкой в лагере, а совсем другое – нарушать приказы тут. Чревато… Я закрыл глаза, а открыл их от того, что мне приснился звук самолёта.
Судя по всему, было уже далеко за полдень – я никак не мог избавиться от привычки глядеть на запястье и поклялся себе, что сниму часы с первого же убитого немца, на котором они окажутся. Это я подумал сонно, а в следующий миг сообразил, что нет – не приснился мне самолёт!
Виктор, приподнявшись на локтях, всматривался куда‑то вверх, в направлении этого звука. Остальные ребята спали – наверное потому, что они не знали, какую опасность может в себе таить звук с неба… а я проснулся, потому что знал, хоть и по кино.
– Нас ищут? – прошептал я. Виктор кивнул, потом пояснил:
– Ну… не нас именно. Но раньше они эти леса с самолётов не прочёсывали…
– Ерунда, – сказал я. – Это не вертолёт… – и тут же прикусил язык. Но Виктор не обратил внимания на мою оговорку, потому что именно в этот момент самолёт как‑то очень небыстро и мирно прошёл над верхушками деревьев. К моему удивлению, это был биплан, совершенно не соответствующий моим представлениям о немецких самолётах, даже с открытой кабиной, кажется…
– «Хейнкель»‑пятьдесят первый, – пробормотал лейтенант. – Два пулемёта, бомбы…
– Вить, ты где служил? – спросил я, наблюдая полёт самолёта; солнце ярко сверкало на его крыльях, словно их покрывала слюда.
– В полковой разведке, – буркнул он и не стал ничего объяснять. – Неужели засекли отряд, сволота?
– Вить… – меня вдруг пронзила ужасная догадка. – Вить, а что если в нашем отряде немецкий стукач?!
– Кто‑нибудь наверняка есть, – меня удивило не столько то, что он понял слово «стукач», сколько спокойный его тон. – Только связи‑то у него всё равно нету. В сёла один Ромка, считай, и ходит… Вот если активизируемся – тут и начнутся проблемы… А это так – для отчёта летает… наверное.
Я всё это время только пастичку разевал, поражённый флегматичностью командира в этом вопросе. Потом выдавил:
– Но как же…
– Спи, чего ты допрос мне устроил? – отмахнулся Виктор, тоже укладываясь. – Если выспался – лежи, думай. Полезное занятие.
Ответить я в целом так ничего и не смог – вот разве что правда попытался подумать… а проснулся уже вечером.
Нет, вообще‑то было не так уж и поздно. Просто в лесу темнеет рано – солнце за деревья село, и начинается долгий сумрачный вечер, который плавно переходит в ночь. На этот раз выяснилось, что я встал последним. Витька и Сашка разглядывали лежащую на траве карту. Женька как раз открывал килограммовую банку консервированной датской свинины, рядом лежали десять сухарей. Это, надо полагать, был ужин. Или завтрак, если принять во внимание, что для нас рабочая пора как раз начиналась. Юлька на куске сухого спирта (тоже трофейного, я и не знал, что он в эти времена существовал!) кипятила котелок воды. Скорее всего, пить её предстояло просто так, даже без лиственной заварки, чтобы не пахло по лесу.
– Вечер добрый, – я сел и потянулся. Мне хотелось повыть, но это хорошо делать, когда потягиваешься, громко, иначе весь кайф пропадает. Поэтому я оставил мысль о подвывании и спросил: – Чего самолёт, Вить?
– Покружил и улетел, – отозвался тот. – Так, всё, жуём наскоро и пошли.
Он достал шоколадку ( Nestle буквально меня преследует, мать его!!!), разломил её на пять частей, потом вытащил глыбку сахара, отколол рукояткой финки примерно пятую часть и точными ударами раздробил её ещё на пять кусочков, аккуратно подобрав пыль и мелкие крошки. Я уже успел обратить внимание на то, как бережно люди тут обращались с едой, и мне – честно слово! – всякий раз становилось стыдно, когда я вспоминал огрызки гамбургеров, остатки бутербродов, недоеденные гарниры, окуски пирожных, которые я отправлял в мусор в том времени. Нас окружает тьма вещей, которые мы не ценим.
Например, туалетная бумага. Не смейтесь. Подтираясь лопухом, слишком часто обнаруживаешь, что, по пословице, подтираешься пальцем. Подумав об этом, я фыркнул, и Юлька спросила:
– Чего ты?
– А вот… – я замешкался. – Ночью в деревне к бабке в окно стучат, она занавеску отодвигает – видит, а там партизаны: «Бабка, немцы в деревне есть?!» «Да вы что, внучки, какие немцы?! Война двадцать лет, как кончилась!» «Ой, ё, а мы всё поезда под откос пускаем!»
Секунд десять царило молчание. Потом засмеялись все четверо – приглушённо, но искренне, весело. Витька сказал:
– Да‑а, будет и такое… Эх, какая же после войны жизнь будет… – он покрутил пальцами в воздухе: – Прекрасная жизнь! Мне вот почему иногда страшно бывает. Не потому, что просто умру или что там… А вот что не увижу… – он смешался, и мне вдруг стало стыдно, что я про себя называл его Чебурашкой. И я спросил:
– А твоя семья где, Вить?
– Далеко, – он вздохнул. – Хорошо, что далеко. В Фергане они живут. После войны все ко мне приезжайте. Народ у нас – во! А природа какая! А фрукты!
Я слушал его и думал, что Фергана – это ведь Ферганская долина, где в начале 90‑х годов будет страшная резня русских. Если Витька переживёт войну, он, наверное, будет ещё жив, и… Меня даже передёрнуло при мысли о том, что он испытает – победитель фашизма, увидевший новых фашистов, таких же жестоких и стократ более тупых, на своей родной земле. И я сказал:
– Не, Вить… Русский должен жить в России.
– Ну, во‑первых, – сказал он, нахмурившись, – что это за разговоры? Я не русский, я в первую очередь советский, и страна у нас – Советский Союз, что в Фергане, что на Псковщине. А во вторых – наша семья там уже полвека, не меньше, живёт, отец там родился… Куда ж я оттуда?
– Мы и после войны вместе будем, – сказал вдруг Женька. – Ну куда мы друг от друга? Родителей у нас… – он осекся. Сашка сказал:
– У Борьки живы.
– Не увижу я их, – покачал я головой. Юлька жалобно возразила:
– Да что ты их всё хоронишь?
– Чувствую…
– Ничего, ребята, – тихо сказал Витька, и глаза его блеснули. – Советская Власть вас не оставит.
Я было усмехнулся… а потом вдруг подумал, что нечему. Ведь смейся не смейся – а это правда. Не оставила никого из тех сотен тысяч сирот войны. Открыла суворовские училища, обычные детские дома, спецПТУ. Вырастила и выучила. Дала возможность стать не подай‑принеси, а профессорами, генералами, космонавтами, писателями. Не всем, да. Но людьми стали все. Просто людьми – с работой, с семьёй… И не мне смеяться над этими наивными словами о власти. Я пришёл из времени, которое считается мирным – но в котором два миллиона беспризорников. И до них никому нет дела. Просто – ни‑ко‑му. И власть не чухнется, хотя зовётся демократической, народной то есть.
Мне стало тошно. От всего сразу. Но в первую очередь – от мыслей о том, из какого же болота я выполз и как же был прав «АСК», когда говорил о нашем времени с гневом и презрением… а мы доказывали ему, что он не прав, что есть в нашем времени и хорошее… Может – и есть. Может, даже и много (и уж во всяком случае – там нет войны… или – есть?!). Но… но люди тут лучше.
Хотите смейтесь – хотите нет.
Здешний сахар был синеватый и невероятно твёрдый, как камень без преувеличений. Я пару раз видел, как Мефодий Алексеевич и партизаны постарше пили с ним чай – держали в зубах кусочек и через него дули почти кипяток, при этом на их лицах отчётливо читалось искреннее наслажение. Я как‑то раз попробовал – ничего не получалось, сахар сам собой грызся и проглатывался. Я вообще дико скучал по сладкому и сейчас почти заставил себя сначала заняться «бутербродами», но всё время поглядывал на шоколад и сахар. Поэтому увидел, как Сашка тихонько пододвинул Юльке свой шоколад и показал взглядом. Но увидел не я один.
– Отставить, – отрезал Виктор. – Это не школьный бал и это не просто еда, это топливо для организма.
Юлька покраснела. Сашка тоже, это ему совершенно не шло, если можно так сказать про парня, и они оба усиленно навалились на еду. Я почему‑то ощутил удовлетворение и одновременно злость – это что ж теперь, терять друга?! Неужели это так неизбежно?!
«Ты же не за ним из кустов подглядывал, – довольно ехидно прозвучал внутренний голос. – Хотя ещё не поздно поменять ориентацию.»
Я разгрыз сахар, в два глотка выпил свой «чай» и сунул под язык порцию шоколада. Пусть потихоньку растворяется и подслащает мне жизнь, если уж не осталось других средств…
22
Деревню Гужево сожгли давно, это было ясно – от брёвен уже даже гарью не пахло, весенняя трава пробилась на улице. Виктор тихонько выругался, и я, не поворачиваясь, спросил:
– Не знал?
– Не знал, – ответил он. – Тут были связные отряда «Ленинцы». Ещё в марте были… Надо глянуть, как её сожгли – с людьми, или нет.
Он сказал это вполне буднично, и я никак на это не отреагировал, только задумчиво добавил:
– Если не с людьми – то они где‑то в лесу, да?
Мы лежали в кустах недалеко от бывшей околицы уже почти час – совсем рассвело, мы присматривались и прислушивались, хотя, как я уже сказал, достаточно было принюхаться, чтобы понять: людей тут нет давно.
– Я схожу, – Женька сел, разулся, снял галстук и курточку, подкатал штанины, оставил в противогазной сумке сухари и, поднявшись, вышел на дорогу, потягиваясь и зевая – ни дать ни взять, подросток‑бродяжка, заночевавший в лесу и давно отвыкший удивляться или ужасаться таким вещам, как уничтоженные деревни. Полсотни шагов – и он исчез за яблонями одного из садов. Мы остались лежать и ждать.
– А если никого не найдём? – спросил я. Лейтенант не ответил, и я понял, что спрашивать больше не надо. Не найдём – пойдём дальше, что тут трепаться? Если вообще никого не найдём – вернёмся и доложим, что никого не нашли.
– Самолёт, – Юлька перевернулась на спину.
Это был опять биплан – может, даже тот же самый. Он снизился над деревней, но потом крутнулся на крыло и отвалил боком за деревья. Мы какое‑то время ждали, не появится ли он снова. Но вместо этого появился Женька – и не один. С ним были двое детей – мальчишка лет 12 и ещё один… одна… я сперва даже не разобрал, кто это, но где‑то лет 5–6. И одно могу сказать точно – рваньё, которое было на них напялено, приводило в оторопь, потому что люди такого не носят. С Женькой они, похоже, шли охотно и не испугались, увидев нас.
– Местные, – сказал Женька. – Это, – он указал на старшего, – Лёвка, это, – кивок в сторону младшего, – Игорёк.
– Вы партизаны? – прямо спросил Лёвка. Игорёк сунул палец в рот и разглядывал нас неодобрительно.
– Да мы так, – Виктор повёл плечами неопределённо. Я добавил:
– Мы сами не местные.
– Да это видно, – взрослым тоном сказал Лёвка и тоже окинул нас взглядом – больше изучающим. Потом сказал: – Немец нас пожёг, мы в лес ушли. А сюда так ходим. Чего найти. Сегодня вот топор нашли – обгорелый да без топорища, а что ему сделается? В огне не горит, в воде не тонет.
– Тонет топор в воде, – возразил Виктор.
– Наш не тонет, – ответил мальчишка и сказал: – Дядю Степана и деда Никифора повесили. А Лидка в лесу пропала. Один я… Учитель мне говорил, чтоб смотрел внимательно, как наши объявятся ещё. А им трудно. В лесу сидят, осталось человек двадцать. Голодно и патронов нет совсем.
Я как‑то не сразу допёр, что разговор уже идёт не о топорах. Но тут наш командир выдохнул, расслабился и сказал нам:
– С почином… Повезло нам, не пришлось искать погорельцев‑то… Это Лёвка Федюнин, связной «Ленинцев». Раньше‑то он запасным был, да вот видите, что говорит – повесили наших…
– Меня тоже собирались, – Лёвка приподнял край своей рубахи и я увидел след большого ожога. – Да я в слёзы ударился, кричал, просил, они плюнули да и поверили. Поиздевались и отпустили… А Лидки тогда в селе не было.
– Не знаешь, кто ваших выдал? – спросил лейтенант. Мальчишка вздохнул:
– Егеря их выследили… ищейки… Тогда и отряд почти весь покрошили, и нас сожгли… Встречаться будете?
– Дальше пойдём, – покачал головой Виктор. – Учителю передай про то, что мы целы. И взрывчатка есть. А место то же, что раньше. Он знает.
– Хорошо, – мальчишка кивнул. – Каротинских можете не искать. В апреле ещё разогнали их, кого побили, кого поймали да расстреляли… Мухарев Василий Григорьевич – ещё зима не кончилась – на Белебелку ушёл… Где «Стрелки» не знаю. «Взрыв» вроде на месте. Ещё тут наши ходят, с Большой Земли. Мало, но с оружием у них хорошо. Нигде надолго не задерживаются. Вот и всё вроде… – он вздохнул, пожал плечами и неловко улыбнулся.
– Молодец, – сказал Виктор, кладя руку ему на спину. Мальчишка вдруг сказал тихонько:
– Страшно мне… Ой как страшно… Прогонят их наши?
– Прогонят, – сказал я. – Обязательно прогонят.
Лёвка посмотрел на меня с надеждой, потом снова заговорил:
– Иной раз гляну – люди они, или звери?.. В школе у нас прямо в классах отхожие места устроили… Как с фронта части проходили в тыл – страх… В лесу‑то и спокойней…
– Победят наши, – уверенно сказал лейтенант. – И вы отстроитесь. И будет, как раньше…
– Нет, – вздохнул мальчишка и сказал по‑взрослому: – Как раньше – уже не будет…
Когда мы уже собирались идти дальше, я хотел отдать мальчишкам банку консервов. Просто отдать. Но Виктор отрезал:
– Нельзя. Нам нужнее.
Что тут сказать? Он был прав, хотя это была злая правота. Я убрал банку обратно в противогазную сумку, и мы зашагали к пока что неведомому нам месту днёвки…
…На этот раз мы за… задневали, если так можно сказать, в старом блин‑даже – это место знал Сашка. За кустами около него на поросшем травой холмике лежал плоский камень, на котором было нацарапано:
Трое бойцов Красной Армии
– Это я написал, – сказал Сашка, тронув камень носком сапога и снимая пилотку. – Я похоронил и я написал… В блиндаже пулемёт стоял, – он махнул рукой в сторону видной просеки, – а вон там фрицевская пехота шла… Ну они и дали… Потом у них патроны кончились, они фрицев ближе подпустили, вышли и гранатами… – он вздохнул. – Я ни как их зовут не знаю, ничего. Один молодой совсем, двое мужики лет по тридцать… вот и всё.
– Медальоны не забрал? – спросил Витька, тоже снимая фуражку. [Медальоном в Красной Армии называлась пластмассовая трубочка, в которую вкладывался листок бумаги с данными бойца. Медальон зашивался в специальный кармашек гимнастёрки. ]
– Я не знал тогда про них, про медальоны…
– Ладно… – лейтенант кивнул. – Спите спокойно, товарищи. Мы за вас отомстим…
«Господи, – подумал я, – я знаю, Ты велел прощать, я верую в Тебя, я чту Твои заповеди… Прости меня, я повторю: мы отомстим за них, и за остальных – мы отомстим… Пусть на мне будет грех, но я не прощу всего, что видел тут, не брошу своих друзей, я буду мстить…»
Ребята ушли за кусты, а я перекрестился, глядя на могилу…
…Под вечер пошёл дождь, протекли остатки крыши, и мне вообразилось, что я всё ещё в другой сожжённой деревне, и всё, связанное с отрядом, мне приснилось. Открыв глаза, я увидел Юльку и долго не мог сообразить, кто это. По обваленным ступенькам бежали ручейки, штанина у меня промокла. К дождю примешивались ещё какие‑то звуки, я моргал, зевал, а потом почти вскочил:
– Немцы!.. – я осекся и начал всех трясти по очереди: – Немцы, вставайте же…
– Не ори, – прошептал Витёк, – я не сплю уже. Тихо. Они на вырубке… Можешь в амбразуру глянуть.
Я осторожно подобрался к амбразуре. Немцы в самом деле разгуливали по вырубке. Вернее – как разгуливали? Видно было, что им мокро, тошно и очень не хочется тут находиться. Под дождём их чёрные клеёнчатые плащи отливали серебром в последнем дневном свете. Они грузили – сами, надо же – в кузов здоровенного «бюссинга» берёзовые хлысты.
– Дрова запасают, – сказал я и перевёл дух. – Блин, перепугался я…
– Какой блин? – сонно спросила Юлька.
– Присловье такое… – отозвался я. – Есть будем?
– Будем, – усмехнулся Виктор. – Поедим и пойдём. Нам ещё насчёт «Взрыва» и «Стрелков» нужно выяснить… да и с нашими с Большой Земли неплохо бы повидаться.
– Связь же есть, зачем их искать? – Сашка сел.
– Связь связью, а лишние контакты не помешают…
– Двое сюда идут, – Женька, тоже заглянувший в амбразуру, отшатнулся.
– Тихо, – Виктор достал финку. Мы рассосались по стенкам и замерли, тоже обнажив клинки.
Немцы прошли совсем близко. Через вход я видел, как они постояли у начала тропинки в лес, вроде бы мочились и о чём‑то переговаривались. Винтовки висели за плечами стволами вверх… и я увидел, что пальцы Сашки на рукоятке финки побелели, а глаза замерцали, как разлитая ртуть. Но он, конечно, сдержался, и немцы вернулись обратно на просеку, снова прошагав мимо блиндажа.
– Паршивая погода, – сказала Юлька. – В лесу в дождь всё шепчет. Ничего не услышишь. В дождь надо на месте сидеть.
– Ну, мы на месте сидеть не можем, – возразил Виктор, – нам так и так не миновать идти…
– Уехали, – оповестил Женька. Это мы и сами слышали – «бюссинг» зарычал, и этот звук уплыл куда‑то по просеке. Сашка потянулся:
– Давайте есть, что ли…
Порции были – всего ничего, конечно, но мы не спешили. Никому не хотелось вылезать под дождь. Все надеялись, что, пока мы поедим, дождь как‑нибудь сам собой кончится. Глупо, конечно. Природе плевать на человеческие проблемы. Я это давно понял, а уж сейчас убедился в этом окончательно. Всем, кто желает «единения с природой», я хочу напомнить, что такая ерунда, как крем от комаров – достижение цивилизации, а без него эти мелкие пакостники в лесу достанут вас даже в дождь. Хорошо ещё, что май, а не октябрь… хотя – мне‑то предстоит тут и октябрь увидеть. А вот интересно – что мне дальше делать? Ну, буду в партизанах где‑то до сорок четвёртого. Будет мне семнадцать. Запишусь добровольцем в армию… А что, если в армии и остаться? Довоюю, если не убьют, конечно. Раз я с оккупированной территории, то скажусь – мол, ни родни, ни документов. Выправят новые… В то, что меня бросятся сажать в лагерь, как‑то не верилось. Я читал документы в одном сборнике, там указывалось, что из четырёх миллионов наших пленных, побывавших у немцев, погибло около двух с половиной миллионов, примерно сто пятьдесят тысяч сбежали на Запад после войны, а из вернувшихся где‑то миллиона четырёхсот тысяч в лагеря попали только сто двадцать тысяч человек. И в основном правда те, кто сотрудничал с гитлеровцами. Просто по телику это раздувают, вот и кажется, что в лагеря сажали просто за то, что побывал в плену или под оккупантами… Останусь в армии. Попробую поступить в училище на офицера. И буду себе пенсию выслуживать. Вот только тяжеловато будет жить, зная, чем всё это кончится – с Союзом и вообще… На Юльке женюсь, детей назаводим, штук пять. Если она согласится… Должна согласиться, они тут всё ещё считают, что много детей – это хорошо… Развести бы её снова на поцелуи, только так, чтобы по морде не схлопотать… или даже на что‑то большее подбить.
– Ты что, уснул, Борька? – услышал я шёпот Сашки, и он хлопнул меня по плечу. Я встрепенулся.
Мы шагали и шагали себе по лесу – Сашка, я, Юлька, Женька и Виктор. И сейчас Сашка, остановившись, подождал меня и улыбался. Совсем стемнело, небо в тучах, но его улыбка светилась в ночи, как маяк и мне вдруг стало за него обидно. Хороший друг. Может быть, даже лучше Вальки – тот, по крайней мере, меня не откапывал из могилы. И вот…
– Не, я задумался, – покачал я головой. И шепнул: – Сань, тебе Юлька нравится?
– Ты, я вижу, сильно задумался, – он перестал улыбаться. – Скажи Виктору, что мы подходим к оврагу, про который он говорил…
…Овраг уходил, как мне показалось, в глубины земли, но потом, когда сырые стены почти смыкались наверху, он вдруг словно бы распахивался – и мы оказались на дне котловины, похожей на стакан. Наверху над ней почти смыкались кроны деревьев. Наверное, сюда и сильный дождь не попал бы… Было совсем темно, но глаза привыкли к мраку, и я различал остатки разрушенных шалашей, какие‑то деревянные конструкции, ещё что‑то. Виктор поворошил ногой – звякнули гильзы. Он сказал тихо:
– Ну, вот и «Стрелки»… Вот почему про них ничего не слышно… И до них егеря добрались… Говорили же Чусовому: зажмут тебя в твоём «стакане» (я удивился, до чего точно угадал!)… А он всё: «Пусть найдут сначала, немцы – они в лесу слепые!» Не очень‑то и слепые…
– Мы сюда шли? – спросил я. Вместо лейтенанта ответила Юлька:
– Да… Тут отряд «Стрелки» базировался… ещё недавно… Может, они ушли, Вить?
– Не ушли, – сказал откуда‑то сбоку Женька…
…Не меньше двадцати трупов – безоружных и уже сильно разложившихся, странно, что мы не почуяли запаха сразу – лежали навалом в ручьевой промоине за лагерем, под самой «стенкой стакана». Рассматривать их подробней ни у кого, конечно, желания не было. И так всё становилось ясным.
– Значит, «Ленинцы» целы… и надо ещё «Взрыв» найти, – сказал Виктор. – И будет три отряда… Зря Мухарев в Белебелку ушёл, раздавят немцы Белебелку рано или поздно… А в конце прошлого года было больше двадцати отрядов…
Голос нашего командира был усталым и тусклым, как дождь. И я сказал:
– Ладно тебе. Ничего не кончено ещё. Всё только начинается…
23
Дождь шёл всю ночь и весь следующий день. Мы вымокли до такой степени, что это уже перестало причинять какие‑то особенные неудобства. Другое дело – я не представлял себе, какие буреломные чащи есть на Псковщине! К нашему времени их свели, наверняка. А тут – прежде чем заночевать, мы еле ползли завалами, где и волки, наверное, не живут. И спать завалились в какую‑то берлогу под валежником. Я до такой степени устал, что не помню, как уснул и как спал, честное слово.
Вечер был серый и тёмный, только где‑то далеко на западе за деревьями горела красная полоска. Похоже было, что ночью дождь всё‑таки прекратится. Когда мы поднялись, Виктор уже был на ногах и вертел в пальцах кусочек фольги.
– Это что? – поинтересовался я, перешнуровывая ботинки.
– Ничего хорошего, – ответил лейтенант, складывая фольгу и убирая её в карман гимнастёрки. – Обёртка от немецкого шоколада, нашёл тут. Случайно. Её запихнули в мох, но неглубоко. Похоже, не мы первые облюбовали этот бурелом…
– Не факт, что это немцы, – возразил Женька.
– Не факт, – согласился Виктор. – Вообще ничего не факт, кроме этой фольги… Ну что ж, надо идти. Тут недалеко Вяхири, а там…
Он не договорил, но тут всё было ясно…
…Понятие «недалеко» у русских означает некую субьективную величину, воспринимаемую каждым индивидуумом на свой неповторимый лад. Поэтому если говорят «недалеко» – не надо рассчитывать, что цель путешествия вырастет перед вами через пять минут. Насчёт получаса тоже не стоит обольщаться.
Хорошо было уже и то, что лес стал «покультурнее». Мы шагали, растянувшись длинной цепью, по заросшей и изрядно замусоренной прогалине. Дождь всё ещё шёл, но на небе вдали появилась в тучах прогалина, и она отчётливо расширялась.
Порядок движения был прежний, поэтому я немного удивился, когда Сашка остановился и подождал меня.
– Что случилось? – спросил я, останавливаясь рядом.
– А сам посмотри, – он повёл рукой.
Я огляделся. Первые секунды не мог понять, в чём дело, хотя в темноте видел неплохо…а потом заметил, что лесной мусор – валежник, хворост, павшие стволы – старательно расчищен. Но не унесён, а убран в стороны. Кто‑то очень постарался расчистить место.
– Расчищена прогалина, – сказал Сашка, обращаясь уже к Виктору. Тот потёр лоб и приказал:
– Посмотрите, тут нет следов от костров? От нескольких?
Мы рассыпались по прогалине и, несмотря на темноту, вскоре нашли кострища – они шли в шахматном порядке по краям прогалины, четыре справа и четыре слева. Виктор хмыкнул и сорвал хвоинку.
– Всё ясно, – сказал он, жуя иголку. – Посадочная полоса.
– Костры жгли позавчера, – сообщил Сашка, вытирая испачканную пеплом руку о траву. – А вообще жгли не один раз, раза четыре, не меньше. Это «Взрыв»?
– Или та группа с Большой Земли, – кивнул Виктор. – Но самое скверное – что фольга тут, рядом… Как бы не егеря выследили этот аэродром…
– Может быть, подождём хозяев? – предложил я.
– А если они придут через неделю? – возразил Виктор.
– А ты найдёшь их быстрее?
Наш командир глубоко задумался. Пока он думал, в небе, всё ещё сеящем дождь, послышался звук самолёта. На мгновение мне вообразилось, что это – наш, с Большой Земли. Но потом я допёр, что раз нет костров, значит нет и нашего, а просто опять немцы патрулируют воздух. В общем‑то ночью это даже логичнее – любой огонёк сверху заметен… Эх, вот бы сейчас зенитную ракету…
– Я и… и Юля с Женькой идём в Вяхири, – решил наконец Виктор. – Вы маскируетесь тут и ждёте нашего возвращения или прихода… кого угодно. В случае прихода действовать по обстановке… Ты чего хихикаешь, Борька?!
– Да так… ничего… – я не стал объяснять, что мне представялется при слове «приход» и как в случае него действуют в моём времени. – Прошу прощенья, товарищ лейтенант…
– Так. Если в течение двух суток ни мы не вернёмся, ни кто‑нибудь не придёт – продолжайте поиск отряда «Взрыв». Старший… Сашка. Приказ ясен?
– Так точно, – отозался Сашка. Я кивнул:
– Так точно.
– Всё, мы пошли.
И они в самом деле пошли – растаяли на прогалине. Мы ещё постояли, потом Сашка тихонько вздохнул и сказал:
– Пошли маскироваться…
…Солнышко уже припекало, а барахло на нас всё ещё было мокрое. Сашка спал – пришла его очередь. По щеке у него полз муравей, нижняя губа оттопырилась и повлажнела, ресницы вздрагивали. Я вытер влагу со ствола ЭмПи и по‑думал, что Юльке, наверное, больше нравится Сашка. Может, она меня и так распёрла‑то потому, что он ей уже на самом деле нравится. Он сильней, чем я (ну, если чисто физически) и опытней в лесу. Да и вообще – ближе, наверное, они же оба сельские…
Самолёт опять пролетел – на этот раз его было видно, бипланчик, даже голову пилота различить можно и значки на крыльях и корпусе. Интересно – один и тот же или разные?.. Горючку жгут… а с горючкой у немцев проблемки, на синтетике летают или на румынском бензинчике. Вот бы хранилище рвануть где‑нигде. Надо будет подкинуть идею… И отговорить рвать рельсы. Я помнил, что «АСК» нам как‑то объяснял, что подрыв рельсов был одной из основных ошибок наших партизан – тратили взрывчатку, а рельсов у немцев было полно и менять их они наловчились мгновенно. Рвать надо мосты и паровозы, в смысле эти – сами локомотивы.
Сашка завозился молча, я поглядел на него и совершенно определённо понял по нескольким признакам сразу, что ему снятся девчонки. Ага, несгибаемый комсомолец‑доброволец, берёт природа‑матушка своё… Хотя ты не комсомолец и даже не пионер…
Я зевнул. Хотелось есть и высушиться. Но было и ещё что‑то такое… я повёл плечами и вдруг совершенно отчётливо понял: сюда идут люди. Знание было абсолютно определённым и отчётливым. Они приближались с той стороны прогалины, их было довольно много и они шли скрытно.
Я коснулся плеча Сашки. Тот проснулся молниеносно, посмотрел на меня чистыми от сна глазами и поднял брови. Я прижался губами к его уху и шепнул:
– Люди. С той стороны. Много.
Он не стал ничего спрашивать – просто откатился в сторону немного и, выставив ППШ, принял классическую позицию для стрельбы. Я тоже устроил удобнее ЭмПи. Мне почему‑то казалось, что это не немцы. Сашка напряжённо вглядывался в кусты на той стороне, потом повернул ко мне голову и показал пять пальцев, потом ещё два. Семеро…
На прогалину вышел человек – в гражданском, с винтовкой наперевес. Застыл – и вдруг прыгнул обратно, а не меньше чем из пяти мест с той стороны ударили выстрелы. На нас посыпались ливнем срезанные веточки и листья.
– Свои!!! – заорал Сашка, вжимаясь в землю. Я делал то же – не стрелять же в ответ. – Да вы чего, охренели?! Свои!!!
Пальбу как отрезало, но вместо этого послышался сиплый голос:
– Какие такие свои?! Бывают свои свои, а бывают и навовсе чужие… Вы из каковских?!
– Свои, я же говорю! – повторил Сашка. А я подумал, что это могут быть и полицаи… или нет, полицаи носят форму… В кустах напротив помолчали, потом голос помоложе спросил:
– А как звали пастуха из «Весёлых ребят»?
– Костя! – гаркнул Сашка. – Утёсов его играл! Леонид! Довольны?!
– А может, ты полицай?
– Я выхожу! – крикнул Сашка, вешая ППШ за спину.
– Погоди, не надо… – начал я, но Сашка уже выбрался на прогалину и встал, раскинув руки. С той стороны сказали:
– Это. Кажись свой правда… – и первый голос поинтересовался:
– Ты чей, паря?
– Отряд «Смерч», слышали? – Сашка опустил руки, но в мою сторону посмотрел предостерегающе: не выходи пока! – А вы из «Взрыва»? Если да, то мы вас и ищем.
Ответом было молчание, но на прогалину начали осторожно выходить вооружённые люди. Среди них был один в маскхалате, кожаном шлеме, с необычным ППШ – оснащённым складным прикладом. Остальные – в гражданском или полувоенном, как и у нас в отряде.
– Кажется, поиски окончены, – пробормотал я. – Может, теперь высушусь?
24
В общем‑то, наше возвращение в отряд можно было назвать успешным. Мы восстановили связь с двумя партизанскими отрядами, к одному из которых присоединилась разведывательно‑диверсионная группа разведуправления Генерального Штаба, заброшенная в немецкий тыл. С нами пришли представители обоих отрядов – чтобы договориться об организации нового аэродрома, так как ВПП на просеке решено было считать «засвеченной» и больше ею не пользоваться.
За время нашего отсутствия к отряду присоединилось ещё человек двадцать, в том числе – группа из восьми окруженцев, в числе которых было два офицера. Военные были из состава 2‑й ударной и иначе как с матом о своём командовании не отзывались – генерал Власов затащил армию в «мешок» и немцы этим уже начали пользоваться. Но наш‑то отряд вырос, да так, что решено было организовать ещё два взвода. И это самым необычным способом сказалось на нашей судьбе.
Я проводил обычную тренировку по рукопашному бою, когда появился Виктор и поломал это дело, сказав, что ему надо с нами поговорить. К этому времени кроме Ромки в отряде появилось ещё двое младших пацанов и девчонка, и они переселились от нас в новую землянку, так что у нас стало пустовато. Рассевшись на нарах, мы приготовились слушать лейтенанта.
– Отделение разведки решено укрупнить до десяти человек, – начал он, крутя на столе коптилку.
– Отлично, – подал голос Сашка. Виктор коротко на него взглянул и вздохнул:
– Да… А меня переводят командовать четвёртым взводом. Как офицера…
– Не понял? – лежавший в рост Женька сел. – А нами кто будет командовать?
– Сашка, – кивнул на него Виктор.
Сашка вытаращился и приоткрыл рот:
– Я‑а?!
– Так командир и начальник штаба решили, – развёл руками Виктор.
– Но… но я‑то почему?! – Сашка встал и заморгал. – Я же…Почему не Борька?!
– Ага, сейчас, – проворчал я, – нужно мне это, как комару клизма…
– Да я Борьку и предлагал, – признался Виктор. – Капитан Хокканен возразил.
– Почему? – уточнила Юлька. Виктор пожал плечами.
– В общем так. Я отправляюсь на команду четвёртым взводом, а вам, боец Казьмин, предстоит взять на себя командование отделением разведки.
– Не было печали, – подытожил Сашка. Он даже слегка осунулся. – Как я командовать‑то буду?!
– Да просто, – я приобнял его за плечи. – Ты скажешь – мы выполним. А кто заартачится – тому в грызло…
…Что сказать о самом нашем партизанском отряде?
Да ничего. Он очень мало походил на партизанские отряды из кино и книжек. Ну, вернее, не очень мало – если подумать, общего было ого‑го. Люди собрались, чтобы бороться с врагом, все были уверены в необходимости этой борьбы и неизбежности победы. Как в кино. И вообще временами я узнавал киношные типажи. Но были вещи до такой степени вопиющие, что сходство пропадало.
Например то, как тут матерились. Ну, я понимаю, что в кино этого не покажешь. Кто помоложе, кстати, ругались меньше, и пожилые люди – тоже. А вот мужики средних лет могли запустить так, что ой. А кое‑кто вообще использовал нормальные слова для связки матерных, не обращая внимания ни на женщин, ни на детей, ни на командование.
Нередко дрались – правда, никогда не использовали оружия. просто – то ли от нечего делать, то ли вспоминая какие‑то свои обиды. Много бездельничали – не вообще, а в военном отношении. Солдат на фронте воюет всегда, а тут между операциями было много свободного времени, и всё его заполнить чем‑то бы‑ло просто невозможно, хотя даже строевой заставляли заниматься, да и вообще дисциплина была вполне на высоте.
А бабы?! Это тоже не для кино, но вы подумайте сами: в отряде женщин всяко меньше, чем мужчин. Если эту проблему не решить, то появится так называемый вынужденный гомосексуализм – рано или поздно, но появится. Щенки вроде нас могли ещё заниматься онанизмом, а взрослые мужики? В таком случае никакая идеология не помеха – взгляды обязательно начнут обращаться на тех, кто помоложе, а если есть мальчишки, то им вообще ой. Вот и приходилось Мефодию Алексеевичу, сокрушённо качая головой, записывать в документах вещи вроде: «Отпущены (полные данные) на (указан срок) в (указан населённый пункт) для отправления естественной потребности в женском поле.» Меня до такой степени потрясала дремучая безыскусность этой фразы, что я даже смеяться не мог (мне представлялось огромное поле, на котором зреют женщины на разный вкус!). Илмари Ахтович зеленел (он, по‑моему, в военных целях просто кастрировал бы всех бойцов, и его можно было понять – достаточно было егерям выследить таких «отпускников» – и…), но сделать ничего не мог. Сам Мефодий Алексеевич, по‑моему, жил с тётей Фросей…
А самогон?! Его гнали вполне официально – для медицинских целей и дезинфекции, но шёл он не только на это…
Вообще, короче, было много такого житейского, что не укладывается в рамки представлений о Борцах За Родину И Счастливое Будущее Детей. Может быть, это и неприятно. Но куда деваться? А сами «дети»?! В нашей землянке не было ни одного старше шестнадцати. Один скаут. Комсомолка. Шестеро пионеров. Двое беспартийных‑сочувствующих. Но! Командует именно беспартийный. Раз. Два – матом ругались и дрались и тут. Я уж не говорю, что любой психолог, раскрой перед ним душу кто‑нибудь из нас, схватился бы за голову и назначил бы полугодовой курс лечения в помещении с мягкими стенами. «Я его – пырьс, а он в штаны надул и пищит: „О, битте, битте, найн!“ – а из самого кишки лезут…» «А помнишь, как мы старосту вешали?..» И так далее.
Да, отделение разведки выросло до десяти человек. Желающих стать ра‑зведчиками было больше (чуть ли не вся молодёжь и немало взрослых бойцов; уж не знаю, что тут играло большую роль – боевой порыв или просто желание не так часто заниматься тягомотными хозяйственными делами, караулами и прочим). Сашка сам отбирал людей, и я поразился тому, как он умеет это делать. Похоже, он обладал не только общим для всех подростков умением «навскидку» определять характер человека, но и вполне взрослой крестьянской сметкой.
Братьев и сестру Корбут он хорошо знал, оказывается, по довоенной жизни. Зинка у нас оказалась самой старшей – именно она была комсомолкой и она же не расставалась со снайперской винтовкой. Я сперва думал – понты… но только сперва. Димка – тоже не пионер, потому что не скрывал своей веры в бога – стал у нас пулемётчиком; командир выделил отделению трофейную чешскую «зброёвку». Младшего из Корбутов звали Гришка и он сам сочинял и пел похабные (в том числе и антирелигиозные, но чудовищно смешные!) частушки. Просто поразительно, как в одной семье могли вырасти такие разные дети.
Максим Самохин чем‑то напоминал мне меня самого. Смешно, но это так – а главное, я не мог понять, чем именно. Ещё были двое Олегов – Кирычев и Панаев. Все в лесу чувствовали себя, как дома, умели хорошо стрелять и имели к фрицам личные счёты.
Но что поразительно – меня просто удивляло, насколько разнообразны были интересы этих ребят. Они не знали, конечно, многого из того, что знал я, но это просто потому, что в их времени не было вещей, о которых я знал. А вот широчайший кругозор (на любую тему, за что ни возьмись, у них имелось своё мнение и неплохой набор знаний!) и невероятная любознательность (узнавать новое им доставляло искреннее удовольствие!), упорство в любом деле и спокойная храбрость в этих отношениях ставили их на голову выше ребят из нашей дружины (а мы в тех же отношениях были на две головы выше обычных наших ровесников!) Я даже терялся временами – куда всё это делось?! Если бы такие мальчишки в достаточном количестве имелись в нашем времени – они без взрослых замирили бы Чечню, отвоевали Крым, начистили рыло штатовцам и подняли бы ВВП в десять раз за год. Они родились и выросли при Советской Власти… И, глядя на них, я серьёзно усомнился в том, чему меня учили на уроках истории – про Сталина и про тоталитаризм… Может ли быть плохой власть, которой зачем‑то нужны такие люди? Ведь не сами они такими стали – их такими во‑спитали! А если наша власть воспитывает нас на «Фабрике Звёзд», «Доме‑2», игровых автоматах, пивных фестивалях и канале МТV – выходит, и это кому‑то нужно?! Но дальше думать было жутковато, если честно…
А ведь внешне и вообще – они мало чем от нас отличаются, эти ребята, с которыми я делил землянку. Забавляясь, я искал чисто внешние аналогии… и вдруг понимал, что Сашка, например, довольно сильно похож на Сашку Головина, героя нескольких «Ералашей» и нового фильма «Кадеты», который я смотрел перед самым своим «отлётом». У Юльки что‑то общее с одной девчонкой из параллельного, с которой я пару раз целовался. И другие, если присмотреться, кое‑что мысленно убрать, кое‑что дорисовать, похожи не на того, так на друго‑го моего знакомого, очного или заочного… Может быть, мы и внутренне не так уж отличаемся от этих, из сорок второго – только поскреби?.. Не знаю. Так я ни до чего и не додумался, хотя времени было немало для раздумий – разведка не особо оказалась загружена работой, хотя до конца мая отряд провёл почти дюжину диверсий на железной дороге, пустив под откос три эшелона и взорвав два моста. (Когда я высказал свою идею насчёт ненужности подрыва рельсов, то со мной быстро согласились.)
У меня, впрочем, было ещё дело – я работал радистом. Хокканен взял с меня подписку о неразглашении и время от времени я отправлялся в командирскую землянку и занимался то вполне понятными, то совершенно неудобоваримыми делами вроде передачи бесконечно‑утомительных групп цифр. Дела на фронтах шли плохо – это я тоже узнавал из радиопередач. Немцы прорвались на Кавказ и к Сталинграду, штурмовали Севастополь. Нами они тоже, кстати, начали нехорошо интересоваться. Три взаимодействующих партизанских отряда – это почти триста человек. И нашуметь они могут так, что ого. По сведениям оживившихся в окрестных сёлах наших агентов враг активизировал разведку, несколько раз прочёсывал лес (но достаточно тупо) и раза два бомбил казавшиеся подозрительными места всё с тех же бипланов. Ясно было, что рано или поздно они возьмутся за нас всерьёз.
Ну что ж. В конце концов, это означало всего лишь, что нашим на фронте будет ещё чуть‑чуть полегче.
25
Юлька учила нас метать ножи. Учила уже довольно давно, мы устали и в сущности учиться‑то продолжал только я… да и то потому, что мне обалденно приятно было находиться рядом с Юлькой и прикасаться к ней… а когда она прикасалась ко мне – было ещё круче. Сашка вообще отсутствовал. Летний денёк – во, солнышко припекало. Макс Самохин напевал – негромко, но приятно:
Барон фон дер Шик покушать русский шпик
Давно собирался и мечтал.
Любил он очень шик, стесняться не привык,
Заранее о подвигах кричал.
Орал по радио,
Что в Лениграде он,
Как на параде он –
И ест он шпик.
Что ест он и пьёт,
А шпик подаёт
Под клюквою развесистой мужик…
Барон фон дер Шик забыл про русский штык –
А штык бить баронов не отвык.
И бравый фон дер Шик попал на русский штык –
Не русский, а немецкий вышел шпик.
Мундир без хлястика,
Пробита свастика –
А ну‑ка – влазьте‑ка
На русский штык!..
– Уфф, устала, – призналась Юлька, – всю руку отмотала… Борьк, а может, ты чего споёшь? – она повернулась к новеньким. – Он такие песни знает… – Юлька покрутила пальцами в воздухе. – Странные, но… в общем, короче, сами услышите.
– Ладно, – кивнул я, бросая финку последний раз и усаживаясь на бревно. –
Гитару мне… чего, нету? Жаль. Тогда так терпите…
Он был старше её на четырнадцать лет,
Она младше была на четырнадцать зим…
…Почему ей достался тот лишний билет
И зачем она взглядом вдруг встретилась с ним?
Почему он вернулся за папкой для нот,
Хоть всю жизнь без конца уходя – уходил?
Это знает, скорее всего только тот,
Кто рукою его
водил…
Ты для меня – солнечный свет,
Я для тебя – самый‑самый!
Мы проживём тысячу лет –
И на земле и под небесами…
Я пел, открыто глядя на Юльку и улыбаясь ей.
Он был старше её на пять тысяч ночей,
Она младше была на пять тысяч утрат…
Но не сможет понять никакой казначей,
Почему они вместе проснулись с утра?
Почему он вернулся за папкой для нот –
И остался, понять ничего не успев…
Но случайности нет – это выдумал тот,
Кто ему подсказал
припев…
Ты для меня – солнечный свет,
Я для тебя – самый‑самый!
Мы проживём тысячу лет –
И на земле и под небесами…
Он был старше её на четырнадцать лет…
Он был старше её на пять тысяч ночей…
Он был старше на семь миллионов минут…
[Песня барда В.Третьякова. ]
Странно и интересно было видеть, как они слушают мои песни. Я ничего не имел против песен этого времени – и раньше не имел, а тут они мне стали даже и нравиться. Но, видимо, чего‑то всё‑таки не хватало в бодрых песнях тридцатых, раз ребята и девчонки (да и взрослые бойцы, иной раз, и сам непоколебимый Илмари Ахтович – правда, он всегда вздыхал и говорил в конце: «Ты символист, Борис, а не советский пионер!» – но потом заказывал, когда мы сидели в землянке, чаще всего «Пацанов» Шевчука) слушали полупонятные строчки о группе крови на рукаве, о мёртвом городе, который хоронит свои голоса, об эхе в горах, поющем голосами друзей‑мальчишек, о том, что я тебя никогда не забуду и никогда не увижу… Звали по вечерам то к тому, то к другому костру под плотные навесы, просили немного стеснённо: «Спой‑ка какую из своих, а, Бориска?..» Тётя Фрося, например, полюбила слушать… «Крылья» «Наутилуса», хотите верьте, хотите нет. И почему‑то всегда всхлипывала под неё. Уж не знаю, какие там у неё были ассоциации…
А я и пел‑то всё это только для Юльки. Даже если её не было рядом. Правда иногда думал: ну не все же погибнут. И лет через пятьдесят какой‑нибудь дедок будет уверять, случайно услышав магнитофон своего внука, что это пел в отряде такой парнишка – Борька Шалыгин по прозвищу Шалыга; небось сам и сочинял, а теперь эти молодые‑наглючие его обобрали…
Смешно."Не тот ли вы Володька Высоцкий, с которым мы выходили из‑под окружения под Оршей?..»
– Юль, – сказал я негромко, – пошли погуляем?..
…Мы шагали босиком по галечному дну ручья, держа обувку в руках.
– И такой аппарат – на нем считать можно, в игры играть – ну, в шахматы, например, и кино смотреть, какое сам закажешь, и книжки писать и читать. Компьютер называется. Он почти думать может.
– Как человек?
– Ну, не как человек, конечно… Это фантастика, как в «Луне», которую я тебе рассказывал… А на кухне – всё с машинами, с электрическими. От мясорубки до печки…
– Ну, это сколько же тока нужно?
– А это вообще не проблема… Тот идёт по проводам от здоровенных электростанций. Они на нефти работают.
– Так здорово всё рассказываешь – как по правде, – Юлька улыбнулась задумчиво, покачала ботинками. – Неужели так будет?
– Фашистов разобьём – и будет, – сказал я. – Обязательно.
Мы дальше пошли молча. Мне расхотелось говорить, потому что вспоминалось и другое – вся грязь, которая, как мне временами казалось, переполнила моё время. До такой степени, что до вступления в дружину мне иногда просто хотелось умереть – это было не так страшно, как жить. А Юлька просто шла, подфутболивала воду и чему‑то улыбалась задумчиво. И мне совершенно не верилось, что идёт война – страшная, тяжёлая, что каждую секунду гибнут люди… Потому что мне‑то было… хорошо. И всё тут, хоть режьте.
Наверное, поэтому я остановился и взял Юльку за руку. Она посмотрела, но руку не отняла. Я, не сводя с неё глаз, встал на колени в ручей и медленно поднёс руку к губам. Коснулся её – рука была прохладная, я задержал губы, потом провёл её рукой по щеке и прижался, закрыв глаза. Журчала вода, надрывались птицы. Юлька тихо дышала, ничего не говорила и не делала.
– Юлька, – сказал я, не открывая глаз. – Юлька… Юлька, Юлька, Юль‑ка… – и опять провёл щекой – уже другой – по её руке. – Юлька…
– Пусти, – тихонько попросила она. Я сразу отпустил её руку и встал с колен. – Зачем ты так, Борька?
Ответить я не успел – со стороны лагеря резко свистнули…
… ‑ Р‑5, ‑ задрав голову, сказал Сашка.
Среди трофеев кто‑то обнаружил толстый справочник с неудобоваримым названием готическим шрифтом. Но ценен он был тем, что там содержались буквально сотни рисованных силуэтов техники почти всех стран мира, в том числе – и нашей. Сперва мы листали его от любопытства, потом начали соревноваться в распознании. Сашка неплохо насобачился, различив силуэт заходящего на посадку самолёта, мелькнувший в ночном небе. Я так не мог – но это был, к моему удивлению небольшой бипланчик. Такой первый посетитель нашего аэродрома показался мне почти оскорбительным.
«Эр‑пять» вполне резво, подскакивая и покачиваясь, пробежал по поляне между костров. Мы близко не подходили и только видели, как Мефодий Алексеевич передал туго набитый портфель, а из самолёта, даже не вылезая, сунули в протянутые руки наших партизан несколько ящиков, которые тут же погрузили на телегу. Самолёт выглядел несерьёзно, даже без пулемётов. Большие красные звёзды не утешали. Не прошло и пяти минут, а машина, повторив свой пробег, взмыла в воздух и исчезла.
Наши тушили костры. Мы подошли к телеге, на которую вспрыгнул командир – вид у него был вполне довольный.
– И это всё? – не выдержал я.
– А ты это, чего ожидал‑то? – не понял Мефодий Алексеевич, но потом необидно рассмеялся: – Дурак ты, Бориска, это, значит… Ну это сам подумай. Объявились это мы после это – полугода молчания это считай. И нам сразу это в ладошки захлопали и посылают это – полный транспорт взрывчатки, патронов, это – медикаментов и это, представителя Штаба. А это и не мы вовсе, а это – немцы. Тут это осторожно надо. Ты вот это – недоволен, а я будто это – воздуху свежего глотнул. Это – лекарств прислали, машинку пишущую…
– Вот уж необходимость, – проворчал Сашка.
– И ты это туда же! – рассердился командир. – Долдоны вы это, прости Господи! А листовки?! Да это – в сёлах окрест и знать это не знают, как это на фронте дела?! Одними это – фрицевскими баснями кормятся и уж это – и носы и хвосты повесили! Ты ж слушай – они и Ленинград взяли, и это – в Сталинграде шашлык кушают, и это – на Кавказе, значит, в море трусы стирают! А тут это мы – сводку Совинформбюро! Это – свеженькую! Это – проверили нас теперь, так и большой транспорт можно это – ждать, с патронами, со взрывчаткой, может это – врача пришлют… Хоть одного на три отряда, а то и это – и не одного…
– Хорошо бы… – вздохнул Женька.
– Ладно, – махнул рукой Сашка, – наше дело простое… Нам сейчас в Вяхирево идти?
– В Вяхирево?.. – командир задумался. – А, насчёт железки, это… Да, это сейчас уж идите, потом отоспитесь… Да, это. Отца Николая с собой возьмите.
– Зачем? – не понял Сашка, поддергивая ремень ППШ.
– Дед там один это – отходит. Уж больное ему это – поп нужен, – Мефодий Алексеевич развёл руками. – Уважить надо.
– Ладно, – махнул рукой Сашка. – Мы его тут подождём, всё равно по пути…
…Я и раньше знал, что отец Николай очень неплохой ходок. И сейчас он шагал широким ровным шагом и дискутировал с Зинкой.
– У вас, Зина, примитивное, извините, представление о том, что есть Бог. С чего вы вообще решили, что это старик на облаке? Вы ещё приведите мне пример – мол, лётчики в небо летали, Бога не нашли.
– А чем плох пример? – Зинаида (решительная, курносая, с косой не хуже Юлькиной, она держала братьев в ежовых рукавицах, только вот Димкиной веры в Господа переломить не могла)
– А тем, что наивно это. Бог есть всё. Он во всём. И искать его в небе бессмысленно. Точнее – ничем не лучше и не хуже, чем в себе, например.
– Отец Николай, признание идеи Бога умаляет достижения самого человека. Мы – страна безбожников. И тем не менее Днепрогэс и Магнитку построили мы. Мы освоили Арктику и заставили плодоносить пустыни Азии. По логике, существуй Бог, он должен был бы всеми силами мешать нам, отказавшимся от него, – как ни крути, а спор девчонка вела умело и напористо. – Но мы сделали всё это. А тем, кто кричал о вере в Бога, он и не подумал помогать. Например – отбиться от фашистов. И кстати – у них на пряжках написано «С нами Бог!» Но победим мы, а не они.
– Человек не может знать, чего хочет Господь, – возразил отец Николай. – Может, всё это его замысел? И наше безверие, и…
– Тогда с тем же успехом можно поклоняться ветру или небу, – пожала плечами Зинка. – Я вон братцу своему всё твержу, твержу…
Я чуть поотстал (мы шли без строя и без особой опаски, места насквозь знакомые) и пристроился к Димке. Он легко пёр на плече солидную «зброёвку» и вопросительно взглянул на меня.
– Дим… – я помедлил. – А всё‑таки… почему ты… веришь? Нет, ты не думай, я не отговаривать тебя хочу, я просто… интересуюсь.
– Потому что я видел Господа, – просто ответил Димка. Я слегка обалдел – даже для меня это было то ещё заявление. А Димка, увидев мои спятившие глаза, улыбнулся немного застенчиво: – Не, правда… Я маленький был совсем… ну, может, не совсем, восемь лет… И утонул. Один купался, ну и… А потом увидел… человек такой. Как в книжке рисуют… в Библии, у бабушки была… Он меня вынес на берег. И по голове так погладил, а потом сказал: «Беги домой. И один больше не купайся.» Я тогда и попросил отца Панфила – у нас был такой священник – чтобы он меня тишком окрестил… А потом решил – не буду скрываться, и всё.
Димка не выглядел ни чокнутым, ни юродивым. Он здорово играл в футбол консервной банкой, стрелял и вообще. Я подумал и спросил:
– Ну а как же… Тогда правда неувязка… Немцы же в бога верят…
– Не верят, – покачал головой Димка и его лицо закаменело. – То есть… может, кто‑то думает, что верит. А самые страшные не верят. Борька, я сам видел, как они людей в жертву приносили. Не просто убивали, а в жертву приносили. Один стоял на крыше и бросал вниз детей… маленьких… а их внизу ловили на штыки и подкидывали, а потом выложили из тел такой знак, как у эсэсовцев…
«Зиг‑руна, – холодея, подумал я. – Руна победы… древний обычай, его уже даже викинги не практиковали…"Я и раньше читал, что эсэсовцы были язычники, но чтоб вот так…
– И отца Панфила… – Димка сглотнул. – Они его вниз головой на дверях церкви распяли. И что‑то такое пели…
Я снова отошёл в сторону. И потихоньку перекрестился… а потом вздрогнул, поймав на себе взгляд.
Это был отец Николай. Он уже перестал спорить, улыбнулся мне и подошёл. Просто зашагал рядом. „Может, рассказть ему всё? – вдруг подумал я. – Всё‑всё… Но зачем? Чем он поможет? И не поверит он. Да и кто бы тут поверил…“ И я вместо рассказа тихо попросил его:
– Отец Николай… не сердитесь на них. Они просто не понимают…
– Я и не думаю сердиться, – он продолжал улыбаться. – И Господь не сердится на них. Как Он может сердиться на тех, кто юные годы свои кладёт на алтарь Отечества? Кто заступил дорогу бесовским полчищам? А что они говорят… – священник как‑то легко рассмеялся. – Если скажет человек, что делает дело именем Божиим и сделает зло – Сатане отойдут его дела. А кто скажет, что Бога не нужно ему и сотворит добро – Господь примет сделанное и возрадуется…
И отец Николай перекрестил меня.
26
Мальчишку звали Ким, Кимка. Сокращённо от „Коммунистический Интернационал Молодёжи“. Глупость, но получилось красиво. Ему было где‑то лет тринадцать, но держался он совершенно как взрослый – спокойно сидел на пне, покуривал самокрутку и объяснял, водя карандашом по листку блокнота Сашки:
– Вот тут посты. По обе стороны полотна. И у обоих концов моста – тоже. Каждый раз, как состав пропустить, сапёры ходят в обе стороны. Смотрят внимательно, прямо землю роют, серьёзно, если что подозрительным покажется. График выдерживают во, – он показал большой палец. – Минута в минуту. Шестого пойдёт особый эшелон. Я в пристанционке полы мыл, Райзбах – это начальник охраны – ужрался и какому‑то полицаю – не нашему, а тоже фрицу – говорил. И что его к награде представили за то, что диверсий на его участке не бывает, и про этот эшелон. Они не знают, что я немецкий хорошо понимаю. Я до войны его любил, хоть только год учили, но я сам занимался… В пять сорок через мост пойдёт.
– С чем эшелон? – уточнил Сашка. Ким пожал плечами:
– Не знаю. Но думаю – или танки, или горючка, или отборная пехота. А то и всё вместе. Я как про это узнал – сразу в почтовый ящик определился и вас ждать стал.
– Они точно не знают про твой немецкий?
– Точно, – кивнул Ким. – Они сперва проверяли по‑разному. Но я же готов был…
– Хорошо, – Сашка встал с пня и вдруг нагнулся: – Э, а это что?
– Это… – Ким смутился и плотнее запахнул рубашку. – Ну это…
– Да ты что, дурак, что ли? – Сашка выловил из‑за ворота ярко полыхнувший галстук. Юлька ахнула. – Да тебя ж на нём и повесят!
– Ну и что?! – вдруг вспыхнул мальчишка. – Меня перед самой войной приняли! Отец и старший брат на фронте… а мама тут умерла… я у этих гадов полы мою, так что ж теперь – ещё и от себя прятаться?! Не дождутся!!!
– Кимка, – Сашка, как взрослый, взял его за локти. – Кимка, дурачок… Ты же ценный человек. Может, самый ценный наш агент. А если сгоришь из‑за этого? Как герой сгоришь, я понимаю. А сколько дел не сделаешь? Смотри, у меня номер на руке. Мои тоже все погибли. Вон Борька стоит. Его тоже заклеймили. Нас в поезде возили, чтобы партизаны его не взорвали. Так мы ж на охрану с голыми руками не бросались. Ждали. И дождались – бежали.
Мальчишка сопел. Потом нехотя сказал:
– Ладно… я сниму… А вы мост с эшелоном взорвёте?
– Взорвём, – процедил Сашка. – Я не я буду. Взорвём…
…‑ Мда, – Хокканен почесал нос. – Это было бы дело. Даже не в эшелоне смысл. Мост… Капитальный, раньше, чем через неделю, они его не восстановят, а значит – на других ветках перегруз и пробки. Только ведь пробовали.
– Мы пробовали? – спросил Сашка.
– Не мы, какая разница? – капитан вздохнул и нехотя добавил: – Последний раз спецгруппа пробовала, из Ленинграда. По реке ночью подобрались. А там сети и мины… А по суше к нему и вовсе не подойдёшь. Нет, мост надо оставить. Эшелон попробуем взорвать на следующем перегоне, уже хорошо…
Мы сидели в командирской землянке – командир отряда, начальник штаба, командиры взводов, командир отделения разведки. Пили чай – настоящий, с сахаром вприкуску – и мозговали. Я тоже был тут – под копирку перепечатывал в сороковой раз сводку Совинформбюро. Сначала меня это развлекало – печатать на машинке было нетрудно после компьютера, но чудно. А теперь болели пальцы и хотелось спать, но мне надо было набить ещё пять закладок. Сводки врали, судя по ним, мы уже перемололи всю немцкую армию и сражались с ополченцами и наёмниками. Утешало, что немцы в своей пропаганде врали тоже, а люди охотней поверят тому, что им даёт надежду.
– Вот тут взорвём, – Хокканен что‑то показывал на карте. – Тут подъём, ход они замедлят, но зато по обе стороны склон, закувыркаются…
– До войны дорожники с этого склона мальчишек на дрезине катали, – сказал кто‑то из комвзводов.
Я перестал печатать. Посмотрел на свои руки. Шевельнул пальцами. И медленно спросил:
– Товарищ командир отряда… разрешите обратиться?
– Закончил? Это – молодец, хорошо, – Мефодий Алексеевич улыбнулся. – Садись чайку попей, да спать иди…
– Нет, я не закончил… – я замотал головой. – Я знаю, как взорвать мост с эшелоном. Честное слово – знаю!!!
* * *
Штурмбанфюрер Клаус Шпарнберг, не отрываясь, смотрел на плывущее по воде пламя. На станции истошно орали раненые. Остаток моста ещё подрагивал… или это казалось в поднимающемся от пожара горячем воздухе.
Эшелон с высокооктановым бензином для самолётов, восемью танками Т‑IV, маршевой ротой танковых экипажей был уничтожен полностью. Если кто‑то и выжил, то – единицы, а техника не уцелела вообще. Но хуже всего, что мост – артерия, одна из важнейших артерий тыла группы армий „Север“! – превратился в ничто. В пожар.
Шпарнбергу показалось, что остаток моста – это язык. И этот язык мелкой дрожью дразнит его, Клауса. Он передёрнул плечами.
Мимо пронесли носилки. Штурмбанфюрер узнал майора Райзбаха, начальника охраны моста, с которым они месяц наза обмывали награду майора за отражение нападения диверсантов. Только через несколько секунд Шпарнберг понял, что голова майора не на плечах, а поставлена на грудь. Оторвало… Ну ничего, всё равно её оторвали бы, с мрачным юмором подумал эсэсовец. Хотя… если подумать… майор не так уж и виноват. Никто не мог предвидеть того, что случилось – этой типично русской изощрённой хитрости.
Охрана даже не поняла, что происходит, когда мимо неё на бешеной скорости промчалась чем‑то гружёная дрезина, спущенная с подъёма в двух километрах от моста. Да если бы даже охрана знала, чем загружена дрезина, сделать ничего не успели бы. Кто‑то произвёл расчёты с профессорской точностью – скорость, время прохода состава (оно было известно русским!!!), место встречи… На дрезине было не менее полутонны тротила. Она врезалась в тендер перед паровозом как раз посередине моста – и сработал ударный взрыватель. В наступившем за этим хаосе – иначе происходившее на станции и назвать было трудно – никто и не подумал, конечно, искать партизан, совершивших акцию…
– Клаус! Клаус!
Штурмбанфюрер обернулся. Лотта спешила к нему – лицо перемазано гарью, она локтем отпихивала ЭмПи и что‑то держала в руке. Подбежав, женщина протянула это – и это оказалась бумажка, измятая, грязная, но с хорошо читаемым текстом.
– На станции их много, откуда взялись – непонятно, – Лотта кривила губы. – Это партизаны, Клаус. Мы мало вешаем.
– Что тут написано? – Клаус знал разговорный русский неплохо, но читал гораздо хуже. Лотта снова взяла бумагу.
Дали мы вам жизни, гадам!
Бить фашистов каждый рад!
Долго будет сниться гадам
Партизанский наш отряд! –
По бокам были нарисованы красные звёзды, а ниже – странный знак: рука с разведёнными вилкой пальцами. И подпись: " „Шалыга“ – от всех наших!»
– Странно, – услышал Клаус чей‑то голос, – знак внизу напоминает знак европейского Сопротивления. [Сопротивление – общее название многочисленных организаций, в 1939–1945 г.г. боровшихся в Европе против гитлеровской оккупации. Общим их символом была латинская буква V, а в быту – разведённые в виде этой буквы пальцы. ] Для России он нехарактерен.
Клаус и Лотта обернулись.
Высокий блондин в камуфляже стоял совсем рядом с ними в излишне свободной позе, и тёплый ветерок трепал его слишком длинные волосы. Клаус обрадованно выдохнул:
– Айзек! Ты вернулся!
– Рад тебя видеть, хотя ситуация, как я вижу, не располагает к радости… Вы прекрасны, как майская роза, Лотта… Мда, подумать только, мы с ребятами уже настроились отдыхать в Португалии… И кстати. Чем больше вы вешаете, тем чаще будут происходить подобные вещи.
– Эти недочеловеки, проклятые дикари, понимают только такой язык! – Лотта оскалилась, как большой, красивый и опасный зверь.
– Очень может быть, – кивнул камуфлированный. – Но именно потому, что они недочеловеки, им не занимать хитрости и изворотливости… Насколько я могу судить – операция великолепная. И по замыслу, и по исполнению.
– Тебе хорошо шутить, Айзек, – Шпарнберг вздохнул. – А я отвечаю за безопасность этого огромного района. И я уже доложил, что партизанских отрядов тут больше нет – только мелкие группки бандитов, неспособные…
– Ну, это ты поспешил, – Айзек улыбнулся, его зубы блеснули алым от огня. – Мы их найдём и уничтожим, это моя любимая работа. Вопрос только в том, сколько на это понадобится времени… и что ещё смогут наворотить за это время твои способные оппоненты… Странноватый всё‑таки значок. Может быть, у них в отряде какой‑нибудь европеец?.. Да, Клаус. Отдай распоряжение, чтобы моим людям нашли местечко где‑нибудь в Гдове. Домик на окраине, знаешь ли… – он повернулся к разрушенному мосту и засмеялся: – О бог мой, но какова изобретательность! Для меня будет наслаждением их уничтожить!
27
Отец Николай и Кимка висели рядом. Их можно было различить только по росту и сложению – оба тела сильно обгорели. Кисти рук у повешенных были отрублены, между ног всё сожжено, глаза выдавлены. Шею отца Николая охватывала цепочка его креста. Шею Кимки – галстук, ярко‑алый на чёрном.
Отца Николая повесили на цепочке креста. Кимку – на галстуке.
Мы стояли под виселицей и молчали. Я перекрестился – ребята даже не обернулись на меня. Юлька смотрела глазами такими же чёрными, как и тела погибших. Женька чуть покачивался и моргал. Сашка молчал, только как‑то посвистывал сквозь зубы. Лиц остальных я не видел. А своего не чувствовал – оно онемело и стало чужим.
– Вот так, значит, – сказал наконец Сашка и повёл плечом, поддёргивая ремень ППШ. Оглянулся на собравшихся людей: – Кто это сделал?
– Эсэсовцы и сделали, – подал кто‑то голос. – Батюшка пришёл, говорит – меня берите, а мальчонку отпустите… Они в смех и обоих в дом затащили. А длинный такой, худой, говорит: мол, молись, святоша, пусть бог спасает тебя и мальчишку…
– Их мёртвыми повесили? – спросил Сашка, и в голосе его была надежда. Уже другой голос ответил:
– Да нет, оба живые были, когда сюда их притащили, только не своими ногами уже шли… – и ещё один голос истерически закричал:
– Уходите! Уходите отсюда! Они ж опять придут, они всю деревню спалят! Вы там воюете, а нам да нашим детям…
Сашка выстрелил, и толпа раздалась от тяжело упавшего мужского тела.
– Кто ещё хочет что сказать? – голос Сашки был чужим. – Кто ещё своими соплями Советской Власти на жалость капать хочет? Кто ещё хочет победы за печкой подождать? Подай голос, ну? – ответом было ошалелое молчание. Сашка убрал «штейр» в кобуру и сказал: – Эти люди за вас погибли. За то, чтоб вы на своей земле свободными жили. Знали, что погибнуть могут. И всё равно боролись. А вы… – он обвёл сельчан взглядом. – Вы трусы. Все трусы. Видеть вас противно.
Он подошёл к виселице, достал финку и, привстав, начал пилить верёвку, на которой висел Кимка. Я подошёл к нему и придержал чёрные ноги. От Кимки пахло гарью, как от духовки, в которой что‑то сожгли, под моими пальцами кожа потрескивала. Мы сняли его, другие ребята – отца Николая. Сашка, стоя на коленях, развязал узел Кимкиного галстука и молча повязал его себе на шею под гимнастёрку. Потом встал.
– Их надо похоронить, – сказал он толпе. – Слышите? Я знаю, что их запретили хоронить. Но если я сюда загляну и не увижу их могил – я сам. Слышите, вы?! Сам вашу деревню сожгу. Дотла… Пошли, ребята…
…Мы опоздали. Почему‑то я думал именно так: мы опоздали, хотя некуда нам было опаздывать. В Вяхирево мы зашли, чтобы забрать отца Николая, задержавшегося там по каким‑то своим религиозным делам, а заодно дать задание Кимке. И уже на месте узнали, что произошло.
Зондеркоманда ворвалась в деревню на слеудющий день после взрыва моста на одноимённой станции Вяхирево, недалеко от деревни. Хватали всех, без разбора, волокли в бывший клуб и били. Именно тогда на Кимке обнаружили галстук. Ну а там, конечно, вспомнили, что этот мальчишка мыл полы на станции.
Тогда остальных отпустили, а за Кимку взялись всерьёз. Его пытала женщина – красивая и молодая. Мальчик кричал так, что в клубе полопались стёкла. Но ничего не сказал и никого не назвал. Тогда отец Николай, которого спрятали в одном из подвалов, вышел и сделал глупость. А по‑другому он поступить, наверное, не мог.
Сейчас зондеркоманда стояла в восемнадцати километрах от Вяхирево, в деревушке Пеньки…
– Значит так, – Сашка помолчал и гулко выдохнул. – Три мотоцикла. Вездеход. Два бронетранспортёра. Не меньше тридцати человек. Будем считать – сорок. Нас десять. Вопрос стоит так – пропустить их, пусть едут. Кто за, того я сразу застрелю. Если кто скажет, что надо идти в отряд и совещаться, я его застрелю два раза.
– Я участвую, – сказала Юлька. Ответом было молчание. Борька кивнул.
– Я так и думал, что все за. В общем так. Или мы их уничтожаем, – он обвёл всех взглядом снова, семерых мальчишек и двух девчонок, – или умираем сами. Они отсюда уйти не должны… Вот тут, – он носком сапога разровнял песок, достал финку, – поворот. Впереди будут мотоциклы, конечно. Потом транспортёр, вездеход, опять транспортёр. Скорость они сбросят. Вот тут… ты, Димка, на тебе мотоциклы, они будут совсем рядом. С тобой Кирка и Пан. Зин, на тебе вездеход, водила точнее. Что с транспортёрами делать… – он задумался, и тут я подал голос:
– Транспортёры мне оставь… Жень, пойдёшь со мной? – Женька кивнул. – И ещё…
– Меня возьми, – сказал Гришка. Я кивнул:
– Хорошо.
– Что придумал? – спросил Сашка.
– Сюрприз, – я криво усмехнулся. – Нужны две «лимонки»… и восемь толовых шашек. Есть?
– Конечно. А сработает?
– Конечно, – невольно передразнил я Сашку…
…В отношении порядка выдвижения Сашка не ошибся. Впереди шли три здоровенных «цундапа» с люльками, из которых торчали пулемёты – один посреди дороги, позади два по обочинам. Потом – транспортёр с легионерами, вездеход и ещё один транспортёр. Большая сила – достаточно большая, чтобы партизаны сто раз подумали, прежде, чем нападать.
Но в моё время таких, как мы, зовут коротко – «отморозки». А уж каким тоном это произнести – решайте сами.
Мы лежали, наверное, ближе всех к дороге, потому что я не хотел рисковать с длинными верёвками. Именно на верёвках висели над дорогой гранаты – «лимонки», к которым бинтом были примотаны по четыре толовых шашки. Под бинт я натолкал гальки. Чеки держались на соплях – достаточно было сильного рывка, чтобы «подарки» полетели вниз. Хотелось надеяться, что Женька и Гришка сделают всё хладнокровно. Гранатами была заминирована и противоположная от засады сторона дороги – мы поставили в кустах пять штук на растяжках, потому что немцы должны были броситься именно туда. Если кто уцелеет в первые секунды нашей атаки…
Я повернулся на бок, уперся ногой в корень, а спиной – в другой, чтобы было удобнее стрелять. Откинутый приклад вдвинул в бедро.
Первый транспортёр вьехал под гранату. Я скосил глаза – второй тоже вползал на цель.
– Давай! – крикнул я, уже не заботясь о секретности. И начал стрелять в вездеход.
Люди умеют жалеть. Люди должны уметь жалеть. Даже на войне. И если они не умеют этого делать – и гордятся этим – пусть не жалуются, что их не жалеют тоже.
Восемьсот граммов тротила с галькой, плюс «лимонка» – это не шутки. По‑моему, из бронетранспортёров никто так и не появился. Вот что бывает, ко‑гда не прикрываются сверху… Что‑то ещё взрывалось и грохало, но в нашу сторону уже выскочили двое – молодой парень в расстёгнутой куртке, с пистолет‑пулемётом – и длинный офицер с пистолетом, без фуражки. Молодой наткнулся на меня, когда я, встав на колено, менял магазин; я тут же бросил ЭмПи и, всадив финку парню в солнечное, спросил, глядя в умоляющие глаза:
– Круто, правда?
– Борь‑ка‑а!..
Я обернулся. Офицер, сбивший Женьку ударом ноги, обернулся и выстрелил в меня – я нырнул вбок на миг раньше. Но успел – как будто молния вспыхнула! – узнать того самого эсэсовца, который допрашивал меня в самом начале вместе с той красивой сукой. Будущего владельца имения…
ТАК ВОТ КТО КИМКУ! ВОТ КТО ОТЦА НИКОЛАЯ!!!
Я взревел и, перекатившись через плечо, выстрелил в него из пистолета. Следующее, что я увидел – граната на длинной ручке, из которой шёл дымок. Граната лежала прямо у меня перед лицом…
…Юлька что‑то говорила, но я не слышал. У меня в голове бесконечно и мучительно грохотал взрыв, и это было так больно, что я замычал и зажал руками виски. Голова не держалась и падала, Юлька придержала её ладонями. Неподалёку дымилась небольшая воронка.
– Где офицер? – спросил я и не услышал себя. И Юлька, кажется, не услышала, потому что помотала головой (у меня внутри всё перевернулось от этого её движения) и начала помогать мне подняться. У меня подламывались ноги и ухало под сердцем; при каждом уханье мозги падали в горло и я икал. Кажется, я успел перекатиться за корень сосны, но граната меня всё равно контузила. И, судя по всему, здорово. Я попытался повторить вопрос, но у меня получилось какое‑то тяжёлое мычание – у Юльки даже лицо от жалости исказилось. «Господи Боже, а вдруг это навсегда?!» – с ужасом подумал я, плетясь к дороге на плечах Юльки и Женьки.
Убитых у нас не было. Гришке пуля сорвала волосы и кожу над правым ухом, Димке пробило навылет правое плечо. Около горящих машин лежали трупы легионеров – немцы ехали толко на мотоциклах и в вездеходе. Они, впрочем, тоже были убиты, ушёл только тот офицер – а он‑то, судя по всему, и был «шишкой». Около вездехода валялся труп женщины – серая юбка задралась, открыв красивые длинные ноги в узких сапогах на ажурном чулке, из правой руки выпала рукоятка ЭмПи. Густые волосы склеили кровь и мозг – кто‑то попал ей почти в упор над левым глазом, разворотив голову – но я всё‑таки узнал лицо. Подошёдший Сашка, улыбаясь, указал на труп, что‑то сказал – я осторожно кивнул, хотя ничего и не услышал.
Что он говорит – было ясно.
«Вот тебе и имение с рабами, сука,» – подумал я. Мне хотелось сказать это вслух, но язык не ворочался. Но когда Макс и Олег Кирычев, дождавшись, пока девчонки отойдут за вездеходы, встали по сторонам убитой и начали мочиться на неё, пересмеиваясь и что‑то говоря, я всё‑таки отвернулся.
Мне и так было физически тошно. До такой степени, что я не сопротивлялся, когда меня уложили на собранные быстренько носилки.
28
Как назло, слышать я начал именно в тот момент, когда Мефодий Алексеевич подготовил для нас особо изощрённый загиб. В ушах щёлкнуло, страшная боль расколола голову, я схватился за виски и…
– … вашу!!! Вы бойцы или это – банда?!А если бы вас это – побили на х…р, это как тогда?!А кто приказ это – отдавал?! Вы это – разведка! Раз‑вед‑ка, б…дь, это глаза и это – уши, а не кол – это – в жопе!
– Ойрадигосподабогамефодийалексеевичрадихристапомолчите… – прохрипел я и, сжимая голову, сел на пол: – Уууу… ууу…уй, б…я… ууйй, как ббоооо… нннааа… уйуйуй… – я застучал в пол землянки каблуком ботинка, Юлька и Сашка присели рядом, Юлька прижала мою голову к груди, а Сашка зачем‑то перехватил руки и начал их тереть. Дальше я плохо помню, потому что в себя пришёл, когда кто‑то сказал у входа в нашу землянку:
– Арестованные, на хозработы.
Это немного смешно, но наше командование, разозлившись, посадило всё отделение под арест! На десять суток. Работ по лагерю хватало, и над нами покатывались, потому что обычно мы от них были избавлены, зато теперь отдувались по полной. Правда, это не касалось Димки – он был всё‑таки раненый – и меня.
Мне было плохо. Куда хуже, чем в те дни, когда мне продырявили бедро. Голова болела так, что я не мог выдержать и стонал – совершенно непроизвольно. Особенно сильной боль становилась под утро. Один раз я во время такого приступа обделался по полной, а мочился в штаны раза три или четыре. Мне не было ни стыдно, ни неудобно – только больно, и в конце концов я перестал различать день и ночь, а делил время так: ОЧЕНЬ больно – можно терпеть. Говорить было больно. Глотать больно. Двигаться нестерпимо больно. Я глючил и, кажется, бредил своим прошлым – хорошо, что это именно как бред и воспринималось. Мефодий Алексеевич и даже Хокканен приходили несколько раз – командир даже сидел подолгу возле нар и вроде бы говорил, чтобы я не умирал.
Наверное, я в самом деле плохо выглядел. Лучше мне становилось, когда Юлька устраивалась рядом полулёжа, клала ладонь на лоб и начинала что‑то напевать. Я почти видел, как боль – мне она представлялась бесформенным чудищем, усевшимся на голову и запустившим в мозг комариный хоботок, я даже несколько раз просил со слезами: «Прогоните его, пожалуйста, прогоните!» – прыжком убиралась в тёмный угол…
Я выбрался из этого состояния каким‑то прыжком, сразу. Просто открыл глаза и понял, что голова не болит. Я был весь мокрый от пота, дико хотел пить. В землянке темно, сонно дышали ребята, а Юлька, держа ладонь у меня на лбу, тихонько напевала:
Во лугах вода
Разливается,
Во поле трава
Расстилается,
Бочка с мёдом
Катается,
Зять у ворот
Убивается:
– Тёща, встань!
Отопри ворота,
Отопри широки!
Отдайте моё,
Моё суженое,
Моё ряженое,
С добрыми людьми
Запорученное…
– Юль, дай попить, – попросил я.
Попить мне принёс Сашка, потому что Юлька плакала. Вообще все перебудились, поднялся шум, ребята смеялись, зажгли свет, в землянке у нас перебывало пол‑отряда (вторую половину не пустил явившийся в середине этого бардака Мефодий Алексеевич) и, когда всё угомонилось, а Юлька ушла в загородку за брезентовой занавеской, где они обитали с Зинкой, Сашка, улёгшийся рядом, тихо сказал:
– Она все пять дней от тебя не отходила, представляешь?
Он умолчал о том, что и сам редко отлучался, только по служебным и физиологическим надобностям. Это я узнал потом, от других ребят.
А Хокканен, пришедший утром, оставил на столе для оружия полный котелок сотов с мёдом…
…Контузия не оставила после себя никаких последствий, чего я больше всего боялся. Но ещё несколько дней Мефодий Алексеевич настрого запретил мне заниматься даже просто боевой подготовкой («И думать это – не смей!!!»). Если честно, я был даже немного рад. События последнего дня перед контузией были такими страшными, что даже вспоминались с трудом. И в то же время они каким‑то образом окончательно отчеркнули меня от моего прошлого в ХХI веке. Смешно, но мне в самом деле начало казаться, что мои родители пропали в новгородской оккупации, я убежал из города к партизанам, а всё остальное – то ли сон, то ли фантазии… Умом я, конечно, понимал, что это не так, но мне стало легче жить. И на том спасибо.
Я часто уходил на ту старую иву около речного берега, где подглядывал за Юлькой, садился там и просто сидел, даже ни о чём не думая. На третий день такого безделья меня нашла Юлька.
Она просто вышла из зарослей и уселась напротив, придерживаясь рукой за шершавую кору. И я попросил:
– Юль, спой ещё что‑нибудь… как ты мне пела, когда я лежал.
Она не стала спрашивать – зачем спеть, что спеть. Она просто полуприкрыла глаза…
На лён роса пала,
На лён студёная,
Раным‑рано!
Кому роса тёплая,
А мне – холодненькая,
Раным‑рано!
На чужой сторонке,
У чужого батьки,
Раным‑рано!..
Я сидел молча и слушал её голос – как будто в воздухе всплывали искря‑щиеся пузырьки из тонкого ажурного серебра, звенящие изнутри… И, когда она допела, я сказал:
– Спасибо, Юль.
Она не успела ответить, если и собиралась. Меня окликнули:
– Борька!
Мы оглянулись разом. На береговом песке стоял Сашка, придерживавший локтем ППШ.
– Извини, – сказал он, и почему‑то мы смутились от этого простого слова. – Борька, если ты себя хорошо чувствуешь, то… есть дело. Идёшь?
Я соскочил с ивы.
– Конечно.
29
Что сказать ещё? Всё началось заново. Наши отряды активизировали свою деятельность, возник ещё один, новый. Немцы наращивали репрессии. В нашей работе потребность была велика. С Большой Земли несколько раз прилетали Ли‑2, уже настоящие транспорты, со взрывчаткой и боеприпасами, медикаментами и инструкциями. Если бы меня попросили сесть и изложить на бумаге последовательно эти дни, я бы запутался. Они были похожи один на другой. Мы почти не стреляли и совсем не видели живого врага, но всё время куда‑то бесконечно шли, что‑то тащили, разговаривали с людьми, мало и неудобно спали, мало и плохо ели, мало и зло разговаривали, чертили схемы, записывали числа, а я вдобавок в «свободное время» тарахтел на машинке и работал с рацией. Правда, с последним самолётом прислали наконец‑то настоящего радиста, так что хоть от этого я был избавлен в конце концов. Не смог бы я и ответить, что же мы всё‑таки делаем. Но судя по всему, немцам это не нравилось. Во всяком случае в деревнях, сёлах и городках участились выселения, зачистки, облавы, расклейка приказов и заманчивых предложений – а на лес всё чаще сыпались бомбы с этих бипланчиков. Все мечты свелись к желанию поспать хотя бы часа четыре подряд и поесть чего‑нибудь горячего.
Сашка подарил мне швейцарские часы – с компасом и календарём, он снял их с одного убитого на дороге. Если верить этим часам, кончался июнь. Я не верил – мне казалось, что мы уже много лет так живём: не разуваясь, на ногах, но никогда не забывая почистить оружие вечером. Нас кружило по каким‑то лесным орбитам, по тропкам и просёлкам, и мы отчётливо ощущали, что и враг кружится теми же путями, страстно желая одного – выследить и схватить нас. Пока что это у него не получалось, но я лично привык и к мысли, что рано или поздно получится, и тогда…
…Мы с Сашкой сидели на берегу речушки и бросали в воду шишки, загадывая, чья раньше доплывёт до поворота. Юлька стригла нас тупыми ножницами – до нас добралась до последних, остальных они с Зинкой уже обкарнали, призвав на помощь ещё двух девчонок. Вообще‑то это дело было нужное – я оброс очень здорово, а ухаживать за волосами было некогда и негде; Сашка не стригся ещё дольше меня, и его прямые светлые волосы торчали жёсткими лохмами. Наши пряди – его – посветлее, мои – потемнее – плыли вместе с шишками. Судя по всему, Сашка от стрижки ловил настоящий кайф. Мне тоже нрави‑лось ощущать прикосновения пальцев Юльки… хотя ножницы отличались редкостной тупостью… или тупизной? Не знаю, но дёргали они немилосердно.
– А вы злые, мальчишки, – вдруг сказала Юлька. – У вас волосы жёсткие.
– Ты лучше смотри, там вшей нет? – ворчливо спросил Сашка.
– Они от бескормицы передохли, – сердито ответила Юлька. – Я иногда думаю, Саш, почему тебя, такого дурака, командиром назначили?
– Я тоже себе этот вопрос задаю, – согласился Сашка самокритично.
– Он неплохо справляется, – великодушно сказал я. Сашка толкнул меня локтем; я сделал вид, что падаю в воду и грустно сказал:
– Юлька, дюша мой, паучи мнэ ищо ножик тудым‑сюдым кыдат, да‑а?
– И ты тоже балбес, – Юлька довольно беспощадно схватила нас за волосы и несколько раз столкнула головами. – Кинуть бы вас в воду, да вся рыба передохнет.
– Сидели бы вы с Зинкой в лагере, – сказал Сашка, потирая висок.
– Не дождёшься… Смирно сидеть, я ещё не достригла… Жень, ты чего?!
Стиханович, появившийся на берегу, шёл, спотыкаясь и локтем пихая пистолет‑пулемёт. Ощущение было такое, что его контузило взрывом, мы даже рещили, что на лагерь напали и повскакали на ноги.
Женька дошёл до нас и сел на траву. Поднял лицо – белое с синевой. Губы у него прыгали.
– Ты чего? – тихо спросил Сашка. – Женька, ты чего?
– Ребята… – Женька сглотнул. – Ребята, я сейчас рацию слышал… Ребята, фашисты Севастополь… взяли…
Уткнулся в сложенные на коленях руки – и плечи, обтянутые гражданской курточкой, запрыгали в беззвучном плаче.
– Врёшь, – сказал Сашка. – Ты врёшь! Ты врёшь, ссс…
– Это правда, – сказал я. Сашка развернулся в мою сторону, хватаясь за рукоять финки:
– А ты?!.
– Я знаю, – коротко ответил я. – Пошли в лагерь.
… ‑ Последние части защитников города русской воинской славы во главе с генералом Новиковым под натиском превосходящих сил врага отошли на полуостров Херсонес и продолжают сопротивление… Разойдись.
Хокканен как‑то нелепо взмахнул рукой и почти побежал к землянке. Строй продолжал стоять. Я видел, что многие плачут. Максим за моим плечом растерянно и странно безголосо спросил:
– А как же… там же могилы… Корнилов, Лазарев, Нахимов, Истомин… как же они у фашистов… [Имеются в виду могилы адмиралов‑защитников Севастополя, погибших во время Первой Обороны и похороненных на территории города. Величайшим позором современной Российской Федерации является то, что Севастополь передан Украине и в данный момент находится под угрозой захвата уже даже не украинцами – крымскими татарами, открыто заявляющими о своих правах на политую русской кровью территорию и о планах воссоздания разбойничьего Крымского Ханства. ]
– А вот так, – зло сказал я. С чего злиться‑то? Я же знал, что всё вернётся на круги своя… но я злился. Страшно злился! – Может, они там туалеты устроят…
– Повтори! – Максим схватил меня за грудки, его губы побелели. – Что ты сказал, повтори!
– А чего им стесняться, если мы это позволяем?! Руки убери! – я отбросил его пальцы. Максим нацелился мне в ухо, я подбил его ногу и толчком опрокинул на траву.
– Хватит! – Сашка отбросил нас в стороны. – А ну!..
– Всё, – я поднял руки. – Макс…им, прости, я со зла.
– Да ничего, я понимаю, – сказал он и вдруг хлюпнул носом…
…Мы сидели в землянке молча. Снаружи. Это продолжалось уже довольно долго, и я очень хотел, чтобы нам вот именно сейчас опять дали задание… но только такое, где нужно и можно будет стрелять во врага. Наверное, примерно так же думали остальные, потому что Юлька вдруг встала, сжала кулаки, вскинула голову…
…Зовёт она тайно, звучит она глухо,
Но если ударит – то бьёт напролом!
Пчелою свинцовой вонзается в ухо
И красным пылает в ночи петухом!
– и мы уже в который раз зло подхватили, отстукивая ритм кулаками по нарам:
Бей врага, где попало!
Бей врага, чем попало!
Много их пало – а всё‑таки мало!
Мало их пало, надо ещё!
Ещё!
Ещё!
У ребят были озверелые, фанатичные лица. И я чувствовал, что и у меня такое же. Именно в таком состоянии ложатся с гранатами под танк или направляют самолёт на вражескую колонну – когда в ушах колотит тараном: «Ещё! Ещё!! Ещё!!!» И, когда Юлька умолкла, я вскочил:
– Слушайте! Меня слушайте!
Вражеский топор вбит в избы венец…
А ты встань‑повстань, старый мой отец!
И к плечу плечом, не ступить назад,
А ты встань‑повстань, раненый мой брат!
Осветилась ночь, сея смерть вокруг…
А ты встань‑повстань, раненый мой друг!
Над родным жнивьём бешеный огонь…
А ты встань‑повстань, мой усталый конь!
Словно сметный вздох, чёрный дым –
столбом…
А ты встань‑повстань, мой сгоревший дом!
Стук копыт да вой – копья до небес…
А ты встань‑повстань, мой спалённый лес!
Свищут тучи стрел, всё вокруг паля…
А ты встань‑повстань, русская земля!
Ликом грозным встань солнца на восход –
А ты встань‑повстань, вольный мой народ!
[Стихи А.Белянина. ]
30
– Вы, Илмари Ахтович, меня простите, но это немного глупо. Они нас бьют, они наступают, а тут мы им – сдавайтесь, мол! Да они посмеются и нашей листовкой подотрутся, тем более, что бумага у нас фиговая, не мелованная… Мягкая. И кому им сдаваться? Нам? Но они же отлично знают, что мы пленных всё равно расстреливаем. Куда нам их девать‑то?!
Капитан Хокканен сердито засопел своей короткой трубкой и сердито посмотрел на меня:
– Ну а ты что предлагаешь?
– Никаких оскорблений и призывов к сдаче. Вообще никакой политики. Любой солдат, даже солдат победоносной армии, скучает по дому. У большинства немцев большие семьи и своих детей они очень любят. Вот и надо размножить такой текст… – я задумался, ожесточённо потёр нос. – Ну, что‑нибудь типа… только по‑немецки… «Папа, я жду тебя! Когда ты вернёшься из России?» Хорошо бы нарисовать мальчишку или девчонку, но это адский труд… Ещё можно – карту СССР и обозначить, какую часть территории они захватили, только честно – пусть посмотрят, какая это ерунда в сравнении с тем, сколько осталось, и подписать: «Сколько ещё собираетесь воевать?». Где‑нибудь старые контурные карты взять – вон, в школах по сёлам валяются никому не нужные…
– Ну у тебя голова, – признал капитан.
– Я просто читал много…
Около входа в землянку послышались шум, смех и ввалился Сашка. Он был весёлый и вёл, обняв за плечи, Ромку и его приятеля Витюху, которые три дня назад ушли на разведку и запропали так, что мы изволновались. Мальчишки были в своём репертуаре – чумазые, в рванье, босиком, с сумками через плечо и улыбками во всю физиономию.
– Есть хотим! – вместо «здрасьте!» заявил Ромка.
– Сейчас принесу, – хохотнул Сашка. – Подаёшь им, как в ресторане…
– Что нового? – взял быка за рога Хокканен. Ромка пожал плечами:
– Да… – неуверенно сказал он. – Вроде и ничего… Но так поглядишь… – он пошевелил пальцами с обкусанными ногтями. – Шевеление какое‑то… – он похлопал глазами и неуверенно дополнил: – Вроде бы собираются облаву проводить, но точнее не узнали ничего, как ни бились. Наши то ли тоже ничего не знают, то ли боятся сильно…
– Так… – хмуро сказал Хокканен.
– Да ну и ладно, – подал я голос. – Раз агентурная разведка молчит, так мы сходим, прихватим кого‑нибудь и вытрясем всё…
– Никого вы не прихватите, – замотал головой Ромка. – Они только группами ходят… А затевается что‑то точно… В Бряндино рота гренадёров сидит уже три дня. Ничего не делают, просто сидят… Не полиция, не заготовители, не охранные части – гренадёры. Чего им там сидеть? А они сидят. Вон, Витюха даже у одного их лейтенанта гостил.
– То есть как гостил? – не понял Хокканен. – В каком смысле гостил?
– Да ну… – Витюха, до тех пор помалкивавший, махнул рукой. – Я стоял там… ну, около бывшей МТС, где у них техника отстаивается. А тут этот лейтенант, молодой ещё… не, для лейтенанта уже и немолодой. По‑русски так чудно говорит, с акцентом, смешно… Подошёл, заговорил, потом в казарму позвал. Ну, я пошёл, а что, ничего же такого при мне нету…Изнутри посмотрел…Он накормил, шоколадку дал, только мы с Ромкой её по дороге слопали…
– Ностальгируют… – хмыкнул Хокканен. – Мерзавцы… Ты прав был, Борис, насчёт детей… И что, потом отпустил сразу?
– Да я сам ушёл, – Витюха почесал затылок. – Его окликнули, а я потихоньку в окно, оно там открыто было… – мальчишка ещё подумал и поморщился: – Странный он какой‑то… А может, у него правда дома сыновья, как я.
– Почему странный? – я финкой затачивал карандаш, обдумывая текст листовки. Витюха помедлил, снова почесал затылок:
– Да… Вёл он себя как‑то…
Странно – но именно в этот момент у меня словно звоночек в голове прозвонил. И это был звоночек из ТОГО, ПРОШЛОГО БУДУЩЕГО.
– Вёл? – я поднял голову. В землянку как раз спустился Сашка с котелками, но я, встав, показал Витюхе на выход: – Пошли на пару секунд…
– Куда ты его? – Хокканен очнулся от каких‑то своих мыслей.
– Мы сейчас, – отмахнулся я. – Быстро.
– Ну чего? – спросил Витюха, когда мы вышли наружу. Я огляделся и тихо спросил:
– Вить… Только честно, это может быть важно… Этот немец – он тебя… лапал? Ну, как девчонку?
Витюха покраснел сквозь загар и грязь. Кашлянул и спросил:
– А… откуда ты знаешь, Борька?.. – я поморщился, и он продолжал: – Ага, я ещё и поэтому сбежал‑то… Так знаешь… паршиво как‑то. Наверное, он сильно по своим детям соскучился, да и вообще – я же не маленький, чтобы нянчиться…
– Ага‑а… – протянул я. – Ладно, ерунда, выкинь из головы… Иди лопай… Э, капитану Хокканену скажи, что я его прошу выйти, насчёт листовок…
Витюха нырнул в землянку. Я посвистел, сплюнул, поморщился. Да, страна чистого наива… Головы друг другу отрывать умеют ого как, а про такие вещи…
– Борис, ты вообще охамел, – это появился капитан. – Может, ещё свистом меня вызывать будешь?.. Что у тебя с листовками?
– Ничего, Илмари Ахтович, – признался я. – Тут дело в другом. Паскудное дело, кстати, но… но может быть для нас полезным… Вы простите… Вы знаете, кто такие гомосексуалисты?
– А при чём тут… Ну, знаю. Читал.
– А кто такие педофилы?
– Пе… Кто? – Илмари Ахтович свёл белёсые брови.
Я вздохнул.
– Они… ну, в общем, это любители детей. Я сейчас поговорил с Витюхой…
Я коротко пересказал свои подозрения. Точнее, это была уверенность – нам на уроках ОБЖ описывали признаки, по которым можно распознать наиболее распространённые типы извращенцев. Но для капитана РККА всё это оказалось откровением – если бы у него в зубах была бы трубка, он бы её уронил.
– Борис, откуда ты это знаешь?!
– Ну… – я развёл руками. – Я тоже читал. Наверное, больше чем вы. Да тут и не в этом дело… В Германии за это дают пять лет концлагеря, я точно пом… знаю.
– Ты хочешь… – Хокканен сильно взял меня за плечо. – Борис, это мерзко.
– Нет, что вы! – я почти испугался. – Честное ск…слово, я и в мыслях не имел наших младших…нет, нет, Илмари Ахтович, вы не поняли! Но можно припугнуть этого лейтенанта. Взять на понт. Я уверен – это получится… Вот, послушайте…
…Автостанции не было – вместо неё тут оказался машинный двор, который Ромка Витюха назвал МТС. За колючей проволокой различались под брезентовыми пятнистыми тентами угловатые коробки. Церковь сохранилась, но она была закрыта и даже заколочена. А в общем‑то Бряндино предстояло измениться к 2005 году очень мало.
Мы с Сашкой шагали по улице неспешно и уверенно, с оружием и не скрываясь. На нас были чёрные куртки с голубыми обшлагами и воротниками, чёрные кепи, гражданские штаны, своя обувь – и повязки полицейских.
И всё равно мне казалось, что на нас смотрит каждый встречный немец – смотрит и знает, кто мы такие и что нам тут нужно. И дело не в нашей молодости (сопливости, прямо скажем).
Нервы, нервы, нервы… Що з вамы робыть?
– Вон он, – сквозь зубы процедил Сашка. И я увидел, что из здания клуба вышел высокий офицер лет тридцати, козырнул часовому и направился в нашу сторону. Никаких внешних признаков извращенца в нём не было. Впрочем, если бы этот вопрос решался так легко, то у балетмейстеров и руководителей кастинговых проектов не было бы проблем с подбором персонала… а милицейские сводки не так пестрели бы детскими портретами с подписью «РАЗЫСКИВАЕТСЯ».
– Говорить буду я, – так же тихо определил я роли, ускоряя шаг. Офицер шёл навстречу, без интереса скользнув по нам взглядом, и скроил недовольную гримасу, когда я, козырнув, обратился к нему:
– Герр лейтенант, разрешите обратиться?
– Слюшаю, – процедил он.
– Дело такое… – я огляделся. – Вы не подскажете, в какой концлагерь помещают тех, кто трахает мальчиков?
Я оказался прав. Немец побледнел, но тут же постарался взять себя в руки и брезгливо спросил равнодушным тоном:
– О тчом ти гофоришь?
– В частности – о вчерашнем визите побирушки, которого вы угостили шоколадом… но своего не добились. А вот другие случаи… Пересказать вам их? Подозреваю, что и там, откуда вас перебросили, в Европе, вы занимались тем же… Но тут не Европа.
– Руссишшвайне… – он взялся за кобуру, но тут же увидел, что Сашка, словно бы невзначай, целится в него из ППШ. – Ах зо‑о… Кто ви ест?
– Общество по борьбе с извращенцами, – любезно представился я. – Следим за вами уже довольно давно, – я блефовал, но, кажется, удачно. Так как насчёт обыска и концлагеря? Какой печальный конец службы…Насколько мне известно, крипо [Криминальная полиция. Как это ни странно, но на оккупированных территориях германские власти боролись не только с партизанами, но и с уголовниками, спекулянтами, извращенцами, бандитами – короче, со всеми теми, с кем борются «обычные» власти. Этим и занималась криминальная полиция, нередко конфликтовавшая с военными властями. ] к таким вещам относится резко отрицательно. И до концлагеря вас могут и не довезти…
– Ви из криминальполицай? – немец снова побледнел. – О хильф готт…
– Мы не из полиции, – покачал я головой. – И у вас остаются шансы продолжать службу и, если не развлекаться с новыми, то по крайней мере рассматри‑вать фотоснимки старых партнёров… – я видел, что снова попал в цель, у немца перекосился рот.
– Ви ротстфенник вчейрашний малтшик? – он сглотнул. – Но я не трогать… его…
– Во‑первых, вы его трогали, – возразил я. – А во‑вторых, нам просто нужны несколько ответов на несколько вопросов. И всё. Больше вы нас не увидите, разве что – в прицел, но это другое дело.
– Ви… партизан? – немец приоткрыл рот.
– Вопрос первый, – я улыбнулся. – Ваша рота – что она тут делает?
Довольно долго немец молчал. Я занервничал. Если он сейчас взбрыкнёт, то мы погорели. А чувство долга у немца этого времени вполне может оказаться сильнее чувства страха за личную безопасность… Наверное, если бы мы захватили его и вывезли в лес, он бы отказался отвечать. Но в этот момент я и увидел, как в нём словно бы что‑то переломилось – страх перед стыдом пересилил.
– Участие в облафе, – сказал он. – Болшая охот. Кольцо, – он показал пальцами, – фокруг лес…
– Какие силы привлечены? – спросил я.
– Наша ротте. Легионерен… эсти, драй хундерт. Полицай, зо – цвай хундерт. Айн марширен ротте… норге, айн хундерт. Гранатенверфер. Драй панцерваген. [Офицер перечисляет: триста эстонских легионеров, двести полицейских, маршевая рота норвежцев, сто человек. Миномёты. Три танка. ] Фир… – он провёл рукой по воздуху.
– Четыре самолёта, – сказал я. – Что ещё?
– Дас ист фертиг [Этого довольно. (нем.)], – он вдруг скривился в улыбке. – Это будет зегодня. Ви пришли поздно.
Мы с Сашкой переглянулись. Нельзя было подавать вид, что наши угрозы в сущности потеряли смысл. Я заставил себя улыбнуться:
– Что ж, мы приятно поговорили, – я козырнул. – Думаю, вам не захочется продолжать этот разговор снова. Всего хорошего…
… ‑ Он сказал сегодня, – мы с Сашкой быстро шли по выгону за околицей. – Облава, кольцо вокруг лесного массива. Даже с авиацией.
– Надо срочно в отряд, – Сашка ускорил шаг почти до бега.
– Туда и идём… чёрт…
Навстречу нам шагом ехали трое полицейских – один пожилой мужик со впалыми щеками, двое моложе. Мы замедлили шаг, на ходу козырнули… но кавалеристы направили коней нам наперерез, и старший спросил:
– А вы кто такие? Из какого отряда?
Собственно, этот вопрос делал дальнейший разговор бессмысленным. Я улыбнулся:
– Да вы что, дядечка? Вот, смотрите… – я правой рукой полез за отворот куртки, достал блокнот. – Вот… – он нагнулся, и я, обхватив его за шею, всем весом повис на нём, левой рукой вогнав финку под ребра. Сбоку дважды глухо шмякнул «штейр» – Сашка стрелял через карман. Кто‑то застонал. Я стащил тело с седла, оттолкнул его в сторону. Один полицай ещё корчился на траве. Сашка присел, полоснул его финкой по горлу. – Я плохо езжу, – сказал я. – Скачи вперед, я следом, как смогу.
– Нет, – Сашка взлетел в седло. – Борька, скачи сразу к «Ленинцам», предупреди их, чтоб уходили. Потом найдёшь нас… Скачи! – и первым бросил коня в галоп к лесу.
– Хай! – я ткнул своего каблуками. Ударил ладонью по крупу: – Хай‑а!!!
…Я очень спешил и понимал, что опаздываю. Безо всякой пощады подго‑няя коня, который уже начал засекаться, я услышал дальнюю стрельбу – густую и частую – и понял, что это уже ведёт бой чьё‑то охранение. Наше, «Взрыва», «Охотников» или, может, «Ленинцев», к которым я спешу. Сам я пока никого не встретил.
Конь временами засекалс и хрипел, но я бил его каблуками, колотил ладонью, ругался и думал только об одном – не вылететь из седла. Мне казалось, что я загнал его, но, когда мы выскочили на одну из просек, он пошёл быстрее. За собственным дыханием, храпом коня, треском и стуком я не сразу понял, что слышу ещё один звук. А когда разобрался – было уже поздно.
Сперва я не понял, что это за тень мелькнула надо мной. Но когда биплан развернулся обратно, и дымные трассы пуль заключили меня в коридор, я заорал от ярости и досады – и снова повернул в лес. Позади резко бухнуло – на просеку упала бомба или граната. Я пригнулся – толстая ветка прошла над головой…
Дорогу я всегда запоминал хорошо и знал, что скакать мне немало, но не боялся срезать пути. Я пролетел через деревушку, где мне вслед ошалело смотрели те, кто папался на улице. А за околицей, перед полем, самолёт появился вновь. Не знаю, искал ли он меня – вряд ли. Скорей всего, просто патрулировал. Но мне от этого легче не становилось.
Это был ужас. Я мчался галопом, пригнувшись к конской гриве – а он снова и снова крутил виражи, поливая меня из пулемётов. И поле было бесконечным, лес – далеко‑далеко. А воздух ревел и выл… Потом слева с треском разорвалась бомба, я услышал шлепки, ощутил передавшийся мне удар – и полетел наземь через шею закувыркавшегося коня.
Тяжёлое копыто мёртво ударилось в землю рядом с моей головой. Я вцепился в траву и остался лежать. Биплан ушёл за лес. И тогда я побежал.
Временами мне казалось, что бежать больше нельзя – физически нельзя. Куртку и кепи я бросил. Дышать было нечем, воздух лез из лёгких обратно и имел привкус рвоты. Но впереди – а дорога была прямая – не стреляли, и это был хороший знак. Я бежал и бежал, бежал и бежал, ног не чувствовалось совсем и при каждом шаге деревья качались и падали на меня. Потом я заспотыкался – и, когда выправился, то увидел дрожащую в дереве стрелу с широким оперением. Индейцы? Я отшатнулся в сторону, пригнулся и побежал быстрее, хотя это было невозможно… а потом оглянулся. За мной бежали двое. Они походили на ожившие кучи хвороста, и я понял: маскхалаты. Они бежали быстро, и в руках у них были ножи с чёрными лезвиями.
Так я впервые увидел егерей. И, поняв, что раз они не стреляют, то я близко от цели, вскинул ЭмПи…
…и они растаяли. А через минуту меня схватили, повалили – но это были уже наши.
31
Отряд «Ленинцы», подобно нашему «Смерчу», базировался на болоте, куда вела одна‑единственная надёжно охраняемая тропка. Но именно это и оказалось причиной того, что мои действия фактически оказались бесполезными. Немцы знали о нас много – даже слишком.
После того, как охранение доставило меня в лагерь, отряд снялся за какие‑то полчаса. Но этого же получаса хватило егерям, чтобы заминировать выход с болотного островка…
…Миномёт – это мерзкая вещь. Если снаряд, когда он свистит, считай, уже не опасен, то мина извещает о своём приближении отвратительным «ххлююууу», после чего лопается с коротким треском – и чирикают осколки. На краю болота немцы установили не меньше десятка пулемётов и добавочно поливали нас из них – просто наугад и почти непрестанно. Из ста с лишним бойцов уже не меньше трети было убито или ранено. А враг даже не делал попыток прорваться на остров. Зачем?
Командовавший «Ленинцами» человек – я не знал ни имени, ни фамилии, только прозвище – «Учитель» – в такой ситуации просто ничего не мог сделать. Он не мог даже пойти на прорыв – это значило погибнуть на минах и под пулемётным огнём.
Я лежал на самом краю болота, в сырой ямке. Не стрелял, хотя парень в тельняшке под гражданской рубахой, который делил со мной эту ямку, палил из карабина по кустам почём зря. Я его понимал в общем‑то – со злости и от досады. Но мне казалось разумнее поберечь патроны, тем более, что вечерело.
– Ты чего не стреляешь? – спросил в конце концов мой сосед.
– Куда? – я пожал плечами. Мина треснула за кустами неподалёку, парень забулькал перерезанным осколком горлом и опрокинулся на спину. Я нагнулся к нему, но было уже поздно – Вот так, – я подобрал его карабин, устроился поудобнее. Темнело быстро, всплески пулемётного огня становились всё отчётливей. – Ну ладно… – я аккуратно переставил прицел на четыреста метров, нашёл упор поудобнее. – Десять негритят решили пообедать… на Невском встретил их скинхед…и их осталось… – я нажал спуск, и пульсирующе пламя погасло, – …девять…
Впрочем, пулемёт опять открыл огонь почти тут же, и я, пожав плечами, отложил карабин.
– Шалыга! – в ямку свалился вестовой Учителя, парень года на два старше меня. – Слушай, командир зовёт…
…В отряде было три женщины и восемь несовершеннолетних. Забрав девятерых тяжёлых раненых, вместе с десятью легкоранеными и ещё восемью партизанами мы пошли через болото – фактически наугад, привязав к ногам нарубленные разлапистые кусты. В принципе, это было правильное решение – так имелся хоть какой‑то шанс… Почти сорок человек во главе с Учителем остались позади – обеспечивать этот шанс.
Немцы освещали болото позади" люстрами», дававшими мертвенный страшный свет, который скользящими струями ползал по лицам, плечам и спинам, оставляя ощущение мерзкого прикосновения. Холодная жижа доходила мне до груди. Мы шли – ползли – молча, слышалось только трудное дыхание. Кусты на ногах превратились в помеху. Я, если честно, не знал, кто нас ведёт и вообще ведёт ли кто‑нибудь – просто тащился, придерживая рукоятки носилок с каким‑то мужиком, раненым в грудь навылет и думал о своей куртке, которая, конечно, пропадёт в лагере. Я старался думать только о куртке и больше ни о чём.
Мы брели и брели. Шедшая передо мной женщина сделала шаг в сторону – просто качнулась от усталости – и её не стало, только чавкнуло что‑то в темноте, я даже дёрнуться на помощь не успел. Постепенно стало рассветать, в нашей цепочке поднялся лёгкий шум, и я увидел впереди, за чахлыми кустами и пьяно стоящими деревьями плотную стену – там было сухо. Мы бы ускорили шаги, но это было просто невозможно физически.
Мы не смогли их ускорить, когда по нам со стороны леса по нам ударили пулемёт и несколько пистолет‑пулемётов, а потом послышались глумливые выкрики на эстонском. Мужика на наших носилках убило в голову, а через секунду – убило и того, кто их тащил вместе со мной, и я бросил носилки и продолжал брести, пригнувшись и бормоча:
Если бы я умел видеть,
Я бы увидел нас так,
как мы есть –
Как зелёные деревья с золотом на голубом…
А рок‑н‑ролл, б…я, мёртв, а мы – ещё нет…
Мальчишка лет десяти тащил из трясины оступившуюся женщину и кричал: «Мам, мам, мам!» – а она просила: – «Отпусти, Колюшка, не вытянешь, отпусти…» Я рванулся к ним, но мальчишке снесло полчерепа, он упал на мать, и они сразу пошли на дно. С берега стреляли. Я шёл и знал, что дойду. Прямо передо мной девчонка в разорванной рубахе с надрывным матом бросила гранату, та не долетела, пули разворотили девчонке живот, она упала в воду и долго не тонула – волосы расплывались на поверхности, а в них сверкало золото восхода, и это было невероятно красиво… Я присел и почти пополз, не глядя по сторонам. Пули свистели и вжикали вокруг. Мне оставалось немного. Я видел уже ствол пулемёта – это был старый «виккерс‑максим» – на треноге, с водяным охлаждением. Я сдёрнул с пояса гранату – немецкую осколочную – и метнул её, а сам не остановился и не пригнулся. Коротко ахнуло, и я выбрался на сушу.
Около опрокинутого пулемёта лежал ничком, раскидав руки, огромный легионер, из раздробленного ниже каски затылка натекла кровь. Другой, корчась на боку, тянулся к глянцевой кобуре на поясе – я ударил его по запястью и нажал спуск, но ЭмПи забило грязью. Тогда я упал на колени, отбросил его руки и начал, схватившись за уши, бить его затылком о станину пулемёта, пока он не перестал корчиться. Ещё один, появившийся из кустов, пытался сменить магазин, а я поднимался на ноги и нашаривал финку, и у нас обоих тряслись руки, но у него – от страха, а у меня – от злости. Не знаю, как бы там получилось – выбравшаяся из тех же кустов женщина, за спину которой цеплялась крохотная девочка, воткнула легионеру в спину штык – она держала в руках карабин, как держат вилы, и штык со щелчком вылез из груди, легионер выпустил оружие, схватился за красное жало и повис на нём, застрявшим в грудине…
…Я пришёл в себя на обочине лесной дороги. Больше никого не было, неподалёку рычал мотор, я упал в траву и долго смотрел, как проезжает маленький танк, а следом – грузовик с полицаями. Потом я разобрал ЭмПи и едва смог очистить демпфер. Проверять оружие было опасно, я пошёл следом за танком и через полчаса вышел туда, где он раздавил людей, выбравшихся на дорогу. Я даже не знаю, были ли это наши, или просто кому‑то не повезло оказаться на лесной грунтовке. Сколько тут погибло человек, тоже было непонятно. Но как минимум двое детей, потому что на обочине лежали перемешанные и перекрученные останки – туда их отбросило – и две головки, девочки и мальчика лет по восемь, совершенно уцелели и торчали из этого месива, глядя на меня глазами, в которых застыл невероятный, невысказываемый словами ужас.
– За что? – спросил я. – За что, сволочи?.. – я поднял голову и спросил: – Господи, за что?
И пошёл дальше…
…Танк стоял на обочине, и танкисты – молодые парни в расстёгнутых комбинезонах и заломленных на непослушных белых вихрах беретах – сидели на башне и смотрели на меня. У одного в руке была губная гармошка – как у Ромки. Я подумал, а жив ли наш лучший разведчик? Подумал и шёл. Если бы там были полицаи, я прыгнул бы в кусты, но грузовика не было. Я бросил ЭмПи, скинул пояс с пистолетом, финкой и амуницией и поднял руки:
– Нихт шиссен, битте! [Не стреляйте, пожалуйста!]
Главное, чтобы не начали стрелять. Попытайся я их снять, один наверняка успел бы кувыркнуться в башню, а там два пулемёта… Главное, чтобы не начали стрелять… Их двое, им лет по двадцать, но они не ожидают – особенно теперь.
– О, – сказал один и засмеялся, – партизан, Хайнрих! – и толкнул своего приятеля. Тот расстегнул кобуру, я снова крикнул, замахав руками:
– Нихт, нихт! Гросс… [Большой. ] сведения… битте, нихт шиссен… информация!
– Комм, кляйн аффель! [Сюда, маленькая обезьяна!] – крикнул, отпуская кобуру, Хайнрих. Я был совсем рядом и начал карабкаться на танк.
Хайнриха я ударил" тигриной лапой» [В единоборствах – кулак с полусогнутыми пальцами. ] в кадык. Первого – «вилкой» в глаза, ощутив, как лопнули его глазные яблоки. Истошный крик… Я выхватил из открытой кобуры «парабеллум» и, ломая зубы, вогнал ствол в открытый рот, нажал спуск – тело с разнесённым затылком рухнуло с брони. Хайнрих смог наконец вздохнуть, но это оказался его последний вздох – я выстрелил ему в лицо из‑под локтя, наотмашь.
Что делать с танком, я не знал, поэтому просто раскурочил всё, что смог, а под сиденье сунул гранату на взводе – из найденных тут же. Ещё я взял сухой паёк – шоколад, консервы, галеты и плоскую фляжку с ромом. Там было граммов триста, я выпил их залпом, уйдя подальше в лес, но впечатление было такое, что я пью воду, и я заел ром, по‑настоящему наевшись впервые за два месяца, потому что паёк был большим, а я был один.
Потом я долго плакал, лёжа между корней сосны, свернувшись калачиком и прижав к себе ЭмПи. Но слёзы жгли – по‑настоящему жгли, не вымывая боли, как это бывает у детей и у подростков. Я просто устал плакать – и уснул…
…Заполдень меня разбудил разговор – говорили по‑русски, но это ещё ни о чём не говорило. Я осторожно приподнял голову.
В каких‑то пяти шагах от меня сидели на выворотне та женщина с девочкой – у неё по‑прежнему был карабин – и мужик с перевязанной головой и немецкой винтовкой.
– Есть хотите? – спросил я.
32
Тётя Лена, Иринка, Демьян Анисимович и я шли через лес по ночам двое суток. Мы не сговаривались, куда идти – просто пошли, каким‑то чутьём. Лично я не знал, куда мог уйти мой отряд, если он уцелел. Они тоже не знали, где могут быть наши – радовало уже то, что не собираются сдаваться немцам. Если бы кто‑то об этом заикнулся, я бы его убил, как убил Сашка того мужика в деревне, который хотел, чтобы мы ушли из Вяхирей и больше не приходили. Наверно, что‑то такое они ощущали, потому что я без слов и негласно был признан командиром. Командир на настоящей войне – это тот, кто может насиловать свои желания и волю других, кто может первым подняться на пулемёт и знать, что люди идут следом. Наверное, и во мне что‑то такое было…
На третью ночь мне приснилась Юлька. Я был привязан к какой‑то раме, а её прямо передо мной насиловали несколько чудовищных существ в немецких мундирах. Со мной тоже что‑то делали, то ли жгли огнём, то ли вообще снимали кожу, но я видел только Юльку и проснулся, давя в себе судорожный крик.
Ночь была рокочущая дальней грозой, душная, угрюмая и напряжённая. Мы ночевали в наспех выстроенном шалаше. Когда я вылез из него, то небо было чистым, звёзды горели неподвижно, а на юге за деревьями на небе полыхало зарево – горел деревня. Я стоял возле шалаша и думал, что мне делать, если все наши погибли. У меня не было сомнений в том, что надо продолжать борьбу и, если понадобится, я готов был стать командиром нового партизанского отряда… но я просто не знал, как за это взяться. Тогда я начал молиться – про себя, Он же всё равно слышит – чтобы наши уцелели и чтобы я нашёл их.
Не знаю, сколько я так стоял. Гроза прокатилась стороной, пахнуло между стволами ветерком, и я вернулся в шалаш и сел около входа, думая, что уже не усну снова… но уснул, и мои спутники меня будить не стали.
– Чего не разбудили? – сердито спросил я первым делом. Демьян Анисимович тихо сказал:
– Не сердись, Бориска… Ты ж себя не видишь, а ты чёрный весь. Так хоть поспал…
– Ладно, – буркнул я и поморщился. Наверное, я и правда фигово выгляжу… Мне было как‑то не до этого, да и всё равно, если честно…
…В этот день около полудня мы вышли на лесистый холм, где лежали переломанные деревья, срезанные и размолотые кусты – а в конце этой полосы, у подножья холма – разбившийся самолёт. Я оставил своих в кустах наверху, а сам пошёл ближе.
Это оказался немецкий биплан. Я впервые видел его так близко, и он оказался немаленьким, даже если учесть, что нос биплана был смят в гармошку и почернел – наверное, там горел мотор, а крылья переломились и лежали кусками вокруг. В передней кабине торчало зажатое тело лётчика – он был мёртв. Вторая кабина пустовала. Осмотрев обломки внимательней, я нашёл следы пулевых попаданий, и много – биплан сбили массированным огнём из стрелкового оружия…
Нам опять повезло с сухим пайком – я достал из машины несколько коробок, а ещё натряс патрон, они подходили к винтовке Демьяна Анисимовича. Меня поражало, как ведёт себя Иринка – девчонке пять лет, а она ни сном ни духом ни на что не жалуется и даже не хнычет, и идёт сама, пока может… Закалка, только… храни Господь от неё, от такой закалки.
Пожевав, я попытался выяснить, куда мы, собственно, забрались, но так ни до чего не достукался – мои спутники мест не узнавали, и я решил, что рискну заглянуть в ближайший по пути населенный пункт. Не могло же кольцо облавы быть таким огромным, мы его наверняка покинули. Дело было за малым – до этого населённого пункта добраться. Сидя на месте, сделать это было трудно, и я подал пример (как всегда), встав первым…
…Около пяти вечера мы столкнулись с людьми нос к носу. Практически так – я раздвинул кусты, и на меня удивлённо воззрились сразу несколько человек. На небольшой поляне собралось не меньше полусотни, белели свежие повязки, тут и там торчало оружие; большинство людей спали тяжёлым усталым сном, что меня извиняло за то, что я не услышал эту стоянку раньше. Не надо было долго соображать, что это наши. А через какие‑то секунды я увидел, что ко мне идёт, наступая на людей и вызывая сонную брань, Сашка, и голова у него перевязана… но его обогнал наш командир – появился откуда‑то сбоку, прижал меня к себе так, что едва не задушил, потом отстранил и сказал:
– Ну вот, живой, Бориска? – и крикнул неожиданно сильным голосом: – Юленька, Бориска пришёл, живой наш Бориска!
– Борь‑ка‑а‑а‑а‑а!!! – услышал я крик, сел около кустов и закрыл глаза…
…То, что устроили нам немцы, иначе как разгромом назвать было нельзя. Из четырёх отрядов уцелели наш и «Взрыв», но сохранили хорошо если по половине численности, вынуждены были бросить запасённое на базах продовольствие и снаряжение и спасаться бегством, прорываясь с боями. Самолёт сбили наши, в том числе – Димка, собственно, он первый открыл огонь по биплану… вот только поздравить его с этим я не смог. И как знать – не для этого ли сберёг его Господь в детстве, когда Димка тонул?…
Наш пулемётчик пропал без вести. В смысле – никто не видел, как он погиб, потому что он остался прикрывать группу из пяти легкораненых, тащивших двоих тяжёлых, одним из которых был раненый в бок и в грудь Илмари Ахтович… ну а в таком случае слова «пропал без вести» могут служить лишь горьким утешением. Не стало и Олега Кирычева – под ногами у него во время боя на прорыв разорвалась мина. Сашка, Макс Самохин и Олег Панаев были ранены, к счастью, все трое – легко. И нашему отделению ещё повезло.
Я помолился за Димку. Это было немного нечестно, и я помолился за всех остальных, без различия. Юлька, всхлипывая, отдала мне мою куртку и галстук.
– Вот… я взяла, подумала, если возьму, то ты обязательно вернёшься… – призналась она.
– Ай‑ай, суеверия, товарищ пионерка, – сказал я.
Мы шли по лесным тропинкам, переходившим в грунтовки и обратно, а временами – вообще исчезавшим. Шестьдесят три человека – все, кто уцелел от нашего отряда и прибился к нему. Восемь человек были тяжело ранены. Радио‑станцию вытащили. Мефодий Алексеевич не распространялся насчёт того, куда собирается идти теперь, но, судя по приметам, мы двигались на северо‑запад. Это меня не очень волновало, если честно – для меня главным было то, что я со своими.
Когда мы остановились на днёвку, нас вызвал командир. Под дубом, временно ставшим штабом, он держал совет с еле шелестящим Хокканеном, тётей Фросей (живой и здоровой) и старшим лейтенантом Карягиным, окруженцем, который командовал третьим взводом. Больше из командиров взводов не уцелел никто, и я подумал зло, что напрасно беспокоился насчёт Виктора и его послевоенной судьбы – в Фергану похожий на Чебурашку молодой лейтенант уже не вернётся. Никто не помнил, как он погиб. Но тут всё было ясно.
Знаете, что самое ужасное на войне? Не то, что гибнут люди. А то, с какой скоростью ты их забываешь. Даже тех, кого звал друзьями. Владимир Семёнович был неправ в своей песне, что…
…мне не стало хватать его только сейчас,
Когда он не вернулся из боя…
Или, вернее, прав. Но это ненадолго. Вот что страшно…
… ‑ Это значит так – плохо это наше дело, – Мефодий Алексеевич вздох‑нул. – И с едой это – плохо дело. И это – вроде как и это бездомные мы теперь.
– Ранетые‑то, Женя говорит, – вмешалась тётя Фрося, – которые тяжко поранеты, они помрут почти все.
– Это ещё как сказать, – прошептал Илмари Ахтович – он курил, несмотря на то, что у него даже пытались силой отобрать трубку.
– Не о тебе речь, Ахтыч, тебя и топором не убьёшь, – отмахнулась тётя Фрося.
– Правда, – сказал Женька. – Товарищ Хокканен выживет, и Аринка с дядей Гошей выживут. А остальные… – он покачал головой.
– Ну, тут что это – поделаешь… – командир тяжело вздохнул, потёр свою гномью лысину, и я уже в который раз удивился, какой запаса прочности, оптимизма, отваги и веры таится в этом человечке. – Планы мои такие, что я про них помолчу. Куда это – поведу, туда и пойдём…
– Если бы моя туника могла говорить, я бы её сжёг… – пробормотал Максим Самохин, кривясь – немецкая пуля раздробила ему запястье, и Женька опасался, что Максим больше не сможет нормально владеть рукой.
– Чего это? – заинтересовался командир. Максим пояснил:
– Это в древнем Риме был полководец Сципион. Его однажды спросили, какой у него план ведения боевых действий. Ну он так и ответил. А туника – это одежда.
– Ну это чего – умный был мужик, – заключил Мефодий Алексеевич. Задумался снова и спросил: – Это – побеждал небось?
– Ну, ни одного сражения не проиграл, – подтвердил Максим.
– То‑то и это – оно, – поднял палец командир. – Одно это скажу – трудно будет – невмочь. Потому объявите это людям – кто чует это – не выдержит – тот пусть оружие это оставит и уходит.
– Ты… совсем… одурел… Алексеич… – в четыре приёма выдохнул Хокканен.
– А по‑моему верно дело, – покачала головой тётя Фрося. – Только чего ж порознь разговаривать? Построить всех и объявить…
– Я против, – покачал головой Карягин. – Вы как хотите, я – против.
– Я тоже, – неожиданно сказал Сашка, упрямо сощурив свои круглые глаза.
– А я это – никого не спрашиваю, – хладнокровно обрубил командир. – И насчёт построить – это верно. Вот сейчас и это – давайте… А ты это, Саш, задержись…
…Мне почему‑то казалось, что никто не уйдёт. Ну, как в кино. Но девять человек, сложив оружие, покинули строй. Правда, они прятали ото всех глаза и молчали, и им никто не говорил ничего, а в молчании отчётливо ощущалось презрение – нас всё‑таки стало ещё меньше.
Я, если честно, не знал, как отнестись к такому решению командира. С одной стороны, оно вроде бы было правильным – зачем нам те, кто внутренне уже смирился с поражением? Но с другой стороны – а если их вот сейчас прихватят немцы?! Сколько они расскажут об отряде? Была ещё и третья – я уже понимал, что Мефодия Алексеевича за такое решение по головке не погладят оттуда. С Большой Земли. Я, правда, пока не видел тут безбашенных людей из НКВД с манией преследования в мозгах и пеной бешенства на губах – таких тоже любили показывать в кино, особенно в новых фильмах. Но, как ни крути, а за роспуск части отряда могут просто расстрелять. По законам любой армии, примеров‑то куча в самых демократических обществах…
Свои подозрения я держал при себе. А вот Сашка подошёл ко мне сразу после «торжественной линейки», как он это построение почему‑то назвал. И выглядел он бледно.
– Борька, – сказал он, оглядевшись, – на, посмотри, – и протянул мне листок бумаги, страничку из школьной тетради.
– Опа! – я прикрыл глаза и потянулся к нему губами. – Саня, какой класс! Ты назначаешь мне свидание?! Я весь твой, я на всё согласен, в любой позе…
– Ты чего?! – он заморгал.
– Проехали, я забыл, что… – я кашлянул и покраснел. Мой современник‑ровесник дебильную шутку понял бы и поддержал, а Сашка чёрт‑те‑что подумает…
Впрочем, моя неудачная шутка перестала меня беспокоить сразу после того, как я посмотрел в листок…
– Что это?! – я вскинул на Сашку глаза. – Это же план прохода к нашему лагерю! «Улитка»! [Борька имеет в виду широко распространённый метод охранения партизанского лагеря при помощи мин. Мины располагались бессистемно, пройти между ними можно было только по особой спирали – «улитке». ] Какой кретин его зарисовывал?!
– Внизу посмотри, – он кивнул. Я всмотрелся и вообще офигел:
– Секреты?! Тут же секреты обозначены! Что это?!
– Нашли на трупе… – Сашка, понизив голос, назвал бойца. – Патроны забирали и нашли… И теперь кто его знает – может, и он нашёл где‑то, а отдать не успел. Может, он был фрицевский агент и тоже не успел это передать. А может – и не он один был агент. Вот так, Борька.
Я закусил губу и пожевал её до крови.
– И?..
– Мефодий Алексеевич приказал мне найти, кто может быть в отряде оттуда.
– Б..! – сказал я и плюнул.
– Борь, мне ни черта в голову не лезет, так хреново, – признался Сашка.
– Спасибо тебе, – я поклонился в пояс. – А то я буду счастлив этим заниматься! Прыгаю от радости!.. Слушай, – я обнял его за плечо, – а может ну его на х…р? Убили его и убили. Он и был агент.
– А если не он? – тоскливо спросил Сашка. – А если опять стук‑стук будет?
– С‑сука‑а! – с чувством высказался я. – Х…р с ним, будем искать вместе…
– Спасибо, Борь, – искренне сказал Сашка. – И ещё. Нам надо двух человек в отделение принять. Четверо ребят просятся, всех я до войны знал…
– А уж это решай сам, – буркнул я, – ты меня и так загрузил… Листок оставь. Чапай думать будет.
33
Немцев взяли троих. Двое были уже немолодые, перепуганные и жалкие, их вытащили из какого‑то овина, где они прятались, побросав оружие. Третьему было лет 20–25; когда его брали, то разбили голову прикладом и пропороли руку штыком. Возбуждённо размахивая руками, кто‑то говорил:
– Ну ты что будешь делать! Как даст, и Тимка‑то с приступок кувырком… я за ним, а он уже и неживой совсем, Тимка‑то, ну что ты будешь делать?! Мы туда, а он в нас – и вон, смотри… Ну тут я его кэ‑эк… целил‑то в грудь, а он рукой закрылся и по голове меня гранатой, а?! Еле скрутили…
Молодой немец отвечал коротко и равнодушно: «Найн… нихт… нихт… ихь вайс нихть…» – или просто пожимал плечами, и лицо у него было какое‑то сонное. Оживилось оно только когда Мефодий Алексеевич, разведя руками, огорчённо сказал:
– Так что ж, это… Шиссен. Придётся это – шиссен, – и вздохнул, показав немцу: – Шиссен, ферштейн, немец?
Тот улыбнулся одной верхней губой и сказал, чуть сощурившись:
– Хайль Гитлер.
– Это вот, – командир покачал головой и вздохнул. – Ну как это тут?..
…Мы шли и шли и шли – куда‑то кругом, по четырнадцать часов в сутки. Из тяжелораненых пятеро умерли, шесять человек мы потеряли в боях и стычках, включая сегодняшнюю. Наша борьба превратилась просто в борьбу за выживание – мы ничего не взрывали и не поджигали, нападали только когда без этого просто нельзя было обойтись. Деревни стояли и так дотла ограбленные немцами, а нам тоже было надо есть. Временами мне начинало казаться, что Мефодий Алексеевич перестал понимать, что делать.
Да что там – временами мне казалось, что и я перестал понимать, что делаю сам…
На допросе мне делать было нечего, да и тошно было на это смотреть, поэтому я сам напросился искать по селу продукты.
Об этой стороне партизанской жизни я, если честно, никогда не задумывался, и она была ужасна. В избе, куда мы вошли, была женщина и трое детей на печи – девчонки лет по 8‑10. Они неотрывно следили за каждым нашим движением, а женщина просто сидела и молчала. Так было с самого начала, когда мы вошли. Дядя Степан спросил:
– Продукты есть? – грубо и коротко. Женщина покачала головой и безучастно смотрела в стену, пока мы рыскали по избе. Ничего не было, только тараканы шарахались из тёмных углов. Наконец я встал на приступку печки и начал стволом ЭмПи ерошить тряпьё возле девчонок. Там оказался мешочек с мукой – килограмма два – и кулёк картошки такого же веса. Девчонки, до тех пор молчавшие, в один голос заплакали. Я перекинул продукты дяде Степану, и женщина сказала тихо:
– Немцы всё забрали… а теперь вы последнее возьмёте. Как жить?
– Пиши расписку, Шалыга, – кивнул дядя Степан. Я присел к столу, достал бланки. Женщина бледно улыбнулась:
– Бумажкой вашей их кормить? – она кивнула на печку. – Или разом пойти, да и в речку?
– Ты ж сознательная гражданка, советская гражданка, – сказал дядя Степан, хмурясь. – Ну что ж теперь…
– Сознательность на хлеб не намажешь, – вздохнула она. Мне было бы легче, попытайся она отнять еду, наброситься на нас, если бы она ругалась, что ли… Но она молчала, а девчонки тихонько плакали на печке. – Скажу я про вас немцам, как придут. Может, они едой помогут.
– Что ты скажешь? – без злобы сказал дядя Семён. – Они про нас и так знают… Не накликай беду. Как‑нибудь… Написал, Бориска?
– Написал, – я вздохнул. – Вот, возьмите, – и придвинул бумагу по столу к женщине. – Взятое будет возвращено или оплачено по восстановлении Советской Власти в вашем населённом пункте…
Она пожала плечами, свернула бумажку и, поднявшись, убрала за икону в углу. И сама осталась стоять под ней, спрятав руки под старый фартук или что‑то вроде. Так она и стояла, когда мы выходили.
А самое ужасное – что я, жалея её, ощущал себя в своём праве. И дело было не в том, что я хотел жрать. Просто хотел жрать, хотя и это немало. Я защищал страну, и я был ценнее и её, и трёх её дочек, потому что они – не защищали. Это была чудовищная логика, за которую надо расстреливать.
Но она была справедливой. Потому что на другой чаше весов лежали жизни сотен тысяч таких женщин и девочек, обречённых на истребление и вымирание планом «Ост»… и я знал, что это – не выдумка советской пропаганды. Я защищал их. И, чтобы защитить тысячи, обрекал на голодную смерть десятки.
Трудно понять и ещё труднее принять, верно? Особенно сидя возле лампы с книгой, «разоблачающей преступления Советской Власти». Когда тепло и кофе в стакане рядом… И можно рассуждать на темы отвлечённого гуманизма, и деньги есть, и магазин за углом открыт круглые сутки…
Мы не поймём друг друга. Я бы – прежний я – и сам себя не понял. И не узнал бы себя в исхудавшем мальчишке, одетом в трофейный маскхалат, перетянутый ремнями, вцепившемся в ЭмПи… В вечно голодном мальчишке, у которого временами кружится голова…
…Когда мы вышли из избы, то от сарая совсем рядом послышалось истошное:
– Найн… найн, найн, на‑айн… о‑о‑о, на‑а‑айн… – и, повернувшись в ту сторону, я услышал экономные выстрелы и успел увидеть, как падают трое немцев, пришитые пулями к бревенчатой стенке.
Мефодий Алексеевич, не поворачиваясь ко мне, морщил лицо. Развёл руками, когда я подошёл ближе:
– Ну что это будешь делать… Жалко и всё тут это… Бориска, – он повернулся наконец, в глазах было горестное недоумение, – а тебе это – не жалко?
– Они нас обжалелись, – хмуро сказал Сашка, стоявший тут же.
– Не об них это речь… – вздохнул Мефодий Алексеевич.
Я подмигнул Сашке, и мы отошли в сторону, за сарайчик. Я расстегнул штаны и пристроился к стенке, Сашка встал рядом.
– Та бумажка у тебя? – спросил я. Сашка кивнул. – Я, кажется, догадался, как можно найти дятла, если он ещё жив.
– Как? – Сашка сосредоточенно поливал стенку, стараясь выписать (именно так) слова: «Гитлер капут!»
– Сил не хватит, – хихикнул я, поняв его намерение. – А довольно просто, надо сказать. Я сейчас расписку в избе писал, и меня как ошарашило… Там же строчки есть, текст… Надо собрать образцы почерков, и…
– А если он почерк изменял?
– А на фига, если бумага должна была попасть только к немцам?
– Та‑ак… – Сашка задумчиво посмотрел в небо. Я засмеялся:
– Слушай, застегнись, а то похоже, что ты занимаешься онанизмом… А ты им правда, занимаешься?
– Чем? – Сашка, кажется, на самом деле не расслышал вопроса. – Соберём образцы – вроде как дополнительную клятву в соблюдении секретности даём. Там слово «секреты» есть? Вот и что‑нибудь вроде: «Клянусь соблюдать партизанские секреты…» И что‑нибудь ещё.
– Ого, – я уважительно покачал головой. – Точно, так вообще просто. Пошли к командиру…
…‑ Не пойму, зачем это надо? – проворчал Рэм. Рэм Тухманов и Илья Баландин были нашими новенькими, которых тоже отобрал Сашка. Он их знал до войны и ручался, что ребята надёжные, но я их невольно сравнивал с Олегом и Димкой – и пока был недоволен. Сложилась такая ситуация, что я при Сашке был в отделении кем‑то вроде того же комиссара – смешно…
– Затем, – отрезал я.
– А если кто писать не умеет? Такие есть…
– Отдельный список составляйте, потом я текст на машинке набью, а они подпишут… Всё, разошлись.
Мы встали лагерем в этой самой деревне – она называлась смешно, Синие Яблоки. Кто его знает, почему. Тут хватало брошенных домов, мы заняли несколько у самого леса «с видом на дорогу». Немцев тут хоть и было всего десяток, но и их скоро начнут искать, так что надо было быть готовыми.
– Мысль хорошая, – Хокканен полусидел на скамье и потирал грудь, покашливая. – Вот сволочи, как засветили… когда ж я своим ходом пойду?
– Ты, Ахтыч, это – не спеши, – отмахнулся Мефодий Алексеевич. – Нам ещё шагать и шагать… Мысль это да – мысль это неплохая. Только это – в гестапо не дураки…
– А мы тоже не пальцем сделанные, – возразил я. – Это раз. И потом, товарищ командир, вы что думаете, они к нам, как в ки…нижке – своего офицера заслали? Наверняка тот же местный, чем‑то купили или запугали. Это два. Ну что ему мудрить‑хитрить? Написал – сунул в почтовый ящик. Получил рекомендации – сжёг…
– Ну, может это и так, – вздохнул Мефодий Алексеевич. – Ефросинья Дмитриевна! Ужина‑то это – какой‑никакой есть?
– Сдадут нас местные, – вздохнул Карягин. – Кто‑нибудь точно сдаст.
– А оно это и хорошо, – кивнул командир задумчиво – и больше ничего не стал объяснять.
В этой избе помещалось командование отряда, мы, разведчики, Ромка и Витюха – они оба уцелели. Но о планах знали только командиры и мы с Сашкой. Да и то – командир отмалчивался о том, что будем делать завтра, не хуже всё того же Сципиона. На стол вывалили варёную в мундире картошку – жуть, аж по две штуки на человека. Потом тётя Фрося бухнула открытую банку рыбных консервов – у меня в животе запело – и сказала:
– Нехорошее это дело. Ведь последнее забираем у людей.
– Ефросинья Дмитриевна… – вздохнул командир. И махнул рукой. Потом попросил: – Бориска, спой, что ли. Какую‑нибудь… какую сам захочешь…
– Сначала поем, – помотал я головой. – Жрать хочу больше чем е…ся.
Все заржали. Юлька, дотянувшись, треснула меня по затылку как раз в тот момент, когда я вгрызся в картофелину, и я обжёг язык…
…Снятся мне перелётные птицы –
Из далёкой и правильной песни.
И казённые стены больницы
Вдруг становятся узки и тесны.
И луна над моим изголовьем
Манит светом меня из постели,
И бинты, проржавевшие кровью,
Превращаются в алые перья…
Я пел песню Розенбаума за шестьдесят лет до того, как её сложат. Пел – и видел с ужасом, что сидящие вокруг её понимают. Понимают. А вы понимаете? Я бы мог спеть её на Руси русским людям в любом с незапамятных времён веке – и они бы поняли.
Ещё не выросло на нашей земле такого поколения, которое не поняло бы таких песен. И моё – оно не исключение, хотя оно ещё не выросло.
Его тоже что‑то ждёт. Афган. Чечня. Третья Отечественная. Не знаю. Но исключений не было в нашей истории… Я просто успел раньше остальных…
– И не телом – душой обожжённый! –
О последнем мечтая патроне,
Ту звезду, под которой рождён я,
На горящем ищу небосклоне…
А дружок, не помянутый лихом –
Деликатный такой, городской он –
Потянулся к звезде своей тихо…
Медсестричку не побеспокоил…
Тётя Фрося вздохнула. Зинка, нахмурившись, терзала ремень снайперки. Юлька тревожно смотрела на меня.
– И от этой великой утраты
Я подумал слабеющим мозгом –
Видно в чём‑то мы все виноваты,
Слишком рано летим к нашим звёздам…
Отыскал наконец‑то свою я –
И кровать сжал покрепче руками…
…До свиданья – все те, кто воюют,
И прощайте – все те, кто не с нами…
…До свиданья – все те, кто воюют,
И прощайте – все те, кто не с нами…
– Бориска‑Бориска… – сказал Мефодий Алексеевич и с треском прокашлялся, покрутил головой. – Ну, давайте кипяточку выпьем…
Мне вдруг стало смешно. Меня иногда разбирал смех вот в такие именно моменты. «Кипяточку!» и ведь я буду пить этот кипяточек, и мне будет хорошо, как будто я пью горячий какао в закусочной «На углу», куда мы часто бегали. И после этой картошки в мундире и кусочка замученной шведской сельди (сволочи, немцев кормят, а ещё нейтралы!) я вполне способен ощутить себя сытым, хотя раньше от такого ужина я пришёл бы в ужас… вернее сказать – это вообще не ужин. С другой стороны – наверное, в моём времени масса людей ест и хуже…
– Сахару‑то и вприглядку не стало, – обвиняюще заявила тётя Фрося. – Хоть бы сахарин [Сахарозаменитель, сладкий на вкус, но ничего не дающий организму и не усваивающийся им. ] где достать.
Руководство сделало вид, что не слышит её. Тётя Фрося отхлебнула кипятку и обратилась к девчонкам:
– Вот, девки, смекайте, на что мужики годны. Кровь друг другу пускать – и всё. Да если б взяли меня, да какую фрицевскую мать, посадили б рядом друг с другом и спросили: «Хотите, чтоб ваши дети друг в друга железками тыкали?» Да разве б мы согласились?
– Ты и не согласилась бы, – подал голос Хокканен. – А у них разные есть…
– Бреши, Ахтыч, – отмахнулась рукой тётя Фрося. – Никакая мать своему сыну смерти не пожелает.
Интересный разговор остался без продолжения. Явились наши ребята, притащившие с собой кучу блокнотных листочков и короткий список неграмотных. Мы с Сашкой перемигнулись и ушли на крыльцо.
– Внимательно надо смотреть, – Сашка разложил на колене донесение. Я молча кивнул и стал перебирать листки, передавая их Сашке. Текст был короткий, почерка разные, в глазах рябило и мне внезапно захотелось бросить свою идею, а ещё больше захотелось, чтобы похожего не было. Но Сашка уже отложил два листка… и как раз когда он откладывал второй, я задержал очередной в руке и сказал:
– Вот.
Сашка вырвал листок у меня из рук и замер.
– Да, – он поднял на меня глаза и прикрыл их, тяжело выдохнув: – Я так надеялся, что он убит…
…Витька Покалюжный, партизан из первого взвода, запираться не стал – он только увидел два лежащих рядом на столе листка и сел на лавку, свесив голову. Олег снял с него карабин и ремень – тот не сопротивлялся, лишь глухо сказал:
– Пощадите… я не за себя…
– Ты ж это – с самого с начала с нами, – Мефоджий Алексеевич налил себе ещё кипятку. – Так это – ты уж ушёл как агент, или это – потом завербовали?
– Потом… – Витька, ещё совсем молодой мужик, передёрнул плечами. – Я жене сказал, что на заработки пойду… И как они прознали – ума не приложу… В конце декабря, как за дровами ходил, прямо возле лагеря подловили… Ну и… Говорят, жену твою повесим, сына – в Германию, ему год всего, он про тебя и знать забудет… Пощадите, товарищи…
– Рассказать не мог? – Хокканен откашлялся. – Мы бы и жену и сына сюда, в отряд…
– Не выжили бы они, – тоскливо ответил Витька. – Рази ж это жизнь… не выжили бы…
– И ты всё это время это – докладывал? – спокойно спросил командир. Агент кивнул:
– Да… Тайники только менялись… А так я фрицев больше и в глаза не видел…
– Гад!!! – вдруг крикнул Ромка, слетел с лавки, подхватил свой карабин и в упор бабахнул в Витьку. Промазал, тот дёрнулся всём телом, но остался неподвижен. На Ромку навалились ребята, но никак не могли его скрутить, он колотился уже в настоящем припадке и что‑то кричал – я понял, что вжался в стенку и с трудом сумел расслабиться и отвести глаза от бьющегося в руках наших мальчишки с безумным лицом. Зинка в конце концов взяла его на руки, как маленького, и начала укачивать.
– Ну что тут сказать, – Мефодий Алексеевич оставался совершенно спокоен. – Это. Гад.
– Гад, гад, гад… – закивал головой Витька.
– Но это – гад не сам по себе, – Мефодий Алексеевич вздохнул. – А это – произведённый в гады, это всё ж не то… Семью твою мы это – вытащим. Сейчас ты это – с фрицами общаешься?
– Сейчас нет… приказано было, если отряд уцелеет, ждать, пока на базу станем…
– Ясно это дело… Вот тогда и будешь им слать донесения. Какие я скажу.
– Заподозрят, если мои в лес уйдут… – он впервые вскинул голову, и глаза ожили надеждой.
– Так обставим, что это – не заподозрят. Ты им вон это – какую услугу оказал. Считай, весь отряд это – на блюдечке… Только это чего не обдумай – вешаться или это, стреляться! – повысил голос командир. – Вину это – искупать надо. Никто кроме нас, вот, это, кто тут – про это больше ничего и не узнает… Иди. Это – оружие ему отдайте…
… ‑ Как думаешь – правильно?
Я ждал, что Сашка ответит сразу и безапелляционно: «Нет!» Но он сорвал стебель чертополоха, хлестнул им по сапогам, пожал плечами:
– По человечески – неправильно…и правильно тоже…А по‑командирски – правильно со всех сторон… Я, Борька… – он посмотрел на меня и понизил голос: – Если бы вдруг мамка оказалась – живая… и мне вот так…
– И ты?.. – я затаил дыхание.
– Я бы застрелился, – так же тихо сказал Сашка. – А ты?..
К счастью, мне не пришлось отвечать на этот страшный вопрос. Мефодий Алексеевич окликнул нас с крыльца, но потом махнул рукой и подошёл сам:
– Это… дело вот какое, – он вздохнул. – Надо нам это – в родные места подаваться. Это мы кругаля дали, а всё фрицы знают это – где мы… Со следа их это – сбить надо. Одна группа это – пойдёт лесами путлять, да это – с шумом, с громом это… А вторая – это большая – тишком обратно это… Там они нас это – не сразу и искать подумают…
– Ясно, – сказал я. – Со следа немцев мы сбивать будем.
Командир вздохнул вновь.
– Поперёк сердца мне это дело, – признался он. – А только это остальные – девки‑бабы, раненые или те, кого это – ну никак терять нельзя… И ещё одно это есть…
– Мы упёртые, – снова сказал я. – Нам терять нечего. Ни детей, ни семей, ни кола, ни двора, а злости и ярости – выше крыши… а смерти в наши дебильные года не боятся, потому что ещё не жили… Вы не стесняйтесь, Мефодий Алексеевич, – я это произнёс без издёвки, я правда не чувствовал ни злости, ни страха, ни досады, ни обиды; я правда видел и твёрдо верил, что ему больно и стыдно говорить нам это. – Мы разведка. Тот, кто выжил в первом бою – уже ветеран…
– Только патрон, гранат побольше, – так же спокойно сказал Сашка, – и взрывчатку возьмём. И девчонки пусть останутся.
– Да, это точно, – поддержал я.
Командир почти неверяще смотрел, переводил взгляд с меня на Сашку и обратно. Потом лицо его задрожало, стало совсем старым, и он встал перед нами на колени:
– Это… ребятки… детки… Христа ради – простите… нас всех простите… весь это – мир, что он такой это… простите, Христа ради…
– Встаньте, пожалуйста, – попросил я. А Сашка молча поднял командира с колен, и Мефодий Алексеевич обнял нас и прижал к себе… или прижался к нам, потому что Сашка был выше его, а я – выше Сашки.
34
Дождь шёл третьи сутки.
Он был совершенно осенний – холодный и нудный, не очень сильный, но вездесущий, словно не середина июля на дворе, а середина октября, и небо полностью затягивали серые низкие тучи. Но нам это было на руку – в дождь не работают собаки, дождь замывает следы, дождь глушит звуки.
Три дня назад – обстрел гарнизона в посёлке Бокино и взрыв железнодорожной стрелки у того же посёлка.
Позавчера – нападение на полицаев в селе Хвощёвка, убито трое плюс староста. Взяты продукты.
Вчера – пущен под откос эшелон с боеприпасами.
Сегодня – на лесной дороге обстрелян конвой из пяти машин в охранении броневика.
Убитых и раненых нет. Есть дождь и постоянное преследование. Позавчера мы даже слышали, как лают собаки, но успели уйти через болото. Я всегда любил собак и никогда не думал даже, что их лай может быть таким страшным – монотонно‑металлический, прыгающий по лесу, как шарик между стальных пластин.
Рэм, Олег, Гришка и я шли через луг. Над мокрой травой висела серая штриховка. Остальные наши оставались пока в лесу за нашими спинами, прикрывая наше передвижение – впереди тоже был лес, прежде, чем войти в него, надо было убедиться, что там нет врага. Шарахнет пулемёт или нет? Я плохо чувствовал ноги, было холодно. К холоду привыкнуть невозможно, врут те, кто так говорит; за то, чтобы стало тепло, я бы отдал всё на свете… кроме своего ЭмПи. А изо рта почти что пар идёт. Костёр бы развести, согреться бы, высушиться, горячего чего‑нибудь поесть, хотя бы кипятку выпить… Если откроют огонь сейчас – прыгну вон туда, если сейчас – вон туда…
Дождь рывком усилился, потом так же резко ослабел, но не прекратился. Мне вообще не верилось, что он может прекратиться…
…Мне на какое‑то время показалось, что Сашка сошёл с ума.
Мы сидели в мокрой яме под валежником, оплетённым вьюнком. Сверху капало. Внизу было мокро. Сухари раскисли. Отвратительно воняло – то ли плесенью, то ли псиной, то ли моим настроением. Я нацелился как раз закрыть глаза и надвинуть капюшон куртки, когда он вдруг сказал, расправляя на колене, обтянутом мокрыми галифе, Кимкин галстук:
– Ребята, примите меня в пионеры…
Хорошо, что я от обалдения не сразу нашёлся, какую ядовитость сказать, потому что все остальные запереглядывались, и Зинка вдруг строго спросила:
– Почему раньше не был принят?
– За поведение, – Сашка продолжал разглаживать галстук и пошмыгивать носом.
– Хулиганил?
– Да нет… так… Но с милицией дел не имел, честно слово.
– Вообще‑то мы не имеем такого права, – подал голос Максим Самохин, с гримасой разминая кисть руки (рана у него то и дело кровоточила). – Мы же не отряд.
– Ерунда, – сердито сказала Юлька.
– Не ерунда, а правила… Но вообще‑то на войне ими можно пренебречь.
– Тем более, что у нас есть комсомолка, – напомнил немного лукаво Гришка, глядя на сестру.
– Хорошо, – со строгой торжественностью сказала Зинка, оглядывая нас. – Кто‑нибудь хочет что‑нибудь сказать о Саше Казьмине? Может быть, у кого‑то есть возражения против его приёма в пионеры?
– Я хочу сказать, – подал голос Женька. – Если не принимать таких, как Сашка, то кого тогда и принимать, – и он пожал плечами. – А что он там хулиганил и всё такое… – он снова дёрнул плечами.
– Верно, – кивнул я. – Я хочу сказать… Сашка – в общем, он меня из могилы вырыл. Он настоящий человек… – мне стало немного неудобно за то, что я обманываю всех, но я продолжал: – У меня стаж хороший, можете поверить. Я за Сашку.
– Да никого против нету, – сказал Рэм. – Женька правильно сказал – если не Сашку, то кого…
– Ясно, – Зинка кивнула. – Обещание знаешь?
– Знаю, – Сашка побледнел, я раньше и не думал, что у него есть веснушки, а сейчас они выступили чёрными точками, штук по пять с каждой стороны носа.
– Так. Дай сюда галстук… – Зинка приняла красный треугольник и разостлала его на ладонях. Сашка сглотнул и тихо, но отчётливо начал говорить:
– Я, Казьмин Александр Михайлович, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю: горячо любить свою Родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия, всегда выполнять Законы пионеров Советского Союза…
Зинка молча повязала галстук на шею Сашки, под воротник гимнастёрки. Он отдал пионерский салют – и выдохнул.
– Поздравляю, – кивнула Зинка и улыбнулась…
…Суше не стало. Мы устроились в кучку полусидя под тем местом, где меньше всего капало и постарались минимизировать соприкосновение кожи с воздухом. Юлька привалилась к моей спине, Женька устроился головой на плече, а сам я улёгся на плечо Сашки.
«Я, Шалыгин Борис, вступая в ряды скаутской дружины имени Лёни Голикова, клянусь выполнять все законы и обычаи русских скаутов, быть верным Родине, знамени дружины и своим товарищам в её рядах, памяти тех, кто был отважен и будущему тех, кто придёт за мной. Совесть, храбрость и честь. Да поможет мне Бог.»
Я повторил это про себя и пальцами ощупал галстук под курткой. А потом вслух сказал негромко:
– Да поможет нам Бог…
…Утром дождь всё ещё шёл. Просветов не наблюдалось. С неба сыпалась мразь, при виде которой больше всего хотелось залезть в кровать, под одеяло, и не высовывать оттуда носа. Мы залезли в какую‑то низину и шагали по ней – при каждом шаге вода с чёрными пузырьками поднималась до щиколотки. Когда я уже начал думать, что эта дрянь не кончится никогда, низинка вдруг превратилась в заливчик лесного озера с чёрной водой, подёрнутой у берегов ряской. На другом конце озера, километрах в полутора, стояли дома деревни.
В принципе, если кто не знает, в немецких тылах на нашей территории были деревни, где за всю войну ни разу не появлялись фрицы. Серьёзно, вообще ни разу. Но эта деревня была не из таких.
– Большие Угоры, – сказал Сашка – мы держались в кустах, потому что по воде болтались две лодки, а на длинном причале маячил немецкий солдат – отсюда было видно, как блестит его плащ. – До войны тут сельсовет был, а сейчас – кто его знает. Но немцы тут есть.
– Атакуем? – предложил Рэм. Сашка хмыкнул:
– А если их тут батальон?
– А нам не один пень? Постреляем и в лес уйдём.
Вообще‑то это было резонно. Но Сашка, подумав, покачал головой:
– Нет уж. Давайте подождём и подумаем.
Долго ждать и думать не пришлось. Мы не успели найти на берегу более‑менее нормальное место для отдыха (ха!), как возле кустов объявился рыбак – дедок в дерюжном плаще с долблёной лодки что‑то удил, у его ног в лаптях лежала пойманная рыба. Нас он сначала в упор не замечал, да и когда увидел – особо не взволновался.
– Бог помощь, дедуля, – сказал Сашка дружелюбно. Дед кивнул. – Как ловится?
– А чтоб ему, – охотно ответил дед. – Не себе ловлю. Из деревни выходить запретили, да их благородие, чтобы ему повылазило, господин капитан Саари рыбу любит.
– Так у вас эстонцы стоят? – уточнил Сашка.
– И эстонцы, и наши полицаи, – продолжал дед хладнокровно. – Эстонцев по крайним домам двадцать человек – это по тем крайним, с бугра, и господин капитан в самом крайнем ночует. А полицаев пятеро, они в управе, в бывшем правлении, пьянствуют…
– А чего вам запрещают из деревни выходить?
– А партизан ловят, – дед посмотрел на нас равнодушными глазами. – Какие тут партизаны, к бесу? Так… с дури бесятся…
– А ты чего же, – Сашка сделал большие глаза, – так партизан и не видел?
– Я? – дед поплевал на приманку. – Тьфу… чтоб тебя с моего плевка разорвало… Не видал. Откуда тут партизаны?.. Поплыву я. Доброго дня…
– И тебе того же, дедуля, – кивнул Сашка. Дед отчалил с безразличным видом.
– Я могу отсюда фрица снять, – предложила Зинка. – Того. На мостках.
– Зачем? – Сашка присел и начал разуваться. – Вечера подождём и шумнём…
– Запрещают выходить, – буркнул я. – Плохо дело. Все сидят по местам, одни мы бежим. Так нас выследят и прихлопнут.
– Пусть попробуют, – сказал Олег, полируя затвор своего карабина.
– Дурак ты, Пан, – ответил я. – Они попробуют и сделают. Пора нам тоже на дно ложиться и назад. Быстрым маршем, пускай они гадают, куда партизаны делись.
– А ты не струсил ли, Шалыга? – прищурился Олег. Я передразнил его прищур и сказал:
– Нет, не струсил. Я просто думаю. А кто‑то придатком к винту стал – не знаешь, кто?
– Тихо, – засмеялся Сашка. – Там решим. Но эту контору мы разнесём. Как ты там написал, Борь?
– Терпенье и труд всё перепрут, – с удовольствием вспомнил я.
– Точно…
…‑ Опп!
Финки, вылетев из моих рук, воткнулись в десятке метров в дерево – на уровне человеческих глаз.
– Неплохо, – кивнула Юлька и передёрнула плечами. – Сыро, холодно…
– …водки бы сейчас, – заключил я. Она засмеялась тихонько.
– А ты пил водку?
– Один раз, – признался я. – И не водку, а ром. Немецкий… Когда нас разогнали, – и я не стал продолжать. Я ведь даже никому про танк не рассказал. Зачем?
– Пст, – окликнул нас Сашка. – Пошли, пора.
Мы всё‑таки решили шарахнуть по гарнизону в Больших Угорах – просто так, чтобы подсластить рыбку. Их двадцать пять, нас десять – чем не равные силы для русского человека? Нам предстояло обойти озеро – не так уж и далеко… но на полпути Максим вдруг остановился.
– Слышите? – спросил он, делая стойку. Не спрашивая, в чём дело, мы все остановились тоже – и через какие‑то секунды и до нашего слуха донёсся шум, который можно было однозначно определить лишь как шум авиационных двигателей, причём не одного.
– Смотрите, – в свою очередь сказала Зинка. И мы увидели, как в деревне вспыхнули два столба мощного электрического света. Небо перекрыли несколько теней. Женька почти вскрикнул:
– Они садятся прямо в улицу!
Стоя неподвижно, мы наблюдали, как в деревню сели, словно на аэродром, три самолёта – один совсем маленький, два побольше. Мощный свет погас, но электрические вспышки продолжались.
– Чёрт подери, – потрясённо сказал Сашка и куда быстрее, чем раньше, двинулся дальше…
…По своей привычке немцы разнесли, отселив, соседние с нужными им дома и вырубили всю зелень. Вообще‑то это разумно, но с другой стороны – уж очень отчётливо указывает на то, где кучкуются враги. Отличить, где расположено правление, было сейчас невозможно, а полицаев наверняка оторвали от самогона и припрягли к работе.
Мы подобрались по максимуму и лежали в каком‑то полузаброшенном саду метрах в ста от нужных нам домов. Там шёл настоящий кипеш – катали бочки, таскали ящики, растягивали тент над машинами.
– Два старых истребителя «арадо», – определил Женька.
– И связной «физилер», – дополнил я, отличив от остальных игрушечную, на высокой колёсной паре, фигурку этого самолёта. – Или начальство прилетело, или кому‑то груз привезли…
– Базу они делают, – возразил Сашка. – Тент, горючка… Отсюда будут леса бомбить, – он зачерпнул жирной грязи и стал методично размазывать по лицу…
Сейчас мы могли сожалеть только о том, что у нас нет пулемёта. Девчонки, Женька, Макс и Илья перебрались к лесу, чтобы в случае чего отвлечь на себя внимание огнём. Мы договорились о месте встречи; Сашка, Рэм, Гришка, Олег и я, запасшись гранатами и взрывчаткой, стали ждать, когда уляжется суета.
Среди расхаживающих туда‑сюда немцев выделялась высокая худая фигура. Я никак не мог понять, почему она привлекает моё внимание, и от этого непонимания даже нехорошо стало, зазудели виски. И тут Гришка спросил:
– Узнаешь?
– Кого? – не понял я.
– Длинного в плаще. Это ж тот офицер, который от нас на дороге ушёл. Он тебя контузил, гранатой…
Я мысленно выругался. Точно! Его суку застрелил кто‑то из наших, а сам он вот – и Гришка‑то не знает, а я‑то помню, что он нас пытал… Ну вот и ладушки, вот и встреча…
– Отставить! – бешено зашипел слышавший наш разговор Сашка. – Никакой личной мести…
Нет, ну какие слова выучил!!!
– А при чём тут личная месть, – возразил я, – его на «физилере» привезли, и вообще он, по‑моему, шишка…
– Борька, огребёшь, – ответил Сашка.
– Есть отставить личную месть, – сердито, но серьёзно отозвался я. И правда: или мы в войну играем, или Сашка мой командир, а тогда чего спорить… Чтобы компенсировать недовольство, я погуще вымазал физиономию грязью.
Ждать пришлось долго – немцы всё бегали, орали и вообще вели себя несколько неадекватно, на мой взгляд. Я уже начал опасаться, что вот‑вот начнёт светать, хотя мои часы хладнокровно показывали, что едва второй час. Наконец они унялись. Мимо нас прошли те самые полицаи – наверное, направлялись в бывший сельсовет, допивать самогон. Мне пришла в голову забавная мысль, что немцы, как наши… мои нынешние… короче, Большие Люди из моего времени!.. обожают превращать школы в сортиры, клубы в распивочные, стадионы в вещевые рынки. Я обсосал эту мысль, и она перестала казаться мне забавной. Уж слишком похоже – в забитую, погружённую во мрак деревню, прилетает на самолёте Начальник, его с помпой встречают, провожают «на постелю», и снова всё погружается во мрак, а представители правоохренительных органов отправляются допивать самогон. Только в наше время чаще летают на таких машинах, что «физилер» покажется перед ними детским самолётиком.
«Ты, кажется, становишься коммунистом, скаут? – осведомился я сам у себя. И сам себе возразил: – Нет. Не коммунистом. Просто чуть больше человеком, чем раньше. Мне ведь и там, тогда всё это не нравилось. Но там я не мог ничего сделать. А тут… – я ощупал гранатную связку. – Ничего – распогодится.»
Около самолётов остались двое часовых, безостановочно ходивших туда‑сюда, как маятники. На штыках поблёскивал отсвет керосиновых огней из окон избы, в которую ушёл тот кадр в плаще. Не иначе как они там с господином капитаном Саари рыбку кушают. Ну‑ну.
Это я думал уже в движении – мы ползли вперёд, слившись с мокрой землёй и травой. Я держал в зубах финку и слышал, как из углов рта вырывается моё собственное дыхание, казавшееся мне, как всегда в такие моменты, страшно громким. А ещё мне казалось, что всё остальное время я живу только ради вот этих моментов.
Часовой прошёл мимо меня, почти наступив на руку. Я задержал дыхание, присел на корточки и одним прыжком настиг его, зажал рукой рот и вонзил финку спереди между ключиц. Легионер завалился вбок, длинно содрогаясь, я успел повернуть клинок и выдернул его. Второй часовой тоже исчез. Рэм, Гришка и Олег подбежали к самолётам, а мы с Сашкой бросились к избам – в нарушение его собственного приказа и не сговариваясь.
Три взрыва за нашими спинами почти слились в один. Сашка зашвырнул свою связку – «колотуху» с примотанными к неё двумя брикетами тола и двумя осколочными гранатами – в светящееся окно. Мне оставалось пробежать ещё метров двадцать до следующего дома, я наддал и, не глядя бросив связку в тёмное окно, помчался обратно.
Дверь дома, подорванного Сашкой, распахнулась. На площадке взорвалась бочка с горючим; в ярком, мгновенно разлившемся по земле и только подхлёстываемом дождём пламени я увидел на крыльце офицера – и узнал его. То, что он уцелел при взрыве в комнате, показалось мне в этот момент до такой степени невероятным, что я окаменел на месте. Очевидно, немец тоже был поражён, потому что в первую секунду даже не попытался достать пистолет и только выкрикнул:
– Ду?! [Ты?! (нем.)] – а потом кувыркнулся через перила, на миг опередив мою очередь. Я дернулся было к крыльцу, но со стороны второго дома начали стрелять, появились несколько перебегающих фигур, и я побежал, пригнувшись. Меня крепко рвануло за куртку на правом боку и на правом плече, я споткнулся обо что‑то и грохнулся в канаву. Вставать не стал – пополз по ней, отбрасывая локтями грязь и стараясь сдерживать дыхание, потом выбрался в кусты, пополз через них и, убедившись, что чёрная мокрая стена переплетённых веток надёжно меня прикрывает, вскочил и побежал в сторону леса. Позади снова взорвалось, вспыхнуло, и я на бегу засмеялся.
Меня не преследовали – скорее всего, те, кто остался в живых, занялись тушением пожара. Хотя я сомневаюсь, чтобы там было, что тушить.
Я несколько раз падал, путаясь в траве и поскальзываясь, вскакивал и бежал дальше. Мне было весело и жутко…
…Собачий лай я услышал под утро, сквозь сон. Я не нашёл никого из наших, да особо и не искал – ушёл подальше в лес и завалился спать под каким‑то хворостом. Что‑то мне снилось, не очень приятное; собачий лай органично вплёлся в этот сон и одновременно разбудил меня.
Дождь прекратился, но висел плотный сырой туман, ломавший звуки. Я лежал с открытыми глазами, прислушиваясь. Лаяли несколько собак сразу… а потом я услышал выстрелы. Стреляли из «мосина»; карабины этой марки были у Гришки и Олега.
Очень осторожно, стараясь не производить ни единого звука, я выбрался из‑под хвороста… и в каком‑то шаге от себя увидел Сашку и Рэма. Они смотрели в мою сторону, и Сашка перевёл дух:
– Ч‑чёрт. Это мы что, рядом ночевали?
– Похоже, – я пожал плечами. – Слышите?
Они кивнули. Потом Сашка заторопился в сторону звуков, мы побежали за ним, держась слева и справа – и чуть позади.
Вскоре я понял, что Сашка старается выйти в тыл облаве. Это было разумно – если немцы опять просто психуют, то мы уйдём, а если они выследили кого‑то из наших, то так тоже удобнее. Я надеялся, что всё‑таки первое.
Мои надежды не сбылись. Мы бежали и шли примерно полчаса, лай приближался. Чутьё не подвело Сашку – мы нагнали облаву на большой сырой поляне, выйдя ей точно в тыл.
Собак было три, с вожатыми. И с дюжину легионеров, у которых был ручной пулемёт. Очевидно, сколько‑то зашли с другого конца поляны, потому что в её центре, возле здоровенного вывороченного пня – всё, что осталось от росшего там дерева – залегли Гришка и Олег, так и не добравшиеся до другого конца поляны. Я их видел и отсюда. Гришка стрелял. Олег лежал чуть сбоку и не шевелился.
Эстонцы не стреляли – вернее, не стреляли в цель, а только прижимали Гришку огнём поверх головы. И собак не спускали, зато трое ползли в траве к выворотню, решив взять ребят живыми.
Рэм коснулся наших плеч и указал наискось через поляну. Мы с Сашкой взглянули туда одновременно – и среди кустов увидели лицо Максима. Он указал на себя, поднял пять пальцев, ткнул себе под ноги и исчез.
– Удачно, – Сашка усмехнулся и поерошил волосы. – Наши все там… Граната есть у кого?
– Держи, – Рэм сунул ему нашу «консерву». [Жаргонное название гранаты РГ‑42, массово выпускавшейся на консервных заводах СССР в годы войны на самом деле в корпусах 220‑граммовых консервных банок. ]
– У‑ухх! – застонал Сашка, запустив гранату в собак. – Бей фашистов, партизаны!!!
– Бей гадов! – заорал я, с колена открывая огонь по легионерам.
– Ур‑раа!!! – завопили сразу с нескольких концов поляны, сами себя глуша выстрелами. Застигнутые на открытом месте легионеры, рассчитывавшие только на расправу с двумя окружёнными партизанами, растерялись на миг – и этого вполне хватило нам. Жалеть и предлагать сдачу никто не собирался. Последнего из легионеров застрелила, кажется, Зинка – он почти добежал до кустов в дальнем конце, когда грохнул «маузер», и он кувыркнулся в кусты, только ботинки с гетрами остались торчать.
– Сань, это вы? – окликнул нас Женька.
– Мы! – гаркнул Сашка. – Всё, кажется?
– Кажется, всё…
– Борька с вами?! – завопила Юлька. Я захохотал. – А, слышу…
– Иди, иди, курва, шагай, – подала голос Зинка. Мы начали выходить на полянку. Зинка толкала перед собой полицая с дрожащими поднятыми руками и пляшущей челюстью. – Вот почему они так по лесу шпарили, вот кто их вёл!
– Ребята! – звеняще крикнул Гришка. – Ребята, Олег убит, ребята…
…Илью мы нашли там, откуда он стрелял. Он так и лежал – с ППШ в руках, прижмурив один глаз. Второго у него не было – туда попала пущенная наугад пуля. Олегу пуля тоже попала в голову, в переносицу, и я, когда мы выносили мальчишек подальше, с отчаяньем подумал, что ненавижу эти ранения в голову, которые и после смерти не дают человеку успокоиться, уродуют его навечно…
– Я возьму его ППШ, – сказал Гришка и взял оружие Ильи. Мы вообще собрали всё, что смогли, Рэм поменял свой карабин на пулемёт, у легионеров был «браунинг». Гранаты, патроны и кое‑какую еду разобрали, обыскав трупы и дострелив двух раненых а стволы припрятали по возможности – пригодится, может быть…
– Похороним их, – Сашка успел прихватить с собой две складных лопатки. Юлька уже не в первый раз трогала следы от пуль на моей куртке, и я подумал, что вот сейчас, пожалуй, мог бы её поцеловать без проблем… но не хотелось.
– А с этим что делать? – Зинка брезгливо тряхнула за шиворот стоящего на коленях полицая. – Допросить?
– А что он знает, кроме «пан офицер» и «хайль Гитлер»? – процедил Рэм. – Кончать его, гниду!
– Сынки! – завыл полицай, его лицо окончательно потеряло сходство с человеческим. – Сынки, не надо! Они меня заставили! Не надо!!!
Это было последнее, что он крикнул – Женька выстрелил ему в лоб из своего «нагана», процедив:
– За маму с папкой… – и нагнулся, сказав: – Помогите оттащить, чтобы рядом с нашими не вонял…
Труп полицая свалили в какую‑то яму метров за пятьдесят от места, где копали могилы Олегу и Илье. Глубоко не получилось, да и зачем? Мы ведь даже не могли поставить какие‑то знаки… Но Юлька финкой вырезала на коре большого дуба:
ПАРТИЗАНСКИЕ РАЗВЕДЧИКИ
ОЛЕГ ПАНАЕВ
и
ИЛЮША БАЛАНДИН
20 июля 1942 года
ИМ БЫЛО ПО 14 ЛЕТ
– Нельзя так уходить, – тихо сказал Сашка. – Надо хоть что‑то сказать… Борька, знаешь что… ты спой.
Я сперва покосился на него, как на сумасшедшего. Но потом вдруг понял, что это самое лучшее, что можно придумать. Но не просто спеть, а…
Надежда, я вернусь тогда,
Когда трубач отбой сыграет,
Когда трубу к губам приблизит
И острый локоть отведёт…
Надежда, я останусь цел!
Не для меня земля сырая,
А для меня твои тревоги
И добрый мир твоих забот!
– голос у меня сорвался, но я упрямо мотнул головой, разбрызгивая с ресниц капли – и выправился. Стыдно не было…
Но если целый век пройдёт,
И ты надеяться устанешь,
Надежда, если надо мною
Смерть распахнёт свои крыла –
Ты прикажи: пускай тогда
Трубач израненный привстанет,
Чтобы последняя граната
Меня прикончить не смогла!
[Слова Б. Окуджавы. ]
35
Солнце жарило вовсю. Юлька, сидевшая со скрещенными ногами на песке, парилась, черкая в блокноте. Мне было легче – я лежал ногами в воде в одних трусах и слушал, щурясь на солнце, как Женька диктует:
– …я её оставил где‑то
На русских полях… Записала?
– Записала, – уныло сказала Юлька. – Жень, давай хватит, я искупаюсь.
– Ладно, – смилостивился Женька, растягиваясь на песке возле меня и начиная мурлыкать «Лили Марлен» со своими словами…
…Мы вернулись на базу отряда пять дней назад. База была новая, в десяти километрах от прежней, но похожая. За время нашего отсутствия к отряду прибилось восемь окруженцев и полдюжины мужиков с семьями из окрестных деревень, где, по их словам, «фрицы в конец одурели». Пока мы отсутствовали, наши пустили под откос два эшелона и, замаскировавшись в центре небольшого деревенского стада, под носом у железнодорожной охраны заложили мину под стрелку, разворотив её капитально. С юго‑востока подошёл отряд Мухарева. «Взрыв» так и не вернулся, но вместо него по соседству появилась группа с Большой Земли, сколачивавшая вокруг себя всё тех же окруженцев, и довольно успешно. Так что наше возвращение было как нельзя кстати.
Вообще немцы были правы, сравнивая нас, партизан, с гидрой. Они разгромили партизанскую республику в Белебелке – возникла такая же в Порховском районе. Они уничтожили в наших краях за первые два месяца лета больше десяти отрядов – но возникло, по слухам, почти двадцать. Прошлую операцию против нас они, конечно, записали себе в актив – но вот они мы, и отнюдь не бездействуем. А вот на фронте у них дела шли хорошо, и в сводках, распечатываемых на машинке для окрестных деревень, нам приходилось обтекаемо врать. И про неудачные бои под Воронежем, и про «Эдельвейс» – немецкое наступление на Кавказе, и про то, что немцы в Сталинграде и прижали наших к Волге…Да и что нас они в покое не оставят тоже, сомнений не вызывало. Агентура из окрестностей доносила, что снова начинается стягиванье сил – наверняка, опять для контрпартизанской операции. Кроме того, враг принялся за серьёзную расчистку местности – начал расселять деревни в лесах и по их периметру, причём, что не замечалось раньше, расселение сопровождается массовыми убийствами. С одной стороны – тем больше людей присоединится к нам. А с другой – как же с едой и информацией?!
Вчера всему отряду зачитывали знаменитый сталинский «Ни шагу назад!», приказ N 227. Для нас, партизан, он вроде бы и не слишком актуален, но…
– Бориска‑а…
Я повернулся на песке и тяжело вздохнул. Это был один из только что пришедших в отряд пацанов – Егор Алдохин. С момента нашего возвращения он осаждал меня просьбами повлиять на Сашку, чтобы его, Егора, взяли в отделение разведки. Собственно, я ничего против не имел, но Сашка твердил: «Подождём.»
– Слушай, искупайся, а? – предложил я. – И остынь.
– Не, я не про это, – он покачал головой. – Товарищ командир тебя вызывает…
… ‑ В общем, дело, это – так, – Мефодий Алексеевич широким жестом показал на банку со сгущёным какао. Сашка задумчиво погрузил в неё палец, намотал побольше сладкой коричневой массы и облизал. Я присоединился к нему; Хокканен не выдержал:
– Ну ложки же есть!
– Курить вредно, – печально сказал Сашка.
– Очень вредно, – подтвердил я. – Особенно после ранения…
– Кхгм… – Хокканен убрал трубку и несколькими энергичными взмахами разогнал дым.
– Дело это так, – вернул внимание наш командир. – Сведения есть, что это – фрицы в конце лета готовят это – наступление на Ленинград. Это – всвязи с чем активируют переброску частей, это, на фронт. Надо бы это как‑то… – он поводил в воздухе руками. – Из штаба сообщили – это, операция «Нордлихт» у них называется. Собираются, это, с финнами соединиться и город это – совсем кончить. Вот и задание это – узнать, что перебрасывают. Это – откуда. И это по возможности – помешать… Сашка тут это – говорит, вы что‑то придумали?
– Ну вообще‑то, – я обсосал палец, с наслаждением почмокав, – вообще‑то мы не для такого случая придумали, а вообще. Но может и сюда подойти. Нужны мины, замаскированные под куски угля, как у Мухарева делают. Штук пять. Ромка нужен. И тогда дело будет так…
…Мы с Юлькой сидели на «нашем месте», болтали ногами и по очереди ели остатки какао из банки, которую я прихватил с собой, уходя из командирского шалаша (землянки вырыть было просто некогда). Последние остатки я по‑добрал пальцем, хотел облизать, но потом, помедлив, протянул Юльке:
– На. Остатки сладки… – и резко растормозился, когда он слизала какао. Для неё‑то это была ерунда, а для моего сознания, испорченного десятками виденных фильмов…Я почувствовал, как горят щёки и, чуть наклонившись к ней, сказал: – А вот тут осталось… в углу рта…
– Тут?.. – спросила она беззаботно. – Где?
– Нет…не тут… – я наклонился ближе, и Юлька поставила между нами ладонь:
– Жук ты, Борька, – сказала она сердито. – Если бы ты не был таким смелым и умным, я бы… я бы…
– Что ты бы? – тихо спросил я, не отстраняясь.
– Я бы Мефодию Алексеевичу пожаловалась.
– Жалуйся, – внезапно обиделся я и отодвинулся. – Ради аллаха. Подумаешь.
– При чём тут аллах? – прыснула Юлька. – Ну тебя.
– Юльк, – я сделал просительное лицо. – Один раз поцелую, а?
– Отстань.
– Один раз, – я снова придвинулся.
– Отстань, говорю!
– Ну чуть‑чуть…
– Закричу.
– Фрицы услышат. Ты же не будешь товарищей подводить?
– Я если мне Сашка нравится, а не ты?
Я отстранился, помолчал и спросил:
– Это правда?
Юлька соскочила в воду и в два прыжка добралась к берегу. Обернулась и махнула рукой:
– Пошли готовиться!
36
Вообще это было довольно странное ощущение – вот так сидеть среди врагов и грызть яблоки. Ещё более идиотским казалось, что на нас не обращают внимания. Меня вдруг стало одолевать дурацкое желание – вскочить и заорать во всю глотку: «Эй! Кретины! Смотрите! Я – партизан!!!» Не шуточное, а совершенно серьёзное, дошедшее до физического нетерпения, как желание сходить в туалет.
Я задавил его в себе усилием воли.
Недалеко от третьего станционного пути сидели на травке пятеро беспризорников – четверо постарше, трое мальчишек и девчонка, и мальчишка помладше, с холщовой сумкой через плечо.
– Состав, – сказал Сашка. – Наш.
– Угу, – я поднялся и потянулся, краем глаза заметив, как Ромка, лениво встав с травки, неспешно потащился через пути. Весь его вид выражал усталую озабоченность по поводу того, где бы пожрать.
Длиннющий состав вползал на станцию. Мне показалось, что в нём вагонов пятьдесят плюс половина от этого платформ с техникой. Вся эта гусеница ещё остановиться не успела, а на платформу с гомоном, свистом, перекличкой посыпались солдаты и офицеры, почти все – в нижних рубашках. Часть бросилась к водоразборке, старшие офицеры двинули куда‑то, на ходу застёгиваясь и приводя себя в порядок, сколько‑то – в полной форме и с оружием – заняли места вдоль эшелона на часах. Как всегда в такие моменты мне на миг стало мерзко от мысли, что мы станем причиной гибели многих из этих вполне обычных людей, в большинстве своём – молодых и, наверное, не таких уж и плохих. Но на фронте, куда они едут, пули, выпущенные ими, будут убивать тоже молодых, неплохих, а главное – наших.
– Борька, давай, – сказал Сашка. – Пошли…
Я обогнал друзей и, вскочив на платформу под изумлёнными взглядами оказавшихся поблизости солдат, заорал:
– Либер дойчес зольдатен, позвольте фюр вас… это, фюр зольдатен… ну, как бы выступить тут перед вами. Зонг, танцирен унд цирковые номера. Цирк нюммер. Типа акробатика… что несу, что несу, господи боже… Хильфе киндер, брот, шоколад там, чего ещё пожрать… – я подумал и выдал: – Гебен зи мир айн штук брот, битте, – слова врезались в память не то из кино, не то из книжки, что ли…
Всем этим бредом мне, тем не менее, удалось обратить на себя самое пристальное внимание, причём вполне добродушное. Вокруг начали собираться солдаты и младшие офицеры, переговариваясь, посмеиваясь и удивлённо меня оглядывая. Я рванул дальше, развивая свою мысль:
– Дас ист труппа, – я широким жестом указал на подошедших мальчишек и Юльку. – Цвай кнабе акробатен унд мэдхен певица… – я почесал затылок и под общий смех выставил палец: – Короче эта мэдхен поёт во. Зонг во. С вашего разрешения, мы начинаем.
Кажется, до немцев дошло, что мы собираемся делать и что мы не просто юные попрошайки, каких они, наверное, повидали немало по всей Европе. Удивление отчётливо перешло в заинтересованность, отдельные выкрики стали подбадривающими. Я отошёл в сторону, демонстративно похлопав и вызвав тем самым аплодисменты и свистки. Странно, мне казалось, что свистят только американцы…
Женька и Сашка, которые тем временем успели раздеться до трусов, вышли на мгновенно расчистившееся место.
Не хочу сказать, что это был уровень Госцирка РФ. Но парни вполне прилично кувыркались, ходили на руках, работали в паре и всё такое прочее. Немцы одобрительно хлопали и свистели. Вообще на войне развлечений мало и люди с энтузиазмом воспринимают даже такие вещи, на которые не стали бы в мирное время и смотреть. Я стоял в сторонке и видел, что Ромка шляется у паровоза, из кабины которого высовываются машинист с кочегаром. Оба немцы… Часовой там стоял тоже, не сходил с места, хотя и посматривал в нашу сторону. Лады…
Когда пацаны стали мокрыми от пота и запыхались, я снова взял инициативу в свои руки и опять принялся бредить:
– Либер зольдетн, дас ист дойчес зонг «Лили Марлен», но по‑руссиш. Ферштейн? Короче, презент фюр зольдатен от Руссланд фольк. Э… Кто‑нибудь ферштеен руссиш? – реакцией был смех, отрицательные выкрики, качание головами, и я под нос себе буркнул: – Ну и хорошо, слава богу… Это зер шлехт, но зонг «Лили Марлен» аллес зольдатен знают. Начинаем. Форвертс!
Женька, добравшийся до гармошки, висевшей на боку одного из немцев, заиграл на ней, а Юлька, сложив руки на животе, тонким, но мелодичным голосом запела на хорошо известный немцам мотив:
Друг мой, если ты
Вернёшься из России –
Не забудь свою башку
Под мышкой принести –
Тирьям‑та‑там!
Прихвати мою
Оторванную ногу –
Я её оставил где‑то
На русских полях –
Тирьям‑та‑та!..
Солдаты вскоре начали подпевать. Среди собравшихся наших – а их было довольно много, хоть и держались они в отдалении и вели себя тихо – воцарилось офигело‑испуганное молчание. Вообще‑то такое дело с нашей стороны было вопиющей наглостью – стоило хоть одному из немцев понять пару слов – и капут не только нам, но и делу, что главное. Но удержаться мы не могли… Я бы, может, и смог бы, но парням и Юльке была нужна разрядка за то, что они вынуждены были выламываться перед врагами.
Друг мой, если ты,
– пела Юлька голоском примерной сиротки, ‑
Фюрера там встретишь –
Передай ему от нас
Ты с кладбища привет –
Тирьям‑та‑там!
Пусть он крест себе
На задницу привесит.
Самое ему
Место будет там –
Тирьям‑та‑та!..
– Пст, – Сашка подтолкнул меня локтем. Я обратил внимание, как из толпы наших быстренько выбирается какой‑то озирающийся мужичонка в надви‑нутой на глаза кепке. На нём было прямо написано большими буквами: «ИХЬ БИН ПРОВОКАТОР».
– Понял, – шепнул я и быстрым шагом обогнув зрителей, перехватил мужичка возле вагона. Он споткнулся, моргнул и остановился. Я, опершись на стенку вагона возле его головы (я был выше его), тихо и спокойно сказал, глядя в сторону: – Попробуешь пасть разинуть – убью. Ясно?
– Ясно, – он икнул. – Я это. Я до ветру хотел.
– Иди обратно, – посоветовал я. – В первый ряд. Хлопай погромче. Я посмотрю. Если мне не понравится, как хлопаешь, стоишь, смотришь или хотя бы дышишь – считай, что Советская Власть тобой недовольна. А это чего значит?
– Заслуженную кару! – мужичок оказался догадливым, как и все паскуды.
– Умница, – кивнул я. – Пошли. Штаны потом застираешь.
– «Катюшю», битте, битте! – загомонили тем временем немцы. Юлька покусала губу и кивнула Женьке:
– Давай, – и запела, вытянув руки по швам, про яблони и груши. И про всё остальное – тоже. А я видел, что наши слушают не так, как немцы. Для них эта песня – тем более, сочетании с предыдущей! – была напоминанием о… ясно? И ещё я видел, что часовой отвлёкся‑таки. А Ромка нырнул за паровоз. Отлично…
Женька начал показывать карточные фокусы с потрёпанной порнографической колодой, которую ему сунули. В принципе, можно было отваливать, но это вызвало бы подозрения. Слава богу, составу дали отправление…
…Мужичка я перехватил за угольным терриконом. Он опять наткнулся на меня, как в первый раз.
– Ну и куда ты опять спешишь? – ласково спросил я. – Мы ещё не уходим.
– Мне же работать надо… – сглотнул он. – Я ни слова… христом‑богом…
– Бога не трогай, – сказал я, взяв его за ворот. – Ты себе бога уже нашёл. И зовут его не Христос. Запомни. Я стою и смотрю. А ты пойдёшь работать. И если нам помешают зарабатывать на хлеб, то тебя не спасёт даже наша смерть. Иди, родимый. И помни мою несказанную доброту…
…До полудня мы обработали ещё один эшелон с пехотой и состав с чем‑то под брезентом. Во втором случае появилась‑таки железнодорожная охрана, чтобы распереть нас (не как диверсантов, а просто как бродяжек), но ехавшие в сопровождении солдаты подняли рёв и развернули жэдэшников обратно. Когда этот эшелон отошёл, Сашка сказал:
– Штурмовые орудия везут. Петлицы зелёные с розовой окантовкой и розовыми просветами в катушках…
– И под брезент заглядывать не надо, – усмехнулась Юлька.
К сожалению, мы не свалили, а решили, что для чётного числа обработаем четвёртый состав, который должен был придти вот‑вот. Агентура не ошиблась. Состав пришёл.
И привёз маршевый батальон эсэсовцев в дивизию «Полицай». Мы поняли, что лажанулись, как раз когда они уже посыпались на перрон и смываться было поздно. Молодые здоровые мужики вообще‑то восприняли наше выступление как должное. Именно как должное, а не просто как неожиданное развлечение, и это было не слишком‑то приятно. А самое главное, что часовой, ублюдок, не ворохнулся даже возле тендера.
Вдобавок ко всему, когда мы выдохлись, один из офицеров подозвал кого‑то из наших и тот перевёл вопрос, обращённый ко мне:
– Господин офицер спрашивает, – в глазах человека было сочувствие и восхищение нами, – что умеешь ты?
– Я импрессарио, – бухнул я. Мужик разинул рот. Немец явно понял слово «импрессарио» и захохотал, остальные – тоже.
– Ты умеешь драться? – снова перевёл мужик вопрос. Я, не понимая смысла вопроса, ответил честно:
– Я занимался боксом.
Немцы снова поняли без перевода. Рискуя всё провалить, я сразу добавил, вообразив, что понимаю, что к чему:
– С нашими я драться не буду, я не клоун…
Про клоуна мужик не перевёл, наверное. Эсэсовец усмехнулся и крикнул, повернувшись к вагонам, откуда смотрели те, кому лень было толкаться среди толпы:
– Хэй, Гюнни!
К нам подошёл…
Странно, я никогда не задумывался, есть ли у немцев сыновья полков. А они, судя по всему, есть.
– Это Гюнтер, – сказал мужик. – Будешь драться с ним. Если победишь – получите консервы. Если нет – получите шомполов, а девчонка поедет с нами… с ними, парень…
Влипли…
Белокурый парнишка моих лет – пониже, но крепкий, плечистый, с густой чёлкой – снимал сшитую явно по мерке куртку и рубашку. Глаза у него были холодные и ненавидящие. Краем глаза я увидел, как побелела Юлька. Я понимал: немцам ничего не стоит увезти её и если я одержу победу… но всё‑таки в этом случае оставалась надежда. Ещё я видел Ромку – он стоял за спиной отвлёкшегося часового. В сумке под углём у него лежали две гранаты. С мальчишки станется запустить их сюда, чтобы нас выручить… Словно бы невзначай я покачал головой, глядя на него – и Ромка исчез за паровозом…
– Драться, так драться, – сказал я. – Переводи. Он дал слово. Воля победителя – закон. Я буду драться. Они победители. Но слово офицера тоже закон. Верность ему многого стоит… Переводи точнее. А на пряжке ремня у него написано, что его честь зовётся верность. Пусть он помнит об этом, когда я уложу их выкормыша. Точно переводи!!! – зло закончил я.
Мужик побелел, но перевёл, кажется, верно, потому что немцы умолкли, а офицер глянул на свой ремень. Гюнтер скривил губы – это была не улыбка, а чистейшее выражение презрения. Господи, да за что же он нас так ненавидит?! Может, у него разбомбили дом?! Но ведь не наши же, наши ещё почти и не бомбили Германию… Так за что же? Почему у него такие глаза, словно я его личный враг?!.
Мальчишка на полном серьёзе коснулся моих кулаков своими, чуть поклонившись. И отошёл в стойку. Офицер поднял руку, опустил её и сказал:
– Бокс!
Гюнтер тут же рвался вперёд и обрушил на меня ураган ударов. Они не отличались разнообразием, а сама стойка парня была старомодной (всё‑таки с 1942 по 2005 год в боксе кое‑что изменилось!), но скорость, а главное – бешенство заставили меня отступать. Потом сильнейший свинг в челюсть отправил меня наземь. Я не потерял сознания, но на какое‑то время оказался в грогги – смотрел и не понимал, где я, что со мной и что надо делать.
– Брэк! – глумливо выкрикнул немец. – Айнс! Цвай! Драй! Фир!..
Я вскочил, уклонился нырком от бросившегося в атаку Гюнтера и нанёс ему прямой левой в солнечное, под приподнявшийся локоть.
Бой кончился.
Не опуская кулаков, я смотрел, тяжело дыша, как парня приводят в чувство. Двое или трое расстёгивали кобуры пистолетов, глядя на нас тяжёлыми глазами. Где‑то в конце минуты Гюнтер начал подавать признаки жизни.
– Аллес, – сказал я. – Ихь бин… короче, я победил. Ваше слово, господин офицер?
– Камерад официр, – сказал эсэсовец. – Найн герр официр, кнабэ [В самом деле, в войсках СС друг к другу обращались не «господин», а «товарищ», даже солдаты к офицерам.]. Йа. Дас ист аллес. Гее! [Да. Всё. Идите!] – и он сделал резкий жест рукой. – На, гее, вайта! [Ну, идите, живей! (нем.)]
– А консервы? – спросила Юлька.
37
– И тогда Юлька говорит: «А консервы?» Он аж позеленел!
От смеха не смог удержаться даже Хокканен. Я, тоже посмеиваясь, выложил на стол листок в половину А4.
– Вот, я там несколько штук оставил.
Под красной звездой было написано:
Те четыре эшелона, которые сойдут с рельсов в ближайшие сутки –
дело рук отряда «СМЕРЧ»!
Трепещите, гады!!!
РОССИЯ – ВАША МОГИЛА!!!
– Бориска, это уж и лишнее, – сердито сказал командир и постучал меня согнутым пальцем по лбу. – А если догадаются? Это – остановят эшелоны…
– Не успеют, – помотал головой Ромка. – Мой уголёк с самого верха.
– Я больше всего боялась, – призналась Юлька, – что они у мальчишек номера на руках заметят.
– Не, мы их хорошо замазали, и сейчас не оттирается! – Сашка потёр предплечье. – А дело‑то серьёзное…Артиллерию перебрасывают под Ленинград, – он передал командиру листок из блокнота. – Тут вся информация, мы потом, в лесу, записали.
– Хорошо поработали, ребята, – похвалил Хокканен. – Но второй раз это уже не пройдёт.
– А, ещё чего‑нибудь придумаем, – беззаботно отозвался Женька…
…Около нашего шалаша стояли Егор и незнакомый мальчишка со светлыми вихрами. Мы вообще заметили, что в лагере оживлённо и резко прибавилось людей, в том числе – женщин и детской мелочи, шли возбужденные разговоры, около кухни ораторствовала тётя Фрося.
– Что‑то тут произошло, – мельком заметил Сашка и, вздохнув, сказал Егору: – Ладно, берём.
– И меня, – вмешался незнакомый парень. Сашка поднял бровь:
– А ты кто?
– Мы из Головищева, – отозвался тот. – Я Севов… Виктор. Нас немцы три дня назад сожгли. Выгнали и запалили со всех сторон, а людей – в грузовики… – он передёрнул плечами. – Ну, кто попрятался – потом пошли вас искать… ну, не вас, а вообще партизан… – он вдруг стиснул зубы так, что я услышал скрип и отчаянно сказал: – Если не возьмёте, я убегу, один буду…
– Парень, – Сашка помолчал. – В отряд тебя всё равно примут. Чего ты к нам рвёшься? Мы за три месяца два раза пополнение принимали. Первый раз – шесть человек. Двух уже нет. Второй раз – двоих, и один тоже уже погиб.
– Про вас уже вся округа знает, – он неловко улыбнулся. – Дубок, Тихий, Шалыга, Мак… Я с вами хочу.
– Вы слышали, про нас уже вся округа знает? – Сашка покрутил головой. – Ладно, заходим… – меня он придержал за плечо и, подождав, пока все войдёт в шалаш, тихо сказал: – Мефодий Алексеевич мне сказал…Он нас представил к награде. Как только опять самолёты будут, бумаги уйдут в штаб.
– Хорошие известия, – засмеялся я. – Помнишь, ты мечтал… Конечно, сам Иосиф Виссарионович не прилетит, но всё‑таки… – я вознамерился уйти в шалаш.
– Борька, погоди, – Сашка опять перехватил меня за руку. Каким‑то чутьём я понял, о чём пойдёт речь. – Борька, ты мой друг… Лучший друг, понимаешь? Но Юлька… ты…
– Да, – резко ответил я. – Я. И ты. А она – не знаю. Так что пусть всё идёт, как идёт – и выберет она.
– Идёт, – Сашка перевёл дыхание и протянул мне руку. – Дружба?
– Дружба, – я с удовольствием пожал её и подумал, что, если мы останемся живы, я бы не хотел расставаться с Сашкой. Хотя… кого бы Юлька не выбрала, второму всё равно лучше убраться подальше. Это будет честно. Мне почему‑то представилась картина: пятидесятые годы. Мы с Юлькой – в плащах, я в берете, она в косынке – идём по улице какого‑нибудь нового города, катим коляску с двумя детьми. Осень, предположим, но не дождь. А навстречу нам идёт такой плечистый мужик в распахнутой меховой куртке, в руке – ушанка, на ногах – унты и рюкзак за плечами. И Юлька мне говорит: «Смотри, это же Саша!» А он распахивает объятья и рычит: «А, вот и вы! А я прямо с аэродрома к вам, думаю – ну дай же повидаю! А у вас тут жара, не то что на Ямале!»
Я потряс головой. От картинки, нарисованной воображением, веяло чем‑то таким – из старых фильмов. Но она была привлекательной. А может – всё будет наоборот – и я окажусь руководителем колхоза где‑нибудь в казахских степях, и молодые энтузиастки, приехавшие поднимать целину, будут говорить друг другу: «По слухам, у него личная драма… А так очень видный мужчина!» Или нет, я лучше всё‑таки в армии останусь, как собирался.
– Ты бредишь, Борька, – негромко сказал я вслух. И вошёл в шалаш.
Вообще‑то шалаши мне нравились куда больше, чем землянки – в них было не так душно, да и просторнее. Делали их умельцы – высокие, с надёжным каркасом из жердей, перекрытые несколькими слоями лапника, никакой дождь не достанет. Кое‑кто уверял, что в таких шалашах и зимовать можно, но Мефодий Алексеевич однозначно заявил, что землянки позже делать всё равно придётся, потому что «это – таких дурачков, что бы это – в шалашах зимовать, я у себя, это, в отряде держать не стану.» Он прав, конечно. Но спать и просто сидеть в шалаше гораздо приятнее.
Пока я балдел снаружи под свои мысли о светлом будущем, наши уже расположились на лежаках и слушали, как Максим рассказывает «Капитан Сорви‑Голова» Буссенара. Я эту книжку не читал и тихонько присел на своё место, чтобы разуться и тоже послушать. Возясь со шнурками, я вдруг ощутил нечто непонятное…замер и понял: я дома. Вот что означало это чувство, и было оно почти пугающим. Примерно так я ощущал себя, когда возвращался из школы и садился на свой диван. Это время окончательно подмяло меня. Я не хотел этого, но никуда не мог деться от этого успокаивающего ощущения – Я ДОМА .
Я положил на широко расшнурованные ботинки портянки и, вытянувшись на лежаке, закрыл глаза, чтобы удержать слёзы…
…‑ Борька, Борис‑ка…
– Да он спит, не буди.
– Чего? – я открыл глаза. Все смотрели на меня, и Юлька, улыбаясь, попросила:
– Ты извини… я думала, ты просто задумался… Спой чего‑нибудь?
– Спеть… – буркнул я, садясь. – Ладно, сейчас спою… Гитару бы принесли, что ли?
– С бантом, – добавил Женька.
– Мещанство, – вывела резолюцию Зинка. Я хмыкнул и сказал:
– Да, стая. Я старик, – на меня уставились все, ещё не понимая, что я уже начал петь:
Я словно стёртый клык.
Не перегрызть мне память вольных снов.
В них пыл давно затих –
И больно бьют под дых
Глаза моих друзей.
Глаза моих друзей –
волков!..
…Когда я закончил любэшную «Луну», то обнаружилось, что около шалаша собрались человек двадцать, и кто‑то спросил, покашляв:
– Борька… а ещё петь будешь?
Я хмыкнул. Покачал головой:
– Буду, чёрт с вами.
38
Когда 30 июля началось наступление на Ржев, я уже знал, что оно будет неудачным. Но в лагере царило оживление, и мешать ему я не собирался.
Мы опять много работали и мало стреляли. Почти три четверти деревень в округе немцы опустошили. Делать дело становилось всё трудней, несмотря на то, что Большая Земля помогала, чем могла (только врача или хотя бы фельдшера никак не раскачивались прислать), хотя немцы вроде бы и не проявляли специальной контрпартизанской активности. Кто‑то из наших агентов наконец‑то донёс до нас, кто именно с той стороны руководит борьбой против нас. Длинного немца, который дважды ушёл от меня, звали Клаус Шпарнберг, майор СС. Он и заправлял объединёнными силами гестапо, полевой и вспомогательной полиции и охранных войск. Кроме того, ему помогали егеря – о них точно ничего сказать было нельзя кроме того, что они есть. Вот ведь как бывает – мы рапортовали об успехах, потерь практически не было, мы даже стали лучше питаться, потому что значительная часть населения деревень удрала в лес и делилась с нами последним уже не по принуждению, а по обязанности, обозлившись на немцев. И в то же время ощущался постоянный дискомфорт. Ещё и потому, что в отряде у нас на восемьдесят семь бойцов было уже больше девяноста женщин, детей и стариков, от которых польза была только на хозработах. Но гнать их было просто невозможно – они смотрели на нас, как на святые иконы и готовы были делать всё, что угодно, лишь бы им разрешили «жить в партизанах». По‑моему, фрицы сделали большую глупость, так жестоко зачищая деревни. Может, они и сами это понимали, но не могли остановиться и, главное, остановить своих ландскнехтов из Прибалтики.
Держалась жаркая, сухая погода. Леса кое‑где горели – то ли сами по себе, то ли не без помощи немцев, чьи самолёты по‑прежнему патрулировали воздух. По ночам всё чаще сыпались с неба звёзды – мы частенько не спали ночью и у нас хватало морального настроя ещё любоваться этим зрелищем. Я до сих пор помню буквально волшебную картину – звёздное небо, и мы идём под утро краем луга, на котором вся трава кажется серебряной от росы в лунном свете. Может быть, эта картина врезалась в память ещё и потому, что трудно забыть случившееся потом.
Мы должны были встретить на окраине Бряндино Ромку. Пятеро младших мальчишек – Ромка, Витюха, Лёньчик, Пашка и Пашка Короткий – обеспечивали нашу связь с агентурой в деревнях и подпольщиками, зашевелившимися наконец‑то в посёлках и в городах. Боялись мы за них – жутко. Но они могли проскользнуть там, где не только взрослых мужиков, но и нас ждали арест, а то и во‑обще смерть. Мы гордились тем, что мы разведка, но настоящими глазами отряды были именно эти мальчишки.
Ромка на встречу не пришёл. Мы сперва не слишком забеспокоились – контрольным временем считались ещё аж полсуток после указанного срока – и философски расположились в кустах за выгонами. С нашей четвёркой был Рэм – пулемёт мог пригодиться. Макс с остальными ушёл аж на Псковское озеро со своим заданием, мы не интересовались – с каким; меньше знаешь – лучше спишь.
В посёлке наблюдалось ленивое движение. Это были солдаты охранной части – в основном уже немолодые, за сорок, обстоятельные и не жестокие. Для борьбы с нами они не годились. Но, по слухам, в Бряндино отстаивался танковый полк, переброшенный по «железке» – это Ромка и должен был проверить. Это ведь только так говорят – мол, танк не иголка, не спрячешь. Ещё как спрячешь, и не только танк! Немцы маскировали все свои передвижения с иезуитской хитростью – ложные дивизии, артиллерийские полки, при ближнем рассмотрении оказывавшиеся собранными из жердей и тележных колёс, живущие напряжённой жизнью аэродромы, на которых не было ни одного настоящего самолёта – чего только мы не навидались. Подозреваю, что им кое‑когда даже удавалось нас перехитрить.
Мы с Сашкой в бинокли рассматривали посёлок. Бинокли у нас были мощные, трофейные, восемнадцатикратные «цейссы» – в моём времени со всеми его наворотами и прибамбасами таких уже не делают… Я наткнулся на великолепный слоган, который как раз клеил на покосившийся столб полицай с ведром клейстера – круто!
БЕРИ ХВОРОСТИНУ –
ГОНИ ЖИДА
В ПАЛЕСТИНУ!
За что люблю немцев – так это за их чувство юмора… Немногочисленных евреев, которые тут жили и не успели эвакуироваться, «освободители» радостно извели ещё к концу сорок первого. Специально, что ли, завозить их будут, чтобы было кого гнать? А скорее всего, просто велели избавиться от старых плакатов, вот и клеют их…По этому поводу мне вспомнилась попавшая к нам в руки директива, написанная, очевидно, каким‑то контуженным или перенапрягшимся в борьбе с нами «фюрером». «В последнее время участились случаи использования партизанами для разведки и связи молодых женщин еврейской национальности, внешне не похожих на евреек.» Где логика? Если они не похожи на евреек, то с чего взяли, что это еврейки? «Человек, похожий на генерального прокурора…»
Вспомнив об этой директиве, я хмыкнул, перевёл бинокль…и Сашка даже не ткнул – ударил меня локтем:
– Смотри, – тихо‑тихо сказал он. – Только молча, Борь. Вон там. У сарая.
Ничего не понимая, я повёл биноклем обратно, дальше – и увидел Ромку.
Нашего связного вели двое полицаев. Честное слово, как в кино… только это было не кино. Они вели его и били прикладами. Поднимали, вели и опять били. И опять поднимали и вели, и снова били. На Ромке оставались только рваные штаны, он был пёстро‑чёрный от побоев и с трудом поднимал голову. Следом вышагивал офицер‑немец. Я видел, что солдаты‑охранники, попадавшиеся на пути, смотрели вслед подолгу, и лица у них были… как у беспомощных людей, которые видят что‑то мерзкое и не могут помешать. Наверное, я схватил ЭмПи, потому что Женька сонно спросил:
– Что там?
– Н… ничего, – ответил я. Сашка пожал мой локоть. Я убрал руку от оружия.
Ромку вывели к самой околице, к дороге, где стоял какой‑то сарай. Он не был связан, его подтащили к двери и…
Я не охнул только потому, что перехватило горло.
Полицаи стали ПРИБИВАТЬ мальчишку к двери.
Именно прибивать – за поднятые над головой руки и за ноги, наложив их друг на друга. Офицер стоял рядом и что‑то говорил. Ромка не кричал, я видел его лицо – с подёрнутыми какой‑то плёнкой глазами, только голова у него дёргалась при каждом ударе, а под конец изо рта поползла струйка крови. Немец повесил ему на шею какую‑то табличку и ушёл, не оглядываясь. Полицаи уселись неподалёку на траву и стали закусывать, появилась бутылка.
П А Р Т И З А Н
Так гласили чёрные буквы на дощечке.
Я отложил бинокль…
…Полицаи разговаривали – несли что‑то нудное, замешанное на мате. Когда их сменили, я пришёл в настоящую ярость. Но как раз к вечеру первая парочка явилась снова. Один из них несколько раз пнул Ромку в пах и в живот сапогом и заржал, когда тот дёрнулся на гвоздях. Я видел это в бинокль.
А теперь полицаи были рядом. Горел костерок, неподалёку лязгала какая‑то техника. Но меня это мало интересовало. Нам с Сашкой оставалось проползти считанные метры.
– Щенок, слышь, щенок! – один из полицаев кинул в Ромку комком земли. – Ты живой?
– Живо‑ой, он так долго проживёт ещё, – отозвался второй. – Гадёныш краснопузый…
Это было последнее, что он сказал. Сашка, встав у него за спиной, перерезал ему горло. Первый выпучил глаза, схватился за винтовку… но тут же перенёс ладони к шее и сказал:
– Ыак… ульк… – и упал в костёр. Я подхватил его и положил рядом.
– Вас ист лоос? [Что случилось?] – окликнули неподалёку. Сашка прохрипел:
– В порядке всё, ага… – и мы застыли, но продолжения не последовало.
Из темноты уже выскочили Юлька и Женька, завозились около Ромки. Рэм залёг в стороне с пулемётом. Сашка скомандовал:
– Юль, давай за подводой. Ты знаешь, к кому… Его к Мухареву надо везти, там врач… К лесу пригонишь.
– Ага! – девчонка пропала в темноте. Снять Ромку никак не удавалось – широкие шляпки гвоздей вдавились в распухшее тело. Мы все трое шёпотом матерились сквозь зубы, и гвозди подались. Ромка тихонько застонал, в стоне прорезались слова:
– Не… ска… жу…
Женька заплакал. Сашка взял Ромку на руки. Тот опять застонал и прошептал:
– Не… ска… жу… га… ды…
– Давайте к лесу, – мотнул головой я. Присел, повозил ладонью в крови одного из полицаев. И вмах написал на том месте, где распяли Ромку:
БЕРЕГИТЕСЬ, ГАДЫ!!!
Потом, приподняв тело одного из убитых, вырвал из «лимонки», снятой с пояса, кольцо, сунул гранату ему в штаны и осторожно опустил зарезанного, прижав рычаг предохранителя. Второго я заминировал «консервой», неглубоко прикопав её под животом убитого.
– Подарочек, б…я, – сказал я и бегом, пригнувшись, помчался к лесу.
Юлька привела подводу одновременно с моим возвращением. Её сопровождал какой‑то мужик – угрюмый, он, тем не менее, раструсил в телеге сено и сам осторожно уложил на него Ромку (тот был в сознании, но молчал) и укрыл принесённым немецким одеялом. Постоял молча, а потом сказал:
– Как его на допрос‑то вели… жена моя с пустыми вёдрами навстречу. А он ей: Что ж ты, тёть, с пустыми‑то?!» – и смеётся… – и перекрестил нас. – Езжайте…
39
До отряда Мухарева мы добирались долго. Мы с Сашкой шли впереди, он справа, я слева, Женька и Рэм замыкали шествие. Юлька шагала рядом с подводой, на которой трясся Ромка. Он молчал, безучастно глядя в небо, и Юлька то и дело наклонялась к нему:
– Ром, ты живой?
– Да, – как правило односложно отвечал он. Но я, оглядываясь, видел, что ему очень плохо. Мне вспоминалась наша первая встреча, когда я подумал, что неплохо бы надавать по шее этому мальчишке, так ловко плюющему сквозь зубы. Сейчас я бы поменялся с ним местами. Не из‑за героизма, а просто из‑за того, что он младше и ему труднее терпеть. Его ровесники в моём времени хныкали бы или вообще заливались бы слезами… да и мои тоже.
Или, может, я слишком плохо думаю о своих? Что мы вообще знаем о самих себе, о том, кто и как себя поведёт, случись что в жизни? Да ничего, наверное…
…Добрались мы уже когда стало темнеть. Подводу сразу куда‑то увели, Юлька пошла с ней вместе – и с ещё каким‑то бородатым мужиком в кожанке – наверное, это и был Василий Григорьевич Мухарев, командир отряда. А к нам троим подошёл молодой мужик в кубанке и тельняшке, видневшейся под застиранной гимнастёркой.
– Есть хотите, небось? – спросил он. – Командир велел вас накормить. Сказал – стоят там, сразу узнаешь; тощие.
– Не объедим? – усмехнулся Сашка. То ли моряк, то ли казак хмыкнул, смерил Сашку взглядом:
– Да уж как‑нибудь… Пошли вон к костру.
Несмотря на подколки, в его взгляде и словах насмешки не было. Я это уже заметил и не в первый раз подумал, что тут отношение к людям определяется фразой Хайнлайна: «Кто выжил в первом бою – уже ветеран!» И не важно, сколько лет человеку. Раз он в партизанах и живой – значит, боец.
– Как там у вас? – спросил он на ходу. – Сильно жмут‑то?
– Да сейчас ещё ничего, – ответил Сашка. – Сейчас у них на фронте дел много. А вот в мае, как мы только пришли в отряд, совсем плохо было.
– Вот и нас тогда из партизанского края выжали, – вспомнил наш сопровождающий. – Народу побили – ужас… С нами почти все жители в леса ушли. И не бросишь, и как гири на ногах висят… А про ваши дела мы наслышаны. Как там… – он заулыбался, вспоминая: – «Терпенье и труд всё перепрут!»?
– Это вот он придумал, – Сашка стукнул меня по плечу.
Около большущего костра стоял громогласный хохот. Мы присели на обрубок бревна. Хохотали все над невысоким коренастым парнишкой, обряженным поверх обычной формы в… белый парадный китель генерала вермахта со всеми регалиями. Отталкивая локтем висящий на правом бедре ППШ, парнишка что‑то рассказывал возбуждённо, то и дело округляя серые глаза и взмахивая свобод‑ной рукой. Нам его и слышно толком не было за общим хохотом.
Тихая невысокая женщина раздала нам миски с жареной молодой картошкой и мясом, ложки, кружки с настоящим чаем, передала Сашке круглую буханку хлеба. Я только теперь понял, до какой степени хочу есть – просто до судорог в кишках. Сашка, прижав буханку к груди, кромсал её на ломти своей финкой – той самой, которой недавно зарезал часового. А я думал только о том, что‑бы он делил поскорее…
Мальчишка – всё ещё в кителе – закончил веселить окружающих и, риняв из чьих‑то рук свою порцию, подсел к нам. По‑хозяйски, не обращая на нас особого внимания, только окинул всех взглядом. Ел он не очень быстро, но крупно, если можно так сказать, прикончил свой хлеб, когда картошки оставалась ещё треть, вздохнул, и Сашка протянул ему ломоть:
– Держи.
– Ага, спасибо, – он движением плеч сбросил китель. – Жаркий, зараза…
– Откуда взял‑то? – спросил Женька. Мальчишка, снова принимаясь за еду, поморщился:
– Да…
– Голик у нас герой, – сказал кто‑то. – Такого зверя сегодня загнал! Генерала фрицевского! Документы в штаб пошли, которые генерал вёз, а китель как трохфей победителю. Великоват только.
– Будет зубы скалить, – буркнул мальчишка. – Смеши их…
– Ты – Голик, Лёнька Голиков?! – вырвалось у меня. Вокруг засмеялись:
– О, слава‑то!..
– Везде про него слыхали…
– Чисто народный артист…
– Ну, я Голик, – кивнул он, сердито посмотрев на старших товарищей. – Погоди, а вы… – он обвёл нас взглядом и мелодично присвистнул: – Дубок, Тихий, Шалыга! Из отряда «Смерч»! – в его глазах появилось детское восхищение мальчишки, увидавшего на улице живого Спайдермена. Пухлые губы патрона нашей дружины разъехались в улыбке, он пропел, сбиваясь на басок:
Друг мой, если ты
Вернёшься из России –
Не забудь свою башку
Под мышкой принести –
Тирьям‑та‑там!
Прихвати мою
Оторванную ногу –
Я её оставил где‑то
На русских полях –
Тирьям‑та‑та!..
У нас весь отряд её пел! Здорово! А как по‑немецки?
– Майне либер фройнд… – завёл Женька охотно. А я смотрел на Лёньку и думал. Думал, что через неполных пять месяцев он погибнет в стычке с егерями, прикрывая отход товарищей. И я это знаю!!!
Предупредить? Не поверит. А если и поверит, то что изменится? Тут же нет никакой случайности, тут всё закономерно – он поступит так, как должен поступить. Пока Женька пел, а я разглядывал будущего Героя Советского Союза, восторженно внимающего плохо зарифмованным словам на немецком, к нам подошла Юлька с молодой женщиной, даже скорей девушкой – курносой, с косами. Мы поднялись, понимая, что это и есть врач.
– Мальчик жив и будет жить, – сказала она. – Завтра у нас самолёт на Большую Землю, отправим и его… Да. Он просил передать, что танкового полка в посёлке нет, это обман.
– Ясно, – Сашка вздохнул. – Большое вам спасибо.
Мы засобирались обратно. Лёнька стоял рядом с нами, ничего не говорил, а я то и дело поглядывал на него, просто не в силах заставить себя поверить, что это наяву. А когда наш неспешный транспорт уже отчаливал под лошадиное пофыркиванье (хорошо смазанные колёса не скрипели), я задержался и взял Голикова за плечо:
– Слушай… ты поосторожнее… – скомканно сказал я. Он не удивился и ответил, хлопнув меня по спине:
– Ага. И ты тоже, слышишь? Мы с тобой ещё в Берлине повидаемся!
Мы, не сговариваясь, обнялись, опять похлопали друг друга по спинам. Лёнька отшагнул, поднял руку, прощаясь, крикнул:
– Увидимся! Может, ещё и до Берлина!
– Обязательно! – ответил я, вместе со мной замахали все, и я прошептал тихо: – Никогда…
Я на ходу запрыгнул на телегу, привалился к Сашкиной спине. Рэм сидел с одной стороны, Женька – с другой, Юлька правила. Мимо тянулись, покачиваясь, тёмные кусты…
– Борька, ты чего? – тихо спросил Сашка через какое‑то время.
– Я? – искренне удивился я; мне казалось, что я задремал. – А что?
– Не знаю, с собой разговариваешь. Бормочешь…
– Да так… Понимаешь, Лёнька Голиков… он…
– Да, геройский парень, – вздохнул Сашка и потянулся. – Это же надо – генерала!.. С документами… Вот где Герой‑то…
– Да, – согласился я. И опять пробормотал: – Только посмертно…
– Да что ты всё бормочешь? – почти рассердился Сашка.
– Завидую, – честно сказал я.
А звёзды падали и падали через чёрное небо. И я, покачиваясь на телеге, вспомнил, что каждая упавшая звезда – чья‑то оборвавшаяся жизнь. Нет, если бы это было правдой, звёзды сейчас лились бы с неба, как дождь, как лавина. Потоку не было бы конца…"Мне этот бой не забыть нипочём. Смертью пропитан воздух… А с небосклона бесшумным дождём Падали звёзды…» А ещё каждая звезда – исполнившееся желание… Скаут не должен быть суеверным, но я выбрал момент и прошептал:
– Пусть он будет жив…
40
Меня разбудил крик Сашки:
– Разведка, подъём, скорее! Наши в засаду попали!
Одеваться я научился мгновенно. Какие там сорок пять секунд – и полуминуты не прошло, как я уже вылетел наружу, где грузились в повозки бойцы. Сашка махнул рукой:
– Нет! Напрямик! С тыла обойдём!
В засаду попал первый взвод, направлявшийся для обстрела расквартированной в одной из выселенных деревень маршевой испанской роты, следовавшей в «Голубую Дивизию». На повороте дороги в трёх километрах от опушки леса по ним чесанули из десятка автоматических стволов. Командир взвода капитан Малявин был убит наповал в первую секунду. В последующие пять или шесть – ещё человек пять и столько же ранено. Попытка контратаки была подавлена. Верховой, прискакавший в лагерь, докладывал о бое с крупным подразделением противника.
Бегать по ночному лесу – занятие бездарное и опасное. Но мы хорошо изучили этот лес и держали курс точно, ориентируясь на стрельбу МG‑34 – таких пулемётов у нас не было, это могли стрелять только немцы. Вообще тарарам там стоял дикий, впечатление было такое, что бой ведут рота на роту, рвались гранаты…
Немцы в самом деле отлично выбрали место – там дорога спускалась в ложбинку перед выходом на луг, укрыться было практически негде, огонь они вели буквально в упор, а ответный – наугад, вверх, в лес, вслепую. Непонятно было только, на что они вообще рассчитывают. Тем более, что мы вышли им в тыл, как рассчитали – чуть выше склона, на лесистый холм.
– Вон они, – указал Сашка.
– Вижу четыре огневых точки, пулемёт и три автомата, – доложил Максим. – Их что, всего четверо?
– Потом, – Сашка азартно оскалился. – Подползаем и гранатами, потом наваливаемся с «ура!» и колем. Вперёд.
В уже занимавшемся рассвете мы подобрались ближе…
…Около приклада пулемёта, среди лент, лежал, скорчившись, рослый человек в маскировочном костюме, из‑под кепи выбивался клок светлых волос. Ноги у человека были перевязаны бурыми тряпками бинтов. Слева и справа от него в разных местах были привязаны к деревьям три МР‑40, валялись пустые магазины и россыпи гильз. От человека к спускам пистолет‑пулемётов вели тросики.
– Он вообще один, – растерянно сказал Женька. На склон, азартно матерясь, лезли наши партизаны, застывали в недоумении, появился Мефодий Алексеевич…
– Это что же… – он снял ушанку, потёр лысину. – Это один, что ли?
– Один, – зло подтвердил я. – Остальные давно ушли. Сорвали нам атаку, намолотили наших и ушли. А этот раненый, остался своих прикрывать. И работал за целый отряд… Это егерь, товарищ командир.
– Ну‑ка… – кто‑то из наших, подойдя, взялся за плечо убитого.
– Не трога‑ать! – заорал Сашка и, видя, что уже поздно: – Ложи‑ись!
Зинка успела сбить с ног командира. При взрыве упрятанной под животом егеря гранаты погиб только «любопытный».
А позже выяснилось, что бесследно пропал Покалюжный – тот самый партизан, который был агентом гестапо и которого мы перевербовали, переправив его семью в отряд Мухарева. Сперва думали, что он бежал. Но потом на тропе нашли следы борьбы и, как менты говорят в моё время, «волочения тела». Никто не видел, как и когда егеря унесли Виктора. Но стало ясно, что по большей части налёт затеян именно из‑за него.
Оставались два варианта. Либо у нас в отряде снова «дятел». Либо – и это было едва ли не страшнее – мы под плотным наблюдением врага…
… ‑ Продолжают успешное наступление на Синявинском плацдарме. Близок час полной деблокады города Ленина!.. Напечатал?
– Так точно, Илмари Ахтович, – я размял пальцы.
– Теперь размножь в ста экземплярах, – он закурил.
– Слушаюсь, – я вздохнул, пытаясь вспомнить, чем окончились бои на Синявинском плацдарме. Если учесть, что блокаду сняли только в 44‑м – вряд ли успешно… Мне хотелось спать и немного болела голова. – Товарищ капитан… – он посмотрел на меня вопросительно: – Что с егерями делать будем?
Хокканен ответил не сразу. Он затянулся, с наслаждением выпустил клуб дыма и неторопливо сказал:
– Мне кажется, исходящая от них опасность резко преувеличена.
Здрасьте! Я хотел уже заспорить, но в дверь просунулся командир второго взвода:
– Товарищ капитан. К Мухареву самолёт прилетел, нам тут привезли кое‑что, врача прислали, двух минёров… И ещё корреспондент приехал. Говорит – специально к нашим… – и он подмигнул мне…
…Внешне корреспондент ничуть не походил на привычных мне представителей этой древнейшей профессии. Он был в форме, в длинном кожаном плаще, перетянутом ремнями, в армейской фуражке – ну типичный офицер, только без знаков различия. Однако, повадки у него оказались ничуть не отличавшиеся от повадок его соратников через шестьдесят лет. Деловито окинув нас взглядом, он тут же начал распоряжаться:
– Сначала сделаем снимки, потом поговорим, возьмём интервью… Давайте снимемся вместе где‑нибудь… хотя бы вон там! – он упёр указующий перст в здоровенный стог метрах в ста от нас. – Пошли! – и первым двинулся в том направлении. Отконвоировав нас к стогу, он продолжал распоряжаться: – Значит так. Ты… Александр?.. Не важно… Так, ты садись вот здесь… Девочка вот сюда… Ты встань вот тут… нет, сядь… нет, встань, было лучше, а вот ты сядь на корточки… Нет, в объектив не смотрите… Так, девочка – улыбнись. Смотри на него и улыбайся… Ты, мальчик, соломинку возьми в зубы и как бы слушай… Нет, чего‑то не хватает!.. А! Вот что! Сними‑ка сапог… Да‑да, сними и сидя как бы перематывай портянку… Вот! Стоп! Отлично! Замерли! – несколько раз щёлкнул аппарат. – Всё, с этим закончили… Теперь по отдельности, портретные…
В общем, замашки у него были знакомые. Мои дружки ошалели от его напористости и подчинялись ему, как зомби. Юлька что‑то пискнула о том, как её лучше фотографировать, но корреспондент только хмыкнул и изогнул бровь.
Когда со съёмками было закончено, он достал трубочку – почти как у Хокканенна – блокнот и, закурив, жестом усадил нас.
– Ну, теперь давайте знакомиться, – он поправил короткие усики. – Симонов. Константин Александрович. [Симонов Константин (Кирилл) Александрович (1915–1974 г.г.), русский, советский поэт, автор множества лирических, патриотических и исторических произведений. Расцвет его творчества пришёлся на годы Великой Отечественной, в которой Симонов принимал активное участие, как военный корреспондент «Красной Звезды». Такие его стихотворения, как «Убей его!», «Жди меня», «Корреспондентская застольная» стали настоящими народными песнями. Вполне естественно, что Борька, при всей его начитанности, не знает о Симонове ничего – современной власти поэт «пришёлся не ко двору» и был изгнан из школьной программы. (В отличие от «исторически достоверной» встречи героя с Лёней Голиковым – она действительно могла состояться там, в это время и при таких обстоятельствах – эта встреча целиком на моей совести и нужна была «для антуража» – прим. автора)]
– Кто?! – Женька вытаращил глаза. – Вы… А… Ну да, конечно! – он хлопнул себя по лбу и, покраснев, прочитал: –
Нет больше Родины.
Ни неба, ни земли.
Ни хлеба, ни воды.
Всё взято…
– Это же… вы? Я ваше «Ледовое побоище» на школьном вечере читала! – почти закричала Юлька. – Наизусть! Правда! – словно корреспондент, который вдруг тоже покраснел и стал намного моложе, ей не верил. Сашка, глуповато приоткрыв рот, молчал, потом спросил:
– А «Убей его» вы написали, да?
– Я, я, всё я, – словно защищаясь, Симонов поднял руки и почти жалобно попросил: – Ребята, давайте о вас. Я что, я самый обычный военкор…
– А мы самые обычные партизаны, – пожала плечами Юлька. – Таких в каждом отряде полно…
– Самые обычные… – задумчиво сказал он и улыбнулся. – А что, хорошее название! Я так и назову очерк: «Самые обычные»! А фотографии перешлю с оказией… ну, в крайнем случае, получите после войны! Ну, начнём с тебя, Александр…
– Вы лучше вопросы задавайте, – Сашка смутился, – я так рассказывать не умею, это у нас вон Борька мастер…
– Борька – это ты? – военкор повернулся ко мне. Я кивнул. – Хорошо. Тогда пусть ты будешь первым…
…Пока нас интервьюировали, Мефодия Алексеевича и Хокканена интервьюировали тоже. Вместе с минёрами и врачом прибыли двое офицеров, как сказали бы, «из органов». Правда, не с целью вершить суд и расправу за реальные или мнимые вины. Всё обстояло куда сложнее.
На одной из станций, как выяснилось, немцы организовали пересыльный лагерь для пленных офицеров и набивали его, как бочку сельдями. Мы об этом что‑то слышали краем уха, но значения не придали. Теперь же выяснилось, что в лагере содержатся люди, которых в плену оставлять никак нельзя, тем более, что немцы активно склоняют пленных к сотрудничеству. Лагерь следовало уничтожить, пленных вывести в район Порхова для последующей эвакуации или рассредоточения по отрядам. Для этого предполагалось временно объединить несколько отрядов в бригаду под командой Мухарева, совершить марш к станции и провести эту операцию.
Осложнялось всё тем, что немцы плотно на нас «сели». И нам конкретно это они показали сегодня ночью. А приказы не обсуждают – их выполняют.
И всё тут.
41
На этот раз совещание проводилось в расширенном составе и в присутствии чинов из НКВД. Собралось больше десяти человек – решали, как быть и что делать.
На егерей жаловались все. То и дело срывались операции, пропадали люди, в деревнях шли аресты надёжно законспирированных осведомителей. У нас ещё дела обстояли неплохо, а вот в отряде «Запал», действовавшем на западе, ночью убили из арбалетов командира и начальника штаба, а связиста похитили прямо из лагеря.
Раньше – по книжкам и фильмам – у меня создалось впечатление, что немцы боялись леса. В общем‑то оказалось, что книжки и фильмы не врали. Немцы в самом деле было беспомощны в лесу. В массе своей. Но их егеря оказались более чем опасны.
Эти немногочисленные подразделения абвер набирал с бору по сосенке – среди браконьеров (даже в тюрьмах!), профессиональных охотников (разыскивая таких даже в Канаде!), лесников, не гнушаясь включать в подразделения и местных жителей (правда, отдавая предпочтение фольксдойче и прибалтам). Всё, что я могу сказать – эти люди обладали чудовищным терпением и высочайшими профессиональными качествами. Мы постоянно ощущали их присутствие, и мысль о том, что наши леса могут стать опасными, вызывала сильный мандраж у всех.
А между тем, это было так. Егеря и не пытались воевать против нас. Они за нами следили, и это было даже отвратнее любого внезапного нападения, потому что было ясно, что они собирают сведения… и так же ясно – для чего. За зиму и первую половину весны они вот таким образом уничтожили в наших местах больше двадцати отрядов. Локализовали место, собирали информацию, а потом со всех сторон на базу обрушивались регулярные войска, поддержанные артиллерией и авиацией, действующими по наводке тех же егерей. Штаб егерей находился в далёком Ревеле. И я не слышал, чтобы нашим удалось уничтожить хоть одну команду, хотя схватки были. Но егеря каждый раз уходили, как вода в песок. И этим летом мы с их деятельностью плотно познакомились, когда заставили всё бросить и бежать.
Мы на совещании уже не присутствовали – отправились в одну из многочисленных «лесных деревень», рассеянных по лесам, где люди потихоньку готовились к зиме и ожидали перемен к лучшему на фронте. У меня посещение таких деревень всегда оставляло двойственное чувство. Жутковато и жалко было смотреть на то, как целые семьи жили в шалашах, да ещё и отдавали нам часть продуктов, на одетых в обноски детей, которым я несколько раз совал свой сухой паёк, хотя Мефодий Алексеевич побожился, что будет за это строго наказывать, на замученных и внешне равнодушных взрослых… Почти рядом с каждым таким «поселением каменного века» было кладбище, на лесных тропах мы несколько раз встречали священника (так и не знаю, как его звали, откуда он был, как обходил ловушки егерей и полиции!), который неутомимо отмерял километры, совершая своё служение… Но я видел, как дети на поляне, собравшись вокруг молодой женщины в строгом платье, повторяли за ней: «Мы – не рабы. Рабы – не мы» – это была школа. И мне никогда не удавалось всучить свой паёк старшим ребятам – они глядели жадными глазами, но прятали руки за спину, как бы боясь, что те не выдержат и возьмут еду: «У партизан брать нельзя, мамка запретила.»
Мне никогда не забыть и «настоящих» деревень, черневших пепелищами с обелисками закопчёных печей. Мы были в Сухом Логу, с которого фактически началось моё здешнее путешествие. В начале августа каратели сожгли деревню. Вместе с жителями. Те, кто спасся, при нас раскапывали уже на остывшем пепелище колхозного амбара почерневшие кости и раскладывали их комплектами – по количеству и размеру – чтобы похоронить. В лесу я метал финку в деревья так, что потом с трудом получалось её вытащить – и рычал, рычал, чтобы не заплакать…
…Когда мы вернулись, совещание закончилось, командиры разошлись и разъехались, а наше собственное командование мы застали в прострации. Причину такого состояния выяснить удалось сразу. Для того, чтобы отвлечь внимание противника от концентрации сил у лагеря, решено было обратиться к старому, но действенному средству – провести отвлекающую акцию. Причём цель акции была выбрана не демонстративная, а вполне реальная и важная: аэродром бомбардировочной авиации Люфтваффе. Нашему отряду было приказано в трёхдневный срок разработать и провести операцию по его выводу из строя. Приказ отдавал чем‑то мистическим – мы хорошо знали этот аэродром и не раз к нему примерялись… как, впрочем, и наша авиация. Для той всё кончалось потерями и парой воронок на ВПП, которые немцы мгновенно засыпали. А мы, повздыхав и покачав головой, отступались, утешая себя тем, что это «до лучших времён».
«Отцы‑командиры» созвали нас на совещание N2, «в семейном кругу», с чаем из настоящей заварки и немецкими сладкими галетами. Впрочем, тему подсластить не удалось бы даже горшком мёду, будь он у нас в наличии.
Наверное, с нас можно было бы в этот момент лепить скульптурную группу «Отчаянье». Нарушал патетичность Женька, который громко грыз карандаш.
– Хватит, а? – попросил я наконец. – Дефицит же…
– Ничего тут не сделаешь, – вместо ответа сказал Женька, бросая карандаш на план. – Это не аэродром, это крепость.
– Да уж… – Сашка подёргал себя за волосы и беспомощно посмотрел на Мефодия Алексеевича: – Ничего не выходит, товарищ командир.
– Это, ребятки… – вдруг неожиданно ласково сказал он и обнял нас, скольких достал. – Это… надо, ребятки, понимаете? И не в том это дело, что там это – для прикрытия… Это – бог с ним. Тут дело так… Они это – с того аэродрома Ладогу это. Бомбят. Караваны это с едой для Ленинграда. Во как надо это, – и он провёл ладонью по горлу. – У вас это – головки светлые, молодые это. Вон сколько это – всего напридумали, слава‑то это какая про вас идёт, громом это – гремит! Вы уж думайте. Люди‑то это без продуктов – мрут. Детишки мрут. Младше вашего. Сами это знаете. Возьмут это фрицы город – считай сердце это. Вырвали, – просто, без патетики сказал командир.
Мы спрятали глаза. Я почувствовал, что их у меня защипало.
Умерли все.
Осталась одна Таня.
Я вспомнил листки из блокнота, лежащие под стеклом, которые видел в своём времени. Было лето, но мне Ленинград почему‑то представлялся всё время зимним, промороженным насквозь, с хмурым сизым солнцем в вечернем небе, с трупами на салазках и молчаливыми очередями у прорубей во льду Невы. Я знал, что немцы его не возьмут. Не смогут уморить голодом. Не заставят сдаться. Но моё знание было мёртвым и пыльным по сравнению со вновь и вновь всплывающими перед глазами строчками – они поднимались, как мертвец из могилы…
Умерли все.
Осталась одна Таня.
И тогда я понял, что сейчас скажу. Это было страшно… но мне не было страшно, меня словно подняло и понесло на гребне сияющей, пронизанной золотом волны…
– Сделаем так, – сказал я спокойно и встал. – Нужен грузовик. Погрузим взрывчатку, прикроем её с боков тёсом, кабину закроем мешками с песком. Я сяду за руль. Протараню ворота и врежусь в склад с горючкой, там надписи должны быть. Получится, не может не получиться. Пока они очухаются… Пи…нёт так, что с неба ангелы посыплются.
Стало тихо. На меня смотрели все. Юлька, отчётливо белея, спросила:
– А… ты?..
– Ну… я, – я неловко пожал плечами.
– Боря, сынок, – сказал командир, – это же смерть. Это. Верная.
– Да знаю я, – я почесал бровь. – Ну… что ж. Я солдат. Я клятву давал. А те, в Ленинграде – они беззащитные…
– Камикадзе… – негромко сказал Хокканен, я увидел на бесстрастном лице финна признаки эмоций и возразил:
– Нет, Илмари Ахтович. Камикадзе тут ни при чём. Я не фанатик и не сумасшедший.
– Будем жребий тянуть, – сказал Сашка. Я засмеялся:
– Ты умеешь водить машину?
Сашка матерно выругался. В зубах Женьки треснул карандаш, и он сказал:
– Никому никуда не надо взрываться… Мне нужны много керосина, двенадцать трёхметровых обрезков рельсов, длинная стальная труба и те шесть четвертьтоных авиабомб, которые лежат в лесу, – видя всеобщее замешательство, Женька обвёл нас взглядом и спросил: – Вы знаете, что такое ГИРД?… [Созданная и возглавлявшаяся С.П. Королёвым организация по конструированию реактивных двигателей. ГИРД – Группа Изучения Реактивного Движения – существовала в 1932–1933 г.г. Аббревиатура стала нарицательной. ]
…Бомбы эти лежали в лесу возле болота с незапамятных времён как утверждение абсурдности войны. Никто не знал толком, как они туда попали и к ним уже относились, как к части пейзажа. Я понял, что собирается делать Женька, но не слишком поверил в успех его затеи, хотя умение людей этого времени руками сделать из дерьма вкусную конфетку в красивом фантике для меня уже стало чем‑то привычным. Из‑за незнакомой никому конструкции на бомбы не покушались даже во времена тягчайшей нехватки взрывчатки, особенно после того, как при попытке «обезжирить» седьмую в марте разорвало в клочья отрядного минёра. Поэтому, когда бомбы привезли в лагерь, замаскировав сеном, лагерь впал в глубокую задумчивость, а после того, как Женька начал что‑то химичить с ними и синтетическим немецким топливом (керосина не достали) в отдельном шалаше, соседние шалаши стремительно опустели.
После двадцати часов непрерывной работы, во время которой в шалаше ухало, трещало, дымило и слышались какие‑то сложные заклинания, Женька с двумя подручными допустил до осмотра командование и нас.
Не знаю, как остальные, а я обалдел, потому что в шалаше нашим взорам предстали шесть… ракет. Да‑да, грубо сделанных, но настоящих ракет с двигателями. Очевидно, остальные тоже в некотором роде были удивлены, потому что посреди всеобщего почтительного молчания Мефодий Алексеевич робко спросил:
– Жень… это… а это чего?..
42
Честное слово, не знаю, почему егеря проворонили наш парадный выезд. Очевидно, они привыкли, что телеги мелькают туда‑сюда то с сеном то без, а то и вообще отлучились на отдых. И на старуху бывает проруха. Вместе с ракетами везли направляющие, сделанные из украденных у немцев же рельсов. Женька ехал на первой телеге с видом Гагарина – словно он сам собирался десантироваться с этой ракеты на немецкий аэродром. Вообще‑то его можно было понять.
Недалеко от цели нашего рейда, когда за опушкой леса уже виднелись здания расселенного немцами посёлка, где они устроили аэродром, нам повстречались две женщины, собиравшие грибы. Одна просто безразлично прошла мимо, вторая переговорила с командиром и Хокканеном и тоже растаяла в зарослях. А наши руководители подошли к нам.
– Дело такое, – Илмари Ахтович разложил на одной из телег блокнот и начал чертить схему. – На аэродроме сейчас Клаус Шпарнберг… – Сашка завозился, я побарабанил по передку. – Вот дома охраны… Вот штаб, а вот – вроде гостиницы для приезжающих… Если бы его…
Оснащённые реактивными двигателями бомбы срывались с направляющих как‑то валко и медленно – даже не срывались, а скорее раздумчиво сходили – и, так же неспешно набирая скорость, уходили вверх по дуге. Задрав головы, все наблюдали за этим полётом – и так заворожило нас это зрелище, что, когда грохнул первый взрыв, все вздрогнули и дико заозирались.
– Первая, – сказал Женька и начал кусать губы.
Ещё взрыв. Ещё. Вой сирены. Ещё… Ещ…
В этот момент ахнуло так, что мы попадали наземь. В небо поднялся чудовищный султан мрачного багряного пламени, свернулся в чёрный клубок и погас, но над деревьями заиграло оранжевое зарево пожара. Лежавший лицом к лицу со мной командир спросил меня почти испуганно:
– Бориска, это – куда ж мы это… попали‑то?!.
Мне было не до этого, я толком и не слышал вопроса. Я мчался в сторону пожара так, словно там меня ждали все мои сбывшиеся мечты…
…На окраине мы сразу потеряли друг друга. Воздух был полон гулом и треском, трудно стало дышать, плыли слои едкого дыма, надрывались сирены и человеческие голоса тонули во всей этой какофонии. В тот момент я думал только об одном – чтобы меня никто не опередил.
Дверь в гостиницу была загромождена крылом самолёта – дымящимся, невесть как сюда заброшенным. Звенели разбиваемые стёкла – наружу прыгали люди, ничего не понимающие и толком не соображающие, кто‑то наткнулся на меня, оттолкнул и помчался дальше. Я подлез под крыло, навалился на дверь и оказался в коридоре. Прямо передо мной молодой парень в солдатской форме кричал в трубку телефона, стоя возле небольшого столика:
– Хало! Хало!.. О, майн готт, кайнэр мэльдт зихь… хало! Битте, хало! [Ало! Ало!.. О мой бог, никто не подходит… ало! Пожалуйста, ало!]
Я налетел на него всем телом, придавил к стенке и выкрикнул в лицо, ударив стволом ЭмПи «под ложечку»:
– Шпарнберг! Во ист! Шнель! [Где! Быстро!]
– Эс тут вэ‑э!.. [Больно!] – вскрикнул он. Я ударил его ещё раз и крикнул:
– Шпарнберг!
– Э‑эльфтер нумер… Нихт шиссен, битте… [Одиннадцатый номер… Не стреляй, пожалуйста…]
Видя, что я не понимаю, он с жалкой улыбкой два раза взмахнул дрожащей пятернёй и показал ещё палец. Одиннадцатый номер!
Оттолкнув немца, я бросился по коридору…
…Когда я ворвался в помещение, Клаус Шпарнберг как раз поворачивался ко входу лицом – и я, сразу поняв, что последует за этим, тут же прыгнул и покатился в сторону, от живота дав очередь. Я видел, как он кувыркнулся за сейф, и мои пули с отвратительным громом и визгом полетели рикошетами в разные стороны, а через долю секунды из‑за сейфа грянули выстрелы – раз, два, три! Эсэсовец стрелял наугад, но я почувствовал, как по волосам словно провели пальцем. Ответного выстрела не последовало – ЭмПи был пуст, и перезаряжать его стало некогда. Чутьём ощутив, что у меня заминка, Клаус выскочил из‑за сейфа, стреляя буквально в упор. Я, рывками перекатываясь по полу туда‑сюда, выхватил «парабеллум» и ответил огнём. Он снова повалился – теперь уже за стол – и продолжал палить то справа, то слева от стола. Я в осатанении бил в него, но никак не мог угадать, где он вынырнет в следующий раз – и тоже мазал. В какой‑то момент мой пистолет замолк – и тут же Клаус выскочил из‑за стола, рванувшись к сейфу, возле которого висел на стене пистолет‑пулемёт.
И замер.
Мы смотрели с ним друг на друга через комнату, пропахшую ещё нерассеявшимся пороховым дымом. Он – стоя в рост, только чуть пригнувшись. Я – поднявшись на колено. Он – вообще без оружия (пистолет отбросил). Я – с разряженным «парабеллумом». До меня дошло, что только теперь он узнал меня – и его лицо исказилось изумлением, страхом и злостью:
– Сколько же раз надо тебя убить, чтобы ты умер, русская сволочь?! – спросил он без акцента. Он всё время косился на мой пистолет, и я понял, что он знает – я безоружен. Нетрудно понять – хотя бы потому, что я ещё не выстрелил… Клаус тяжело дышал, грудь под мундиром ходила ходуном, мне даже по‑казалось, что я слышу его дыхание… но потом я сообразил, что это дышу я сам.
– Есть бог на свете, – сказал я, прикидывая. Ему – допрыгнуть до стены, схватить оружие, развернуться, одновременно сдёрнув затвор с предохранительного выреза… Мне – вырвать обойму, выхватить запасную, вставить, передёрнуть затвор… Мне не успеть. Он меня прошьёт. И он это сделает, как только всё оценит.
– Твой бог умер, – Клаус покачал головой, его лицо сейчас напоминало череп, на котором чудом сохранились остатки волос. Всё тело эсэсовца подёргивали нервные судороги. – И вы все умрёте, русские выродки.
– Если мой бог умер – почему ты так дрожишь? – спросил я.
Вместо ответа Клаус, очертя голову, бросился к стене. Ясно было, что он всё ставит на этот бросок, зная, что я сейчас попытаюсь поменять магазин – иного выхода у меня нет! – и не успею. Не могу успеть! Он действовал страшно быстро, с той быстротой, которую придают человеку опыт, ненависть и страх – и повернулся ко мне, уже целясь, с криком – по‑прежнему на русском, он хотел, чтобы я его понял перед смертью:
– Сдохни!..
Потом он дёрнулся и окаменел на широко расставленных ногах. Ствол ЭмПи описал короткую дугу и уставился в стену сбоку от меня. Клаус задрал левое плечо, выстрелил длинной очередью в угол потолка и деревянно упал на спину.
Между его глаз – удивлённых и остекленевших – торчала уродливым выростом рукоять моей финки. Он умер стоя, умер до того, как его тело дернулось и нажало на спуск, всё равно, впрочем, промахнувшись.
Я опустил вытянутую руку и сказал:
– Бог есть. Уверяю тебя, скотина. Впрочем… ты в этом уже убедился, – и я перекрестился…
– Успел всё‑таки, – сказал Сашка, врываясь следом с ППШ наизготовку. – Ты везучий, Борька…
Мы уходили из посёлка как‑то даже неспешно, группкой, ни от кого не прячась. Внезапно Юлька засмеялась и указала рукой, покрытой копотью, на висящий на стене плакат немецкого объявления. Мы подошли ближе, перебивая друг друг, начали читать вслух.
ВНИМАНИЕ!
КОМАНДОВАНИЕМ ТЫЛА 18‑Й АРМИИ ВЕРМАХТА И АППАРАТОМ РЕЙХСКОМИССАРИАТА «ОСТЛАНД»
РАЗЫСКИВАЕТСЯ
ГРУППА МАЛОЛЕТНИХ ДИВЕРСАНТОВ И БАНДИТОВ НКВД, СОВЕРШАЮЩИХ ПОДЖОГИ, АКТЫ ТЕРРОРА И УБИЙСТВА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВЕРМАХТА И СЛУЖАЩИХ ГРАЖДАНСКОГО АППАРАТА.
Дальше шли наши клички и не очень точные, общие приметы. А в самом конце было написано заманчивое:
КРУПНОЕ МАТЕРИАЛЬНО‑ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
ПРЕДЛАГАЕТСЯ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ СВЕДЕНИЙ ОБ ОЗНАЧЕННЫХ ПРЕСТУПНИКАХ!
– Интересно, – хмыкнул Сашка. Я осмотрелся, достал из кармана маскхалата огрызок карандаша и, облизав его, приписал ниже, на свободном месте, крупными буквами:
А я предлагаю ровно одну копейку за голову любого из представителей власти грабителей и оккупантов. Головы же предателей русского народа не стоят и этого.
«Шалыга».
– А почему мы правда не малолетние диверсанты НКВД? – спросил Гришка с шутливой печалью. Сашка ответил:
– Потому что их не бывает. [У тех, кто смотрел чудовищный по лживости, но очень яркий фильм «Сволочи», не осталось сомнений в том, что уж спецслужбы‑то СССР детей использовали, причём подло и жестоко, как смертников. На самом деле достоверно известен лишь один случай целенаправленного использования детей спецслужбами во время войны. В конце 1942 года в Гемфурте абвер создал спецшколу, куда собирали подростков‑сирот с оккупированной территории СССР. Но когда в конце лета‑начале осени 1943 года началась их заброска в тылы наших войск, то… обернулась она поголовной явкой всех заброшенных в органы НКВД. 15‑летний Михаил объяснил это так: «Почти все… зная, что им надо будет совершать диверсии, договорились втихомолку не выполнять задания немцев, не вредить своим, а сразу явиться в любой штаб Красной Армии и всё рассказать.» После этого в школу был внедрён наш агент, который сумел вывести детей в расположение Красной Армии. Никто из детей арестован не был, никто не подвергся никаким наказаниям и не пострадал как‑то иначе. К сожалению, эта правда в наши дни почти никому не известна; её заменили антисоветские (именно так, это не фигура речи!!!) выдумки, призванные представить государство СССР как сборище негодяев во власти и тупых исполнителей внизу. Я перелопатил кучу информации из самых разных источников, но не нашёл по этой теме вообще ничего, кроме досужих выдумок, претендующих на «свидетельства очевидцев.» Впрочем, я не отрицаю, что факты такого использования всеми спецслужбами мира могли иметь место. Но скорее всего речь идёт об агентах‑одиночках очень высокого класса, подготовленных с раннего детства (вроде японских ниндзя), исполнявших адресные убийства и крупнейшие диверсии. Естественно, что о них никакой информации просочиться в печать не могло и разговор на эту тему не имеет смысла. Историю же школы в Гемфурте более‑менее правдоподобно, хотя и в кичёвом ключе, освещает другой новый художественный фильм – «Родина или смерть!»]
…Одна бомба не взорвалась. Три упали за пределами аэродрома с большим разбросом. Одна угодила точнёхонько в «дорнье» и разнесла его в клочки.
И последняя (вообще‑то пятая) попала в склад, где находился бензин. Аэродром, прикрытый зенитчиками и истребителями, считался защищённым от атак с воздуха абсолютно надёжно (это не раз доказывалось), и произошедшее повергло командование в состояние, близкое к ступору. По отзывам адекватно реагировавших на вопросы очевидцев (взрыв слизнул с лица земли 3/4 персонала и лётного состава вместе с двенадцатью бомбардировщиками, пятью истребителями, запасами авиабомб, наземной техникой и прочим; пейзаж там походил на лунную поверхность – и адекватно реагирующих осталось немного) аэродром атаковало нечто непонятное, вроде огненных шаров. Наверное, это так и осталось бы загадкой, если бы не чёртова найденная невзорвавшейся авиабомба с прикреплённым к ней двигателем конструкции «Женька‑1».
На следующую ночь бригада Мухарева разгромила лагерь для офицеров, освободив и выведя в леса больше трёхсот человек.
43
Нас награждали 15 сентября.
Если честно, я плохо помню само награждение. Его проводил какой‑то прилетевший с Большой Земли немаленький чин с личной охраной, сначала зачитавший перед строем отряда приказ Сталина «О задачах партизанского движения» – если честно, там не было ничего нового или такого, чего бы мы не делали и без приказа, но все воодушевлённо кричали «ура!» и я тоже покричал, за компанию, почему бы нет? Тем более, что это было первое настоящее построение отряда на моей памяти. Потом долго что‑то ещё говорили, а я прошлой ночью не выспался и начал стоя задрёмывать. Сквозь сон мне показалось, что меня окликнули, я спросил: «А?» – и проснулся. Сашка с круглыми глазами шёл от этого чина обратно в строй, что‑то придерживая на груди, а меня позвали ещё раз:
– Юный партизан‑разведчик Борис Юрьевич Шалыгин за особое мужество, смекалку, находчивость при выполнении боевых заданий и преданность нашему делу награждается Орденом Красной Звезды!
Мне?! Я даже растерянно закрутили головой. Юлька выпихнула меня из строя. Я чисто автоматически перешёл на парадный шаг и остановился перед приезжими. Крупные руки – я почему‑то видел только их – быстро и ловко привинтили к моей маскухе тяжёлую пятиконечную звезду, концы которой отблёскивали глубоким кровавым тоном. Только после этого я поднял глаза и, по‑прежнему плохо соображая, отрапортовал в ответ на короткое: «Поздравляю!», вскинув руку к немецкому кепи без знаков:
– Служу! Советскому! Союзу!
Уже потом, после построения, я сообразил, что надо было, кажется, говорить «служу трудовому народу». А тогда я просто вернулся в строй и смотрел, как награждают остальных наших. Женька и Юлька тоже получили ордена. Остальные ребята – медали «За боевые заслуги», в том числе четверо – посмертно, когда выкликали их фамилии, имена и отчества, я стискивал зубы и невольно оглядывался: Димка, двое Олегов, Илья, ну где же вы?! Выйдите. Пожалуйста…
Они не вышли. И потом, когда нас распустили, я долго плакал в шалаше, хотя все наши были рядом – плакал, лёжа на подстилке, стиснув в кулаке свой орден, никого не стесняясь. Будь моя воля, я бы наградил всех… но тогда не из чего было бы делать танки, самолёты, автоматы, потому что награды был дос‑тоин каждый, кого я знал.
Нам привезли письмо от Ромки. Он писал, что пишет сам, руки слушаются, и ноги тоже, только пока не очень и ему ещё не разрешают ходить. Очень просил передать привет «своим» – младшим разведчикам. Мы передали – всем, кроме Пашки. Он пропал три дня назад где‑то за лесом…
* * *
– Аксель. Аксель!
Он поднял голову. Фельдфебель Краус сидел напротив и улыбался.
– Послушай, почему ты будишь меня всякий раз, когда я засыпаю? – проворчал командир егерей. – Что такого случилось? Воскрес идиот Шпарнберг, который загнал в партизаны половину здешнего населения? Или Сталин наградил его посмертно?
– Мальчишка, Аксель. Которого поймали третьего дня на явке, куда привела слежка за ним.
– Он заговорил? – офицер растёр лицо ладонями.
– Он нет, он умер. Хозяин явки. Это клад, Аксель, – фельдфебель положил на стол искусанные комарами кулаки. – Он знает, где располагается база «Смерча».
– Что? – командир егерей встал. – Это точно? Он может лгать.
– Нет, – Краус улыбнулся. – Это точно. На этот раз им конец. Мы выдавим их на опушку к Кабанихе, – он достал из планшета карту и расстелил перед командиром, – по его сведениям, тут их запасной лагерь. Дадим успокоиться. Окружим и раздавим, – он свёл кулаки.
– Кофе! – крикнул офицер в коридор. – Так. Командиров групп ко мне. И пошлите человека к полковнику Фохту. К чёрту тыловиков. Пусть предоставит войска из резерва армии.
* * *
Бомбёжка началась ночью, за какие‑то две минуты до артиллерийского обстерла. Орудия немцев били издалека, но явно корректировались кем‑то, как и налёты бипланов. Огонь и бомбардировка были такими точными, что стало ясно – нас вычислили. Оставаться на месте и ждать карателей было бессмысленно – можно было только порадоваться, что мы всё‑таки не стали копать землянки.
Впрочем, менять место было не привыкать. Ещё полмесяца назад Мефодий Алексеевич приказал заложить резервный лагерь недалеко от ещё не расселённой деревни Кабанихи, на болотистых островах, связанных друг с другом тайными тропами. Едва улеглась первая – очень короткая – паника, вызванная началом налёта (убитых было немного, больше раненых) – как мы уже выдвинулись из лагеря. Наше отделение, усиленное первым взводом, двигалось впереди без троп, прочёсывая местность на предмет егерей.
Их не было, как не было и попыток нападения на колонну. Очевидно, немцы на этот раз то ли решили удовлетвориться тем, что согнали нас с нажитого места, то ли понадеялись на авиацию и артиллерию, решив, что у нас много убитых и мы прекратим, как ранней весной, боевые действия.
Вот такая она, партизанская жизнь. Вчера награждали, сегодня заваливают бомбами… Больше печалило то, что на новом месте придётся и связи обновлять – а это десятки километров хождения по лесам, деревням и просёлкам.
И ходить в первую голову нам.
44
Тётя Фрося накормила нас до отвала и, глядя, как мы едим, приговаривала довольно:
– Ну вот это дело, а то настрогают себе бухтербродов и бегут…Чего смотришь, глазастый? – это она мне. – От тебя эта мода – на бухтерброды! Название‑то, прости господи… – все сдержанно хихикали и толкали друг друга ногами, а тётя Фрося продолжала обличать: – Девки, и вы подальше от него держитесь, от глазастого! Вы молодые, глупые, а я ж Борьку‑то насквозь вижу – это ж ходок! Никого не пожалеет… Вот война кончится – стонать от него будете, молодой, бравый, да с орденом… – она вдруг всплакнула и махнула рукой, когда девчонки бросились её утешать: – Ладно… Бориска, поди сюда.
Я и так засмущался (это я‑то – ходок?!), а тут она вдруг поцеловала меня в лоб и сказала тихо:
– Осторожней там… Чего‑то сердце у меня не на месте, слышь?
– Да ну, – отмахнулся я. – Проверим, как там наш связник… И обратно. Пять суток уже сидим, а немцами и не пахнет… Спасибо за обед!
– Иди! – она перетянула меня поперёк спины полотенцем из немецкого мундира.
Возле Мефодия Алексеевича Сашка и Максим разговаривали о задании. Мы четверо – Сашка, Женька, Юлька и я – шли в Кабаниху, Максим с остальными – в Заполошное (обожаю наши названия!). Перед тем, как отправить нас окончательно, командир вдруг вздохнул и умоляюще сказал:
– Вы это. Осторожнее. Чего‑то это… – он покрутил рукой в воздухе.
– Да что вы все сегодня?! – я возмутился, поддёргивая ремень ЭмПи.
И вдруг тоже ощутил, как холодная тупая игла кольнула сердце…
…Через сорок минут мы вышли к Кабанихе.
…Это был очень долгий день – тёплый и тихий, грустный‑грустный. Не потому, что нам было грустно, а сам по себе. Я заметил, что падают листья. Странно, раньше не замечал, а тут вдруг увидел, что лес багровеет и золотится, и значит – осень наступила. Сентябрь сорок второго года. Бои в Сталинграде и на Кавказе… Сорвавшийся – в том числе и благодаря нам – план «Нордлихт», план захвата Ленинграда… И ещё долго‑долго до победы…
Листья падали и на нас. Мы не шевелились, только Сашка по временам поднимал к глазам бинокль – медленно и плавно – и смотрел на окраину деревни. Кабаниха казалась вымершей. За весь день люди появлялись два или три раза – с оглядкой, как‑то быстро, явно не желая задерживаться на улице. По их поведению понять было ничего нельзя. За год с лишним оккупации тут привыкли жить с такой оглядкой…
Мы молчали. Только Сашка после очередного осмотра местности сказал с раздражением:
– Что‑то нехорошо.
Мы не спросили, а он не стал объяснять. Я подобрал ажурный огненно‑алый лист и воткнул его в волосы Юльке надо лбом. Она немедленно стала похожа на эльфийскую принцессу, хотя об этом ничего не знала, конечно. Женька по‑тихому околесил деревню по периметру и, вернувшись, покачал головой – никого, никаких следов врага. Около дома старосты пьянствовали двое местных полицаев и этот самый староста. Вот и всё.
Когда совсем стемнело, Сашка снял ремень, сунул за правое голенище «штейр», за левое – финку, поколебался и запрятал за пазуху гранату. Посмотрел на нас и кивнул мне:
– Пошли, Борь.
Пошли так пошли… Я тоже молча сбросил «сбрую», воткнул финку за правое голенище, а «парабеллум» упрятал за борт маскхалата. Юлька с Женькой залегли пошире, Сашка отдал Женьке свой бинокль, и тот кивнул:
– Ни пуха…
– К чёрту, – буркнул Сашка, первым выходя из кустов.
Мы прошли примерно половину пути. Кусты картошки тут и там выглядывали из сорной травы, путавшей ноги. Я сказал тихо:
– Сань, давай не пойдём, – и добавил, сам не зная, почему: – Там засада, Сань.
Он повернулся ко мне, и я увидел во мраке, что его глаза светятся сами по себе. А в голосе было только дружелюбие и понимание:
– Да знаю я, Борь… Мы потому и идём. Надо же понять, что и как. Или это егеря нас в лесу выследили, или это… – он помедлил. – Или это вообще начинается большая операция. Как‑нибудь прорвёмся. А то наших, чего доброго, как щенят, похватают.
– Ну, тогда пошли, – спокойно сказал я, нагнал его и мы зашагали рядом.
– Странный ты, Борька, – вдруг сказал Сашка приязненно. – В отряде кое‑кто думает, что ты на СМЕРШ работаешь.
– А я думаю, что тебе Юлька нравится, – ответил я, впервые открыто озвучив это.
– А тебе нет? – спросил Сашка. – Говорили мы уже… А ты с ней целовался.
– Любовь зла… – вздохнул я. Мы оба, не сговариваясь, захихикали. Сашка достал гранату, вытащил кольцо, убрал его в нагрудный карман, а кулак с гранатой сунул в карман галифе. Сказал:
– Может, ещё и нет ничего. Может, просто устали мы. Выспаться бы…
– Как бы крепко не спали мы – нам всегда подниматься первыми, – сказал я.
Мы прокрались вдоль задней стенки сарая, прислушиваясь. Внутри царила мёртвая тишина. Около угла стояли минут двадцать. В Кабанихе властвовали безмолвие и мрак. Ни в одном окне – ни огонька, даже в доме старосты пьянка, кажется, сошла на нет… Я обратил внимание, что изо рта у меня вырываются облачка пара, плотные и белёсые. Звёзды на небе проглядывали всё резче и чётче – уж не мороз ли будет? Мне вспомнилось, что в войну зимы были холодные и приходили рано. Как будто Господь хотел помочь России, пусть и делавшей вид, что она не верит в него, против новых язычников… И я, глядя на эти звёзды, подумал: «Господи, верую в Тебя. Помоги нам всё исполнить с честью и принять, как должно, то, что Ты судил нам… И помоги моим друзьям, хотя они думают, что не веруют в Тебя… И сделай так, чтобы я не устрашился ничего.»
Сашка коснулся моего плеча и шепнул, приблизив губы к уху – шёпот был тёплый и щекотный:
– Пошли.
Мы вышли из‑за сарая и пошли к дому – он впереди, я сзади шагах в пяти, оглядываясь и прислушиваясь. Когда Сашка поднялся на крыльцо – ловко, ни одна ступенька не скрипнула – я встал сбоку и уже открыто достал пистолет. Мне очень хотелось, чтобы мы обманулись и ничего, никого тут не было.
– Заходите, – шепнули из‑за приоткрывшейся двери, – скорей.
Я спиной поднялся по ступеньками следом за Сашкой скользнул в тёмные сени. Хозяин – невысокий мужик – держал в руке свечу в какой‑то банке, которую подпалил от немецкой зажигалки.
– Тихо всё, – сообщил он. Сашка кивнул, дунул в банку и сказал мне в темноте:
– Вон там окно… Через него вылезешь наружу. Затаись и смотри.
– Да нету никого, – слегка обиженно повторил хозяин, – что я, первый раз, что ли, не проверял?! Оба заходите, поешьте посидите, а я пока всё расскажу, что и как…
Но я уже подошёл к окну, отодвинул деревянную задвижку – как в древних избах – и через него максимально бесшумно вылез наружу – в заросли крапивы у глухой стены дома. Присел. И, не вставая с корточек, у корней, медленно и плавно начал перебираться к углу.
Я увидел их сразу, как только выглянул из‑за угла – над самым нижним венцом сруба.
Они вышли из того самого сарая, около которого мы прислушивались – две бесшумных, бесформенно‑размытых фигуры. Проплыли скользящим шагом к крыльцу. Так же бесшумно, как и Сашка, поднялись на него и замерли по обе стороны от двери. Они топорщились в разные стороны какими‑то выступами и буграми, я не мог понять, есть ли у них оружие и какое – но оба что‑то держали в руках. Потом один чуть повернулся, и я увидел натянутую между кулаками удавку. Меня аж дрожь пробрала. Сейчас бы поели… Вышли бы – сытенькие, отдохнувшие – и ррраз! Что бы мы смогли, когда здоровенные мужики накинули бы нам на шейки такие штучки? Подрыгали бы ногами, похрипели, а через пару секунд вырубились бы. Потом нас привели бы в чувство – и…
Так же в полуприседе я прокрался обратно, выпрямился, достал до окна…
…и меня бешено рванули назад!!! За окном тоже следили!!!
Не знаю, что меня спасло. Какое‑то наитие – за миг до этого я упёр подбородок в грудь, и струна легла под нижней губой. Я задёргался, схвативший меня человек ослабил удавку, чтобы повернуться и поднять меня на спине… и тут же я изо всех сил ударил его локтем!
Он коротко охнул и отпустил меня. В следующую секунду я выстрелил в него с разворота, наотмашь, не глядя – «парабеллум» я так и не выпустил – и заорал во всё горло:
– Са‑а‑ань! За‑са‑да‑а!!!
Ослепительным медным пламенем разорвалась граната, продолжением разрыва прозвучал стонущий крик:
– У‑уххху… шшайссе, а‑а!..
– Борька, напролом! – послышался крик Сашки, вылетевшего с крыльца – собранным, стреляющим комком над ступеньками и перилами. Я сперва не понял, куда он стреляет, а потом увидел, как в чёрном проёме входа в сарай бьётся рыжий огонь сразу двух стволов. А где‑то за дальней околицей слитно взревели моторы, полоснули по домам лучи прожекторов!!!
Это была не просто засада…
Сашка приземлился на ноги, упруго подскочил, чтобы уйти в сторону прыжком с перекатом… и вдруг возле него брызнуло пламя, он крутнулся сам возле себя, как‑то отдельно взмахнул руками – и повалился наземь.
– Йаааа! – бессмысленно и страшно закричал я, и пальцы сами нашарили на застреленном мной егере МР – такой же, как у меня. – Йааа! – продолжал я кричать, посылая одну длинную очередь в дверь сарая – на бегу, я бежал, почти не пригибаясь, и пистолет‑пулемёт зло прыгал около моего живота. – Са‑а‑ань!!! Сань‑ка‑а!!! – я швырнул замолкший МР в дверь и подхватил Сашку под мышки. Он был в сознании и зажимал одной рукой живот – через пальцы толчками била кровь. – Сейчас, погоди… я потащу…
– Бро‑о‑ось… – пропел он негромко‑звонко. – Всё‑о… это… всё, Бориска…
– Заткнись, придурок, – прохрипел я, взваливая его на плечи. Из сарая больше не стреляли, но длинные щупальца фар шарили по улице, по заборам, по домам, множились в стёклах, и кто‑то закричал совсем близко – повелительно и гортанно:
– Хальт!
– Пошёл ты!.. – я над бедром наугад выстрелил на голос и поволок Сашку к лесу. Лучи скрещивались вокруг, как световые мечи джедаев. Потом я услышал посвист – и понял, что нас увидел и стреляют. С трудом обернувшись (а делать этого не стоило!), я увидел, что следом бегут не меньше двадцати человек – их фигуры в свете бьющих им в спину фар казались плоскими, вырезанными из чёрного картона. Сашка протекал кровью, как дырявый полиэтиленовый пакет и со скрипом дышал, что‑то мешалось мне, и я подумал: «Догонят!» – но нам навстречу ударили два ствола – слитно и точно, слева и справа, прикрывая. Я отчаянным рывком выдрался из световой паутины и, пробив собой кусты, грузно упал на колени, постаравшись не уронить Сашку. К нам тут же подскочила Юлька; Женька продолжал стрелять короткими очередями. – Где мой ЭмПи?! – я наугад цапнул, нашёл оружие, откинул приклад, подтащил «сбрую».
– Засада? – выдохнула Юлька.
– Не… засада… – прохрипел Сашка. – Это… операция… против нас… В лесу за деревней… войска… стояли… Уходите… я прикрою…
– Прикрою я, – отозвался Женька, – а вы уносите Сашку. Я потом уйду, в темноте не поймают…
– Мне… уже… всё равно, – я увидел, что Сашка улыбается. – Смотрите… что у меня…
Я посмотрел – и понял, что мне мешало на бегу.
Из Сашки вывалился комок кишок – длинных слизистых петель, во многих местах истекавший кровью, желчью и ещё чем‑то.
– Мы так и так не уйдём, – вдруг сказал Женька, прислушавшись. – Они сзади в лесу. Обошли, наверное, давно и ждали.
И – точно там ждали его слов – позади нас вспыхнули фонари, покачивавшиеся в чьих‑то руках, и резкий голос зазвучал в темноте – почти до смешного по‑киношному:
– Партизан, сдавайса! Или ви бутет уничтошен!
– Всё, – выдохнула Юлька.
– Не всё, – возразил я холодно, застёгивая ремень. – Будем шуметь, пока можно. Поднимем бучу. Наши должны услышать. Предупредим их… хоть так.
– Верно! – глаза Юльки загорелись.
– Дайте автомат, – потребовал Сашка, садясь и руками подбирая внутренности. Юлька задрала на нём гимнастёрку и рубаху, я начал молча запихивать это обратно в живот, а она тут же перехватывала рваную рану бинтом. Кровь текла вяло, но кишки лезли обратно плохо. – Поскорей, чего ты копаешься, – сказал Сашка спокойно. – И закрепите, чтобы не вылезали.
– Куд‑да! – Женька дал короткую очередь. – Скорей, они ползут, гады!
– Я сама, – Юлька отстранила меня, – теперь я сама, а ты давай…
Что «давать» – было понятно. У меня было четыре полных магазина, плюс пятый в оружии, шесть патрон в «парабеллуме», запасная обойма, штук тридцать парабеллумовских патрон россыпью – они, как известно, подходят и туда и сюда – и две «лимонки». Примерно так же обстояли дела и у остальных. В принципе, мы могли отбиваться долго – перед нами были огороды, слева, справа и сзади – пологий, но довольно длинный склон, по которому карателям предстояло лезть под огнём. Пригибаясь, я занял позицию справа. Женька лежал в сторону огородов, Юлька перебралась влево, а Сашка на своих ногах перешёл в тыл. Я понял, что он так и так уже мёртв, и у меня сжало горло. Мне захотелось окликнуть его и сказать что‑нибудь… ну, типа что всё будет хорошо…
То, что и все мы, в сущности, мертвецы, меня как‑то не колебало.
– Нельзя их подпускать близко, – сказал Сашка, – они нас закидают гранатами.
Видно было плохо, свет фонарей и фар больше мешал – впрочем, нашим врагам он мешал, конечно, тоже.
– Партизан, сдавайса! – гортанно кричал в темноте голос. – Партизан, сдавайса! Ити плен! Рус капут! Зовьет капут! Шталин капут, ити плен! Партизан, сдавайса! Война конец, ити плен! Партизан, сдавайса!
– Нну‑у, с‑сука… – процедил Сашка, и его ППШ коротко харкнул на звук. Я не знаю, попал ли он, но голос умолк – зато всё вокруг буквально взорвалось стрельбой и воем – каратели пошли в атаку. Поверх стрекота пистолет‑пулемётов и винтовочной пальбы рокотали два пулемёта. Я положил ЭмПи боком, чтобы магазин не мешал плотней прижаться к земле, и начал водить стволом, отсекая очереди в три‑пять патрон, по дуге. Перекатился влево, вправо, не переставая стрелять. Мокрая земля ударила в левую щёку, что‑то с противным сырым хлюпаньем рвануло её с другого бока. Я сменил магазин и продолжал стрелять. Потом стало тихо, только неподалёку кто‑то надрывно стонал и матерился по‑русски, да изредка постреливали винтовки.
– Ой мама… ой, мать её… ой, убили, гады, сволочи… ой, ой, ой… – стоны были мутными и дурнотными, как ночной кошмар. Полицай… – Да за что ж… ой, ой, ой, боженька… помогите, Христа ради, ой…
– Да замолчи ты… – пробормотал я. Мне было тошно слушать это.
– Все целы? – спросил Сашка.
– Ты как? – вместо этого ответил я.
– Нормально, не болит, – отозвался он. – Сейчас они опять пойдут.
– Мальчишки, – сказала Юлька, – не надо бояться. Наши всё равно победят.
– Никто не боится, – сказал Сашка.
– Жаль только, что мы не узнаем… – не договорил Женька. Но я понял его. И, охваченный внезапным полубезумным чувством, начал выкрикивать:
– Мы знаем! Эй! Вы! Ка‑азлы! Слушайте! Скоро вашу шестую армию зажмут в Сталинграде! Так, что только брызнет! А в начале сорок третьего её остатки сдадутся в плен! И Паулюс сдастся! Съели?! А летом сорок третьего вас расшибут на Курской Дуге! И «тигры» с «пантерами» не помогут! А в сорок четвёртом мы войдём в Германию! А в мае сорок пятого возьмём Берлин! И Гитлер ваш отравится! Ну! Идите сюда! Убивайте нас! Всё! Равно! Так! БУДЕТ!!!
Ответом мне был грохот выстрелов и злой крик – они снова пошли в атаку. Я по‑прежнему ничего толком не видел и посылал огненные строчки на звук, на шум – но они были в ещё худшем положении, им‑то приходилось бежать и стрелять в тех, кто находится в укрытии. Мы снова заставили их залечь, и опять стало относительно тихо. Больше никто не предлагал нам сдаться…
– У меня всего полтора магазина осталось, – сказала Юля. Я снял с пояса и перекинул ей винтовочный подсумок, в котором россыпью были патроны. – Спасибо, Борь…
– Да не за что, – ответил я. И услышал голос Сашки:
– Борька… а то, что ты говорил – ты откуда это знаешь? Или ты просто выдумал?
– Нет, – сказал я спокойно. – Вы, если хотите, думайте, что я сошёл с ума. Или вообще что хотите. Но я из будущего, ребята…
…Я не рассказывал об этом ни разу за всё время нашего знакомства, хотя, казалось бы, имелись десятки подходящих случаев доверительной близости, когда тайны сами просятся на язык. Жизнь – странная штука. Я рассказал правду именно сейчас, когда мы лежали крестом на небольшой полянке, ждали новой атаки и считали в уме патроны – их количество равнялось количеству минут оставшейся нам жизни и так же беспощадно убывало… Нет, я рассказал не всё. Я умолчал о позорище и развале 90‑х, о кладбищенской стабилизации начала ХХI века, о безработных, бездомных, беспризорных, о наркотиках и торговле людьми, о продажности и подлости властей, об антирусских законах по «экстремизму»… Это мой грех. Но я говорил о знамени Победы над горящим рейхстагом, о полёте Гагарина, о мирных городах и атомном ледоколе, о фантастических книжках и об Эрмитаже… Я хотел, чтобы они знали только это. Только это, потому что остальная правда могла обесценить в их глазах то, что нам предстояло, отнять у них веру…
– Это сказка? – прошептала Юлька.
– Это правда, – твёрдо ответил я.
– Борька, поди сюда, – позвал меня Сашка.
Я подполз к нему.
– Тихо, – сказал Сашка.
Он лежал в луже крови, уже не впитывавшейся в землю. Я издал тихий звук, дёрнулся, но Сашка схватил меня за руку:
– Это не остановить, – сказал он негромко. – Борька, знаешь… я тебя не вижу. И мне не больно, ты не думай… Всё это время было больно, а теперь нет уже… – он помолчал, тихо дыша. Я ждал, не зная, что сказать и переживая омерзительное чувство беспомощности. Он всё это время истекал кровью – и стрелял. И разговаривал с нами – спокойно… – Борька, – снова окликнул он меня, – я знаю, ты правду сказал… Может, ты спасёшься. Вдруг… Так ты не забывай. Помни правду о нас, о том, какими мы были. Пока ты помнишь – мы живы… – он снова помолчал и попросил: – Руку дай. Мне немножко страшно, – я дал ему руку, и он сжал её холодными пальцами. – А Юльку…я так и не поцеловал, – сказал он. – Так хотел… и не поцеловал. А ты поцеловал… Жаль, что бога нет. Я бы хотел… чтобы мамка и батя… и сестрёнки… опять их увидеть… так плохо без них… ведь мы же… ещё… де… ти…
И он затих. А рука расслабилась.
Мне бы заплакать. Но слёз у меня не было.
Я взял его ППШ, подсумки и немецкую «колотуху». А пистолет был уже лишним – некуда сунуть.
– Женька, – сказал я Стихановичу, – смотри за этой стороной. Борька умер. Держи его «шпагина».
Юлька коротко вскрикнула.
– Не смей плакать, – зло сказал я. – И ещё… он просил тебе сказать, что он тебя любил. Слышишь? Он тебя любил по‑настоящему! Сильнее, чем я! Чище! Вернее! Слышишь?!
– Да, – тихо ответила она. – Я не плачу. Я слышу. Любил.
– Форвертс! Форвертс! – закричали совсем рядом. Я метнул на крик гранату и, стиснув зубы, снова открыл огонь.
Женьке пришлось на этот раз труднее всех – он перекатывался из стороны в сторону и стрелял сразу из двух стволов, временами вставая на колени. Как раз в один из таких моментов за спиной у него разорвалась брошенная граната…
…Меня оглушило – не очень сильно, но какое‑то время я не понимал, что происходит и ничего не слышал. Несколько тёмных фигур возникли сбоку – они просто появились, и я подумал: «Чёрные всадники…» – и зашарил по земле, но не мог найти оружие. Женька всё ещё стоял на коленях, шатаясь, потом поднял одной рукой ППШ Сашки и в упор срезал этих чёрных. А сам подломился и неудобно свалился – на бок и на спину, так и не разогнув ноги. Я пришёл в себя, метнул гранату, перекатился к Женьке и приподнял его.
Он был убит наповал – осколки попали в затылок и позвоночник. Не знаю, почему он ещё стрелял.
И не знаю, как мы отбились и на этот раз. Знаю только, что я вдруг понял – в лесу светает.
Мы с Юлькой сидели спина к спине возле большого дерева, обложившись тем, что осталось. Виднее становилось с каждой минутой. Сашка сидел возле другого дерева, как я его посадил, лицо у него было спокойное и красивое, как у павшего витязя с картины Глазунова, совсем не мальчишеское, хулиганистое и скуластое… Женька лежал посреди нашей полянки, глядя на верхушки деревьев и слегка улыбаясь. Теперь я мог разглядеть, что вокруг валяются не меньше двадцати трупов – мы взяли хорошую цену. И уж точно – нашу пальбу услышали в отряде! Не могли не услышать, а значит – «Смерч» будет и дальше гулять по Руси, сметая беспощадно гарнизоны врага, эшелоны, склады, наводя ужас на предателей и подонков…И при мысли об этом я улыбнулся и подтолкнул локтем Юльку. Но лес кишел живыми врагами – они подбирались со всех сторон, как утренняя нечисть…
– Бориска, – сказала она, доставая из кармана свою коробочку и равнодушно вытряхивая её содержимое, – надо галстуки спрятать. Не хочу, чтобы с меня его сняли… потом.
– Давай, – сказал я, снимая с шеи свой.
Мы сняли галстуки с ребят, и я попросил прощенья у них за то, что беру эти вещи. Юлька бережно свернула галстуки, сложила в коробочку, и мы, спрятав её под корнями дерева, отдали салют. Она – пионерский. Я – наш, скаутский. За минуты до смерти становятся возможными невозможные вещи, совмещается несовместимое. И, удерживая салют, я вдруг подумал, что враги не смогут меня убить. Просто не смогут . Я навсегда останусь здесь, среди родных деревьев, в небе, в воздухе, в траве, в ветре… И, наверное, там, в моём путаном и подлом времени, они тоже в конечном счёте проиграют. Как бы тяжко нам не было, как бы они не пыжились и не выхвалялись силой и могуществом – кто против нас? Кто против Бога и Святой Руси? Кто против гордого лица Сашки и посмертной улыбки Женьки? ЭТИ , что ли? Смешно… А уж если эти нас не одолели, то ТЕМ – и вовсе… Они сгинут. Мы останемся. Мы выйдем из туманов и утренних росных лугов, из заснеженных лесов и синего неба, из воздушных вихрей над жаркими полевыми дорогами и из тёмных речных омутов – выйдем как раз тогда, когда враги наши решат, что нас нет больше… Все, кто пал за Россию – и обрёл бессмертие.
Наверное, Юлька думала о чём‑то подобном. На свой пионерский лад… Потому что она вдруг… запела, звонко и отчаянно:
А ну‑ка – песню нам пропой, весёлый ветер,
весёлый ветер,
весёлый ветер!
Моря и горы ты обшарил все на свете
И все на свете песенки слыхал!
Каратели взревели и пошли на штурм…
…Мы не то что отбились, а заставили их залечь по периметру поляны. Юлька кашляла – пуля попала ей в живот – и сжимала пистолет. Я передёрнул затвор ЭмПи – пусто – и тоже достал «парабеллум». Юлька сказала:
– А я тебя любила. Только тебя, Боря… Сразу влюбилась, даже до того, как по морде дала, что ты меня поцеловал… – и снова запела, заставляя себя не кашлять:
Кто привык за победу бороться,
С нами вместе пускай запоёт:
«Кто весел – тот смеётся!
Кто хочет – тот добьётся!
Кто ищет – тот всегда найдёт!»
Я начал стрелять – они лезли на поляну. Сменил обойму, снова стрелял. Юлька содрогнулась, и я увидел, обернувшись, что в неё попали ещё раз – в шею, кровь брызгала струёй. Я бросил «парабеллум» и, обняв её, зажал рану ладонью. В мою руку изнутри толкалась кровь – толкалась убегающая Юлькина жизнь. Она зевала, уютно лёжа у меня на руках, и глаза у неё были спокойные и сонные. Нагнувшись, я поцеловал Юльку в мокрые от крови губы и тихо сказал:
– Дай мне по морде…
А когда распрямился – то увидел немца.
Он был огромен, этот атлет с рубленым лицом, шедший к нам от края поляны – молодой стройный офицер, решивший подать пример подчинённым. Форсисто примятая фуражка поблёскивала тусклым серебром. Настороженно смотрел на нас ЭмПи у бедра. А за ним поднимались остальные…
Немец подошёл к нам и остановился. Посмотрел на нас. Посмотрел вокруг. И, покачав головой, негромко сказал:
– О майн готт, дас ист киндер. Фир киндер, унд аллес… майн готт… [О боже, это дети. Четверо детей, и всё… о боже (нем.)]
– Ну что, – спросил я его, – как вам бой? То ли ещё будет…
Раздался выстрел – и офицер рухнул наземь, даже не дёрнувшись. Я повернулся – и увидел, как трое эстонцев с тупо‑злобными лицами колют штыками Сашку, сжимающего в руке пистолет.
Это он выстрелил. Ожил. Чтобы выстрелить во врага.
Они кололи его снова и снова, хотя теперь‑то он был мёртв уже точно…
– Борь, – прошелестела Юлька, – вот, – и я увидел, что у неё в руке граната. – Не оставляй меня им. Давай… вместе.
– Конечно, – ласково сказал я, прижимая её к себе. Они шли к нам – полицаи, эстонские каратели – а на краю поляны стояли трое егерей и смотрели на нас с холодным уважением. Я увидел, как один из них отдал честь – и двое других повторили его жест. Но мне было уже всё равно. Я обнял Юльку покрепче – и выпустил предохранитель гранаты, которую держал между своим животом и её спиной…
ЧТО ЭТО?!
НЕ НАДО!!!
Я НЕ ХОЧУ!!!
НЕ НА‑ДО‑О‑О‑О!!!
…Поляна была пуста. Шёл мелкий нудный дождик, неподалёку лаяла собака и взрыкивал никак не желающий заводиться двигатель. Девчоночий голос весело крикнул:
– Макс! Принеси!.. Пап, а чего он не несёт?!
Я встал, но тут же ноги подломились – пришлось снова сесть. Я не понимал, что произошло и не фиксировал происходящего. В голове остались обрывки мыслей. Кусты раздвинулись, показалась острая любопытная морда колли. Нашли?! С собаками… Следом появилась девчонка, одетая невероятно чудно, но весёлая и беспечная; она уставилась на меня и округлила глаза и рот, попятилась…
– Где немцы? – спросил я. Она попятилась дальше и закричала:
– Па‑па! Па‑ап!!!
А я вдруг всё понял. Стиснул зубы, но тоскливый вой прорвался сам собой и, запрокинув лицо к верхушкам осенних деревьев, я перестал его сдерживать, слыша, как прорываются в нём горькие слова:
– За что?! За что?! За что‑о?!
45
Борька молча смотрел в окно. Молчание было таким долгим, что я не выдержал и спросил:
– А дальше?
– Дальше… – неохотно ответил он, не глядя на меня. – Оказалось, что это дочка одного бизнесмена, они застряли на дороге около Кабанихи… Ну, они меня подобрали, отвезли в больницу – я сильно не в себе был… Потом навещали часто. Девчонка смешная такая… Ну, сразу наши понаехали, родители – маму тут рядом со мной и положили с сердечным приступом… Я тут же закосил под амнезию, даже в областных газетах писали про этот случай – парень был неизвестно где четыре с половиной месяца, вернулся странно одетый, имеет след зажившего огнестрельного ранения, ФСБ зомбирует подростков из военно‑патриотических клубов и использует их как снайперов и диверсантов по всему земному шару… Круто было. А правду я никому не рассказал, даже Вальке… Да и вообще, – он посмотрел на меня и усмехнулся, – выдумал я всё. А вы поверили? Если вы в музее закончили, то я прошу вас покинуть здание, у меня ещё работы полно. А вы и на автобус можете опоздать…
– А больше? – спросил я, не двигаясь. – Больше ты ничего не хочешь рассказать?
– А что ещё? – пожал он плечами и затянул ремень напульсника. – Как я в Новгороде ударил старика, эстонского туриста, и мне дали год условно? А «АСК" а обязали выгнать меня из дружины, но он не выгнал и отстоял меня, хотя я не мог ему объяснить, что узнал того эстонца‑конвоира, который бил меня прикладом и называл „русской свиньёй“? Как я поджёг склад со стройматериалами, когда собирались делать кладбище погибшим на этой земле гитлеровцам – в знак примирения? Об этом никто не узнал, а вы, если хотите, можете рассказать, это было в апреле… Как я подрался с пацанами, которые снимали бронзовые звёзды с кладбищенской ограды – их было пятеро, и я вовремя опомнился, сам не сообразил, как и когда у меня финка в руке оказалась… Как я пробрался на телестудию, где записывали выступление одного заезжего „исследователя“ и, когда она начал говорить про НКВД, заградотряды и советскую империю зла, попал ему точно в рот тухлым яйцом? Меня, кстати, тоже не поймали… Как я в первый месяц не спал по ночам и проклинал Господа за то, что он меня спас, за то, что он меня сделал изменником?.. Как я украл у одной бизнесвумен любимую собачку, получил за неё выкуп в три тысячи долларов, а потом нашёл дальних родственников Сашки, Женьки и Юли – и подкинул им по тысяче вместе с почтой?.. Что вам ещё рассказать? Как я откопал эту коробку и плакал? Или как плакал Женька, когда отдали после почти года обороны Севастополь?! А тут пьяный урод отдал его не то что без боя, но даже без споров, булькая о каком‑то суверенитете… – он резко встал и бросил: – Ни к чему разговаривать с сумасшедшим. Около станции продают отличное пиво. Идите туда. Туда все ходят. Этим пивом торгуют как раз там, где фашисты распяли Ромку. Там ещё цел фундамент того сарая… Мне охренительно не повезло. Скауты не должны ругаться, но это правда. Если бы мне повезло, я был бы мёртв. Как ребята. Как Лёнька Голиков. Как ещё четверть миллиона моих сверстников, погибших, как оказалось в свете новейших изысканий, непонятно за что. Им повезло, они не знают этого. И не узнают никогда. А в то, что мы победим, они не переставали верить ни на секунду. Я свидетельствую об этом. Как и о том, что никто не заставлял их верить. Мы жили там, где любая угроза – пустой звук. Мы воевали там, где невозможно запугать. Мы верили там, где нельзя приказать верить. Тогда я научился, что живёшь по‑настоящему лишь сражаясь за что‑то великое. Настолько великое, что и представить невозможно. Съешьте это и пойдите запейте пивом, чтобы не было изжоги…
– Я тебе не враг, Борис, – нашёл я наконец лазейку в этом потоке гневных слов. Мальчишка осекся, сглотнул, провёл по лицу ладонью и тихо сказал:
– Извините… Вы, конечно, не враг… Но вряд ли вы верите в сказки… Пойдёмте, я вас провожу. Вы опоздаете на автобус, правда.
– Конечно, – кивнул я, вставая.
Мы молча вышли в „залы“ музея. Только теперь я обратил внимание на маскхалат, украшенный орденом Красной Звезды, бинокль, массивные швейцарские часы и немецкое кепи с маленькой зелёной звёздочкой в одной из горок.
– Это… твоё? – спросил я, останавливаясь. Борька улыбнулся, затягивая напульсник:
– Вы же не верите… Даже дядя Лёша не поверит, я знаю, хотя он занимается проколами во времени уже двадцать лет и тогда, в первый день, специально нас ждал на площади, чтобы предупредить, чтобы мы были осторожны… Кто ночует в здешней гостинице, те часто всякое видят и слышат. Там было гестапо… Так что это просто одежда партизанского разведчика… Люди ведь сходят с ума по‑разному… Я тихий. Сижу в музее, хотя наши все в походе по озёрам, „АСК“ меня еле отпустил… – Борис пожал плечами и признался: – Мне в этом музее иногда так странно бывает… Я хожу, смотрю фотографии… Я с ними еду делил, в одних шалашах и землянках спал, под пули ходил, смеялся, грустил. Для меня они все живые. А для остальных – экспонаты… В Новгороде один раз старик меня окликает на улице: „Шалыга!“ Я обернулся, еле сдержался. А старик сразу извиняться: „Парень, прости, ты прямо один в один с нами в отряде был, глупо, конечно, вырвалось…“ – а сам плачет. А я пригляделся – а это Витька Севов. Живой, только… только совсем старый. Мне бы с ним в обнимку, а я только улыбнулся, „ничего, ничего“ говорю – и почти бегом…
– А что случилось с отрядом? – спросил я. Борька вздохнул:
– Немцы разбили его зимой 43‑го, когда уничтожили партизанский край… Илмари Ахтович погиб… А Мефодий Алексеевич и тётя Фрося пропали без вести… И наши ребята почти все погибли… Из младших разведчиков Лёньчик остался жив и Пашка Короткий, но Пашка потом уже… в сорок четвёртом без вести пропал… А из отделения – Витька, Зинка, Макс и Рэм. Только Рэм погиб уже в армии, на Зееловских высотах. А Зинка подорвалась на мине под Краковым, она была снайпером… Макс потом офицером был и умер уже где‑то в девяностых… Ромка в партизаны не вернулся, не дали, его усыновил кто‑то… В общем, я что мог – узнал, но немного…
Мы стояли и разговаривали. Я указал подбородком на витрину с документами и вырезками:
– А вон та статья – она про вас?
– Да, статья Симонова… – кивнул Борька. – Он нам фотографии всё‑таки переслал – ну, когда нас награждали, я просто про это не упомянул… А статью я уже когда тут работал, нашёл… Там тоже фотографии есть, но не общая, а наши по отдельности.
– Неужели никто не обратил внимания… – начал я. Борька, догадавшись, прервал меня:
– Это никому не нужно. Вообще никому.
Я не нашёл, что сказать и сделал шаг к витрине.
САМЫЕ ОБЫЧНЫЕ
– гласил заголовок на пожелтевшей военной бумаге старого номера „Красной Звезды“. Я прочёл первые строки: „Борису Шалыгину только‑только исполнилось четырнадцать, когда в его родной Новгород ворвался враг…“
– Печи, – сказал Борька. – Мне полгода снились печи в сожжённых деревнях. Ряды печей и ни одного человека. Я иду, иду, иду между ними и кричу, зову, а никто не откликается… Пусто… А Юлькин портрет я отсканировал, почистил и распечатал с увеличением… Мама всё спрашивает: „Кто это, я такой не знаю…“
Теперь я заметил, что около входа на стуле стоит гитара, украшенная бантом.
– Твоя? – кивнул я на инструмент. Борька кивнул:
– Ага… Как Зинка тогда сказала – мещанство… – он взял гитару, погладил поцарапанный чёрный лак. – У одного „афганца“ выменял на три бутылки водки… – Борька перебрал струны и вдруг, подёргивая одну и ту же, не запел, а заговорил, чуть склонив голову… а я увидел то, чего не замечал раньше, потому что Борька был светлорус, как и большинство русских пацанов – серебряные ниточки в его чёлке…
Видел он во сне –
Сошла на землю Правда,
Любовь и согласье вошли в каждый дом…
Видел он во сне –
Сошла на землю Правда,
И с той поры на всех углах он твердит о том…
Но где мы и кто мы –
Не ведаем сами,
В базарном пристанище
Сёстры и братья…
Всё здесь кусками,
ломтями,
горстями,
Всё продаётся здесь, всё без изъятья…
Видел он во сне –
Сошла на землю Правда,
Любовь и согласье вошли в каждый дом…
Видел он во сне
Любовь однажды
И с той поры не устаёт он говорить о том…
– он рванул струны, хлопнул по ним, глуша и улыбнулся:
– Вот так.
– Я хотел оставить деньги, – я достал тысячную купюру, положил на столик.
– Спасибо, – кивнул Борька. – Я сейчас выпишу чек…
– Не надо, – покачал я головой. – Я пойду.
– Конечно, – кивнул он, ставя гитару на стул. И сказал мне в спину: – Мне иногда очень хочется обратно.
Мне захотелось обернуться. Но я не обернулся. Я пошёл по аллее мимо церкви и дальше, по улице, к станции. „Газель“ всё ещё чинилась, но дело подходило к концу. Большинство пассажиров уже толпилось вокруг, лишь несколько человек допивали пиво в павильончике. На придорожном столбе висел плакат, чёрные на белом строчки вдруг резанули взгляд… но, присмотревшись, я увидел, что это просто объявление о покупке длинных натуральных волос по высоким ценам. Ниже ещё один плакатик – яркий, зовущий – обещал суперприз в лотерее на игровых автоматах. Стайка мальчишек лет по 10–12 кучковалась около „ромашки“, пересчитывая пятаки и азартно споря о чём‑то…
– Готово, едем! – возвестил водитель…
Я поспешил мимо павильона. Один из допивавших пиво мужиков на ходу что‑то поддел ногой, и к моим туфлям подкатился ржавый, длинный, гранёный гвоздь с широкой шляпкой. Нагнувшись, я поднял его, положил на ладонь… и услышал музыку. Ту самую, под которую в кино „Белорусский вокзал“ приходит с войны усыпанный цветами поезд.
– Ну что же вы? Задерживаете! – окликнул меня водитель. Но я не ответил. Я стоял, держа гвоздь на ладони, улыбался – и музыка гремела у меня в ушах, становясь всё ближе и ближе. Пассажиры, недовольно глядящие в приоткрытые окна, не слышали её – но мальчишки вдруг перестали спорить и, чуть приоткрыв рты, хлопая удивлённо глазами, заозирались и почему‑то заулыбались неожиданно искренне и светло, а монеты просыпались из ладони считавшего.
Музыка буйствовала и ликовала, нарастала и кружилась. И я знал, кого увижу с последним её звонким аккордом на недалёкой опушке леса.
К О Н Е Ц
АВТОРСКОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ
Сколько легло нас, мальчики…
В.П.Крапивин.Вне всякого сомнения, можно признать демократическим государство, где дают реальные тюремные сроки за пиратское копирование идиотских фильмов, но при этом не желают принять закон о борьбе с детской порнографией. В конце концов, уже давно всем ясно, что священным при демократии является именно право частной собственности, а не дети (тем более – русские!). И что поделать, если у наших законодателей и правозащитников нет понимания того, что такое порнография и дети и они требуют, чтобы им написали чёткое юридическое определение таких понятий, как совесть и мораль.
Но празднование 60‑летия Победы всё‑таки следовало отменить и объявить в этот день траур. Потому что именно 9 мая 2005 года в одном из коллекторов города Красноярска были найдены обгоревшие до скелетирования тела пропавших (а точнее – похищенных) месяцем ранее пяти детей в возрасте 9‑12 лет. На пятерых Саше Лавренову, Диме Макарову, Максиму Тауманову, Галашу Мамедгасанову и Сафару Алиеву было 52 года. Вполне нормальный средний срок смерти мужчины в демократическом нашем государстве. Но для детей всё‑таки несколько рановато, вам не кажется?
Хотя возможно – я и ошибаюсь. Возможно, документы „Плана Ост“, предусматривавшего поголовную неграмотность, отсутствие медицинского обслуживания, нездоровую пищу, пропаганду контрацепции и аборты среди населения России, кем‑то приняты на вооружение в наши дни. Тогда всё нормально. Спите спокойно, сограждане.
* * *
Когда я писал эту книгу, я думал в первую очередь, конечно же, о Лукьяненко и Крапивине. Но это – абсолютно отдельная тема.
А во вторую – о том, что живёт на свете масса людей, имеющих высшее образование и на этом основании величающих себя интеллигентами. Это довольно странные на мой взгляд люди. И дело не в том, что они любят трепаться. Дело в том, о чём и как они треплются.
Мне, например, не слишком понятен их ужас перед войной и вообще насильственной смертью. Особенно это касается слезливых криков о том, какие страдания война приносит детям. Интересный вопрос: а наше мирное время (и далеко не только в России, и не только в неблагополучных странах вообще!) им не приносит страданий? Разница только в том, что тут ещё и непонятно, за что и почему они должны страдать… А на войне в целом ясно. Не помню, кто из великих сказал: „Человек может перенести любые муки, если утешением ему будет служить твёрдое понимание того, за что он страдает.“
Что общего между героем повести Богомолова „Иван“, которому после пыток отрубили голову гитлеровцы – и подростком его возраста, погибшим практически такой же смертью на заброшенной стройке в русском городе в наши дни от рук какого‑то спятившего? Ничего, по‑тому что смерть первого имела смысл, а смерть второго бессмысленна… и вот поэтому – страшна. Не сама по себе.
Гитлерюгендовец‑„фаустник“, убитый нашим снарядом. Зарезанный в пьяной драке старшеклассник. Малолетний боевик, подорвавшийся на растяжке. Похищенный и замученный подонком обычный школьник. Между ними‑то что общего, кроме „великого ничто“, поглотившего их (не утешайте себя – индивидуального бессмертия не существует, не ждёт нас там ни туннель из света, ни ангельское пение, ни котлы со смолой…)гораздо раньше, чем назначено было природой? Которая, кстати, отвела человеку лет 25 жизни, не больше – а он обманул её и проживает втрое дольше… если не помешают.
Да ничего общего. Первый – герой. Второй – дурак. Третий – бандит. Четвёртый – жертва. Не бывает „вообще“ смертей. Не бывает „вообще“ детей. И людей „вообще“ не бывает. Каждый и живёт и умирает для чего‑то, даже если сам от этого открещивается или просто не понимает. Смысл присутствует даже в бессмысленности – хотя бы её увеличение до таких пределов, чтобы смысл потерял весь мир вообще (какой смысл у компьютерного вируса, кроме бесконечного самокопирования и разрушения среды собственного обитания?!), как в случае с сотнями детских смертей вокруг нас.
В скандинавских сагах огромное значение придавалось тому, ради чего и как умер человек. „Он умер достойно“. Или „он умер безо всякой чести“. Человек верит, что сражается или живёт ради чего‑то великого. Смерть (и жизнь) такого человека и ценней и прекрасней, чем у любого другого.
Дети – не исключение.
Лицемерно объявив" всё лучшее – детям!" мы на деле отняли у них право на Поступки. В поздние советские времена это выражалось в плотной и глухой, как душное одеяло, опеке многочисленных тётушек и дам от образования и воспитания. В наши времена это выражается в том, что мы на них плюнули и нагло назвали это „свободным развитием детской личности“, не думая о том, куда и как она разовьётся, потому что научить быть Человеком ребёнка может всё‑таки только взрослый…
А им хочется другого… Им душно в строгом ошейнике опеки и страшно на пустырях, где нет никого, кто сказал бы, что делать…
Когда работаешь с детьми (или пишешь о детях), всегда есть две опасности.
Можно скатиться в педоцентризм. Это умиляет читателя, но потом начинает надоедать, тем более, что дети, как правило, не соответствуют в реальности вымышленным образам. Я уж не говорю о том, что дети никак не могут быть надеждой мира. Будущим – да, могут. При непосредственном и активном участии взрослых, которые этих детей воспитывают. Надеждой – извините, а если не верите, то погуляйте вечером в парке или просто почитайте надписи в любом школьном сортире. А потом подумайте: можно ли такой „надежде“ что‑то доверять?!
А можно уехать в светлые края педофобии. Я был знаком с одной коллегой‑педагогом, которая детей иначе как „поддддонки“ не называла. Именно так, разве что на слух „д“ было ещё больше. И кстати – именно педофобия заставляет Больших Начальников активно распихивать по колониям подростков вместо того, чтобы попытаться сделать из них людей…
Посерединке удержаться трудно. А уж если удержался – готовься к тому, что тебе припишут минимум „ломку детских душ“. А то и „подготовку боевиков“ с некими стррррашными целями. Или даже „тоталитарные идеи“. А там и до Главного Обвинения нашего времени недалеко – а не фашист ли вы, батенька?! „Министерство Любви“ начеку. Помните Оруэлла?..
Владимир Семёнович Высоцкий говорил (а точнее – пел, да только не услышали его сперва за запрещающими окриками, потом – за бестолковым ликованием):
И пусть говорят – да, пусть говорят! –
Но нет! Никто не гибнет зря!
Так – лучше, чем от водки и от простуд…
Я писал эту книжку не для того, чтобы спорить. Не для того, чтобы печататься. Просто потому, что мне было интересно это делать. По‑моему, вполне достаточная причина. Мне захотелось написать о мужестве, верности и чести, которые могут даже не иметь цели, поскольку ценны сами по себе. (Может быть, я напишу – соберусь – о немецких мальчишках, выходивших против наших Т‑34 с „фаустами“, чтобы – как говорит Максим Калашников – „не пережить своей Империи“ (есть у меня замысел такой книжки!)).
Я взял именно этих героев не по каким‑то идеологическим причинам (вернее – каюсь, не только по ним…), а потому, что именно в указанную ниже эпоху могли встретиться подобные объединения – сложившиеся в одну сумму характеры, оружие, взаимоотношения и масса других факторов вплоть до внешнего вида. Я вовсе не „считаю, что в наше время все подростки хуже“, как обвиняюще сказал мне один из читателей рукописи, ровесник её героев. Честное слово!
Если ЧЕСТНО, то я хотел написать фантастико‑приключенческую книжку для подростков о Великой Отечественной Войне. В дни моего детства таких книг у нас хватало, сейчас весь мир популяризует свою историю для детей, а у нас это как‑то заглохло, так почему бы нет? Возьму героя – современного мальчишку, скаута, самого обычного, с улицы, можно сказать (и я каюсь – у Борьки, да и у остальных юных героев, есть живой и вполне реальный прототип!), суну его в 42‑й год, к партизанам, а под этим соусом преподнесу юным читателям и исторические сведения, и патриотическую идею, и чувство гордости за предков, и желание быть на них похожими… Да мало ли что ещё?!
Но после первых же набросков я понял – не получится у меня никакой подростковой книги. Именно потому, что у меня был большой опыт их чтения и я хорошо помнил законы жанра. Согласно этим законам враги должны быть глупыми, приключения интересными, а самое главное – поменьше крови и страданий. В общем, герой „русской ложкой деревянной восемь фрицев уложил“, помотался по 42‑му году с жизнерадостным видом, поражая всех историческими прозрениями и жалостливо удивляясь „тоталитарным нравам“ своих предков, а потом вернулся обратно в мир, где и зажил счастливо и с гордостью.
Но так ли уж глуп лежащий в кустах егерь с биноклем? Труслив ли он? И как быть с фактом, что самые страшные зверства на территории Псковщины и Новгородчины творили те, кто сейчас зовёт нас „оккупантами“ – „суверенные прибалты“? Если начать доводить до подростков такую информацию – моментом схлопочешь обвинение в ксенофобии, а то и в… фашизме. Можно ли считать интересным приключением триста километров, пройдённых по лесам за десять дней под дождём, в мокрой обуви и на голодный желудок – а ведь партизанская жизнь по большей части из таких „приключений“ и состоит… Стоит ли жалеть „тоталитарных предков“ и на самом ли деле стояли за их спинами „заградотряды“ и „уполномоченные НКВД“ – или пожалеть надо современных дебилов, верящих в то, что на подвиг можно кого‑то загнать силой? Это тоже не подростковая тема… Что красивого может быть в войне и как её „причесать“ и „пригладить“ для детского восприятия? Рыцари, скачущие друг другу навстречу по тропинке на белоснежных конях, чтобы выяснить отношения один на один, остались в другой эпохе… да и в те времена все выглядело не так клёво. К тому же по законам жанра герой‑подросток не имеет права убивать, потому что это‑де калечит его психику – но на войне убивают все, и тех, кто не хочет или не может убивать, убивают самих в первую очередь… А самое главное – ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ ВЕРНУВШЕМУСЯ ОТТУДА ПАРНЮ? Что вообще делать вернувшимся с войны?
И вот приходят мальчики с войны…
Какие ж это мальчики? Мужчины…
Не рождены – войной сотворены,
Где штык‑ножом стал ножик перочинный…
Как он будет чувствовать себя в нашем современном мире – ну, например, при виде того, как проводят свой парад ветераны СС или пропившие память скототвари снимают ограду памятника героям войны на металл? И не покажемся ли ему мы – мы все – тупо‑равнодушным стадом, а не „свободными жителями демократического государства“? Так сказать – свежим взглядом…
Оставалось не писать вообще. Но один жирный козёл, сделавший себе имя из насмешек над страной, в которой живёт, сказал как‑то правильную вещь: „Писать, как и писать, нужно тогда, когда больше не можешь терпеть!“ И тогда я плюнул на возраст читателей – и стал просто писать. Стук‑стук‑стук по клавишам, выплёскивая всё, что я хотел сказать. Не оберегая ничьих нервов и не считаясь ни с какими законами жанров и политвеяний.
Сами герои вели себя буйно до неприличия, совершенно не же‑лая подчиняться авторскому замыслу. Начать с того, что главный герой вообще каким‑то невообразимым прыжком перебрался на страницы „Скаутского галстука“ из совершенно другой рукописи и увлёк за собой всё повествование – персонажи вырвались из‑под моего контроля, полностью обалдели и на вольной воле забушевали вовсю, в грош меня не ставя и не обращая внимания на жалобные крики: „Да что ж такое, я ж не так хотел!!!“ Противиться им у меня не было сил и я начал конспектировать их действия…
Думаю, что у меня получилась правда. О том времени – и о нашем времени. О нас – и о наших предках. И о наших врагах – нынешних и тогдашних. И о том, каким должен быть человек. Если он человек.
Чего ещё требовать от автора? Разве что „исторической объективности“. Но я никогда не считал, что ящик с грязным бельём нужно держать посреди гостевой комнаты и всем гордо его показывать.
ЭТА ПАМЯТЬ – ВЕРЬТЕ, ЛЮДИ! –
ВСЕЙ ЗЕМЛЕ НУЖНА!
ЕСЛИ МЫ ВОЙНУ ЗАБУДЕМ –
ВНОВЬ ПРИДЁТ ВОЙНА!
Так стоит ли рисковать? Не проще ли помнить – особенно если учесть, что до людей ТОЙ войны нам во всех отношениях так же далеко, как червяку до неба? И мы рискуем – случись что! – не вытянуть груз, который вынесли на своих плечах они.
Нас, дураков, не жалко. За продажу своей Отчизны, за трусость и приспособленчество, за измену идеалам и Родине во все времена наказанием будет смерть. А мы согрешили всем этим. Особенно моё поколение – те, кому от 25 до 35 лет. Нас не за что жалеть.
Но жалко пацанов и девчонок, которые всё ещё рождаются в нашей стране вопреки „Плану ОСТ“.
И – жалко Россию…
* * *
Ну – и остаётся поблагодарить:
– Аркадия Петровича Гайдара (которому я всегда страшно завидовал! Не как писателю, нет… Или не только, как писателю, если правильней)
– Владислава Петровича Крапивина (которого я обожаю читать и перечитывать… правда, частенько – с усмешкой, а иногда – с насмешкой. Но это не умаляет его таланта)
– Сергея Константиновича Лукьяненко (который первым написал так, что… что нет слов, если честно. А что написал – догадайтесь сами; но не свои „Дозоры“!)
– Уильяма Голдинга (а его – за то, что показал, насколько далеко можно зайти в интеллигентской боязни неких „тёмных сторон человеческой натуры“, присутствующих, к счастью, лишь в воспламенённых фрейдизмом мозгах их изобретателей!)
– Роберта „Прапорщика“ [Как ни странно, но второе имя знаменитого американского фантаста – „Энсон“ – происходит скорее всего от французского ensign – или просто „прапорщик“!] Хайнлайна (за героев, которые не страшатся замарать руки, но держат в чистоте души)
– обоих Денисов, Ивана, Юрку, Максима, Лену, Сергея, Федьку… уфф, ещё многих и многих, позволивших мне удержаться посередине и не растерять веру не только в них – в Россию – спасибо.
АВТОР.






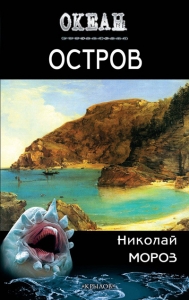

Комментарии к книге «Олег Николаевич Верещагин Клятва разведчика», Автор неизвестен -- Религиоведение
Всего 0 комментариев