Виктор БУРЦЕВ НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА
1
1976 год.
В этом году умер Поль Робсон. А босс боссов американской мафии Карло Гамбини отпраздновал свой семьдесят четвертый день рождения. Национализировали нефтяную промышленность в Венесуэле. Хорхе Луис Борхес получил в Чили Большой Крест Бернардо О’Хиггинса, и левые сурово осудили его за «поддержку пиночетовской диктатуры». На своем дне рождения Джеймс Маккартни изрядно напоил сына и просил его что-нибудь спеть. А «Красная Звезда» назвала Маргарет Тэтчер «Железной леди», и кличка, что называется, приклеилась. Стив Джобс и Стив Возняк официально зарегистрировали фирму со смешным названием «Яблоко». В городе Уфа родилась Земфира Рамазанова, но на это тогда мало кто обратил внимание, потому что умер Мао Цзедун.
Вообще год выдался непростой, как, впрочем, и все остальные. В мире назревал очередной кризис, несмотря на то что СССР и США договорились не испытывать атомные бомбы более ста пятидесяти килотонн, а Москву посетила Индира Ганди. Международное положение оставалось сложным. Одни страны разорвали дипломатические отношения с другими, а это что-то да значит. Кому-то на этой мутной волне повезло, например Великобритания дала больше автономии Шотландии и Уэльсу, а Аркадио Мигель ухитрился выскочить из окна второго этажа и не сломать ноги. В темноте улочки Лаварден это само по себе было большой удачей. Он приземлился на четвереньки, перекатился через голову. Мелкие камешки больно царапнули по голой спине и ягодицам. Аркадио, пригибаясь, кинулся к стене дома и замер в темноте. Он чувствовал, как вечерняя прохлада заставляет мышцы подрагивать, а сердце тяжело бухает в груди.
Тишина.
Скрипнула створка окна. Аркадио затаился, стараясь вжаться в стену. Что-то с легким хлопком мягко ударило его по лицу и плечам. Он вздрогнул, но потом сообразил: одежда! С глухим стуком рядом упали ботинки.
– Мануэла! Что ты делаешь там у окна? – Грубый, наполненный недоверием мужской голос заставил Аркадио замереть.
– Душно, – раздраженно ответила женщина. – Мне душно, Хосе…
– Могут залезть воры, – недовольно проворчал мужчина, но окно закрывать не стал. Старый толстый Хосе Коррехидор, шеф полиции района Парк Патрикос, не тешил себя иллюзиями относительно верности молодой супруги, но поймать ее с поличным… увы, не удавалось. – Грязные воры или марксисты. Чертовы марксисты… Давно надо поставить решетки.
Он тяжело протопал по скрипучим доскам пола. Хлопнула дверь.
Аркадио Мигель, посмеиваясь, натягивал брюки. Ирония заключалась в том, что «чертов марксист» только что выпрыгнул из окна ненаглядной Мануэлы, выпрыгнул и остался цел, здоров и доволен. Бурный роман с этой черноволосой красоткой с широкими, полными страсти бедрами, приносил двойную пользу. Помимо своего щедрого на любовь тела, Мануэла с легкостью отдавала любовнику всю информацию, которую умудрялась получить от болтливого мужа. Знакомство, полезное во всех отношениях.
Аркадио оделся, перемахнул через невысокую ограду и быстрым шагом двинулся в сторону бульвара Аманцио Алькорта, где даже самой глубокой ночью не утихает движение, и шумные толпы праздных гуляк шатаются туда-сюда в поисках развлечений или просто чтобы убить время. Туристы или какая-нибудь богема, прожигатели жизни. Таких людей Аркадио Мигель презирал и не понимал. Для него жизнь была коротким, ярким мигом, в который необходимо уложить, втиснуть множество событий и действий. Чем больше, тем лучше. Чтобы никто не мог сказать потом, что он, Аркадио Мигель, прожил отмеренный ему срок зря.
На бульваре он поймал такси и через полчаса уже был на улице Сан-Хосе. Откуда пешком, часто оглядываясь и прислушиваясь, добрался до небольшого, погруженного в темноту переулка Святой Терезы и постучал в ничем не примечательную дверь.
Через некоторое время послышались шаги, и заспанный голос спросил:
– Кто?
– Мигель.
– Какой Мигель?
– Из Сан-Хосе.
Дверь приоткрылась – ровно настолько, чтобы гость мог проскользнуть внутрь.
– Все чисто? – спросили в темноте прихожей.
– Чисто, – ответил Аркадио. – Ты меня знаешь.
– Хорошо. Свет зажигать не буду.
Аркадио, осторожно ступая, нашарил в темноте крутую лестницу на второй этаж и бесшумно поднялся. В наглухо зашторенной комнате сидели пятеро. Тускло горела слабенькая лампочка.
– Пришел.
– Говори, не тяни.
– Десятое число, два часа дня, – сказал Аркадио. – Парк Колон…
2
Когда-то, лет пятьсот назад, на этот берег прибыли испанцы. Индейское племя керанди встретило дона Педро де Миндоса и компанию по всем законам гостеприимства. Испанцы основали поселение и всего за пятьдесят лет довели гостеприимных индейцев до ручки. Объединившись, племена кечуа и гуарани смели форт с лица земли. Но поколение конкистадоров оказалось на редкость упрямым, на дворе стояла Эпоха Великих Географических Открытий. Так что индейцы с их национальным самоопределением пришлись, как говорится, не ко двору. Почти сразу, по меркам того времени, через каких-то пару лет, на южно-американский континент прибыл десант под предводительством дона Хуана де Гарая, который, показав кечуа и гуарани, где раки зимуют, основал на старом пепелище новый город. И назвал его Вилья Санта Мария де лос Буэнос-Айрес. На этом про будущую столицу Серебряной страны благополучно забыли. Население по этому поводу сильно не переживало, занимаясь в основном прибыльным делом – контрабандой. Но время оказалось не благосклонно к испанским грандам, постепенно задвинув их на вторые роли. И вот уже нелепый английский выскочка завладел морями. И вот уже колонии заговорили о независимости. И Испания, чувствуя запах жареного, превратила Буэнос-Айрес в укрепленный аванпост в южной части Атлантики со всеми вытекающими из этого решения последствиями. Помогло не сильно. Потому что уже через несколько лет Аргентина получила независимость. Однако вложенные испанской короной песеты пошли в рост, и Буэнос-Айрес оставался самой крупной, шумной и блестящей столицей во всей Южной Америке – аж до самой Второй мировой. Но на волне мировых потрясений резко поднялась Бразилия, разбогатела Венесуэла, а там и Куба показала могучему северному соседу крепкую загорелую фигу, выдвинувшись на политическую передовую. Аргентина медленно и неуклонно сдавала позиции. Превращаясь в тихую по латиноамериканским меркам гавань, наполненную шедеврами колониальной архитектуры в стиле барокко и множеством художников, лучших, как утверждают сами аргентинцы, на всем южно-американском континенте. Учитывая все это, совсем не удивительно, что именно Аргентина стала местом, куда в 1943 году устремились из Европы самые умные, в 1944-м – те, кто поумнее, а в 1945-м – те, кому повезло. Самые невезучие остались в бункере неподалеку от Рейхстага.
Большие пароходы везли людей. А бесшумные и опасные подводные лодки перевозили через океан нечто иное. Архивы. Те самые ценные бумаги, отсутствие которых сильно расстроило особый отдел ОГПУ, занимавшийся, помимо вопросов научного шпионажа, тем, что официальная политика Партии величала мракобесием.
Часть бумаг переправить не удалось. Что-то перехватили американцы, кое-что получили русские. Несколько подлодок просто исчезли. Что поделаешь? Океан… Но все-таки архивы оказались там, куда их направили. И если бы правительство президента Перона знало, какую свинью оно подкладывает своей стране, легализуя у себя подтянутых, дисциплинированных и далеко не бедных эмигрантов, оно бы в полном составе ушло в отставку. Но… В любом случае вышло так, как вышло. Люди, документы и деньги Анненербе осели в Серебряной стране.
Как выяснилось позднее, Аргентине это на пользу не пошло.
3
В небольшой комнате было душно и накурено. Человек пятнадцать-двадцать, точнее знала только секретарь, которая вела запись собрания, набились в комнатенку три на четыре и едва не сидели друг у друга на головах. Окно для проветривания в целях конспирации было решено не открывать, хотя оно и выходило во внутренний дворик.
– Товарищи, товарищи! – Кристобаль, не имея колокольчика, стучал по столу кулаком. – Товарищи!
Никакой реакции. «Марксистский актив» разошелся не на шутку. Казалось, что каждый старается просто перекричать остальных, напрочь забыв о цели собрания.
И только странный гость из Комитета сидел молча в нелепых черных очках и идеально отглаженных – стрелка острая, как нож, – брюках. Хотя Кристобаль, сам член Комитета, никак не мог припомнить, где и когда этого странного парня приняли в организацию. Впрочем, эта мысль не казалась важной.
– Товарищи!!! Да что же это такое! – Кристобаль Бруно потряс отбитой ладонью.
Крики начали смолкать. Вскочила, яростно тряхнув короткими волосами, Леонора.
– Товарищи! Я считаю, что решение по поводу акции в парке Колон – это незрелое решение. Мы не можем вот так просто…
– Решение принято не нами, а Комитетом.
– Значит, и Комитет не подумал! В таких вопросах нельзя пороть горячку! И почему акцию должны осуществлять мы?!
– Мы наиболее активная и многочисленная группа, и всем это хорошо известно. Так что ты предлагаешь?
– Предлагаю все обдумать, взвесить… Проанализировать какие-то другие пути!
– У нас нет времени, – простонал Кристобаль. – Времени до десятого осталось совсем немного…
– А я говорю, что в парке Колон нельзя проводить такую акцию! Могут пострадать простые люди. Может пострадать историческая часть города, в конце концов!
– А еще может пострадать Педро Санчес, палач и убийца! – с места закричал Рудольф. – Я считаю, что это важнее!
И снова заорали все.
– Товарищи! – поднял руки Кристобаль. – Я вас прошу… товарищи! – Наконец рассвирепел и он. – Ну, хорошо! Я заставлю вас меня слушать!
Он рывком выдвинул ящик стола, и в его руке оказался револьвер. А еще через мгновение тяжелая и страшно холодная рука человека из Комитета легла Кристобалю на плечо, намертво припечатав его к стулу.
– Не стоит, – тихо, с легким акцентом прошептал гость.
Странно, но председатель Бруно услышал его во всеобщем гомоне так же хорошо, как если бы тот говорил в полной тишине.
«Кто он такой? – Кристобалю показалось, что ответ на этот вопрос очень важен. Но в помещении было слишком накурено, душно. – Чертовщина…»
Где-то на задворках сознания всплыли чьи-то слова. Он жмет руку странному товарищу. «Наш иностранный друг… Большая помощь… Консультации…» Но кто представлял человека в черных очках? Где? Было ясно, что свой, но кто?..
Не снимая обжигающе холодной и твердой руки с Кристобаля, гость встал.
Актив умолк.
– Путь революции – не простой путь. – Гость говорил тихо, но так, что каждое ухо слышало его и внимательно ловило каждое слово, каждый звук. Его хотелось слушать. Кристобаль даже задрожал, когда он сделал небольшую паузу. Так женщина дрожит от нетерпения, когда умелый любовник приостанавливается, чтобы подогреть ее желание. – В нем есть место всему: лишениям, трудностям, опасностям. Все тяготы долгого пути. Люди, идущие дорогой революции, часто не видят результатов своих действий. В этот момент можно запаниковать. Наделать ошибок. Опустить руки. Свернуть с дороги. Или испугаться.
Леонора, молодая и яркая, обиженно вскинулась. Но промолчала. Именно она являлась самым горячим противником идеи террора, считая его тупиковой ветвью революции. И где-то Кристобаль ее понимал.
– За этот страх вам не должно быть стыдно. Ведь это страх крови. Вы честные, горячие молодые люди. Именно вам будет принадлежать будущее этой страны. Или даже всего мира. Каким оно будет, решается сейчас и здесь! Не в залах президентского дворца. Не в парламенте, где сидят болтуны и бездельники. А здесь. В этой маленькой комнате. От того, что вы решите, зависит ваша жизнь, но это не главное. От этого зависит жизнь целой страны! Ваши споры – это споры вашего народа! Ваши страхи – это страхи народа! Ваши решения – это решения народа! Сейчас угнетенного, нищего, униженного. Но в будущем… Хотя дело не в этом. Вопрос сейчас стоит по-другому. Будет ли будущее у народа Аргентины? Испугается ли народ Аргентины крови и ответственности? Не бывает революции в перчатках…
И он снял очки.
Все, что произошло после этого, Кристобаль вспомнил только за минуту до расстрела. Но это, конечно, ничего не могло изменить.
4
В мастерской царило радостное оживление.
Хотя мастерской эту комнату можно было назвать с большой натяжкой. Подвальное помещение, до половины заваленное огромными рулонами с желтоватой бумагой, которые больше всего походили на пузатые бочки. Склад типографии, хозяин которой имел марксистские взгляды и закрывал глаза на то, что происходило на его территории. Эти рулоны каждое утро выкатывали через широкие ворота хмурые от недосыпа и перепоя рабочие. И каждый вечер все те же усталые ребята привозили новые бочки с бумагой. Получали свои монеты и тратили их в ближайшем кабаке. Откуда утром приползали на работу – злые, с больной головой и красными глазами. Таких парней меньше всего интересовало то, что происходит за грудами бумажных рулонов и куда ведет маленькая дверца с обратной стороны склада.
Этот подход устраивал и соратников Аркадио Мигеля, и хозяина типографии, и самих рабочих, за будущее счастье которых боролись в тесноте мастерской молодые марксисты.
Несколько столов были аккуратно поделены на различные зоны.
На одном собирали детонаторы. Этим занимались молодые девушки – те, у кого наиболее чувствительные пальчики. Необходимо было свести маленькие пороховые заряды таким образом, чтобы не пережать их и вместе с тем не наделать лишних щелей в корпусе, куда могла бы уйти сила взрыва и пороховые газы. Детонатор должен был дать точный, сильный толчок будущему взрыву.
Рядом два парня колдовали над механизмом дистанционного подрыва.
И третий, задвинутый в самый дальний угол комнатки, стол был полностью занят главным участником грядущего праздника.
Динамит.
Говорят, что, когда Альфред Нобель придумывал замечательное средство для горных работ, прокладки тоннелей и разработки карьеров, он и не подозревал, каким образом будут использовать его детище наделенные фантазией потомки. Скорее всего это просто байка, выдуманная людьми, желающими представить этого изобретателя исключительно белым и пушистым. Сложно себе представить, чтобы Нобель был настолько слеп и тупоумен, чтобы не понимать последствий. Хотя другая распространенная придумка гласит, что физики-ядерщики тоже не ведали, что творят, и занимались исключительно высокой наукой. Опасный это народ, ученые.
Два заряда по шесть шашечек в каждом. Огромная разрушительная сила, скрытая в невзрачных цилиндриках.
Согласно плану, взрывы должны были прогреметь в северном конце импровизированной трибуны, где располагались наиболее высокопоставленные гости. В том числе и Педро Санчес, глава местной контрразведки. Садист, убийца и палач. По крайней мере, те, кто попадал к нему в руки, неминуемо раскалывались. Для Санчеса не существовало таких крепких орешков, которых он не мог бы раскусить. Порой в прямом смысле этого слова.
Заодно с Педро Санчесом должны были отправиться в мир иной его первый заместитель и глава полицейского управления. Та еще сволочь. Плюс разные деятели из политической элиты Буэнос-Айреса. Все, как один, кровопийцы и эксплуататоры, собравшиеся на ежегодный праздник победы при Рио-Колорадо, где закованные в железо испанцы на заре колонизации Аргентины уничтожили последнюю крупную стоянку индейцев кечуа. Ежегодным этот праздник стал всего пару лет назад. Особым указом жены бывшего президента Перона, Изабеллы [1]. Злые языки из приближенных к первой и единственной леди страны сообщали, что, видя недовольство народа, Изабелла решила увеличить количество праздников и выходных дней. Как она выразилась, для поднятия национального духа.
Получилось не совсем так. В пышных и ярких праздниках принимали участие все те же кровопийцы и эксплуататоры, то есть политическая и экономическая элита. Вид радостно улыбающихся и сытых рож не способствовал поднятию национального духа. Скорее уж наоборот. Так что праздники из народных гуляний выродились в красочные шоу для специально приглашенных гостей.
Учитывая все это, Кристобаль Бруно не слишком мучился угрызениями совести, когда планировал террористическую акцию. Бороться вот так, с оружием в руках, через кровь и смерть, казалось ему честнее, чем просиживать штаны в марионеточном парламенте, пытаясь доказать власть имущим свое право на жизнь. Хотя кто-то предпочитал именно такой способ, считая революционную борьбу делом грязным.
К сожалению, таких людей было предостаточно и в Комитете, и в Марксистском активе. Поэтому решения часто тормозились и любая работа превращалась в подобие фарса. Впрочем, за последний год ситуация явно изменилась в лучшую сторону. Действия монтонерос стали более решительными. Взрывы и выстрелы теперь никого не удивляли, но акция такого размаха планировалась впервые. Аркадио Мигель, положа руку на сердце, сомневался в том, что Комитет даст добро.
Но он дал.
И Актив подтвердил. Теракт будет. Решение принято единогласно.
Удивительное единство.
5
Когда-то он был красив. Но время сделало свое дело. Жаловаться, правда, было грешно. В условиях, когда ты скрываешься от всего мира, лучше, когда твои старые фотографии не соответствуют действительности. Хотя он и постарался, чтобы фото тех времен не осталось вообще.
Сейчас он более всего походил на себя кинематографического. Полный, лысоватый, с круглым лицом чудаковатого добряка. Глядя на него, очень трудно было сказать, что руки этого приятного семидесятилетнего старика едва ли не по локоть в крови…
С улицы, через раскрытое настежь окно, доносился какой-то мотивчик. Что-то легкое, не то румба, не то самба – за долгие годы, проведенные в этой сравнительно тихой стране, он так и не научился разбираться в музыке. Близкие сердцу каждого мюнхенца тирольские напевы остались далеко в прошлом, а привыкнуть к зажигательной румбе он не смог. Хотя казалось бы…
Так же он не смог привыкнуть к местному пойлу, продававшемуся на каждом углу, и потому пил водку. Русскую. Которую доставал за бешеные деньги.
– Вы, Рудольф, все никак не наиграетесь? – спросил он, отпив из бокала, где обжигающая водка плавила лед.
– Это не игрушки, Генрих, – ответил тот, к кому он обращался. – И не называйте меня так.
– Конспирация? – Генрих усмехнулся.
– Как хотите. Я предпочитаю думать, что тот Рудольф умер в сорок пятом.
Рудольф не изменился почти совсем. Бывает такой тип людей, которые будто бы консервируются в определенном возрасте. А может быть, штучки, с которыми играло в свое время Общество Туле, все-таки что-то да значили. Сухой, поджарый, с копной волос и все с тем же бесноватым огоньком в глазах за толстыми линзами очков. Этот взгляд Генрих помнил хорошо, в сорок четвертом, когда стало плохо с продовольствием, от Рудольфа, казалось, остались одни только глаза…
– Так оно и было, так оно и было, – вздохнул Генрих. – Отсутствие бумажки означает отсутствие человека. А на вас, мой дорогой, никаких бумажек нет даже у меня. Так что беспокоиться не о чем…
– Вы хотите сказать, что ваши архивы у вас?! – Рудольф задохнулся.
Генрих усмехнулся и замахал руками.
– Вы с ума сошли! Останься архивы у меня, я не прожил бы и двух дней! Бумаги в надежном месте. И моя жизнь является гарантом того, что они не всплывут где-нибудь… В районе Палестины.
– Господь с вами!
– Со мной, со мной… Как там говорят русские? Мы все под колпаком у кого? – И Генрих весело засмеялся. – Так что если вы хотели мне предложить что-то, любезный Рудольф фон Зеботтендорф, то подумайте. Далеко не каждое предложение может меня заинтересовать. Тем более если оно изложено в какой-нибудь неправильной форме…
Рудольф стоял у двери, привалившись к белой стене. Непослушными пальцами он расстегивал ворот рубашки.
– Вам плохо? – поинтересовался Генрих. – Выпейте водки. Она бодрит. От коньяка у меня по-прежнему сонливость…
– К черту водку, группенфюрер… – просипел фон Зеботтендорф. – К черту. Мне не рекомендовали ходить к вам, но я все же пошел…
– Кто не рекомендовал? – с самым невинным видом спросил Генрих.
Рудольф не ответил. На его побледневшее было лицо возвращались живые краски.
– В любом случае, – прошептал фон Зеботтендорф, – это не имеет значения…
– Что не имеет значения? Что вы там бормочете? Сядьте, наконец, к столу! – Генрих с грохотом отодвинул стул от большого круглого стола, стоявшего в центре комнаты.
– Спасибо.
Они сели. Рудольф осматривался вокруг, словно до этого момента он ничего не видел в этой комнате. Высокие потолки. Лепнина. Фисташковые дорогие обои. Везде виньетки, завитушки, барокко. Изящная белая мебель. Высокие окна. Дорогая квартира…
– Кажется, я понимаю, – пробормотал фон Зеботтендорф. – Кажется, я понимаю.
Генрих удивленно осмотрелся.
– Ах, вот вы о чем… – Он засмеялся. – Достаток, друг мой, не проблема. Да и вы, я полагаю, не бедствуете?
– Не жалуюсь.
– Так о чем же вы хотели поговорить?
– Если честно, – Рудольф откинулся на спинку стула, – я не знаю, стоит ли говорить с вами, но… Но вы нужны нам.
– Нам?
– Нам, – повторил Рудольф убежденно. – Людям, которые еще помнят величие германской нации! Людям, которые знают, к чему должно стремиться человечество!
Он запнулся. Генрих вытирал слезы кружевным платочком. И смеялся…
– Рудольф! – выдавил он, задыхаясь. – Рудольф, пощадите старика! Это очень смешно! Очень! Через столько лет все те же песни!.. А то я уже начал уставать от этой бесконечной латиноамериканской румбы…
– Это очень серьезно, Генрих.
– Не смешите меня! Серьезно? После Третьего рейха?! Поверьте мне, фон Зеботтендорф, я патриот. Я, может быть, больший патриот, чем вы. Я люблю Германию. Я люблю ее историю и знаю о ней значительно больше, чем все припадочные паралитики вашего Зиверса. И я вам скажу, что большего величия, чем в годы Третьего рейха, у Германии не будет больше никогда. Никогда, Рудольф! И нет смысла устраивать клоунаду!
– Мне известно ваше отношение к работам нашего Общества…
– Ах, оставьте! – Генрих раздраженно встал. Стул царапнул по паркету. – Вспомните, в каком ведомстве я служил! Все эти ваши поиски полой земли, все эти… Аферы! Шиты белыми нитками.
– Вы случайно не слышали о теории червячных переходов, Генрих? – Тон фон Зеботтендорфа неожиданно изменился. Он улыбнулся, будто услышав добрую весть, закинул ногу на ногу. – Перспективная, не лишенная революционных настроений мысль в современной физике. Я вам как-нибудь расскажу, и вы, может быть, перемените свое отношение к той экспедиции и вообще к нашим разработкам. Древнее знание, дорогой Генрих, древнее знание, это не просто сказки или пустая болтовня. Это шифр! Который следует разгадать. И величайшее умение исследователя состоит в том, чтобы отделить басню от закодированного послания в будущее.
– Все это слова. Слова и ничего больше. Если бы ваши теории были хоть в чем-то верны, мы бы сейчас сидели в Кремле. Или в Белом Доме… Или еще где-нибудь, а вокруг был бы Тысячелетний рейх! И наши, слышите, Рудольф, наши ракеты несли бы свастику на другие планеты! Неужели после сорок пятого вы все еще настолько слепы, чтобы верить в свои же побасенки?
– А вы ничего не слышали про инков?
– Про кого? – Генрих, казалось, был удивлен этим поворотом разговора. – Про кого?
– Про инков. Была такая древняя цивилизация, как раз в этих местах, где мы с вами находимся. – Тон фон Зеботтендорфа стал чуточку поучающим. – Многочисленные храмы, пирамиды и прочие памятники старины есть в Перу, Парагвае, но не в Аргентине. Удивительно, правда? Хотя есть свидетельства, что здесь они бывали. Существует интереснейшее пророчество…
– Боже мой, Рудольф!
– Погодите, погодите! – замахал руками тот. – Дайте я скажу вам, а дальше уж сами решите.
Генрих махнул рукой и отвернулся к окну.
– Согласно этому пророчеству, расшифрованному, кстати сказать, при личном участии столь нелюбимого вами Зиверса, есть некая точка во времени и пространстве, откуда можно… Скажем так, действия, начатые из этой точки, обречены на успех. Мы называем ее точкой всех начинаний. В пророчестве сказано о Последней Войне, которую поведет Вождь, захвативший точку всех начинаний. Война неминуемо приведет его к власти над миром. Он покорит все народы и племена, и, обратите внимание, континенты. В пророчестве инков, в древнем тексте, упоминаются другие континенты. Хотя известно, что инки не знали дальнего мореплавания!
– Или Зиверс недостаточно хорошо овладел их языком… – пробормотал Генрих под нос, но Зеботтендорф услышал.
– Исключено. Данные проверялись несколькими учеными. Проверялись и перепроверялись!
– А кто у вас, простите, на должность Вождя? – С хитрым прищуром Генрих посмотрел на гостя. – Вы же не просто так мне тут рассказываете об инках и прочей белиберде. Вы же верите в это, не правда ли? Так кто же Вождь? Уж простите, Зеботтендорф, но после фюрера найти кого-то на эту должность… очень непросто. Время великих людей прошло. Прошло. Достаточно посмотреть вокруг, чтобы убедиться.
– Наш Вождь – это германский народ!
– Вы просто сумасшедший. – Генрих вздохнул и покачал головой. – Не бывает вождей с таким именем. Если вы и дальше собираетесь пудрить мне мозги, я укажу вам на дверь. В конце концов, это просто хамство – считать меня таким идиотом.
– Хорошо, хорошо. Скажем так: раз вам противна моя высокопарность, германский народ приведет к победе фон Лоос.
– Этот выскочка?!
– Этот инициативный офицер, – поправил его Зеботтендорф. – Вспомните его операцию в Африке, а еще раньше в Финляндии…
– Которые закончились полным провалом.
– Человеку в тех случаях противостояло нечто большее…
– Еще бы! – фыркнул Генрих.
– Напрасно иронизируете.
– Видите ли, Рудольф, если все то, что вы мне рассказали, правда, то вас следовало бы расстрелять. Я, вероятно, со временем становлюсь мягкотел. Но все эти последние Войны, все эти… – Генрих сделал движение, будто стряхивал что-то с пальцев. – Эти кровавые игрища стали мне не по сердцу. И если есть такое место, эта ваша точка всех начинаний… то ее следовало бы использовать совсем иначе. Или, что еще лучше, не использовать вообще.
– Забавно. Именно так инки и рассудили. Они не селились в этих местах, никаких крупных поселений. К тому же обнесли это место зоной табу.
– Ах, так это здесь… – Генрих развел руками. – Тогда я понимаю…
Фон Зеботтендорф поморщился и стрельнул глазами куда-то в угол. Генрих, впрочем, этого не заметил.
– Это только доказывает мудрость древних цивилизаций.
– Или то, что они не были достойны такой ответственности! – Рудольф стукнул кулаком по столу.
– Вы опасный человек, Зеботтендорф. И стали еще более опасны с возрастом. Маразм, наверное. Не знаю, понимает ли это фон Лоос или вы ухитрились и ему запудрить голову.
– Это можно понимать как окончание нашей беседы?
– Да.
Фон Зеботтендорф встал и направился к дверям. Уже взявшись за ручку, он обернулся.
– Конечно, жаль, что…
Точно в лоб Рудольфу смотрело дуло пистолета.
– Черт возьми, зачем вы повернулись? – раздраженно проговорил Генрих. – Я действительно размяк. Застрелить человека в спину мне теперь значительно проще.
Зеботтендорф побледнел, но тем не менее произнес:
– У вас не получится, Генрих. Мне жаль, что я должен прибегнуть к такой мере.
– Опять вы бредите… – с брезгливой миной начал было хозяин дома, но тут произошло то, чего он совершенно не ожидал.
Что-то твердое вдруг ударило Генриха под локоть. Рука с пистолетом ослабла, и «вальтер» покатился по паркету.
– Черт возьми!
Рука была парализована, но больше всего Генриха испугало не это. Совсем рядом стоял молодой человек в светлом костюме, такой же светлой шляпе и темных очках, хотя Генрих мог бы поклясться, что никто, кроме Рудольфа, в комнату не входил.
– Жаль, очень жаль, – вздохнул Зеботтендорф.
И молодой человек снял очки.
6
Если предположить, что ноосфера – реальность, то из этого логическим путем может следовать, что каждая более или менее оформившаяся мысль имеет отношение к истине. В той или иной степени, конечно. Чаще всего это относится к различным афоризмам, потому что именно их можно отнести к «ноосферным пробоям». Короткая, хлесткая фраза, наполненная смыслом. За все время существования человеческой цивилизации в ноосфере накопилось изрядное количество мусора, который тоже иногда просачивается наружу и оседает в человеческих головах, рождая частенько удивительных и страшных уродцев в виде религиозных сект, новомодных идеологий и социальных движений. Однако когда человечество еще было юным, из «области всех знаний» выходили удивительные, мудрые и правильные мысли. Не поэтому ли так ценятся работы античных философов?
В свое время Марк Туллий Цицерон сказал, что глаза – это зеркало души. И оказался прав. Так же, как был прав, говоря: «Каждому свое». Вне зависимости от того, над воротами какого заведения был потом вывешен этот афоризм.
Люди бывают разные, и далеко не у каждого в душе растут цветы любви. И потому черные очки далеко не всегда надевают, чтобы защитить глаза от солнца.
В 1929 году, на ночном просмотре фильма «Дарлин и карлики», с таким человеком столкнулся фон Зеботтендорф. Точнее, он обратил внимание на этого странного человека, который совсем не интересовался нехитрым сюжетом замысловатого порно, а пристально оглядывал зал. Через черные солнцезащитные очки.
«Стукач? – подумал Зеботтендорф. – Но что делать стукачу в ночном кинотеатре, куда ходят только развратные парочки, скрывающиеся любовники и извращенцы? А может, чей-нибудь муж хочет прихватить на горячем свою женушку? Но для чего ему очки? В темноте зала…»
Рудольф, чья тогдашняя пассия не пришла на свидание, от скуки начал присматриваться к странному человеку. Когда же сеанс закончился, Зеботтендорф осторожно, стараясь не слишком явно прятаться, но и на глаза не попадаться, двинулся за психом, как он окрестил чудака. Тот где-то на середине киноленты обратил внимание на неряшливо одетую женщину, одну из тех, кто, растеряв прелесть молодости и так и не найдя очарования зрелости, ищет спасения в крайне сомнительных удовольствиях, опускаясь все ниже и ниже. Псих следовал за женщиной буквально по пятам. Вскоре она заметила преследование, но вместо того, чтобы убежать или выйти на людное место, остановилась.
Рудольф осторожно ушел в тень, туда, куда свет от уличных фонарей проникал едва-едва, и принялся наблюдать.
Мужчина и женщина обменялись какими-то словами. Из укрытия Зеботтендорф не слышал, о чем они говорили. Потом женщина громко рассмеялась. Смех был хриплым и громким, будто карканье вороны. Псих подошел ближе. Они снова заговорили. Женщина пыталась кокетничать. Он взял ее за руку и повел в сторону переулка, где скрывался Зеботтендорф. Женщина чуть пошатывалась, и Рудольф понял, что она пьяна.
Парочка остановилась совсем неподалеку от Зеботтендорфа.
Женщина что-то говорила заплетающимся языком. Рудольф не вслушивался, эта старая потаскуха его совершенно не интересовала. А вот мужчина вел себя исключительно странно. Он прижал свою партнершу к стенке, та совсем не сопротивлялась. Поначалу Зеботтендорф даже подумал, что имеет дело с очередным прелюбодеем, любителем слегка перезрелой клубнички. Но мужчина не делал ничего, что обычно делается в такие моменты. Он только не давал женщине отойти от стены, ходил вокруг, рассматривал ее, но старался без надобности не прикасаться. Та, казалось, не замечала ничего странного. Болтала что-то про сестру, которая живет в деревушке на Рейне, про ее мужа…
Зеботтендорф осторожно выглянул.
Странный тип в очках подошел к женщине поближе. Теперь он осторожными касаниями дотрагивался до нее, до груди, до живота. Буквально кончиками пальцев. В этом не было ничего эротического. Так падальщик трогает мертвое животное, проверяя, не оживет ли, не вскочит…
Женщина, казалось, пьянела все больше и больше. Язык уже почти не слушался ее, ноги подкашивались, глаза смотрели бессмысленно, тупо. А псих подходил все ближе. Его пальцы скрючились, ногтями он медленно царапал участки открытой кожи женщины.
Наконец псих схватил женщину за подбородок и поднял лицо вверх. Другой рукой он сорвал с себя темные очки.
И тогда престарелая любительница развлечений закричала. Точнее, коротко вскрикнула, мужчина успел зажать ей рот ладонью. Женщина извивалась, дергалась, пыталась оттолкнуть психа от себя, хотя он ничего ей не делал. Только смотрел. Пристально и в глаза.
Зеботтендорф никак не мог понять, что же происходит. Парочка была видна ему достаточно хорошо. Он видел руки мужчины. Тот только держал голову женщины и закрывал ей рот. Ни ножа, ни пистолета. Да и сам псих не издал ни звука.
«И что делать? – в панике думал Рудольф. – Звать полицию? Что я им скажу? Вмешаться?»
Он прикинул телосложение незнакомца и свои шансы. Надо отметить, что шансы были. В молодости фон Зеботтендорф неплохо боксировал. Но…
Но Рудольф страшно хотел знать, что же все-таки происходит.
И предчувствие… Знакомое ощущение чего-то приближающегося, огромного, по-настоящему серьезного. Так уже было несколько раз, и Зеботтендорф научился доверять своему чутью.
Он понял, что не станет вмешиваться, и с удвоенным интересом принялся наблюдать.
Наконец женщина затихла, перестала сопротивляться и обмякла. Мужчина отпустил ее, и тело медленно съехало по стене вниз. Голова свесилась набок, из уголка рта потянулась к земле тонкая струйка слюны.
Псих стоял над телом, покачиваясь и дрожа. Наконец он вздрогнул и принялся лихорадочно оглядываться, ища что-то.
Рудольф уже знал, что ищет странный незнакомец. Очки. Черные солнцезащитные очки, которые от резкого толчка улетели точно ему под ноги. Зеботтендорф осторожно поднял их, удивившись весу, и вышел из темноты.
– Простите, вы не это ищете?
Псих обернулся.
Женщина медленно наклонилась вперед и ткнулась лицом в камни мостовой.
Зеботтендорф понял, что она мертва, перевел взгляд на мужчину и остолбенел.
На него смотрели глаза чудовища.
Нет! На миг ему показалось… На самом деле это чудовище смотрело на Зеботтендорфа глазами странного человека. Глаза ведь – это зеркало души. Всего лишь зеркало…
Сытое и страшное чудовище…
О существовании этих людей не знал никто.
Они не светились в архивах. Они не проходили по спецдокументации. Всегда жили по подложным документам. Зеботтендорф положил на это много сил и денег. Большая часть того, чем занималось Анненербе и Общество Туле, было прикрытием для людей с уродливой, чудовищной душой. Многие из них работали в концентрационных лагерях, выискивая себе подобных, ставя дикие, выходящие за грань разумного опыты.
Но после краха Третьего рейха уцелели единицы. Кто-то погиб, кто-то сошел с ума. Кто-то был захвачен в плен. Участь последних была особенно страшна.
Покидая пылающую Германию, Зеботтендорф не переживал. Погибшая Империя, уничтоженные мечты, работа, все это было слишком… слишком материальным. Суета. Не более того.
Зеботтендорф увозил с собой нечто большее. Настоящий секрет. Секрет Души.
И черные очки.
7
Яркая, пестрая толпа двигалась по парку. Грохотала музыка. Впереди на огромном, сделанном из фанеры коне ехали сразу три девушки в одежде из перьев, они махали руками и что-то кричали. За конем двигалась поставленная на грузовик огромная повозка, где на пьедестале стоял усатый господин в кирасе с большой бутафорской алебардой и указывал рукой направление движения. По замыслу сценаристов всего действа этот человек должен был символизировать собой Хуана де Гарая, основателя Буэнос-Айреса. Позади него крутили павлиньими хвостами смуглокожие танцовщицы. Вообще женщин, одетых и не очень, было множество. Они танцевали, несли огромные букеты бумажных цветов, кидали конфетти и серебристые яркие ленты, в которых путались зрители, в основном туристы.
Мужчины шли молча, обычно помогали что-то нести или изображали какую-то историческую личность. Как Хуана де Гарая или его противника, вождя индейцев. Вождь вдыхал пары бензина и выплевывал на зажигалку облака пламени.
Через специально расставленные колонки гремела музыка. Оглушительно хлопали небольшие петарды, и взлетали блестящие ракетки.
Ярко, нарядно. Весело.
Если смотреть глазами туриста – рай. Без забот и волнений.
Собственно, Константин Таманский и был туристом. Насколько может быть туристом корреспондент газеты «Правда», приехавший собирать материал для книги о Че Геваре.
В Буэнос-Айрес Константин прилетел позавчера. В первую очередь сходил в посольство, где имел долгую и небезынтересную беседу с атташе по культуре, а потом отсыпался, компенсируя разницу во времени. Выйдя в город, он не ожидал увидеть что-либо интересное, но вот попал на карнавал и сейчас радовался как ребенок или как советский турист, что часто одно и то же.
Завтра он наметил пойти к дому, где Че Гевара родился и жил в юности, чтобы сделать несколько снимков и поговорить с соседями. Потом проехаться по местам, важным для известного революционера, которых в Аргентине было на самом деле не так уж много. Другое дело Куба или Боливия, куда Константин и собирался направиться после Аргентины. Все визы были уже получены, отели забронированы. Но не потратить день на праздное шатание по городу было невозможно. Все-таки… Буэнос-Айрес!
С трибун демонстрантам махали люди. Видимо, какие-то важные персоны, судя по охране, пышно разодетым женам и объемистым животам. Костя сделал несколько снимков. Книга книгой, а статья для той же «Правды» могла получиться замечательная. Например, о сытых представителях правящей верхушки, которые проводят время…
Додумать Таманский не успел.
Десятью минутами ранее.
Аркадио Мигель, как говорилось выше, был человеком решительным и стремился наполнить свою жизнь событиями. Эта черта характера и привела его, когда-то давно, в подполье. Рабочий в одном из многочисленных корабельных доков, он попал под сокращение и вскоре лишился квартиры, оказавшись на улице. После манифестации, которую разогнала конная полиция, он попал в больницу, где волей случая и познакомился с Мануэлой Коррехидор, закрутив долгий и яркий роман, в котором без стеснения выполнял роль альфонса.
Вообще на женщин ему было плевать. Хорошо, когда они есть, даже очень хорошо, но как можно относиться к женщине, которая спит с любовником, а в соседней комнате храпит ее супруг?
Но почему-то именно к Мануэле Аркадио ощущал теплоту. Может быть, из-за ее низкого, страстного голоса, может быть, из-за того, что она в постели отдавалась ему вся без остатка… Или тот запах пота, которым наполнялась комната, где они занимались любовью, был насыщен чем-то особым?.. Трудно сказать.
В любом случае, когда Аркадио Мигель посмотрел в бинокль, его рука, до того уверенно лежавшая на рубильнике, дрогнула и ослабла. Он даже сделал пару шагов назад от окна.
– В чем дело? – поинтересовался Хорхе Луис – человек, который всю ночь занимался установкой взрывных зарядов и у которого теперь тряслись руки. – Что-то не так?
– Все… – начал было Аркадио. – Там…
– Что ты мямлишь?
К окну подошли и другие товарищи. Кто-то положил руку на плечо Аркадио. Тот прокашлялся.
– В чем дело? – более настойчиво спросил Кристобаль. Это был, что называется, человек с прошлым. По происхождению кубинец, он когда-то воевал вместе с самим Фиделем. Отражал американский десант в заливе Свиней. Уничтожал армию Батисты. Но потом, после Карибского кризиса, он в чем-то не сошелся с генеральной линией партии и был вынужден покинуть родину, чтобы бороться, как он сам выражался, за счастье всего мирового пролетариата. Где заниматься этим, ему было все равно. Почему бы не в Аргентине?
– Там человек… – Аркадио Мигель вдруг почувствовал, что в горле образовался влажный и густой ком, который не проглотить. – Там, на трибуне…
Кристобаль, или, как его называли товарищи, Кристо, взял бинокль и выглянул в окно.
– Где?
– Там… Сзади… Это женщина.
– Красное платье?
– Нет, золотое. Золотое, облегающее. – У Аркадио начисто перехватило дыхание. Он помнил, как вместо этого платья по изгибам тела скользили его руки. Полные бедра, крепкие длинные ноги и кожа, восхитительная смуглая кожа. Мануэла Коррехидор.
«Этот жирный остолоп говорил ей, говорил ей! Говорил, что его пригласили! Я же забыл! Жирный боров! – билось в голове у Аркадио. – Тупой жирный боров притащил ее на трибуну!»
– И что? – холодно поинтересовался Кристо.
– Это та женщина, которая дает нам информацию, – горячо заговорил Аркадио. – Она помогает нам. Нельзя взрывать. Нельзя. Я вытащу ее оттуда. И тогда… Она наш товарищ!
– Она прежде всего жена Хосе Коррехидора. И помогает нам только потому, что ты с ней спишь. Я думаю, что она даже не знает, кто делит с ней постель, – ответил Кристо и подвел Аркадио к окну. – Посмотри туда. Что ты видишь?
– Людей, – ответил тот и поразился, каким мертвым стал его голос.
– Еще?
– Людей. Конфетти. Петарды. Перья. Яркие одежды. Женщин…
На последнем слове голос Аркадио Мигеля дрогнул.
– А еще? – безжалостно продолжал Кристо.
– Еще… Трибуны.
– А на них?
– Людей…
– Нет, товарищ. На них стоят кровопийцы. Эксплуататоры и убийцы. Они пьют кровь нашего народа. Они жиреют на его слезах и поте. Они продают нашу страну американцам. Они готовы продать нас всех. Эти мясники! И когда нас станут увозить в клетках, куда-нибудь на потеху другим мясникам, эти поставят кресла поудобней, чтобы лучше видеть наши страдания. Ты видишь палачей, которые мучают Аргентину. И их женщин, которые берут наших мужчин к себе в постель для развлечения. Им просто больше нечего хотеть! Вот что ты видишь, Аркадио.
Кристо положил его руку на рубильник.
Аркадио даже не почувствовал прикосновения деревянной рукояти. В его ушах стоял гул, а перед глазами плавало густое марево. В памяти осталась только она. Ее гибкие, нежные руки, в которых надежно и хорошо. Ее стоны. Волосы. Дыхание.
– Ты сам был для них мясом. Тебя самого выкинули с работы. И из дома. Твоя мать умерла в нищете. Твой отец сгинул в корабельных доках. Ты один из многих, Аркадио. Вся Аргентина сейчас стоит за твоей спиной и требует ответа! Требует! Услышишь ли ты ее?! Твоя Родина со слезами смотрит на этот праздник! На эти хлопушки и перья! Это карнавал перед постелью умирающего! Слышишь, Аркадио?! Слышишь?!
Едва понимая, что делает, Аркадио утопил рукоять рубильника. Чтобы прекратить, оборвать этот голос, эту боль в гудящей голове.
Где-то в толпе зевак Константин Таманский щелкнул фотоаппаратом.
А-а-ах!!!
Взрывной волной опрокинуло бутафорскую телегу с мужчиной, изображавшим Хуана де Гарая. Танцовщицы попадали вниз, индейский вождь опрокинул на себя бутыль с бензином и вспыхнул как спичка. Вслед за ним загорелись декорации, но оглушенные и раненые люди не видели огня. Погибших и изуродованных было много.
Где-то в визжащей и кричащей толпе метался советский журналист, вытаскивавший перепуганных танцовщиц из пылающих декораций. Он что-то кричал на плохом английском, то и дело утирая со лба кровь. Пытался пиджаком сбить огонь с загоревшегося грузовика. И этим своим поведением сильно отличался от своего американского коллеги, который все щелкал, щелкал и щелкал фотоаппаратом. И только потом, видимо опомнившись, кинулся на помощь какой-то девице, бившейся в истерике над актером, изображавшим Хуана де Гарая. Испанская кираса была смята, пышные усы залиты кровью.
На месте трибун дымилась огромная воронка, где сгорела и вознеслась чадным дымом на небеса единственная настоящая любовь Аркадио Мигеля.
8
– Боже мой, дорогой Генрих! Что с вами сделал этот фокусник Зеботтендорф?
Голос звучал глухо, словно бы через плотный слой ваты.
В горле стоял плотный комок. Даже дышалось с трудом. «Хуже, чем в Мюнхене в тридцать третьем», – подумал Генрих и сделал попытку подняться.
Его тут же подхватили под локти чьи-то заботливые руки. Перед глазами плавали радужные круги.
– В самом деле, Рудольф. – Голос прозвучал осуждающе. – Неужели нельзя было как-то… более уважительно? Вы имеете дело с живой легендой.
– Никогда не слышал, чтобы легенды стреляли из пистолета, – ответил из радужного марева голос Зеботтендорфа.
– Поверьте мне, дорогой Рудольф, в наше время легенды стреляют и из более крупного калибра. С легендами вообще надо обращаться осторожно, никогда не знаешь, что у них за пазухой – пистолет или атомная бомба. Ну, как вы себя чувствуете?
Генрих прокашлялся. Марево перед глазами постепенно начало светлеть.
– С кем имею честь беседовать?
– Да уж, Зеботтендорф, вы перестарались, – после озабоченной паузы ответил кто-то. – Ему память не отшибло случаем? Иначе в чем смысл?
«Значит, смысл все-таки есть, – подумал Генрих. – Стало быть, не шлепнут просто так. А может?.. Нет. Зеботтендорф не такой идиот, чтобы работать на евреев. МОССАД его первым подвесит к потолку в случае чего… Ничего, ничего. Мне бы в себя прийти. Вроде и голос вернулся. Только что за пелена перед глазами?»
– Нет-нет, память не должна была пострадать…
– Я надеюсь! И уберите, наконец, свой идиотский платок! Я чувствую себя разговаривающим с мумией.
Что-то коснулось лица Генриха, и цветастая пелена исчезла с глаз. Он сощурился и быстро огляделся.
Небольшая комната, скорее кабинет. Темное дерево на стенах, скорее всего дуб. Имперская, ставшая классической, обстановка. Острые резы на мебели, то ли руны, то ли какие-то угловатые рисунки, то ли надписи шрифтом, мало изменившимся со времен Иоганна Гуттенберга [2]. Сам Генрих сидел перед широким массивным столом все того же темного дерева, в кресле с высокой и довольно неудобной спинкой. Рядом, вертя в руках нелепый цветастый платок, стоял Зеботтендорф, а напротив, удобно усевшись в кресле, сидел… Генрих присмотрелся. В голове замелькали фотографии, строчки отчетов.
Фон Лоос.
– С кем имею честь? – Генрих сделал вид, что не узнал его, но фокус не прошел.
– Ах, – Лоос откинулся на спинку, – узнаю старую закалку! Бросьте, всем известно о вашей уникальной памяти. Если не ошибаюсь, последний раз мы с вами виделись у вас в кабинете, и разговор был не из приятных. Вспоминаете?
– Сразу же после неудачной операции в Африке.
– Ну, в некотором смысле она подтвердила некоторые выкладки наших… – Лоос покосился на Зеботтендорфа, – ученых.
Генрих тоже посмотрел в сторону Рудольфа, но ничего не ответил.
– Вот теперь вы в моем кабинете. Можно сказать, у меня в гостях. Я надеюсь, разговор у нас получится более продуктивный.
Барон был прежним. Толстый, важный, с ласковыми глазами и прямым орлиным носом, словно случайно прилепившимся на добродушной физиономии толстяка. Пугающее сочетание.
– Нельзя сказать, что я напрашивался на приглашение.
– Хо! – Лоос весело хохотнул. – Так ведь и я не по собственному желанию заскочил тогда в ваше ведомство. Так что будем считать, что с приглашениями мы квиты. Что же касается остального… Я побуду вашим должником. Здесь вы только гость. Вы можете располагать на этой вилле всем.
– Всем? – Генрих удивленно поднял брови и указал на телефон. – Даже этим?
– Чем угодно. – Фон Лоос развел руками. – Германское гостеприимство.
– Не боитесь, что я позвоню в полицию?
– Вздор. – Хозяин виллы отмахнулся. – Вы слишком умны для этого. Так что… никакого контроля с моей стороны.
– Какая вам в этом выгода?
– Вы прекрасный собеседник. Не то что наш уважаемый доктор. – Лоос кивнул на Зеботтендорфа. Тот возмущенно хмыкнул. – Не обижайтесь, Рудольф, но вы решительно не способны говорить ни о чем, кроме дел. Безусловно, важных, но… надо же находить и удовольствие в жизни. Так что, Генрих, я просто не могу себе позволить просто так отпустить вас.
«Ага. Вот и основное правило. Комфортабельная тюрьма».
– Честно сказать, я сомневаюсь, что буду для вас настолько интересным собеседником. Я старик, да и вы, впрочем, тоже. Хотя и выглядите на много лет моложе.
– Поверьте мне, я и чувствую себя так же.
– Возможно.
– И вы будете таким же. – Фон Лоос развел руками. – Если, конечно, захотите. Но… – Он встал. – У вас может сложиться ложное впечатление, что я вас агитирую. Все сами увидите, все сами поймете. И составите обо всем свое собственное мнение. Не стану вас утомлять.
Генрих поднялся вслед за Лоосом.
– Где моя комната?..
– Здесь. Вот там, за дверью, большая спальня. Другая дверь ведет в коридор, где круглые сутки дежурят слуги, если вам чего-либо захочется, обращайтесь к ним. Захотите прогуляться – пожалуйста. Вам все покажут. Телефон… – фон Лоос кинул на Генриха взгляд, в котором тот прочитал многое, – внутренний. Отдыхайте, а то я знаю эти зеботтендорфовские штучки, после них требуется прийти в себя. Осваивайтесь. Я зайду к вам ближе к вечеру. – Фон Лоос подмигнул Генриху заговорщически. – У меня есть кое-что из винного погреба…
9
Революция.
Какую все-таки огромную роль в истории человечества играет то, каким образом произносятся слова.
Попробуйте это слово на вкус. Это камешком катящееся «р» в начале и затухающее «я» в конце. Сколько силы можно вложить в обыкновенные значки, всего-то числом девять! И сколько страха… От чего это зависит? Где та точка, когда сила переходит в страх? И где то место, где страх превращается в силу? Всего-то одно слово… А сколько вопросов.
А теперь «р» мягко и после «л» на выдох… Так облегченно разгибаются согнутые спины. Так утирают пот со лба те, для кого труд уже не радость и не право, а рабская обязанность. Сколько чувства в одном слове!
Это слово все произносят по-разному. От испуганного шепота обывателя, через торжествующий рев поднятых кулаков, до сытой усмешки толстосума.
Революция никого и никогда не оставляет равнодушным. Она вызывает злобу, восторг, страх, ужас, воодушевление, опасение, презрение. Но только не равнодушие.
С этим словом на устах французы бросали в реку французов и рубили головы на площади. С этим словом они снесли Бастилию и учредили Республику. Русские сбросили царя, пережили голод и ужас Гражданской войны, выстроили огромную Империю – и все под кровавым знаменем Революции. Немцы в Киле и Мюнхене поднимались на бунт с криками «Свобода и Революция». Нищие оборванцы, зажатые жирующим кровопийцей до предела, сбрасывают в море десант огромной державы только потому, что в их сердцах бьется упругим ритмом: «Революция!»
Звон денег, вкус крови, запах пороха. Все это сплавлено, перемешано, скручено в одном только слове.
Для Кристобаля Бруно революция была смыслом жизни.
В ней смешалось все. Любовь. Страсть. Ненависть. Мечта о светлом будущем. Настоящая, не на словах. Товарищ Кристо отличался от многих болтунов из Комитета, которые только и могли, что трепать языком о пользе для трудящихся масс и правах человека. Кристобаль понимал, что без передела всей системы, как в отдельной стране, так и во всем мире, ничего путного из бумажек и говорильни не получится. А значит – надо что-то делать. Руками, не гнушаясь грязи и крови. Потому что революцию в перчатках не совершишь.
И Бруно делал. В его организации состояло более сотни человек. Очень многих товарищ Кристо знал лично. Не все из них, правда, об этом догадывались. Максимум, что мог знать член группы из пяти человек, это имя своего секретаря, а тот, в свою очередь, имя связного из другой группы. Каждый за себя, один Бруно за всех. Колоссальная работа, которая возможна, только когда полностью посвящаешь себя борьбе. Нет женщин, нет детей.
Люди Кристобаля были раскиданы по всей Аргентине. Они собирали информацию, работали почти во всех представительствах различных гуманитарных фондов, вели агитационную работу в армии, полиции и даже среди многочисленных банд. Иногда Бруно нравилось представлять себя головой осьминога, чьи щупальца расходились в разные стороны, проникая повсюду. В детстве он любил смотреть, как рыбаки-пескадоры ловят этих существ, от одного вида которых по телу прокатывается дрожь, а потом слушать истории про гигантских спрутов, утягивающих лодки под воду.
Теперь Кристобаль чувствовал, что крепко держит Аргентину в своих щупальцах. И не один. Множество организаций охватили страну, уставшую от вялой власти жены мертвого президента, от бедности и бесцельности существования.
Благодатная почва, в которую когда-то упали зерна марксистской идеологии, дала щедрые всходы. Но народ… Народ, за счастье которого боролись монтонерос, не был готов поддержать восстание. Это понимали все. Пример соседних государств был показателен. И значит, народ надо было подтолкнуть.
Для этого годились все средства.
Эту мысль неоднократно повторял сам Кристобаль.
10
Когда десяток человек, одетых в форму национальной гвардии, ворвались на рынок в квартале Бальванера, никто не заподозрил ничего дурного. В последнее время в городе часто можно было увидеть солдат. После взрыва в парке Колон правительство ввело в городе чрезвычайное положение и вытащило армию из казарм.
«Хватит пролеживать бока, пусть поработают», – решили простые аргентинцы и махнули на мундиры рукой.
Солдатам эта затея тоже пришлась по нутру. Сменить скупой казарменный быт на прогулки по городу… чем же плохо? Патрулирование, если правильно подойти к этому вопросу, может доставлять удовольствие. К тому же благодаря активным действиям агентов влияния большая часть солдат относилась к марксистам с сочувствием. А значит, всегда была вероятность того, что патруль закроет в нужный момент глаза, и, с другой стороны, была гарантия, что никто не станет нападать на таких замечательных парней, несущих трудную службу.
Одним словом, военных никто не боялся. И когда десять человек, вооруженных винтовками «FARA», влетели через главные ворота, внимание на них обратила только ленивая дворняга, дремавшая в пыли.
– Марксисты! Монтонерос! – неожиданно громко заорали солдаты. – Выходите, подонки!
Рынок примолк в удивлении. Солдаты неуверенно топтались около входа. Первый порыв прошел, и теперь они не знали, что делать.
– Марксисты! – снова закричал одетый капралом.
– Что они делают? – поинтересовался торговец рыбой у соседа.
– Ловят монтонерос, – ответил тот.
– На рынке?
Его сосед, пожилой рыбак с длинными, как у сома, усами, только пожал плечами и обратился к капралу:
– Простите, сеньор… Вы ищете кого-то?
– Конечно, ищу, идиот! – рявкнул капрал. – Вы тут прячете революционеров! Выдайте их нам, и никто не пострадает!
– Каких революционеров, сеньор?
– Самых обычных! Тех, что взрывают людей! – Капрал рыскал взглядом по прилавкам, стараясь не вглядываться в лица. Его солдаты чувствовали себя неуверенно, жались за его спиной, словно собираясь убежать. – Выдавайте революционеров, или я начну обыск!
– Это незаконно! – вдруг воскликнула сидевшая неподалеку старуха в цветастом платке. Она торговала мелкой сушеной рыбешкой, которая подобно серебристым тонким макаронинам была раскидана по ее лотку. – Кто вы такие?
Эта фраза словно послужила спусковым механизмом для капрала, который только и искал повод.
– Мы солдаты правительства! – визгливо закричал он и ударом ноги перевернул старухин прилавок. Рыбешка разлетелась в стороны. – Мы выполняем приказ!
Солдаты кинулись вперед, расталкивая продавцов, переворачивая лотки и топча товар. Поднялся невероятный шум. Все кричали, размахивали руками. Редкие покупатели спешили убраться подальше. Старики и старухи сбежались со всех сторон рынка и повисли на капрале с криками.
Кто-то из мужчин пытался сопротивляться, но сильные руки оттолкнули его. Солдаты в ярости разнесли прилавок смутьяна.
Крики и вопли продолжались до тех пор, пока капрал не выхватил из кобуры пистолет и дважды не выстрелил в воздух. Все замерло: перекошенное лицо военного, испуганные фигуры продавцов, кто-то с фотоаппаратом… А потом, в этом застывшем мгновенье, та самая старушка, что торговала мелкой сушеной рыбешкой, вдруг сдвинулась со своего места. Приблизилась к капралу и ударила его ладонью по лицу.
В тишине, наступившей после выстрелов, пощечина прозвучала оглушающе громко.
– Старая ведьма… – процедил капрал сквозь зубы. – Я солдат правительства!..
– А мне плевать, хоть сам президент, упокой господь его душу, – и старушка плюнула. Точно на блестящий армейский ботинок.
Капрал обезумел. И сделал то, о чем впоследствии сильно жалел.
Он ударил торговку рукой, в которой все еще была зажата рукоять пистолета.
Много ли ей было надо, той старушке? Может быть, она умерла бы сама, в тот же день. Прямо за своим прилавком, упав лицом в сушеную рыбешку, которую покупали и тихонько воровали мальчишки…
Может быть, ей подошел срок?
Возможно.
Но вышло так, что умерла она от удара капрала, одетого в форму национальной гвардии. Умерла сразу. Просто осела мешком на пыльный камень Серебряного Города.
Толпа отшатнулась от солдат. За какую-то секунду они оказались в центре огромного круга испуганных глаз. Чужие и лишние.
– Ладно… – прошептал капрал, вытирая пот. – Ладно… Я солдат. Я выполняю приказ…
И они быстрым шагом покинули рынок.
Чтобы появиться во всех газетах, на первой странице под крупным заголовком: «Гвардейцы убивают горожан!»
11
Тем же вечером одна из этих газет, «Buenos Aires de la tarde», легла на стол атташе по культуре посольства Советского Союза в Аргентине.
– Читали, Антон Яковлевич? – поинтересовался атташе у посольского водителя.
Водителем Антон Яковлевич Ракушкин был действительно хорошим, хотя основной род его деятельности лежал в несколько иной области. Точно так же, впрочем, как и у атташе. Оба они были офицерами одной и той же организации, и пословица «Есть такая профессия – Родину защищать» была для них не пустым звуком.
– Читал, Юрий Алексеевич, – ответил Ракушкин.
– Что думаете на этот счет?
Капитан Ракушкин пожал плечами.
– Может быть, провокация, Юрий Алексеевич. На местных солдат непохоже. Они сами из тех же слоев…
– Согласен. – Яковлев, атташе по культуре, кивнул. – Может быть, и провокация. Только как-то уж очень топорно, не находите?
– Ну, во-первых, журналист мог сгустить краски. А во-вторых, есть же и человеческий фактор.
– Что, переволновался человек и старушку кокнул? Тоже мне Раскольников. А скандал-то крупный получился! На бульваре Конституции была попытка нападения на патруль. Солдаты стреляли в воздух. Кому, вы думаете, выгодно такое положение дел?
Ракушкин кашлянул.
– Я знаю многих представителей местного… э-э-э… подполья, для них это… как бы вам сказать – слишком. Хотя играет на руку именно им.
– Странно это, Антон Яковлевич. – Юрий Алексеевич еще раз пробежал глазами передовицу и отбросил газету. – И надо бы разобраться. Попробуете?
– Есть! – Капитан выпрямился в кресле.
– Я не приказываю, – мягко поправил его Яковлев. – Я прошу. Мы с вами сейчас не в Москве. Тут своя специфика. Так что вы попробуйте разобраться. Дело, в общем-то, не сложное. Просто необходимо получить информацию, не более того. Попробуете?
– Попробую.
– И поймите, хотя вопрос и невелик, но значение ему придается большое.
12
1853 год. Санкт-Петербург.
Нехитрая процедура.
В небольшую медную трубочку наливается два миллилитра нитроглицерина, и помещается все это в небольшой тигель, наполненный песком. Обрывок воспламенительной нити… Взрывом разносит и сам тигель, и толстую каменную плиту, служащую подставкой. В пыль.
Удивление и восторг зрителей, среди которых Эммануил Нобель и его сын Альфред. Оба поражены.
Профессор Зинин удовлетворенно кланяется.
1862 год. Хеленборг. Городок под Стокгольмом.
Эммануил и Альфред Нобели основали кустарное производство нитроглицерина.
Через год Альфред изобретает инжектор-смеситель, который делает процедуру производства более безопасной. Однако в сентябре 1864 года лаборатории в Хеленборге взлетают на воздух! Сто килограммов нитроглицерина сносят с лица земли производственный и складские корпуса. При взрыве гибнут люди, среди которых брат Альфреда, Эмиль. От пережитого горя Нобеля-старшего разбивает паралич.
Катастрофа не останавливает Альфреда. Он берет дело в собственные руки и продолжает опыты. Нитроглицерин производят по всей Европе, в том числе и в России.
В это же время многие ученые относятся к практическому применению нитроглицерина со скепсисом, указывая на его нестабильность и опасность.
Нобель ищет решение.
И находит его в 1867 году, смешивая нитроглицерин с кремнистой горной породой.
Новое вещество, безопасный взрывчатый порошок Нобеля, он называет динамитом.
В этом не было никакой случайности. Никакого случая. Протечки нитроглицерина и так далее… Нет. Только работа, долгие и опасные исследования.
А через десяток лет, в 1887 году, Нобель делает мощный бездымный порох, превосходящий взрывчатыми свойствами черный.
Эти два вещества, бездымный порох и динамит, собрали и собирают по сей день кровавую жатву по всему миру. Никто и никогда не считал людей, убитых пулями и разорванных динамитом. Атомная бомба, газовые камеры, бактерии, все эти ужасы и кошмары войны – всего лишь шалости перед человеком с динамитной шашкой в руке.
Атомная бомба слишком страшна, чтобы быть примененной. Газы не подчиняются ничему, кроме переменчивого ветра. А бактерии не знают границ и пределов.
И только изобретение Альфреда Нобеля несет смерть и разрушение по всему миру, одинаково легко уничтожая и революционеров, и угнетателей, и мирных людей.
Говорят, что открытие было случайным. Говорят, что все, чего добивался Альфред, это облегчение горных работ.
Нет, нет. Взрывать горы и строить туннели прибыльно, но не настолько. Больше всего денег приносит война.
Говорят, что булыжник – оружие пролетариата. Не верно! Динамит – настоящее оружие пролетариата.
Эту нехитрую истину понимал и Кристобаль Бруно.
В Буэнос-Айресе было несколько мастерских, которые производили взрывчатку. Все они были хорошо законспирированы и размещались в помещениях совершенно безобидных производств. Одно, где работал Аркадио Мигель, на складах типографии. Другое в портовых доках, где даже днем появляться было небезопасно, а полиция была куплена и перекуплена. И еще одно в пригороде, на заднем дворе скобяной лавки. Последняя лаборатория была самой мелкой, там просто готовили сырье и ремонтировали оружие.
Ответом на рыночный погром стали развешенные по всему городу листовки, в которых говорилось все то, что обычно пишут революционеры. «Угнетатели». «Преступный режим». «Грядущая свобода». «Не останется без отмщения».
Заявление для прессы ушло в газеты, но ни одна редакция не отважилась напечатать этот текст. Поэтому «Открытое письмо» было развешено на всех столбах сразу же после того, как патрули прошли по городу и сорвали первую листовку.
Революционерам не нужно искать повод, чтобы кинуть бомбу. Но вдвойне приятно делать это, когда повод имеется.
Через сутки после того, как солдаты ворвались в ворота рынка, у КПП казармы, где располагалась национальная гвардия, на воздух взлетела начиненная взрывчаткой машина. Взрывной волной был уничтожен блокпост с часовыми и грузовик с провиантом. Осколками посекло автобус. Среди пассажиров были раненые – в основном рабочие, оттрубившие смену на заводе.
Еще один взрыв прозвучал через несколько минут после первого. Разлетелась в клочья патрульная машина с солдатами.
Все время, пока гигантская шестеренка двигалась, перемалывая людей, Кристобаль Бруно сидел в баре и пил виски. Акцию со взрывом машины у казарм можно было назвать его победой. Самому Кристо не пришлось делать ничего, он только подтолкнул механизм, и огромный маховик сдвинулся со своего места. Маленькие винтики революции, люди, пришли в движение.
Но почему-то Кристо не ощущал триумфа.
Он пил дешевый, пахнущий сивухой виски. Морщился от удушливого запаха пота, казалось насквозь пропитавшего эту забегаловку. Какие-то матросы шумно кутили в углу, кто-то спал, упав на стол возле недопитой рюмки.
Неожиданно Кристо подумал, что его самого ждет такое же будущее. Допьет эту бутылку, начнет следующую, а потом сознание отключится, и он упадет. А очнется где-нибудь в подворотне с вывернутыми карманами. Чудная перспектива для революционера.
Он опрокинул еще стакан.
На душе было мутно.
Вообще запои случались с Кристобалем Бруно редко. Борьба не давала времени для таких слабостей. Но у каждого, даже самого сильного человека должна быть какая-то отдушина. Обычно это или наркотики, или алкоголь, или женщины.
Наркотики Бруно презирал. Они делали из человека раба, а именно рабство было главным врагом Кристобаля. От женщин тоже веяло опасностью. Они делали человека слабым. Например, Аркадио Мигеля, который из-за любви не мог взорвать трибуны. Оставался только алкоголь. Редко, но, как говорится, метко.
Бруно сидел лицом к двери, когда она распахнулась и в душное помещение вошла девушка. Она отмахнулась от матросов, приглашавших ее к столу, поморщилась и нашла взглядом Кристобаля.
– Только не начинай, – простонал Бруно, когда девушка решительно села напротив.
– Чего не начинать, Кристо?
– Того, что я пьян, что я… Ты знаешь, Леонора, я не пью просто так. И не пью часто. Сейчас я никому не нужен, все дела двигаются без меня. И от моего пьянства нет никакого вреда.
– Мне плевать на то, что ты пьешь. Мне это не мешает. Но мне не наплевать на то, что ты делаешь.
– Я тебя не понимаю, Лео…
– Отлично понимаешь! – Леонора стукнула кулачком по столу. – То, что ты делаешь, настолько безнравственно… Что я даже не знаю, зачем я пришла сюда.
– О чем ты?
– Ты уничтожаешь все. Уничтожаешь нашу мечту! Нашу борьбу! Идею! Как ты не понимаешь, что так… так нельзя?!
– Я по-прежнему тебя не понимаю. – Кристо налил себе еще виски.
Леонора вышибла стакан из его рук. Бруно поморщился и пододвинул к себе бутылку.
– Номер на рынке – твоих рук дело?!
Кристобаль вздохнул.
– Это были солдаты национальной гвардии…
– Вздор! Бруно, солдаты были в казарме. Не было никакого налета! Ты знаешь это не хуже моего! Солдат не было на рынке. Не могло быть!
– А с чего ты взяла, что я имею к этому отношение? Солдаты – нет, а я – да. Кто из нас пьян?
– Ты сам признавал, что народ надо подхлестнуть! Ты говорил, что провокации имеют право на существование! Ты приветствуешь террор! Ты к нему стремишься только потому, что хочешь отодвинуть Комитет! Тебе только повод нужен!
– Иди домой, Лео. Ты не в себе. И не понимаешь, что говоришь…
– Я отлично понимаю! – Леонора вскочила. Хотела еще что-то сказать, но только возмущенно фыркнула и метнулась к двери.
– Лео! – вдруг крикнул Кристобаль.
Она обернулась на мгновение.
– Я этого не делал… – сказал Бруно.
Хлопнула дверь. Девушка исчезла.
13
Конечно, Буэнос-Айрес – не самое безопасное место на земле, особенно ночью. Но для того, кто вырос в этих кварталах, нет ничего необычного или страшного. Словно сам город хранит своих обитателей. Да и любой грабитель знает, что с местного пешехода взять, собственно, нечего. Другое дело турист. Вот желанная добыча.
Леонора решительно свернула в неосвещенный переулок, который вел к берегу Ла-Платы. Это был короткий путь к дому. Хотя на самом деле она не знала, куда идет. Ноги сами несли ее.
Леонора плакала. Поэтому тени, вставшей поперек дороги, сразу и не заметила.
– Остановитесь. – Крепкое мужское плечо выросло на ее пути. Лео едва успела затормозить.
Сзади отлепились от стен еще двое.
– Не нужно спешить. – Голос говорившего был низким, тяжелым и будто бы с легким, неизвестным Леоноре акцентом.
– Что вам нужно? – Девушка отступила назад, потом сообразила, что таким образом движется точно в руки мужчин, подошедших сзади, и отпрыгнула к стене.
– Просто поговорить.
В руках одного из незнакомцев вспыхнул фонарик. Осветил лицо говорившего.
Обыкновенный мужчина. Усы. Морщины. Европеец. Приезжий?
– Я знаю про вас достаточно. Вы активистка Марксистского Комитета. Одна из немногих, кто входит в круг руководителей движения. Доказательств у меня хватит. Фотографии, записи, протоколы. Если хотите, я могу прямо сейчас отконвоировать вас в канцелярию тайной полиции. Они будут только счастливы. Поверьте мне, там сейчас примут любую помощь. Два взрыва подряд. Террористов не слишком жалуют все государственные службы. Желаете?
В тусклом свете фонарика было видно, как он издевательски изогнул руку, словно предлагая Леоноре прогулку.
– Подите к черту! Я не имею никакого отношения к тому, что вы говорите! – крикнула девушка. – Я буду кричать!
– И позовете полицию? – удивился незнакомец. – Тогда наша встреча, безусловно, закончится в тайной канцелярии. Выбирать, конечно, вам, но я бы не стал так рисковать. К тому же я не имею к вышеназванным организациям никакого отношения и скорее сочувствую вашим действиям. Мне просто нужен ваш ответ на вопрос.
– Какой, к дьяволу, вопрос?! – Леонора говорила громко, но все же не настолько, чтобы привлечь чье-то внимание. – Задавайте и убирайтесь!
– Кто устроил погром на рынке в Бальванера?
– Гвардейцы! – ответила Лео, но голос подвел ее.
– Каким, интересно, образом? – поинтересовался незнакомец. – Трудно устроить погром, находясь в это время в совершенно другом месте. Уж кто-кто, а вы должны были знать, что гвардейских патрулей не было даже близко от рынка. Давайте сделаем так: я забуду, что вы мне пытались соврать, а вы скажете правду.
– Кто вы такой? Я не могу говорить с кем попало.
– Если я назову имя, то что это изменит?
Его странный акцент не давал Леоноре покоя. Где же она слышала что-то подобное? Где?
– Вы немец?
– Не имеет значения… – начал было незнакомец, но Леонора опередила его:
– Русский! – И по тому, как дрогнуло на какое-то мгновение лицо человека, она поняла, что угадала. – Вы русский! Из СССР?!
– Даже если так, то что?
– Вы не отведете меня в полицию, вот что!
– Вот так номер! – Незнакомец развел руки в стороны. – Почему же? Из симпатии к вашим взглядам? Поверьте мне, я могу пойти и на большее…
– А если я вам расскажу… То… Мне может понадобиться помощь.
– Все, что смогу.
В переулке послышались шаги. Фонарик погас. Крепкие руки взяли Леонору под локти.
– Девушка, только не наделайте ошибок, – прошептал кто-то.
Прохожий приближался деловитым, уверенным шагом. Лео молчала, стараясь понять, что же ей делать дальше.
В нескольких шагах от Леоноры он остановился. Повертел головой. Его силуэт был хорошо виден на фоне освещенной улицы.
– Лео, – вдруг раздался голос, показавшийся девушке знакомым.
И она, сама от себя не ожидая этого, вдруг ответила:
– Я здесь!
Почувствовала, как напряглась чужая рука, как сдвинулись тени, окружавшие ее.
А потом прохожий вскинул руку, и что-то вспыхнуло в сумраке переулка. Грохота она уже не слышала. Просто в груди стало больно, и ноги сделались ватными.
– Держи суку! – крикнул кто-то.
Прохожий побежал. Две тени настигли его. Заваливаясь на бок, Лео видела, как жестко прохожий падает. Как ему крутят руки.
Внезапно стало светло-светло. Она ясно увидела все вокруг. Человека, который держал ее на руках, крича что-то своим подручным. Человека, который стрелял в нее. И так удивительно было видеть это лицо, знакомое и чужое. Потом свет стал уносить ее выше, выше… Было удивительно легко.
Над трупом девушки стояли трое. Еще один валялся в пыли, тоскливо скуля.
– Вот дерьмо, а! Делать-то что будем?
– С чем?
– Ну, с ней вот…
– Оставим. Местные позаботятся. Ей уже ничем помочь нельзя.
– А с этим? – Говоривший пнул скулящего.
– А с этим будет долгий разговор без свидетелей, – протянул тот, кто был, видимо, главным. – Так что взяли его под руки… И сделайте из него пьяного.
– Не проблема.
Двое подхватили прохожего, поставили прямо. Потом один из них резко ударил его в живот. Убийца захрипел и обмяк. Его подхватили и бодро потащили в сторону набережной. Ничего необычного – трое друзей волокут куда-то своего не в меру подвыпившего товарища.
14
– Ну, и что же мы будем со всем этим делать? – поинтересовался Яковлев, выйдя из подвала и выведя оттуда Ракушкина. – Двери тут, конечно, массивные и звуконепроницаемые. Старая постройка… Положим, с завхозом я переговорю. Подвал на некоторое время закроем, но это не какие-то там… застенки.
– Я понимаю, – кивнул Ракушкин. – Простите, но ситуация требовала решительных действий. Все, что я могу придумать…
– Погорячились, прямо скажем. Вы ставите нас в сложное положение. Скандала, я, как вы понимаете, Антон Яковлевич, допустить не могу и не допущу.
– Я понимаю.
– Потому выходит так, что если к вечеру у вас не будет каких-то результатов, то вы должны будете на свой страх и риск… – Яковлев повторил с нажимом, – на свой страх и риск решить эту проблему. Как и куда деть этого… человека, вам решать. Но если появятся какие-то сведения о том, что он… Ну, вы понимаете.
– Я понимаю.
– Да что вы заладили?! – Яковлев в раздражении всплеснул руками. – Какого черта он вообще тут делает?
– Это была ближайшая к месту событий квартира.
– А вы разве не знаете, что ни для кого в Буэнос-Айресе не секрет, что это здание принадлежит нашему посольству? Впрочем, может быть, и не знаете.
Яковлев двинулся вверх по лестнице. Следом за ним, выдержав дистанцию, пошел Ракушкин.
– Что там было с девушкой? – спросил «атташе по культуре».
– Активистка местного подполья. Достоверно известно, что она входила в верхушку и имела определенное влияние. Есть данные, что она имела свой взгляд по поводу известных нам событий.
– Это точно?
Ракушкин замялся.
– Точно, что имела. Она была возмущена скорыми действиями монтонерос и, кажется, собиралась требовать расследования.
– Об этом кто-то знал?
– Да, конечно, она делилась своими мыслями, если можно так сказать. Была очень возмущена и взволнована…
– А конкретно говорила что-либо?
– Нет. Несмотря на общую нервозность, в словах была очень осторожна. Именно поэтому я и взял того, кто ее застрелил, живым.
Они поднялись на первый этаж. Яковлев выглянул за дверь. Длинный коридор был пуст.
– Пойдемте покурим.
До курилки дошли в молчании.
Яковлев достал «Опал», а Ракушкин, чуть смущаясь, «Мальборо».
– Я тоже поначалу их курил, – проворчал атташе. – Бурда она и есть… – Он чиркнул зажигалкой. – Тут можно говорить. – Яковлев покрутил сигаретой в воздухе. – Знаете что… Я думаю, что ничего вам не даст этот парнишка. По крайней мере, пока он тут, в подвале. Выглядит… как изрядный кретин. Может быть, косит, а может, такого нашли. Тут, знаете ли, и не такое увидишь. Для солидной медикаментозной обработки у вас нет времени. А без нее…
Он затянулся и сквозь облака дыма, прищурившись, посмотрел на Ракушкина.
– Вряд ли вы станете ему иголки под ногти загонять? Или, там, обрабатывать пальцы молотком?
– Ну, до определенной степени… – неуверенно ответил Ракушкин.
– До определенной степени это сработает только с адекватным клиентом. В нашем случае, уж извините, действенны только экстраординарные меры. А к ним, я так понимаю, вы не готовы. Морально. Это, знаете ли, очень сложно – уродовать психически нестабильного человека. Даже в застенках гестапо не все на это шли.
Ракушкин молчал, глядя в пол. Потом, затушив недокуренную сигарету, выпрямился.
– Если для дела требуется… – начал он решительно.
Но Яковлев замахал на него руками.
– Антон Яковлевич, хотите совет?
– Конечно, Юрий Алексеевич.
– Отпустите его.
– Как? Совсем?..
– Ну да, совсем. На хвост посадите кого-нибудь, и все. Да и то особенно не старайтесь. Вы опыту доверяете?
– Безусловно.
– Так вот, опыт мне подсказывает, что максимум, что у вас получится из него выжать, это имя какого-нибудь Педро-наводчика. А сам Педро сидит на рынке, около порта, и торгует безделушками для туристов. Трясти этого латиноамериканского старичка смысла нет. За его спиной мафия, а если и нет, то скорее всего с ним все кончится, как с этой вашей девочкой, как ее… Линора?
– Леонора.
– Вот-вот. Шлепнут. Если уже не шлепнули.
– Да, но кто?
– Вариантов, кстати, мало. Именно потому что их немного, я вам и советую отпустить этого мерзавца. Хотя… – Яковлеву вдруг пришла в голову мысль. – Может быть, вы хотите э-э-э… Как бы это выразить?.. Осуществить правосудие? Это тоже вариант, сплавьте сумасшедшего в ближайший канал, и черт с ним. В конце концов, убивать женщину – это грязно. В полицию сдавать не советую…
– Гхм… – Ракушкин с сожалением посмотрел на лежащую в урне недокуренную сигарету. – Я не собирался…
– Что угодно, то и делайте. Я могу только посоветовать. Так вот… Вариантов немного. Первый: убийцу послали какие-то третьи силы, никак не связанные ни с монтонерос, ни с властями. Этот вариант мы отметаем, он тупиковый и нас, по большому счету, не интересует. Второй: убийц послали власти. Леонора подошла к какому-то моменту этой мутной истории и стала опасна. Вариант сомнительный, но небезнадежный. Во-первых, погром на рынке свалили на деятельность властей. Форма солдат убедила всех лучше, чем вся агитационная работа марксистов. А во-вторых, власть практически не контролирует монтонерос. Уж что-что, а подполье тут реальное. Поэтому воздействовать на революционеров можно только глобальными акциями, но не точечными ударами. Однако при этом сбрасывать этот вариант со счетов не станем. И третий: девушку шлепнули свои. Это наиболее вероятно, и вы сами, Антон Яковлевич, это отлично понимаете. Девушка узнала что-то такое, чего знать не должна была. У местных камарадос есть нечто такое… чего им, вероятно, стоило бы стыдиться. И знаете, Антон, мне очень нужно знать, что же такое скрывают эти марксисты, взрывающие бомбы около солдатских казарм. Вы меня понимаете? Я дам вам один контакт, обратитесь к нему. Человек старый, но… надежный.
15
После похорон люди долго не расходились. Кристобаль потерянно стоял поодаль, прислонившись спиной к огромному черному подножию какого-то памятника. Кладбище было настолько старым, что многие заброшенные могилы теперь использовали по второму кругу. Больше повезло склепам и монументам, они относились к архитектурным ценностям. Среди многочисленных туристов находились любители прогуляться в тиши могил.
Сейчас Кристобаль Бруно от всего сердца ненавидел этих жирных толстосумов, для которых чужое горе становится объектом туристического интереса. Хотя если подумать, то Кристо ненавидел сейчас всех. И себя в первую очередь. У него были для этого все основания.
В кладбищенской тишине отрывисто каркали вороны, и голоса звучали приглушенно.
– Нашли в переулке…
– Пуля…
– Полиция молчит… Никого не найдут…
– Еще бы… Сами и убили…
Бруно закрыл глаза и заткнул ладонями уши. Сжал голову до боли.
Он стоял так долго. Пока бешеное желание вытащить пистолет и начать стрелять направо и налево не ушло…
Кто-то дотронулся до его локтя.
– Кристо, это неизбежно. – Рядом стоял Рауль. – Возьми себя в руки. Мы будем терять людей. Мы возьмем под свой контроль расследование ее смерти. Все будет по закону.
«Болтуны», – подумал Кристобаль, но открыл глаза и пожал руку Рауля.
– Спасибо. Я и не предполагал ничего иного.
Рауль кивнул. Приподнял шляпу и ушел шаркающей стариковской походкой, загребая пыль дорожки.
– Революция не терпит стариков, – прошептал Кристобаль в удаляющуюся спину.
Рауль Ловега будто услышал. Остановился и обернулся.
Кристо вздрогнул. Старик не мог расслышать его шепота. Не мог, но… Бруно криво улыбнулся. Рауль снова приподнял шляпу и продолжил путь.
«Чертовщина!» – зло подумал Кристобаль.
Пытаясь не потерять старика в кладбищенских лабиринтах, он двинулся вдоль оград, памятников и надгробных камней. Кто-то окрикнул его позади, но Бруно не обернулся. Обостренное чутье подсказывало ему: «Узнай, куда он идет!»
Ловега шел вроде бы неторопливо, но Кристобалю приходилось почти бежать, чтобы старик оставался в поле его зрения. Под ноги все время что-то попадало, он спотыкался, едва не падал. Окружающие смотрели на него с удивлением.
Когда, наконец, они достигли края кладбища, Кристобаль остановился. Отсюда ему было хорошо видно, как старик Ловега здоровается за руку с каким-то высоким, явно приезжим человеком. Разговор с этого расстояния слышен не был. Тот второй был коротко стрижен, одет в светлый костюм. В руках он держал папку для бумаг.
Старик неторопливо взял его под руку, и они пошли вдоль кладбищенской ограды.
Кристобаль огляделся вокруг. Его вдруг прошиб пот.
«Что за чертовщина? – удивленно подумал он. – Какого дьявола я погнался за ним?»
Бруно попытался определить, где находится, но не смог. Идиотская погоня завела его в совершенно незнакомый уголок кладбища, хотя, казалось бы, это невозможно.
– Где я? – вслух поинтересовался Кристобаль.
– Пока еще в мире живых, – сказал кто-то сзади.
Бруно обернулся и нос к носу столкнулся с человеком в черных очках. Незнакомец сумел подойти вплотную. Он был бледен и худ, но больше всего Бруно напугали, да-да, именно напугали, очки! Глухие, черные, непроницаемые.
Он вскрикнул, сделал шаг назад, споткнулся обо что-то. Упал на спину, ломая цветы и засохшие ветки… Удар о землю вышиб из него дух. Кашляя и задыхаясь в поднявшейся пыли, Бруно вдруг сообразил, что лежит на чьей-то могиле. И всю дорогу до этого бежал по могилам, спотыкаясь о надгробья, сшибая оградки и топча цветы. По мертвецам, по мертвецам…
В суеверном ужасе Кристо вскочил на ноги. И только тут обратил внимание, что вокруг никого нет.
16
– Если предположить, что душа – это основа любого живого существа, то из этого логически вытекает, что, воздействуя на душу, мы воздействуем и на тело, в котором она живет. Душевнобольные живут недолго.
Зеботтендорф, фон Лоос и Генрих сидели в одной из многочисленных комнат особняка.
– Как сказать, – Генрих пожал плечами и повертел в руке толстостенный пузатый бокал. – Многие дауны – долгожители.
Зеботтендорф покачал головой.
– Нет-нет, Генрих, не путайте. Дауны и прочие неполноценные не являются душевнобольными. У них вообще нет души, представьте себе.
– Простите, вы хотите сказать, что научно доказано существование этой самой души?
– Представьте себе, – повторил Зеботтендорф.
– Это сделали вы? – В голосе Генриха проскользнула неприкрытая ирония.
– Нет, не я. – Зеботтендорф сделал вид, что ничего не заметил. – Но имена и фамилии вам ничего не скажут.
– И все же?
– Август Майер.
– Немец?
– Еврей.
– Рудольф! – Генрих рассмеялся. – Как можно?
– Бросьте. Вы же допускаете существование религии, уходящей корнями в семитскую почву. Молитесь их богу и их пророку. Почему же вы не допускаете того, что именно евреи являются наилучшими специалистами в вопросах своей же религии?
– Ну, положим, я не молюсь…
– Не имеет значения.
– Но в целом могу с вами согласиться. Хотя мне непонятно, каким образом вы сделали евреев монополистами на вопросы души.
– Какой же вы ловкач, Генрих! – Фон Лоос радостно рассмеялся. Сегодня он просто лучился весельем и добродушием. – Если вам нужна информация, вы просто меняете тему разговора на ходу. Вызывая у собеседника раздражение, в котором он может наговорить черт знает чего. Прекращайте свои штуки! Вы тут в кругу тех, кого можете считать своими друзьями.
– Ценю ваши формулировки, фон Лоос. – Генрих отсалютовал ему бокалом.
Зеботтендорф обиженно откинулся в кресле, отставил бокал на прозрачный столик.
– Извините, что прерываю ваш обмен любезностями…
– Вы довольно слабый дипломат, Рудольф, – заметил фон Лоос.
– Для этого мне и нужны вы, – парировал Зеботтендорф.
Генрих удовлетворенно улыбнулся. Со стороны Доктора, как он именовал про себя Рудольфа, это был прокол. Нельзя говорить марионетке, что она марионетка. Даже намекать. Впрочем, Лоос этого, кажется, не заметил. Что тоже говорило о многом.
– Продолжайте, продолжайте. Вы остановились на евреях…
– Это вы на них остановились. – Голос Зеботтендорфа стал едким. – А мы пошли дальше!
– И открыли науку о душе? – не смог удержаться Генрих.
– Тьфу на вас!
– Ладно, ладно! Все, больше не буду!
Зеботтендорф решительно встал, прошелся вдоль огромного, забранного декоративной решеткой окна.
– Хорошо, – наконец сказал Доктор. – Продолжим… Работы Августа Майера… Еврея!
Генрих молчал.
– Убедительно доказывают существование души как физического явления.
– А почему, простите, о них ничего не известно в… э-э-э… широких кругах?
– Во-первых, официальная наука несколько несерьезно относится к подобным проектам. А во-вторых, эти материалы, его работа, да и вообще все, что касается данной темы, было в свое время изъято. И более того, уничтожено.
– Кем?
– Мной. Август Майер трагически погиб. Не выдержало сердце.
– Чего не выдержало?
– Всего. Но сделать он успел немало. Само по себе доказательство существования души стоит много. Подумайте сами: душа – это такой же орган, как сердце, печень, легкие, его можно уничтожить, заразить болезнью, заменить, излечить… Пересадить, наконец! Представьте, какие открываются перспективы. Это новая, совершенно новая наука. А если учесть, что именно душа является основой жизни человека… Понимаете? Сердце, даже мозг… все это вторично по сравнению с душой. Душа – это ключ ко всему!
– Скорее дверь, – вдруг сказал Генрих.
– Что? Почему вы так считаете? С чего вы взяли?
– Если бы вы овладели ключом, вы бы овладели миром. Но вы только подглядываете в замочную скважину.
– Разве?
– Несомненно. Иначе все выглядело бы по-другому. Перспективу я понимаю. Но пока это лишь перспектива, так, неясное будущее. Что вы можете предоставить в реальности, кроме эффектных фокусов с молодыми людьми в очках?
– Молодых людей в очках, – удовлетворенно кивнул Лоос. – Поверьте, Генрих, это совсем не так мало.
– Тогда не вижу препятствий к вашей цели. Вы, кажется, собирались захватить власть над миром? – Генрих сделал небольшой глоток. Осторожно прокашлялся. Коньяк был, наверное, неплохим, но слишком ароматным. – Все-таки я больше люблю водку.
– Налейте.
Генрих отмахнулся:
– И это сойдет.
Фон Лоос захохотал:
– Вот это я понимаю! Сорокалетний коньяк – сойдет! Вы мне нравитесь все больше.
– Вздор, – проворчал Генрих. – Я не девица, чтобы нравиться. Я полицейский. И у меня сейчас не сходятся концы с концами. Наш профессор пытается мне втолковать, что он владеет ключами к мировому господству, однако сидим мы не в Берлине, и не в Нью-Йорке, и не в Москве… А черт знает где, и трясемся от слова Моссад. Что же не так?
– Черт побери, у вас все так просто! Я говорю вам о научном открытии, о событии, о перевороте в науке! О великих возможностях! Создание атомной бомбы предсказали наши – наши, Генрих, – ученые, но у нас не было возможности воплотить их идеи в реальность.
– Еще бы… – пробормотал Генрих. – Мы занимались астрологией и алхимией…
Зеботтендорф не услышал или сделал вид, что не услышал его слов.
– И только спустя много лет американцы, опять же при помощи наших работ, сумели сделать это страшное оружие. Не все же сразу! Чтобы достичь успеха, нам нужна база, нам нужен материал, финансирование, наконец. Это же не так просто! Вы считаете, что атомная физика – это сложно, а душа – это так… – Зеботтендорф покрутил в воздухе руками.
– Что может быть проще финансирования? – поинтересовался Генрих. – Ваши мальчики навещают банкира… И готово.
– Генрих! Мы живем в большом мире. В этом большом мире ничто не теряется и не обнаруживается само по себе. Такие, я повторяю, такие деньги просто так добыть невозможно. Нам нужны государственные ресурсы. Как людские, так и… все прочие.
– Ах, вот оно что! – пораженно протянул Генрих. Он обвел жестом помещение: – Вот откуда такой бедлам в этой несчастной стране!
– Вы поразительно догадливы, мой друг, – улыбнулся фон Лоос.
– Проблема в том, что этих людей мало. Фактически – только пятеро. Они не созданы мной, они созданы природой, – продолжал Зеботтендорф. – Мое достижение только в том, чтобы раскрыть этих людей. Найти их среди остальных. Среди грязи человеческой, если угодно. Я, увы, не умею создавать их. Я не умею работать с человеческой душой напрямую. Пока. И я не могу рисковать этими, без ложной скромности, драгоценными экспонатами. Нам нужна эта страна! Отсюда мы раскрутим такую мельницу, в жерновах которой будут перемолоты и Москва, и Вашингтон! И все остальные! Но сначала эта богом забытая страна. Сначала она.
– Красиво, очень красиво. Но все равно не ясно, я-то вам зачем?
– Ваш опыт, конечно же, дорогой Генрих! – Фон Лоос отсалютовал ему бокалом.
– Ну и зазомбировали бы меня… В чем проблема? Зачем эти уговоры-разговоры?
– Хм… Видите ли, Генрих… – Зеботтендорф осторожно сел рядом. – Вы почему-то все упрощаете.
17
– Я знаю, что вашим ребятам с нами не по пути, господин Ракушкин. – Рауль Ловега, старик с лицом хитрой обезьяны, которая обставила не одного леопарда, улыбнулся. – Если вы отказались от Че, то и Аргентине ждать нечего.
– Ну, это как сказать. С Кубой…
– Куба крайне выгодно расположена, и поставить на нее ракеты очень заманчиво. Но я бы не желал для Аргентины такой судьбы. Я слишком люблю свою страну.
Антон вытер пот.
После кладбища они направились к Ловеге домой. Теперь Антон и Рауль сидели в маленьком садике, в тени деревьев с широкими листьями. Было жарко. На столике стоял высокий запотевший кувшин, но Ракушкин не пил. Черт его знает, что мог подмешать в сок этот хитрый старичок. Революционеры – народ ненадежный.
– Но вы же понимаете, что… Невозможно добиться успеха, не заплатив за него определенную цену. Мир двуполярен. Так или иначе, но вас вынудят присоединиться к одному из этих полюсов.
Рауль развел руками.
– Да, мир сложная штука. Сложная. Я уважаю Советский Союз, это огромная страна… Надеюсь, мы найдем общий язык. Когда придем к власти.
– Ну, поскольку пока до этого момента еще далеко, может быть, мы обсудим кое-какие общие проблемы?
Рауль налил еще сока и посерьезнел.
– Я могу понять, зачем это нужно нам, но для чего это нужно вам? Раз уж мы планируем сотрудничество, я хотел бы получить ответ на этот вопрос.
– По-моему, это просто. Эта страна похожа на кипящий котел. В этом вареве надо разбираться. Иначе ничего хорошего не выйдет. В сложившемся положении наши интересы совпадают. Я хочу знать, что происходит. Так же, как и вы. Видимо.
– А что вы можете дать нам? То есть я понимаю вашу заинтересованность. – Рауль поставил недопитый стакан на столик. – Но я могу разобраться во всем сам. Или силами… – он едва не сказал «Комитета», но вовремя сдержался, – …силами нашей организации. Для чего мне привлекать иностранцев? Как бы я ни относился к Союзу, но это другая страна.
– Если бы вы могли разобраться, вы бы уже разобрались. А я предлагаю вам опыт и широкий спектр возможностей, которых нет у подпольщиков. К тому же если мы договоримся, я кое-кого вам… отдам. В качестве подарка.
Рауль прищурился. Антон почти слышал, как в голове старика щелкают и переключаются цепи, просчитываются варианты. «Азартный дедушка, – подумал Ракушкин. – Как он с таким характером до такого возраста дожил, непонятно».
– Что за подарок? – наконец спросил Ловега. Его голос дрогнул, будто надломился.
– Поедем, покажу.
Ловега, ни слова не говоря, поднялся. Легко. Кресло, сплетенное из пальмовых веток, даже не скрипнуло.
Через двадцать минут они были в злополучном переулке на берегу Ла Платы. В свете дня – обычный переулок, в меру грязный, в меру запущенный. Таких в Буэнос-Айресе сотни.
– Итак? – с интересом спросил Рауль.
– Тут ее и убили.
– Знаю.
– Человек стрелял с небольшого расстояния. Отсюда. – Антон показал на камни мостовой. – Двигался с той стороны. И…
– У вас есть доступ к полицейским архивам? – насторожился Ловега. – Или это какой-то спектакль?
– Ни то, ни другое. Ни в каких архивах не значится, что убийца окликнул ее по имени, и если бы она не откликнулась, то, возможно, осталась бы жива. А мы с вами познакомились бы при других обстоятельствах.
Рауль сделал несколько шагов в сторону стены.
– Тут, говорите, он стоял? – Его рука нырнула за пазуху.
Антону было жарко, так что свой серый в полоску пиджак он держал свернутым на локте.
– Нет, – ответил Ракушкин. – Чуть дальше…
Когда Ловега обернулся, его рука замерла на полдороге.
– Не стоит, Рауль…
Ему в живот смотрела черная дырочка ствола. Едва приметная из-за накинутого на руку пиджака. Серого в светлую полоску.
– Слишком поспешные выводы могут навредить делу. Так что давайте немного доверять друг другу. – Антон медленно опустил пистолет и через мгновение продемонстрировал пустую руку. Куда делся ствол, Рауль так и не понял. Так же как и откуда он возник в руке у русского.
Ловега вынул из-за пазухи белый широкий платок и утер пот. Криво улыбнулся.
– А вы фокусник, господин Ракушкин. Но пока ваши трюки удивляют меня не сильно. Неужели это все, что вы хотели мне показать?
– Нет, это, так сказать, прелюдия, вступление к основному представлению, говоря языком сцены. Знаете, как барабанная дробь, которая нагнетает атмосферу…
– Ах, это. – Старик засмеялся. – Паба-ба-бам!
– Да-да.
– Ну что ж, я весь внимание.
– Пройдемте. Тут недалеко. – Антон сделал приглашающий жест.
– Нет уж, нет уж, после вас! – Ловега шутливо раскланялся.
– Доверие, доверие! – Антон развел руками. – Больше доверия, друг мой.
И они пошли по переулку рядом.
На полу метался человек.
Запрокинув голову, он катался из стороны в сторону, мыча и брызгая слюной. Замызганная одежда, грязное лицо в разводах от слюны.
– Кто это? – брезгливо поинтересовался Рауль.
– Вообще-то, – Антон привалился плечом к стене подвала, – я предполагал, что это скажете мне вы.
– С какой стати? – Ловега осторожно отошел к двери.
– Не бойтесь. Он сейчас безопасен.
– Сейчас? То есть вы… он у вас уже давно?
– Нет. Недавно.
Рауль как-то странно посмотрел на Ракушкина. Тот поймал его взгляд и хмыкнул:
– Господин Ловега! Вы имеете дело с СССР, а не с нацистской Германией. То, что он в таком состоянии, не моя заслуга. Я не имею к этому отношения. Поверьте, пара ударов по ребрам не сведет с ума даже человека, чрезвычайно склонного к шизофрении. А это именно то, что я мог себе позволить в отношении человека, который застрелил Леонору.
– Он?!
– Он.
Рауль подошел ближе и всмотрелся в сумасшедшего.
– Почему я должен вам верить?
– Ну, могу предоставить вам пистолет. Отпечатки пальцев… Все это очень просто проверить.
– Так же просто, как и сфабриковать.
– У меня есть свидетели, но это вас не удовлетворит, как мне кажется. Однако, увы, больше ничего я вам предоставить не могу. Кроме своего честного слова. Это тот самый человек. Я встретил Леонору там, в переулке. Мне нужна была информация.
– Она не могла быть вашим агентом.
– Она и не была. Но могла бы им стать. Если бы не он. – Ракушкин указал на лежащего.
– А если предположить, что это вы убили Лео, потом свели с ума этого… кем бы он ни был. Или подобрали юродивого, по случаю. А затем разыграли этот спектакль, чтобы…
– Чтобы что? – поинтересовался Антон. – Не слишком ли сложно? Я мог бы предложить вам денег или пригрозить… Или еще что-нибудь попроще.
– Деньги и угрозы хороши на короткий срок, для долговременного сотрудничества необходимо то, о чем вы так много говорите.
Антон вопросительно поднял брови.
– Доверие. – Рауль отошел от заключенного, провел рукой по стенам подвала. – Я знаю этого человека. И когда я видел его последний раз, сумасшедшим он не был. Интересно, господин Ракушкин, что же из нашего сотрудничества выйдет…
18
– Это один из крупных функционеров местной ячейки, – говорил Рауль, осторожно выводя сумасшедшего из подвала. – Аркадио Мигель, кажется, так его звали. – Он потряс психа за локоть. – Аркадио, ты слышишь меня?
Тот только мычал и закатывал глаза.
– Я думаю, его надо отвести в нашу клинику. Может быть, там ему сумеют вправить мозги…
– Если честно, сомневаюсь. – Антон открыл дверь черного хода. – Судя по тому, как все произошло… Я вообще не уверен, что с этим можно что-то сделать.
– А кстати, как все произошло? – поинтересовался Ловега.
– Ну, про убийство я вам рассказывал. – Они вышли во дворик. Антон указал в сторону арки. – Нам туда. А вот что касается сумасшествия этого… Как вы сказали, Аркадио?
– Да-да…
– Так вот, с этим совсем странно. После выстрела мы скрутили его.
– Как-нибудь особенно гуманно? – с иронией спросил Рауль.
– Нет. – Ракушкин открыл скрипучую решетку и пропустил Аркадио и Рауля вперед. Кованые ворота с грохотом захлопнулись. Антон щелкнул ключом. – Совсем нет. Если вас интересуют подробности, я могу показать. Позже. Но предупреждаю, самбо нам преподавали очень толково.
– Надеюсь, не придется…
– В общем, он потерял сознание. Но это не могло быть поводом. Когда он очнулся… – Антон показал на Аркадио. – Вот что мы увидели.
– Сейчас должна подъехать машина. А там будет видно… – Рауль вздохнул. – Будет очень жаль, если не удастся вернуть его. Он мог бы кое-что рассказать…
– В принципе… – Ракушкин не договорил.
Аркадио Мигель, до того безучастно стоявший около стены, вдруг вздрогнул. Обернулся. Антон встретился с ним взглядом и мог бы поклясться, что в этот миг увидел глаза совершенно здорового человека.
Ракушкин опоздал буквально на секунду. Мигель, ни слова не говоря, кинулся вниз по улице. Следом несся Антон, выкладываясь на полную катушку. Где-то позади ковылял Рауль. Подъезжала машина. Ловега что-то крикнул, махнул рукой, старенький «Форд» коротко рыкнул и дернулся следом за убегающим. Но поздно…
Впереди уже маячила набережная канала.
Антон, понимая, что сейчас произойдет, ускорил бег, стараясь в броске дотянуться до одежды беглеца. Однако тот рывком преодолел оставшееся до ограды расстояние и легко, словно всю жизнь тренировался, перемахнул через нее. Взметнулись брызги.
Антон сорвал пиджак, сбросил туфли… Глубокий вдох он сделал уже в полете.
Вода была холодной и черной. Противно заливалась в уши.
Он погрузился глубоко и сразу принялся загребать руками, уходя еще глубже. Но Аркадио нигде не было. Когда легкие стали разрываться от недостатка воздуха, Антон вынырнул. Едва оказавшись на поверхности, он нырнул снова. И перед самым всплытием он увидел в мутной черноте светлое пятно…
На набережной шумел народ. Кто-то взволнованно метался у чугунной оградки, не зная, что делать, кто-то пристально всматривался в воду, некоторые особенно горячие личности уже стаскивали с себя одежду. Нырять, впрочем, никто не осмелился. И когда Антон показался на поверхности вместе с Аркадио Мигелем, в толпе раздались аплодисменты. Рауль и еще двое с ним уже суетились на лестнице, что вела к воде. Крепкие руки подхватили сначала Аркадио, а потом и Ракушкина. Кто-то перевернул Мигеля на живот, стараясь вылить воду из легких. Начали делать искусственное дыхание. Антон, тяжело дыша, наблюдал за этими действиями.
– Надо бы в больницу, – забеспокоился Ловега.
– Не надо… – тихо выдохнул Ракушкин.
– Почему?
– Он мертв… Совсем мертв.
– Но ведь еще можно откачать!..
– Нет, – Антон поднялся. Какой-то восторженный мужчина подал ему пиджак и туфли. – Нет. Он умер. Думаю, еще в полете. Вы можете отвезти его в больницу, чтобы удостовериться в моих словах.
Ни слова не говоря, Рауль махнул своим людям, и они потащили тело в «Форд». Следом залез и Ловега.
– А вы? – спросил он Ракушкина.
– Езжайте! – махнул тот. – А после больницы я буду ждать вас на улице Дефенса. Там есть замечательное кафе. Около Музея национальной истории…
– Хорошо!
Хлопнула дверца. Машина зарычала и уехала, оставив после себя мерзкий запах бензина.
19
– Помните Первую мировую? – спросил Зеботтендорф у Генриха.
– Ну, вы спросили! – Тот рассмеялся. – Я помню историю.
– Дело-то не в войне как таковой, а в том, что ей сопутствовало.
К вечеру похолодало, и они переместились на веранду. После дневной жары вдыхать прохладный воздух было приятно. К тому же молчаливые слуги фон Лооса принесли замечательные чесночные хлебцы к полусырому мясу, которые Генрих очень любил. Они напоминали ему Баварию, хотя в тамошней кухне не было ничего подобного. Странная и нелогичная ассоциация.
– Что же?
– Болезни. Раны. Все эти смертельные игрушки: бомбы, пули, газы, мины – все это порождало огромное количество возможностей для хирурга. И вспомните, с чем мы и весь мир начали эту войну и с чем мы ее закончили!
– И тут же ввязались в следующую… – добавил фон Лоос задумчиво.
– Да-да! – согласился Зеботтендорф. – Один год войны сделал для хирургии больше, чем десятилетия мирной жизни. Несколько лет кошмара и хаоса тогда позволили нам нынешним получить высококачественную хирургию, действенные антибиотики, анестезию… Вспомните! Как раньше было? Удар молотка через деревяшку, и пациент в отключке! А сейчас…
– К чему вы клоните, Зеботтендорф? К тому, что война – это двигатель прогресса?
– А вы собираетесь с этим спорить?
Генрих покачал головой.
– А наши лагеря?! – Рудольфа раздражала пассивность фон Лооса в разговоре. – Вы вспомните, вспомните…
– Боже упаси. Я посетил Освенцим лишь однажды и до сих пор пытаюсь забыть…
– Не получается? – поинтересовался Генрих.
Фон Лоос покачал головой.
– Да кончайте вы! – разозлился Зеботтендорф. – Все выставляют немцев палачами! А кто, по-вашему, двигал науку, прогресс?!
– Неужели комендант Майданека? – изумился Генрих.
– Мы проводили опыты! Опыты, понимаете? Важные для науки! Хотите вы или нет, но именно благодаря таким людям, как Менгеле, человечество достигло всего того… – Он покрутил в воздухе руками, словно бы охватывая все достижения мировой науки в целом. – …Того… чего оно сумело достичь! Даже выход в космос!..
– Рудольф… – Фон Лоос печально вздохнул. – Я лично знал Менгеле. Это был редкостный говнюк.
Зеботтендорф пожал плечами.
– Это не имеет значения. Те же опыты проводили и русские, к слову сказать.
– Только делали это на добровольцах, – ответил Генрих.
– А вы-то откуда знаете?
– Знаю. – Тот пожал плечами. – Несмотря на то, что вы говорите, вряд ли кто-либо из еще живых ученых Третьего рейха с удовольствием признает, что пользовался результатами исследований, полученных в Аушвице.
– Не важно! – Зеботтендорф потерял запал и бухнулся в кресло. – К чему я это все говорил?
– Да-да. Мне тоже интересно. – Генрих налил себе апельсинового сока, подсел к вкусно пахнущим хлебцам и мясу.
– И мне! – поддержал его фон Лоос.
– Я вспомнил! – Зеботтендорф радостно поднял палец.
– Да ну? – удивился Генрих с набитым ртом.
Фон Лоос радостно рассмеялся.
– Ну вас к черту! – беззлобно отмахнулся Рудольф. – Слушайте. Война позволяет прогрессу двигаться вперед семимильными шагами. И сейчас мы с вами находимся в той стадии, в какой находилась медицина, а конкретнее хирургия, в 1914 году. Припоминаете?
– Ужас… – равнодушно ответил Лоос.
– Вот именно. Мы хирурги душ! Но мы едва-едва сумели разобраться, какие органы важны, а какие несут только вспомогательную функцию. Едва-едва научились резать. И зашивать. Еще даже не умеем подавлять воспалительные процессы… – Зеботтендорф замолчал, глядя на жующих Лооса и Генриха. – Мы даже еще не умеем удалять гной! Грязь! Вонь!
– Тьфу! – Фон Лоос оттолкнул тарелку. – Идите вы к дьяволу, чертов доктор!
Генрих продолжал невозмутимо жевать.
– Удивляюсь вашему спокойствию, дорогой Генрих! – Фон Лоос встал, прошелся по веранде. Налил себе сока. Попробовал. Сердито выплеснул его в кусты и взял в руки бутылку с коньяком. – Гадость какая. Неужели нельзя без этих подробностей, черт побери?!
– Я просто хотел, чтобы вы прочувствовали уровень, – спокойно пояснил Зеботтендорф. – Уровень и серьезность вопроса. Поэтому и прибегнул к этой малоаппетитной метафоре. Приношу свои извинения.
Фон Лоос раздраженно сел в визгливо скрипнувшее кресло.
– Итак, я продолжаю? – поинтересовался Рудольф.
– Да, конечно. – Фон Лоос махнул рукой. – Простите, не сдержался.
– Итак, мы находимся в начале пути. В самом начале. Душа для нас все еще тайна за семью печатями. Одно отличает нас от всех остальных: мы знаем, что душа не только существует, но на нее можно воздействовать. Это знание дорогого стоит, поверьте. Кое-что мы умеем, но пройдут не то что годы… Пройдут столетия, пока мы, наконец, достигнем нужного уровня.
– Собираетесь прожить еще сто лет? – спросил Генрих. Он прищурился на Зеботтендорфа. Старик выглядел в лучшем случае на шестьдесят.
– Нет! Но и ждать не хочу. Никакой постепенной работы! Нам нужен рывок! Понимаете? Рывок, возможность жертвовать сотнями жизней, тысячами! Нам нужен материал для работы!
Генрих осторожно отодвинул тарелку. В задумчивости он водил руками по столу. Правая рука задержалась на столовом ноже. Не меняя положения, он обернулся и посмотрел на Зеботтендорфа.
– Вам нужен свой личный Аушвиц, доктор?
– Мне нужна возможность работать. И только война позволит мне… Позволит мне совершить революцию в науке. Такую, о которой можно только мечтать. Понимаете? – Он наконец посмотрел на Генриха. – Бросьте, старина! Вам не к лицу роль моралиста. Неужели, осуждая человека, вы не догадывались, куда он попадет? Ха! Ни за что не поверю…
– Осуждал его не я. Я только делал свою работу… Работу полицейского, – тихо ответил Генрих. – Делал, как мог. Но вы правы. Знал. Все знал.
– Ну, так чего же? Победителей не судят!
Генрих отодвинулся от стола.
– Что-то я потерял аппетит.
– Еще бы. – Фон Лоос вытащил из кармана сигару, понюхал ее, с наслаждением закурил. – Наш доктор отобьет желание жить у любого. Но поверьте мне, все не так уж плохо, как кажется на первый взгляд. Когда я впервые увидел его работы, не поверите, Генрих, чуть не вырвало. Но, оказывается, во всем этом есть и положительные стороны. Например… – Он похлопал себя по животу. – Я прекрасно себя чувствую, хотя мне уже чертова туча лет. А все он.
И фон Лоос ткнул пальцем в Зеботтендорфа, который раскланялся с деланым кокетством.
– Это действительно важное открытие. И это действительно путь к власти. К настоящей власти. Над всем этим гнилым миром!
20
Напротив Музея национальной истории разбит парк. Один из самых больших в Буэнос-Айресе, он стал традиционным местом для встреч влюбленных парочек и почему-то несанкционированных студенческих манифестаций. По негласному договору с властями города студенты превратили это место в аналог английского Гайд-парка, но свобода слова и поведения не распространялась далее витой чугунной ограды.
Парк Лезама находился между двумя крупными проспектами и двумя небольшими улицами – Дефенса и Бразиль. Как раз на углу этих двух улочек и располагалось кафе «Монтерей», из-за столиков которого удобно было наблюдать за происходящим в парке. В меню этого заведения входили даже небольшие театральные бинокли, подававшиеся с фирменным коктейлем «Наблюдатель». Поскольку молодым парочкам не свойственна особенная осторожность и стеснительность, то посмотреть часто было на что.
Антон выбрал это место не случайно. Вход в кафе был расположен так, что войти незаметно не имелось никакой возможности, а в случае особенно крупных неприятностей можно было достаточно легко взобраться на крышу соседнего здания, для чего, как бы случайно, со стены свешивалась старая, но крепкая металлическая лестница.
Ко всем прочим удовольствиям в «Монтерее» хорошо кормили. Помимо традиционных для Латинской Америки блюд, Аргентина имела свои особенности и отличия. Итальянские эмигранты привили этой стране сильную любовь к макаронам, и за аргентинцами закрепилась стойкая слава главных макаронников Южной Америки. Однако близость океана тоже давала себя знать. Одни только креветки готовились поварами Буэнос-Айреса более чем по пятидесяти различным рецептам. А уж по поводу гаспачо, холодного супа из помидоров, огурцов и прочей зелени, между ресторанами шла необъявленная война, каждый шеф-повар считал именно свой рецепт наилучшим.
Впрочем, у каждого ресторана, бара или любого другого питейно-закусочного заведения было свое «самое-самое». Так, в «Монтерей» готовили самые-самые сочные асадо, запеченные на углях говяжьи ребра. У посетителя, который, попробовав местные асадо, не выражал бурного или хотя бы сдержанного восторга, будущего в этом кафе не было. Толстый и важный главный повар лично стоял в дверях кухни и ревниво следил за лицом человека, которому принесли это «самое-самое» блюдо.
Поговаривали, что одного клиента, который выразил мнение, что вареный рулет из говядины с овощами, матамбре, в соседнем ресторане готовят лучше, чуть не побили. Объявив его сразу провокатором, марксистом и правительственным шпиком.
Антон сидел за дальним столиком и пил кофе, заваренный по местной традиции до состояния жидкого асфальта. Несусветная горечь, от которой сердце начинает бешено колотиться и в ушах шумит. В употреблении этого напитка Ракушкин находил какое-то особенное мазохистское удовольствие.
Мимо, не торопясь, проехала знакомая машина. Антон сделал еще глоток и посмотрел на часы. Через четыре минуты ровно в дверях появился Рауль Ловега. Светлый костюм, неизменная шляпа, тросточка. Ни дать ни взять дедушка какой-нибудь аристократической семьи, которая ведет свой род если не от самого де Гарая, то от каких-нибудь испанских грандов, с этим самым Гараем приплывших. Впрочем, это обманчивое впечатление рассыпалось, как карточный домик, стоило только взглянуть на руки Рауля. Широкие ладони, узловатые длинные пальцы и мозолистая ладонь человека, привыкшего трудиться с детства.
Антон поднял руку. Ловега кивнул и направился к нему, тяжело опираясь на трость. Появившийся словно из-под земли официант получил заказ на кофе, поскучнел лицом и исчез.
Здороваясь со стариком, Антон приподнялся.
– Сидите-сидите. – Рауль тяжело опустился на стул.
– Что-то с ногой? – поинтересовался Антон.
– Не стоило мне с вами бегать. – Ловега криво улыбнулся. – Поясница… А ведь когда-то я телегу поднимал на спор. Представляете? Старость все-таки гадкая штука. Она делает человека слабым.
– Старость – это понятие духовное. Тело – это механизм, который просто изнашивается, но если за ним ухаживать должным образом, то оно может работать достаточно долго.
– Ого. Этому вас учили там, в Союзе?
– Меня много где учили. – Антон улыбнулся. – Иногда я учился сам.
Принесли кофе. Ракушкин поднял брови:
– За сердце не боитесь?
– А вы? – Ловега кивнул на почти пустую чашечку Антона.
– Для меня это своего рода тренировка. Знаете, как какой-то римский император принимал каждый день немного яда, сделав таким образом свой организм более устойчивым к популярной в то время отраве.
– Интересный подход. – Рауль одним глотком ополовинил чашечку. – Но я уже в том возрасте, когда бояться особенно нечего.
Антон допил кофе, осторожно собрал гущу в ложечку и отправил в рот. Ловега удивленно на него посмотрел, но ничего не сказал.
– Студенческая привычка, – пояснил Антон. – Какие у вас новости?
Рауль пожал плечами и сел вполоборота.
«Не доверяет», – подумал Ракушкин.
– Аркадио умер.
– Ну, это я знал сразу. А от чего?
– Сердце. – Рауль кинул быстрый взгляд на Антона и снова принялся рассматривать парк, где только-только зажглись вечерние огни. По освещенным дорожкам прогуливались парочки. – Все как вы сказали. Сердце. И только потом вода. Доктор вообще сказал, что, если бы не вода в легких и не мой рассказ да куча свидетелей, он бы вообще решил, что Аркадио умер… Ну… Пару дней назад.
– Как так? – Антон удивленно посмотрел на Рауля. Потом поднял руку, щелкнул пальцами, привлекая внимание официанта. Показал на кофейную чашечку и бодро постучал по горлу жестом, понятным во всем мире.
– А вот так… – Рауль играл желваками. – Доктор врать не станет, я его знаю давно. И он меня знает. – Ловега замолчал, завидев приближающегося официанта.
С подноса на стол перекочевали еще одна чашечка кофе и две рюмки золотистой тростниковой водки. Антон взял тоненькую рюмочку, предложил Раулю. Тот помялся, но принял.
Выпили, не чокаясь. Огненная жидкость с горьковатым привкусом трав обожгла язык.
– Доктор даже пытался объяснить, – продолжил Рауль, отдышавшись. – Какие-то там… ткани. Признаки. Я ничего в этом не смыслю, но его мнению я верю. Таким образом, у меня к вам два вопроса, господин Ракушкин.
– Всегда готов ответить на все ваши вопросы.
Антон отметил, что в заведение вошли два высоких индейца. Сели за крайний к дверям столик, блокируя выход. Похоже, Ловега заявился с охраной.
– Откуда вы знали, что он мертв?
– По-вашему, я не видел трупов? Я тащил его из воды, помните? Живые люди, даже нахлебавшиеся воды… Как бы это вам объяснить?.. Совершенно другие ощущения.
– Я понимаю.
– Вы по-прежнему подозреваете меня в том, что я убил Аркадио Мигеля?
– Ну, возможностей у вас было предостаточно. А мотив…
– Мотив не важен. Не думаете же вы, что он кинулся в канал, чтобы сбежать от нас вплавь? Это по меньшей мере глупо. И потом, чтобы уцелеть, достаточно было остановиться где-то в людном месте. Убивать его на глазах у стольких свидетелей… – Антон покачал головой. – Какой был второй вопрос?
– Я задам его позже, – ответил Рауль, допивая кофе. – Тем более что это сейчас не имеет значения. Получается так, что вы загнали меня в угол, Антон.
– Разве? – Ракушкин удивленно поднял брови.
– Да-да. Теперь у меня не остается другого выхода, как сотрудничать с вами.
– С чего такая уступчивость?
– Дело в том, что я вам немного наврал. Сказал, что в моем возрасте бояться нечего. Однако это не так. Я беседовал с людьми, которые знали Аркадио. Многое проверил. Видите ли… Я боюсь за все наше движение. И есть определенные люди, с которыми мне в одиночку не справиться. А полагаться на… Комитет я сейчас не могу. Уже не могу. Поэтому как ни грустно, но я вынужден принять вашу игру.
– Это слишком мрачно звучит! – Антон замахал руками. – Можно сказать проще. У нас с вами есть общие интересы. Вы хотите избавить своих людей от опасности, а я очень хочу разобраться в том, что происходит. Я помогаю вам, вы помогаете мне. Ничего страшного в этом нет.
21
Пока нацистские бонзы, избежавшие суда, строили планы, скручивая людскую натуру в упругую плеть, вполне пригодную, чтобы гнать ленивое человечество вперед еще пару тысячелетий… Пока монтонерос во имя свободы собирали на своих подпольных заводах смертоносные машинки и печатали листовки… Пока офицер ГРУ играл в словесные игры с хитрым стариком, знающим слишком много, чтобы спокойно жить… Пока советский журналист вдохновенно набивал на старенькой машинке главы для своей книги о знаменитом команданте… Пока огромный Буэнос-Айрес жил, надеялся, веселился, страдал, умирал и рождался в лучах заходящего солнца…
На балконе президентского дворца стояла немолодая женщина. Позади нерешительно мялись телохранители. Уже только за это их следовало бы выгнать к чертовой матери, но… Буэнос-Айрес лежал перед ней, слишком красивый город, чтобы отрываться от него ради такой глупости. К тому же Изабелла Перон, вдова покойного президента, мадам-президент, как называли ее за спиной, была слишком мягкой женщиной. Слишком мягкой для того поста, который она занимала. Газеты открыто смеялись над ней. Марксисты безнаказанно кидали бомбы и убивали. Военные… Вот военных Изабелла не любила. И с удовольствием превращала их в публичное посмешище, изгоев, отодвинув подальше от столицы, загнав в самые дальние гарнизоны, оставив в Буэнос-Айресе только гвардию и целиком полагаясь на полицейский аппарат.
Она запуталась в интригах. Она устала маневрировать между интересами иностранцев и своими собственными. Она перестала узнавать министров в лицо, так быстро они сменяли друг друга: сажаешь одного коррупционера, тут же на его месте объявляются еще трое. Она не спала трое суток, пытаясь распутать кровавый клубок событий, последовавших после взрыва в парке Колон. Но ниточки ускользали из ее рук… Ускользали. На столе в белом кабинете лежали три ультиматума, составленные тайной полицией, гвардией и профсоюзами – последние были, и об этом знали все, официальным представителем монтонерос в правительстве.
В сказочном городе, где некогда был такой дивный воздух, стало нечем дышать. Будто горло сдавила чья-то железная перчатка.
Позади тихонько кашлянули.
Изабелла вздрогнула, обернулась.
– К вам генерал Видела… – Лицо смутно знакомое, кто-то из канцелярии. Кто? Она не смогла вспомнить. Похож на хорька.
– Пошлите его к черту.
– Это невозможно…
Хорек испуганно обернулся.
– Почему?
– Я уже здесь.
На балкон вышел генерал. Крупный, сухой, высокий. Подстриженные усы лихо заворачиваются вверх. Короткие седые волосы, горбатый острый нос. Ни дать ни взять Кларк Гейбл. Если бы не сабельный шрам через левую щеку.
– Сеньора!
Короткий поклон и щелчок каблуками. Мундир сидит как влитой, ни складочки лишней. Изабелла с раздражением подумала, что не может ни к чему прицепиться. Одет почти идеально… Почти – только потому, что вдова президента ненавидела военную форму.
– Врываетесь без приглашения, генерал?
– Другого способа я не вижу. Мое прошение об аудиенции остается без ответа третий раз.
– Разве?
– Тот лепет, которым меня кормит ваша канцелярия, я не рассматриваю в качестве ответа.
Изабелла замолчала и отвернулась.
Видела встал рядом, окинул город взглядом. Площадь перед президентским дворцом. Открытая, неуютная, такую легко запереть пулеметным огнем. К дворцу и близко не подойдешь. Дальше – улицы, дома. Высотки. Плацдармы. Рубежи. Корпуса. Объекты. Закатное солнце делало город опасным, переменчивым. Удлиняло черные тени, словно специально маскируя удобные огневые точки. Хороший город. Генерал любил его. Как любят старый, надежный и испытанный полигон.
– Я знаю, как вы относитесь к военным, сеньора. И не стал бы портить вам и себе замечательный вечер.
– Если бы не что?..
– Вы и сами прекрасно знаете. Объяснение моему появлению в ваших покоях можно уложить в одно слово.
Изабелла даже не пошевелилась.
– Это слово – Аргентина.
– А я думала – деньги…
Шрам на лице Виделы дернулся, будто живой.
– Насколько я знаю, бюджет на этот год уже утвержден и беседовать с вами о его пересмотре бесполезно. На нужды армии выделено…
– Сколько необходимо! – Изабелла подошла к перилам и стукнула по холодному мрамору кулачком.
Генерал поправил усы и промолчал. Первой не выдержала вдова президента:
– Если вы пришли клянчить у меня не денег, то чего же?
– Я оставлю без внимания ваш тон и скажу просто: страна находится на грани развала. Вы упустили бразды правления из своих рук, да, если быть откровенным, никогда их и не держали как следует…
– Ха! А вы, стало быть, знаете, как их нужно держать?!
– Это не важно. Имеет значение только то, что вот-вот произойдет переворот. И я ничем не смогу помочь законной власти.
– У меня есть гвардия и полиция. Армия – это… в лучшем случае пережиток. А в худшем…
– Либеральные бредни! – От такого рыка президентские телохранители вздрогнули и едва не вытянулись по стойке смирно. – Не более чем вздор! Когда марксисты придут к власти, поверьте мне, вам будет не до смеха. Если вы не можете навести порядок в стране, то найдутся силы, которые готовы воспользоваться этим.
– Неужели я уже назначила вас шефом тайной полиции? – Изабелла всплеснула руками. – Как же я не углядела такой талант сразу?! Мои донесения…
– Вранье, от первого до последнего слова…
– Не нужно делать из меня дурочку! Не забывайте, с кем вы разговариваете, наконец! – Она в ярости обернулась к Виделе. Тот спокойно смотрел ей в глаза. – Что вы принесли, генерал? Я вижу, у вас бумаги…
– Прошу.
Изабелла приняла из рук Виделы толстую кожаную папку.
– Очередной ультиматум?
– Скорее соображения по выходу из кризиса.
Она криво усмехнулась и сказала тихо:
– Очередной ультиматум… Я уже читала что-то подобное. Вчера мне принесли «соображения» от профсоюзов… Позавчера от комитета национальной гвардии… Да-да, не удивляйтесь, генерал, комитета! Так и сказали… До этого меня завалила бумагами тайная полиция. Просто странно, что в стране столько умных людей, а толку от них никакого нет… И все, буквально все знают, что мне делать. Этого не знаю только я. – Она взвесила в руке папку генерала. – Ваш труд наиболее весом. – Изабелла положила бумаги на край балкона. – Вы простите меня, генерал. Я вспылила и наорала на вас зря. Это просто нервы и тяжелый день. Несколько дней. Много-много тяжелых дней. Я понимаю, что происходит в стране, генерал… Но что я могу сделать? Лишить их, – она махнула на город, где уже зажглись вечерние огни, – свободы?
– Это анархия. Ради свободы мы должны остановить анархию, сеньора!
Изабелла закрыла лицо руками. Сжала виски тонкими пальцами.
– Я изучу ваши бумаги, генерал. Я обещаю…
22
– На ночь глядя я бы туда не отправлялся, – сказал фон Лоос, поправляя ворот белоснежной рубашки. – Но вам, Генрих, будет интересно. Тем более у вас, видимо, нервы крепче моих. Сказывается опыт.
Генрих неопределенно хмыкнул, глядя, как Зеботтендорф о чем-то договаривается по телефону.
– Я, в общем-то, составляю вам компанию, – продолжал Лоос и залпом допил коньяк.
– За компанию и жид удавился… – пробормотал Генрих.
– Как?! – обрадовался Лоос. – Как вы сказали?
– Это такая пословица. Русская.
– Удивительно! Определенно, есть что-то общее…
– В чем? – Генрих посмотрел вслед нетвердо шагающему Лоосу.
Тот подошел к столику, налил себе еще коньяка, лихо крутанулся на каблуках и едва не упал.
– В нашем с ними мировоззрении…
– С русскими?
– Да!
– Вам кажется. Просто слово «жид» сбило вас с толку. Кстати, не боитесь напиться?
Лоос отмахнулся.
– Боюсь не напиться! Вы все сами поймете, когда сходите на экскурсию с нашим доктором.
– Все так плохо?
Фон Лоос хмыкнул и вдруг спросил:
– А откуда вы знаете русские пословицы?
– Пришлось выучить. Для общего образования.
Лоос погрозил Генриху пальцем и засмеялся. Хотел что-то сказать, но тут Зеботтендорф грохнул телефонной трубкой по аппарату и в раздражении сказал:
– Все готово! Можем ехать!
– Что-то не так? – поинтересовался Генрих.
– Да. Германская привычка разводить бюрократию и наводить порядок везде и всюду!
– Разве это плохо?
– Это прекрасно! Но, черт побери, если я – Я! – хочу посетить лаборатории и показать результаты своих экспериментов кому-то еще, почему я должен проходить через все эти… бумажные завалы?! У вас тоже так было?
Генрих развел руками.
– Порядок во всем. Это чисто германский девиз.
Зеботтендорф раздраженно крякнул и посмотрел на Лооса.
Тот пьяно пожал плечами и сказал:
– Я тут ни при чем. Со своей стороны я сделал все. Машина нас уже ждет. А уж пропуска, бумажки – извините, Рудольф. Сами. Сами.
– Хорошо. Едем.
Генрих напрягся. Но его надеждам не суждено было сбыться. Машина стояла в гараже, а наглухо задраенные специальными шторками окна совершенно не позволяли увидеть что-либо вокруг. В конце концов, он даже не знал, находится ли в Буэнос-Айресе или же его в бессознательном состоянии отвезли к черту на кулички.
Основательно подвыпивший фон Лоос оказался болтлив. Слушая его неумолчную трескотню, Генрих считал про себя секунды, прикидывая по звуку двигателя и тряске скорость автомобиля. Все-таки хоть какой-то ориентир. На случай чего…
– Вас что-то беспокоит? – вдруг спросил Зеботтендорф.
– Да, – честно ответил Генрих.
– Что же?
– Вы, Рудольф. И ваши идеи.
Доктор усмехнулся и хитро посмотрел на него.
– Но вы же понимаете. За этими идеями будущее. Будущее.
– Разве это повод, чтобы радоваться?
– Но причастность к истории разве вас не будоражит?
Фон Лоос продолжал болтать, уже не обращая внимания, что его никто не слушает. Генрих наклонился к Зеботтендорфу:
– А как по-вашему, должен ли Третий Ангел радоваться тому, что причастен к Апокалипсису? Будоражат ли его звуки собственной трубы?
Зеботтендорф откинулся на спинку кресла.
– Никогда бы не подумал, что вы мистик.
Генрих промолчал, складывая секунду за секундой. Учитывая неточность подсчетов, получалось, что лаборатории расположены километрах в двадцати пяти от виллы, где жил фон Лоос. Машина двигалась ровно, что говорило о неплохом качестве дорог и малом количестве поворотов. Скорее всего какое-то загородное шоссе.
Лоос наверняка очень бы удивился, если бы узнал, что Генрих вспомнил еще одну русскую пословицу. На безрыбье и рак – рыба.
– Приехали, – объявил Зеботтендорф, открывая дверцу.
Машина стояла в точной копии гаража, откуда минут двадцать назад выехала.
– Вы уверены? – спросил Генрих.
– Абсолютно! Прошу сюда. – И Зеботтендорф двинулся к неприметной двери в стене. – Прошу-прошу! Будьте как дома…
– Не дай бог… – пробормотал фон Лоос и махнул водителю: – Жди тут, мы скоро.
Дверь вела в длинный коридор, бежевые стены которого освещались яркими светильниками. Пахло краской и еще чем-то. Сладковатым. Очень неподходящий запах для такого места.
Ладан.
«Чертей отгоняют?» – подумал Генрих и усмехнулся.
Шли долго. Коридор плавно спускался вниз, чуть заворачиваясь спиралью. Несколько раз проходили через посты, где хмурые и молчаливые люди осматривали их бумаги и открывали решетку, перегораживавшую коридор.
– У вас все серьезно, – прокомментировал Генрих.
– А вы еще не поняли? – В голосе Зеботтендорфа читалось удовлетворение.
– И все это под боком у аргентинского правительства… Как они терпят?
Зеботтендорф ухмыльнулся и покосился на Генриха с некоторым злорадством.
– В вас нет размаха!
Они подошли к последней двери. Простая фанерная дверь, крашенная белым…
– Это самая большая тайна всего двадцатого века! – торжественно сказал Рудольф. – И вы к ней причастны, господа!
Он толкнул дверь и вошел.
Генрих посмотрел на фон Лооса, тот скорчил постную мину и кивнул.
То, что располагалось внутри, поражало воображение. После тесного коридора – огромное помещение с яркими, свешивающимися сверху большими лампами. Под скрывающимся в темноте потолком, увидеть который Генриху не удалось, что-то шелестело, кажется двигалось. Большое, массивное.
Дверь, через которую они вошли, вела на небольшую решетчатую площадку, которая, как трибуна, возвышалась над колоссальным залом. Даже отсюда невозможно было разглядеть противоположные стены. Ряды клеток из крупных прутьев уходили вдаль. Проходы между ними пересекались, образуя целые улицы. На каждом перекрестке курилась дымом большая чаша с благовониями – совершенно чуждая этой помеси концлагеря и медицинской лаборатории. Вдоль стен располагались отделенные друг от друга занавесками операционные. Сверху были хорошо видны хирургические инструменты, специальные столы, какие-то шкафы со склянками внутри.
– Добро пожаловать в Храм Покоренной Души! – воскликнул Зеботтендорф.
Генрих поморщился.
– Что за патетика?
Рудольф пожал плечами:
– Пошло, конечно. Понимаю. Но это только пока…
Они спустились вниз.
– Сюда… – Зеботтендорф показывал путь. – Тут все разбито на улицы. Это как бы город, понимаете? Каждая улица указывает на тот аспект души человека, который изучается. Улица Страха, улица Любви… Понимаете? Вот тут у нас улица Подчинения. И есть еще улица Тела. Там исследуются вопросы воздействия души на тело и наоборот… Очень интересные эксперименты. А сейчас я вам представлю своих воспитанников.
Он остановился на одном из перекрестков. Генрих обратил внимание, что клетки вокруг них пусты.
– Алеф…
Генриха как током ударило. Из пустоты, из воздуха, буквально из ничего, вышел бледный человек в черных непроницаемых очках.
– Бет…
Второй…
– Гимел!
Третий.
– Далет!
Четвертый. Похожие друг на друга как братья. Бледные, будто из них выкачали всю кровь. Они появлялись из воздуха, становились вокруг, глядя перед собой безо всяких эмоций.
– Хе! Вав!..
Всего шесть. Белые халаты. Черные очки. Почему-то Генриху бросились в глаза их руки. Вытянутые, явно длиннее, чем у обычного человека, с крепкими узловатыми пальцами.
– Я назвал их буквами еврейского алфавита. Из уважения к доктору Майеру. – Зеботтендорф засмеялся.
Генрих всмотрелся в лица.
«А вот этого я, кажется, помню, – подумал он, глядя в лицо последнего. – Уже встречались».
– Очередные люди будущего?
– Нет, Генрих! Единственные люди будущего! Единственные! Это не расовая теория, нет. Это не выдумки Геббельса. Это наука! Наука сделает человека обычного человеком будущего. Только она, а не какие-то там россказни об избранном народе. К слову сказать, доктор Майер искал душу не во всех людях. Одной из целей, которую он преследовал, было найти душу в одних и обнаружить ее отсутствие в других. Вы понимаете?
– Да, звук старой погремушки узнаешь сразу. – Генрих осматривался с явным интересом. – Для чего эти клетки?
– Для материала, конечно. Пойдемте дальше, я покажу.
И они двинулись по какой-то из улиц, сопровождаемые безмолвным конвоем из людей будущего.
– Вот любопытный экземпляр. Смотрите. Я подобрал его на улицах Сантьяго. И поверьте, это не моя работа. Я только подправил кое-что… – Зеботтендорф махнул рукой в сторону ближайшей клетки.
Генрих поначалу ничего не увидел, но потом в дальнем углу обнаружилась скрюченная фигурка. Обнаженный мальчик. Нет, он не был похож на узников концлагеря, никакой изможденности, худобы. Но глаза… В глазах его было нечто, заставившее душу Генриха похолодеть. И теперь в слове «душа» он увидел особый смысл.
– Обычный мальчик, – рассказывал Зеботтендорф. – Самый обычный. Ничего особенного. Вполне разумен. По-своему образован. Но есть один нюанс. Это улица Страха…
– Чего же он боится?
– Раньше боялся боли. Панически. До истерики. Но я кое-что подправил. – Он подошел к клетке и позвал: – Хорхе, подойди.
Мальчик послушался.
– Дай руку.
Генрих прищурился. Ладонь парня была розовая, молодая.
Зеботтендорф щелкнул зажигалкой и поднес огонек к ладони мальчика. Вверх потянулся дымок, запахло паленым. Мальчик безучастно смотрел на чернеющую ладошку.
– Дьявол! – воскликнул Генрих. – Что вы делаете?! Он что, не чувствует боли?
– Чувствует! – Зеботтендорф откровенно радовался произведенному эффекту. Убрал огонь, мальчик принялся рассматривать свою ладонь. – Но, обратите внимание, он не боится боли! Не боится! Это само по себе удивительное открытие, друг мой. Именно страх, страх увечий заставляет человека избегать боли. Бояться ее, потому что боль сигнализирует о возможных увечьях. Но уберите страх, и вот оно, готово! Почти идеальный солдат!
– Что же, он теперь ничего не боится? – спросил Генрих, глядя на мальчика, который внимательно разглядывал обожженную руку. Один из людей в очках дал ему мазь, видимо от ожогов, и теперь мальчик втирал ее в рану. Представив, какую боль сейчас должна испытывать его ладонь, Генрих сморщился.
– Почему же не боится? Боится. С удвоенной силой. Я не смог изъять страх из его сознания, да и согласитесь, это было бы слишком опасно. Я просто изменил его. Теперь он боится одного слова. Вот смотрите. – Зеботтендорф обернулся к клетке и громко крикнул: – Буга!
Мальчик рванулся с места. Такой реакции Генрих не видел никогда. Пациент скачком преодолел расстояние до противоположенной стены и, не сбавляя хода, врезался лбом в прутья решетки. Брызнула кровь. Тело без сознания упало на пол.
Зеботтендорф засмеялся.
– Продолжим осмотр?
23
Возвращались в молчании. Лоос был на удивление трезв, смотрел прямо перед собой и иногда закрывал глаза, словно хотел спать. Зеботтендорф остался в лаборатории. Генрих же снова считал секунды и старался угадать, с какой скоростью движется машина.
Когда дверцы открылись, фон Лоос спросил:
– Выпить не хотите?
– Еще?
– Не знаю, как вы, но с меня всякий хмель слетает, когда я вижу эти… научные опыты.
Генрих внимательно посмотрел на него.
– Я вас не понимаю… Это что? Неумелая провокация? Но я не вижу в ней смысла. Или вам действительно не по душе все эти сатанинские аттракционы? Тогда почему вы вообще здесь? Что за игра?
Лоос взял его под локоть и повел в кабинет:
– Не могу пить один. Хотя чаще всего так и приходится делать. С Рудольфом это почти невозможно. Он слишком привязан к своим… пробиркам. Не может говорить ни о чем, кроме науки и прогресса.
Они вошли в кабинет. Лоос зажег настольную лампу, запер дверь.
Генрих уселся в большое мягкое кресло. Лоос в это время чем-то гремел под столом.
– Да где же оно?
– Что вы потеряли?
– Бутылку для особых случаев, – приглушенно ответил фон Лоос.
Наконец откуда-то была извлечена черная бутыль без этикетки и два стакана.
– Отрава? – поинтересовался Генрих.
– Мне бы вашу выдержку… – Лоос зубами выдернул пробку. По кабинету тотчас разнесся крепкий запах сивухи.
– Точно отрава… – пробормотал Генрих, но стакан принял.
– Это единственное средство, которое помогает мне заснуть. – Фон Лоос отсалютовал стаканом и опрокинул спиртное залпом.
Генрих с любопытством рассматривал его реакцию, затем отставил выпивку в сторону.
– У меня еще старое не выветрилось, – вздохнул он и после паузы поинтересовался: – Скажите, Лоос, на кой черт вам все это нужно?
– Что – все?
– Ну… – Генрих махнул рукой куда-то за спину. – Вы же не какой-нибудь сумасшедший головастик вроде Зиверса. К тому же вам откровенно не по нутру…
– Если вы про опыты Зеботтендорфа, то… – Лоос откинулся в кресле и закинул ноги на черную блестящую столешницу. Это далось ему с трудом, но Генрих позавидовал про себя, такой фокус в его возрасте был невозможен. – То я действительно от них не в восторге. Я также был не в восторге от Освенцима, Майданека и Бухенвальда. Я был не в восторге от вас и вашей работы. И от фюрера… И от Геббельса. И от этой чертовой войны! А уж наши союзнички… Впрочем, это вы и сами прекрасно знаете.
– Знаю.
– И война мне не по вкусу! – Лоос махнул рукой. – Я бы предпочел сидеть где-нибудь на берегу Рейна. Пить пиво. И есть сосиски! Да! – Он почти кричал. – Сосиски! Наши германские сосиски! И чтобы мне подавала их блондинка в переднике с вот такими вот, – Лоос показал, – вот такими вот сочными грудями!
Он грохнул кулаком об стол и ненадолго замолк. Генрих терпеливо ждал.
– Но когда в тридцатом моя жена умерла от гриппа… Когда я, фронтовик, не смог найти для нее лекарств… А наши дети смотрели на меня… Вы ведь помните, Генрих, вы должны помнить эти глаза?! Глаза немецких детей, которым нечего есть? А их сосед по улице, державший мясную лавку!.. – Лоос сжал кулаки и зажмурился. Стиснул зубы. Потом тяжело вздохнул и продолжил: – После той войны не было на свете человека, который бы больше меня ненавидел стрельбу, запах пороха и крови… Не было. Но когда фюрер сказал, что нужно воевать, я первым встал и зааплодировал. Потому что он сказал, что мы должны воевать, чтобы накормить наших детей, чтобы лечить наших жен. Чтобы старики не умирали, как бродячие псы. От голода и холода, когда продажное, чужеродное правительство продает Великую Германию коммунистам. Я встал и хлопал в ладоши, как ребенок! Но душа моя, Генрих, рыдала. Потому что я не хотел воевать. Я слишком хорошо помнил, как это делается.
Генрих хотел что-то сказать, но Лоос замахал руками.
– Я знаю, знаю! Германия повержена. Фюрер сошел с ума и застрелился. Мы с вами тут. Борман… хитрая свинья, спрятался так, что…
– Его схарчили евреи.
– Мартина?
– Да. – Генрих кивнул. – Но об этом никто не знает. Тель-Авив заплатил за это такую цену… Что предпочел молчать. Бормана им выдали американцы. После известных событий…
– Не знал. – Лоос налил себе еще. – Мы с ним, знаете ли, были дружны…
– Я в курсе.
– Ну что ж… Значит, Мартин ушел… Германия разделена, война принесла нации горе, лишения, все тот же голод и русские бомбежки. Я знаю, все знаю. Но дело в том, Генрих, что я знаю еще кое-что.
– Что же?
– У нас не было другого выхода! Иной конец был еще страшнее и скоротечнее… Намного, намного страшнее.
– А сейчас?
Лоос молча разглядывал черную бутылку.
– Я понимаю вас тогдашнего, но сегодня… Что вами движет?
– Как там говорят американцы? Мимо каждого проскачет лошадь удачи…
– Но не каждый сможет на нее вскочить.
– Вот-вот! – Лоос отставил бутылку. Тяжело поднялся с кресла. – Я больше ничего не умею, Генрих. Мое призвание – воевать. Моя цель – завоевать мир.
– Методами Зеботтендорфа. – Генрих протянул руку и поводил под ней воображаемой зажигалкой.
– Тьфу на вас! Вечно вы все испортите… – Фон Лоос досадливо сморщился. – Думаете, видели все? Доктор еще не водил вас по ранним стадиям. И киноматериалы не показывал. Вот когда мать душит своего ребенка по приказу… и смеется – это страшно.
– Я одного не понимаю. Разве нельзя добиться этого же с помощью простого гипноза?
– Во-первых, нельзя, а во-вторых, гипноз – это каменный топор… Таблетки, химия, гипнотизеры… Вы наверняка видели людей, жрущих траву?
– Архивные киносъемки? ЛСД?
– Да. Только к ЛСД это не имеет прямого отношения, просто ранние работы над той же тематикой. И, к слову сказать, они уплыли от нас за океан. Как и секрет атомной бомбы. Теперь этими материалами будут пользоваться американцы. Если, конечно, смогут расшифровать. – Фон Лоос хохотнул. – Для рекламы какой-нибудь кока-колы и окончательного оболванивания человечества. На работах Зеботтендорфа всегда можно было хорошо подзаработать. Добавлять какую-нибудь дрянь в гамбургеры! И делать общество потребления обществом повышенного внушения! Представляете?
– Ну, на сосиски и домик на Рейне хватило бы…
– Нет-нет. Вы же сами видели. С помощью этого можно только воевать. Так честнее, чем торговать этим ! Так что отвечая на ваш вопрос – да, я хочу завоевать мир! Хотя многим после Гитлера кажется, что это безумная утопия, но… – Лоос развел руками. – Посмотрите вокруг! Посмотрите на Штаты! На русских! Что-нибудь изменилось? Я – честный солдат! Я честно говорю вам: моя цель – весь мир! Разве это плохо?
– А не боитесь, что Зеботтендорф вас просто переиграет?
Лоос засмеялся.
– Конечно! Конечно, мой дорогой Генрих! Конечно, боюсь! И очень!
– А что он там нес про какое-то пророчество?
– Точка всех начинаний? Это один из наших проектов. Видите, как я откровенен с вами, Генрих?
– Это меня даже пугает.
– Вы нужны нам, нужны.
– Для чего? Только не начинайте снова про собеседника… – Генрих взял стакан и принюхался к жидкости внутри. Запах сивухи чуть выветрился, алкоголь пах странно и незнакомо.
– Опыт, друг мой. Огромный опыт. Вы вряд ли откажетесь занять пост премьер-министра? Или… – Лоос щедро махнул рукой. – Пост первого друга диктатора?! Как угодно! Правила будем писать мы сами!
– А точнее?..
– А точнее! – Лоос со стуком поставил стакан на стол. – А точнее, вы понадобитесь мне со всем своим опытом, знаниями и умениями, когда Зеботтендорф задумает сковырнуть меня на обочину! Вот так! И поверьте, я действительно нуждаюсь в вашей помощи. Поэтому, запомните, именно поэтому вы не будете клиентом Зеботтендорфа и не станете его… подопытным кроликом. Как бы он сам этого ни желал!
«А если ты перестанешь во мне нуждаться?..» – подумал Генрих.
Он одним глотком выпил спиртное и обжег гортань.
– Я согласен.
24
Неделя выдалась сложной. Властями были арестованы несколько активных и хороших ребят. Вскоре охранка вышла на полуподпольную типографию, печатавшую листовки. Закрыть не посмела, но изъяла весь тираж и опечатала склады. Кристобаль Бруно подсуетился, и профсоюзы объявили о грядущей забастовке, если не будут отпущены мученики свободы и не будет разрешена работа типографии. В подконтрольных монтонерос газетах журналисты-леваки подняли хай, обвиняя власть во всех смертных грехах. Публиковались репортажи о зверствах, пытках и подложных обвинениях. Слабые попытки Главного прокурора оправдаться не были услышаны.
Тот факт, что обвинение не было предъявлено, а заключение предварительное, в расчет не брался. Да и кому оно интересно? Журналист отрабатывал свои деньги. Газета стремилась получить прибыль, подавая новость под наиболее пикантным углом. Монтонерос хотели вытащить своих парней из-за решетки, пока те не начали болтать лишнего с перепугу. А Министерство печати не имело сил для того, чтобы заткнуть рты тем газетам, которые проплачивались марксистами. Собственно, оно не могло заткнуть рот никакой газете, даже если бы та принялась публиковать поддельные снимки Изабеллы Перон в обнаженном виде.
«Угнетатели», с которыми активно боролись революционеры, на самом деле были просто… паразитами. Они сосуществовали с аргентинским народом, сосали кровушку, стригли купоны и не думали ни о чем, кроме прибыли и уровня жизни, понимая, что в случае чего они всегда успеют прыгнуть в теплые кресла самолетов.
Президента Перона любил народ. Многие еще помнили, как он повышал зарплаты и пенсии, выкупил у англичан железные дороги и принял новую Конституцию взамен старой, не менявшейся уже более ста лет. Его любили денежные мешки за то, что он не удавил рынок и провел индустриализацию. Его все любили. Пока держалась экономика, получившая после Второй мировой огромные вливания… Потом страна начала стремительно нищать. К власти пришла хунта, которая, окончательно развалив все, что можно было развалить, упросила Перона вернуться в страну. Где он и умер. Оставив в наследство своей второй жене государство, более всего похожее на идущий вразнос паровой котел. Различные партии тянули одеяло на себя. Аристократия старательно сосала соки. Классовая пропасть увеличивалась. Но революция… Сладкое и страшное слово… Революция не охватывала своим пламенем отсыревшие человеческие поленья. Народ устал и страдал чаще от действий самих революционеров, чем от угнетения, о котором так громко кричали марксисты.
Неделя выдалась тяжелой. Кристобаль метался от ячейки к ячейке, не доверяя никому. Сам возил деньги. Договаривался, убеждал, грозил. Надиктовывал заготовки статей. Писал письма. Бюрократический океан поглощал его с головой. Сдавливал, душил. И когда посреди очередного вала бумаг вдруг поступило сообщение о том, что военные части, расквартированные в провинции, выдвинулись к столице… Бруно обрадовался. Это было действие. Настоящее, честное действие. Борьба не бумажная, а реальная. То, чего он всегда хотел и к чему стремился.
Правда, был еще Комитет…
И до тех пор, пока Комитет не решит, ничего не произойдет.
В маленькой накуренной комнате было тесно. Люди сидели чуть ли не на головах друг у друга. Да еще старик Ловега приволок странного высокого парня, отрекомендовав его надежным человеком. Тот сидел в углу, под книжными полками, с трудом умещаясь на узком табурете, и разглядывал всех с неподдельным интересом новичка. В его сторону настороженно косились, и Кристобаль этим гордился. Люди старались не говорить прямо, называя взрыв акцией, проектом. Бомбу – объектом. Каким бы надежным ни был новенький, каким бы авторитетом ни пользовался Рауль Ловега… осторожность следовало соблюдать.
Сперва Кристобаль зачитал донесение нескольких наблюдателей, которые сообщали о передвижении войск и царящих внутри армии настроениях. Агент, человек в целом надежный, гнал удивительную пургу о «правительственной пропаганде», «офицерских зверствах», «солдатне» и пугал общей готовностью войск подавлять, угнетать и душить. Эти слова, такие пустые, такие нелепые, казенные, почему-то производили на собравшихся удивительное впечатление.
Невозмутимость сохранял только, пожалуй, Антон Ракушкин, подпиравший макушкой покосившиеся книжные полки. Остальные монтонерос вскакивали, стучали кулаками по столу, взволнованно восклицали что-то… Антон подумал даже, что находится на каком-то нелепом, специально для него разыгранном спектакле. Но нет… Искренность, вот что он видел в глазах этих людей. Неужели стандартная агитка, к тому же неумело составленная, может так зажечь этих людей?
После донесения Кристобаль выступил с собственной речью, составленной значительно более умело и тонко.
– В момент, когда страна находится на грани развала, когда действия новых аристократов довели ее до полного обнищания и только решительные меры могут спасти нас от окончательной колонизации силами империализма, наше правительство все еще цепляется за власть! Вместо того чтобы добровольно уступить ее более молодым, энергичным и, главное, знающим нужды простых аргентинцев людям. Нам! Но нет! Власть держится за кресло, за прогнившие идеи, пытается заигрывать с мировыми корпорациями. Скудеют наши недра, наши компании идут с молотка, а людей вышвыривают на улицу! Многим нечем кормить детей, а в столице праздники и фестивали проходят один за другим. Да, слава богу, мы сумели показать им, что простому люду сейчас не до праздников, не до карнавалов и гуляний. Сумели! Но ответ не заставил себя ждать. Погромы, облавы и убийства! Погибли наши товарищи. Полиция хватает на улицах всякого, показавшегося им подозрительным. Это террор! И вот теперь он будет опираться на солдатские штыки. Да! Солдаты такие же аргентинцы, как и мы! Но тем хуже их преступление! Они идут против своего народа, против себя. А это уже настоящее предательство, товарищи. То, что невозможно простить!..
Слушали его внимательно.
Ракушкин наклонился к Раулю и прошептал:
– Парень жонглирует фактами, как матерый циркач.
Ловега вздрогнул, словно давно позабыл о существовании Антона за своей спиной. Отвернулся от докладчика.
– С одной стороны – да, но с другой стороны – это хорошая агитационная работа. Посмотрим, что же он предложит…
– По-моему, и так ясно… – Антон увидел, как сощурился Рауль. – Все, все. Не вмешиваюсь, как и договорились.
Кристо продолжал:
– Мы давно ведем агитационную работу в армии. Наши люди глубоко проникли в ряды солдат и даже офицеров. Есть свои ячейки и на Юге, и в северных провинциях, где расположены казармы. С сожалением я должен констатировать слабую вовлеченность солдат в революционную борьбу. Виновата ли в этом недостаточная активность наших агентов? Не знаю. В любом случае ясно, что опираться на армию сейчас может только правительство! А значит, солдат – наш враг. И враг движется к Буэнос-Айресу! Что же нам делать?!
И то ли померещилось Антону от духоты… То ли просто не рассмотрел он этого человека раньше… Но в противоположном углу, сразу же за спиной Кристобаля Бруно, встал вдруг кто-то. Высокий. Бледный. В очках.
Антон хотел было рассмотреть этого человека повнимательней. Наклонился вперед. Увидел, как бледная рука с неестественно длинными пальцами поднимается вверх, трогает черные очки… Вот-вот снимет!
Книжная полка неожиданно просела. Ракушкин дернулся, подхватил падающие книги. А кто-то в комнате уже вскочил и закричал:
– Да взорвать их к чертовой матери!
– Да! Да! – закричали со всех сторон. – Бомбу им!
Все повскакивали, принялись голосить. Вытащили на стол карту и, пока Антон расставлял книги по местам, принялись что-то чертить, стучать по столу, зазвучали какие-то незнакомые названия…
Когда Ракушкин наконец оторвался от разваливавшейся полки, никого, подходящего под описание, в комнате не было, а дверь оставалась закрытой на засов.
Антон осторожно нагнулся к сидящему неподвижно Ловеге.
– Рауль… – Он дотронулся до плеча. – Рауль…
Ракушкин заглянул в лицо старика и обмер. Глаза Ловеги закатились, лицо посинело, на губах выступила пена.
– Раулю плохо! – крикнул Антон. – Врача!
25
Солдат аргентинской армии – это парень, одетый в зеленое. На голове его американская каска, в руках бельгийская винтовка «FN-FAL» образца 1949 года. Старенькая, но не такая уж глупая машинка. На поясе висят фляга и нож. В нагрудном кармашке – фотография черноволосой Изабеллы или Марии, от улыбки которой замирает сердце. Под гимнастеркой крест на цепочке.
Солдат аргентинской армии – это парень, который хочет поваляться в постели и помечтать о чем-нибудь приятном. Лучше о женщинах. Он ленив, так же как и другие солдаты. Не любит начальство, но уважает своего сержанта. Хоть тот и орет, брызгая слюной, но все равно он такой же, свой. Просто забот у него больше.
Солдат аргентинской армии не читает газет и тихо дремлет с открытыми глазами, когда офицер специального отдела зачитывает всем очередной агитационный листок. Солдат аргентинской армии – этот Педро или Хуан – хороший парень и не желает воевать. Он не хочет обижать старушек на рынках, участвовать в облавах, тащить людей в застенки, дубасить прикладом манифестантов, патрулировать мертвые улицы в комендантский час.
Еще он очень не хочет стрелять в аргентинцев. В таких же, только почему-то других.
Но солдата аргентинской армии никто и никогда не спрашивал, чего он хочет, а чего нет.
Как и всех других.
По пыльной дороге, которая ведет из Пуэрто-Мадрин в Кордову, через Буэнос-Айрес двигалась колонна. Десять грузовиков с солдатами, два американских бронетранспортера «М113» впереди и один сзади. Перед бэтээрами шел открытый джип с офицерами и стрелком-пулеметчиком, который мирно дремал на заднем сиденье.
Утро выдалось жарким. Солнце, несмотря на ранний час, уже вовсю палило, накаляя брезентовый тент и превращая внутренности грузовика в подобие духовки. Многие солдаты сняли каски, положив их между ног, тяжело дышали. Сержанты порыкивали в том смысле, что каску надо держать на голове, а не под задницей, но не настаивали, потому что у некоторых что голова, что задница…
Залатанная форма, старые винтовки и отчаянно гремящий двигатель у замыкающего БТР, механик которого сильно удивлялся, что эта таратайка вообще завелась.
«Правительство не имеет денег на вас!» – гаркнул на построении офицер. Хотел что-то добавить, но махнул рукой. Злой, как черт.
К чему он это? Зачем колонна движется к Буэнос-Айресу? Да туда ли они едут?
Вряд ли кто-то знал ответ на этот вопрос, а спросить… Ну кто же станет задавать офицеру вопросы? Впрочем, очень скоро отвечать на них стало некому.
Под городком Трес-Аройос офицер покинул часть, как и полагается настоящему солдату. Его разорвало в клочки!
Взрывом джип подбросило в воздух и отшвырнуло в сторону, на обочину, где детонировали баки с горючим. Шедший следом БТР вильнул в сторону, нырнул в глубокий кювет и там остановился. Механик-водитель был тяжело контужен.
Грузовики встали как вкопанные. Кто-то упал в проход, кто-то выбил себе зубы о ствол винтовки.
И тут ударил второй взрыв. В середине колонны. Между двух стоящих близко машин.
Осколки, камни и пламя ворвались под раскаленный тент, убивая и калеча. Другой грузовик отбросило в сторону, разворотив кабину и оторвав голову водителю.
Очевидцы утверждают, что сержант Армано Рамирес первым закричал в оглушительной тишине, наступившей после взрыва:
– Из машины!!! Занять оборону! Бегом, свиньи! Бегом!
Он выкидывал обалдевших солдат наружу, когда с горы ударил пулемет.
Стрелок не целился. Он поливал огнем грузовики, стараясь изрешетить пассажирскую часть или, если повезет, зацепить баки.
Выскочить сержант не успел. Пуля воспламенила бензин. Вместе с сержантом погибла большая часть его отделения, но бойцы, которых он успел вышвырнуть, навсегда запомнили его пылающую фигуру, катающуюся по асфальту.
Потом, немного позже, они вспомнят этого человека, настоящего солдата, спасшего им жизни, и первыми выстрелят в толпу забастовщиков, громящих улицу. Бойцам почему-то покажется, что именно эти люди стреляли тогда с горы. Один из них так и напишет в мемуарах. Но это потом. Совсем потом.
Сейчас они прыгнули в канаву, спасаясь от разливающегося и горящего топлива, пуль сверху, грохота и кошмара, выставили винтовки, все еще не решаясь открыть огонь.
Из грузовиков посыпались солдаты. Покатилась куда-то сорванная каска. С горы заговорил второй пулемет.
Кто-то гаркнул:
– Огонь!
И оглушительно загрохотало.
Это шедший в хвосте БТР наконец сориентировался и открыл шквальный огонь по возвышенности, ни черта не видя и не разбирая. Почему молчало орудие второго броневика, что шел впереди, никто не знал. Тот просто заглох, а пулемет заклинило.
Следом за техникой и солдаты принялись беспорядочно палить через дорогу.
Когда, наконец, сержанты навели порядок и принялись брать пулеметные гнезда в кольцо, с горы уже не стреляли. На огневых точках обнаружились только кучи стреляных гильз и два пулемета «М-60».
26
В больнице царила тишина. Палата, куда поместили Рауля, оказалась в самом дальнем конце здания. Тут располагались сердечники, которым был предписан покой. Окна выходили во внутренний дворик, где между сочной зеленью травы пролегали желтые песчаные дорожки.
Тихо шуршал в трубках кислород, да попискивала какая-то медицинская техника.
Ловега лежал в кровати, опутанный проводками и трубочками. Закрытые глаза и прилепившиеся к груди присоски. Все это напоминало дурной фантастический фильм с гигантскими слизнями и нелепыми инопланетянами, захватившими землян.
Антон осторожно курил у открытого окна, нарушая правила больницы, которые во всех странах одинаковы. Вообще ему следовало уже давно покинуть палату, но медсестра сейчас пила кофе со своей коллегой с другого этажа. Тем более что подарочная коробка шоколада этому способствовала.
Когда Рауль открыл глаза, Антон выкинул недокуренную сигарету в окно.
– Ну, – прохрипел Рауль. – Что там?..
– Вам стало плохо, сеньор Ловега. – Ракушкин подсел к кровати. – Мы вызвали «Скорую». Успели вовремя.
– То, что успели, я понимаю. Иначе… – Ловега с трудом перевел дыхание. – Иначе и не спрашивал бы. Что на собрании?
– Последнее, что я слышал, это… акция.
– Последнее? А решение принято?
– Решения я не видел. Но по газетам могу судить, что противники акции были в меньшинстве. Если таковые вообще нашлись.
– Ловко… – Ловега чуть приподнялся, Антон помог ему. Взбил подушки. – Ловко они меня удалили…
– Они? Сердечный приступ…
– Подмешали какую-то дрянь. – Старик слабо махнул рукой. – Я пил у них воду.
– Я тоже пил…
– Молодой организм, – Рауль прикрыл глаза. – Молодой организм…
Антон почесал нос. Версия об отравлении вызывала сомнения.
– А что они сделали? – поинтересовался Ловега.
Ракушкин достал сегодняшнюю газету. Развернул. Показал фотографии развороченных машин и тел, накрытых простынями.
– Погибшие есть?
– Естественно.
– Среди наших…
– Не сообщается, – после паузы ответил Антон. – Скорее всего нет.
– Хорошо. Но глупо.
– Скажите, Рауль, вы всех знаете, кто там был?
– Да.
– Человек в черных очках… Кто он?
Ловега нахмурился.
– Кто?
– Бледный. Черные очки…
– Может быть, Курт, – неуверенно произнес Рауль. – Наш немецкий товарищ… Он сидел к нам спиной. Послушайте, Антон, сейчас это не имеет значения. Мне нужно, чтобы вы продолжали наше с вами дело. Я чувствую, что корни всего именно в Комитете. Продолжайте работать с ними, поговорите со всеми! Думайте! Это не просто убийство, это борьба за власть, понимаете? Я чувствую, что все сложнее.
– С кого мне начать?
– На почте. Что на Конституции, 5. В ячейке номер сто два. Код: 15-65-8. Лежат списки. Пройдитесь по ним.
Ловега откинулся на подушку и закрыл глаза.
– Рауль… – позвал Антон. – Рауль…
Тот молчал. Ракушкин прислушался. Посмотрел на медицинские мониторы. Но старик просто спал.
27
Почтовая контора на проспекте Конституции представляла собой невзрачное кирпичное здание, выстроенное в те времена, когда изящный стиль в архитектуре уже перестал играть главенствующую роль. Облупившаяся штукатурка, подновленная на скорую руку, полинялая краска стен и небесно-голубого цвета дверь с тугими скрипучими петлями. Государственная контора в стране, правительству которой ни до чего нет дела.
Антон потянул дверь на себя, поражаясь силе, которой должны были обладать посетители этого почтамта. Проскользнул внутрь. Створки оглушительно гавкнули за спиной, норовя тяпнуть за задницу. Скучающий клерк за конторкой по-попугайски склонил голову набок, разглядывая нового посетителя. Ракушкин коротко кивнул ему на всякий случай и двинулся вдоль стеллажей с персональными почтовыми ящиками.
Сто второй номер обнаружился почти сразу. Некстати вспомнилось, как в такой же ячейке лежала простенькая бомба. И человеку, который открыл дверцу, оторвало голову.
На всякий случай Антон сместился чуть в сторону и левой рукой набрал код. Глупость, конечно… Но случай, как известно, бывает разный.
Бомбы в ящике не оказалось. Только тонкая школьная тетрадка в крупную клетку с исписанной первой страницей. Антон проглядел листы. Аккуратно вырвал исписанный, сложил его вчетверо, сунул во внутренний карман пиджака. Тетрадку положил обратно. Вежливо попрощался с клерком и вышел на улицу, снова обгавканный дверью.
Он прошел пару-тройку кварталов, когда обнаружил за собой «хвост».
За Антоном шли двое. По виду местные, один толстый и нервный, постоянно дергающийся субъект, второй высокий и худой, больше всего смахивающий на усатую селедку.
На всякий случай Ракушкин попетлял по улицам. Сделал бессмысленный кружок.
Ребята не отставали. И только все больше нервничал толстый. Аж подпрыгивать начал на ходу.
«Ладно, – решил Ракушкин. – Посмотрим, подождем».
Он все той же лениво-туристической походкой завернул в ближайшее кафе. Устроился за удобным столиком, расположенным у окна, и положил перед собой листочек. Выросший как из-под земли официант принял заказ и принес через пару минут две горячие булочки и целый кофейник с маленькой чашечкой. Антон собирался посидеть подольше.
На листке было написано десять фамилий с адресами. Видимо, список людей, входящих в Комитет – совет нескольких полупартизанских организаций, на которые делилось разрозненное подполье Аргентины.
«Вот я знаю людей, но я не имею понятия, что с ними делать. – Антон выпил кофе. – Пройдитесь по ним, сказал он…»
В кафе с независимым видом вошел тощий. Проскользнул Антону за спину и устроился за дальним столиком. Ракушкин невозмутимо подвинул стул и теперь видел столик тощего краем глаза. Удачно сел.
В окно он видел, как через дорогу мается толстяк. Нервно курит. Меряет шагами тротуар и даже посматривает на часы.
«Эдак и до инсульта недолго, – посочувствовал ему Антон. – А я долго собираюсь сидеть».
Тощий заказал себе пива и, вытянувшись в струнку, сидел над бокалом, изредка моча в нем усы.
«Ну, хорошо, – вздохнул Ракушкин. Налил еще одну чашечку и уселся поудобнее. – Поехали дальше».
Первым в списке стоял некий Курт Вольке. Тот самый «немецкий товарищ», о котором говорил Рауль, когда Антон спросил его о странном парне в очках. Сейчас, впрочем, сам Ракушкин уже не был уверен, что действительно видел очкарика.
Каким образом господин Вольке оказался втянутым в революционную борьбу аргентинского народа? Да еще вошел в состав Комитета? Хотя, конечно, с конспирацией монтонерос не морочились, но и организацией открытого типа вроде профсоюзов не были.
«Не люблю немцев, – подумал Антон. – Я из-за них-то и на европейское направление не пошел в Школе… Нет в них чувства. – Он припомнил просмотренные некогда записи выступлений Гитлера и уточнил: – В основном нет чувства. А если проявляется, то хоть сам на кладбище ползи…»
Ракушкин покосился на тощего. Тот вылакал половину бокала, но все еще держался. Толстяку было хуже. Он скурил, наверное, всю пачку и уже принялся обгладывать ногти.
Антон налил себе еще чашечку. Замечательный кофейник с толстыми стенками из глины прекрасно держал тепло. Кофе оставался горячим и вкусным.
Ракушкин вернулся к списку.
Сразу за Вольке значилась Леонора. Затем еще пяток незнакомых фамилий. И, наконец, Кристобаль Бруно. Над этой фамилией Антон задумался. Чрезмерно горячий латиноамериканец, явный экстремист, глава самой большой группировки марксистов. Некоторая истеричность, черта, полезная для публичных выступлений, показное отсутствие личной жизни, все ради борьбы… На первый взгляд хороший революционер, если бы не одна особенность, которая проглядывала в Кристобале. Жажда власти! Человека с такой записью в личном деле ни одна организация в лидеры бы не пропустила. Себе дороже выйдет.
Мысленно Антон передвинул Кристобаля в самый конец списка. Этого человека надо было отрабатывать в самую последнюю очередь. Имея на руках всю информацию. Все карты.
Тощий наконец не выдержал. Он одним глотком допил пиво. Грохнул стаканом о стол и вышел. Антон улыбнулся.
На улице тощий перешел дорогу, громко обматерив автомобиль, едва его не задавивший. Потом они долго о чем-то разговаривали с толстяком и размахивали руками. В конце концов толстяк остался, а тощий убежал бодрой рысью.
Антон вздохнул, поднялся и направился в туалет.
28
Вернувшись, он обнаружил, что толстяк уже беседует с кем-то в синей куртке. Антон оценил ширину плеч нового персонажа. Снова вздохнул и принялся разминать под столом пальцы. Через некоторое время вернулся тощий, и толстяк успокоился.
«Определились», – понял Антон.
Он допил кофе, ставший отчего-то совершенно невкусным, отставил кофейник и вышел на улицу.
Промелькнула мысль позвонить в посольство Яковлеву или выдернуть своих ребят. Антон даже на мгновение замедлил шаг, подумывая, не вернуться ли… Но только махнул рукой.
Вечерело.
Красивый город медленно погружался в темноту, делаясь от этого еще более великолепным. Бесчисленные фонари, огни и цветные витрины украшали его, как драгоценные камни и золото красивую женщину.
В сумерках с моря подул свежий ветер. Дышать стало легко. Хотелось вбирать эту удивительную смесь воздуха и соли полной грудью. Впитывать каждой клеточкой тела.
Антон направился вниз по улице, к морю. Никакой особенной цели у него не было. Он старательно выбирал дорогу, чтобы не потерять свой «хвост». Иногда притормаживал, осторожно рассматривая пасущую его парочку. Где-то впереди порой маячила уже знакомая синяя куртка. Ракушкин старался не терять парня из вида, чтобы лишний раз не нервировать. Чайники – народ ненадежный, могут запаниковать, и черт его знает, чем тогда все закончится. Тем более у ребят явно есть план, а нарушать планы все-таки нехорошо.
Антон вышел на набережную, в этот час уже полную туристов, парочек и просто странных личностей, возжелавших прогуляться вечерком. Вездесущие торговцы всякого рода безделушками сновали туда-сюда с переносными лотками. Антон остановил одного и купил за какие-то гроши красивую шариковую ручку из коралла, удобно уместившуюся в нагрудном кармашке.
«А ведь тут брать не будут», – решил Ракушкин и с некоторым сожалением покинул набережную.
Инстинкт говорил ему, что бросать ярко освещенное место, заполненное людьми, нельзя. Но на этот вечер у Антона были другие планы, и он направился подальше от парадных проспектов и крупных улиц.
Через некоторое время синяя куртка впереди исчезла, а преследователи начали сокращать расстояние. Антон принялся разминать плечи и свернул в полутемную улочку, петлявшую между мрачными цехами какой-то мануфактуры и серыми приземистыми зданиями. Не то общежитие, не то другой производственный комплекс. Остро пахло рыбой.
Позади затопали, догоняя.
Антон ускорил шаг, для пущего драматического эффекта. Через десяток метров от стены впереди отлепились две фигуры и преградили дорогу. Толстяк и тощий сопели сзади.
– Что вам угодно, сеньоры? – громко спросил Антон, останавливаясь так, чтобы держать в поле зрения всех.
Сеньоры замялись.
«Неужели банальный гоп-стоп?» – мельком подумал Ракушкин, но тут вперед вышла знакомая синяя куртка.
– У вас на руках документ… Он нам нужен.
– У меня на руках множество документов. Заодно и мой паспорт, из которого следует, что я обладаю дипломатической неприкосновенностью.
– Нас интересует только то, что вы взяли из почтового ящика.
– Не понимаю вас.
Синяя куртка немного помолчал и махнул рукой.
Темные фигуры начали приближаться. Кто-то расставил руки пошире, словно собираясь заключить Антона в объятья. В руке толстяка Ракушкин заметил дубинку.
«Дубинка – это нехорошо. Голову надо беречь».
Антон отступал к стене, стараясь не подставиться под удар.
Как и следовало ожидать, первым в драку сунулся толстяк. Нервишки не выдержали, и он рванул с места в карьер, с несвязным воплем замахиваясь дубинкой. Для Антона это был очень недурной вариант – исключить из игры человека неуравновешенного, да еще с холодным оружием.
Ракушкин шагнул навстречу, поднырнул под руку с палкой, подхватывая противника за локоть и насаживая толстяка на колено солнечным сплетением. Жиртрест булькнул и покатился под ноги тощему, сбивая его на землю. Загремела по булыжнику упавшая дубинка.
В следующий момент подоспели еще двое и парень в синей куртке. Антону пришлось нелегко. Он отбивался, стараясь не пропустить серьезных ударов и не создать иллюзии серьезного сопротивления. У идиотов хватит ума начать стрельбу или, того хуже, сунуть ножик под ребро.
Наконец Ракушкин упал на землю. Сжался, прикрыв голову руками.
Его некоторое время сосредоточенно и неумело пинали, как это делает обыкновенная уличная шпана, когда драка уже кончилась, а пар еще не вышел. Когда, наконец, налетчики угомонились, Антона принялись вязать. Руки почему-то скрутили спереди толстой веревкой, притянули к ногам.
«Даже наручников нет», – подумал Антон, старательно имитируя беспамятство.
Коротко рыкнул двигатель, пахнуло выхлопными газами. Крепкие руки подняли Ракушкина и бросили в багажник, где он смог ослабить веревки и немного распрямиться, подсчитывая потери.
Разбита губа. Под глазом, возможно, будет синяк. Побаливают ребра, но, кажется, ни одного сломанного. Руки-ноги целы. Только костяшки сбиты. Мелочи, в общем.
Теперь осталось выяснить, куда везут. Машину подбрасывало, качало. Сильно воняло бензином.
Антон посмотрел на часы, засек время. Его даже не обыскали.
«Если потащат далеко, надо будет выбираться. Укатают на какую-нибудь кукарача-гранде, поди разберись потом…»
Но ехали недолго.
Ракушкина выгрузили во внутреннем дворе какого-то дома и быстро затащили внутрь. Здесь уже обыскали, все, что нашли в карманах, выложили на столик, после чего примотали Антона к стулу и начали шлепать по щекам.
– Сеньор… – Мужчина, что сидел перед Антоном, заглянул в его паспорт и выговорил старательно: – Ра-ку-шкин… Сеньор!
Последовал еще один шлепок по щеке. Чтобы не доводить дело до ведра воды, Антон открыл глаза.
– Я гражданин Союза Советских Социалистических Республик. Я заявляю решительный протест. Вы не имеете права задерживать меня…
– Сеньор, сеньор! – Мужчина, сидевший перед Антоном, был крепок, узколоб и носил короткие острые усики. – Мы не полиция, чтобы вешать нам лапшу! Вы просто дадите нам то, что нас интересует, и все. Мы отвезем вас на место, откуда забрали. Или куда захотите. Совсем не нужно усложнять наше общение.
– Я вас не понимаю.
– Не понимаете испанский?
– Нет. Я не понимаю, чего вы от меня хотите.
– Всего лишь то, что вы взяли на почте. И еще задавать несколько вопросов.
– Я ничего не брал на почте. И я ни о чем не буду с вами разговаривать, пока не узнаю, кто вы такие.
– А для чего же вы заходили в почтовое отделение на бульваре Конституции?
– Отправить открытку с видом Буэнос-Айреса! – отрапортовал Антон.
– И для этого лазили в персональный почтовый ящик? Послушайте, сеньор Ракушкин, не заставляйте меня поступать с вами нехорошо. Нам нужны документы, которые вы оттуда взяли.
– Вы же меня обыскали? При мне их нет.
– А где они?
– Остались на почте. Можете туда сходить и забрать.
– Ну, во-первых, вышли вы оттуда с каким-то листком. А во-вторых, нам нужен код к ящику.
– Код я вам сообщу, а листок, который был у меня в руках, не имеет ничего общего с документами из сейфа.
– Бред. Зачем открывать сейф, чтобы ничего оттуда не взять?
– Меня интересовало другое. Вот и все.
– И что же? – Остроусый наклонился чуть вперед.
– Документы другого характера. Там всего лишь… Какие-то списки. Меня интересовали фотографии.
– Какие?
– Компрометирующие. Но их там не оказалось. Если вы не имеете отношения к этим фотоматериалам, то вас это совершенно не касается.
– Фотографии, компрометирующие вас?
– Меня. Я, видите ли, работаю в посольстве. Скандал мне ни к чему. Закроют визу, и больше я никуда не попаду.
– Сочувствую, – остроусый закивал. – Только объясните мне: какое отношение вы имеете к работе монтонерос? И к Комитету?
– Не понимаю…
– Вы присутствовали на заседании Комитета. Вас привел туда Рауль Ловега. Какого дьявола человеку из советского посольства понадобилось на заседании? И учтите, сеньор Ракушкин, если вы будете делать из меня идиота, то ничем хорошим это не кончится! Кто вы такой?
– А вы?
Аргентинец встал и отвесил Антону оплеуху. Аж в голове зазвенело.
Узел веревки, которой Антон был привязан к стулу, начал поддаваться.
– Я еще раз повторяю вопрос: кто вы такой?
Антон сплюнул на пол. Покосился. Кровь.
– А вас не учили, что бить людей, связанных по рукам и ногам, нехорошо?
– Вы очень осложняете процесс, сеньор Ракушкин. – Остроусый покачал головой и отодвинул стул. – Мне бы не хотелось прибегать к другим методам, но… – Он отвернулся, надел на руку кастет. – Но вы не оставляете нам выбора.
Когда остроусый обернулся, на стуле уже никого не было.
– Что-то не так? – осведомился некто на незнакомом языке.
После этих слов в ушах Хозе Сорренто, которого Антон назвал остроусым, грохнуло, и больше он ничего не слышал.
Спеленав оглушенного парня, Антон собрал свои вещи и бегло обыскал помещение. В ящике большого стола, который занимал едва ли не половину комнаты, обнаружился револьвер, а на больших полках – какие-то бумаги, больше всего смахивающие на бухгалтерские ведомости.
Затем Антон осторожно приоткрыл дверь и выглянул наружу. Пустой коридор. Но откуда-то доносятся голоса.
Ракушкин вернулся, запер дверь, усадил контуженного в кресло и бойко отхлестал его по щекам.
– Очнулся? – поинтересовался Антон у обалдевшего Хозе. – Теперь вопросы задаю я, и, как ты понимаешь, времени у меня мало.
– Пошел ты! – улыбнулся аргентинец, и Ракушкин сразу же вбил ему улыбку обратно.
Пока остроусый плевался кровью и зубами, Антон задал вопрос:
– Кто вы такие и зачем я вам понадобился? Времени у меня мало, потому считаю до трех. После этого вот эту вот ручку, – Антон показал свежекупленный сувенир, – вгоню тебе в ногу! Раз, два, три!
Ракушкин споро вогнал кусок коралла в ляжку Хозе и так же стремительно всунул ему в раззявленный рот свернутые трубкой бумаги. Подождал, пока аргентинец проорется, и вытащил кляп.
– Повторяю вопрос!
– Нас попросили! Попросили!!! – заголосил остроусый.
– Уже лучше. Кто попросил?
– Я не знаю!
– Плохой ответ! – Ракушкин взялся за ручку и посмотрел пленному в глаза. – Уверен?
– Парень! Один парень! Из монтонерос! Из этих чертовых марксистов! Один парень! Я… Я знаю, он…
– Фамилия?
– Жевель!
– Француз? – Антон по-прежнему не убирал руку от воткнутой в ногу аргентинца ручки.
– Сам черт не разберет! Не знаю! Только его звать Жевель!
– А вы кто такие?
– У нас небольшой бизнес! Мы… Мы делаем алкоголь! И все! Ничего особенного! Просто бизнес!
– И что, бутлегеры связаны с монтонерос? Ты мне морочишь голову!
– Нет-нет! Я… Это просто один должок! Ничего больше. Я и мои ребята… Просто деловые отношения… Деньги… Деньги не пахнут!
– Я ни черта не понимаю в твоем лепете… И это меня сильно тревожит.
Через пару минут Антон уже знал схему финансовых отношений между местной мафией и марксистами. Что нисколько его не удивило. Революция – это процесс, который требует денег. А деньги, нравится это разного рода идеалистам или нет, не пахнут.
Собственно, самого Ракушкина заказала одна из марксистских группировок, заинтересовавшаяся, каким образом непонятный русский связан с одним из старейшин революционного движения. Ситуация сложилась удачно. Старейшина, Рауль, слег в больницу, и кто-то из его коллег решил, что это очень удобный момент, чтобы пощупать русского. Сами не решились, а подставили местную шпану.
Оставив связанного и плачущего Хозе в кабинете, Антон покинул гостеприимного хозяина через окно.
29
Когда-то давно. Задолго до своей гибели. И даже задолго до победы кубинской революции. И даже задолго до залива Свиней. Когда все еще только начиналось и Фидель еще не стал тем, кем он стал. Че сказал:
– Высшее искусство революционера состоит в том, чтобы вовремя остановиться. Вовремя понять, что своими действиями он уже не помогает стране и народу. Но вредит. Народ не может нести бремя революции вечно. Закладывая основу для будущих рывков вперед, мы должны уметь останавливаться, давать нашим людям время и возможность нарастить на кости мясо, чтобы последующие прорывы были еще более качественными, нежели нынешний.
Высшее искусство революционера в том, чтобы опознать момент, когда надо сказать себе – стоп! Надо строить. Надо кормить. Надо лечить. Надо учить.
И это самое трудное в революции.
Че говорил это для всех. И слышали его многие. Услышал – только Фидель.
И много позже. Позже победы. Позже залива Свиней. Он напомнил знаменитому команданте эти слова. Которые стали залогом гибели Эрнесто Че Гевары.
Кристобаль Бруно тоже был среди тех, кто слышал ту речь. Но его взгляды на революцию сильно разнились с теми, которые двигали Фиделем и его первым другом.
Кристо привлекала борьба. Но не с абстрактными понятиями вроде нищеты, голода, разрухи, засилья иностранного капитала, а с реальным угнетением. Он не верил в то, что перемены возможны путем долгих последовательных изменений. Долгой борьбой, огнем и кровью – да, но не болтовней в парламенте.
Для революции такие люди, как Бруно, – незаменимое орудие. До тех пор, пока не придет тот момент, о котором когда-то давным-давно сказал сам Че Гевара. Момент сказать «стоп».
И тогда эти люди становятся лишними. В том будущем, к которому они взрывами и выстрелами, кровью своей и врагов гнали народ. В высшей точке революции им нет места. Они должны уйти в зените славы. В тень.
Но где взять те цепи, которые скуют им руки? Где взять то молчание, которое наполнит их рты? Когда захочется делать, когда захочется говорить, глядя на неизбежный откат, на остановку после стремительного движения. На дела, которые покажутся мелкими после свершений!
Высшее искусство революционера на то и высшее, что им овладели далеко не все.
Кристобаль Бруно никогда не задумывался о таких вопросах. Но глубоко внутри, каким-то нутряным звериным чувством, он понимал, что найдутся силы, которые попытаются остановить его, когда придет время. И если не позаботиться о том, чтобы уничтожить эти силы, его могут лишить самого главного удовольствия в жизни – борьбы.
Такие, как он, когда-то давно покинули Кубу, чтобы нести пожар революции в другие страны. Кто-то ехидно назвал это экспортом революции. Такие, как он, полегли в лесах Боливии вместе с тем, кто их туда увел. Увел ради будущего кубинского народа.
Но Кристобаль не ушел тогда с Че.
Он ушел раньше.
Потому что была у Бруно еще одна страсть. Которую в свое время разглядели две кубинские живые легенды.
Страсть к Власти.
Эту страсть разглядели и другие люди…
Человек в черных очках, с бледной, даже прозрачной кожей сидел за столом напротив Кристобаля. Его длинные руки лежали на столе, как усталые змеи. Бруно иногда казалось, что у этого человека рука имеет множество суставов. Мерзкое чувство тошнотой подкатывало к горлу, когда тот шевелился, брал рюмку хереса и прикладывал ее к бледным тонким губам.
Человек ничего не ел. Никогда.
И еще не имел имени.
То есть имя было. Но Кристобаль не мог его вспомнить. Никак. А спрашивать…
«Кто он такой? Что я тут делаю?» – Бруно похолодел от мысли, что не может ответить на эти вопросы.
– Мы встретились с вами, чтобы обговорить детали вашей деятельности, – словно прочитав его мысли, сказал человек в очках.
– Да-да. – Кристобаль разложил на столе какие-то бумаги. – Детали… Кажется, мы говорили…
– Об ответной реакции армии.
– Да.
– Генералы обязательно нанесут ответный удар. Будут репрессии. Политическое давление.
– Да.
– И если подполье хочет сохранить себя, ни в коем случае нельзя прятаться. Нельзя давать властям повод думать, что они могут с помощью силы остановить революцию. Нельзя ослаблять напор.
– Мы уже дали указания газетам и нашим людям в парламенте… И профсоюзам…
– Хорошо. Хорошо.
Кристобаль вздрогнул. Человек в очках снова отпил из рюмки. Рука бессильной змеей упала на стол.
– Но мало. – Свет люстры на мгновение отразился в черных очках и погас, будто стекла поглотили его без остатка. – Мало. Нужна активная война. Нужны активные действия. Ведь на стороне армии ресурсы. Людские, материальные. У них больше возможностей. А значит, подполье ни на минуту не может сбавлять накал борьбы.
– Да.
– Борьба! Нужна активная борьба! Вот там, в бумагах, у вас есть хорошие заготовки для будущих акций.
– Да. – Кристобаль посмотрел на стол перед собой и обнаружил, что бумаги, которые он раскладывал перед собой, пусты.
«Глупость какая-то, зачем же я все это сюда притащил?.. И главное, где мы с ним встретились?»
– Мы встретились на кладбище. Помните? В день похорон Леоноры. И там же договорились о встрече. У меня большой опыт революционной борьбы. По всей Европе. Нас представили еще на первом заседании Комитета. Я уезжал. Но теперь вернулся. Я снова с вами. Чтобы помогать. Бороться. За власть. Именно вам должна принадлежать власть в новой Аргентине. Иначе все будет напрасно. Иначе все будет впустую. Вся борьба. Жертвы. Лишения. Иначе болтуны из Комитета превратят все в прах. Бюрократы.
– Да-да! Я помню! Конечно, я помню! – Бруно раздраженно пожал плечами.
«Странная манера повторять то, что я и так знаю…»
– Я, кстати, опасаюсь, что будут проблемы с активными действиями. Наш Марксистский актив, конечно, самая крупная и наиболее агрессивная часть подполья, но Комитет – это не только мы. Это еще и другие группы. Которые, может быть, не так уж заинтересованы в том…
– Это плохо. Плохо, что другие не заинтересованы. С этим придется что-то делать. Вы понимаете?
Постучали.
Кристобаль повернулся, собираясь крикнуть, чтобы пришли позже, но дверь распахнулась. В глаза ударил яркий свет.
– Кристо! Там к тебе пришли! – Парень, Бруно с трудом вспомнил, как его зовут, Мендес, Карл Мендес, хотел уйти, но обернулся. – А что ты тут сидишь? Один, в темноте?..
– Пишу… – Кристобаль взял со стола бумаги. Исписанные плотным, убористым почерком. Его собственным.
Что-то бухнуло, покатилось, стуча гранями по доскам пола.
Бруно вздрогнул, обернулся.
Просто рюмка с остатками хереса, которую он неуклюже толкнул, упала со стола.
30
После того как Генрих согласился сотрудничать, к числу его свобод добавилась еще и свобода перемещения. Неожиданно выяснилось, что те двери, которые обычно были закрыты, теперь не запираются вовсе. С окон пропали плотные жалюзи, а молчаливые аргентинцы с остановившимся взглядом стали попадаться все реже и реже. Но не исчезли совсем. Собственно, такое положение самого Генриха вполне устраивало. Если ты потерял из виду свой «хвост» – все плохо. Либо ты настолько далек от цели, что с тебя сняли наружку, либо тебя перевели на более высокий уровень, и теперь своих наблюдателей ты уже не видишь, а это нехорошо.
Оказавшись в числе «своих», Генрих быстро понял, что внешний фасад ленивого пьяницы фон Лооса совершенно не соответствует его начинке. Это был деятельный, активный и жесткий человек. Недаром в машине Третьего рейха он добрался до самых высот и стоял рядом с Самим. Такой действительно мог бы возглавить правительство какой-нибудь страны вроде Аргентины, вывести ее из экономического коллапса, заставить фабрики работать не на карман капиталиста, а на благо народа. Но власть над миром?.. Тут Генрих крепко сомневался.
Чтобы править миром, нужно быть безумным. Люди, склонные к порядку, пропитанные логикой, понятными, естественными решениями, никогда не станут владыками мира. Такая идея может зародиться только в голове у безумца! Более того, только такой человек, как фюрер, окончательно и безоговорочно сумасшедший, мог бы добиться успеха и действительно управлять всей Землей.
Что делают умные, честные и нормальные люди – организуют ООН, с правом вето, с Советом Безопасности. Они делают этот логичный, естественный шаг и попадают в тупик. Потому что никому и в голову не придет прислушиваться к мнению такой организации, где достаточно обладать правом вето, чтобы просто саботировать ее работу. Целый ряд конфликтов на Ближнем Востоке убедительно доказал несостоятельность ООН с ее марионеточным Совбезом. Когда Генрих читал в вечерних газетах о том, что по поводу того или иного конфликта принята резолюция Организации Объединенных Наций, он смеялся. Страны, участвовавшие в конфликте, обычно подтирались этой резолюцией и продолжали увлеченно резать друг другу глотки.
Генрих, наверное, не слишком бы удивился, узнай он, что роль ООН нисколько не изменится и через тридцать лет.
Только люди порядка могут надеяться на то, что подобная организация сможет как-то помочь им в будущем. Или позволит эффективно управлять всей огромной Землей.
Наивно. Как наивно.
Нет. Владеть миром может только сумасшедший. Просто потому, что только он не побоится!
Но фон Лоос был обыкновенным порядочным немцем. Без всяких выкрутасов. И потому Генрих хорошо понимал, что у Зеботтендорфа есть особые планы насчет мирового господства. В лучшем случае – марионеточное правительство, в худшем… В худшем доктор, который как раз был изрядно не в себе, планировал занять пост диктатора самолично. На плечах своих тонтон-макутов.
Последние особенно тревожили Генриха, который как-то спросил фон Лооса:
– А эти парни… Алеф, Бет и остальные выкормыши нашего доктора, вы их не боитесь? Ну… Вот мы с вами тут сидим, а один из них стоит где-нибудь в углу…
– Кстати, – непонятно ответил Лоос, – мы упустили этот момент.
В тот же день Генриха вывезли в тайную лабораторию Зеботтендорфа, которая внушала ему ужас. И сделали небольшую операцию на глазном яблоке, больше смахивающую на шаманское заклинание. По крайней мере, от порошка, который ему подсунули, попахивало гнилью и могилой.
– Вы некромант, Рудольф! – чихая, ругался Генрих. – Я всегда это знал. Русская пропаганда не врет!
– Вы большой специалист по русской пропаганде, как я посмотрю…
– Что мне это дает? – поинтересовался Генрих, вставая с операционного стола.
– А вы посмотрите вокруг…
Генрих огляделся. Светлые стены, шкафы с инструментами…
– Ничего особенного не вижу.
– Верно. Потому что ничего особенного тут нет. А теперь пойдемте…
Рудольф взял Генриха под руку и вывел в основное помещение лаборатории, туда, где стояли клетки.
И Генрих увидел…
Алеф, Бет, Гимел… Тени, плотные тени с черными провалами вместо глаз. Там, в переплетении серых и черных нитей, можно было увидеть, или нет, скорее угадать черты лица, рук, ног… Кто-то из них взмахнул рукой, поняв, что Генрих теперь видит их.
– Добро пожаловать в наш мир, – прошептал Рудольф. – В мир будущего.
Генрих осмотрелся.
Теперь лаборатория выглядела совершенно иначе. То есть клетки, улицы, переходы, живые люди – все осталось прежним. Но добавилось нечто… Нечто неуловимое, то, что обычно угадывается угловым зрением, какое-то движение, шевеление на той волшебной грани, когда в темной комнате зажигают освещение. Будто страхи ночи за миг до обжигающей волны света стремительно прячутся по углам. И только краешком глаза можно увидеть их неясное шевеление там, где тьма наиболее густа. Теперь Генрих мог видеть то, что раньше только угадывалось. Серые, быстрые тени. Кто-то прячется в углах, выглядывает из темноты…
– Чертовщина… – прошептал он.
– Это пройдет, – будничным тоном откомментировал Зеботтендорф. – Скоро глаз привыкнет. Только одно условие: вы должны периодически употреблять этот волшебный порошочек. Его можно найти на вилле в неограниченном количестве и в свободном доступе. Никакого привыкания, просто он позволяет вашему сознанию снять те границы, которые раньше обуславливались физической особенностью вашего глаза.
– Не понимаю.
– Ну, представьте себе, что вы были инвалидом с детства. У вас не было… руки. А я пришил вам полнофункциональную конечность. Ваше сознание знает, как ею пользоваться, но границы, которые установлены вашей увечностью, не позволяют вам в полной мере овладеть новой рукой. Поэтому вы принимаете лекарство, которое расширяет границы вашего сознания, позволяя ему расширить и возможности тела. Через некоторое время надобность в порошке пройдет. И вы начнете видеть… как я. Как фон Лоос. Как все люди будущего.
– А если этот порошок примет человек… не прооперированный вами?
– Сочтет все увиденное галлюцинацией, – с улыбкой развел руками Рудольф. – Только галлюцинации. Очень непродолжительные.
Но Генрих уже не слышал его. Он увидел, что сидит в клетках.
Ночь прошла без сна. А под утро к нему завалился фон Лоос, понимающе кивнул и звякнул стаканами.
– Моя печень уже слишком стара для этого, – ответил Генрих.
– Ерунда, – махнул рукой тот, – скоро вы будете молоды. Как я. Тем более что сегодня мы с вами посетим одно интересное место.
– Очередной концлагерь?
– Нет-нет. Кое-какая частная собственность в джунглях.
– Вы что, занялись постройкой бунгало?
Фон Лоос засмеялся.
– Туда можно добраться только самолетом. Как вы переносите полеты?
– Отвратительно.
– Тогда выпейте еще.
31
Маленький двухмоторный самолет вылетел с частного аэродрома в пригороде Буэнос-Айреса. Генрих заметил, что, кроме их самолетика, на полосе стояли еще несколько машин покрупнее.
– Все ваше? – поинтересовался он у фон Лооса, показывая в иллюминатор.
– Не все, – уклончиво ответил тот. – Но кое-что…
– А доктор?..
– Организует теплую встречу. Он вылетел еще вчера. Вы пристегнитесь, Генрих, сейчас начнутся воздушные ямы. Исключительно мерзкий процесс… Все время боюсь, что меня вырвет. Мерзость ситуации в том, что туда, куда мы летим, невозможно добраться как-либо иначе.
– Совсем?
– Нет, ну пешком, на каких-нибудь мулах… Но это дни пути. А время, как вы знаете, деньги. Просто более тяжелая и более устойчивая машина там не приземлится.
Тут самолет ухнул вниз, как показалось самому Генриху, чуть ли не на сотню метров.
– Ого!
– Вот! То, что я говорил! – Фон Лоос вынул откуда-то из-за сиденья бумажный пакет и насторожился. – Нет, кажется, не сейчас… – Он вытер обильную испарину. – Это еще маленькая, ближе к цели начнет так трясти…
Тут опора снова ушла вниз, моторы надсадно взвыли. Фон Лоос уткнулся носом в пакет.
Так летели долго. Казалось, этой кошмарной карусели не будет конца. Но вдруг гудение двигателей изменило тон, нос самолета начал заваливаться куда-то вниз. Тучи исчезли, а за толстыми стеклами иллюминаторов побежало зеленое море джунглей.
– Мы падаем? – озабоченно поинтересовался Генрих.
– Хуже… – простонал фон Лоос. – Мы садимся…
Генрих уперся ногами в пол и ухватился за подлокотники. Казалось, что пилот собирается посадить двухмоторную лоханку прямо на деревья, настолько узкой была взлетно-посадочная полоса. Но в какой-то момент деревья вдруг расступились и встали стеной вокруг, понеслись назад сплошной зеленой полосой.
Снизу крепко ударило. Генрих клацнул зубами и чуть не прикусил язык. Самолет бешено трясся, как паралитик, громыхала какая-то штуковина в хвосте. Когда пол перестал подпрыгивать, двигатели смолкли, из кабины выбрался пилот.
– Все, сеньоры, мы приземлились. Летели, кажется, хорошо. Мягко.
Он посмотрел на бледные лица пассажиров, пожал плечами и открыл люк.
– Эй! – донесся снаружи голос Зеботтендорфа. – Мягкой посадки!
Фон Лоос застонал и принялся распутывать ремень безопасности.
Когда они оба вылезли из самолета, вокруг было удивительно солнечно, зелено и радостно. Какие-то пичуги восторженно верещали в кронах деревьев.
– Самолет все-таки разбился… – констатировал Генрих.
– С чего вы решили? – спросил Зеботтендорф, протягивая им обоим большие бокалы с апельсиновым соком.
– Местечко похоже на рай. Непонятно только, что делаете тут вы?
– Ну! – Доктор засмеялся. – Какой же рай без змея?
– Ваша правда.
Они двинулись в сторону большого зеленого ангара, что располагался в самом конце выкошенного поля, отвоеванного у джунглей. Чуть в стороне стоял еще один самолетик. Пилоты что-то радостно обсуждали, размахивая руками.
– Неужели сюда никак иначе нельзя попасть? – Генрих содрогнулся, вспомнив полет.
– Никак! – радостно ответил Зеботтендорф. – Место уникально по своей оторванности от цивилизации. Тут только в лесах живут какие-то… дикие парни, я думаю, даже не известные науке. Если захотите написать диссертацию по антропологии, то пошарьте по кустам, обязательно отыщется племя пигмеев или еще каких-нибудь троглодитов. Признание научной общественности гарантировано. Если, конечно, дикари вас не сожрут…
Перед ними распахнулись двери. Внутри это было что-то среднее между музеем, лабораторией и просто ангаром для самолетов. Повсюду стояли какие-то каменные статуи, висели фотографии, столы были заставлены колбами и реактивами. Не хватало только ребят в белых халатах.
– Вы тут работаете в одиночку? – спросил Генрих у Зеботтендорфа.
– Нет! Что вы! Тут постоянно находится группа ученых, – откликнулся тот. – Фанаты своего дела. И, самое главное, не имеют никакого понятия об истинной цели своих работ.
– Вы что, утопили их в кислоте к моему визиту?
– У вас на редкость странное чувство юмора, Генрих. Почему же в кислоте? Они все на объекте. Рабочий все-таки день. Мы с вами тоже сейчас туда направимся. – Он провел их к высоким стеллажам. – Прошу. Переодевайтесь. Тут все по размерам… Рюкзаки со всем необходимым я подготовил заранее.
– Это что – поход?
– Да! – обрадовался Зеботтендорф. – Вы ведь ходили в походы в школе?
– Случалось… – пробурчал Генрих, рассматривая объемистый американский рюкзак и тяжелые горные ботинки.
Вскоре они вышли с противоположной стороны ангара, сразу попав в джунгли.
– Мы нашли ее… – чуть задыхаясь во влажном воздухе, рассказывал Зеботтендорф. – Мы нашли ее по старым картам, обнаруженным нашей экспедицией еще в тридцать третьем. Пока их расшифровали, пока разобрались с топографией… Дело в том, что сами карты были черт знает где, этого места уже не существует. Майя жили на очень большой территории. И никто так и не разобрался в их социальной организации до сих пор. Карты находятся в одном месте, а указывают на другое, за тысячи километров. Адская работенка. Да еще джунгли сжирают все, даже камни. Эта чертова зелень способна за несколько месяцев превратить в труху любой современный… трактор! Знали бы вы, Генрих, какими потерями и средствами мы отвоевывали у леса взлетно-посадочную полосу!
Тропа, по которой они шли, была хорошо утоптана. Генриху даже показалось, что она специально обрабатывалась чем-то, чтобы не зарастала травой. После оранжа во Вьетнаме это не удивляло.
– Но надо отметить, что усилия не пропали даром. Столь не любимый вами Зиверс сумел провести огромную работу по расшифровке.
– Прямо сам и расшифровывал? – не удержался и съязвил Генрих.
– Не сам, но сумел организовать работу, а это, согласитесь, многого стоит.
– Безусловно…
– Буквально первые результаты оказались… ну… открытием! Я не побоюсь этого слова. Если бы не война…
– Так я и не понял, что же вы нашли?
– Пирамиду, конечно! Неразграбленную древнюю пирамиду. Более того, пирамиду-хранилище! Именно тут были сложены плиты с предсказаниями.
– А! – Генрих вспомнил. – Вы мне говорили…
– Именно. Сейчас все сами увидите.
Тропа резко завернула, и…
И они вышли на огромную поляну, над которой возвышалась титаническая каменная глыба. Она ушла в землю так плотно, что казалось, это гора прорастает из джунглей исполинским клыком.
– Почему ее незаметно с воздуха? – поразился Генрих.
– Сейчас – заметно. Но это джунгли… Тут все меняется ежедневно. Поднимемся…
Через десять минут они, взмокшие и задыхающиеся, оказались внутри огромной пирамиды. Вокруг сновали люди.
– Кто это? – спросил Генрих.
– Ученые, – отозвался Зеботтендорф. – А мы для них – финансисты. Так будет спокойней и им, и нам. Им хорошо, потому что они считают, что трудятся для науки, а нам удобно. Нет нужды разрабатывать проект самим, все сделают эти энтузиасты.
Они находились на верхнем этаже колоссального сооружения, в своеобразном пентхаусе, обнесенном колоннами.
– Сейчас мы спустимся внутрь. Тут множество залов, но есть один, на который вам точно стоит взглянуть. Вот там, – Зеботтендорф махнул рукой куда-то в угол, – мы нашли лестницу, скрытую лестницу внутрь.
По узкому, вырубленному в камне проходу с высоченными ступенями спускаться можно было только гуськом, крепко держась за натянутые с двух сторон веревки. Над головой болтались тусклые электрические лампы. Надсадно пыхтел снаружи генератор.
– Отличная слышимость, – прошептал Генрих, стараясь разглядеть, куда же ступает его нога.
– Очередная здешняя загадка, – отозвался откуда-то снизу Зеботтендорф. – Причем мы ее до сих пор не разгадали. Есть множество гипотез вроде специальных усиливающих лакун в стенах, но пока мы их не обнаружили. Я могу даже представить, для чего это было нужно всезнающим жрецам майя.
Они спускались ниже, проходили какие-то комнаты, залитые ярким светом, где с ними здоровались люди в белых халатах. Потом снова коридоры, снова лестницы. Снова залы. Из бесконечных комнат запомнился зал с живым водопадом внутри. Ручей изливался из скалы и уходил куда-то вниз.
– Нам еще ниже, еще… – звал Зеботтендорф.
Это не было дном. По словам доктора, до самых нижних и неисследованных ярусов они еще не добрались. Это был огромный зал, со стен которого на них смотрели рыла, страшные хари, ощетинившиеся клыками и злобой. Тут пахло кровью. До сих пор пахло кровью.
Посреди зала стоял алтарь. То, что это именно алтарь, а не стол или просто камень, было ясно сразу. По выдолбленной фигуре человека, разложенной на поверхности. От рук и ног этой фигуры вели вниз, к подножию, маленькие канальцы.
– Сюда ставили чаши. – Зеботтендорф указал на специальные ниши. – Чтобы собирать кровь.
– Чаши, конечно, не сохранились…
Доктор удивленно посмотрел на Генриха.
– Странно, что вы задали этот вопрос. Чаши как раз сохранились. Они в надежном месте. А вот тут, – он обвел плиты, окружающие алтарь, – как раз и есть самое интересное!
Он неловко встал около алтаря, Генрих успел заметить выдавленные в камне следы ступней, и принялся нараспев читать странные строки, указывая при этом на камни:
Кровью многих наполнены, Одной жизнью не утолятся. Если не хочешь быть погребенным Под тяжестью власти, Корми их. Не бойся, что перельется Кровь через край. Глотка бездонная у тех, Кто пьет из чаши.Зал, алтарь – все поплыло перед глазами Генриха. Стало трудно дышать. Сердце ахнуло куда-то вниз, в глубину. Ноги сделались ватными. Ему казалось, что по залу плывет белесый мертвый туман, стелется плотным ковром. И откуда-то снизу поднимается что-то страшное. Гигантское. Невероятное. Кишащее жизнью, как муравейник, как огромный клубок змей! Уже разлился по залу шелестящий звук трущихся друг о друга чешуек. Уже то тут, то там мелькают из тумана склизкие, мерзкие тела! И жуткие хари глядят с барельефов живыми глазами!!!
А Зеботтендорф все читал! Читал!
Капает кровь, В чашу струится. Жизни поток мечется, Тает. Волю убьет, К власти стремится, Счастлив лишь тот, Кто обладает. Ткань жизни порви, Нить перерезав, Лей водопадом красные Струи. Радугой алой мир ты Накроешь. Все под тобой будут Навечно [3].«Неужели только я… вижу все это?» – испугался Генрих.
Он закрыл глаза. Зажмурился изо всех сил! Заткнул ладонями уши! Чтобы не слышать, не видеть близкой этой смерти, более страшной даже, чем сама смерть. Но шипение, шуршание и жуткие слова прорывались через ладони!
Когда Рудольф замолчал, вместе с эхом его слов рассеялся и морок.
Генрих на негнущихся ногах подошел к алтарю. Провел ладонью по очертаниям человеческого тела. Прошелся кругом.
Подойдя к месту, где только что стоял Зеботтендорф, он почувствовал неясную тревогу.
Генрих доверял своему чутью. Прислушался. Внимательно огляделся.
И только сейчас вдруг сообразил, почему Рудольф так неловко стоял около алтаря.
Следы жреца, выдавленные в камне, были… не человеческими! Они скорее напоминали след динозавра. Вытянутые и трехпалые, с явными следами когтей. Длинных когтей.
– Вы заметили, Генрих?.. – чуть ехидно спросил Зеботтендорф.
В ответе не было нужды.
32
Общежитие на улице имени Мануэля Гарсия вообще было своеобразным пережитком пероновской диктатуры. Большие военные казармы, построенные еще в прошлом веке и тогда же заброшенные, были успешно реставрированы и отданы во владение медицинскому институту, который работал под покровительством главного национального госпиталя. Последний сильно нуждался в двух вещах – в финансировании и специалистах. Президент Перон решил, хотя бы на время, сразу две проблемы. Он выделил в бюджете специальную статью расходов на поддержание национальной медицины и закрепил за госпиталем институт, где готовились кадры и специалисты.
После того как президент окончательно запутался в реформах и был вынужден бежать из страны, национальная медицина пережила еще один подъем. Военные, пришедшие к власти, понимали, что лечить раненых солдат кому-то надо. Однако манна небесная падала с неба недолго. И медицина снова оказалась в узком финансовом загоне, а генералитет попросил президента Перона вернуться в страну. Тот вернулся, но из затяжного пике экономика уже не вышла. Хотя прежний правитель и пытался выровнять полет. После его смерти положение не особенно ухудшилось, но и лучше не стало. Дирекция госпиталя наконец сообразила, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, а чудо божье никогда не приходит к тому, кто сидит сложа руки. Про приставку «национальный», что должно было означать «финансируется из бюджета государства», все забыли. Всё, на что хватало денег из казны, это раз в неделю вести льготный прием для бедных и делать бесплатные операции в экстренных случаях. Госпиталь перешел на вольные хлеба. Тут и пригодились огромные и пустующие большую часть времени казармы, перестроенные под общежития для будущих эскулапов.
Институт начал сдавать комнаты и помещения под конторы и просто как недорогое жилье. Главным условием аренды была своевременная плата. Все остальное институт не интересовало. Кто живет, чем занимается…
По городу ходили легенды, что в дальнем крыле здания располагается подпольная кокаиновая фабрика, которой заправляют бароны из Колумбии. Дошло до того, что полиция устроила облаву, из которой не вышло ничего, кроме крупного скандала. Прежде всего потому, что все, кому следовало, знали об этой акции заранее и наблюдали за облавой снаружи полицейского кордона. Таким образом, что на самом деле творилось в трехэтажном длинном здании из красного кирпича, никто достоверно не знал. Да и не интересовался особо. Лишь бы деньги платились вовремя.
В этой общаге жил Курт Вольке. На третьем этаже, в комнатке под самой крышей и с круглым окошком, удобно выходящим на красную черепицу. По левую сторону от него жил фальшивомонетчик, чья мастерская располагалась в этом же здании, но в подвале. Справа – левак-трансвестит. А точно под комнатой Вольке жил самоубийца, очень вежливый парень с изрезанными венами и веревочной петлей вместо люстры. Довольно хреновая компания, но комната очень удобно выходила на крышу.
По складу характера Вольке был спартанцем.
Сын немецких антифашистов, расстрелянных еще в сорок первом, он воспитывался у своей бабушки в деревне под Мюнхеном. Войну совсем не помнил. А когда в послевоенные голодные годы умерла и бабка, Курт оказался в приюте. Окончил университет в Кельне, где и подсел на модную тогда в Европе коммунистическую идеологию. На студенческих демонстрациях, под обжигающе холодными струями водометов, он сдружился с экстремистами из «армии протеста» и прошел начальный курс уличного бойца с обязательными коктейлями Молотова и пылающими покрышками. Когда группировку накрыли, Вольке повезло, и он сел только за хулиганство. Но борьба затягивала. Как болото.
В Аргентину Курт прибыл уже состоявшимся борцом за счастье трудового народа. Он умел стрелять, делать оружие из подручных средств, владел навыками подрывного дела. И окончательно разочаровался в старушке Европе, где революционная лихорадка пошла на убыль. Вольке уже там ставил под сомнение террор как метод. Курт начал теперь штудировать теоретические труды революционеров с другой точки зрения. Аргентинские монтонерос привлекали его прежде всего тем, что революция тут была еще слишком молода, чтобы наделать ошибок и быть погребенной под собственными костями.
Курт довольно быстро нашел контакт со своими аргентинскими товарищами. Быстро поднялся по карьерной лестнице, хоть и весьма условной, но все же существующей. Вошел в Комитет, который являлся своего рода согласительным органом разрозненных марксистских группировок. Того, что Вольке увидел, было достаточно, чтобы понять: в Аргентине построение нового общества идет по путям уже исхоженным, более того, так и норовит наступить на старые чужие грабли.
Традиционное недоверие к иностранцам мешало Курту в полной мере влиять на решения, принимаемые Комитетом. Однако со временем он закрепил свои позиции. Его поддержала группа «стариков», которые тоже были не в восторге от радикальных перемен.
Но в последние годы… В последние годы решения Комитета вызывали, мягко говоря, оторопь. Если не ужас.
Революция, как слепой горнолыжник, катилась по склону в пропасть. При полной поддержке Комитета и самого Курта Вольке. Решения о взрывах, терроре, политических убийствах принимались единогласно. Голосовали все. И сын немецких антифашистов в том числе.
Сообразив, что дело нечисто, Курт залег на дно, не сильно прячась; впрочем, на заседания Комитета он ходить перестал. Теперь Вольке сидел у себя в комнатенке, где были только книжные полки, стол, узкая кровать и пистолет. Курт никогда не окружал себя излишними удобствами. За это он презирал партийных бонз и ненавидел буржуа. Для того, чтобы спать, есть кровать. Для того, чтобы работать, – стол и множество книг. Для того, чтобы выжить, – пистолет.
Небольшая группа единомышленников давала ему возможность работать, обеспечивая покой и безопасность.
Собственно говоря, в общежитии таких группировок было несколько – от чисто криминальных до «идейных», поэтому, когда Антон вошел в здание, за ним тут же было установлено наблюдение.
Самым простым путем было обратиться к вахтеру, что Ракушкин и сделал. Сухонький старичок, сморщенный и смуглый, внимательно выслушал вопрос, порылся для вида в большой и распухшей книге жильцов и назвал адрес, для верности указав рукой нужное направление.
Антон поблагодарил и пошел в сторону лестницы, ни секунды не сомневаясь в том, что вахтер немедленно доложит кому следует о странном визитере.
На площадке второго этажа его перехватили.
– Вы к кому? – От стены отлепились двое патлатых, в заломленных набок беретах.
– Мне нужен Курт Вольке.
– Тут такой не живет, – ответил тот, что загораживал лестницу.
– А где он живет?
– Не знаем.
Антон вздохнул.
– Но вахтер сообщил мне другие сведения.
– Дядюшка Педро выжил из ума, – засмеялся второй патлатый. – Он только думает, что он вахтер.
– Понятно. А, простите, могу я все-таки пройти туда… – Антон показал вверх.
– Нет. – Второй патлатый подошел ближе и демонстративно разгладил ворот рубахи Антона. – Нет.
– Но мне очень надо.
– Не надо. – Ладонь уперлась Антону в грудь.
Ракушкин пожал плечами. Прихватил руки парня захватом сверху и резко наклонился вперед. Патлатый вскрикнул, присел, спасаясь от жгучей боли в суставах, а пришлый уже выворачивал ему ладонь, заставляя согнуться чуть ли не до пола.
– Эй! – Тот, что стоял на лестнице, сделал ошибку. Вместо того чтобы поднять тревогу, он кинулся помогать товарищу. Но тот, как назло, споткнулся и упал ему под ноги.
Из образовавшейся свалки вынырнул Антон.
– Ребята, не дурите, – сказал он строго. – Я по делу…
И легко побежал по лестнице.
Следуя указаниям вахтера, Антон прошел по длинному коридору до самого конца, поднялся на третий этаж, снова прошел длинный коридор, теперь уже в обратном направлении, и спустился вниз, снова на второй.
Опять темный коридор.
Теперь ему навстречу кто-то шел. Звук шагов, приглушенный ковровой дорожкой, был едва слышен. В светлом проеме виднелся размытый силуэт.
Антон сбавил шаг, прищурился. Ему показалось, что в коридоре висит туман. Накурено? Но запаха не ощущалось.
Человек приближался, и Ракушкин ощутил неясную угрозу. Словно бы от неизвестной и крупной собаки, которую встречаешь на ночной улице, не ведая ее намерений.
Антон остановился.
Темная фигура становилась все ближе, ближе. Антон разглядел плащ и внезапно почувствовал запах дыма.
«Горит что-то? – растерянно подумал Ракушкин и окинул взглядом коридор. – Нет?..»
Его обдало волной воздуха. Антон невольно вздрогнул…
Шаги послышались уже за спиной.
Ракушкин резко обернулся. Фигура человека удалялась.
– Вот тебе раз… – сказал Антон. – Чертовщина…
На какой-то момент захотелось все бросить к такой-то матери и вернуться. Или отложить немца в сторону и заняться кем-нибудь другим. Или навестить Рауля в больнице. Однако Ракушкин представил, с каким лицом он пройдет мимо тех двух патлатых… Сделал шаг вперед. Другой. Третий. И отступило!
В коридоре действительно пахло. И Антон через несколько шагов понял чем. Он ускорил шаг, взбежал по последней лестнице вверх – и первым, на что он наткнулся, было тело мужчины, переодетого в женскую одежду, лежащее поперек прохода.
Игривый кружевной передник и ажурные чулочки, натянутые на волосатые ноги, были залиты кровью.
Антон замер, осмотрелся. Две пули в грудь. Умер сразу. Далее по коридору три двери. Все три распахнуты настежь. Из дальней высовывались неподвижные ноги в домашних тапочках. Антон осторожно переступил через труп и заглянул в ближнюю. Небольшая комнатушка, заваленная различным бельем, корсетами, чулками. В центре комнаты манекен с надетым на него кожаным плащом.
В двух других комнатах тоже мертвецы. Один застрелен прямо за письменным столом. Пуля в затылок. Кровь обильно разлилась по столу и бумагам. Второй, тот, чьи ноги в тапочках Антон увидел еще от лестницы, убит двумя пулями. Одна в лицо, почти в упор, вторая в грудь.
Во всех трех комнатах все на месте. Никаких следов обыска или грабежа.
Антон осторожно осмотрел двери. Никаких следов взлома. На средней номер: пятьсот одиннадцать. Вольке.
Ракушкин подошел к убитому. Светлые волосы пропитались кровью, голубые остекленевшие глаза с безразличием смотрели куда-то вдаль, за окно…
Антон вытащил из кармана платок, обернул им руку и осторожно открыл ящик стола. Пусто. Еще один. Какие-то бумаги. Почерк мелкий, убористый. Не разбираясь, Ракушкин взял толстую пачку, засунул ее за пазуху. Затем пробежался взглядом по книжным полкам. Ничего. Осторожно, чтобы не испачкаться в крови, обшарил карманы убитого. Тоже пусто. Ни записной книжки, никаких зацепок.
– И хватит… – прошептал Антон. – Хватит…
Звук собственного голоса заставил его вздрогнуть. Он отступил в коридор, что-то стукнулось о ботинок…
Ракушкин опустил глаза вниз и обнаружил – пистолет!
Антон мог поклясться: оружия на полу не было, когда он заходил, но ничьих шагов он не слышал.
Ракушкин присел около пистолета. Наклонился. Понюхал воздух. Нет никаких сомнений, из этого ствола только что стреляли. Совсем недавно.
Антон поднялся. Надо было уходить. И вдруг…
Вдруг он почувствовал неистребимое, жгучее желание поднять пистолет. Взять в руки. Сжать. Рассмотреть со всех сторон.
Участилось дыхание. На лбу выступили капли пота.
Он снова присел. Протянул руку. Черная ребристая рукоять будто манила к себе.
«Пальчики!» – рявкнул кто-то невидимый.
Антон вздрогнул, упал на спину. Все тело колотила нервная дрожь.
– Не по уставу пальчики оставлять… – прошептал он и вскочил на ноги. Уже не разбирая дороги, кинулся со всех ног вниз по лестнице.
Пролетел нужный поворот. Выскочил уже в подвале. И словно безумный рванул куда-то в темноту, мимо закрытых дверей, мимо каких-то парочек, мимо черт знает чего. Споткнулся, упал. Снова вскочил, побежал. Теперь уже более осознанно. В какой-то момент он остановился. В темноте слышались ритмичные влажные удары, кто-то всхлипывал.
– Как найти лестницу? – громко спросил Антон.
– Прямо и направо, – ответил между всхлипами женский голос.
Тихо выругался мужчина.
– Спасибо, – ответил Антон и пошел, куда направили.
Вскоре он оказался на улице, стыдясь своей паники.
Хотя именно эта паника и спасла его от распростертых объятий местной полиции, которую вызвал встревоженный выстрелами самоубийца, сосед покойного Курта Вольке.
33
Через час Антон сидел в том же кафе, где несколько дней назад его пасли неудачливые бандиты. На столике стояла тарелка спагетти с матамбре, рядом полная запотевшая кружка пива. Ракушкин никак не мог заставить себя проглотить хоть кусочек, хотя отчаянно хотел есть.
– Вот всегда так, – пробормотал Антон, в раздражении вертя вилку.
Он знал эту особенность своего организма. В стрессовой ситуации он страшно хотел есть, но самое изысканное блюде не лезло в глотку. После задания он всегда ходил голодный и злой.
Чтобы успокоиться, Ракушкин разложил перед собой бумаги, взятые из комнаты Курта. Вольке писал по-испански. Иногда с ошибками, но понять было можно. В значительной степени текст сводился к оппонированию риторике Кристобаля Бруно. Если последний призывал поднимать народ Аргентины на вооруженную борьбу с правящим режимом, подталкивая сомневающихся штыком винтовки в спину, то Вольке пытался выстроить концепцию мирного движения. Ссылался на работы Ганди и восточный опыт. Он утверждал, что время революций медленно, но верно уходит именно благодаря тому, что Бруно упорно отказывался видеть. Капитализм перестал быть диким и стремительно цивилизовывался. То, что гнало рабочих на баррикады в начале века, теперь уничтожалось самими капиталистами, которые с удовольствием читали Маркса и, более того, делали из его работ выводы. Слепое угнетение теперь не в моде, классовая рознь не правило. Усилиями ли социалистов, работой ли самого капитала, но разница между классами постепенно нивелировалась, сглаживалась, уничтожалась. Наиболее угнетаемые слои общества стремительно криминализировались, переставая быть движущей силой для любых революционных изменений.
Вольке, не так давно прибывший на южно-американский континент из Европы, видел опасность в другом. Общество незаметно утрачивало стимулы к развитию, погружаясь в болото потребительской идеологии. Капиталист вместо того, чтобы тупо зажимать рабочим заработную плату, начал проводить в жизнь политику вещизма, грамотно влияя на экономику в стране. Как следствие, уровень жизни в целом вырос, превратившись из невыносимого в терпимый. И рабочий люд предпочитал терпеть, имея необходимый минимум удобств и свобод, чем лезть на баррикады с риском получить резиновую пулю под ребро и срок в кутузке, лишив тем самым свою семью даже этого терпимого уровня жизни. У рабочего появилось что терять! Он перестал быть загнанной в угол крысой, которая готова кинуться на обидчика, погибнуть, но вцепиться ему в глотку.
Такой человек не готов к революционной борьбе. Такой человек не пойдет под красным знаменем свергать режим. Защищать его он, впрочем, тоже не потащится. Это инертная масса, которую для успеха дела необходимо переманить на свою сторону. Убедить. Необходимо работать над сознанием таких людей. Показать им всю опасность сложившегося положения вещей, всю порочность вещевого культа, в который они оказались вовлечены…
Антон перелистнул несколько страниц. У Курта даже была расписана программа действий, которой он предлагал воспользоваться в условиях Аргентины. Однако, судя по всему, этого текста никто и никогда не видел. Хотя Вольке работал над ним уже довольно давно.
– Странно, – сказал Антон.
Он осмотрелся, отрезал кусочек мясного рулета, который еще не успел остыть. Осторожно разжевал, проглотил. Прошло нормально.
Удивляло то, что Вольке не сопротивлялся инициативам Кристобаля, голосуя, как и все в Комитете, единогласно.
Антон перекидывал листики, прочитывая их по диагонали. Работа, которую провел Курт, выглядела внушительно. Однако теперь проводить ее было уже некому.
Ракушкин вспомнил голубые остекленелые глаза, глядящие в пустоту.
И острый, сладковатый запах порохового дыма.
Антон откинулся на спинку стула, закрыл глаза.
Вот он идет по коридору. Вот на той стороне появляется человек. Идет навстречу. Плащ. Темный силуэт… Все ближе. Ближе. Не видно только лица. Свет в лицо, и не видно лица…
Ракушкин сердито фыркнул. Лица не разглядел. Хотя убийца – а в том, что именно этот человек убил Вольке и его соседей, Антон не сомневался, – прошел совсем рядом.
– А знакомая фигура, – пробормотал Ракушкин и принялся за еду, одним глазом просматривая оставшиеся бумаги.
Любопытное оказалось в самом конце папки. Видимо, это был один из листков дневника, неведомо как попавшего в общую пачку на столе. Тут записи начинались за несколько дней до встречи Комитета. Практически везде Вольке вписывал:
«Необходимо поднять вопрос об адекватности действий группы Марксистский актив. Работа товарища Кристо выходит за рамки революционной…»
«Снова изучал работу Кристо, нет ни одного пункта, с которым бы согласился…»
«Подготовка к политическому террору никуда не приведет…»
«Необходимо мыслить не узколобо, а с учетом будущего. Что последует за террором?»
В день заседания Комитета только одна фраза:
«Ничего не понимаю…»
Потом, уже после взрыва армейской колонны:
«Мы совершаем ошибку. Комитет необходимо ликвидировать. Чем раньше мы объявим о том, что наши цели разнятся, тем лучше».
– Мотив… – пробормотал Антон.
Он поднялся и направился в туалет, где за слабо закрепленной перегородкой был спрятан список, полученный от Рауля.
Ракушкин принес его с собой за столик и аккуратно вычеркнул имя Курта Вольке. Следующим в списке шел Мартин Гонсалес. Кто такой?.. Антон не мог припомнить его лица. Был ли он на том заседании?
34
Аргентинские марксисты, или, как их обобщенно называли власти, монтонерос, имели множество мнений насчет будущего своей страны. Эти мысли находили отражение в различных трактатах, которые обычно начинались словами: «Когда мы придем к власти…»
В остальном видение будущего Аргентины у каждой группы революционеров было различно. Понимая, что легче всего вылезти на пьедестал в общей свалке, монтонерос объединились под управлением Комитета, в который входили главы всех сколь-либо крупных партий и группировок.
Фактически Комитет был самой большой тайной марксистов. Поэтому Антон был сильно удивлен той легкости, с которой ему удалось проникнуть в число людей, входящих в эту организацию. Комитет еще играл в конспирацию. Менялись явки, пароли. Однако все знали всех, и обезглавить революцию не стоило ничего. По всей видимости, марксистов спасала только полная деградация местной тайной полиции. Все, что оставалось от сильного государства, на корню сжирала процветающая коррупция. Держалась, наверное, только армия, да и та лишь в силу того, что от нее в государстве мадам Перон ничего не зависело.
Из всего Комитета только Кристобаль Бруно сумел построить внятную структуру в своей организации. Возможно, именно благодаря этому его группа была сильной и многочисленной. Комитет был вынужден прислушиваться к мнению товарища Кристо. Каждый понимал, что без поддержки Бруно его партия не продержится и нескольких дней. Агитация, печатные станки, химические лаборатории, склады с оружием, наконец, – все это было в ведении Марксистского актива. Комитет уже давно балансировал на грани. С одной стороны, ставилась под сомнение его необходимость вообще, с другой стороны, каждый понимал, что только сообща можно как-то влиять на действия Кристобаля Бруно. Небольшое усиление марксистского актива или ослабление остальных партий – и баланс будет нарушен безвозвратно.
В какой-то момент должно произойти что-то, нарушающее равновесие. Пушинка переламывает шею верблюда, солдаты забывают сбить шаг, вступая на мост, первая костяшка, поставленная на ребро, падает, вовлекая в этот неудержимый процесс все остальные.
Когда Антон подошел к дому, где должен был жить Мартин Гонсалес, дорогу ему заступили хмурые парни в зеленых армейских беретах.
– Стой! – Первый демонстративно засунул руку во внутренний карман куртки. – Сюда нельзя.
– Почему? – спросил Антон, но все-таки остановился.
– Потому что нельзя. Ты не живешь на этой улице. А разглядывать тут нечего. Иди на набережную!
– Я иду… в гости.
– К кому? – удивился второй.
– К Мартину Гонсалесу.
– Он тебя ждет?
Ракушкин слегка задумался, но потом ответил правду:
– Вряд ли, но ему, наверное, будет интересно меня послушать.
– Говори, кто такой…
Антон отдал первому мордовороту недавно отпечатанную визитку. Тот бесшумно побежал дальше по улице и свернул в какой-то дворик.
– Подожди тут… – непонятно зачем проворчал второй громила.
Антон пожал плечами и принялся осматриваться.
Маловероятно, чтобы улицу так охраняли каждый день. Кроме двух постовых в беретах, Ракушкин приметил на крыше здания через дорогу еще пару человек и чьи-то внимательные глаза в окне второго этажа все того же дома. Машины на улице были поставлены таким образом, чтобы их легко можно было вытолкнуть на середину, загородив проезд. Окна нижних этажей были закрыты ставнями, но то там, то сям на третьем и пятом этажах можно было увидеть открытое настежь окошко с убранными занавесками. Чтобы удобней было стрелять из глубины комнаты.
– Случилось что-нибудь? – поинтересовался Ракушкин у сторожившего его мордоворота.
Тот только усмехнулся.
Наконец из того дворика, куда убежал первый, вывалила группа мужчин. Все, как один, в серых футболках, пиджаках и широких, как показалось Ракушкину, матросских штанах. Они подошли ближе, разошлись чуть в стороны так, чтобы Антон оказался под прицелом каждого из них.
«Что за мода такая, все в беретах?» – неожиданно для себя подумал Ракушкин.
Вперед вышел крупный, горбоносый и темнокожий мужчина.
– Я – Гонсалес! – сказал он.
Антон заметил ухмылки на лицах охранников.
– Мне нужен Мартин Гонсалес…
Горбоносый поджал губы.
– Все верно. Я и есть Мартин Гонсалес. А это все, – он обвел стоящих вокруг широким жестом, – мои родственники. Тоже Гонсалесы.
– Семейный бизнес? – Антон позволил себе улыбнуться. Он точно не видел этого человека на заседании Комитета.
– Зачем пришел? – спросил Мартин после некоторой паузы.
– Я от Рауля.
– Ловеги? Что хочет старик?
– Он в коме.
– Мне жаль.
– Он просил меня сходить к Курту Вольке. Но его убили…
– Я знаю.
– Просто у меня на руках оказались его материалы. И еще кое-какие документы. Списки. Хочешь верь, хочешь нет, но следующим в списке шел именно ты. Поэтому я подумал, что будет не лишним поговорить с тобой.
– Кого ты представляешь?
– У нас с Раулем общие интересы.
– Какие, например?
– Я хочу понять, кто и зачем убил Леонору и Курта.
Несколько долгих минут Гонсалес молчал. Потом снял берет, вытер пот и махнул рукой.
– Пойдем, поговорим внутри. Тут слишком жарко…
Его команда взяла Мартина с Антоном в плотное каре, и они направились туда, куда указал Гонсалес.
Через пять минут Мартин сидел напротив Ракушкина, пил обжигающий кофе, потел и говорил:
– Я не знаю, почему слег в больницу Рауль. Старик был крепкий, но все бывает. Однако смерть Вольке – это не грабеж и не случайность… С Лео могло случиться что угодно. Очень многие из Комитета говорили, что это было просто убийство. Попытка грабежа, изнасилования… Я не верю, хотя и допускаю такую возможность. Но Вольке тоже убит. Его убрали. И сделала это не полиция. Эти брали бы его живым, да еще шумиху бы подняли, газетчики, телевидение… Всё как всегда. Курта убили свои. Не парни из его команды, а свои… – Гонсалес покрутил в воздухе ладонью. – Кто-то из наших. Я могу поручиться только за моих. Остальные… – Он скорчил презрительную физиономию. – Это или трепачи, или криминал. Я не знаю, какую игру затеял Рауль. Но я ему верю. И могу тебе сказать только то, что Гонсалесы этого не делали.
– Прости. У вас семья?.. – Антон в очередной раз отказался от чашечки кофе.
– Да! Мы всегда и везде держимся вместе. Все Гонсалесы Буэнос-Айреса собрались на этой улице! Черта с два кто-нибудь возьмет нас тут!
– Я не видел тебя на заседании Комитета…
– Плевать я хотел на Комитет. И знаешь… – Мартин поставил чашечку с недопитым кофе на столик и наклонился поближе к Ракушкину. – И плевать я хотел на революцию. Я перестал играть в эти игры. Мне они ни к чему! Ни мне, ни моим родственникам. Революция хороша, когда за тобой идет народ. А наш народ никуда не пойдет! Вот они что получат, а не политическую активность рабочих масс! – Он явно спародировал чьи-то слова и показал куда-то в окно фигу.
– Ты сильно удивишься, но Вольке пришел к тем же выводам.
– За то его и убили. Я знаю, к чему он пришел. Потому и говорю – искать убийц надо среди своих. Хотя, к черту, какие они мне свои?! Вольке был хорошим парнем, хотя и немцем. Он мне был свой, и Рауль тоже хороший старик. Но остальные! Пусть катятся со своей революцией к сатане! Уж лучше я буду строить свой собственный коммунизм, у себя на улице. Чем подставлять задницу кому-то там… Из-за чьих-то поганых интересов. Перебьются. Можешь так и сказать этому Комитету.
Он прервался на миг, налил себе кофе, попытался налить его и Антону.
– И вот еще что. – Мартин вдруг поднял палец. – Скажи им, обязательно скажи, что я найду того, кто положил Вольке, и оторву ему яйца! Понял?!
Антон кивнул.
– Ты говорил что-то про бумаги?
– Да. – Антон откинулся на спинку стула. – Кое-какие бумаги Курта.
– Откуда они у тебя?
– Он сам мне их отдал. За несколько дней до убийства. У него были некоторые соображения насчет революции. И он боялся, что подполье встало не на тот путь.
– Я никогда не слышал, чтобы у Вольке были такие близкие друзья… – медленно проговорил Мартин.
– Мы знакомы еще с Европы.
– У тебя не немецкий акцент…
Теперь напрягся Антон. Гонсалес был из тех, кто в запале мог наломать дров.
– А я разве сказал, что я немец? Я – русский.
Мартин нервно барабанил пальцами по подлокотнику.
– И говоришь, Рауль в коме?
– Да.
– А Вольке убит… – Гонсалес встал, не спуская глаз с Ракушкина, постучал в дверь. Тут же в помещение вошли трое ребят в беретах. – Не сочти за оскорбление, русский, но может ли кто-нибудь еще подтвердить твою причастность… к делам Рауля Ловеги?
– Я был на заседании Комитета…
– Только ленивая задница главы тайной полиции, Доминика Фернандеса, не была на заседании Комитета! И только потому, что он слишком туп, чтобы поинтересоваться у таксиста, где нынче заседают монтонерос!
– Ты можешь спросить у людей Рауля. Они подтвердят, что у нас с ним были и есть общие дела.
– Я спрошу. Но пока… Пока я не выясню все точно, не побудешь ли ты моим гостем? Я очень прошу! – Гонсалес сделал ударение на слове «очень».
– Почему бы и нет? – Антон развел руками и отметил, как дернулись мордовороты. – Тут, кажется, довольно безопасно?
– Очень! Очень безопасно! – оскалился Гонсалес.
35
– Знаете, что мне нравится в этой стране? – Фон Лоос стоял на верхней площадке своего дома и рассматривал деревенскую улицу.
– Что же? – Генриху было очень неудобно задирать голову вверх, солнце слепило глаза.
– То, что она совсем не похожа на Веймарскую республику.
– Хм… Мало что может быть похоже на это ведро с помоями…
– Вы не правы! – Фон Лоос направился к лестнице. – Вы не правы, и я сейчас объясню, в чем!
– Сделайте одолжение.
– Аргентина значительно хуже Веймарской республики!
– Вот это номер! – Генрих подал фон Лоосу стакан с соком.
Тот, тяжело отдуваясь, принял его и поблагодарил кивком.
– По-моему, хуже Веймарской помойки и быть ничего не может.
– Вы просто недостаточно хорошо знаете эту страну.
Фон Лоос плохо выглядел после очередной бессонной ночи. Он предпочитал работать по ночам, что не самым лучшим образом сказывалось на его здоровье. Зеботтендорф возмущался и требовал более строгой дисциплины. Как врач, запретил алкоголь и перевел Лооса на фруктовую диету.
– Аргентина лихо поднялась за счет войны, Перон сочувствовал фюреру, понимал перспективность Третьего рейха. Потом на него надавили Штаты, но это уже не так важно. Аргентина дала нам приют. Однако дела все-таки покатились под гору. И знаете почему?
– Почему?
– Аргентинцы сильно отличаются от чилийцев. Наша миссия в Чили была бы невозможна, хотя весь мир называет Пиночета фашистом.
Генрих подошел к краю средней обзорной площадки и посмотрел вниз. Отсюда была видна не вся деревня, в которой располагался дом фон Лооса, а ее часть. Сады, узкие дорожки и невысокие белые оградки. Фактически вся эта местность была куплена Лоосом и Зеботтендорфом. Крестьяне работали под их покровительством и были довольны. Учитывая, мягко говоря, паршивое положение сельского хозяйства в стране, наличие таких покровителей позволяло деревеньке неплохо сводить концы с концами. Лоос называл это «инвестиции в безопасность».
– Чем же аргентинцы так не похожи на своих соседей?
– Очень просто! Нация, способная родить лидера, который в первую очередь заботится о своем народе, не может быть марионеткой в чужих руках. Чилийцы не растеряли своей… особенности. Не стали быдлом, которое хапает для себя и только для себя. В Аргентине положение значительно хуже. Тут нет ни одного политика, который бы жалел свой народ и желал ему лучшей доли прежде себя самого. Поверьте мне, даже если к власти придут военные, все будет по-старому. Потому что прежде всего военные начнут грести к себе. Пройдут годы, десятилетия, может быть столетия, прежде чем хотя бы кто-то образумится и поймет, что для политика другого пути, как служить своему народу, просто нет. Политика, друг мой, это не способ заработать. Это путь к самопожертвованию.
– Если вашим планам будет дано осуществиться, боюсь, аргентинцам не выпадает шанса осознать это…
– Ну, кто знает, кто знает… – Фон Лоос подошел ближе к Генриху и уставился вдаль. Он некоторое время молчал, а потом вдруг поменял тему: – Что вы думаете про это предсказание?
– Тот спектакль, который закатил Зеботтендорф?
– Спектакль, считаете? – Фон Лоос покосился на Генриха. – Я вижу это уже не первый раз, но так для себя и не решил… что же я вижу…
– После его лаборатории меня уже ничто не удивит. Наш Доктор достиг удивительных успехов в работе со странными препаратами. Так что я вас, дорогой друг, очень хорошо понимаю. Невозможно различить, где ты имеешь дело с реальностью, а где с обычной галлюцинацией, когда за дело берется Зеботтендорф. Меня иногда посещает мысль, что все вокруг нереально. Что я лежу у себя в квартире в центре Буэнос-Айреса с сердечным приступом и умираю, а это мне просто видится в предсмертном бреду.
Фон Лоос хохотнул.
– Генрих, вы скоро впадете в солипсизм. Для такого практика, как вы, это сущая ересь.
– И то верно.
– Больше пейте. Алкоголь не только окрашивает жизнь в новые цвета, но и помогает нам разобраться в самой жизни.
– Благодарю, но с моим здоровьем можно позволить себе только солипсизм, – засмеялся Генрих.
– И все-таки вы думаете, что это был спектакль?
Генрих пожал плечами.
– Это игра на его поле. Он мистик. Копает глубоко. Душа, наука о душе. Какие-то монстры в клетках. Какие-то невидимые чудовища в очках. Беда в том, что я уверен в их существовании. Вы, кстати, принимаете его порошок?
– Да. Даже если это какой-то наркотик, я хочу знать, что вокруг меня нет этих, как вы сказали, чудовищ в очках.
– И все-таки я не понимаю. – Генрих вздохнул. – Почему нельзя просто взять власть в руки, используя этих… выкормышей Зеботтендорфа? Чего проще, подсадить кого-либо из них к президенту и таскать каштаны из огня чужими руками?
– Это было бы действительно просто. – Фон Лоос махнул рукой. – Есть одна проблема. Все эти чудовища, как вы их назвали, не панацея. Есть люди, на которых они просто не действуют. Есть люди, которые могут сопротивляться их воздействию. Видят их, наконец. Без всяких порошков. Доктор особенно не распространяется на эту тему, но факт остается фактом. Иначе, как вы сами понимаете, не было бы нужды в лаборатории. Зеботтендорф изучает не своих подопечных, он изучает людей. Все это хозяйство слишком нестабильно. Те существа, которые остались сейчас, это лишь небольшая часть тех, кто уцелел, когда мы пытались… Пытались делать так, как вы предлагаете, Генрих.
– Аргентина не первый ваш эксперимент?
– Мой – первый, а наш доктор уже успел отметиться. В ряде мест… Не только в Южной Америке. После некоторых опытов он едва ноги унес. Например, большая часть его работ так и осталась на Гаити. Папа Док переиграл Рудольфа на его поле. Тонтон-макутов помните?
– Я не интересовался политикой в тот период жизни… А в чем же причина неудач?
– Видите ли, Генрих, эти его выкормыши, они же… не совсем люди. Поймите, не совсем люди! И дело не в их способностях, а в том, что у них в головах. Они будто бы из другого мира. Частично. Вы ведь не пробовали с ними разговаривать?
– Нет. Как-то даже в голову не приходило.
– Это совсем другое мышление. Совсем. Я до конца не понимаю, почему они подчиняются Зеботтендорфу. Они даже шутят, Генрих! Шутят! Так, что мороз по коже… В общем, друг мой, нельзя использовать оружие, которое ты не изучил до конца.
– Согласен.
– Тем более что эти парни не могут быть всегда невидимы и неслышимы. Есть предел и их силам. Так или иначе, но они вынуждены возвращаться в лабораторию. Они устают. Они не могут работать с массой людей, с толпами. И к тому же они все разные. У кого-то хорошо получается внушать идеи, мысли. У кого-то делать из человека раба. Некоторые… Хотя все они могут многое, но не всё, это не идеальная машина, не идеальное существо! Зеботтендорф умеет выгодно их использовать. Как полководец – своих солдат. Но любого солдата можно убить, утомить, запугать, наконец. Люди с сильной волей могут не подчиняться их командам и внушению. Знаете, что мне однажды рассказал наш доктор?
– Что же?
– Он подозревает, что его воспитанники – это всего лишь отголоски древних богов. Сны. Представляете? Сны древних. От этого их сила, от этого их способности. И больше всего доктор хочет понять, откуда эти… отголоски силы. Как их поймать! Понимаете?
– Сны? Не понимаю.
– Сны древних богов, – повторил фон Лоос. – Тех древних существ, которые сейчас спят. Они уснули давным-давно. Их почти уже нет. Все, что связывает их с нашим миром, это сны. Так бредит больной: вроде бы здесь, а вроде и нет.
– Древние боги? – Генрих с сомнением посмотрел на фон Лооса. – Не поймите меня превратно, но когда Зеботтендорф говорит о науке, он выглядит убедительней.
– А сколько времени прошло с тех пор, когда вы приняли его постулат о том, что душа – явление научного характера? Поверьте мне, существа могущественные, жестокие, сильные, те, чьи помыслы нам непонятны, и есть боги. Вы же не станете отрицать саму возможность того, что они существуют?
– Не стану, – уклончиво ответил Генрих. – Так вы хотите сказать, что эти парни, Алеф, Бет…
– Тш-ш-ш… – Фон Лоос приложил палец к губам.
– Все так плохо? – спросил Генрих.
– Видите ли… – Лоос осмотрелся. – Этот еврейский алфавит… Я не сильно удивлюсь, если скоро мы увидим кого-то из этих ребят. Вы не разбираетесь в каббалистике?
– Бог миловал…
– В общем, лучше будет, если мы станем называть их как-нибудь иначе. Выкормыши, парни в очках… Но не по именам. В каббале имя значит слишком много. Тем более если его произносят.
– Зеботтендорф еще и каббалист?
– Если бы мне сказали, что наш дорогой доктор – сам Сатана, я бы не сильно удивился… Но мы говорили о другом.
Генрих поежился. Посреди жаркого дня вдруг стало холодно.
– Я спрашивал, не думаете ли вы, что наши… э-э… парни и есть древние боги?
– Нет. Они – это тени. Отголоски. Сны. Как призраки. Вы ведь видели пирамиду? Как мне кажется, она посвящена именно им, этим… И я совсем не уверен, что когти на следах жреца – это бутафория.
– Лоос, вы меня пугаете. Мне казалось, что вы человек более здравомыслящий.
– Бросьте, Генрих. Мы столкнулись с чем-то совершенно неизвестным. Новым. Или слишком старым. Все равно как если бы наш дорогой Зиверс откопал бы то самое Копье… Ну, вы помните эту историю.
– Да уж…
– Так вот, я совсем не уверен, что та штука, которая висела в кабинете у фюрера, подделка. Копье не панацея. Просто его надо уметь… кидать! Так все-таки, что вы думаете о пророчестве? Спектакль или?..
– Вам виднее. Я привык оперировать донесениями, фактами. Если у меня будет достаточно данных о том, что предсказание – это достоверный прогноз, я в него поверю. Пока фактов маловато. И имеются существенные пробелы…
– Какие, например?
– В тексте говорится об условиях. Они должны быть ясны, иначе риск слишком велик.
– Ну, с этим все в порядке. Если полагаться на нашего доктора, то есть… – Фон Лоос сощурился и замолчал, глядя куда-то вниз.
Генрих проследил за его взглядом, но ничего не увидел. Только тени от деревьев в саду стали гуще… Или…
Холодок пробежался у Генриха между лопаток. Под пальмой стоял человек.
– Я же говорил, – пробормотал фон Лоос. – Имя…
– Вы очень кстати, – негромко обратился Генрих к Алефу, почему-то зная, что тот его отлично слышит. – У нас есть к вам дело.
Алеф молчал. Только темные провалы глаз смотрели на балкон.
– Я чего-то не знаю? – спросил фон Лоос.
– Может быть. – Генрих пожал плечами. – Если информация о том, что в нашем тазу полощет руки один русский разведчик, для вас новость, то, пожалуй, вы кое-чего не знаете…
– Ого, Генрих. – Фон Лоос обернулся к нему. – Вы производите впечатление.
36
Из окна «гостевой» комнаты, в которой находился Антон, отлично просматривалась вся улица, принадлежавшая Гонсалесам. Из-за толстой решетки было хорошо видно, как меняются часовые на крышах и у пулеметных гнезд. Мартин забаррикадировался неплохо. Безболезненно взять его, наверное, можно было только с воздуха или при помощи артиллерии и танков.
Впрочем, опыт Чили и бедолаги Альенде Гонсалес наверняка учел. И против бронированных коробочек, вероятнее всего, что-нибудь да имелось.
В своей комнатке Антон находился уже два дня. Обращались с ним вежливо, кормили щедро. Апартаменты состояли из спальни и туалета, расположенного в маленьком, явно пристроенном недавно закутке. Помещение было задумано как тюрьма. И скорее всего частенько использовалось по назначению. Огорчало Антона только одно: отсутствие ванны и даже простенькой раковины. Их заменял эмалированный таз и большой кувшин с водой. В комнате, находившейся под самой крышей и накалявшейся в полдень, это было существенным недостатком. Почему неведомые строители, пристраивавшие туалет, не додумались поставить туда же и раковину с краном, оставалось загадкой.
Мартин не показывался. Никакими допросами и разговорами Антона не доставали. Иногда ему начинало казаться, что про него просто забыли. Однако стража, двадцать четыре часа находившаяся за дверями, эту иллюзию разрушала.
В основном Ракушкин валялся на узкой кушетке и думал.
Гостеприимный плен его ничуть не смущал. Во-первых, он уже успел выкрутить большую часть шурупов, которыми опрометчиво была приделана к окну решетка. Это был прямой выход на крышу, а там уж он разберется. Во-вторых, вероятность подобного исхода была просчитана заранее. Яковлев предупрежден, да и сам отправил коллегу в «свободный поиск». Спохватятся только через неделю, не раньше. А искать начнут с заранее обговоренных «почтовых» мест, где Юрия Алексеевича лежит-дожидается полный, насколько это возможно, отчет о действиях Антона и его планах.
Учитывая это все, можно было с чистой совестью побездельничать, валяясь в кровати. К тому же когда еще выпадет возможность спокойно поразмыслить?
И ведь было о чем. Ситуация в Буэнос-Айресе складывалась какая-то исключительно нелепая.
С одной стороны находились власти. Мадам президент, Изабелла Перон, крикливый парламент, ворюги-министры, продавшаяся на корню полиция и зажравшаяся тайная полиция, позволявшая всем, в том числе и самой себе, все, а также заслужившая славу палача-самодура: «захочу – казню, захочу – так оставлю». Президент не обладала должной властью и сообразительностью, чтобы придавить парламент, разогнать к черту толстопузых министров и публично высечь полицию, чтобы злее была. Изабелла была одна-одинешенька и ни черта не разбиралась в лабиринте коридоров власти. Несчастная, по сути, женщина. Парламентеры, без жесткой руки сверху, тут же превратились в пресловутых лебедя, рака и щуку. Каждый норовил урвать кусочек власти побольше, побогаче да пожирнее. Словно стая бешеных собак, они рвали тело Аргентины, дурея от запаха крови. Власть пошатывалась на глиняных ногах, и опереться было не на что.
Особняком стояли военные.
Общеизвестная нелюбовь мадам Перон к армии сыграла с ней злую шутку. Именно в рядах военных она могла бы найти поддержку и свежие силы, чтобы раскидать министерскую мафию, задавить собачащийся парламент и остановить медленное сползание в пропасть. Но… Генералы, отставленные от власти, от финансирования, от своей столицы, наконец, только скрежетали зубами. Солдаты в рваной форме, черт знает сколько не обновлявшееся вооружение… все это не способствовало повышению патриотического духа.
С другой стороны расположились марксисты. У них все было еще более запутанно, нежели во властных коридорах.
Прежде всего марксисты не имели четко выраженного командного центра и представляли собой кучу различных группировок и партий. Часто это были просто ребята, умеющие держать в руках оружие и желающие «жить лучше». К таким относился Гонсалес – человек активный, деятельный, серьезный. Но назвать его революционером не поворачивался язык. Были еще группки, большие и не очень, которые преследовали интересы мелких князьков и даже племен. Этих в расчет никто не брал, учитывая только как пушечное мясо на случай беспорядков. Но имелись и действительно политизированные организации со своей идеологией, порядком и планом на будущее. К таким относилась небольшая группа Курта Вольке, к таким относились «старики» вроде Рауля Ловеги, люди, сами по себе имеющие вес в революционном движении, и был еще товарищ Кристо – человек, командовавший самой крупной и наиболее хорошо оснащенной группой Марксистский актив. По слухам, Кристобаль был человеком честолюбивым, смелым, злым на власть. Выходец с Кубы. Человек, который когда-то шел вместе с самими Че и Фиделем. Опыт, полученный за годы кубинского сопротивления, дал ему достаточно знаний и умений, чтобы сколотить солидную организацию. Кристобаль Бруно был той целью, к которой и подбирался Антон. После Вольке, после Гонсалеса ему уже не хотелось шерстить весь список, выданный Раулем. Интуиция подсказывала, что разгадка кроется именно там, в Марксистском активе.
Но если бы ситуация в Аргентине была так проста, чтобы укладываться в схему «революционеры против власти», все было бы хорошо. Более того, вряд ли советское посольство вмешивалось бы в процесс. Но в игре было, как всегда, более двух сторон. Существовал кто-то, имевший непосредственный интерес к делу. Педалировавший ситуацию, подталкивавший страну к пропасти. Но кто? Тут были различные варианты.
Снова военные? Генералитету было бы крайне выгодно расшатать обстановку, чтобы прийти к власти избавителями от хаоса. Однако после взрыва около казарм национальной гвардии, после расстрела армейской колонны, после многочисленных нападений на солдат в эту версию верилось слабо. Конечно, определенная группа военных могла пойти на определенные жертвы, но…
Однако более вероятной была версия о том, что третья сила была рукой из-за пределов страны. Могучий сосед из Северного полушария, в прошлом году эвакуировавший последних своих граждан из Сайгона, переживший скандал с Уотергейтом и позор с докладом комиссии Рокфеллера, вполне мог включиться в игру, чтобы сместить фокус общественного внимания, закрепиться в Латинской Америке и оказаться на коне. Устроить беспорядки, посадить марионеточное правительство, которое первым делом попросит покровительства и военной помощи для усмирения взбунтовавшихся коммунистов. А под лозунгом «нам не нужна вторая Куба» можно сделать много. Тем более что вторая Куба действительно не нужна правительству Соединенных Штатов. Время подлета ракет из какой-нибудь Сальты, конечно, не сравнится со временем подлета из Гаваны, но тоже неплохо. Очень даже неплохо. Так что ЦРУ сам бог велел приглядывать за местным населением и готовить план на всякий случай. А еще лучше претворять его в жизнь.
Плохо было то, что предварительный анализ, проведенный ребятами из Центра, не выявил существенного влияния американской разведки на внутреннее положение в Аргентине. Более того, все данные говорили, что ЦРУ переживает не самый лучший год. После комиссии Рокфеллера, удачно обнародовавшей доклад о незаконной прослушке, разведуправлению урезали финансирование и повесили на него всех собак, включая два покушения на президента Форда. Америка переживала очередной кризис: поражение во Вьетнаме, утрату иллюзий и разрушение традиционных ценностей. Тут не до Аргентины.
Антон поднялся, хрустнул суставами и прошелся по комнате. Становилось жарко. Из открытого окна доносилось еле слышное потрескивание, это раскалялась черепица на крыше. За окном все так же скучали часовые в конце улицы и дремали парни на крыше, укрывшись от солнца в тени печных труб.
Антон вздохнул. Дунул на подоконник, подняв облачко серой пыли. Эта пыль на какой-то миг заиграла на солнце, и Ракушкину показалось…
Нет, не показалось. Он встрепенулся. Там, перед часовыми, теми самыми мордоворотами, которые остановили его два дня назад, сейчас стояла группа людей, одетых в серые плащи. Совершенно не по погоде. И… Антон протер глаза. Фигуры будто расплывались. Не имели четких контуров. Плыли, как мираж над раскаленным асфальтом.
Может, мираж и есть?
Он пригляделся. Нет. Парни в плащах слишком реальны. Но почему часовые никак не реагируют на них? Другие Гонсалесы? Но почему так странно одеты? И почему Антон ни разу их не видел до этого?
«Что за хреновина такая?»
Он почувствовал холод.
Люди в серых плащах двинулись вперед. Они шли, не скрываясь, в полный рост. Вот двое из них поравнялись с часовыми, замерли на мгновение. Здоровяк в берете вздрогнул и будто во сне потянулся за пистолетом.
Антон замер.
Часовой вытащил оружие и прицелился в своего напарника.
– Что ты делаешь? Эй! – Тот поднял руки и начал отступать назад. – Эй, остановись, брат! Это же я!..
Что-то изменилось в этот момент. Что-то важное.
Парень с пистолетом обмяк и точно так же, кукольным сонным движением, поднес пистолет к собственному виску. Выстрел последовал сразу же. Второй кинулся к нему, упал на колени, закричал.
Сзади фигура в сером плаще уже целилась ему в затылок.
– Да обернись же!!! – что было сил закричал Антон. – Тревога! Обернись! Тревога!!! Там, в конце улицы!
Очнулись замершие после выстрела часовые на крышах. Но серых фигур, похоже, никто не видел.
– Да смотрите же, вашу мать, он убьет его!
Часовой около убитого начал оборачиваться. И в тот же миг серый выстрелил. Фигуры стали четче, словно туман рассеялся.
С крыш закричали.
– Тревога! – понесся многоголосый крик. – Тревога!
Загремели выстрелы. Серые фигуры словно на крыльях понеслись к подъездам. Двое, те, что отстали, разбираясь с часовыми, прижались к стенам и принялись палить вверх, стараясь не дать стрелкам высунуться. Когда, наконец, парни на крышах сориентировались и принялись прижимать огнем двух серых, те… Антон потряс головой. На месте двух фигур в плащах остались только тени. На асфальте. Солнце стояло высоко.
Пока стрелки соображали, Ракушкин увидел, как движется, медленно движется к концу улицы темный силуэт.
– Стреляйте по теням! – гаркнул он в окошко. – По теням! Стреляйте!
Раздался неуверенный выстрел. Пуля выбила камень из стены. И в тот же миг две фигуры в сером рванулись, пригибаясь и петляя. Стрелки закричали. Но стрелять было не по кому, странные люди уже вышли за пределы зоны огня, ушли за поворот.
А бой внутри здания продолжался.
Антон услышал, как щелкнул замок в двери и громко затопали по коридору сапоги. Стража покинула посты и кинулась в драку.
На крышах остались считаные бойцы и пулеметчик, который по какой-то причине не стрелял.
– Что-то я подзадержался в гостях, – пробормотал Антон. – Пора бы и честь знать.
Он приналег плечом на решетку, надавил. Металл противно хрустнул о камень. Прутья подались. Железная конструкция загрохотала по черепице.
37
«Сегодня около полудня была слышна активная стрельба на улице Аройо, которую, по слухам, контролировал известный криминальный авторитет Мартин Гонсалес. Все подходы к улице были блокированы усиленными кордонами полиции. После того как выстрелы стихли, полиция вошла в оцепленный район. По сообщениям пресс-службы полицейского департамента, из-за внутренней ссоры в банде Гонсалесов вспыхнула перестрелка. Количество жертв уточняется. Сам Мартин Гонсалес убит».
Фон Лоос отложил газету.
– Ну что же, Генрих, по-моему, ваша операция провалилась… Русского не удалось ни захватить, ни убить.
– Да, – согласился Генрих. – Однако я теперь точно знаю, чего можно ждать от наших… э-э-э… гвардейцев. Судя по всему, эти парни не для силовых акций.
Фон Лоос возмущенно хмыкнул.
– Могли бы и у меня поинтересоваться. Это же… почти штучный товар. Террор, давление, провокации – да. Но…
– Но прямая силовая акция не для них. Более того, они теряются в бою.
– Ну, не совсем. – Фон Лоос был явно недоволен. Он нервно трепал вечернюю газету, перекладывал какие-то мелкие вещи на столе. – Когда парни сориентировались и надавили на слабые места, все пошло хорошо. Коммунисты перестреляли друг друга.
– Не все. И парни собрались только после того, как им был отдан приказ. Понимаете, Лоос, я хочу знать: до какого предела мы можем на них опираться? И до какого предела… нам следует их бояться?
– Спросите Зеботтендорфа…
– О нет! Доктор снова начнет рассуждать о душе, о предсказаниях, проклятиях и прочей метафизике. Он слишком увлечен своими планами. А я практик. Мне важно знать, а не предполагать. Теперь я знаю, что лучше прикормленных боевиков пока ничего не придумали. Даже на том свете.
– А что вы предполагаете делать дальше? С этим русским?
– Я собираюсь обставить дело таким образом, чтобы подозрения пали на него. К этим Гонсалесам он пришел сам. Так, по крайней мере, сообщили мне ваши информаторы. А следовательно, это очень активный парнишка. Знаете, как подводная лодка с активным сонаром? Так или иначе, но он проявится. Не может не проявиться. При этом учтите, друг мой: то, что вы называете провалом, на деле выглядит совершенно иначе. Мы убрали еще одного сильного лидера подпольного движения.
– Гонсалес отошел от дел и так.
– Но у него был авторитет. И за годы работы он несколько раз уходил в сторону и много раз возвращался.
– Откуда вы знаете?
– Профессиональная особенность.
– Я смотрю, вы хорошо вписались. – Фон Лоос улыбнулся. Было видно, что он начинает расслабляться. Недовольство проваленной акцией медленно отступало. – И все-таки, что собираетесь предпринять дальше?
– Русский идет по этапам. Он пытается влиться в общество марксистов. И я полагаю, что это ему удастся. Все коммунисты страдают интернационализмом. Им очень трудно принять предположение о том, что чужак скорее всего является врагом. Тем более из Союза. Поэтому они могут допустить русского очень близко. Принять за своего. Поскольку эта среда контролируется нами более или менее неплохо, русский окажется в зоне нашего влияния очень скоро.
– И?
– И я смогу взять его за жабры. На чем-нибудь горяченьком. Ну, знаете… подсунуть труп, устроить провокацию…
– Я понимаю. – Фон Лоос кивнул. – Вы хотите сделать его безопасным.
– Именно так. Русские вообще могут наломать дров, если за ними не присматривать. Хуже них только евреи.
Фон Лоос засмеялся.
– Чем же они хуже?
– Эти наломают дров и еще попытаются их продать.
38
Проспект Сан-Хуан – одна из самых больших улиц Буэнос-Айреса. Не утихающая ни днем, ни ночью транспортная артерия, разделенная широкой полосой зеленой зоны. Она пересекает весь город и ведет к морю.
Во время свержения Перона по этой улице совершила свой легендарный рывок к президентскому дворцу первая мотострелковая. Мало кто знал, что патроны у солдат были холостые, и все, что их спасло от национальной гвардии, – это скорость. Скорость и проспект Сан-Хуан.
Это единственная улица в городе, где разрешено движение свыше шестидесяти километров в час. И водители, естественно, старательно пользуются этим правилом, стараясь промчаться с ветерком по центру города. Сорок процентов аварий в год всего Буэнос-Айреса приходится именно на Сан-Хуан. Так что, помимо самой популярной, это еще и наиболее кровавая улица.
Мастер Луи, он же Луис Кортес, жил в угловом доме, на пересечении Сан-Хуана и Пасео Колон. На тринадцатом этаже. С этой высоты отлично просматривался весь проспект. Ночью улица становилась похожа на огненную реку, сверкающую и прекрасную. Мастеру Луи не мешал шум. Наоборот, в тишине он чувствовал себя неуютно. Гудки, рык сорванного глушителя, бесконечные подгазовки, шоферская ругань – все это день и ночь сопровождало Кортеса. Жизнь! Настоящая жизнь, без прикрас и отделки! Без духов, помад и ретуши. Все – настоящее.
Во время работы Кортес специально открывал окно. Запах горячего асфальта, паленой резины, сгоревшего бензина, масла щедро пропитал его квартиру. То, что это вредно для здоровья, мастера Луи не волновало. Он не намеревался жить до старости.
Он был гениальный механик, талантливый художник и посредственный поэт.
Вся квартира была заставлена холстами, ящиками с соломой, склянками, ретортами, мешками. На стене тикали часы, которые Луис сделал, когда ему было всего двадцать лет. Каждая шестеренка была выточена вручную. В Буэнос-Айресе не имелось механизма точнее, чем эти часы. После того как Кортес умрет через два года от рака легких, эти часы заберет себе его сосед и продаст на блошином рынке. Через пятнадцать лет этот механизм всплывет на одном аукционе в Европе. Вещи живут значительно дольше, чем их создатели.
Мастер Луи не страдал никакими политическими идеями. Ему было плевать на все, кроме механики. Даже живопись он ставил на второй план, иногда, впрочем, продавая наиболее удачные картины. Для поддержания штанов. Кортес рисовал всегда одно и то же: кровь и смерть. Автомобильные катастрофы. Он был кропотливым и тщательным художником. На эти картины находилось множество покупателей.
Но самый большой доход мастеру Луи приносила механика. Шестерни, молоточки, передачи, электронные блочки. Он делал маленьких уродцев и заставлял их шагать по квартире. Эта коллекция похожих на пауков тварей будет выброшена на помойку, откуда и расползется по карманам местной детворы, пугая родителей своей ненормальной активностью.
Все подпольные мастерские работали под руководством учеников мастера Луи. За ученичество тот брал огромные, по меркам смутного времени, деньги, но оно того стоило. Сам же Кортес работал над штучным товаром. Иногда не ради денег, но ради искусства.
39
Когда твой наряд вламывается в подозрительную квартирку, никогда не знаешь, на что нарвешься. Наркоманы ли попытаются нашпиговать тебя дробью, малолетние ли проститутки разбегутся по углам с визгом… Простому полицейскому никто ничем не обязан. В том числе не обязан ставить в известность, что там, за дверью. В смутное время если не хочешь лишиться работы – не задавай лишних вопросов.
Когда полиция вынесла дверь квартиры номер семнадцать высотного дома по Конституции, семь, могло произойти что угодно. Но…
Они скрутили какого-то парня прямо в кровати. Какая-то сисястая дура, может быть проститутка, с визгом прикрылась одеялом по самые глаза. Только полные ноги торчали из-под простыни.
– Оставайтесь на месте, сеньора, – рыкнул на всякий случай сержант, заламывая руки арестованному. Вязать голого было по-особому неприятно. Пахло постелью и чем-то специфическим, наверное сексом.
– Одеться дайте, – попросил парень. Его голос звучал глухо, через ковер. – Хотя бы штаны.
Полицейские переглянулись. У капитана приказа задерживаться не было. Взять парня, доставить в канцелярию. В случае сопротивления применить силу. Все. Но не вести же голого…
– Валяйте, но быстро, – проворчал капитан и вышел. Наверное, это спасло ему жизнь.
Сержант перевернул скованного, поднял на ноги.
– Давай!
– Каким образом? У меня руки за спиной связаны, идиот!
– Поговори мне… – Сержант не сильно, но чувствительно ткнул его кулаком в живот. – Хорхе, надеть штаны!
– Почему я? – заныл долговязый Хорхе.
– Бегом!
Парня посадили на кровать и начали натягивать ему штаны. Когда дошла очередь до молнии, выяснилось, что у подозреваемого эрекция.
– Тьфу ты! – выругался Хорхе, а связанный хрипло рассмеялся.
– Давайте! Не ехать же мне с высунутым членом! Заправляй, холуй!
– Черт!
Хорхе и еще один толстяк нерешительно топтались около арестованного.
– Ну что там? Вашу мать! – рявкнул сержант.
– Эй, начальник! – оскалился парень. – Может, ты хочешь подержаться? Так ты не стесняйся! Меня зовут Эрнест Крепкий, именно за это… – Он помотал бедрами. – На всех хватит!
Сержант нехорошо ухмыльнулся.
– Учитесь, салаги. – Он с размаху впечатал ботинок Эрнесту в пах. Потом плюнул на воющего и катающегося по полу арестованного. – Застегивайте штаны и пакуйте придурка.
Он отвернулся, рассматривая комнату.
Двое полицейских вздернули скулящего Эрнеста, грубо застегнули на нем ремень и под локти поволокли к выходу.
– Эрни! – вдруг взвизгнула девица. – Падай!
Долговязый Хорхе ничего не успел сообразить, только арестованный просел вниз и потяжелел, его локоть выскользнул из рук. А девица орала что-то невообразимое, визжала, мерзко, надсадно, на каком-то варварском, диком наречии, коверкая слова и ударения. Хорхе только и успел, что удивленно обернуться через плечо. И увидеть. Как голая, растрепанная, злая девка целится ему в лицо. Из обреза.
Все, что он увидел перед смертью, – это торчащие, напряженные соски и два черных глаза, из которых вылетает пламя.
Потом ему оторвало башку.
Шрапнелью его партнеру пробило шею, и он упал, заливая все вокруг кровью. Смерть закрыла его глаза еще до того, как он осознал, что действительно умирает и больше не будет ничего: ни пьяных угаров по пятницам с девочками и самогоном, ни ревнивой жены, ни воскресной проповеди в церкви, когда зудеж пастора смешивается с головной похмельной болью. Пожалел бы он обо всем этом в последний момент? Захотел бы вернуть?
Сержанту повезло больше. Ненамного. Но все-таки. Чтобы убить его, девице понадобилось чуть довернуть ствол. И этих мгновений сержанту хватило, чтобы вытащить пистолет.
Кулак из пороховых газов и свинцовых девятимиллиметровых дробин ударил сержанта в грудь. Швырнул его в стену, проломив тяжестью тела хрупкие деревянные стойки. Он так и остался стоять. Мертвый, с оружием в руке. Его коллеги, извлекая тело из стены, будут плакать.
Обрез – милосердное орудие в умелых руках.
Девица не была умелым стрелком, зато на ее стороне, как и на стороне всякой женщины с оружием, была удача. Два выстрела – три трупа.
Как была, голая, она спрыгнула с постели и бросилась к столу. Там, в верхнем ящике, лежали патроны. Переломив обрез о колено, она вытрясла пустые гильзы. Лихорадочно, трясущимися пальцами схватила новые. Но вставить их получилось не сразу.
Когда же наконец она защелкнула затвор, было уже поздно. Чуть-чуть… но все-таки поздно. И, понимая это, она завизжала! Всем телом, спиной, ногами чувствуя страшный холодный ствол, что целится в нее! Целится!!!
В комнату ворвался капитан.
Она развернулась всем корпусом, двумя руками выставив перед собой обрез. Цепляясь за спиленную рукоять, как утопающий за свою последнюю соломинку. Выхватывая фигуру капитана между двумя полукружьями стволов.
Это был усталый человек. Успевший в свои сорок лет изрядно утомиться этой жизнью. Политикой. Бесконечным риском. Несбывшимися надеждами. Упущенными мечтами. Через его голову уже дважды шагали ловкие карьеристы. Трижды откладывалось повышение в должности. Два выговора. И семь наград. Вдовец, у которого нет детей…
Он так никогда и никому не рассказал подробностей того случая. Даже когда, много-много позже, по болезни слег и друзья вызвали к нему пастора. Даже священнику он ничего не рассказал. Хотя и помнил о случившемся всю жизнь. Всю оставшуюся жизнь, которая поделилась между двумя моментами. До. И после.
Девица нажала на курки. Сразу на оба!
И тут же, сразу после этого, бахнуло! Дважды! Тридцать восьмым калибром!
Голая женщина с обрезом отлетела назад. Ударилась о стол. И куклой скатилась вниз. Загрохотал по доскам пола обрез.
В ее ушах звучал и звучал голос, сливаясь в предсмертный гул. Голос инструктора. Индейца-каучо, старого и морщинистого деда.
– После перезарядки сними с предохранителей! После перезарядки сними с предохранителей! После перезарядки…
– Прости, дедушка… – Но губы не слушались.
Капитан никому и никогда не рассказывал о том, как его палец на какой-то миг задержался на спусковом крючке. И как дернулся только после сухого: «Щелк! Щелк!»
Нет. Капитан не пожалел женщину. Он не постеснялся бы не то что расстрелять, а голыми руками разорвать ту суку, что убила его товарищей.
Но даже пастор не узнал, что уставший от жизни капитан просто хотел смерти…
Дальнейшее напоминало фильм ужасов.
Эрнест вскочил и выбежал в коридор. Однако там его ждали.
Крепкие руки повалили его на пол, и еще долго какие-то люди в форме остервенело топтали его жесткими полицейскими ботинками, пока охрипший и шатающийся капитан не гаркнул:
– Хватит!
Он еще не знал, что происходит внизу.
К дому с двух сторон подкатили грузовики. Габриэль, парень, который поступил на работу в полицию всего два года назад и был оставлен у дверей подъезда, чтобы разгонять норовящих припарковаться в закрытой зоне автомобилистов, только-только успешно справился со своим заданием и теперь ожидал заслуженной похвалы руководства. Когда на него надвинулся, сверкая решеткой, высоченный «Форд», Габриэль не растерялся. Он что было сил дунул в свисток и замахал жезлом.
Габриэлю было всего двадцать пять лет. Видимо, только это обстоятельство позволило ему остаться в живых после того, как грузовик на полном ходу ударил его стальным бампером, отшвырнув далеко на тротуар. Габриэль полгода пролежал в гипсе, еще год провел в постели и шесть месяцев учился ходить заново. Время было потрачено не зря. Он заочно окончил журналистский факультет, где учился, будучи на службе в полиции, и через много лет за повесть «Цирк никогда не умирает» получил международную писательскую премию Хуана Рульфо. Многие еще позавидуют ему! Но это потом, а сейчас этот счастливчик Габриэль валяется в луже крови на тротуаре. Мимо него топают и топают высокие рабочие ботинки.
Двоих других полицейских, стороживших лифт и выход на лестницу, забили битами. Насмерть. Пара сориентировалась быстрее, услышав шум внизу, они спустились на два пролета и открыли огонь над головами нападавших. Посыпалась штукатурка и каменная крошка.
– Капитан! Капитан! – рычал сержант в микрофон рации. – Нападение! Нас штурмуют!
Когда из толпы осаждающих выскочил патлатый седоволосый мужичок с винтовкой, сержант все понял правильно и дал стрекача наверх, следом за своими подчиненными. Раздались редкие пока выстрелы. Толпа взревела и кинулась наверх.
– Во… ору… жены! – хрипела рация в руках у капитана. С лестницы доносились пальба и грохот.
– Что там, черт побери, происходит?! – рявкнул капитан.
Под ногами истерически захихикал измочаленный, но живой Эрнест.
– Молчать!!! Все на лестницу! Стрелять на поражение! Не дайте им подняться! Лифт блокировать!
Группа захвата кинулась выполнять приказ. Капитан вышел на общий канал и вызвал подмогу, после чего присел рядом с арестованным.
– Если ты думаешь, что эти подонки тебя спасут, ты ошибаешься. Я отстрелю тебе башку сразу же после того, как они поднимутся на этаж. – Он положил на колени «кольт».
Эрнест хихикал и шептал что-то через выбитые зубы.
Можно сказать, что ему повезло. Полиция забаррикадировалась лестничным пролетом ниже, и на их этаж погромщики не ворвались. Двое пытались проползти по шахте лифта, но их просто сбросили вниз.
Когда подоспела подмога, сам капитан уже отстреливался на баррикаде. Из полицейской группы захвата выжило всего четыре человека. Если не считать Габриэля, лежавшего внизу.
Для полиции это был самый крупный улов мятежников за последние восемь лет. По удачной наводке они взяли Крепкого Эрнеста, на которого была возложена ответственность за взрыв у парка Колон, а также с десяток его подручных. Еще столько же бандитов полегло во время безумной попытки освободить главаря, которая, к слову сказать, едва не увенчалась успехом.
На следующий день тайная полиция праздновала победу. Полиция обычная соблюдала траур.
Мятежников погрузили в машины. Эрнеста, так и не потерявшего сознание, сунули в специально приготовленный автомобиль. И вся эта колонна, под вой сирен и блеск мигалок, двинулась в сторону городской тюрьмы. Через шумную Такуари, пересекая бульвар Независимости, на стремительный Сан-Хуан.
В машине, слушая вой сирены и поглядывая единственным целым глазом на сопровождение, Крепкий Эрнест улыбался.
– Какие же вы все-таки идиоты, – поделился он радостью с охраной. – Все-таки идиоты…
Охраняющие его полицейские молчали. Только зло ходили туда-сюда желваки на их скулах.
Колонна вышла на проспект Сан-Хуан уже в сумерках. Зажглись фонари. С тринадцатого этажа высотки на углу Пасео Колон яркие синие и красные мигалки смотрелись потрясающе.
Мастер Луи вынес мольберт на балкон, делая быстрыми штрихами набросок, стараясь запечатлеть как можно больше деталей, чтобы потом воссоздать картину со скрупулезной точностью. Он работал карандашом, не отрывая взгляда от трассы.
В восемнадцать двадцать девять его взгляд на мгновение оторвался от дороги, чтобы переместиться на циферблат самых точных в Буэнос-Айресе часов.
В восемнадцать тридцать он нажал на красную кнопку небольшой пластиковой коробочки.
Ровно через три с половиной секунды под днищем автомобиля с Крепким Эрнестом, как раз там, куда не смогли заглянуть люди, проверявшие машину, сработало взрывное устройство размером со среднего паука. Большее туда бы и не влезло.
Сдетонировал бензобак.
Взрыв в сумерках выглядел настолько эффектно, что Луис Кортес задержал дыхание.
Конечно, Мастер Луи работал только на заказ, но исключительно со штучным товаром. И иногда не ради денег, но ради искусства.
40
Стук в дверь.
– Кристо, к тебе пришли. – Карл снова подивился привычке шефа сидеть в темной комнате, пить херес из двух рюмок и что-то писать, писать на бумажках. Внутри организации уже вовсю ходили слухи о том, что Бруно съехал. Его старались беречь, не дергать без нужды. Решения принимались часто в обход руководства.
Узнай об этом Кристобаль, ничем хорошим это бы не кончилось. Но активная деятельность товарища Кристо ограничивалась сидением в темной комнате, бесконечными бумажками и регулярными совещаниями с Вильгельмом Кечоа, скуластым молчаливым индейцем, который возглавлял особую группу боевиков, составленную в основном из жителей горных деревень, расположенных на западе страны. Молчаливые, невозмутимые и чем-то похожие на камни, эти парни наводили ужас на всех, кто сталкивался с ними. Про индейцев ходило множество россказней. Они жили обособленно, стараясь не мешаться с потомками португальских и испанских колонизаторов, сохраняя свои устои. Они не устраивали показных плясок, как жители гетто в Штатах, не носили обрядовой одежды, предпочитая удобство и практичность ярким тряпкам с перьями, и вроде бы не выделялись ничем, кроме скуластого лица, особого разреза глаз да кожи, прокопченной солнцем и высушенной ветрами. Однако среди жителей побережья считалось, что мужчина, взявший в жены индианку, недолго проживет.
Вильгельм Кечоа был вместе с Кристобалем с самого начала. Помогал ему сколотить команду и выполнял особые поручения, сути которых не знал никто. Только слухи, но кто ж им верит? Индеец был похож на камень в холодной текучей воде. Неизменный, твердый, молчаливый.
– Кристо… – Мендес удивился тому, что Бруно не реагирует, и вошел.
Кристобаль сидел за пустым столом, не было даже хереса и бумаг. Только горела свечка.
Карл дотронулся до его плеча и заглянул в лицо. Может быть, спит?
Пронзительный взгляд, острый и злой, едва не заставил Мендеса вскрикнуть. Кристобаль перехватил его руку, сильно сжал.
– Эрнест погиб, – прошептал Бруно. – Погиб Эрнест.
Карл хотел сказать, что знает. Но поперек горла встал ком. Что-то было в глазах Кристобаля, что-то страшное, особенное, ужасающее. Словно кричал кто-то там, внутри, будто душа… Будто чья-то потерянная душа. На какой-то миг Карл испугался, что задохнется. Но потом его вдруг отпустило, и он с хрипом вдохнул воздух.
Кристобаль снова смотрел на свечу. Руки его лежали на коленях, как у примерного школьника.
– А ведь мы дружили. По-настоящему дружили.
– Я знаю… – Мендес отшатнулся от стола, потирая горло. У него сложилось полное ощущение, что Бруно держал его за глотку, хотя тот ухватил всего лишь руку. – Его кто-то сдал властям! И его ребята тоже… попались…
Кристобаль закрыл лицо руками. Из-под прижатых ладоней глухо прозвучал его голос:
– Что там случилось?
– К тебе пришли. Там трое… Только я их развел по разным комнатам.
– Почему?
Мендес пожал плечами.
– Дело в том, что один из них как раз от ребят Эрнеста, а два других пришли… Я их видел с немцем. С этим… С Куртом! Вот.
– Хорошо сделал. Молодец. – Бруно встал, пальцами погасил свечу. – Скажи мне, кто пришел от Эрнеста?
– Доминик, ты помнишь, такой лысый?
– Хорошо. Скажи Доминику, пусть сидит, отдыхает. Дай ему что попросит. Кофе… Виски… Покорми… Скажи, что у меня срочное совещание. Я сначала отпущу парней Курта.
– Я понял.
Бруно стремительно вышел из темной комнаты.
Карл двинулся было за ним, но почему-то остановился. Замер. Обернулся.
Пустая, темная комната, что располагалась под самой крышей, почти на чердаке, пользовалась дурной славой. Иногда тут скрипели половые доски. Иногда раздавался звук, будто двигалась мебель. Хотя никого в комнате не было…
Мендес внимательно осмотрел все углы. Через приоткрытую дверь проникало достаточно света, чтобы разглядеть все. Комочки пыли в углах, старые, обшарпанные доски стен.
Внезапно Карл понял, что света в комнате становится все меньше и меньше. Он обернулся и увидел, что дверь медленно и бесшумно закрывается.
Это простое событие наполнило его ужасом. Он кинулся вперед. Что-то ударило его по лицу, хлестнуло, словно крылья летучей мыши. Мендес замахал руками, попал ладонью в паутину. Споткнулся о старый ботинок, лежавший на полу, и упал. Дверь с негромким хлопком закрылась у него перед носом.
Когда Кристобаль вошел, двое парней в зеленой военной форме встали.
– Сидите, ребята, сидите.
Бруно пожал обоим руки.
– Мигель, – представился один.
– Хозе, – кивнул другой.
Кристобаль сразу же выкинул их имена из головы. Важно было не то, кто они есть, а зачем пришли.
– Нет, наверное, нужды говорить о том, что я скорблю о смерти Курта Вольке. Это был хороший товарищ, и его потеря – это серьезный удар по нашему движению. – Кристобаль сел в кресло, следом за ним присели на диван гости. – К сожалению, наша полиция умеет только ловить воров на рынке, большее ей, увы, недоступно. А убийство Курта – это… – Бруно развел руками. – Очень непростое убийство.
– Мы пришли с трудным вопросом, Кристо…
– Что угодно!
– Дело в том, что после смерти Курта осталась небольшая, но все-таки действенная организация. Мы с Хозе должны принять решение о том, что делать теперь. У нас есть люди. Они доверили нам свои жизни. Они готовы бороться. Но мы понимаем, что без лидера нам нечего делать в революции. Мы верили Курту, но его с нами нет. Ты наиболее яркий деятель из всего движения. Все остальные так или иначе вынуждены считаться с твоим мнением.
– Просто я действую, тогда как остальные только говорят.
– Перед нами встала проблема, Кристо. Что делать?
– Я понимаю…
Наконец вскинулся второй. Кажется, Хозе.
– Мигель несколько удлинил прелюдию. Прости нас, Бруно. Но я спрошу сразу. Мы и наши ребята хотим влиться в твою организацию. Присоединиться к тебе. Что скажешь?
Кристобаль прикрыл лицо ладонями. Потер лоб.
– Я скажу, что мне нужны люди. Но у нас есть определенные правила…
– Говори.
– Прежде всего мы действуем. Мы не говорим. Мы не убеждаем. Я считаю, что наилучший плакат – это испуганные лица полицаев, а самая лучшая агитация – это правительство, которое идет на попятный. Если вы не готовы взрывать, поднимать толпу на митинг, подчинять революции каждый час и минуту своей жизни, то лучше оставайтесь в стороне. Наша революция – это поезд! Это огромный бронепоезд, который идет полным ходом, и любого, кто встанет на его пути, он сомнет. Человеку, который не готов отдать жизнь в борьбе за наше дело, нечего делать на бронепоезде. И более того, я скажу так: человеку, который не готов отнять чужую жизнь, в нашей борьбе тоже нечего делать! Так вы со мной или нет? – Кристобаль выставил руку перед собой. – Погодите! Я не хочу, чтобы вы принимали решение за себя и за своих людей, не подумав. Если ваши люди готовы к дисциплине, готовы к борьбе, готовы не к болтовне, а к действию, то приходите завтра. Мы обсудим ваше предложение детально. Если же вы предпочтете действовать самостоятельно… я пойму.
С этими словами Кристобаль поднялся. Протянул руку для прощания.
Выйдя из кабинета, он столкнулся с Карлом Мендесом.
– Послушай… – Кристо взял Карла за руку и удивился. Ладонь была холодная и твердая, как у мертвого. Мендес смотрел перед собой пустыми, как стекляшки, глазами. – Карл…
– Да! – Мендес вздрогнул.
– Все хорошо?
– Да.
– Там ребята… – Кристобаль кивнул в сторону кабинета. – Проводи их…
И только тут он увидел, что у молодого еще мужчины совершенно седые виски.
Карл молча скрылся за дверью.
Бруно проводил его взглядом, встряхнулся и поднялся по лестнице этажом выше.
Там в просторной гостиной его ждал Доминик. Эту лысую башку Кристо помнил отлично еще по студенческим волнениям. Тогда этот парень по своей инициативе смастерил целых два ящика коктейлей Молотова и раздал всем желающим.
Они дружески обнялись. Кристобаль достал из бара бутылку и разлил по бокалам виски.
– Не надо говорить про Эрнеста. Я все знаю, – тихо сказал Бруно.
Доминик вздохнул и выпил залпом.
– Я слышал, его выдали? – проговорил Кристобаль, наливая снова.
– Иначе никак. – Доминик никогда не отличался говорливостью. Этим он особенно нравился Кристо.
– И ваших много полегло?
– Много. Нам был звонок.
– От кого?
– Не знаю.
– Может, провокация?
– Мы проверили, прежде чем ехать. Я знал, что он действительно там.
Доминик помолчал немного, а потом добавил:
– Хотя, может, и провокация. Никто не думал. Все любили Эрнеста. Ты знаешь.
– Да. Понимаю. Что собираешься делать? Искать того, кто его сдал?
Доминик мотнул головой.
– А что тогда?
– Мстить хочу. Они его убили.
– Полиция? Власти?
– Да.
– Я могу помочь. Сколько у тебя людей?
41
Все то же здание, все тот же длинный коридор.
Все тот же человек сидит на диване и курит. Терпкий сигаретный запах.
«Дым отечества», – подумал Антон, присаживаясь рядом и доставая «Мальборо».
– Все курите эту отраву? – поинтересовался Яковлев.
– Ничего другого тут не продают, – ответил Антон. – Но если быть честным, то мне нравится.
Шеф понимающе кивнул.
– Ну, что там у вас, Антон Яковлевич? Почему потребовалась такая срочная встреча?
Антон затянулся.
– Дело в том, Юрий Алексеевич, что сложилась довольно дурная ситуация. Кто-то последовательно и довольно прямолинейно убирает всех сколь-либо заметных лидеров подполья.
– Факты?
– Да фактов… одновременно и навалом, и вместе с тем кот наплакал.
– Я вас не понимаю, Антон Яковлевич. – Шеф выпустил струю дыма в потолок и заинтересованно посмотрел на Антона. – Как это сочетается?
– С одной стороны – цепь случайностей. С другой – откровенные бандитские налеты. С третьей стороны…
– А есть и такая?
– Да. С третьей стороны, многие из этих лидеров уже отошли от официального подполья. Убивать их не имело смысла.
– Зря вы так думаете.
– Зря?
– Да, конечно. Человек, который отошел от официального движения, скорее всего сделал это по каким-то причинам. Он может, во-первых, утащить с собой людей. Во-вторых, выдать какие-то связи, в-третьих, просто начать переть против течения. Люди есть, опыт есть, связи, опять же, есть. Такой человек опасен, как ни крути. Убивать не знаю, но на карандаш таких всегда брали. И внимательно за ними следили. А кое-кого потом случайно ледорубом… Ну, вы понимаете.
– У нас до ледорубов не дошло. Но Курта Вольке застрелили прямо перед моим приходом. Мартина Гонсалеса расстреляли какие-то безбашенные парни в серых плащах. Про Леонору вы знаете. Недавно погиб Эрнест Крепкий.
– Согласно официальной версии, он пронес в автомобиль взрывчатку.
Антон скорчил физиономию.
– Сомневаюсь. Местные полицейские не такие идиоты, чтобы проморгать взрывчатку. И вряд ли они решили взорвать себя, чтобы укокошить этого Эрнеста. Достаточно было случайной пули в перестрелке. Его убрали. И не власти, а кто-то со стороны. Да еще Рауль Ловега в коме. Сердечный приступ. Очень удачно! Все движение, получается, обезглавлено. Или это захват власти, или их просто уничтожают. Может быть… Коллеги?
Яковлев покачал головой и затушил окурок в пепельнице.
– Нет. Про коллег наших не думайте. Этим направлением занимаются другие. И пока ничего определенного сказать не могу. Ясно только, что извне вмешательства нет. Если кто-то и действует, то изнутри. Давно и плотно. Нам в данном случае все равно, разведуправление там воду мутит или кто-то другой. Нам важно найти, выяснить, откуда идет угроза.
– Угроза революции?
– Скажете тоже! – Яковлев замахал руками. – Мы не занимаемся экспортом революции, слава богу. Еще неизвестно, кстати, насколько дружественно местные марксисты будут относиться к нам. Это не Фидель! Тут совсем другие интересы. Вы ведь в курсе, что большая часть нацистов после Второй мировой осела именно тут?
– Я полагал, что в Бразилии.
– И в Бразилии тоже. Но большинство – тут. И пока мы достоверно не знаем, кто стоит за местным подпольным движением. Как вы помните из истории, фашисты тоже социалисты. Так что…
– Вы хотите сказать, что аргентинское подполье – это попытка реванша?
– Я ничего не хочу сказать. Я просто уточняю кое-какие акценты, которые вы можете упустить.
Антон немного напрягся.
– Есть что-нибудь еще, чего я не знаю?
Яковлев прищурился.
– Не обижайтесь, Антон. Мы с вами в одной лодке. Я делюсь с вами своими соображениями. Не более…
– Извините, Юрий Алексеевич.
– Да ничего, я понимаю. Возвращаясь к нашим баранам, я хочу вам сказать, что Аргентина страна уникальная. Тут может произойти что угодно. Нацисты, наши с вами коллеги из-за океана, просто бандиты… Такой котел! Вы говорили про налет на этого… Мартин…
– Гонсалес.
– Да. Что там с ним? Откуда информация про налет?
– Я там был. – Антон пожал плечами.
– Да? – Яковлев удивленно посмотрел на него и вытащил еще одну сигарету. – Ну-ну…
– Я шел по списку тех, кто так или иначе входит в Комитет, это некий договорной орган, который…
– Знаю, – отмахнулся Яковлев. – Сбор трепачей.
– Все это делалось в рамках дела Леоноры. И по плану я должен был делать это вместе с Раулем. Собственно, это его список. Но Рауль слег в больницу. Пришлось действовать в одиночку. Гонсалес попросил меня задержаться…
– Настоятельно попросил.
– Да. Хотел проверить мою связь с Ловегой. Ничего криминального. На второй день на него напали. Странная очень компания. Как мне кажется, они применили какие-то новые методы маскировки.
– То есть? Маскировки? В городе?
– Ну да. Охрана очень… Очень странно на них реагировала. Складывалось ощущение, что они не видели нападающих до самого последнего момента.
Яковлева это заявление не удивило.
– Хорошо. И что же дальше?
– Дальше все как обычно – стрельба. Гонсалесы отбивались… И мне показалось, что у Гонсалесов было больше шансов. Если бы не маскировка…
– Понимаю. Вы хотите сказать, что нападающие не профессионалы.
– Нет. Скорее… позеры.
– То есть?
– Ну, они стреляли так, как будто наслаждались собой, наслаждались возможностью убивать.
– Да, не профессионалы. – Яковлев мял в руках сигарету. – А вот когда был убит Курт Вольке… Кажется, вы сказали, незадолго до вашего прихода?
– Да. Я, как мне кажется, убийцу видел. Но нечетко. Словно бы…
– Галлюцинация?
– Нет. То есть может быть. В здании странно пахло. Я поначалу подумал, что пороховым дымом, но потом мне показалось, что запах совсем не такой.
– Я вас не понимаю.
Антон пожал плечами.
– Я не могу выразить точнее. Человек будто шел… ну, знаете, как в дурацком кино. Спецэффекты.
– И вы встретились?
– Нет, он очень ловко проскочил мимо. Я тогда не знал, что Вольке убит. Зайдя к нему в комнату, я сопоставил факты и понял, что видел убийцу.
– Как все странно выглядит, не находите?
Антон улыбнулся.
– Странностей столько, что не знаю, на что смотреть…
– Смотрите. Вольке убит за минуту до вашего прихода. Леонора гибнет, как только вы берете ее в оборот. Гонсалесы получают кровавую бойню, когда берут вас в заложники. Как все странно.
– Э-э-э… Я не совсем вас понимаю.
– Я склонен рассматривать вариант, что кто-то ведет очень тонкую игру. И желает или скомпрометировать вас, или убить… Вокруг вас крутится странная карусель. Мне кажется, вам надо подождать немного. Притормозить и не делать решительных шагов. Может быть, этот кто-то сам сделает неверный шаг.
– Но я бы хотел добраться до верхушки Марксистского актива.
– Самая крупная группировка, если не ошибаюсь.
– Так точно.
Яковлев задумался.
– Может быть… Давайте сделаем таким образом. Если вы не выйдете на Актив в течение двух дней, то сворачивайте активную работу и ждите. Я сам кое-что попробую провернуть за это время.
42
– Сегодня у нас интересный гость, Генрих. – Фон Лоос несся по коридору. Генрих едва поспевал за ним. – Очень интересный. Мы работали с ним долго и тщательно.
– С этими? С выкормышами?
– В том-то и дело, что без них! – Фон Лоос радостно засмеялся. – Мне очень интересно, что вы можете о нем сказать.
– Теряюсь в догадках…
– Этот персонаж должен сыграть свою партию. Сыграть ее так, чтобы ни одна ищейка не унюхала, кто на самом деле поработал. Ни ЦРУ, ни КГБ, ни чертов МОССАД, которого так боится наш доктор. Кстати, вполне обоснованно боится. Вы по ночам спокойно спите?
– Если вы имеете в виду наших израильских друзей, то мысли о них меня не тревожат.
– Отчего же? – Фон Лоос удивился.
– У вас свои секреты, у меня свои. – Генрих почувствовал, что задыхается. – Черт побери, да не бегите вы так, иначе к финишу я просто не приду!
– Простите. Я все время забываю, что вы никак не соберетесь к Зеботтендорфу. Пора бы, пора! – Лоос окинул фигуру Генриха оценивающим взглядом. – Чего вы тянете? Омоложение – это не такой уж и быстрый процесс. Можете не успеть…
Генрих улыбнулся, с облегчением переводя дух.
– Мой возраст – это то, чем я горжусь, друг мой. Стоит ли торопиться и отказываться от заслуженных седин? Иногда мне кажется, что я могу рассказать вам целую историю про каждый седой волосок, каждую морщину. А вы хотите, чтобы я так просто распрощался с частичкой своего прошлого.
– Бог мой, Генрих, – фон Лоос всплеснул руками, – да вы, ко всему прочему, еще и чертовски сентиментальны! Как вы вообще дожили до этого времени?
– Иногда это качество мне даже помогало. Расскажите лучше, что это за человек у нас в гостях?
– Один генерал. – Фон Лоос улыбнулся и открыл дверь. – Прошу.
В кабинете их ждал высокий худой мужчина. Строгий классический костюм был пошит безукоризненно, как бывает только у высоких армейских чинов, для которых одежда – это разновидность доспеха, которому положено сидеть идеально.
Мужчина встал. Коротко кивнул вошедшим.
Генрих отметил шрам через всю щеку и лихие, закрученные кверху усы. Это лицо он неоднократно видел на страницах газет. Генерал Видела.
Фон Лоос раскрыл объятья, но, подойдя ближе, просто сжал обеими ладонями руку генерала.
– Хорхе, я рад, что вы снова нашли время и посетили меня.
– Это было несложно. – Генерал улыбнулся, но шрам превратил его улыбку в оскал. – Пост главнокомандующего, к сожалению, всего лишь синекура, которой кормит меня госпожа президент. Из личной симпатии, видимо. Конечно, если на нас кто-нибудь нападет, то про меня вспомнят. Но на такую удачу я не рассчитываю.
– У вас замечательное чувство юмора. – Фон Лоос повернулся к Генриху. – Прошу знакомиться. Мой ближайший советник и друг. Генрих…
– Я думал, вы погибли, – перебил его Видела.
Генрих пожал плечами.
– Надеюсь, то, что я избежал гибели, вас не сильно огорчает?
– Совсем наоборот.
– Благодарю. – Генрих пожал генералу руку. Ладонь у того была сухая, твердая, состоящая, казалось, из одних только углов.
Фон Лоос усадил их в глубокие кожаные кресла.
– Итак, мой генерал, каковы ваши воинские будни? Я вас давно не видел, потому мне всё интересно.
– Будто не знаете. – Видела снова оскалился.
– Чего-то наверняка не знаю.
– Кстати, я бы хотел знать, чего же вы действительно не знаете. – Генерал ткнул в сторону фон Лооса длинным пальцем и засмеялся.
– Многого, дорогой мой, многого.
Генерал закинул ногу на ногу, небрежно оправил задравшуюся штанину.
– Дела, как и прежде, отвратительны. У меня под носом, буквально под носом действуют всякие подонки из числа леваков. А уж что делается в казармах, мне страшно и вообразить. Представьте, вчера обнаружил листовку, приклеенную к дверям штаба.
– И что же в ней говорится?
– Какой-то очередной бред на тему страдающего народа… – Видела отмахнулся. – Такое ощущение, что это я виноват в том, что Аргентина находится в таком положении. Чертовы леваки сами загнали страну в тупик и теперь пытаются найти виноватого.
– Это уж как водится. – Фон Лоос развел руками. – Мне иногда кажется, что этими «борцами с диктатурой» руководят совсем уж нелюди. Эдакие, знаете, существа без души и сердца. Я никогда не признавал террор методом борьбы. Взрывать бомбы нужно на войне.
– Они так и делают, – тихо сказал Генрих. – По крайней мере, им так кажется.
– Но с кем они воюют? – удивился Видела.
– С вами.
– Со мной? – Генерал приложил руку к сердцу и наклонился вперед. – Со мной?!
– Да-да! – Генрих пожал плечами. – Вы – это диктатура, вы – это кровавый режим.
– Я?!
Генрих заметил, что шрам у генерала покраснел.
– Конечно. Вы и еще шеф тайной полиции. А также шеф простой полиции. И генеральный прокурор. И мадам президент. Хотя она в последнюю очередь. Но только потому, что является, как ни крути, женой Перона. Это пропаганда, генерал. Обычная пропаганда. Которая прикрывает борьбу за власть. Всего лишь борьбу за власть. Вы же сами понимаете, нельзя заставить солдат атаковать неизвестно кого или там… Врага с большой буквы. Солдату нужен конкретный враг, как Иван или какой-нибудь Франсуа-лягушатник. Тогда солдат поднимется из окопа, потому что ему есть в кого воткнуть штык. Сейчас в качестве врага выступаете вы. Лично. Я вас уверяю, когда-нибудь вы еще увидите этот плакат: «Видела – палач!», хотя не думаю, что вы лично замучили хотя бы одного марксиста.
Хорхе Видела погладил усы.
– Да, конечно, вы правы. Я, признаться, едва не вспылил. Меня очень раздражает невозможность действовать.
– Как и всякого военного, – ввернул фон Лоос.
– Да, вероятно. Собственно, я пришел к вам как раз с этим…
Фон Лоос изобразил живейшую заинтересованность.
– …я знаю, что у вас есть определенное влияние… В парламенте.
– Ну, это, конечно, сильно сказано… – Лоос покачал головой. – Кто же может влиять на этих крикунов.
Генрих отметил, что тот ведет себя как невеста на выданье. Он уже начал приблизительно догадываться, что за сватовство проходит сейчас на его глазах.
– Не преуменьшайте своих возможностей. – Генерал опять оскалился. – Тем более что многого и не нужно.
– Что же?
– Всего лишь чтобы меня позвали.
43
Многие ошибочно предполагают, что парламент – это обыкновенное сборище трепачей.
Такая точка зрения, безусловно, имеет право на существование. Однако часто ее придерживаются люди, недостаточно знакомые с историей вопроса.
Что же такое парламент?
Помимо названия сигарет производства компании «Филипп Морис», это еще и один из высших органов государства, который считается представительным. То есть теоретически люди, ежедневно заседающие в большом и светлом дворце, пользующиеся государственными льготами и получающие немаленькую зарплату, представляют интересы народа при управлении государством.
Откуда это известно?
Ответ прост. Выборы.
С определенной регулярностью, раз в три-четыре года, каждая страна, где имеется такое замечательное политическое изобретение, как парламент, сходит с ума. На улицах появляются плакаты с изображением «лучших представителей». Письменные ящики забиваются листовками, где будущие власти предержащие сыплют обещаниями, главное из которых просто и незатейливо было выражено в одном антисоветском анекдоте: «Жить будет лучше!» На каждом заборе объявления о пропаже, купле, продаже, обмене, просто неприличные надписи и рисунки заклеиваются важными чинными лицами. И за одну ночь эти радетели о благе народа сменяются другими, из конкурирующей партии. В глазах пестрит. От лозунгов хочется взвыть. И все те же рак, лебедь и щука пытаются подобраться к веревкам, которыми намертво приделана к берегу телега государства. Не дай бог, кто-нибудь отвяжет да потянет в свою сторону. Так продолжается долго, абсурд городится на нелепость, комедия превращается в фарс. И наконец! В кульминационный момент, когда, кажется, страна сошла с ума бесповоротно и окончательно, все замирает.
Выборы.
И оболваненные граждане несут свои паспорта в избирательные пункты, чтобы там черкнуть пару крестиков в бумажке и бросить ее в картонный или деревянный ящик, называющийся странно – урна. В сознании обывателя прочно закрепилась связь слова «урна» и слова «мусор». Таким образом, приравнивая свои голоса к мусору, избиратели ни на что не надеются в этот день. Для них, простых граждан, жизнь успокаивается. Волшебным образом с заборов и стен за одну ночь исчезнут напыщенные рыла, в ящики перестанет сыпаться предвыборная брехня, а газеты и телевидение вновь превратятся в то, чем были некоторое время назад, – в развлечение.
И только там, где сидят будущие народные избранники, накал страстей только-только доходит до максимума. Тут нервы напряжены до предела, до звона. Тут выпиваются десятки литров алкоголя, выкуриваются пачки сигарет. Шерсть на загривках дыбом, с клыков падает слюна, пена, а кое-где и кровь.
В истории выборов были случаи, когда кое-кто из особенно рьяных и азартных борцов за народное счастье пускал себе пулю в лоб, не выдержав этого страшного затишья, где слышен только шелест бумаги в стенах избиркома.
Но для чего же люди так рвутся в большой дворец, где каждый день они будут вынуждены слушать занудную трескотню о налогах, законах, проблемах, вопросах? Для чего?
Конечно же – ради власти.
И не просто абстрактной власти человека над человеком, а ради того, что эта власть дает. А дает она во всех странах мира немало. Помимо традиционной депутатской неприкосновенности, возможность кулуарно решать торговые вопросы в пользу своих фирм, иметь касание к государственному бюджету, брать взятки, наконец. И заработать себе пенсию. И множество мелких, приятных, выгодных мелочей.
Власть нужна человеку, чтобы иметь деньги и ничего при этом не бояться.
Однако никто не станет отрицать и влияние парламента на Историю. Деньги, власть – все это мелко! Лишь История делает человека великим.
Полагаю, что английские монархи, живущие в стране «древнейших парламентских традиций», не раз прокляли своего предка, Иоанна Безземельного, за чертову «Великую хартию вольностей».
В 1641 году парламент отказался финансировать подавление мятежа в Ирландии. И через год все те же парламентарии, радетели о народном благе и процветании, вытащили на свет божий Оливера Кромвеля, завертев кровавую мельницу по всей стране.
Фрондирующая Государственная дума, втыкавшая палки в колеса самодержавия, так или иначе привела к власти большевиков, сделав возможной Октябрьскую революцию.
В Веймарской республике правительство довело народ, о благосостоянии которого неустанно пекся опереточный парламент, до того, что люди легко и радостно приняли идеи Адольфа Шикльгрубера.
В 1789 году Генеральные штаты в своих попытках «исправить сложившееся положение» провоцируют Великую французскую Революцию. Говорят, что помосты, на которых стояли гильотины, вскоре перестали впитывать кровь и стали источать стойкий запах гниющей плоти.
За каждой из революций, за каждой гражданской войной, за каждым кровавым потопом стоят эти тени без лица, совести и чести. Парламентарии. Избранники.
Счастлива страна, чей правитель имеет сильную руку. И несчастен тот народ, кто полностью полагается на тех, кого якобы избирает.
Называть парламентариев сборищем трепачей можно, но в этом не будет всей правды.
Нет.
Парламент – это сборище болтунов, чьи руки всегда будут по локоть в крови. В крови собственного народа.
44
День выдался трудным. Антон встретился с десятком разных людей, так или иначе имеющих отношение к подполью. Он беседовал, добивался встреч, цедил информацию. Трое оказались простыми жуликами, прикрывающимися идеей о «Великом Деле». Еще один просто сумасшедшим. От остальных толку было не больше.
Все делали вид, что знают много и информация, которой они обладают, стоит очень и очень дорого. Некоторые пытались сагитировать Антона на «помощь революции». А у отдельных личностей хватило ума угрожать Ракушкину. С последними Антон разобрался легко и даже с некоторым удовольствием.
Операция, так лихо начавшаяся, откровенно заходила в тупик. Подобраться к товарищу Кристо не получалось никакими силами. То ли революционер закопался очень глубоко, то ли везение Антона взяло отпуск… Складывалось ощущение, что вокруг Кристобаля Бруно работал хорошо отлаженный механизм, который отводил от него внимание, отталкивал ненужных людей.
После того как были отменены все заседания Комитета, связь Антона с разными подпольщиками прервалась. Оставшиеся адреса и контакты, обозначенные в тетрадке у Рауля, оказались пустышками. Там либо никто не жил, либо обнаруживались совершенно посторонние люди. Один раз указанного адреса вообще не оказалось на карте Буэнос-Айреса. Либо это был хитрый шифр и надо было знать ключ, либо старик просто ошибся. Спросить было не у кого. Рауль Ловега лежал в коме и в сознание не приходил. Антон часто навещал его, персонал больницы уже знал Ракушкина в лицо. Люди Ловеги старались держаться от Антона подальше. На контакт шли неохотно. Часто давали противоречивую, ложную информацию.
Ракушкин устал.
Он поднялся на третий этаж. Подошел к двери своей квартиры и только тут почувствовал незнакомый запах.
Прижавшись к стене, Антон осторожно оглядел коридор. Никого. Тишина.
И только острый запах сигар висел в воздухе.
«Ну и что? – сказал себе Ракушкин. – Ну, сигары… Ну и что? Кто-то прошел по коридору, курил…»
Однако это не успокаивало.
«Я ни разу не видел, чтобы кто-то из моих соседей курил сигару».
«Это ничего не доказывает. Могли прийти гости. Уходя, кто-то закурил…»
Но и это рассуждение не принесло успокоения.
Стараясь не шуметь, Антон подобрался к двери. Аккуратно толкнул ее.
Заперта. Уже хорошо.
Он достал ключи и, не спуская глаз с дальнего неосвещенного конца коридора, где располагался мусоропровод, щелкнул замком.
Теперь надо было действовать быстро.
Антон резко распахнул дверь, стараясь, чтобы она как можно сильнее ударила в стенку – на тот случай, если там кто-то задумал спрятаться. И пока створка не вернулась на место, нырнул внутрь, сразу пригибаясь и уходя в узкий закуток между ванной и кухней. Там в особом потайном ящичке лежал неучтенный «кольт».
В квартире было тихо. Темно. И только настойчиво капал на кухне кран.
Через неплотно закрывшуюся дверь проникала внутрь узкая полоска света. Антон осторожно перебрался поближе к выходу. Заглянул в спальню. Затем щелкнул выключателем.
Никого.
Он проверил кухню, туалет, ванную. Пусто.
Ракушкин опустил пистолет и закрыл входную дверь.
– Черт знает что…
Он втянул носом воздух. Запах сигар никуда не пропал.
– Действительно, черт знает что…
Для верности Антон проверил даже стенные шкафы.
Пусто.
И только закончив осмотр, Антон заметил лежавший на письменном столе конверт. Обыкновенный почтовый конверт. Из плотной белой бумаги. Без каких-либо надписей, штемпелей и марок.
Ракушкин сморщился, как от зубной боли.
– Ненавижу сюрпризы…
Внутри лежала свернутая вчетверо бумага. Спасибо, что не черная метка.
Антон развернул письмо.
«Пожалуйста, завтра, в десять утра, на площади перед президентским дворцом, около дома номер двадцать три».
Ракушкин повертел листик в руках, посмотрел на просвет. Наконец понюхал и скривился.
Пахло, увы, не духами, а все теми же сигарами.
– С женской линией тут плохо… – пробормотал Антон. Запер дверь, спрятал пистолет и завалился на скрипучую кровать.
45
В этот день, 363 года назад, крестьянин Костромского уезда, хмуро посмотрев на надменного ляха, кивнул головой: «Дорогу покажу…» Позже про Ивана Сусанина напишут много небылиц, сказок, оперу и нагородят кучу вранья. Неизменным останется только подвиг.
В этот день, 345 лет назад, валлийцы с хорватами вырезали к чертовой матери большую часть Магдебурга, это событие вписано кровавыми буквами в историю Тридцатилетней войны.
В этот день, 203 года назад, в полицейский участок Москвы ворвался перепуганный человек, весь в поту, чтобы дрожащими руками передать конверт с донесением о том, что 113 рабочих текстильной мануфактуры умерли от бубонной чумы.
184 года назад Национальная ассамблея во Франции одобрила применение гильотины.
59 лет назад Владимир Ильич Ленин начал писать «Письма издалека», где призовет перейти к новой фазе революции.
А всего 13 лет назад Ли Харви Освальд заказал свой карабин. Впоследствии он будет говорить, что намерение убить Кеннеди имелось у него уже тогда.
В этот день и в этот год Патрицию Херст, наследницу магната Херста, признали виновной в вооруженном ограблении, которое она совершила вместе с ребятами из Симбионистской армии освобождения. Судебный процесс был долгим. Патриция все валила на маоистов, которых после нескольких успешных спецназовских зачисток осталось совсем мало. Однако те, кто уцелел, поведали-таки обвинению о том, как сама мисс Херст придумывала план ее же собственного «похищения». Дело пахло дурно, и деньги папочки не помогли.
Двадцатого марта 1976 года произошло множество событий. Три из них остались незамеченными.
Во-первых, Антон Ракушкин пришел в назначенное место.
Во-вторых, скучающий представитель одной из партий в парламенте Аргентины смотрел на часы и мусолил в руках конверт с уже готовым текстом обращения: «К здоровым силам нации и лично к генералу Хорхе Виделе». На конверте значилось: «Вскрыть и представить на рассмотрение ровно в 10.15». Кворум, точно так же скучая, рассматривал узоры лепнины на потолке.
В-третьих, видный парламентарий, член проправительственной партии «Единство» Домингос Идальго вышел из автомобиля, оставленного перед президентским дворцом, намереваясь пройти на аудиенцию к госпоже президенту.
Через тринадцать дней после этого Португалия примет новую Конституцию и возьмет курс на социалистический путь развития, правда ненадолго. Через четырнадцать дней принц Сианук покинет пост руководителя Камбоджи, а его место займет представитель «красных кхмеров». А через двадцать шесть дней Индия и Пакистан восстановят дипломатические отношения.
Очень вероятно, что события в Португалии, Камбодже и Индии никак не связаны с тем, что готовилось на площади Колон. Однако кто знает, не опоздай Антон Ракушкин к месту событий, не задержись сеньор Идальго в пробке, как бы сложилась вся последующая история человечества. Ведь даже самые крупные события и происшествия, потрясения и чудеса начинаются с малого.
Как бы то ни было, а Ракушкин оказался на месте вовремя, конверт с текстом заявления мусолился в руках депутата, а ни о чем не подозревавший Домингос Идальго шагал по брусчатке. Впрочем, у него не было другого выбора.
Антон чувствовал себя откровенно не в своей тарелке. Его преследовало чувство, что вот именно сейчас ему между лопаток целится какой-то молодчик с сигарой в зубах.
– Далась мне эта чертова сигара! – в сердцах сплюнул Ракушкин.
Он вытащил из кармана сигареты, закурил. Дым «Мальборо» показался сладким и мерзким.
«И действительно дерьмо…» – Ракушкин бросил недокуренную сигарету.
На площади, несмотря на относительно ранний час, было людно. Какие-то люди с фотоаппаратами, то ли туристы, то ли репортеры. Они прохаживались туда-сюда, иногда щелкая голубей, деревья и президентский дворец вдалеке. Стояло несколько машин с антеннами, кажется телевизионщики. Экскурсовод экспрессивно размахивала руками перед группой японцев, которые, как завороженные удавом кролики, смотрели на ее обширный, загорелый и выпирающий из блузки бюст.
Подъехала машина. Шофер выскочил. С легким щелчком открылась дверь.
Репортеры оживились. Кто-то сделал пару снимков, они явно знали приехавшего.
Тот приветливо улыбнулся, белозубая улыбка блеснула на солнце, и легким шагом направился в сторону президентского дворца. Шофер и, видимо, по совместительству телохранитель замешкался около машины. А потом, как бы даже не торопясь, двинулся следом.
Антон еще успел подивиться такому равнодушному отношению к профессиональным обязанностям, как его внимание привлек юноша, бодро шагавший навстречу человеку из машины.
В руках у парня был здоровенный бумажный сверток. На голове – натянутая на глаза кепка. Он шел точно наперерез человеку, который направлялся к президентскому дворцу. Ракушкину бросилась в глаза нерешительность водителя, тот замедлил шаг, неумело сделал вид, что споткнулся, оглянулся посмотреть на якобы мешавший камень на дороге.
– Чертовщина… – пробормотал Антон. Он подобрался, отделился от стены, которую подпирал до сих пор.
Случившееся далее не было для Ракушкина неожиданностью. Единственное, чего он не ожидал, так это того, что репортеры, казалось, тоже были готовы. Один из щелкоперов начал съемку на несколько секунд раньше…
Парень со свертком рывком вытащил из-за пазухи пистолет.
И сделал еще два шага, прежде чем начать стрелять.
Человек из машины, Домингос Идальго, ничего не видел – до первого выстрела.
БАМС! Пуля ударилась о фонарный столб и с визгом ушла в небо. Идальго вздрогнул. Повернул голову на звук. Защелкали фотоаппараты, вспышки. Японские туристы спрятались за своего массивного экскурсовода, которая, подобно курице, спасающей цыплят, прикрыла их своими руками, как крыльями.
На лице Идальго отразился ужас.
БАМС! Пуля выбила фонтанчик крови из его груди. Этот фонтанчик разойдется многотысячным тиражом во всех газетах Буэнос-Айреса и Аргентины.
Шофер вытаскивает пистолет, бежит на помощь своему клиенту, который находится на линии огня, между телохранителем и убийцей.
БАМС! Вторая пуля пришлась в живот.
БАМС! Идальго упал. И убийца увидел телохранителя с оружием. Чуть сместил прицел. БАМС!
Немного позже врачи скажут, что ранение не смертельно, однако в ту минуту шоферу показалось, что его душа уже отлетела… Шофер-телохранитель падает лицом на брусчатку и не шевелится. Видимо, это и спасает ему жизнь.
Стрелок рывком разворачивает бумагу. И над застреленным Домингосом Идальго некоторое время развевается яркий красный плакат: «Смерть капиталистам! Революция освободит народ!» Этих мгновений достаточно, чтобы репортеры запечатлели картину во всех деталях.
Потом плакат падает, накрывая убитого. Стрелок швыряет пистолет в толпу журналистов и бежит к деревьям парка.
Вся эта сцена длилась каких-то несколько секунд, но Антону показалось, что вечность. Он вздрогнул, только сейчас услышав крики ужаса, плач перепуганной экскурсоводши, визг случайных прохожих. До этого момента были только выстрелы и буханье крови в висках.
Ракушкин дернулся вперед, стрелка еще можно было догнать, схватить… Но чья-то крепкая жесткая рука ухватила его за плечо.
– Не делайте глупостей! – Знакомый сигарный перегар ударил по ноздрям, как нашатырь. – Ему уже ничем не поможешь!
Обалдевший Антон некоторое время рассматривал человека, который держал его за предплечье.
– Вы же… Вы же умерли…
Пожилой человек пожал плечами.
– А еще я стал персонажем ваших анекдотов. Давайте не будем задерживаться, тут людно.
И он кивнул в сторону лестницы.
46
Генрих Мюллер. Он родился 28 апреля 1900 года. В городишке, который он одновременно будет и любить, и которого немного стесняться. Пазинг. Неподалеку от Мюнхена. Отец, прожектёр и неудачник, тем не менее нежно любимый сыном, возлагал на мальчика большие надежды. Впрочем, на самого себя Алоиз Мюллер тоже надеялся, иногда даже слишком. Сменив множество профессий, он так и не нашел себя. Зато сын превзошел его самые смелые ожидания. Когда в 1946 году Алоиза таскали на допрос хмурые ребята из американской разведки, тот только презрительно кривил губы.
– Где мой сын? Если найдете, скажите мне. Если я до того времени не помру!
Власть победителей над побежденными была полной, почти абсолютной. Однако старика не били. Побаивались, что единственный сын, похороненный сразу в двух могилах, все-таки не покоится ни в одной из них. Алоиз часто посещал кладбище Берлин-Нойкельн, садился возле памятника и молчал. Жене он говорил: «Я катаюсь туда просто так. Надо же иметь место, где можно пообщаться с сыном. Пусть даже это и не его могила, но все-таки…» Дом он покидал не часто. На журналистов спускал большого и злобного овчара по кличке Адольф.
– Поговорите с Адольфом, придурки! – кричал старик и угрожающе махал палкой вслед убегающим писакам.
Слава богу, Алоиз не дожил до того, как могилу на Берлин-Нойкельн вскрыли. Старик помер бы от смеха. Кости в могиле принадлежали шести разным людям.
За два года до своей смерти, 17 мая, в День отца, Алоиз Мюллер обнаружил на крыльце своего дома огромную охапку тимьяна [4]. Хмурый Адольф меланхолично выглядывал из своей будки. Шел дождь, дурная примета на День отца. Но Алоизу было все равно. Он стоял под холодными струями, держал в руках охапку тимьяна, которую потом высушит, чтобы заваривать иногда, по воскресеньям, и плакал. Алоиз Мюллер был счастлив.
Что бы там ни говорили о Генрихе… но это был его сын.
В тот год умер Берия. А Генрих Мюллер на огромном, пропахшем морем, угольным дымом и потом корабле прибыл в Буэнос-Айрес.
Эти два события, казалось, были ничем не связаны между собой. Но… кто знает?..
– Я полагал, что вы умерли… – повторил Антон, закрывая за собой дверь.
– Многие полагали, что я умер, – ответил Генрих. Он подошел к окну, отодвинул плотную штору и выглянул наружу. – Я и сам так думал.
– А что же вас… Что же… вас убедило… – Ракушкин вдруг понял, что не может подобрать слова.
– Воскреснуть? – Генрих повернулся к Антону. – А скажите, каким образом получилось так, что вы меня узнали? Неужели я совсем не изменился?
Антон пожал плечами. Первый шок прошел, на его место пришла собранность.
– Ваш портрет входит в один из тренингов визуальной памяти.
– Если не ошибаюсь, там их два. Разного возраста.
– Откуда вы знаете?
– Я один из тех, кто этот тест составлял. – Генрих присел на стул около окна, периодически поглядывая за штору. – Я вас не шокирую своими заявлениями?
Антон не нашелся что ответить.
– Эту квартиру я прикупил относительно давно. Когда только-только прибыл в этот город. Не поверите, но мне, сменившему массу лиц, стран, паспортов, Аргентина кажется чем-то родным. Хотя, казалось бы, у таких, как я, не может быть Родины. Но… – Генрих снова выглянул из-за портьеры. – Я не пользовался этой квартирой, наверное, год. Да и до того наведывался сюда, только чтобы прибраться. Как вы считаете, этого достаточно для конспирации?
– Не слишком.
– Вот и я так считаю.
– Было бы более правильно, если бы за квартирой следил кто-то третий.
Генрих кивнул.
– Вы все хорошо помните. Когда я работал с вашими ребятами, я с удовольствием читал ваши учебники. Все толково, все по делу. Мне вообще нравится ваша страна.
– Странно звучит.
Мюллер покачал головой.
– Если вдуматься – нет. Вы, коллега, должны понимать, что такое долг и что представляет собой наша работа. Так что никаких противоречий в том, что я говорю, нет.
– А я читал какие-то материалы о том, что вы работаете на ЦРУ.
– Все верно. Есть такие материалы… Я же их и придумал. – Генрих вздохнул. – Впрочем, ерунда это все. Не о том мы с вами говорим.
– Боитесь разболтать секреты…
– Да какое там! – Генрих отмахнулся. – Всю эту, – он потряс в воздухе руками, словно стряхивая с ладоней тяжелые капли, – шелуху вы можете вычитать в любой желтой газетенке. Я не затем притащил вас сюда. Я просто даю вам возможность прийти в себя после такой… неожиданной встречи.
– Считайте, что уже пришел. И скажите мне сразу: мы что, кого-то ждем? Вы так часто выглядываете в окно, что я уже начинаю беспокоиться.
– Это хорошо, что вы пришли в себя. Сразу вас проинформирую, что у этой квартиры есть два запасных выхода. Один вот там. – Мюллер ткнул пальцем в сторону прихожей. – За платяным шкафом. А второй на кухне. Около мусорного ведра. Учтите это, если придется уходить в спешном порядке. Мы, конечно, никого не ждем. Я просто опасаюсь…
– Чего?
– Сейчас, уважаемый коллега, очень многого. Когда ведешь игру на два фронта, всегда приходится опасаться. Причем обеих сторон. Ну да ладно, перейдем к делу. То, что вы видели сегодня, коллега, это политическое убийство. Парня, который сделал это, уже скорее всего нет в живых. Убитый, Домингос Идальго, человек крупный на местной политической арене. Точнее, был крупным. Его убийство – это серьезный удар, и парламент ответит на него однозначно.
– Каким образом?
– Уже готов текст заявления, с которым сегодня выступит парламент. Это письмо. Оно будет напечатано во всех газетах, там и ознакомитесь. Более того, письмо будет отправлено одному аргентинскому генералу.
– Что за письмо?
– Приглашение взять власть в собственные руки, заменив президента, неспособного управлять страной. Формальный повод – убийство сеньора Идальго. Все-таки парламентариев убивают не каждый день и далеко не всегда прямо у порога президентского дворца. Потом генерал возьмет власть.
– Зачем вы мне это рассказываете? Разве это не внутреннее дело Аргентины?
– Внутреннее! А вам, коллега, я рассказываю потому, что те парни в серых плащах, которые устроили бойню в квартале Гонсалесов, были посланы за вами. И сделано это было топорно и нелепо. Специально! – Мюллер стукнул по столу кулаком. – Специально! Вам понятно? Чтобы вы увидели это и поверили мне, когда я приду к вам со своими абсурдными рассуждениями.
– А в доме у… Вольке?
– Они же! И тогда вам крупно повезло. Зато вы представляете, в общих чертах, с чем имеете дело. И этот несчастный паренек, этот… Аркадио Мигель…
– Тоже вы?
– Не я! – Генрих выглянул в окно. – Не я… В этом-то и дело. Я мирно доживал свой век на своей вилле. Попивал холодный чай и ни о чем большем не мечтал. На кой черт мне нужна вся эта чехарда? Если даже Симон Визенталь думает, что я застрелился… – Мюллер усмехнулся. – Все было хорошо. Пока не появился этот псих, доктор!
– М… Менгеле? – Антон совсем обалдел.
Генрих окинул его удивленным взглядом.
– Вы бы лучше присели. И выпили чего-нибудь прохладительного. К сожалению, могу предложить вам только воду из-под крана. Менгеле умер! И черт с ним. Утонул. Это информация точная. Уж не знаю, евреи его утопили или он сам… Другой доктор и один чертов выскочка-барон… В общем, эти парни – дело рук нашего дорогого Зеботтендорфа.
Антон хотел что-то сказать, но Мюллер махнул рукой.
– Молчите, не перебивайте. Я вам расскажу все, что знаю сам. Главное, вы должны понять: все эти перевороты, все эти бунты, взрывы и убийства – это все не имеет к внутренним делам Аргентины никакого отношения. Ни ЦРУ, ни МОССАД, ни ваше ведомство тоже не касаются того, что сейчас будет происходить. Это борьба за реванш. Большой реванш. По сравнению с ним Вторая мировая – детские игры. Все ваши ракеты, бомбардировщики и подводные лодки – вздор. Если то, что варят сейчас в аргентинском котле наши немецкие повара, вырвется наружу, третья мировая будет вестись не на полях сражений, а в умах людей. Буквально! А это страшно.
– Зачем вы мне это рассказываете?
– Я уже стар, но не желаю доживать свой век в аду. К тому же у меня есть дети. И внуки. Понимаете? – Генрих внимательно посмотрел на Антона и добавил: – Ничего, поймете. – Он отодвинул штору. – Кстати, вот ваш соотечественник. Посмотрите в окно.
Ракушкин выглянул. На площади метались люди, место убийства уже оцепила полиция. Фотографы щелкали вспышками.
– Вот там. – Генрих показал пальцем. – В пиджаке и белой рубашке. Пишет в блокнотик. Это Таманский. Постарайтесь не терять с ним контакта. Парень пронырливый, а руководство, и ваше в том числе, держит его за идиота. К тому же у него намечаются проблемы с вашей властью. Об этом я тоже вам расскажу. У вас как с памятью?
– Не жалуюсь.
– Тогда слушайте…
Когда дверь внизу хлопнула, Генрих осторожно выглянул в окно. И пробормотал, глядя вслед удаляющемуся Антону:
– Если бы не проклятый грузин, у них сейчас была бы вся Европа….
Немец Мюллер не различал мингрелов и грузин.
47
Время – это интересная штука. Оно может двигаться то быстрее, то медленнее, хотя общепринятая наука это и отрицает. А иногда выкидывает совсем уж сложные номера. Иногда за год невозможно успеть того, что делается за час. Кто в этом виноват? Человек? Или это просто шутки, которые выделывает над нами время?
Если бы кто-то придумал машину, позволяющую отмотать часы, недели и месяцы назад и взглянуть на уже известные события с другой стороны, как бы выглядела история человечества? Балаганом? Или она повергла бы смотрящего в ужас?
Нет ответа.
И, наверное, не будет, пока еще есть здравомыслие в ученых умах, хотя бы малая толика. Впрочем, после атомной бомбы, напалмовых бомбардировок и идеи о равноправии полов ожидать трезвости ума от ученых – все одно что ждать человеколюбия от акулы.
Когда Аркадио Мигель утопил рукоятку управления адской машинкой и бомба под трибунами шарахнула во всю мощь, Костя Таманский стоял неподалеку, с восторженностью неизбалованного советского туриста наблюдая за красочным шествием.
Когда это было? Давно? Месяц назад? Час? Может быть, год?
Время вытворяет черт знает что с человеком и нисколько не смущается этого.
Иногда Таманскому казалось, что прошло очень много времени. А иногда события того страшного дня вставали перед ним со всей ясностью.
Сейчас, вернувшись на площадь Колон и увидев лужу крови, руку со сжатыми пальцами, что высовывалась из-под белой простыни, полицейский кордон и бесчисленных репортеров, Костя ощутил, как время размывается, лишается смысла. Он опять оказался там, под обвалившейся бутафорией, среди криков и плача.
А Билли Джобс все щелкал и щелкал своим «Кэноном». Зарабатывая себе славу и деньги.
Впрочем, то, что у Билли есть «Кэнон» и что его фамилия Джобс, Костя узнал потом. Когда приехала полиция, пожарные, «Скорая помощь». Площадь оцепила национальная гвардия. И всех, у кого не хватило ума покинуть место взрыва сразу, погнали через фильтрационный пункт, где проверяли документы, а тех, у кого их при себе не оказывалось, увозили в неизвестном направлении.
Какой-то усатый и похожий на таракана толстяк в форме долго и пристально разглядывал паспорт Таманского, кидая косые взгляды на закопченную физиономию советского журналиста. За соседним столиком стоял американец, с брезгливо-скучающей миной ожидавший, когда наконец полицейский сообразит, с кем имеет дело. Костя засмотрелся на фотоаппарат американца и пропустил вопрос.
Усатый «таракан» дернул его за рукав.
– Простите, – сказал Таманский. – Я не услышал… Плохо понимаю испанский.
– Ваше имя? Кто вы такой? – Английский у «таракана» был чистым, но Костя почти ничего не понимал.
– Имя… Константин. Тамански. Константин Тамански. – Костя подумал и выдал заученную фразу: – Я советский подданный. Я журналист. У меня есть разрешение.
– Журналист? – обернулся к нему американец с дивным фотоаппаратом. – Советский?!
Костя, не зная что ответить, кивнул.
– Это мой коллега и друг! – заявил американец и хлопнул «таракана» по плечу. – Слышишь, амиго?
– Я тебе не амиго, – огрызнулся усатый в форме.
– Неужели?! Вот это да! – Американец рассмеялся и вдруг неуловимым движением ткнул в карман «таракану» какую-то бумажку.
Надо отдать должное аргентинскому полицейскому, бумажка исчезла бесследно, а усатое лицо расцвело в нежнейшей улыбке.
– Прошу вас, сеньор Тамански! – Он махнул рукой, два парня с автоматами расступились, пропуская Костю туда, где его уже ждал неожиданный благодетель.
Американец – теперь Костя рассмотрел его получше, – полноватый, даже чуть грузный, с гладко выбритым лицом и редкими, прилипшими ко лбу волосами, в белоснежной рубашке навыпуск, решительно протянул руку.
– Здравствуйте, товарисч, – после чего белоснежно и радостно заулыбался.
Костя пожал руку, раздумывая, обидеться на это исковерканное «товарисч» или все-таки не стоит. Но штатовский коллега улыбался так обезоруживающе наивно и открыто, что обижаться на него было совершенно невозможно.
– Константин Тамански, – кивнул Костя.
– Уильям Джобс. – Американец хлопнул Таманского по плечу. – Хорошо, что я вас встретил. Эти герильерос вытрясли бы из вас всю душу. – Он вдруг спохватился: – Зовите меня Билли, Уильям – это слишком официально.
Джобс подхватил Таманского под локоть и повел вниз по улице.
– Вы сунули тому человеку деньги… – начал Костя, с присущей каждому советскому человеку неловкостью в вопросе, касающемся финансов. – Я вам должен отдать.
– Конечно! – обрадовался Джобс. – Конечно, должны! Только денег я не возьму.
– А что же возьмете?
– Интервью.
– Гхм… – Костя чуть притормозил. – Может быть, лучше деньги?
Билли заржал.
– Бросьте, Тамански! Никакого упоминания вашего имени, можете не беспокоиться! Я понимаю вас, кое-что знаю о Советах, брал интервью у многих ваших. Даже, не поверите, у Зорина.
– Не может быть.
– Может-может. Очень интересный человек. Я ему обязан целым циклом статей. Да! Так что, мистер Тамански, я, корыстный американский капиталист, не слезу с вас, пока вы мне не дадите интервью!
– Ну, хорошо. – Костя махнул рукой. – Интервью так интервью. Только мне нужно переодеться…
– Да, – Джобс серьезно кивнул, – и врач вам не помешает.
– Врач?
– У вас кровь тут.
Билли похлопал себя по потному лбу.
Кровь действительно была.
– Чрет побери! – Костя удивленно рассматривал окровавленную ладонь. – Ударился, что ли?
– Да ерунда, царапина. Надо только все промыть и хорошенько продезинфицировать. Тут чертова туча всяких микробов. Вы во Вьетнаме были?
– Нет, бог миловал. – Костя все разглядывал руку.
– А я был, вот там такая царапина – проблема. А тут нет, ерунда. Я провожу вас… Пойдемте!
Но внимание Таманского привлекло другое.
На тротуаре, в невесомом и когда-то шикарном, а теперь смятом, с торчащими остьями платье из перьев сидела девушка. Она размазывала слезы и яркую косметику по лицу и рыдала в три ручья. Ободранные локти и колени. Волосы, запекшиеся от крови.
Таманский подошел к ней. Сел рядом. Заглянул в глаза.
И, повинуясь неожиданному порыву, обнял. Она прижалась к его груди, вздрагивая маленькой испуганной птахой. Костя чувствовал, как колотится ее сердце.
Это потом он разглядел, что она действительно похожа на какую-то диковинную, особую птицу. Тонкие руки, гибкие, как крылья. И вся фигура какая-то легкая, даже летящая. Но это потом.
Сейчас это была маленькая испуганная девочка, которую срочно надо было защитить, прижать к себе и не отпускать.
В себя Таманского привело щелканье объектива.
– Прекрасный кадр, – причмокнув губами, сказал Билл. – Вы, русские, на удивление фотогеничный народ. Все так естественно, честно, открыто, напоказ… Ну, что же вы сидите. Ведите свою донью к врачу, заодно и познакомитесь…
48
Ее звали Мария-Изабель, но она предпочитала, чтобы ее называли уменьшительно-ласкательно – Мариза. Еще она была похожа на птицу, удивительную и волшебную. Стройность ее тела граничила с худобой. Крупная грудь, широкие бедра, типичные для латиноамериканских женщин. Ноги длинные, как у молодого олененка. И глаза, удивительные, глубокие глаза дикого, а потому доверчивого животного.
В госпитале Косте наложили пару швов на рассеченную кожу головы, а Маризе забинтовали предплечье и смазали синяки какой-то исключительно вонючей мазью. Джобс все это время торчал в коридоре, заглядывая в дверь, подбадривая и выдавая сомнительные шутки, большей частью направленные ниже пояса.
Когда Таманский вышел из операционной, Маризу все еще обрабатывали.
– Ну что, господин Тамански, как себя чувствует ваша голова? – поинтересовался Джобс, щелкая объективом.
– Черт! – Костя проморгался от вспышки. – Я начинаю ненавидеть ваш фотоаппарат, Билл.
Американец рассмеялся.
– Я вам покажу свои работы, обязательно. У вас они должны будут вызвать профессиональный интерес. А кое-что и гражданский.
– Гражданский интерес?
– Ну да, вы же советский гражданин. Камрад! – Веселье американца начинало раздражать.
– Я вас не понимаю…
– Ничего, ничего. – Джобс обхватил Костю за плечи. – Не стоит дуться. Старик Билли понимает толк в жизни. А вот и ваша донья!
Из соседней палаты вышла Мариза. Поскольку другой одежды, кроме карнавальной, на ней не было, девушка несколько смущенно прикрывалась руками. Костя подал ей свой пиджак.
– Спасибо, – сказала она и улыбнулась.
– Что-нибудь не так? – поинтересовался Таманский, оглядывая себя с ног до головы. Молния на брюках была застегнута, а сами брюки, хоть и были помяты и испачканы, не выглядели смешно.
– Нет-нет, – поспешно сказала Мариза. – Все хорошо.
– Я смешно выгляжу? – поинтересовался Костя у Джобса.
– Еще бы, – ответил тот невозмутимо. – Ты на себя в зеркало смотрел?
Таманский подошел к небольшому квадратному зеркалу, висящему на стене.
– Мать твою…
Ровно посреди головы был аккуратно выбрит клок волос и красовался такой же аккуратный крестик из пластыря.
– Ну, отлично! Вид откровенно комичный. Уж лучше бы просто так поджило… Что я теперь буду делать?
Он видел, как внимательно Мариза прислушивается к звукам незнакомого языка.
– Красавец, – прокомментировал Джобс, а девушка хихикнула. – На вашем месте, леди, я бы тоже не особенно радовался. Эта мазь воняет ужасающе. Из чего они ее делают, какой-нибудь рецепт майя, а?
Мариза вспыхнула.
– Ладно. – Костя повернулся, обнял девушку за плечи. – Раз уж мы все так разукрасились, то я предлагаю пойти и выпить. За знакомство.
– Я, в отличие от вас, вполне себе чист, но выпить не откажусь. – Билл наклонился к Маризе. – Это такой русский обычай, я знаю!
– Да, да, – проворчал Таманский. – Балалайка, медведи и водка… Пойдемте уже, пока некоторым американским журналистам не потребовались услуги костоправа.
Они обосновались в небольшом кафе неподалеку от больницы и стали наблюдать за снующими туда-сюда машинами «Скорой помощи».
– Чертовы монтонерос! – проворчал американец. – Чертовы монтонерос!
– Кто-кто?
– Вы что, не знаете? – Джобс покосился на Таманского с некоторым подозрением. – Вообще-то вы должны их приветствовать. Они борются с тиранией. И изучают Маркса.
– Мало ли кто изучает Маркса. Террор – это не наш путь. – И Таманский процитировал в вольном переводе слова классика мирового пролетариата: – Мы пойдем другим путем.
Джобс хмыкнул.
– Чем вы занимаетесь? – спросил Костя у девушки.
– Танцую, – ответила она. – Я чувствую себя странно в этом наряде и вашем пиджаке. Мне надо переодеться. Но как же быть с вашей одеждой…
– Я провожу вас. – Таманский вскочил. – Мы с вами самовлюбленные идиоты, Билл. Совсем забыли про девушку.
– Эй! – Джобс развел руками. – А как же я? Где вы живете, Костя?
Таманский быстро продиктовал ему адрес и вывел Маризу из кафе.
Они поймали машину с невозмутимым стариком-водителем, устроились на заднем сиденье.
Когда Мариза обвила его шею тонкими руками, Костя почему-то совсем не удивился, вдыхая ее удивительный запах, в котором смешались цветы, пороховая гарь и что-то медицинское. Почему-то от этого запаха у Таманского кружилась голова и сердце начинало колотиться у самого горла. Как доехали до ее дома, Костя не помнил. Поминутно останавливаясь, чтобы поцеловаться, они взбежали вверх по лестнице и ввалились внутрь. В этот момент Костя не думал ни о чем. Он на какое-то время начисто позабыл о доме, инструктаже, жене…
Его пиджак упал на пол. Туда же полетел и ее костюм из сломанных перьев.
Таманский сделал пару шагов назад, чтобы рассмотреть ее, и Мариза, поняв это, крутанулась на месте.
– Нравится?
Он ничего не ответил, просто шагнул вперед и подхватил ее на руки. Девушка оказалась на удивление легкой. Словно ее кости были полыми, как у птицы.
Она поцеловала Таманского и ткнула пальчиком куда-то в сторону.
– Спальня там…
49
В ней удивительным образом сочетались непосредственность ребенка и опытность человека, который многое видел в жизни. Она была ему интересна и этим отличалась от других женщин. Ей было всего девятнадцать. Родители умерли в раннем детстве. Воспитывала ее тетка, у которой, кроме приемной, было еще пять дочерей и рыбак-муж, пропадающий в море по двенадцать часов в день, чтобы обеспечить семью если не деньгами, то едой. Большую часть времени маленькая Мариза была предоставлена сама себе, она бегала по дворам и улицам большого города и познавала жизнь в ее неожиданных и часто пугающих формах.
В десять лет ее отдали учиться в танцевальную школу, просто потому, что в обычной школе Мариза училась из рук вон плохо. А в школе танцев упор делался совсем на другое. Маризина тетка была совестливым человеком и выпустить в свет дочь своей сестры без какой-либо профессии не могла, поэтому невеликое пособие, что выдавалось на воспитание чужого ребенка, честно тратила на обучение. Так что после окончания курса Мариза недолго отрабатывала свое обучение в школе. Закончив ее в шестнадцать, она некоторое время танцевала в небольшом кабаре, принадлежавшем этому учебному заведению. Там жизнь била ключом. Разная, живая, настоящая. Иногда пугающая, иногда просто жуткая, но зато в этом месте всегда можно было танцевать. А это Мариза любила больше всего на свете, больше денег и больше мужчин. Танцевать…
Любовь тоже была танцем. И Мариза отдавалась Таманскому легко, получая удовольствие от каждого движения, от каждого па.
Мужа у нее не было. Хотя предложения руки и сердца поступали часто, но Мариза не желала думать об этом. Зачем? Ее небольшого дохода вполне хватало на то, чтобы содержать квартирку и не бедствовать.
На вопросы о том, как она собирается жить, откуда она столько знает, чем она будет заниматься дальше, Мария-Изабель отвечала просто: «Я танцовщица!» Однако в этом не было какого-то глубинного подтекста. Мариза была слишком инфантильна, чтобы вкладывать в такие простые слова что-то иное, нежели то, чем они являлись. «Я танцовщица!» И ничего более.
Она заснула где-то в час ночи. Свернувшись в калачик и подложив ладошку под голову. Костя лежал рядом и гладил ее черные густые волосы. В голове было пусто, и лишь на втором плане крутились обрывки из профилактической беседы с особистом.
– Вы не должны вступать в связь с местными женщинами. С приезжими, впрочем, тоже. Сами понимаете, положение сейчас сложное. Мало того, что вы можете заболеть, так еще возможны и компрометирующие обстоятельства. Фотографии, видеосъемка. Сейчас аппаратура знаете какая?
«А вот и действительно… Стоит сейчас какая-нибудь камерка размером с ладонь в какой-нибудь вазочке. И пишет. А я тут как дурак. Голый».
Таманский натянул на себя одеяло. Потом прикрыл Маризу, она заворочалась во сне.
Костя представил, как к нему врываются, именно врываются, крепкие ребята в штатском и в черных очках. Почему-то непременно в черных, на пол-лица. Заламывают руки и подсовывают под нос карточки, где он с голой задницей в самых интересных позициях. И предлагают выбор – или вы работаете на нас, или эти фото сейчас же попадают в руки вашего консула. Прощай, заграница. Прощай, журналистика. Прощай, семейная жизнь…
Больше всего было жалко журналистику и заграницу.
Странно: на тех фотографиях, которые Костя уже живо себе представлял, не находилось места Маризе. Там был только он. С неизменно голой задницей.
«Бред! – Таманский встряхнулся. – Если бы надо было, уже бы ворвались и заломили. А так… Да и кому я нужен. Тоже мне, Штирлиц».
Он аккуратно выбрался из-под одеяла. Тихо оделся. И обернулся только в дверях спальни. Мариза спихнула одеяло и лежала сейчас обнаженная, доступная, теплая, настоящая и одновременно нереальная. Отчаянно захотелось вернуться в постель.
– Сами понимаете, положение сейчас сложное, – пробормотал Костя себе под нос и вышел.
Дверью он постарался не хлопать.
Ночной Буэнос-Айрес встретил его прохладным морским ветром. Таманский не разбирался во всех этих бризах, мистралях, сирокко и прочих муссонах. Вообще морское дело ему было чуждо. Однако соленый, такой свежий и терпкий запах, нагоняемый ночным бризом, не мог не зачаровывать.
Идти домой не хотелось, и Костя направился туда, где слышался шум прибоя. К набережной.
Как оказалось, Мариза жила совсем неподалеку от моря. Ярко освещенный бульвар даже в этот час был полон туристами, торговцами, проститутками и просто разными жуликами. Костя проверил наличие кошелька, подошел к бетонному парапету.
Там, внизу, с шипением разбивались о берег волны.
– Что же я тут делаю? – вдруг спросил он сам себя. – Что я вообще делаю на этом берегу?
Стоявшая неподалеку парочка обернулась испуганно и отошла подальше.
Таманский усмехнулся.
– Что я делаю… Тут или там? – Костя вспомнил Москву. Прокуренную редакцию. Жену. Отсутствие детей. Подмигивания Олечки из профсоюза. Соседа-особиста, тихого алкоголика с грустным лицом. – Что я делаю там?
Таманский представил себя в Аргентине.
Невозвращенец. Скандал. Неизбежные интервью по «вражеским голосам». Отсутствие денег. Работы. Нормальной жизни, наконец.
Странно, но после жутких сегодняшних событий он все равно не чувствовал страха перед этой страной. Ему казалось, что с ним все будет хорошо. Какое-то предчувствие. Словно Таманский не был туристом или чужаком.
– Но что же я делаю тут?
Костя вздохнул и повернулся к прибою спиной.
– Роль Гамлета тебе не подходит, – пробормотал он себе под нос. – Быть или не быть – это слишком просто.
Таманский вздохнул и двинулся в сторону гостиницы, которая располагалась неподалеку. Буэнос-Айрес был городом исключительно простой топографии.
Добравшись без особых приключений до своего номера, Костя бухнулся на койку, не раздеваясь, и почти мгновенно уснул.
Однако выспаться ему не дали. Ровно в семь утра дверь затряслась от сильных ударов.
Таманский вскочил как ужаленный.
Перепуганное воображение уже рисовало крепких, загорелых молодчиков с закатанными рукавами и черными очками на усатых физиономиях. Карманы у этих громил, конечно же, набиты фотографиями голой Костиной задницы в разных ракурсах и предложениями «работать на нас».
Таманский заметался по номеру. Зачем-то бросил в чемодан свой старенький «Зенит», записную книжку. Стал искать паспорт.
А дверь уже была готова слететь с петель.
– Да иду я! – гаркнул по-русски Костя, прибавив еще парочку слов, вряд ли известных местной тайной полиции. – Иду!
Он встал посреди комнаты, сжал голову ладонями.
«А чего я, собственно, дергаюсь?.. Кому я нужен, к черту?.. Рихард Зорге нашелся…»
Однако внутри все колотилось.
Таманский прошел в коридор и, прежде чем открыть замок, спросил:
– Кто там?
– ЦРУ! – бодро ответили снаружи.
Сердце у Таманского ушло в пятки.
«Неужели вот так просто?.. Буднично так…»
Он посмотрел в зеркало на свой идиотский шрам, на невыспавшуюся морду и отчетливо понял: «Мне конец».
Дверь открылась с легким щелчком.
На пороге стоял бодрый, свежий и подтянутый Билл Джобс, который тут же закатился в приступе хохота.
– Ох! Ну и рожа! Ты бы видел себя сейчас! Как у нас говорят, глаза героя! Погоди-погоди… Я сейчас… – И он начал вытаскивать из футляра свой «Кэнон».
– Подите вы к дьяволу, Джобс! – рявкнул Таманский.
– Ну, ладно, ладно! – Билли двинулся вслед за Костей в номер. – Ну, не обижайтесь, Тамански. Это же просто шутка! Не воспринимайте все так серьезно! Над вами, русскими, не грех пошутить… Честное слово!
– Вот приедете в Москву… – Таманский погрозил Джобсу кулаком.
– О нет! ГУЛАГ! КГБ! Берия! – захохотал тот.
– Да… – Костя сплюнул. – И медведи… Чтоб вам лопнуть! Действительно дурная морда была?
– Очень! – воскликнул американец. – Но я, собственно, не за тем пришел, чтобы вас пугать. Давайте позавтракаем вместе, тут внизу неплохо кормят. Я угощаю…
50
– Как там ваша юная мадмуазель? – поинтересовался Джобс, набивая рот кашей. – Здорова?
– Насколько мне известно, да. – Таманскому не хотелось обсуждать девушку с американцем. Но, видимо, тот и не особенно интересовался.
– Скажите, Тамански, а что за дело у вас в Буэнос-Айресе? – Билл поднял руки вверх. – Если это шпионские дела, можете не говорить. – Он рассмеялся и добавил: – Клянусь, я расскажу вам все, что вы захотите узнать! Я знаю множество тайн и готов работать на вашу разведку!
Костя неспешно дожевал, наслаждаясь паузой и тем, что заставляет американца ждать.
– Собственно, мне скрывать нечего. Я пишу книгу. И ряд статей для нашей прессы.
Это «для нашей прессы» прозвучало солидно. Знай, мол, наших.
– О! Книгу! – Американец будто обрадовался. – Так вы еще и писатель! О чем же?
Таманский взял стакан с соком, выпил, поглядывая на Билла поверх стекла, а потом ответил, заранее предвкушая эффект:
– Об Эрнесто Гевара де ля Серна. О Че Геваре.
– Аха… – неопределенно ответил Джобс, и лицо его заметно вытянулось.
– Ну, вы, конечно, о нем слышали. Кубинская революция, Боливия, залив Свиней…
– Да-да! – Билл осушил стакан с соком. – Несомненно, слышал. Тема характерная для… для коммунистической страны.
– Не совсем. Как вы, может быть, слышали, идея экспорта революции не слишком популярна в СССР. Моя работа в некотором смысле уникальна, потому что к ней проявили интерес в верхах.
– Заинтересовались новым видом экспорта?
– Не знаю. – Таманский улыбнулся. – Но я хочу сделать книгу действительно полной и интересной. Поэтому и начинаю отсюда. Че Гевара родился здесь, вы знаете?
– Да, слышал… Хотя обычно о нем начинают писать с Кубы.
– Именно!
– О! – Джобс активно закивал. – Нетипичный подход. Понимаю.
– А в чем ваш интерес?
Американец непонимающе посмотрел на Таманского. Потом, сообразив, о чем речь, хлопнул себя по лбу.
– Ах да! Черт побери, вы меня совсем выбили из колеи со своим революционером. Да! Вот мой интерес! – И он хлопнул по сумке, где покоился его шикарный фотоаппарат. – Снимки. Мне заказали серию фоторабот по Латинской Америке. И статьи, конечно же, все, что может больше раскрыть эту часть света. – Он наклонился через стол и прошептал, как заговорщик: – Туризм!
Таманский в ответ подмигнул.
– К тому же, – продолжал Джобс, – именно тут, у латиносов, происходит все самое удивительное. Я бы сказал даже, что в Латинской Америке решаются судьбы мира.
– Не слишком ли громко сказано?
– Я даже приуменьшил. – Билл улыбнулся. – Вы доели? Хотите, сделаем вам более приличную внешность?
– Каким образом? А что не так?
– Ну… Это… – Джобс постучал себя пальцем по лбу.
Таманский вспомнил о травме.
– Черт! А я думаю, чего на меня так косятся наши соседи за столиком…
– Я их понимаю.
– Но как можно исправить?..
Билл щелкнул пальцами, подзывая официанта.
– Легко.
Бувально через полчаса Таманский был лыс, нитки с раны сняты, а сам шрам чем-то замазан и замаскирован.
– Вот тебе раз, – пробормотал Костя, глядя на себя в зеркало.
– Согласитесь, с этой неправильной тонзурой вы выглядели исключительно нелепо. Если бы не шрам, так и вообще походили бы на матерого сифилитика.
Костя погладил себя по гладкой коже головы. Было непривычно холодно. Равнодушный парикмахер взирал на Таманского с легкой иронией.
– Какие у вас планы, Тамански? – спросил Джобс. – На ближайшие пару дней?
– Да я… – Костя вдруг сообразил, что позабыл про все на свете. – Черт. Джобс, я болван.
– Люблю русских за прямолинейность.
– Нет, действительно! Мне нужно работать, черт побери. Я должен зайти в дом, где родился Че Гевара, собрать там материал… Все это свести в единую систему и…
– Друг мой, куда вы сейчас направитесь – в таком виде, да еще после взрыва? Я же знаю вас, русских, у вас нет опыта работы в горячих точках.
– Ну, за всех я бы не говорил…
– За всех я и не говорю. – Джобс обнял Таманского за плечи и вывел из парикмахерской. – Но у вас нет. Ведь так?
– Так, – согласился Костя.
– Ну вот, поверьте мне, вы будете не в состоянии думать еще пару дней. А уж собирать материал… – Билл поморщился. – Нет нужды насиловать свой организм.
– У меня такое ощущение, что вы хотите мне что-то предложить?
– Именно так. И это очень хорошо, что я повстречал вас. Человека из Союза.
– Ну-ну… – В голове Таманского снова всплыли «ужасы вербовки». – А чем вам не подошел бы кто-то другой?
– Видите ли, тут есть особый интерес. Вы не сможете пройти мимо такого материала. А у меня его могут и не взять. Но с другой стороны, когда эти сведения всплывут там, у вас, наши обязательно обратят на них внимание. А тут и я… С развернутой версией. Только учтите, фотографии я вам дам не все.
– Фотографии…
– Да! – Джобс прижал палец к губам. – Фотографии, в том-то и дело. Заинтересованы?
– Да в чем, черт побери? Вы мне еще ничего не сказали!
– Пойдемте.
Американец жил в отеле, что находился на окраине Буэнос-Айреса. Добираться туда пришлось на машине с ворчливым индейцем, который курил какую-то гадость и непрерывно бормотал себе под нос. Таманский приоткрыл окошко.
– Зачем? – удивился Джобс.
– Воняет! – Костя сморщился. – Ему что, на нормальные сигареты денег не хватает?
Американец удивленно поднял брови и глупо хихикнул.
– Что-то не так? – поинтересовался Таманский.
– Видите ли, это в некотором смысле дополнительная услуга. Практически – бесплатный сервис… А вы его в окно. Вы и правда никогда… не курили?
– Что значит не курил? Я и сейчас курю… – В голове от дыма стоял легкий звон.
Когда машина подъехала к отелю, Джобс расплатился и показал водителю два пальца жестом «V».
– Мир, брат!
Машина укатила.
– Вы наивный человек, Тамански. Этим вы мне и нравитесь. Честностью. Честностью нравитесь… Вообще, когда я встречаю своих коллег, они никогда не играют в открытую. Всегда какие-то интриги, какие-то вопросы, ответы, задачи, решения, кроссворды… А вы честно сказали, что делаете, чего ищете, что собираетесь… И вообще, мне иногда кажется, что Советы должны править миром. Потому что у вас настоящая демократия, настоящий порядок, если у вас живут такие открытые люди, которые могут приехать в страну, черт знает куда, и писать книгу черт знает о чем…
– Джобс… – позвал Таманский. – Что курил тот человек?
В ответ на это американец рассмеялся. Он смеялся долго. Глаза его слезились. Через некоторое время Косте это показалось забавным. Он хихикнул. И вскоре присоединился к своему коллеге. Смех был неуправляемым, дурным…
Когда наконец обоих отпустило, они сидели на бордюре и устало вытирали слезы.
– Черт… – шептал Джобс. – Черт…
Таманский тихо ругался матом.
– Хороший у вас язык. Я эти слова уже слышал один раз. В порту. – Американец прислонился к Костиному плечу. – Там были матросы… Один уронил другому на ногу огнетушитель… Со мной была переводчица… Она даже перевела кое-что. Вы действительно не знаете, что курил наш водитель?
– Нет… – Из Таманского как будто вышел весь воздух.
– Марихуану. Очень качественный продукт, скажу я вам. А я в этом понимаю…
– Какая гадость…
– Когда вы начинали курить, табак вам тоже казался гадостью. Ладно, черт с ним. Пойдемте, поднимемся ко мне, у меня там парочка бутылочек пива есть в холодильнике. Это нам будет кстати…
В лифте было накурено, Таманский, перед тем как войти, с осторожностью понюхал воздух.
– Нет-нет… – проворчал Билл. – Заходите без опаски. Это просто сигареты, дерьмовые к тому же.
Дверь в номер Джобса открылась только после того, как он ударил по ней ногой.
– Не ваши апартаменты, – усмехнулся американец. – Все за свой счет.
Таманский не нашелся что ответить.
– Зато становишься злее. – Американец открыл дверцу холодильника и вытащил два «Будвайзера». – Пейте. Хорошее.
Он закрыл дверь, скинул со стола какие-то коробки, пустые катушки от фотопленки, хлам и остатки пиццы.
– Чертовы горничные… – бормотал Джобс, вытаскивая из-под кровати ящичек с двумя замками. – Чертовы, чертовы горничные…
Из заднего кармана он достал ключ и отпер ящичек. Тот оказался доверху забит фотографиями. Черно-белые снимки отличного, как успел заметить Таманский, качества.
– Смотрите. – Американец выудил со дна пачку, перевязанную резинкой, и бросил ее на стол.
Таманский подошел ближе, взял первую…
Со снимка на него смотрел крепкий бритоголовый парень. Раскрытый в крике рот. Напряженное лицо.
– Дальше, дальше…
А дальше… Этих ребят было трудно не узнать.
Черная форма военного образца. Высокие ботинки. Закатанные рукава.
– Нацисты?
– Дальше смотрите…
Трупы. Убитые женщины. Мужчины. Стреляли явно в затылок. Босые, страшно вывернутые ноги повешенных. Головешки и пепел.
– Индейская деревня, – пояснил Джобс. Его лицо осунулось, стало рыхлым. – Дальше…
Снова головешки. Трупы. Только теперь сваленные в кучу и обгоревшие. Искаженные лица, бритые затылки, парни, автоматы, винтовки…
– Что это, Джобс?
– Нацисты. Они готовят переворот.
51
Таманский вернулся в гостиницу только вечером.
Весь день, после того как покинул Джобса, Костя ходил по городу. Пешком.
Собственно, он планировал эту прогулку еще в первый день, поскольку считал такой способ лучшим, чтобы понять страну и людей, но… Что называется, жизнь внесла коррективы.
Поначалу Костя ходил по известным ему маршрутам. Памятники, музеи, парки и снова памятники. Собственно, на достопримечательности он не обращал внимания, размышляя о предложении, сделанном ему американцем. Подумать тут было о чем. К журналистскому расследованию Таманский был откровенно не готов. Он никогда ничем подобным не занимался, да и где ему было набить руку? В Союзе? Однако идею о том, чтобы сдать эти материалы в советское посольство, американец отвергал целиком и полностью. Русский журналист был ему нужен как страховка. Мол, если ваши газеты поднимут шум, то и наши должны будут откликнуться. Костя откровенно не понимал, о какой такой конкуренции толкует Джобс, учитывая закрытость советских газет и границ.
– Ты не понимаешь, – возмущался американец. – Любая ваша крупная статья так или иначе, но к нам попадает. Все, что там у вас внутри делается, обсасывают шавки типа «Радио Свобода». Это их хлеб, на них плевать всем! Кроме ваших. А когда разговор касается международных дел, тут уж извините, но отдавать территорию никто не станет. Как только я намекну редактору, что об этом пишут не только наши газеты, но и русские… У меня статью с руками оторвут. Да еще закажут. А заказ, Тамански, это дело! Настоящее дело!
Таким образом, отдавать материалы в посольство мог, по мнению Джобса, только полный идиот.
– Это же деньги, Тамански, деньги, понимаете?!
Таманский понимал коллегу очень относительно. Деньги деньгами, а нацисты нацистами.
С этими мыслями Костя разглядывал какие-то картины в музее, потом, сообразив, что уже вообще ничего не соображает, вышел на улицу и побрел куда глаза глядят. Он шатался по Буэнос-Айресу, разглядывал заваленные мусором дворы, громадные проспекты, нищие кварталы с бесчисленными детьми, богатые кварталы с бесчисленными решетками. Костя всматривался в глаза людям, певцам, что терзали быстрыми темными пальцами гитары, проституткам с ленивыми лицами женщин, которые знают себе настоящую цену, уличным жонглерам и акробатам, для которых вся жизнь игра, а платят за нее копейки, прохожим, таким разным и вместе с тем одинаковым.
Удивительный город, где улицы, перекрещиваясь, образуют решетку. Где люди улыбаются вам, как своему давнему знакомому. Где на каждом углу на тебя смотрит прошлое, а в подворотнях варится и кипит настоящее. Страсть и жадность к жизни, вот что такое Буэнос-Айрес.
– Они готовят переворот, Тамански. Настоящий нацистский переворот. Они есть везде. В армии, на флоте, в правительстве. Понимаете? У меня есть кое-какие материалы, но доказательств нет. Надо только немного поработать, немного поработать, Тамански. И дельце выгорит.
Дельцем американец называл серию репортажей о нацистах в Аргентине.
Для Таманского дельце выглядело посерьезней.
– Какое мне дело до всех до них? Почему я должен лезть в это болото, рискуя, помимо собственной шкуры, еще и… всем остальным? Сотрудничество с американцем может выйти таким боком, что потом не отмоешься. – Костя смотрел на огромный памятник какому-то португальскому колонизатору и разговаривал сам с собой. – Сдать все, что он мне сможет предоставить, в посоль…
Тут он сообразил, что сдача материалов в посольство повлечет за собой целый ряд вопросов, на которые хочешь не хочешь, а придется давать ответ. В частности, а откуда у вас, простите, эти данные? А как вы добыли эти фотографии, пробыв два дня в Аргентине? Кто? Откуда? Почему к вам? И все, контора, как известно, пишет.
– Да пошел ты, – ругнулся Таманский в лицо бронзовому гранду. – Я что, мессия?
И он сердито пошел прочь.
Вечерело, и Таманский, почувствовав голод, направился в свой отель. Где действительно неплохо кормили.
Однако у дверей его остановил портье. С удивлением посмотрев на лысую голову Таманского, он попросил подойти к стойке, где «мистера Тамански» кто-то ждет.
Несколько удивленный, Костя подошел к ресепшен, где еще один юноша показал ему на большие, глубокие кресла около входа.
Когда Таманский обернулся, она уже вставала…
В полутемном холле ее фигура выглядела гипнотической. Она притягивала взгляд, ее хотелось рассматривать, подойти ближе. Костя сделал несколько шагов. Мариза кинулась ему на шею, повисла, обнимая. Сердце испуганно билось, Таманский чувствовал его через тонкую ткань платья. Она часто дышала, как пойманная птица. И Костя вдруг понял, что Мариза плачет.
– Ты что?! – Он попытался отстранить ее от себя, чтобы заглянуть в лицо. – Ты что?!
Она отчаянно сопротивлялась, пряча лицо на его груди.
Таманский обнял ее и повел назад, к креслам.
– Тебя кто-то обидел?
Мариза покачала головой.
– Присядь. Что случилось?
Она вцепилась в его руку крепко-крепко и только тогда села, поднимая заплаканные глаза.
– Прости… – прошептала Мариза.
– За что?
– Ты ушел. Тебе было плохо? Я что-то сделала не так? Ты… Я тебя обидела?
Таманский открыл было рот, но потом вдруг понял, что ему нечего ответить. Объяснять, что он женат, что это был порыв… Что… Вся эта пошлость неожиданно растворилась, исчезла. Костя так и не смог ничего ответить плачущей женщине, кроме лжи:
– Нет… У меня были дела… И я… ушел.
Она вздрагивала и сжимала его руку все крепче и крепче.
– Все хорошо, не волнуйся.
Наконец Мариза вытерла глаза и прошептала:
– Извини. Я дура. Мужчины не любят, когда женщины плачут.
– У тебя это получается очень симпатично, – ответил Таманский, чувствуя дураком себя. Но она улыбнулась, быстро открыла микроскопическую сумочку, посмотрелась в зеркальце, махнула платочком, и – миг – слез как не бывало, только глаза блестят. Хороша, свежа, воздушна…
– А ты смешной… – Она провела по его голове ладонью. Таманский обратил внимание, какая она сухая и теплая. – А как же рана?
– Там… – Он покрутил в воздухе пальцами, стараясь подобрать слова. – Все сделали правильно.
– Я пришла… Пригласить тебя к нам. – Мариза легко улыбнулась.
– К нам?..
– В кабаре. Это почти мой второй дом. Я люблю танцевать… Только я не участвую в программе. Из-за синяков. От взрыва…
– Я понимаю.
– Ты пойдешь?
У Таманского были несколько другие планы на вечер. Проблема, которой нагрузил его предприимчивый американец, не давала ему покоя. И идти развлекаться?..
Мариза видела его колебания и пустила в ход последнее женское оружие.
Она улыбнулась.
– Ну, что ж, кабаре так кабаре…
52
– Со мной, – кивнула Мариза охраннику. Тот, здоровый толстый латиноамериканец, лениво посторонился. Таманский отметил, что в охрану почему-то берут именно таких, здоровенных, толстых, неповоротливых. Зачем? – Он бывший боксер, – словно прочитав его мысли, сказала Мариза. – Ударом ломает стол. Вон там, смотри…
Она показала тонким пальчиком в угол.
Около стены, ярко освещенный небольшим прожектором, стоял разломленный пополам стол. Толстое дерево. В середине вмятина…
– Это для особенно бойких посетителей…
– Ничего себе, – пробормотал Костя.
Здоровяк в дверях смотрел лениво и мирно, как корова на лугу. Казалось, ничто не может вывести его из себя.
В кабаре было многолюдно. Столики, снующие официантки в откровенных нарядах, мужчины, дымящие сигарами, женщины, ярко одетые. Музыка, дым, отголоски разговоров.
Таманский почувствовал себя не слишком уютно.
Люди приходили сюда… показать себя. А он вообще-то приехал в эту страну работать и откровенно выбивался из общей массы.
– Все это посетители, ничего интересного, – прошептала Мариза ему на ухо. – Пойдем со мной. Я покажу, где я работаю.
Она потянула его между столиков, перемигиваясь с официантками, с кем-то мимолетно здороваясь, к какой-то неприметной дверке в стене. Щелчок замка. Р-раз!
И вот уже шумный зал позади. Коридор, под ногами толстый ковер, а в воздухе разливается тонкий удивительный аромат.
«Женские духи! – понял Костя. – Этот коридор впитал в себя сотни запахов и приобрел свой собственный…»
Коридор заканчивался еще одной дверью, Мариза толкнула ее ножкой, и они оказались там, где кабаре только начинается.
Таманского окатило волной запахов. Духи, пот, пудра. Вокруг туда-сюда носились полуобнаженные девушки, какая-то толстуха громко и надсадно ругалась, потрясая в воздухе черной сеточкой колготок. К Маризе тут же направился вертлявый, худой, весь в пудре и морщинах мужичок.
– Маризочка, милая! Ну, как же так можно? Как же так можно? Я слышал, эти взрывы… – Он схватился за голову.
– Это Мигель, – пояснила девушка. – Он ведет шоу.
Мигель прошелся по Таманскому длинным взглядом, с ног до головы, и протянул руку, как обычно подают ее дамы, для поцелуя.
Костя кашлянул, пробормотал что-то типа: «Здрасте…» – и крепко сжал напудренную сухую ладонь.
Мигель вытаращил глаза и округлил губы буквой «О».
– Сильный мужчина! Как приятно… – Таманский увидел, как Мариза наступает ему на ногу, – …приятно, что наша Мариза с вами познакомилась! Ей как никогда нужен серьезный человек! Все эти танцы, маскарады до добра не доведут. Вот видите…
Мариза аккуратно пнула его под коленку.
– Ой-ой! Молчу, молчу… – Напудренный Мигель ускакал в сторону.
– Пойдем, – прошептала девушка. – Я покажу тебе мой столик.
Они снова пошли по узким проходам между столами. Между вешалками с какими-то перьями, блестящими платьями. Мариза здоровалась с кем-то, обнималась. От смеси табачного дыма, духов и пудры у Таманского закружилась голова. Лица, лица… Улыбающиеся, негодующие, равнодушные, белые, разукрашенные, разные, разные, разные… Все это смешалось, перепуталось.
Мариза показывала свой столик, точно такой же, как и остальные. Заставленный баночками, тюбиками, кисточками и еще шут знает чем, важным для женщины и только ей одной понятным. Она показала ему свои наряды, бесконечно длинные боа, полупрозрачные юбки, что-то блестящее и невыразимо воздушное. Мариза прижимала эти вещи к лицу, вдыхала их запах, все тот же дурманящий аромат кабаре.
– Тебе нравится? Нравится? – спрашивала она.
И Таманский послушно кивал, все глубже и глубже погружаясь в этот мир, где все было понарошку и вместе с тем так реально, что можно было дотронуться рукой. Женщины улыбались ему, подмигивали и радостно смеялись, раскрывая накрашенные алые рты, когда Мариза грозила им кулачком. Таманский чувствовал, что в этом напудренном мире можно очень легко потеряться. И вечно бродить между вешалок, столов, ламп… Жить здесь. Под защитой бордовой портьеры, отделяющей мир настоящий от… от другого. Не иллюзорного, нет. Просто другого.
Реальность, погруженная в перья и вуаль, казалось незыблемой, она была и будет. Всегда.
Таманский начал понимать, почему Мариза, вместо того чтобы спокойно лежать в кровати у себя дома, потащила его сюда. Девочка, рано повзрослевшая, рано познавшая цену жизни, нашла тут свой настоящий дом. Семью. Взбалмошную, безалаберную, но вместе с тем настоящую.
Мариза потащила Костю на сцену, он рассматривал зал через маленькую дырочку в кулисе.
– Вот там, вот там, – шептала Мариза. – Видишь, толстяк…
– Да…
– У него пятеро детей. Он сюда приходит исключительно ради Изабеллы.
– Кого?
– Ну, Изабелла, она ругалась, что у нее колготы порваны!
Таманский припомнил гигантоподобную толстуху.
– Однако…
– Ему нравится, как она трясет бюстом. Он всегда вскакивает и аплодирует. А вот тот, видишь, худой с бородкой?
– Справа?
– Да. Это знаешь кто? Это мэр города!
– Ого… А не бывает у вас…
Но Мариза уже тянула его куда-то дальше. Через сцену, мимо скучающих пожарных, мимо канатов, лебедок. Дальше, дальше…
Они вбежали в большую комнату с зеркалами.
– Смотри! – Мариза выбежала на середину, легкая, воздушная. – Смотри! Как меня много!
Таманский отошел к стене, рассматривая девушку в бесконечности зеркал.
– Ты красивая…
– Я красивая! – Мариза закружилась по комнате. Еще круг, еще. Она танцевала сама с собой, увлеченная, раскрасневшаяся. – Я красивая!
В сторону полетела юбка, рубашка… И вот она уже обнаженная танцует, отражаясь в бесчисленных зеркалах. Тоненькая, женственная…
Она подлетела к Таманскому, схватила за руки, потянула его на себя.
– Иди, иди ко мне!..
Из кабаре они вышли далеко за полночь.
– Тут недалеко, пойдем… – Мариза танцующей походкой вывела Костю через черный ход. – Не будем ловить машину. В ней душно. Лучше пешком?
– Лучше, – согласился Таманский. Ему отчаянно хотелось спать. Глаза слипались. Но вместе с тем он чувствовал удивительный прилив сил. Словно все в этом мире ему было по плечу.
Свежий ночной воздух бодрил. Мариза пошла чуть впереди, кружась так, что юбка разлеталась в стороны и становились видны ее стройные загорелые ноги.
«А ведь я ее люблю», – неожиданно подумал Таманский.
От этой мысли стало тревожно. Словно бы этого и не следовало думать.
И когда дорогу им преградили четыре черные фигуры, Костя даже обрадовался. Думать больше было не надо…
Мариза словно на стену налетела. Она остановилась как вкопанная, а Таманский подошел сзади и встал перед девушкой.
– Пожалуйста, пропустите нас, – попросил он по-испански.
– Путаешься с латиносами? – ответили по-английски. В свете фонарей блеснули бритые затылки. – И с этим журналистишкой из Штатов?
– Какое вам дело? Я гражданин Союза Советских Социалистических Республик.
– А нам до этого дела нет. У тебя нос длинный…
И они шагнули вперед.
– Мариза, беги! – крикнул Таманский, отступая назад. Девушки позади не было. – А ну, разойдись! Зашибу! Блин! – заорал Костя по-русски и кинулся вперед.
Бритоголовые такого оборота событий не ожидали.
Поравнявшись с первым молодчиком, Таманский что было сил боднул его в грудь, целясь в солнечное сплетение. Судя по всему, удар удался. Кожу головы обожгло, но парня отбросило, он упал на землю, скорчился.
Еще Костя успел врезать по физиономии тому, что стоял слева. Потом во рту хрустнуло и взорвалось болью. Таманский отлетел назад. Споткнулся, но удержался на ногах. Прикрылся руками от удара ногой в лицо. Отскочил. Трое бритоголовых прижимали его к стене. В тень. Таманский метнулся было в сторону освещенной части улицы, но дорогу преградили. Блеснул нож.
«Опа. Плохо дело…» – пронеслось в голове.
Таманский почувствовал, как нога цепляется за что-то твердое. Сделал осторожный шаг назад, наклонился, пошарил в темноте рукой. Палка! Костя схватил обломок не то лопаты, не то мотыги и начал размахивать им перед собой.
– Убью! Суки!
Рывка того, что справа, он не заметил. Точнее, не успел среагировать.
Парень врезался в него, как игрок в американский футбол, всем телом. Отбросил к стене.
Костя взмахнул импровизированной дубинкой… Она стукнулась о какой-то камень и вылетела из рук.
Крепкий кулак врезался ему под ложечку, начисто вышибая дыхание.
Таманский сжался, стараясь прикрыть руками все тело сразу. Голову, печень, ребра. Пропустил удар коленом в лицо и понял, что плывет. Почва ушла из-под ног.
Перед глазами сверкнула сталь.
«Мне конец!»
Но смерть почему-то медлила. Потом кто-то заорал, будто коту наступили на яйца. Послышался грохот. Не то обрушилась кирпичная кладка, не то деревянная стенка разлетелась вдребезги.
Затем топот.
И над Таманским склонилось огромное, закрывающее половину неба лицо. Толстые щеки. Расплющенный, сломанный в нескольких местах нос, губы, похожие на блины. И взгляд безмятежной коровы, что пасется на лугу.
– Жив? – спросили по-испански.
– Жив-жив… – отозвался Таманский. Губы едва шевелились. Во рту было солоно от крови. – Жив.
Аркадио, охранник-вышибала из кабаре, аккуратно поднял Костю на руки.
– Куда? – поинтересовался он у плачущей Маризы.
Таманский вздохнул и закрыл глаза.
53
Когда он снова их открыл, было уже светло. Отчаянно болели челюсти, нос, дергалось веко.
Таманский посмотрел направо. И увидел стену. Посмотрел налево. Рядом с кроватью, на которой он лежал, сидела Мариза, уронив голову на грудь, она спала в кресле. Костя осмотрелся. Судя по всему, вышибала доставил его к Маризе домой. Не такой уж плохой вариант.
Костя осторожно поднял руку. Морщась, каждая мышца отозвалась болью, он потрогал лицо. Под ладонью было что-то распухшее, в буграх из засохшей крови. Дотрагиваться до носа было больно. В челюсть хоть и стреляло, но перелома не было. Не хватало парочки нижних передних зубов.
«Вот это отдохнул… Сходил в кабаре, – подумал Таманский. – С такой мордой не то что книгу писать, хорошо, если назад в Союз пустят».
Он покосился на Маризу.
«А девочка молодец, не бросила… Бугая этого позвала. Как там его?.. Ведь говорила же, не помню».
Костя осторожно оперся руками о кровать и попытался сесть. В животе будто разорвалась бомба. Сжав зубы, Таманский застонал.
– Что?! – Мариза проснулась, вскочила, метнулась к нему, упала на колени около кровати. – Не вставай! Лежи!
– Не нужно волноваться… – сказал, точнее, прохрипел Костя. Голос был чужой, грубый. – Я чувствую себя хорошо.
Она молчала, только смотрела в глаза, будто ловя каждое движение его зрачков.
– Плакала?
Она кивнула.
– Я волновалась.
– Ну и зря. Я крепкий.
Она снова кивнула.
– Приходил доктор, сказал, что ты крепкий, они могли тебя убить.
– Да? Не может быть.
– Удар был в печень… Но она целая.
Костя потрогал себя под ребрами справа. Больно. Осторожно отогнул одеяло. На боку расплывалось темно-синее пятно размером с голову ребенка.
– Ого… – Он посмотрел на Маризу. – Но челюсть цела, дырок в организме нет, жить буду. Хорошо. Чего ж плакать?
– Я боялась. Боялась, что не успею…
– Спасибо тебе. Ты успела вовремя.
Мариза улыбнулась. Вскочила.
– А я видела, как ты дрался!
Таманский слабо улыбнулся. Он вырос в Солнцеве.
– Ты почти нокаутировал одного! Я видела, как он валялся! А еще они были с ножом…
– А еще они были очень крепкие. – Таманский посмотрел на сбитые костяшки. – Очень крепкие…
– Даже Аркадио не сразу их срубил.
– Кстати, – Костя заинтересованно поднял брови, – а там… Я помню грохот. Что это упало?
– Это Аркадио швырнул одного из них в стену. Стена обвалилась! – Девушка даже подпрыгнула от восторга. – Ты бы видел, как они бежали потом!
– Стенка деревянная?
– Каменная! Хочешь есть? Доктор сказал, что тебе надо есть бульон. Я приготовила!
Не дожидаясь ответа, она убежала на кухню. Оттуда донеслось громыхание посуды.
Таманский, морщась и постанывая, приподнялся на локтях. Стараясь не напрягать живот, сел. Закружилась голова.
В огромном зеркале, висевшем на стене, Костя увидел себя полностью. В синяках, ссадинах. Под правым глазом фонарь, подбородок синий, на носу характерный кровоподтек, губы…
– Отлично! Мечта патологоанатома.
В комнату вошла Мариза. Сразу вокруг Таманского начались танцы. «Тебе нельзя вставать…», «Доктор запретил…», «Пожалуйста, осторожно…» Костя аккуратно отмахивался, наконец посадил Маризу на кровать и прижал к себе. Она затихла на его груди.
– Все хорошо. Немного больно, но все в порядке, – сказал Таманский, стараясь говорить убедительно. – Мне надо немного отдохнуть, но валяться в кровати я не могу.
– Я приготовила бульон… Будешь?
– Да.
Вскоре перед Таманским вырос столик с бульоном, какими-то бутербродами и еще чем-то, удивительно пахучим, чесночным. И хотя суп был слишком жирным, а жевать бутерброды было очень больно, Костя чувствовал себя счастливым.
Но это чувство, солнечное и восторженное, вмиг улетучилось, когда в дверь громко и требовательно постучали.
Мариза убежала открывать, а Таманский напрягся.
В коридоре послышался знакомый голос, и в комнату вошел, хромая, Билл.
– Ну и видок… – Джобс и Таманский были единодушны.
Американец выглядел едва ли лучше Кости. У него заплыл глаз, левая рука была на перевязи, к тому же он ощутимо хромал.
– Обидно другое, – пожаловался Джобс, присаживаясь на стул. – Камеру разбили. Раньше был «Кэнон», а теперь какая-то…
– Хреновина, – сказал Таманский по-русски.
– Как? Что это?
Костя объяснил. Джобс долго шевелил губами, пробуя на вкус неизвестное слово.
– Класс! Хре-но-ви-на. Так вот раньше у Билли был «Кэнон», а теперь у Билли есть хреновина. Отлично. Фотографировать этой хрено… хреновиной невозможно. Даже ремонт не поможет.
– Так плохо?
Американец кивнул и посерьезнел.
– Я догадываюсь, но все-таки спрошу. Кто вас отделал? Это не была случайная автомобильная авария, ведь так?
– Так. – Таманский кивнул. – Это вообще не была авария. Это четыре бритоголовых ублюдка.
– О! – Джобс поднял брови. – У меня было двое. Вы еще легко отделались.
– Мне помогли.
– Везет. Я помогал себе сам.
– Каким образом?
– Подстрелил одного. – Американец пожал плечами.
– У вас был пистолет? Почему же… – Таманский указал на руку Джобса.
– До пистолета надо было еще добраться, друг мой, – грустно улыбнулся Билл. – Я как полный идиот доверился местной полиции, которая, как утверждает пресса, меня бережет.
– Черт побери, Джобс, вы же сами журналист, кто же будет доверять прессе?
Американец пожал плечами.
– Идиот, что тут скажешь. Идиот! Но зато теперь… – Он отогнул край пиджака и показал кобуру. – Я поумнел.
– За одного битого двух небитых дают… – пробормотал Таманский, и ему пришлось пояснять Джобсу смысл этой поговорки.
– Мудро. – Билл смотрел, как Мариза кормит Костю с ложечки. – Мудро. И к тому же нас двое!
– Что? – не понял Таманский.
– Двое битых… Кстати, а почему вы не носите с собой оружие?
Таманский вздохнул, припомнил лежащую дома на антресолях охотничью берданку.
– У меня нет разрешения. К тому же я… – Он хотел сказать, что гражданин другой страны, но понял, что на американца это не произведет должного впечатления. – У нас милиция… более активна.
– Понял. То есть оружия вам не дают?
– Точно. – Таманский проглотил еще пару ложек бульона. Мариза сидела рядышком тихо, как мышка, только неприязненно взглядывала на американца.
– Вы не пацифист?
– Пацифист. За дело мира любого порву.
– Тогда с оружием мы что-нибудь придумаем, – кивнул Билли.
Таманский насторожился.
– Я еще не дал своего согласия.
Американец посмотрел на Костю устало.
– А что, откажетесь? Конечно, я буду искать кого-то еще, но одного меня не хватит точно. Хотите оставить всё этим?.. – И он пошевелил рукой на перевязи.
– Не хочу, – медленно произнес Таманский. – Но…
Правда, что «но», Костя не знал. Его жизнь, все то, чем он жил, дало трещину. Какое ему дело до Аргентины? Какое ему дело до этой женщины, с которой, так или иначе, придется расставаться? Какое ему дело до жизнерадостного американца?
54
План Джобса был не сложен. Он знал координаты базы нацистов. Знал каких-то людей, которые имели выход на верхушку. Но ему катастрофически не хватало доказательств. По понятным причинам Джобс успевал только к шапочному разбору.
На самом деле он провернул огромную работу. Но действовал в одиночку: во-первых, из-за боязни, что его материал перехватят более ловкие ребята, а во-вторых, он был уже не так молод и не так борз, как когда-то. На самом деле, и Таманский этого не знал, материал про неонацистов был для Джобса своего рода последним шансом. Либо пан, либо пропал. Американцу крайне нужен был какой-нибудь напарник, но ни в коем случае не западный журналист. Слишком велик был шанс, что Билла обойдут на повороте. А вот русский отлично подходил на эту роль. Он не конкурент. Слишком разные рынки сбыта готовой продукции. Он достаточно наивен, чтобы помочь своему коллеге в «благородном деле». И к тому же русские традиционно плохо относятся к фашистам. Это Билли знал точно.
Американец не ошибся.
Через несколько дней Таманский и Джобс покинули Буэнос-Айрес и направились на юг. Американец взял напрокат старенький армейский джип, вместе с Таманским они загрузили в него продукты и купленное по дешевке списанное армейское барахлишко и двинулись в сторону Сан-Карлоса.
– У меня есть наводка на их базу, – радостно поведал Джобс, объезжая ямы на разбитой дороге. – Я знаю, что их можно найти. Понимаешь? А если их можно найти, значит, мы их найдем!
– Я надеюсь, твоя уверенность основывается не только на этом постулате? – Таманского несколько побеспокоила поездка на машине, которой управлял раненный в руку американец. И хотя Джобс уверял, что он может управлять вообще без рук, Костя чувствовал себя неуютно. Правда, надо отдать должное Биллу, тот справлялся с управлением блестяще.
– Конечно нет! У меня есть точные данные насчет тренировочного лагеря. Понимаешь, можно будет увидеть все в действии…
– И получить пулю…
Джобс повернулся к Таманскому:
– Коллега, мне не нравится ваш настрой. – Американец радостно рассмеялся. – Все будет хорошо! Риск хорош тогда, когда вы ничем не рискуете! Это все ерунда, нас ждет слава, поймите, Тамански, слава! А что такое слава?
– Автомобиль такой… – пробормотал Костя.
– Точно! Машины, девочки, бабки, тити-мити! Слава – это то, что мне нужно! – Билл размахивал руками, иногда совсем бросая руль.
– Черт вас подери, Джобс! Держите баранку! – гаркнул Таманский после того, как они в очередной раз едва не улетели в канаву. – Иначе слава может пролететь мимо вас!
– Простите, простите. – Американец посерьезнел. – Но вот скажите, что такое слава для вас, Тамански?
Костя задумался.
– Ничего, – вдруг выдал он. – Ничего такого. Ну да, конечно, там… Гонорар. Может быть, пошлют еще куда-нибудь. Хотя это вряд ли. Мои материалы и так регулярно идут в печать. Книгу тиснут большим тиражом. Бабок дадут. Ну, там, может, премию сунут. Но чтобы меня от этого больше женщины стали любить, так это маловероятно. А если и будут, так на кой черт мне такие женщины? Машина… у меня есть. Все…
– Вы все там чокнутые. – Джобс кивнул. – Я точно такой же вопрос задавал Зорину. Он точно так же, как и вы, мялся-мялся… Что-то там мямлил… А потом сказал: слушай, Билли, пошел ты в задницу со своими вопросами! И напился.
– Зорин? – Таманский не поверил.
– Да-да! И дал в морду корреспонденту «Форбс».
– Джобс, вы врите, но знайте меру!
Американец прижал обе руки к груди, и Таманский схватился за руль.
– Я не вру! Я видел это своими глазами, чтоб я лопнул! Это была нормальная журналистская пьянка. На какой-то долбаной презентации. Я вас уверяю, этот ваш… коллега большой любитель презентаций. Он о них ни черта не пишет, но зато его всегда приглашают. Какая-никакая, а зарубежная пресса. То, что там происходит после того, как нашего брата допускают к столу… Это просто ужас! Об этом никто не пишет, конечно, и вообще распространяться не принято…
– Да ладно, Билл! – Таманский держал баранку, и надо отметить, что машина шла ровнее, чем когда ею управлял Джобс. – Это же скандал! Советский журналист дал по физиономии своему американскому коллеге… Чтобы ваша пресса не раздула из этой мухи слона! Не верю!
– Ой, тоже мне коллега! Этих засранцев из «Форбса» никто не любит. И только ваш Зорин может позволить себе дать этой заразе в рыло! Ему ничего не будет! А нашего брата сожрут с потрохами. Так что все промолчали и никто ничего не видел.
Он снова взялся за баранку.
– Вы сказочник, Билли. – Таманский улыбнулся, представив себе Зорина, лупящего в холеную морду журналюгу из «Форбс». – Но ваша сказка мне нравится.
– То ли еще будет, – радостно пообещал Билл.
Дороги в Аргентине – понятие часто относительное. Пока вы двигаетесь по крупным трассам, которые регулярно подновляются, все в порядке. Но если вы сворачиваете на дорогу второстепенную… Тут начинается самое интересное.
Потому что правила дорожного движения, кажется, перестают существовать.
Есть мнение, что Броун, делая свое знаменитое открытие, предвидел дороги Аргентины. Повозки, лошади, просто груженые ослики или мулы. Все это прет по встречной, останавливается где-то посередине, перегородив всем путь.
Джобс давил на клаксон не переставая. Он вскакивал, ругался, один раз порывался даже выскочить наружу, чтобы набить морду какому-то крестьянину. Таманский с трудом удержал американца.
Одним словом, когда журналисты, уже под вечер, прибыли в какой-то населенный пункт, очередной «Гранде…» или «Рио…», Джобс сказал, что на сегодня с него хватит, и направился в кабак.
55
Когда Джобс бухнул на стол бутылку виски, Костя поинтересовался:
– Ну, и какой у нас с вами будет план? Общую картину я знаю. А вот детали мне пока неясны.
– Сейчас… – Американец отвинтил пробку и разлил содержимое бутылки в два стакана.
– Собираетесь заночевать тут? – Таманский не стал пить.
– Да. – Джобс выпил. – Черт…
Он явно был раздражен и даже зол. Таманский внимательно изучал его.
– Скажите, Билли, а что вы собираетесь делать дальше? Мне, честно сказать, не понятно. Тут все дороги – дерьмо, вы собираетесь напиваться после каждого километра или чаще?
– Черт! – Джобс сморщился. – Как вас мамочка таким родила? Тамански, вы же исключительный зануда! Ваши нотации – это не совсем то, что сейчас я хотел бы слышать.
– Но вам придется привыкнуть к ним, Джобс, если вы хотите продолжать наше путешествие. – Костя отодвинул стакан с виски подальше.
Билл непонимающе посмотрел на Таманского.
– Константин, вы вообще русский?
– Хорошенькое начало для разговора. У меня польские корни. А что?
– Поляки, русские… Какая разница?
– В нашем контексте никакой.
– Но я слышал, что все русские пьют, как слоны на жаре.
– Лошади… – поправил коллегу Костя. – Пьют, как лошади. Это бывает. Только не у всех и не всегда. Сейчас мне не хочется пить. Сейчас мне хочется знать, куда мы направляемся и как вы планируете подобраться к лагерю. Или я сейчас же сажусь на тот самый джип, что вы арендовали, и укатываю в Буэнос-Айрес.
– Черт! – Американец отодвинул и свой стакан. – Вы удивительно умеете ломать кайф.
– Я жду.
– Хорошо! Черт! – Джобс закрутил крышечку у бутылки. – Я думаю завтра утром пробиться, к черту, через этих полоумных туземцев. Наша цель – это Рио-Колорадо. Оттуда мы уйдем на совсем уж лесные дорожки, а потом пойдем пешочком. У меня есть карта и довольно точные указания.
– И насколько часто вы планируете останавливаться?
– Ну… – Джобс пожал плечами. – Ну, собственно… Это случайность. Я не ожидал, что эти дороги так меня выведут.
Американец замолчал, покосившись в сторону бутылки.
– Черт. Ну, хорошо, Тамански, давайте сделаем так. Это последняя моя остановка в пути. Только давайте, раз уж я взял бутылку, разопьем ее. С завтрашнего дня я не возьму в рот ни капли. Только баранка, только дорога! Если вам так угодно, Тамански, можете сами сесть за руль.
– Ну, если понадобится, сяду. Однако я бы на вашем месте на это сильно не рассчитывал.
– Конечно! Конечно, товарищ. – Джобс щедро налил себе в стакан. – На здоровье!
– Черт с вами. – Таманский взялся за стакан. Виски отдавало сивухой и дурным деревенским самогоном. – Но учтите…
Джобс прижал руки к груди.
– Клянусь всеми святыми.
После третьего стакана Билли развеселился и заказал каких-то закусок, более всего напоминавших сушеное до одеревенения и дьявольски острое мясо.
– Вот скажите мне, Тамански, на кой черт вам этот кубинец?
– Вы о чем?
– Ну, этот… Че Гевара. Вот носятся все вокруг, носятся. Че Гевара то, Че Гевара сё… На майках его рисуют. Ну, знаете, в этом, в берете. А по сути – что? По сути он поругался с Фиделем и свалил делать революцию. Оказался никому не нужен, и его сожрали боливийцы. Он же неудачник, ваш Че Гевара. Неудачник.
– Это не помешало ему опрокинуть в море ваш десант.
– Ну… – Джобс развел руками. – Знаете…
– Что? Забыли? – съязвил Таманский. – Или американский десант набирается из неудачников?
– Подите вы к черту, Тамански. Просто эти идиоты из Пентагона, как всегда, облажались.
– А в Боливии, когда вы пригнали туда кучу рейнджеров, он водил вас за нос черт знает сколько времени… Странная привычка у неудачника, оставлять Америку с носом.
– Да, но его все-таки взяли за жабры.
– Еще бы. Сколько дивизий его ловило? Не припоминаете? Две? При поддержке авиации, ваших советников, рейнджеров… Хороший послужной список у этого неудачника.
– Вы не понимаете, Тамански. Что он сумел изменить? – Джобс пьяно качался на скамье. – Что он сумел переделать в мире? Свалить Штаты? Кишка тонка! Или, там, уничтожить капитализм? Но Тамански, вы же понимаете, что капитализм – это форма социальной активности. Ее невозможно отменить!
– Но мы-то сумели! – неожиданно сам для себя ответил Костя. – Вот и идите в задницу, Джобс, с вашим капитализмом. Имели мы его! И не только мы. Все вы меряете на деньги, чертовы… капиталисты.
– Ну, и не все! Совсем не все! – возмущенно отвечал Билли. – Совсем не все, а даже наоборот.
– И что же? Ну, давайте, Джобс. Давайте, скажите мне, что же вы почитаете превыше денег? Что это за штука такая?
– Это… Это… – Американец налил еще стакан, обильно проливая мимо. – Любовь к родине!
Он попытался встать и спеть гимн Соединенных Штатов Америки, но Таманский усадил его обратно.
– Любовь к родине? Хорошо. Вот давайте, Билл, начистоту. Вам доставляет удовольствие тот факт, что ваши самолеты бомбят вьетнамцев и заливают джунгли напалмом?
– Ну… Черт, это же вьетнамцы! Они же коммунистические эти… – Американец покосился на Костю. – Простите, Тамански, а вы коммунист?
– Да! – впервые с гордостью ответил тот.
– Надо же! – Джобс был поражен. – Я тут пью с коммунистом, оказывается!
– Не увиливайте, Билл! Вам нравится то, что ваши солдаты убивают мирных жителей во Вьетнаме?
– Каких, к черту, мирных жителей? Вы там были?! – вдруг завопил Джобс. – Вы там были?! Эти проклятые коммунисты в любой момент готовы метнуть вам гранату в машину! Они же не умеют воевать! Не умеют! Чертовы узкоглазые подонки! Прячутся в своих долбаных… Вас там не было, Тамански! А я был!
Костя отмахнулся.
– Так вам нравится это или нет?
– Нет! Вашу мать! Нет, мне это не нравится!
– Но ведь это же предательство по отношению к интересам вашей страны, Билл. Настоящее предательство! Вы, поди, и в демонстрациях участвовали?
– Ну… – Джобс скорчил грустную физиономию. – Участвовал… А вас там не было!
– Хорошо, хорошо, не было. Но вы же понимаете, Билл, Америке нужен Вьетнам! Вы там раскидаете свои ракеты… Для вас нет ничего святого, Джобс. Вы не любите родину!
– Долбаный коммунист, – резюмировал Джобс и рыгнул. – Я пойду узнаю, есть ли у них комнаты.
Американец поднялся и, заметно качаясь, направился к стойке.
«Чего это меня понесло про капитализм-то? – удивился сам себе Таманский. – Вроде и выпили не так много. А какая-то кухоньщина полезла. Нехорошо как-то, еще обидится…»
Когда Джобс вернулся, Костя сам налил ему остатки сивушного пойла.
– В общем, вы, Билл, не берите близко к сердцу. Мне, в общем-то, Америка даже нравится.
– Что там может нравиться? Дерьмо, а не страна! – грохнул Джобс кулаком по столу. – Вас там не было! А я был. Дерьмо и кровь, вот что я там видел. А интересов своей страны я там не нашел! – Он вздохнул. – Пойдемте спать, Тамански. Вы мне нравитесь… Вы романтик. Че Гевара. Все эти истории про то, как можно свалить капитал. Вы романтик, Тамански. Это хорошо.
56
Ночью ему снился странный сон.
Таманскому казалось, что у него болит нога. Так болит, что ступать на нее почти невозможно. От этого он сильно хромает и большую часть времени просто лежит на составленных вместе скамьях. Лежать жестко, но уже все равно. Болит, ноет каждая жилка. От перенесенного напряжения он несколько ночей не спал, голова кружится, но не заснуть.
«Еще успею, – думает Таманский и тут же спохватывается: – Успею ли? Утром… Утром все кончится».
От немытого тела пахнет потом и порохом. В груди сипит. Астма.
«То-то будет забавно подохнуть, пока они меня сторожат… Обмануть всех. Обмануть…»
Таманский повернулся на бок. Закрыл глаза. Именно так лежал Моралес, словно заснул. Только рубашка на груди пропиталась красным.
Костя беспокойно заерзал, упираясь руками, сел. Осмотрелся.
Земляной пол. Грубые столы и скамьи. Пахнет сыростью. Черная доска на стене, вот и все достояние этого класса. Тут учатся дети…
Он потрогал раненую ногу и порадовался тому, что кость не задета. Поправил повязку. Тело действовало самостоятельно. Будто бы на что-то надеясь.
«А ведь у них нет смертной казни. Ее отменили… – вдруг всплыло в голове. – Значит, будет суд?»
Таманский представил, как его, заросшего, раненого, в арестантской робе привозят в зал суда. Собираются защитники, обвинители. Судья выходит в накрученных буклях парика. Толстый, но с трясущимися губами. Почему-то судья представлялся именно таким: толстым и с красными трясущимися губами. Собирается публика…
Хотя нет. Публику на суд не пустят. Побоятся.
Все, что ему нужно, – дать отвод адвокату, все одно от него пользы нет никакой, и защищаться самому. Все-таки жаль, что не будет зрителей. Уж он бы нашел что сказать этим людям, чьи дети учатся в нищих школах, где пахнет гнилью и плесенью, а в углах шебуршатся крысы. Нашел бы…
«О чем я? – Таманский встряхнул головой. – Суда не будет. В этой стране нет даже надежной тюрьмы. Меня просто расстреляют на рассвете. Хорошо бы перед этим увидеть солнце…»
Откуда-то он знал, что не будет никакого суда, что просто откроется дверь и солдатик, салага, которому выпала неудачная монетка, войдет в комнату. Уже основательно выпив для храбрости. Но от виски у солдатика будут только руки трястись… От виски и от страха.
«Хорошо бы увидеть солнце… Не хочется подыхать в темноте».
Почему-то это казалось Косте очень важным.
«Но во двор не выведут. Побоятся. Хотя… – Он снова осмотрел себя. – Чего тут бояться? Я уже ничего не могу… Только смотреть в глаза тем, кто все-таки решится меня убить. Только смотреть в глаза… Вот чего они так боятся. Этого страха. Который испытывают все палачи в мире. Их охватывает ужас при мысли о том, что эти глаза, этот взгляд они будут видеть каждую ночь! И всякий раз, закрывая веки, они будут вспоминать…»
Таманский напрягся, очень осторожно свесил ноги со скамьи, опираясь на ее край, встал, стараясь держать вес тела на здоровой ноге. После двух неудачных попыток ему это удалось. Держась за стены, он добрался до окошка, почему-то забранного решеткой.
«Зачем в школе решетки? Какая гнусность, давать детям знания за решеткой…»
Снаружи доносились обрывки разговора. Солдаты, стоящие на посту, переговаривались между собой.
Вдруг ему стало смешно.
«Их страх я чувствую даже через стены. Чего доброго, после моей смерти они снесут и эту убогую школу, чтобы выбросить из памяти все связанное со мной… Может быть, построят новую».
Внезапно сознание Кости поплыло. Он вдруг понял, что это совсем не он находится в деревенской школе в местечке Вальягранде. А кто-то другой. Кто? И где сам Таманский? Почему это страшное сновидение такое яркое, живое? Запахи, боль, страх свой, страх чужой… Все реальное, настоящее.
Кто же это? Кто стоит с простреленной ногой на холодном земляном полу и ждет, когда лейтенант Марио Терана войдет в двери и попросит сесть?
– Зачем? – ответит кто-то. – Ты можешь убить меня и так.
И посмотрит в глаза. Посмотрит в глаза так, что лейтенант развернется и выйдет. Но его товарищи втолкнут его назад.
– Целься точнее, – скажет этот кто-то, продолжая смотреть и смотреть ему в глаза.
Эти глаза… Они потом выколют их. В надежде забыть навсегда его взгляд.
– Целься точнее!
Марио Терана отвернется к двери, в ужасе понимая, что выход закрыт. Он почувствует себя в ловушке. Почувствует опасность, исходящую от этого раненого, грязного, истощенного человека. Страшную, огромную, почти смертельную опасность!
И только тогда найдет в себе силы развернуться и нажать на курок. Ударить очередью, от бедра.
– Моя смерть не будет означать, что победить невозможно. Революция не кончена. Она победит где-нибудь в другом месте! Передайте Фиделю…
Одна пуля все-таки попадет ему в сердце.
Много-много позже, в странное и смутное время, Таманский будет сидеть перед экраном телевизора и смотреть, как мальчики и девочки с задуренными головами, не имеющие внутри себя ни капли от этого человека, ни частички его духа, цельности, силы, будут напяливать майки с его изображениями. Ходить по улицам Москвы и орать нечто невразумительно-пафосное…
Таманский будет глотать импортные таблетки. И трогать толстую пластиковую папку с пожелтевшей бумагой, где будет храниться так и не изданная книга.
«Как же так вышло? – подумает Таманский. – Как? Кто эти дети?»
Это будет последняя мысль Константина Таманского.
Когда Костя в ужасе проснулся, около его кровати на жестком табурете сидел человек.
Было темно. Во рту будто кошки нагадили, голова разламывалась от дурного виски.
На какой-то момент Таманскому даже показалось, что в комнате пусто. Но нет. На табурете около него действительно сидел человек. На фоне светлого окна его силуэт был отлично виден.
– Кто вы?! – Костя вздрогнул.
Человек пошевелился. Поправил берет. Тускло сверкнула звездочка…
У Таманского похолодело внутри. Он сглотнул. Из ободранного горла вырвалось:
– Че…
Фигура на стуле кашлянула.
– Знаете… – Его голос Таманский представлял себе иначе. Казалось, у оратора, бойца, командира голос должен быть сорванным, громким, яростным. Но нет… Тихий, спокойный, но с особенной, твердой сталью внутри. – Все ведь было совсем не так…
– Эй, Тамански! Черт вас возьми, вставайте! Проклятый русский коммунист! – В дверь стучали с такой силой, что казалось, она слетит с петель. – Мы уже должны ехать, пока эти чертовы туземцы не заполонили все дороги!
Джобсу было нехорошо. У него болела голова и тряслись руки. Он уже успел, пока Таманский спал, хлопнуть похмельную рюмашку, но она по какой-то причине не действовала.
Когда Костя открыл дверь, американец всплеснул руками.
– Тамански! С вами нельзя пить! Вы совершенно не держите удар. Посмотрите на себя! Вам что, плохо?
– Нет, – прошептал Костя. – Просто я всю ночь работал…
57
Ехали молча. По контрасту со вчерашним днем, Джобс не возмущался особенностями аргентинских дорог, а терпеливо объезжал каждую встречную телегу или ослика. По обочинам сидели молчаливые люди. В основном мужчины. Изношенная одежда, высохшие, морщинистые лица.
– Кто это? – спросил Таманский.
– Индейцы, – хмуро отозвался Джобс.
– А чего расселись?
– Бездельники и голодранцы. – Билл отмахнулся. – Они так живут. Женщины вкалывают. На полях. А эти торчат вдоль дорог. Смотрят, где что плохо лежит.
– В городе я их не видел.
– Ну, еще бы. Их полиция гоняет. Вокруг маленьких городков их навалом. На селе уже нет. Там, чтобы выжить, надо работать. В маленьких городках проще.
Джобс снова замолчал, щурясь от яркого солнца.
А Таманский все пытался понять: что же это было ночью?
Что же это было?
Сон?
«Это не может быть реальностью. Значит, это сон. Правда, я никогда не слышал, чтобы люди во сне писали книги. Таблица элементов может присниться, понимаю. Музыка тоже… Но это все случаи, когда люди что-то видели, слышали, а уж потом, проснувшись, записывали… Но…»
Таманский покосился на свою сумку, где лежала исписанная тетрадь.
«Но чтобы во сне писали книги, я такого не припомню… Хотя есть вполне разумное объяснение – бред. Галлюцинации. Белочка. Хотя как я умудрился в состоянии белой горячки писать связные вполне вещи… Да и вообще, не столько выпили… Сумасшествие?»
Мысль о том, что он покатился с катушек, заставляла Костю нервничать. Он, конечно, не припоминал таких сумасшедших, которые могли бы написать две более или менее связные строчки, но чем черт не шутит…
«Хотя, может быть, все не так уж и страшно, – подумал Таманский. – Говорят же, что у Гофмана были видения. Оттого и сказки он писал такие».
Чувствовать себя Гофманом было приятно для самолюбия, но заканчивать жизнь конченым алкоголиком не было никакого желания.
– Что, плохо? – поинтересовался Джобс.
– Не понял…
– Я говорю, плохо вам, Тамански? – От американца несло луком и перегаром. Он отчаянно потел и непрестанно промакивал лоб большим платком с розовыми сердечками.
– С чего вы решили? – осторожно спросил Костя.
– Да вы какой-то тихий, вялый… Про лицо я вообще не говорю. В гроб краше кладут.
– Я всю ночь работал. Я уже говорил.
– Ой, бросьте заливать, Тамански, кто ж после половины бутылки виски работает?! – Джобс засмеялся. – Скажите честно, над унитазом стояли?!
И он снова засмеялся. Похмельный стаканчик наконец начал действовать, и американцу полегчало.
А Таманский снова погрузился в размышления.
Так они и ехали. Джобс вырулил на более или менее свободную дорогу. И гнал, насвистывая незамысловатую мелодию. Ветер обдувал лицо, и Таманскому стало наконец казаться, что прошлая ночь была только выдумкой. Кошмаром. Нет никакого сумасшествия. Есть просто… случайность. Дурное виски, которое гонят из какого-нибудь местного гнилого кактуса. И больше ничего.
Костю даже перестал раздражать Джобс, который доставал его с самого утра. Билл показался Таманскому простым американским парнем из тех, о ком пел, кажется, Бернес, в песне «Если бы парни всей земли…».
Через два дня они прибыли в деревню, на краю джунглей.
– Дальше только пешком, – сказал Джобс. – Это то самое место.
– Сколько надо будет идти?
– Дневной переход, – ответил американец, выпрыгивая из машины. – И мы на месте. Я думаю, вы переживете одну ночевку на свежем воздухе?
Таманский вытащил из багажника рюкзак и проворчал:
– Я еще вас поучу костер разводить…
Американец рассмеялся. Он вообще был весел и бодр. Складывалось впечатление, что Джобс пришел на пикник куда-то в парк, где ему ничего не угрожает.
– Кстати, как мы поступим с машиной? – спросил Костя.
– Ерунда. Я знаю тут одного индейца. Оставим под его опекой. Надежный человек.
– Индеец? – удивился Таманский. – После того, что вы мне понарассказывали…
– Нет-нет, это… – Джобс замялся, словно подыскивая слово, а потом обрадовался: – Это индеец из другого племени! Мы можем ему доверять. – Он показал пальцем на одну из хижин. – Идем во-о-он туда. Заночуем у него, а утром двинемся. Годится?
– Думаю, что да. – Таманский взвалил на плечи рюкзак, взял сумку. – Не хотите прихватить свои вещички?
Джобс махнул рукой. Костя хмыкнул и двинулся за ним.
Назвать это строение хижиной Таманский поторопился. Скорее всего жилище «надежного» индейца напоминало небольшой домик, выделявшийся на фоне остальных соломенно-деревянных строений.
Джобс постучал и вошел, не дожидаясь ответа.
Таманский сперва заглянул через порог. Воспитанный на Купере и Майн Риде, Костя ожидал увидеть шкуры, открытый очаг, мускулистого хозяина в шрамах, перьях и боевой раскраске, а также его верную скво, хлопочущую у костра.
Однако это был типичный деревенский домик. Чистенький, с большим камином, диваном и журнальным столиком. От местного колорита осталась только толстая медвежья шкура на полу и два томагавка над камином, которые при ближайшем рассмотрении оказались бутафорскими.
– Его сейчас нет дома, – сказал Джобс. – Бросайте ваше барахло, и давайте выпьем. Надеюсь, я могу уже принять на грудь пару сотен граммов? В конце концов, самую дурную часть пути мы уже прошли…
– Вы пейте, я не буду. – Таманский аккуратно разулся и прошел к камину. – Красивый дом.
– Ему положено, – глухо ответил американец, роясь в небольшом шкафчике. – Староста и все такое. Уважаемый человек. Местная деревенщина его почитает, потому что к нему приезжают Большие Белые Люди. – Он выудил бутылку из шкафа с красной этикеткой. – То есть мы с вами, Тамански. – Джобс достал еще и два стакана. – Точно не будете?
– Точно. У меня аллергия на местное пойло.
– Это импортное. Хотя… – Билл пригляделся. – Подделка наверняка. Впрочем, мне плевать. И не такое пил. Знаете, во Вьетнаме есть такая дрянь, настойка на какой-то древесной змее. Эта чертова гадюка там, свернута в бутылке. Так я и эту погань пил.
Костя обошел дом. Две спальни. Кухня с большой дровяной печью. Все чистенько, прибрано.
– У него есть женщина?
– Конечно! – ответил американец. – И не одна. Он же староста. Кстати, именно он помог мне с этими проклятыми наци. Эти ребята стали крепко мешать местным аборигенам. А властям наплевать. И на индейцев, и на все на свете. Дурная страна.
Таманский рассматривал черно-белые фотографии на стенах. Какие-то полуголые люди, смуглые и черноволосые. Кажется, чья-то свадьба. Огромный зверь с рогами, подвешенный на крюке, видимо охотничий трофей. Похороны.
Фотографий было много. От совсем уже пожелтевших до новеньких глянцевых.
– История племени… – прошептал Таманский.
– Что? – Джобс не расслышал.
– Я говорю, интересные фотографии! – повторил Костя громче. – Целая история…
– А! – Билл отмахнулся. – Этого барахла в любом ларьке вы найдете кучу. Небось перья и бубны…
Таманский промолчал.
Он еще долго стоял около этой стены, где сконцентрировалось время.
– Хау, белый брат! – громко сказал кто-то за его спиной.
Костя вздрогнул и обернулся.
58
Вождь, как называл его Джобс, оказался похож на героев Фенимора Купера так же, как его дом на классические индейские хижины. То есть вообще не похож.
Это был полненький веселый мужичок с коротким ежиком совершенно седых волос. С ним вместе пришла молодая женщина, лет двадцати, не более. Возраст Вождя Таманский определить не смог, а спрашивать постеснялся. Поначалу Костя подумал, что индианка – дочь хозяина дома, но после того как тот, не особенно смущаясь, залез к ней под подол, Таманский понял, что Вождь еще силен.
На самом деле Вождя звали Августо Бали, он был чистокровным индейцем и всю свою жизнь занимался тем, что оберегал свое племя от остального мира. В молодости Августо учился в белой школе и закончил университет. Насмотревшись на «цивилизацию», Вождь вернулся в джунгли и занялся тем, чему учился, – этнографией. Объектом его исследований стало родное племя, а также множество деревень, затерянных в этом зеленом кошмаре. Августо Бали собрал огромный материал, который, как оказалось, был интересен только ему самому, и пользовался вполне заслуженным авторитетом среди индейцев. Никто не знал более его об индейских верованиях, сказках, мифах, обычаях и традициях. Августо точно мог сказать, какой обряд соблюдается у того или иного племени, какие традиции безвозвратно ушли в прошлое, а какие свято чтутся. Также Вождь знал, как вызвать дождь и что нужно делать, если, например, у человека раздулся живот сверх меры, а газы такие вонючие, что птицы мрут на лету. Это роднило его с местными шаманами и колдунами, возводя авторитет на недосягаемую высоту.
Однако Августо не возгордился и не превратился из человека, охраняющего племя, в эдакого царька или мелкопоместного барона. Он всегда был открыт для гостей и для соплеменников. Дом его никогда не запирался. И не было в джунглях человека, который решился бы что-то у него украсть.
Августо оказался замечательным собутыльником. Вместе с Джобсом они едва не уболтали Таманского, но тот, памятуя свои ночные приключения, воздержался.
Судя по всему, Джобс и Вождь выпивали частенько. Они что-то обсуждали, вспоминали. Иногда подвыпивший Августо начинал балагурить и общаться в стиле дешевого вестерна. «Хау, белый человек!», «Бледное лицо не врет?», «Мои краснокожие братья…» – и так далее.
Таманский наблюдал за этой комедией со смешанным чувством: с одной стороны, Вождь был весел, по-хорошему буен, но с другой… Косте все время казалось, что эта радость напускная.
– А помнишь ту рыбалку?!
– О да! Я тогда вытащил во-о-от такую рыбу! – кричал Вождь, размахивая руками. – И тот белый спросил, где мне взять молоток?
– Точно! – Джобс закатился от хохота. – А я ему, слышь, быстрее посмотри в машине!
Тут засмеялся Вождь.
Таманскому стало скучно. Он отвернулся, снова разглядывая стену с фотокарточками, и совершенно упустил момент, когда хохот неожиданно стих.
Когда Костя обернулся, Вождь аккуратно опускал голову Джобса на подушку. Американец заснул мгновенно. Прямо там, где сидел, на диванчике.
Индеец бормотал что-то успокаивающее. Ему помогала девушка.
Таманский непонимающе посмотрел на стол. Бутылка была выпита не до конца. Джобс держал удар и посильнее. Неужели Вождь что-то подсыпал?
– Думаете, что я его отравил? – спросил индеец.
– Я?.. – Таманский закашлялся. – Нет… То есть… Билл так просто не сдается…
– Я ничего ему не подсыпал. И пил из одной с ним бутылки. – Вождь уложил американца. Тот уже начал похрапывать. – Просто ему нужно отдохнуть.
– Интересный способ… – пробормотал Таманский.
– А что нужно тебе? – спросил Августо.
– Мне?.. – Костя слегка смутился. – Ну, я тоже журналист. Я работаю над книгой. И…
Таманский запнулся и понял, что сказать больше ничего не может.
Вождь ждал.
– В общем… – Костя собрался с мыслями. – Джобс сказал, что в лесах… Тут где-то… Находятся наци… Плохие люди, которые… Черт!
Он понял, что неожиданно для себя начинает скатываться на стиль беседы просвещенного белого с краснокожим дикарем. «Плохие люди, которые хотят зла…»
«Эдак недолго и скальп потерять… Черт его знает, какие у них тут обычаи. Полоснут ножичком по кумполу. А Джобсу скажут, уехал в город. Если Джобс вообще проснется… Какого хрена я должен упрощать?»
– В общем, в этих местах есть лагерь неонацистов. Джобсу нужен напарник, с которым он сделает репортаж. Я его опубликую у себя в стране, а он у себя. Нужны еще фотоматериалы… Поэтому мы идем в джунгли, – неловко закончил Таманский.
Вождь слушал внимательно, не перебивая, а потом ответил:
– Я знаю, что нужно мистеру Джобсу. А что нужно тебе?
«Как об стенку горох, – подумал Костя. – Что мне нужно?»
– Ну, я собираюсь тоже сделать репортаж…
Вождь покачал головой.
– Разве это нужно тебе? – Индеец поцокал языком. – Нет. Это нужно Джобсу. Ему надо, чтобы ты сделал репортаж.
– Значит, мне нужно написать книгу.
– Ее будут читать?
– Я надеюсь.
– И это нужно тебе? Или это нужно издательству? Кому нужна книга, которую ты пишешь?
– Людям, – ответил Таманский и поморщился, таким пафосом оказалась наполнена его фраза.
– Людям… – Вождь кивнул. – Я тебе покажу…
Он поднялся и подошел к той самой стене, где висели фотографии.
– Вот, смотри. Кое-что я сделал сам. Кое-что нашел в архивах. В Европе. Кое-что просто украл. – Индеец усмехнулся. – То, что висит на стене, только часть. Очень многое лежит в альбомах. В специальной комнате. Там я стараюсь поддерживать постоянный климат. Так фотографии лучше сохраняются. Но многие из них уже испортились. Я ездил в город, чтобы их перерисовали художники. Картины хранятся дольше, чем фотобумага. Каждое событие моего племени, каждое событие других племен бережно сохраняется мной. Так же это делали люди до меня. Я только унаследовал накопленное ими. Это называется сказки, предания, легенды. Может быть, кому-то удобней считать так, но на самом деле – это история моего народа. Огромного народа, который жил тут когда-то. Жил, а теперь умирает. Потому что пришло его время. Все, что я могу сделать, это сохранить, передать дальше робкую надежду на то, что когда-нибудь мы по-настоящему вернемся на эту землю. Так люди, стоящие цепочкой, передают во тьме горящую свечу. Чтобы там, где-то далеко-далеко во мраке, зажечь новый, большой костер. Это нужно моему народу. Это нужно мне. Потому что я – это и есть мой народ. Я не часть его, не кусочек. Я и есть – он. А что нужно тебе?
Вождь постучал по одной из фотографий.
– Вот тот парень, что храпит на моем диване и думает, что удачно обставил старого краснокожего, выпив его виски, знает, что ему нужно. И я знаю. Да и ты, наверное, знаешь. Он ведь говорил? Машины, девочки, деньги. Слава. Он ведь говорил?
Таманский кивнул, завороженный тихой речью индейца.
– Удивительно, но мистер Джобс не соврал. – Вождь улыбнулся. – Это один из немногих людей, которые сами знают, чего хотят. Такой уж они народ.
– Кто? Кто они?
– Американцы. – Индеец отошел к столику, взял свой стакан, отхлебнул. – У них многие знают, чего хотят. Это простые, понятные вещи. Деньги, которые дают много разных возможностей. Вещи. Женщины. Но даже это лучше, чем не знать, что же на самом деле нужно человеку. Если бы ты был как Джобс, я бы не спрашивал тебя. Но ты совсем другой. За тобой совсем другая тень.
Таманский на всякий случай посмотрел себе за спину.
Ничего. Нормальная тень. Никаких… особенностей.
– Я знаю, что сейчас ты будешь думать, будто старый краснокожий дикарь совсем задурил себе голову.
– Ну, я не… – начал было Таманский, но Вождь махнул на него рукой.
– Оставь. Я знаю. Но когда-нибудь придет время, и ты вспомнишь мои слова. Это будет важный момент. Важный для тебя. Постарайся вспомнить.
– Я постараюсь… – Костя прокашлялся. – Расскажите мне про нацистов.
– Про этих? Которых так хочет найти Джобс? – На лице индейца заиграла хитрая усмешка. – Я не знаю, кто это такие.
– Как же так? – Таманский сел в кресло, принял из рук жены или подруги Вождя кружку с чем-то теплым, густо пахнущим травами. Чай? На какой-то момент ладонь Кости скользнула по руке девушки. Сухая, нежная кожа. Девушка стрельнула темными глазками и ушла на кухню, гибкая, стройная. Таманский с трудом собрал мысли обратно. – Э-э-э… Джобс сказал, что вы навели его на этих нацистов и просили помочь.
– Старина Джобс, как всегда, слегка приукрасил действительность. Да, я нашел кое-что. И отдал ему фотографии. Он же журналист… Везде сует свой нос. А что он наплел тебе, не мое дело.
– Вы хотите сказать, что он меня обманул?
– Нет. – Вождь замахал руками. – Джобс честный парень, когда ему это выгодно. Но тебе разве не все равно, что делать? Ты же принимаешь его желания за свои, а про свои совсем не думаешь.
– Он показывал мне фотографии. Там сожженные деревни. Трупы. Повешенные.
Вождь ухмыльнулся.
– Я видел в своей жизни многое. И даже я не смогу отличить сгоревшую деревеньку от сожженной, а казненных от невинно убитых. Каждый видит то, что хочет видеть. Одно могу сказать, Джобс не тот парень, чтобы подставлять свою башку под проблемы. Да и чужими он без повода не рискует. Грубый, хамоватый, самодовольный американец. Но не подлец, нет. – Он хлопнул себя ладонями по коленям. – Я скажу, чтобы тебе подготовили спальное место. Извини, я привык спать в гамаках. И диван у меня один. На нем, как ты видишь, спит Джобс. Ты не против гамака?
– Что угодно…
– Хорошо. Она, – Вождь указал на девушку, – покажет тебе, где лечь… А я пойду. Я устал.
Таманский проводил индейца взглядом и даже не заметил, как рядом оказалась его подружка. Она молча взяла Костю за руку и повела за собой.
Они вошли в одну из маленьких спален, где между стенами были натянуты гамаки. Девушка показала на один из них. Потом на стопку свежего белья.
– Понял. Разберусь…
Индианка подошла к нему близко-близко. Таманский почувствовал ее запах. Аромат трав, леса, чего-то дикого, настоящего, живого.
Но потом она шагнула назад, как-то странно посмотрела на него и исчезла за дверями.
– Однако… – прошептал Костя и только тут понял, что в груди у него, как у той вороны, дыханье сперло. Таманский откашлялся. – Нет, на сегодня хватит народного колорита.
С неуклюжестью человека, привыкшего спать на неподвижной кровати, Таманский забрался в гамак.
Внутри оказалось довольно уютно. Даже удобно. По крайней мере, никакая пружина в бок не впивалась.
Где-то в густой темноте скрывался потолок.
Из маленького окошка проникал свет луны. Нет. Не свет. Так, призрак света.
– А все-таки тут… – прошептал Таманский и осекся.
Краем глаза он заметил какое-то движение.
Напрягся. Сощурился, стараясь рассмотреть хоть что-то.
Рядом чуть раскачивался второй гамак. Там явно кто-то лежал.
– Знаете, Таманский, вы мне нравитесь…
Этот голос Костя уже слышал. Совсем недавно.
– У вас есть желание делать то, что нужно делать. Вы понимаете необходимость. Наверное, это у всех советских людей. Идеология. Хорошая. Верная.
Человек в соседнем гамаке сел. Звездочка сверкнула в темноте.
– Пишите, Константин…
59
«Главное, не смотреть вверх…» – Таманский тупо переставлял ноги по влажным, крупным листьям. Дышать было тяжело, воздух, густой как патока, с трудом проникал в легкие. К тому же рюкзак натер плечи и теперь причинял жгучую боль.
На первых порах Костя пребывал в восторженном состоянии. Джунгли, огромные деревья, яркая сумасшедшая зелень… Все такое новое, удивительное, особое.
Через час наступила расплата. Сначала заболели глаза, потом боль перекинулась на лоб, а оттуда на всю голову. В какой-то момент Костя понял, что не может идти. Он пожаловался Джобсу, и тот накормил коллегу какими-то таблетками. От которых через десяток минут стало легче.
– Не пяльтесь вверх, Тамански. Смотрите под ноги.
Костя слабо улыбнулся.
– Я первый раз в джунглях…
– Оно и видно, – проворчал Джобс, падая рядом и закуривая. – Я тоже дурень, вас не предупредил. Меняется фокус. Слишком часто. То далеко, то очень близко. Далеко-близко, туда-сюда. Понимаете? И глаза начинают болеть. Поэтому надо смотреть под ноги и не вертеть башкой слишком часто.
– Я учту…
Их проводник, высокий, гибкий парень в кожаных штанах и зеленого цвета рубахе, молча стоял неподалеку. Проводника им утром привел Вождь. Джобс порывался отказаться от провожатого, но согласился так быстро, что Таманский понял – американец не хочет лезть в этот зеленый кошмар без провожатого.
Когда наконец Костя смог подняться на ноги, они двинулись дальше: Таманский в середине, Джобс замыкающим, а индеец, легкий и более всего похожий на взведенную пружину, впереди.
Бессонная ночь давала о себе знать. Идти было тяжело. Ботинки казались неподъемными, глаза слипались.
В деревне, в доме Вождя, остались новые страницы книги.
– Скажите, Джобс, – неожиданно для себя спросил Таманский. – У вас в Штатах как к психам относятся?
– А почему это вас интересует?
– Да вот… Чисто теоретическое размышление. У вас же страна свободы?
Американец хихикнул.
– Свободы? Это вам надо будет объяснить ребятам, которых наши «Фантомы» заливали напалмом. Или оранжем. Страна Свободы…
– Джобс, я вас не узнаю. Разве вы не патриот?
– Патриот? Я? Конечно, черт возьми, я патриот. Такие, как я, сковырнули Никсона.
– А… Понятно. У нас такие патриоты называются несколько иначе, – пробормотал Костя. – И все-таки, как с психами?
– Как и везде. – Джобс пожал плечами, засмотрелся вперед и провалился по колено в яму, заполненную вонючей жижей. – Твою мать!
Он с трудом выбрался, потопал, отряхиваясь. За это время Таманский и проводник ушли вперед. Американец бросился их догонять.
– Как и везде, Тамански, – продолжил Джобс, чуть задыхаясь. – Носятся с ними, как с писаной торбой. Как и с неграми…
– А вы еще и расист.
– Ой, кончайте, Тамански! – Джобс махнул рукой. – Я знаю, что ваша страна борется за права негров и прочих… угнетенных мировым капиталом. Я уж и не знаю, на кой черт вам это надо, но вы боретесь. Может, чтобы сунуть еще одну ракетную вышку куда-нибудь в Африку или еще чего. Или просто сунуть булавку под толстую задницу Дяди Сэма. Но я вам скажу так: ни один этот ваш долбаный борец не жил в черном квартале. Это хуже, чем в тюрьме!
– А чего вы хотите, Джобс? На эту жизнь их толкает безработица.
– Вот и вы, Тамански, никогда не жили в черном квартале. Безработица… Вот скажите мне, если у вас есть выбор – торговать коксом или идти работать к станку на завод? С одной стороны, легкий барыш, с другой – тяжелый труд и невысокая зарплата. С одной стороны, опасность загреметь в тюрьму, с другой – социальные гарантии, медицинская страховка. С одной – грязные деньги, с другой – чистая совесть. Вы что выберете?
Таманский молчал.
– Ну же! Отвечайте! Или вы вспоминаете цены на дурь в Союзе?
– Нет. – Таманский пожал плечами. – Мне неловко признаться, но, простите, Джобс, что такое – кокс?
– Не понял?
– Ну, что такое – кокс? Я не понял этого слова…
Американец тихо выругался и замолчал. Таманский интерпретировал его слова по-своему и поинтересовался:
– Что-то незаконное, как я понимаю?
– Да, Тамански. Незаконное. Кокс. Мука. Кока. Белый порошок. Пудра. Черт возьми, я не поверю, что вы не слышали.
– Из того, что вы перечислили, только кока. Применительно к кока-коле.
– Это кокаин, Тамански. Кокаин! Главная составляющая экспорта Колумбии. Белый порошок.
– Тогда я не знаю, сколько стоит у нас кокаин и вообще… где его берут. – Таманский обернулся к Джобсу. – Мы с вами из очень разных систем, Билл.
Американец долго молчал, а потом спросил:
– Что у вас считается незаконным?
– Ну, спекуляция. Убийства, воровство. Не хотите же вы, чтобы я цитировал вам Уголовный кодекс. То же, что и у всех…
– Хорошо. Вернемся к вопросу о черном квартале. Что бы вы предпочли – торговать краденым или работать на заводе?
– Глупый вопрос, я бы предпочел работать на заводе.
– И большинство ваших сограждан тоже?
– Видимо, да. – Таманский рассмеялся.
– Вот-вот, Тамански, вы никогда не жили в черном квартале. И, поверьте мне, безработица тут ни при чем.
Таманский перепрыгнул через яму, едва не упал, но удержался. Лямки рюкзака больно врезались в плечи. Костя остановился на той стороне, чтобы подстраховать Джобса, но американец перемахнул яму легко.
– Вы сгущаете краски, Джобс. Я не могу поверить, что все обстоит так плохо.
Билл перевел дыхание. Потом указал на проводника. Индеец махал им рукой. Парень ушел довольно далеко.
– Чертов дикарь, у него не ноги, а ходули. Пойдемте, Тамански. И знаете, что я вам скажу, я верю, что вы не можете мне поверить. После кокса я уже ни в чем не уверен.
– Нет, ну кокаин я знаю. Я слышал, что есть такой наркотик. Но откуда ж мне знать, как его называют… ну… потребители?
– А как называют свою тайную квартиру уголовники, вы знаете? Притон?
– Малина.
– Как?
Таманский перевел.
– Хорошо. Понимаете разницу?
– Не совсем.
– Все просто. – Джобс споткнулся о корень. – Чертов индеец! Эй, амиго!
Проводник остановился.
– Когда привал?
Индеец посмотрел на небо, потом на Таманского и помотал головой.
– Значит, рано, – вздохнул Джобс и потопал вслед за Костей. – О чем я говорил?
– О криминальном сленге.
– Аха! Так вот, Тамански, вы знаете в общих чертах те явления, которые есть у вас в обществе. Язык – это такое уникальное явление, которое является одновременно индикатором состояния общества и, вместе с тем, рычагом воздействия на него. Это очень интересно. Вы знаете, как уголовники называют притон, хотя сами вы не бандит. Но не знаете, как наркоманы называют кокаин. Улавливаете разницу?
– Кажется… – Таманский почувствовал, что начинает задыхаться.
Джобс замолчал и теперь только сипло дышал за спиной. Костя обернулся через плечо.
– Так я не понял, Билл… Как у вас с сумасшедшими?
– Как, как… Хорошо. Чем больше псих, тем более высоки его шансы поиметь парочку-другую нормальных американцев. Неплохо?
– Да уж…
– А почему вы спросили?
– Иногда я думаю, что я двинутый…
– А… Это заразно. – Джобс понимающе кивнул и врезался в спину Таманского. – Дьявол! Что такое?
– Привал…
Под деревом сидел индеец. Глаза его были закрыты.
– Помер? – поинтересовался Джобс.
– Нет. Спит…
– Еще переход, и надо устраиваться на ночевку… – Американец хлопнул себя по лбу, прибив какую-то мелкую мошку. – Вы репеллент взяли? Мой кончился…
60
На ночлег они устроились под большим высоким деревом. Разожгли костер. Индеец молча нарезал каких-то веток и периодически подбрасывал их в пламя, отчего все вокруг окутывалось едким дымом. Джобс и Таманский чихали, кашляли, но возмущаться перестали после того, как выяснилось, что дым отгоняет местный гнус. Самому проводнику на мошек было наплевать. Он сидел на подстилке из листьев, молчал и, казалось, спал.
Джобс щурился от дыма и все вертел головой.
– Что вас беспокоит, Билл? – поинтересовался Таманский.
– Звезд не видно, – неожиданно ответил Джобс.
– Не подозревал, что вы такой романтик.
– К черту романтику, Тамански. Если я сплю под открытым небом, то должен видеть звезды. Если их нет, я начинаю нервничать. Черт его знает, куда нас ведет этот дикарь.
– Вы умеете ориентироваться по ночному небу?
Американец развел руками.
– Если бы мы были севернее, то есть в Штатах, я бы вас вывел куда угодно. Но тут, если честно, мне неуютно.
– Иными словами, Билл, звезды вам нужны исключительно для душевного спокойствия.
– Можно и так сказать.
Джобс пристроился спиной к стволу дерева и вытащил из-за пазухи фляжку. Отвинтил крышечку, хотел уже было глотнуть, но остановился. Протянул флягу Таманскому.
– Хотите?
Костя кивнул. Принюхался. Пахло сивухой.
– Что там?
– Конечно, виски…
Таманский закрыл флягу и вернул ее назад.
– На голодный желудок не буду. Погодите, разогреются консервы.
Джобс согласился и подбросил в костер сухую палку.
Огонь плевался искрами в темноту. Где-то там, за гранью светлого круга, что-то шевелилось, шуршало. Громко заорала птица. Может, с перепугу, а может, перед смертью…
– Выползет сейчас какая-нибудь чертова анаконда… – прошептал Джобс.
– Не переживайте. Я где-то читал, что самая большая неприятность в джунглях – это не тигры, не анаконды и не кровожадные пигмеи, а всякая мелюзга с крылышками и без. Все, что ползает, летает, кусается и заползает под кожу. Червяки там, знаете… все такое. И не лечится.
– Черт бы вас побрал, Тамански! – Американец вскочил. – Успокоили…
Костя улыбнулся.
– Ладно. Я пошутил. Анаконда страшнее. У меня создается впечатление, Билл, что вы в этих лесах в первый раз.
– Не в первый! – Джобс сердито плюхнулся на свое место. – Совсем не в первый. Потому и волнуюсь. Это вам, новичкам, все с рук сходит… Что там с консервами, черт бы их сожрал?!
Таманский осторожно, двумя палочками выволок из костра две банки. Понюхал.
– У нас проблема, Билл.
– Какая? – Джобс заглядывал Косте через плечо.
– Даже две. Во-первых, у вас так громко урчит в брюхе, что это полностью нас демаскирует для ночных хищников. А во-вторых, на этот запах они сползутся и без вашего урчания. Есть, правда, и хорошая новость, нас они не тронут.
– Почему?
– Сожрут всю тушенку… – Костя достал хлеб.
– Черта с два! – Джобс подтянул к себе свою жестянку. – Черта с два! Сейчас я сожру даже тигра! Питона проглочу!
– Вот что делает с человеком еда. – Таманский посмотрел на индейца. – Эй, амиго…
– Оставьте, – буркнул американец. – Насчет того, чтобы его кормить, у меня договора с Вождем не было.
– Все равно нехорошо… – нерешительно ответил Костя и дотронулся до индейца. – Амиго, есть будешь?
Но тот молчал с закрытыми глазами.
– Спит… – махнул рукой Джобс. – И черт с ним, пусть спит. Дитя природы.
Где-то в темноте снова всполошилась птица. На этот раз ближе. Совсем близко. Американец не обратил на шум никакого внимания. Таманский порылся в мешке и вытащил пистолет, добытый перед путешествием предприимчивым коллегой.
– Нервничаете? – спросил Джобс с набитым ртом. – А зря.
– Зато вы будто бы успокоились…
– Я когда ем, всегда успокаиваюсь, – ответил американец. – Поэтому стараюсь не нервничать. Представляете, с таким антидепрессантом в какого толстяка я превращусь. Когда брюхо сыто, мир кажется мне средоточием прекрасного! Вот так-то. К тому же дикие звери боятся огня.
– Звери, да… Боятся… – пробормотал Таманский, вглядываясь в темноту. – А люди?
Джоб отмахнулся.
– А люди вообще ночью по лесу не ходят. Только разве что психи какие-нибудь… – Билл перестал жевать и задумался. – Черт вас возьми, Тамански. Вы законченный параноик! Можно у вас попросить еще хлеба?
Костя молча протянул американцу горбушку. Тот разломал ее на кусочки и принялся собирать ими жир, что остался на дне консервной банки.
– Даже психи, Тамански, не станут шляться ночью по лесу, – бормотал он. – Даже психи! Все психи сидят под деревьями и жрут из банок тушенку. И запивают ее виски!
Он протянул флягу Косте. Тот принял, не отводя глаз от темноты, что притаилась где-то там, за светлым кругом, отхлебнул. Пойло было крепким и совсем не похожим на ту бормотуху, которой они упились в первый день путешествия. Дыхание перехватило разом. Таманский закашлялся и вернул фляжку Джобсу.
– Ага! – Американец был удовлетворен произведенным эффектом. – Как? Дерет? Настоящий! У меня дядюшка гонит! Старик в свое время таскал виски из Мексики в Техас. Настоящий бутлегер. А потом таскал то же самое виски из Техаса в Мексику. Теперь сидит на ранчо, варит эту отраву и продает. Предприниматель!
Джобс хихикнул и запрокинул донышко фляги. Таманский краем глаза видел, как ходит его кадык.
– Специально берег. – Джобс припрятал ополовиненную флягу. – Таманский, подежурите пока? Растолкайте меня, когда надоест… Годится?
– Вполне.
– Только постарайтесь не палить без повода, еще напугаете нашего краснокожего друга… – Американец натянул на себя одеяло.
Таманский еще долго всматривался в темноту. Но лес хранил молчание.
Наконец Костя уложил пистолет рядом с собой, подкинул в костер дров с особыми веточками и устроился поудобнее. Он ждал. От дыма слезились глаза. Ночь становилась прохладней, от земли потянуло сыростью. Кто-то маленький, наподобие ежа, шуршал в листве. Таманский пару раз видел острую любопытную мордочку и две бусинки глаз. Костя тщательно прислушивался, стараясь за обычными ночными звуками различить что-то особое, другое. Шаги, неосторожный хруст веток под сапогом. Зверей он не боялся. С чего бы животному, пусть оно тридцать три раза хищное, лезть к костру и нападать на трех человек? Это не Россия и не зима, где медведь-шатун может запросто порвать человека, джунгли большие – места на всех хватит. Но человек… Человека Таманский боялся.
Слева хрустнуло, Костя дернулся, схватил пистолет. Но… тишина. А когда он обернулся, у костра сидел он.
Точно такой, каким изображали его на плакатах. Черные кудри. Бородка. Звездочка на берете. Только чуть постарше…
Че, сощурившись, посмотрел на пистолет. Улыбнулся.
– Знаете, Константин, Аргентина для меня значит гораздо больше, чем все остальные страны. Исключение составляет разве что Куба. Но там меня слишком любят. А здесь… Здесь я просто чувствую себя дома.
– Но вы же тут родились…
– Не поэтому. Просто это особая страна.
– Чем же?
Че пожал плечами.
– Я присматривался к ней, когда искал выход для континентальной герильи. Излазил здешние леса вдоль и поперек. Был в разных городах, разговаривал с людьми. Я посещал многие местные храмы. Старые, еще со времен ацтеков.
– И выбрали Боливию? Почему?
Но Че будто не слышал.
– Революция – это огонь, который Прометей принес людям. Это пламя, горящее внутри человека, толкающее его вперед. Невозможно сопротивляться этому призыву в своей душе. Революция дается людям свыше. Странно слышать эти слова от меня? Но все же… Иначе никак не объяснить тот факт, что разутые и раздетые кубинцы опрокинули вооруженную армию Батисты, обломали рога американцам и до сих пор строят коммунизм под самым боком у США. Ничем иным нельзя объяснить то, почему русские свергли монархию и выстроили могучее государство. Не страшно, что мы когда-нибудь умрем. Не страшно, если кто-то гибнет на революционном пути. Главное, чтобы были руки, которые примут винтовку из ослабевших ладоней, чтобы нашлись голоса, которые подхватят крик, нашлись сердца… В которых горит огонь. Но если этого нет, если пламя погасло… Сколько найдется подлецов и мерзавцев, которые станут размахивать алым знаменем, лишь бы соблюсти свою выгоду. Лишь бы одурачить, надуть и загнать обратно в рабские колодки тех, кто еще что-то может. Вот чего я боюсь больше всего. Революция не может быть причесанной, глянцевой, плакатной.
Он замолчал. Протянул руки к костру, чтобы согреть ладони.
Таманский вспомнил, как когда-то видел фотографии этих рук. Отрубленных, ссохшихся, жутких…
– Я помогу вам, Константин.
– Разве я просил о помощи?
– Нет. – Че улыбнулся. – Не просили. Я помогу вам без всяких просьб. К тому же вы пишете книгу, это хорошо. Это будет настоящая, правдивая книга, а не очередной сборник мифов, приглаженных и облагороженных. Революция не терпит лжи, Константин, и я всегда служил ее делу честно. Многие будут говорить, что время для революций прошло, что ее больше не будет никогда. Не верьте им. Для настоящей борьбы нужно время. И когда оно придет, этот божественный огонь засияет с новой силой.
– Так почему же все-таки Боливия, Эрнесто?
Че Гевара обернулся, посмотрел на храпящего американца. Хмыкнул.
– Я всегда прихожу туда, где я нужен больше всего. Даже если там еще не готовы принять меня.
61
Проснувшись поутру, они обнаружили, что проводника нет. Таманский добросовестно разбудил Джобса, когда понял, что засыпает прямо во время письма. Американец честно заступил на вахту, сходил по малой нужде, дожевал остатки своих сухарей, попил из фляги и через некоторое время отключился.
Когда его разбудил утренний холод, Джобс обнаружил, что индейца нет на месте. Поначалу он не сильно беспокоился. Удостоверившись, что советский коллега по-прежнему спит, свернувшись калачиком под солдатским одеялом, американец подумал, что было бы неплохо еще вздремнуть. Утро только-только вступало в свои права, проводник, видимо, отправился по нужде, а вскакивать ни свет ни заря Джобс не любил.
Однако спать было холодно, и американец, пересилив лень, решил развести костер. Благо угли еще не окончательно остыли. Он набрал сухих прутьев, свалил их в кучу и принялся искать спички.
Спичек не было. И зажигалки тоже. Еще отсутствовал хороший широкий нож, компас в герметичном футляре, фляга с остатками виски и бумажник из выделанной воловьей кожи.
– Оп-па, – прошептал Джобс и сел на землю. – Чертов дикарь.
Компас вместе с пустой флягой и зажигалкой можно продать, бумажник, впрочем, тоже. Американец питал слабость к вещам качественным и дорогостоящим. Эти мелкие вещи составляли часть его быта, окружали уютом в любой точке земного шара. Зажигалка, которая никогда не подводит. Нож высококачественной стали. Фляга, обтянутая мягкой кожей. Все это мелочи, но обладание ими делало трудную жизнь журналиста пусть чуть-чуть, но все-таки не такой тягостной. К тому же это был своего рода неприкосновенный запас, который всегда можно было продать или выменять там, где деньги не имеют смысла.
Лишившись их, американец почувствовал себя голым.
Его часто грабили. Били. В рабочих кварталах Дублина вообще нагишом на улицу выкинули. Но эти вещи, по счастливому стечению событий, всегда оставались с ним.
– Скотина… – прошептал Джобс.
Он вскочил. Кинулся куда-то очертя голову. И остановился, только когда гибкая ветка обжигающе больно хлестнула его по лицу.
– Дьявол! – Американец схватился за щеку. – Дьявол!
От боли он присел и застонал.
Когда же наконец кожу перестало жечь, он отдышался, огляделся и только тут понял, что не знает, где находится.
Нет, он не заблудился. Большое дерево, около которого они остановились на ночь, росло неподалеку. Его было хорошо видно в сером свете наступающего утра. Неторопливо поднимался вверх, к зеленым листьям, дымок от тлеющих сучьев. Но Джобс совершенно не знал, куда завел их проклятый индеец и в каком месте бескрайних джунглей бросил на смерть.
Они подохнут тут, Джобс не сомневался. Еды на неделю. А плутать по этому влажному аду, где на каждом шагу змеи, ядовитые ящерицы, какие-то ползучие твари, муравьи-убийцы и еще вся та гадкая мелюзга, которую господь выплеснул сюда из помойного ведра в самом начале творения мира, можно бесконечно.
– Дерьмо, – прошептал американец. – Дерьмо случается. Вот оно и случилось… Вот и случилось…
Он, осторожно пятясь, по своим же следам, вернулся к месту ночевки.
– Тамански! Тамански! – Джобс тряс спящего за плечо и шептал в панике: – Проснитесь, черт возьми, Тамански! Мы влипли! Влипли, влипли…
– Куда влипли? – Таманский никак не мог прийти в себя. Ему было холодно и совершенно не хотелось вылезать из-под одеяла.
– В дерьмо! – заорал американец. – В дерьмо мы влипли, Тамански!
Костя сел. Осмотрелся. Проверил, на месте ли пистолет, в обнимку с которым он ложился спать. За ночь металл нагрелся, теплая рукоять приятной тяжестью легла в ладонь.
– Говорите толком, Джобс, – проворчал Костя. – И где проводник?
– В том-то и дело! – Американец говорил громко, в его голосе послышались визгливые интонации. – Сбежал, ублюдок! Сбежал! Прихватил мое барахлишко и сбежал! Вы, кстати, проверьте свои вещи, черт побери, может, и у вас что-то пропало!
– У меня брать нечего, – поморщился Таманский. – У меня только рукопись, да и все… Ничего не брал. Фотоаппарат у вас на месте?
– На месте… Кажется… – Джобс порылся в рюкзаке. – Да, на месте. И диктофон.
– Странно… Почему он не взял технику?
– А на кой ему черт техника? Он же дикарь!
– Продать… Уж на пару бутылок местного пойла точно хватит. А что он взял?
– Нож, флягу, компас… Кошелек! Дикарь… – Джобс махнул рукой. Он прижал к себе свой фотоаппарат, словно близкого друга. Американец постепенно успокаивался. Теперь ему было до смерти гадко, что он проявил свой страх перед русским.
– Компас жаль…
Таманский встряхнулся. Известие о том, что проводника нет, встревожило его, но не сильно. Он мало спал и очень устал за прошлый переход, это сказывалось на его эмоциональном состоянии. Костя чувствовал апатию, равнодушие к происходящему вокруг.
– Карта осталась? – поинтересовался он у американца, выбираясь из-под одеяла.
Пока тот рылся в своих вещах, Таманский сполоснул лицо холодной водой из фляги. Прополоскал рот.
Вода, впитавшая в себя прохладу ночи, освежала. Закончив водные процедуры, Костя почувствовал себя чуть ли не заново рожденным.
– Карта осталась, – пробурчал Джобс, вытаскивая узенькую планшетку. – Только от нее проку чуть, без компаса.
– Вы плохо учились в этих ваших скаутах. Компас штука полезная, но и без него можно обойтись. В крайнем случае.
– Вы долбаный оптимист, Тамански. Мне, как и вам, наверное, втирали про мох на стволах деревьев, солнце, густорастущие ветки и прочую туфту. Так вот, я вас разочарую, но все это полное дерьмо. Ветки растут густо не на юге, а там, где им достаточно солнца. А мху наплевать на все стороны света, вместе взятые, его интересуют только сырые места. Все эти чертовы приметы годятся для каких-нибудь одиноких деревьев, а в лесу они не действуют. Разве вы этого не знали?
– Знал. Но солнце-то у нас еще остается?
– Остается, чтоб его черти сожрали. Одна беда, под листьями его практически не видно! Это не ваши лесочки! Это джунгли! Они шуток не понимают. Так-то.
– Ну и? – Таманский вытащил консервы, вскрыл их и поставил разогреваться на угли. – Предлагаете трагически погибнуть прямо тут?
– Нет, ну… – Джобс замялся. – А что вы предлагаете? Я думаю, надо искать дорогу назад.
– А сколько, по вашим прикидкам, осталось до лагеря?
– Черт его знает. – Американец посмотрел на огромное, поднимающееся из-за горизонта солнце. Место, определенное для стоянки, было выбрано на обрыве. Отсюда были видны бескрайние джунгли. Только деревья, деревья и больше ничего. – Наверное, еще день. Этот проклятый дикарь гнал нас очень быстро. Я даже думал, что свалюсь раньше. Еще неизвестно, куда он нас завел, краснокожий ублюдок.
– Не стоило все-таки называть его дикарем. – Таманский зевнул. Небольшой котелок, в котором они кипятили воду, уже начал булькать, а от тушенки поднимался ароматный пар. – Давайте поедим, а потом будем решать. К тому же вы вчера говорили, Билл, что еда вас успокаивает. – Костя пододвинул ему банку и положил сверху хлеб. – Вот и успокойтесь…
Они ели молча.
Над зеленым морем леса вставало солнце, Костя жмурился и улыбался. Положение, в которое они попали, сам Таманский оценивал как тяжелое. Реально выбраться из джунглей без специфических знаний можно было только по большой удаче. Джобс в этой ситуации явно был не помощник. Знаний у него было едва ли не меньше, чем у Таманского, а страха гораздо больше.
От осознания того, что они находятся в нескольких шагах от гибели, Таманский неожиданно ощутил радость. Почувствовал удовольствие от того, что еще живет. Что дышит. И воздух чист, сладок. От того, что ест. Простая армейская тушенка показалась ему изысканным блюдом. Костя понял, что действительно может потерять все это.
– Если вы поели, то я вас провожу, – раздался голос из-за левого плеча.
Таманский обернулся.
Че Гевара смотрел на солнце в упор и не жмурился при этом.
– В конце концов, я в этих лесах не в первый раз.
– Спасибо, – ответил Костя. – Я уже и не надеялся…
– А зря. – Че улыбнулся. – Надеяться всегда надо. Нет гибели страшнее, чем гибель без надежды. Никогда не отчаивайтесь, даже перед лицом смерти.
– Спасибо, – повторил Костя. – За надежду…
– Тамански, – подал голос Джобс. – А то, что вы меня спрашивали про сумасшедших, вчера, вы что имели в виду? Мне как-то не сильно улыбается остаться в джунглях с психически больным… Учтите, из меня дурной психоаналитик.
– Не переживайте, Билл. Я иногда разговариваю сам с собой. Это не заразно… – Таманский аккуратно сложил банки в центр догорающего костра. – Если вы поели, то предлагаю двигаться. Наше путешествие еще не закончилось.
62
Пошел дождь.
Таманский и Джобс торчали неподалеку от лагеря нацистов уже третий день. Они исползали на брюхе все окрестные кусты, им была знакома каждая кочка, каждый пень. Везде, где только мог спрятаться наблюдатель. Джобс наделал массу снимков, которые, как он утверждал, взорвут мир, но ему казалось мало.
– Чего вы от них ждете? – спросил его как-то вечером Таманский.
– Чего-то экстраординарного. Понимаете?
– Не совсем.
– Ну… Расстрел, казнь, телесные наказания… Что вы так на меня смотрите?
Таманский молча уполз на свой наблюдательный пункт.
Ситуация осложнялась тем, что непосредственно к лагерю, то есть к сетке с колючками, растянутой на столбах, подобраться не удавалось. Хозяева не были заинтересованы в появлении неожиданных гостей. В радиусе пятисот метров вокруг лагеря все деревья были вырублены, а кустарник срезан. Расположенные по углам вышки с дозорными исключали и вариант проползти по траве.
Американца страшно бесил тот факт, что он не может делать крупные планы. Один раз он взобрался на дерево и с риском для жизни сделал несколько кадров сверху.
На самом деле Таманскому казалось, что нацисты ведут себя как-то странно.
Это был типичный лагерь по военной подготовке. Там постоянно тренировались, бегали, стреляли, маршировали около двухсот человек. Все были одеты в зеленую пятнистую форму и бритоголовы. От этого, когда какое-нибудь подразделение строем направлялось обедать, заходя под длинный зеленый навес, у Кости складывалось ощущение, что в большущий стручок заползают круглые сизые горошины. Тут были офицеры, инструкторы. Каждый час и минута жизни в лагере были расписаны. Имелся и карцер, куда пару раз, к великой радости Джобса, заталкивали провинившихся. Типичный лагерь, где есть все, что нужно. И даже небольшая палатка, исполнявшая, видимо, функции полевой церкви, где большую часть времени скучал, иногда делая подходы к турнику, одетый в униформу священник.
Тут было все. Кроме одного важного, как казалось Таманскому, атрибута. Не было нацистской символики. Ни тебе черных зловещих свастик. Ни тебе молний. И даже самого завалящего портрета Гитлера тоже не обнаружилось. Таманский потратил несколько часов, стараясь расположиться так, чтобы разглядеть, что же, собственно, расположено на полевом алтаре. Однако и там не нашлось никакого портрета «святого Адольфа».
Нацисты, а Костя уже начал сомневаться, что это они, не приветствовали друг друга известным во всем мире жестом. Они просто прикладывали руку к козырьку, как все военные всего мира. Более того, у Таманского создалось стойкое впечатление, что разговаривают они на испанском. Разобрать слова было трудно.
Джобс от всего происходящего был в полном восторге. Таманский же чувствовал себя неуютно.
– Нацисты, Тамански! – яростно шептал Джобс, раздирая ногтями грудь, где у него вздулись какие-то прыщи. – Нацисты. Это будет бомба, понимаете? У меня ведь есть еще кое-что, чуете?
– Пока не совсем, – ворчал Костя, жуя хлеб. Костер они по понятным причинам не разводили, поэтому консервы приходилось есть холодными. Джобс обнаружил неподалеку ручей, воду из которого он обеззараживал какими-то хитрыми таблетками. Ночь выдалась теплой, поэтому они просто лежали перед лагерем, глядя на немногочисленные огни.
– Я как-то раз копал эту тему. Так я получил точные данные, что у наших, американских, нацистов есть пункты подготовки и расположены они в Латинской Америке. Я нашел их! Понимаете, Тамански? Нашел! А какой для вас шанс! А?!
– Какой же?
– Ну как же, это же настоящий ку-клукс-клан! Они готовятся, видите? Для чего, вы думаете? Взять власть в свои руки, понятное дело!
– Но вам-то, Джобс, какая с того выгода? Ну, предположим, подниму я эту тему, будет скандал… Это же попортит имидж только вашей стране.
– Вы наивный человек, Тамански, – покачал головой Джобс. – Во-первых, я совершенно не желаю, чтобы какие-то ублюдки правили в моей стране. Мне там жить, в конце концов. А во-вторых, только страна с истинной демократией может позволить себе открыто говорить о своих недостатках. И исправлять их, Тамански, исправлять! Так что мы с вами делаем общее дело. Да…
И он снова принялся чесаться.
Весь этот лепет про истинную демократию казался Косте исключительно наивным и нелепым. Он все больше и больше приходил к выводу о том, что ввязался в какую-то дикую аферу. Этот простой американский парень обладал удивительной способностью заражать слушателя некой странной эйфорией, убежденностью в его, Джобса, правоте. Но эта иллюзия рассеивалась, сталкиваясь с реальностью.
Таманский решил поделиться с американцем своими соображениями.
– Знаете, Билл, а ведь на самом деле все может оказаться не совсем так. Представьте, что мы с вами нашли не лагерь неонацистов, а просто закрытый военный лагерь, где тренируют какие-нибудь особые армейские части? Или, скажем, базу наемников? Тоже интересно, но, согласитесь, выглядит несколько иначе.
– А кому какое дело до реальности? – Джобс удивленно поднял брови. – Вы, русские, меня удивляете все больше и больше. – Билл подобрался поближе к Таманскому. – Поймите вы, наконец, нет никакой реальности. Нету. Вот убьют нас с вами, что останется?
– Память.
Американец фыркнул.
– Ну, еще записи в метрике. Родился, учился, умер.
– Вот! – Джобс поднял палец. – Записи. Бумажки. Вот где сила, Тамански. Останутся бумажки, записи. Что напишут, то и будет. Вот и вся реальность.
– Да, но это же правда…
– Что правда? Что родился и учился и умер?
– Да.
– А если напишут, что родился, но не умер, а сбежал в Америку и стал предателем? Что будет правдой?
Таманский задумался.
– Кто опровергнет? – Джобс махнул рукой. – Я понимаю, что найдутся люди, свидетели и все такое, но по большому-то счету? Вы еще скажите, Тамански, что вы верите в историю!
– С чего бы мне в нее не верить?
– Да потому что одна сплошная ложь, вранье, побасенки. И главное, главное, Тамански, никому нет дела до этой вот… истины. Исторической правды! Все верят тому, что написано, понимаете? Всем глубоко начхать на то, был Иисус или нет, делал он чудеса или просто ловко дурачил необразованных иудеев. Просто один из тех неучей, что его окружали, взял да написал! И все. Вот вам история всего христианского мира, Тамански. Парочка диких евреев, которые написали Евангелия. Правда это или нет? Кому какое дело? Всем плевать! – Джобс разошелся. От его голоса возмущенно завозилась на ветках какая-то крупная птица. Таманский хорошо видел ее силуэт на фоне огней лагеря.
– Говорите тише…
– Извините… – Американец замолчал.
– Так вы утверждаете, что Христа не было?
– Идите к черту, Тамански! – огрызнулся Джобс. – Я совсем не это хочу сказать. Есть Иисус, нет его… Для меня разницы нету!
– Вы еще и атеист?
– Нет. Черт! У вас, русских, всегда на уме какая-то ерунда. При чем тут мои религиозные взгляды? Атеист, не атеист… Хотите, считайте, что я сам Сатана. Пришел вас искушать. Дело не в том! Правды, как вы ее называете, нет вообще. То, что мы с вами подадим завтра в газеты, и будет правдой. Вы же не станете отрицать, что неонацисты есть?
– Не стану.
– И ку-клукс-клан есть?
– Да.
– Так какого черта вам надо, Тамански? Вот вам там, – он ткнул ладонью в сторону лагеря, – живые нацисты! Куклуксклановцы!
«Только почему они говорят по-испански?» – хотел спросить Таманский, но удержался. Почему? Он не смог объяснить.
Вместо этого Костя сказал:
– Хорошо, Билл, через час спустимся вниз. Вы отлично изучили лагерь, вы знаете, где можно лечь так, чтобы сделать качественные снимки?
– Конечно… Только я не совсем понимаю…
– А я знаю, где можно незаметно лежать. Понимаете меня?
– Не совсем.
– Мы с вами спустимся вниз. Закопаемся по самые глаза неподалеку от периметра. Понимаете? И пролежим там весь день. Так что жрите, Билл, жрите. – Костя подтолкнул ему банку с консервами. – Наедайтесь на весь день. Охрана на вышках смотрит куда угодно, но не себе под нос, понимаете? Насколько я заметил, эта служба считается чем-то вроде отдыха. Некоторые даже ухитряются дремать стоя. Они же привыкли, что никто снаружи к этому лагерю не приходит. Потому и внешних патрулей нет. Одна дорога, которую они контролируют… И все!
– Вы чокнутый, Тамански! – восторженно прошептал Джобс. – Совершенно сумасшедший.
– Да-да… Только учтите, лежать надо будет весь день, пока не стемнеет. Сможете?
– Вы меня не видели во Вьетнаме! Я и не то могу!
63
Зарыться в траву, обложиться сухими листьями, веточками и еще черт знает чем было не так уж и сложно. Точнее, пока Костя, вздрагивая от каждого лишнего шороха, от каждого шелеста, обустраивал место собственной маскировки, ему казалось, что задача эта совершенно невыполнимая. Он тридцать три раза проклял эту затею, себя, Джобса, всю Америку, как Южную, так и Северную. Но назад не повернул. Совсем не из-за какого-то геройства, но потому, что в случае бегства его бы обязательно заметили, а ползти обратно таким же макаром, как они добирались сюда, Таманский был не в состоянии.
Они с Джобсом, двигаясь параллельными курсами, ползли как две улитки. Расчищали место перед собой, перед тем как передвинуться на десяток сантиметров. В общей сложности четыреста метров они преодолели часа за два. Замирая, вжимаясь в землю, снова поднимая голову и двигаясь вперед, Таманский думал, что это самое кошмарное, что может быть на свете. Он вдыхал запах влажной земли, тяжелый и одуряющий, и ругался сквозь зубы грязными, злыми словами. Несколько раз у него перед носом выскакивала мышь и с паническим писком исчезала в траве. Косте казалось, что он шумит, как взбесившийся слон, прорывающийся сквозь джунгли. Что вот сейчас в него упрется яркий палец прожектора, голос в мегафон заорет, завизжит сирена и…
Но ничего не происходило, и Таманский полз, полз вперед.
Когда наконец Костя добрался до заранее намеченного пня, крупного, с вывернутыми корнями, ему уже казалось, что провала не миновать. Однако противник медлил, а значит, нужно было продолжать, продолжать до бесконечности. Закапываться, укладывать на себя прелую листву, траву, какие-то банки, выброшенные через забор. Глотать новую порцию страха.
Когда Таманский наконец перестал шуршать, перестал закапываться в траву и вжиматься в землю, стало ясно, что все, что было до этого момента, – лишь детские шалости. Самое тяжелое было впереди. Лежать. Неподвижно лежать, час за часом, оказалось труднее всего.
Лагерь жил обычной жизнью. Утром сменились часовые. Дежурные оттрубили подъем, и офицеры сразу погнали бритоголовых молодцов по плацу. Потом на завтрак. Шатер, служащий столовой, располагался неподалеку от того места, где лежал Таманский. Он внимательно вслушивался в разговоры, не понимая и половины.
А потом…
Потом солнце стало припекать.
Таманский обливался потом под одеялом из травы. От долгой неподвижности затекли суставы.
Сержанты гоняли солдат через полосы препятствий. Заставляли бесконечно собирать и разбирать оружие, чистить плац, бесконечно колоть штыком и бить прикладом… Лагерь жил. Двигался. Таманский лежал колодой, борясь с искушением почесаться, утереть пот. Наконец, когда ногу скрутила судорога, Таманский опустил руку вниз, чтобы размять одеревеневшие мышцы. Под ладонью предательски хрустнул сучок.
Костя замер.
Этот треск показался ему оглушительным.
Часовой на вышке лениво повернулся в его сторону.
Таманский видел краем глаза, как он осматривает территорию… Ногу дергало болью, крутило, но Костя только сильнее сжимал зубы.
Часовой отвернулся. Он снова привалился бедром к перекладине вышки и уставился на далекую линию леса.
Военный лагерь темнел, темнел, будто бы удаляясь… Таманский потерял сознание.
Когда Костя пришел в себя, было темно.
Он вздрогнул, попытался было вскочить, но заставил себя замереть.
Ночь.
Сколько времени он провел без сознания? Весь день?
Таманский глянул на часы. Полночь. Самое время драть когти…
Он осторожно скинул с себя маскировку и только тут понял, что ноги затекли так, что не могут двигаться.
Когда Джобс услышал шорох, он сначала испугался.
«Обложили! Взяли русского, а сейчас и меня возьмут!»
Американец заметался. Он уже совсем было хотел дернуть в глубь леса, но тут услышал шепот…
– Джобс! Джобс! Где вы, Джобс?
– Русский?!
Билл кинулся вперед, забыв обо всех правилах безопасности, он выскочил на вырубку, пригибаясь, пробежал еще пару метров туда, откуда слышался голос. Споткнулся о какую-то колоду и, падая, понял, что это Таманский.
– Черт вас побери! – Джобс ухватил Костю за руки и поволок к спасительному лесу.
Ноги у Таманского ожили только к полудню. Он передвигался с трудом, медленно, словно пьяный.
Американец много говорил. Хвастался фотографиями.
Костя молчал.
– Нам надо домой, Джобс, – наконец сказал Таманский. – Собирайтесь. Пора уходить.
– А вы сможете идти?
– Смогу…
64
Когда они забирали джип, индейский поселок будто вымер.
Вокруг стояли пустые хижины. Ни в одном домике не горел очаг. Таманский специально зашел в дом Вождя. Печка была холодная. Угли кто-то тщательно выгреб.
– Такое ощущение, что они все смотались на пару деньков куда-то подальше, – проворчал Джобс. – Что вы думаете, Тамански?
Костя промолчал. Американец зло плюнул и ушел.
– Давайте пошевеливайтесь, – донеслось с улицы. – Сваливаем отсюда ко всем чертям!
Таманский еще раз прошел по гостиной. Стол. Диван. Старые домашние тапочки с трогательными помпонами. Полки с книгами. Странно, почему Таманский не обратил на них внимания в первый раз. Или этого стеллажа вообще тут не было? Но нет. Сверху на полках остался слой пыли. Книги на испанском, английском, французском… Вождь, оказывается, полиглот.
Таманский подошел к стене с фотографиями.
Старые снимки…
Костя снова осмотрел экспозицию, словно разыскивая что-то. Что? Послание? Объяснения? С какой стати старик-индеец должен давать объяснения какому-то русскому, приехавшему черт знает откуда, да еще непонятно зачем?
Но Таманский все-таки искал.
И нашел.
Точно в центре.
Этой фотографии не было раньше, Костя мог бы поклясться. Потому что снимок такого содержания он бы не пропустил ни за что!
Черно-белое фото. На котором старик-индеец, Вождь, пожимает руку человеку с бородой, явно усталому и с трудом держащемуся на ногах…. Впалые щеки, заострившиеся скулы. Но глаза! Таманский не мог ошибиться… Не мог!
Вождь жал руку Эрнесто Че Гевара.
Костя сорвал фотографию со стены. Развернул. На обратной стороне был написан год, когда был сделан снимок.
1968.
Вождь не мог жать руку этому человеку. Невозможно обниматься с мертвецом.
– Тамански! – закричал Джобс. – Я уеду без вас!
Костя сунул фотографию в нагрудный карман и пошел на улицу. Остановился в дверях, обернулся и сказал:
– Спасибо…
На улице нетерпеливо взревывал джип.
– Какого черта вы там забыли, Тамански? – воскликнул американец. – И, черт побери, почему вы все время молчите?!
Не дождавшись ответа, он нажал на газ так, что сорванный дерн полетел из-под колес.
Когда они въехали в Буэнос-Айрес, Таманский дремал. Близилась ночь. Костя открыл глаза, осмотрелся.
– Почти приехали! – радостно сообщил Джобс. Он толкнул Таманского в плечо. – Да не хмурьтесь! Мы же возвращаемся с уловом!
– Остановите тут, Билл, – произнес Костя.
– Я довезу вас до отеля!
– Остановите тут.
– Хорошо… – Американец пожал плечами и тормознул около расцвеченного огнями кинотеатра. – Хотите посмотреть киношку?
– Нет. – Костя выбрался из машины, взял сумку со своими вещами. – Знаете, Джобс, – устало сказал Таманский. – Вы подлец.
Американец удивленно поднял бровь.
– Да-да, подлец. Но я вам благодарен. Вы втянули меня в аферу. И я вел себя как последний идиот, поддавшись на вашу провокацию. Конечно, в этом виноват я. Вы просто сумели меня провести. Я не знаю, что мы там нашли в джунглях. Да и никто не знает. Ни вы, ни Вождь, который сдал вам какие-то ненужные ему фотокарточки. Сейчас сам черт уже не разберется, где тут правда, где ложь. Кто и когда начал обманывать первым. Вы – меня, или старый индеец подшутил над вами… Я не знаю. Я знаю только то, что там, в джунглях, нет никаких нацистов. Да и нечего им там делать. Если и есть где-то тренировочные базы неонаци, так это где-нибудь в вашем родном Техасе. Хотите найти, ищите там. Сваливать с больной головы на здоровую не надо. Слава богу, я еще могу отличить аргентинца от американца, а испанский от английского. На что вы рассчитывали, непонятно. Видимо, на мою тупость. Должен сказать, что расчет был не такой уж и неверный. Сам от себя не ожидал…
– Но вас же били! – воскликнул Джобс. – Били!
– Да. Конечно. – Таманский согласился. – И вас били. Правда, ваша поврежденная рука странно быстро зажила. А синяки слишком легко сошли… Признайтесь, Билл, это вы наняли тех мордоворотов? Сколько вы им заплатили?
– Черт! Вы ничего не понимаете, Тамански!
Костя махнул рукой.
– Я вам благодарен, Джобс. Вы мне сильно помогли с книгой. Так что… проваливайте с миром.
Костя развернулся и пошел прочь.
– Тамански! Тамански, черт, мне нужна ваша…
– Статья? – Костя обернулся. – Чтобы выставить советского журналиста полным идиотом, подсунув мне липовые снимки, а самому стать разоблачителем красного вранья, представив фотографии в нужном ракурсе? Билл… Я, конечно, идиот, что повелся на ваши байки. Но я еще могу сложить два и два. У меня из-за вас и так будет достаточно проблем.
Американец всплеснул руками.
– Если я вам понадоблюсь, – крикнул он в удаляющуюся спину, – вы знаете, где меня найти!
65
В отель Таманский не пошел.
Конечно, ему надо было бы посидеть в номере. Разобрать разрозненные записи. Собраться с мыслями и понять наконец, что же делать дальше. Куда идти, с кем разговаривать… Кому жаловаться и что просить.
Костино положение было хуже некуда.
По командировочному предписанию он должен был уже давным-давно отбыть на Кубу. Где его вообще-то ждали. В посольстве он свою задержку никак не отметил. Был замечен, а ведь наверняка был, в связях с американцем. Где-то с ним пропадал…
Костя всегда старался действовать рационально. Не делать глупостей. Жить так, как надо. Там, далеко-далеко, в Союзе, он поднимался по карьерной лестнице, активничал по комсомольской, а потом и по партийной линии. Был женат. Морально стоек. Надежен, прежде всего своей правильностью и тем, что его более чем устраивала такая жизнь. Таманский никогда не гонялся за тряпками-шмотками, у моряков ничего не покупал и с брезгливостью относился к комиссионкам.
Там, далеко-далеко, в Союзе, Костя всегда знал, куда надо пойти, если что-то случилось. Или что-то стало жизненно необходимо. Собственно, как и все советские люди, он понимал, что тот или иной товар есть, просто надо зайти в другие двери. Или позвонить какому-нибудь Иван Иванычу, которому передать привет от Петра Петровича. И все будет. Просто надо сделать нечто большее, чем зайти в магазин и ткнуть пальцем. Но ведь и под лежачий камень вода не течет.
Таманский не диссидентствовал. Ему были до внутренней дрожи противны эти кухонные разговоры под наивно открытый кран. Все эти многозначительные: «Там, ну вы понимаете… сорок пять сортов колбасы… считал… а у нас…», «По радио… ну вы понимаете… сказали… миллиард расстрелянных…», «Дядя Коля из плавания привез… почитать… но тш-ш-ш-ш… вы же понимаете…» – вся эта глупость проходила мимо Кости. О чем он не сожалел ни капли. Таманский воспринимал пропаганду как пропаганду, ничего больше. Наивно было бы, не веря ни на грош советским лозунгам и призывам, полагать, что западные лозунги и призывы будут искренни и правдивы.
Наивно и глупо. Хотя… многие верили.
Костю никто не считал наивным. Скорее наоборот. Жена обычно раздраженно фыркала в его сторону: «Прагматик! Ты такой прагматик!»
И вот прагматичный Таманский, как полный идиот, ввязывается в нелепейшую авантюру. Сознание помутилось, не иначе! И хорошо, если после всего этого он останется у разбитого корыта. Нет. Скорее всего корыто будет целенькое, глубокое и полное помоев, а самого Таманского будут в эти помои макать, макать, макать… Держать за руки и макать. Бдительные дяди в штатском с проницательными глазами.
И будут правы!
Хорошо еще хватило ума остановиться, поняв, что его водят за нос. А если бы Костя притащился на родину с этими липовыми нацистами, раздул бы скандал? Страшно подумать, чем бы это могло закончиться. Впрочем, и так все закончится плохо. На этот счет Таманский иллюзий не строил.
В этих условиях идти в номер и спокойно работать Таманский не мог.
Единственным местом, куда он мог пойти в Буэнос-Айресе, была квартира Маризы. Туда Костя и направился.
Он долго шел по вечерним улицам, на которых, казалось, ничего не изменилось за время его отсутствия. Только воздух, насыщенный запахом моря, казался Таманскому еще более свежим, нежели раньше.
У дома Маризы Костю охватила странная неуверенность.
Он представил, как вваливается в ее маленькую, словно бы кукольную, квартирку, грязный, небритый, с плечами, разодранными в кровь лямками рюкзака. И она, такая хрупкая, нежная, удивительная, как-то должна реагировать… А может, она не одна? В конце концов, никаких обязательств они друг другу не давали. Да и вообще, молодая женщина, горячая южно-американская кровь…
Таманский замедлил шаг.
А что делать-то, собственно, в такой ситуации?
Ему некуда идти. Ему нечего делать.
Недаром он спрашивал у Джобса про сумасшедших. Недаром!
– Сбежать хочешь? – спросил Костя сам себя. – Сбежать?
Ноги еще несли его вперед, но все медленней…
Таманский живо представил себе, как домой приходят люди в штатском. Предъявляют ордер на обыск. Жена поджимает губы. Соседи, приглашенные понятыми, смущенно прячут глаза. А ловкие ребята из КГБ переворачивают все вверх дном. Вываливают ящики с бельем. Перетряхивают книги. Его бумаги. Ищут запрещенную литературу, которой в доме отродясь не было. Какие-нибудь эдакие записи.
И эти слова:
– Ваш муж… предатель.
Жена, конечно, соберет чемоданы и рванет к матери. В Пензу. Квартиру опечатают. Шефа уволят за то, что воспитал такого кадра. А коллеги в курилке будут понимающе переглядываться и кивать. Ну как же, там жизнь, тряпки-шмотки, сони-панасоник, мальборо-левис. Свобода, одним словом. Будут осуждать, а в душе завидовать. Подонки.
А сам Таманский сделает парочку интервью для «Радио Свобода», где станет рассказывать про то, как плохо жить в Совдепии. Как он страдал там, в нищете и несвободе. Про кровавую руку КГБ, зажравшихся старперов в Кремле, угнетенные малые народы… И прочую, прочую гнусь. Будет изблевывать из себя мерзкие, гадкие слова, потому что надо. Потому что надо на что-то жить, а «голоса» платят. Как платят каждому иуде. По тридцать сребреников за каждого погубленного пророка.
Костя зажмурился от омерзения.
И ведь верно… И жена – стерва! И детей нет, да и не будет! Шеф – кретин! Коллеги – стая шакалов! Машина третий год в гараже ржавеет. Теща приезжает на выходные и жрет, жрет, жрет… Серость. Пустота.
Сдохни он, Таманский, там, на площади Колон, от взрыва, разнеси ему башку шальной осколок, все было бы иначе.
Вот уж удача так удача. Никогда Костя не думал о смерти как о чем-то светлом и приятном. Но вдруг его посетила мысль, что… неплохо было бы вот так вот взять да и погибнуть. Стать сводкой в новостях. Поводом для дипломатических разбирательств. А то и ноты. Или, если повезет, скандала. Глядишь, и польза стране.
Но пока ты жив…
– Не останусь, – прошептал Таманский. – Нет.
Правду сказал ему как-то отец: «Один человек может сделать столько… Что иногда лучше б он и не делал ничего».
Костя представил, какой злобной ненавистью и завистью переполняются сердца его коллег, как жена с кривой ухмылочкой рассказывает друзьям, каким принципиальным прикидывался ее муж, а сам за шмотками, за шмотками… И ее не позвал. А друзья слушают это и снова завидуют, завидуют… Не зная даже чему!!!
«Один поступок, – подумал Костя. – А сколько гнусности…»
Шеф инфаркт поймает, хоть и кретин, а мужик добрый… За что ему?
Коллеги начнут смаковать всю его прошлую, «тамошнюю» жизнь. Обсасывать каждую подробность, каждое слово.
Завидовать, завидовать… И разрушать. Страну, жизнь свою, чужую, общую…
Один иуда скольких еще подвигнет на предательство?
– Не останусь…
Таманский тряхнул головой и пошел вперед. К Маризе. Почти уверенный уже, что у нее мужчина, что она не ждет, не хочет даже и знать его. И хорошо, и прекрасно!
Он легко, словно и не было многотонной усталости, давящей на плечи, взбежал по лестнице и нажал на кнопку дверного звонка. Еще раз. Еще.
За дверью было тихо.
Уже не думая ни о чем, уже не терзаясь сомнениями, Таманский скинул рюкзак, схватил только легкую планшетку, где хранились его записи, и кинулся вниз по лестнице. На полдороге остановился, метнулся назад, вытащил из рюкзака пистолет, засунул его за пояс, натянул сверху пропотевшую рубашку.
Мариза могла быть только в одном месте.
Кабаре!
Один господь знает, как Таманский нашел туда дорогу. Он бежал, ни о чем не думая, не глядя по сторонам, по узким улочкам, сворачивал куда-то, перепрыгивал через лужи. Уже на подходе рыкнул на каких-то проституток…
И вышел к кабаре.
Тут он притормозил, перешел на шаг. Провел рукой по голове, поправляя прическу, и вздрогнул, когда ладонь наткнулась на коротенький ежик волос.
– Ах да… – Костя поправил одежду.
Это помогло мало, он все равно был диким, только-только вышедшим из джунглей, грязным. Таманский, конечно же, не догадывался об этом, но более всего он сейчас походил на Индиану Джонса. Только выбритого налысо.
Он толкнул ярко размалеванные двери и вошел.
Запах табака. Шум, женский смех. Звон бокалов.
Кабаре.
Дорогу преградила стена с пуговицами и в костюме. Таманский поднял голову вверх.
– Привет, – в голове всплыло имя, – Аркадио! Не узнал?
Вышибала молча смотрел на Таманского. И тот вдруг почувствовал, что откуда-то изнутри, из самых темных, первобытных глубин поднимается странное, никогда раньше не испытанное чувство…
Рука Кости, будто сама по себе, поползла под куртку. Туда, где под ремнем покоился пистолет.
– Пропусти… – прошептал Таманский.
Аркадио издал переломанным носом странный хрюкающий звук, безмятежные коровьи глаза поскучнели, и стена в пиджаке отодвинулась, сделалась незаметной.
Таманский спустился в зал. Сел за столик, кожей чувствуя косые, жгучие взгляды.
Подскочил официант, Таманский попросил у него минералки.
– И все? – поинтересовался официант чуть презрительно.
– Все, твою мать, – по-русски подтвердил Таманский.
Официант понял.
На сцене в этот момент, радостно вскидывая стройные ноги, выплясывали красотки. Гремела музыка. Перья, юбки, ленты – все это взмывало в воздух вместе с загорелыми коленками.
Кто-то аплодировал, кто-то свистел, засунув четыре пальца в рот и надувая щеки. За соседним столиком две женщины сидели на коленях у веселого толстяка с блестящей сальной лысиной. Он хватал их за бедра и утробно хохотал. Костя видел усталые глаза женщин, их засыпанные пудрой щеки и вымученную, оплаченную радость.
Как знать, может быть, и Мариза где-то тут… В зале, а может быть, и за кулисами, в маленьких кабинках для особых случаев.
Плохо осознавая, что делает, Костя засунул руку под рубаху и сжал рукоять пистолета.
Ему принесли минералку, холодную, с обжигающими гортань пузырьками. Он выпил ее. Стакан. Потом еще один. Наконец, чувствуя, что голова уже идет кругом от всей этой разухабистой кабарешной канители, он вылил полстакана себе на голову. Встряхнулся.
– Нет. Не останусь! – твердо сказал Костя и с каким-то особенным удовольствием добавил: – Хер вам, буржуазные свиньи!
От этих слов он даже развеселился, словно заражаясь этой нездоровой радостью, окружавшей его.
– Не останусь…
Встать и уйти. Нужно было только дождаться Маризу. Только посмотреть. Чтобы поставить точку!
На сцену вынырнул морщинистый, весь в пудре, во фраке с развевающимися фалдами худенький мужичок. Таманский смутно даже припоминал его, кажется, виделись там, за кулисами. В сказочном и нереальном мире.
– А сейчас, дамы и господа! – закричал напудренный, смешно раскрывая рот. – А сейчас на сцену выйдет юная, сладкая, – морщинистый отвратительно зачавкал, словно жуя конфету, публика засмеялась, – почти что девственная мадам, то есть, простите, мадмуазель…
Таманский замер. Он уже понимал, что произойдет дальше, и чувствовал, как сжимаются скулы.
Конферансье, выдерживая паузу, пробежался взглядом по залу. Растянул накрашенные губы в улыбке. Но что-то случилось.
Вышибала у двери поднял руку.
Конферансье вздрогнул, посмотрел туда, куда указывал Аркадио.
Таманский сидел спиной к выходу и не мог видеть, что здоровяк-вышибала указывает на него. Костя видел только, как изменилось лицо ведущего, как он подслеповато сощурился, всматриваясь в темный зал. Таманский пересекся с ним взглядами.
– Мариза… – прошептал конферансье.
Кто-то в передних рядах расслышал, раздались неуверенные одинокие аплодисменты…
– Мариза! – закричал ведущий, но не в зал, нет, он кричал туда, за кулисы: – Он пришел!
И она выбежала… В каких-то нелепых перьях, красном платье, туфельках на таком высоком каблуке…
Конферансье ткнул пальцем в Таманского:
– Мариза! Вот он!
Туфельки в один миг полетели в зал. Мариза соскочила со сцены, загремел тарелками перевернутый столик. Мгновение! И Таманский погрузился в облако духов, вуалей, волос… Его сжали ее худенькие, но такие крепкие руки. Она рыдала. Говорила что-то сквозь слезы. О чем-то просила, кажется, не уходить никогда-никогда. Сбивалась, путала слова… Костя прижимал ее к себе. И плакал.
Публика, по одной ей известной причине, аплодировала. Стоя.
66
– Я ходила в церковь.
– Зачем?
– Просила… Чтобы ты вернулся живой. Мне такие сны снились… – Мариза приподняла голову, посмотрела в глаза Таманскому.
– Какие? – Костя снова погладил ладонью по ее волосам, шелковистым и чуть еще влажным.
Они лежали на кровати, в ее квартире.
Таманский, отмывшись, наконец почувствовал себя человеком. Было особенно приятно лежать вот так, чистым, обнаженным, зарываясь лицом в душистые простыни. Лежать и ни о чем не думать. Главное, ни о чем не думать.
– Страшные, – ответила Мариза, целуя его. – Очень страшные.
– Глупости, – прошептал Костя. – Глупости…
– А еще я ходила к гадалке…
– И в церковь и к гадалке? – удивился Таманский.
– Да. – Она засмеялась. – У нас так можно.
– И что же сказала гадалка? – спросил Костя и тут же прикусил язык.
– Сказала, что все будет хорошо. Но я все равно волновалась. – Мариза рисовала на его груди узоры пальчиком, по-детски трогая родинки. – А в кабаре мне все помогали. И жалели. Она вдруг вскинулась: – А ты? Почему ты не рассказываешь мне о том, что было?
– Да нечего рассказывать. – Костя пожал плечами. – Ни черта там нет. В джунглях. Только всякие папуасы.
– Кто?
– Папуасы. Ну, лагерь там какой-то. Только нет там никого. Пустой. Обманули Джобса. Он очень переживал.
– А почему вас так долго не было?
– Машина сломалась…
– Машина. – Она вздохнула и снова прижалась к Косте. – А тут какие-то ужасы творятся.
– Что такое?
– Стреляют. Взорвали машину. Я не интересовалась, просто девочки рассказывали. Вроде бы кто-то стрелял по гвардейцам. Или это они стреляли… Я точно не знаю. Но люди на улицах стали злые, все чего-то боятся. Ходят слухи, что скоро цены опять поднимутся. И налоги. Листовки распихивают по ящикам.
– Какие листовки?
Мариза показала пальчиком на столик.
Таманский протянул руку и нащупал в темноте какую-то бумажку. Включил свет.
С картинки грозный мужик показывал кулак кому-то, видимо всему мировому капитализму. Ниже было написано на двух языках. Испанский Костя пропустил, но на английском сосредоточился.
«Власть уже доказала свою полную несостоятельность. Теперь только от наших совместных действий зависит будущее нашей страны! От всех нас, каждого рабочего и крестьянина, зависит то, какой будет жизнь в Аргентине. Мы не призываем вас к очередным лживым выборам! Мы не обещаем вам рай на земле, как болтуны в парламенте! Нет! Если мы не остановим их сейчас, дальше будет только хуже. Аргентина может и должна…»
Дальше Таманский читать не стал.
«Революция – это огонь, который Прометей принес людям. Это пламя, горящее внутри человека… – вспомнил Костя слова Че Гевары. – А сколько людей должно сгореть в этом пламени?»
Отчаянно захотелось напиться.
– Тебе плохо? – спросила Мариза. – Я чувствую. Тебе плохо.
Она поцеловала его в губы. И еще раз. И еще…
Таманский обнял ее, зарываясь в эти густые волосы, вдыхая ее запах, прячась от страшного мира…
Наутро он отправился в посольство.
Его принял хмурый дядька с бородой. Консул.
– Согласно предписанию вы должны были уже отбыть на Кубу, Константин Михайлович. – Консул вопрошающе посмотрел на Таманского и выложил на стол конверт. – Более того, вот бумага, которую мне прислали из нашего кубинского представительства. Это запрос. Вы понимаете, что ваше поведение безответственно? То, что вы срываете собственную командировку, это полбеды. Но из-за вас были подняты люди, завертелась канитель… Неужели вы не понимаете?
– Понимаю… Я…
– И, как вы сами должны отдавать себе отчет, это происшествие не может обойтись без последствий. Это же уму непостижимо! – Консул всплеснул руками. – Человек приехал и исчез!!! Это же… – Он наклонился вперед. – Пахнет сами знаете чем.
– Да… Я…
– И шут бы с вами, но за собой потянете еще многих и многих… Даже мне придется плохо! Это вы понимаете? Не углядел! Недосмотрел! В кабинете засиделся! А что я могу? Человек приехал и исчез… Как не было. Понимаете?
– Да все я понимаю, – вздохнул Таманский.
– Ну а раз понимаете, то давайте вместе решать!
– Что решать? – Костя почувствовал, что бледнеет. Скулы напряглись, одеревенели. – Что решать?
– Ну, как же? – Консул потряс в воздухе конвертом. – Что в ответ писать, конечно! Надо же… как-то внятно разъяснить нашим коллегам, почему вас до сих пор нет в Гаване и почему вы до сих пор не связались с кубинской приглашающей стороной! Внятно, понимаете, так, чтобы и вы остались целы, и чтобы я по шапке не получил. Так ведь мы договорились, кажется?
– Ага… – Таманский ожидал несколько иного приема. Но если человек говорит, что «мы договорились», значит… – Понимаю… Но я думаю, что это не единственный случай в дипломатической практике?
– Чтобы человек пропадал, а затем снова находился?
– Да.
– Не единственный…
– А какие причины?.. Чаще всего… – Таманский давал возможность собеседнику додумать мысль самому.
– Ну, – консул развел руками, – больница. Знаете… Шел, поскользнулся, упал, потерял сознание… – Он засмеялся. – Удачная фраза, по-моему. – Консул с улыбкой пододвинул к Таманскому несколько листков бумаги. – Пишите.
– Что?
– Ну, что-что… Объяснительную. Я, такой-то такой-то, тогда-то тогда-то… Дату поставите… когда вы там приехали? Вот ее и ставьте. Шел там-то и там-то. Упал. Очнулся в больнице. Где и находился все это время. Пока что?
– Пока не пришел к вам?
– Нет. – Консул покачал головой. – Пока работник консульского отдела, Нестеров Федор Михайлович, то есть я, вас не обнаружил. Все понятно?
– Понятно, понятно. – Таманский лихорадочно строчил текст. – Понятно. Только…
– Что только? – Улыбка сошла с лица консула.
– Я… можно, я поставлю дату выписки из больницы… не сегодня?
– А когда?
– Ну… Неделю… полторы…
– Черепно-мозговая травма. И перелом. Ног. Обеих, – сказал консул.
– Не понял.
– Что тут не понять? – гаркнул Нестеров. – Справку! Справку из больницы, что у вас черепно-мозговая травма и переломы обеих ног! Ясно?
– Так точно!
– В Буэнос-Айресе все можно купить за деньги… Ясно вам? Даже рентгеновские снимки! Если доктора станут ломаться, позвоните мне. Я договорюсь. В конце концов, мне скандал тоже не нужен. Страна хоть и шумная, но спокойная. А у меня командировка заканчивается… Понимаете меня?
– Очень хорошо понимаю, – кивнул Таманский.
– Вот так…
– Как раз в день приезда я был около парка Колон, там был взрыв…
– Очень хорошо, очень! – Консул снова заулыбался.
Костя встал, протянул бумаги Нестерову.
– Я написал.
– Очень хорошо… – Консул, не читая, спрятал заявление в стол. – Я телеграфирую на этот счет кубинцам.
– Спасибо! – Таманский развернулся и пошел к дверям.
– Но учтите, – догнал его голос Нестрова, – отсюда вы полетите не на Кубу. А домой. Хватит, отлетались… И еще: с вами будут разговаривать, сами понимаете откуда. Понимаете?
– Да.
– Если вы не станете дурить, то, полагаю, никто не станет и копать. Но все-таки, все-таки, если вы решите… понаделать глупостей, я-то вывернусь. Но вам тогда не поздоровится. Понимаете?
67
Костя заглянул в отель, где у него вежливо поинтересовались, собирается ли он забронировать номер за собой. Таманский ответил, что нет, не собирается. И выписался. Все вещи он перекинул к Маризе на квартиру. И обнаружил, что гостиница сожрала почти все средства, выделенные ему на поездку.
Доктора в больнице любезно согласились помочь Таманскому состряпать справку. Через три дня Костя должен был принести любезному доктору Санчесу сумму, превышающую то, что было у Таманского в кошельке.
К тому же у Кости страшно разболелись зубы, видимо, поврежденные в драке.
Когда боль сделалась нестерпимой, Мариза отвела Таманского к стоматологу. После двадцатиминутных мучений Костя вышел из кабинета, делано улыбаясь, а потом случайно увидел счет, который Мариза наивно прятала за спиной.
Привыкший к советской медицине, Таманский был в шоке.
Да, конечно, Костя, так же как и остальные, иногда ходил к врачу, он, так же как и остальные, сталкивался с хамством медсестер, с равнодушием докторов и тем, что за выписанным лекарством надо побегать, потому что в аптеке, что неподалеку от дома, один аспирин и стройные ряды клизм. Однако Таманский, собственно как и все советские люди, всегда знал, что лекарства можно достать. Надо просто приложить к этому определенные усилия и потратить время. Кое-где козырнуть корочкой «Союза журналистов», кое-где шоколадку на стол положить. И все будет.
Унизительной эту процедуру находили только те, кто никогда не был в благословенном «там» и никогда не оплачивал счета от стоматолога.
С точки зрения поумневшего на капиталистических хлебах Таманского, недостаток у советской системы был только один – железный занавес. И то, что граждане Советского Союза вырывались на Запад в рафинированном формате туристической поездки. Оно и понятно, власть таким образом убивала двух зайцев разом. Во-первых, граждане были под присмотром как товарищей в штатском, так и гида. Что несколько осложняло работу конкурирующих спецслужб, как раз недавно взявших ориентировку на вербовку так называемого среднего класса. А во-вторых, как бы смешно это ни выглядело, власть заботилась о культурном росте своих граждан. Посетить такое количество музеев, выставок, галерей, да все с комментариями, рассказами и лекциями, самостоятельный турист был не в состоянии. Чисто финансово не в состоянии.
Однако эти сильные стороны были одновременно слабостями системы.
Ограничения, препоны, барьеры – а на самом деле излишняя забота – и порождали сладкие и разрушительные мифы о восхитительном Западе, где сорок сортов колбасы, где техника и комфорт, где машины, платья, джинсы и жвачка, где в каждой аптеке можно купить любое лекарство, а магазины забиты под завязку.
Трава, как известно, всегда зеленее на другом берегу реки. А уж если перебраться на другой берег почти невозможно, то трава не то что зеленее, она еще мистическим образом прибавляет в росте и сочности.
Еще Таманский вспомнил, как какой-то морячок, из знакомцев жены, рассказывал за столом с видом бывалого рыбака: «А еще там тебе везде улыбаются. Вот везде! В магазине, на рынке, везде! Потому что у них так положено. Камеры следят специальные, как не улыбнулся клиенту, значит, все, считай, уволен».
Все восторгались, охали-ахали, а морячок кивал с видом знающего человека и все показывал, разводя руками, количество колбас в витрине портового магазинчика.
Камер специальных Костя нигде не видел, но улыбались действительно все. Не из-за камер, а потому что улыбка была таким же товаром, как, скажем, шоколадка или бумажный носовой платок, попользовался и выкинул.
К тому же как не улыбаться, если платят?
А платить тут приходилось на каждом шагу. И это был как раз тот момент, который не учитывали те, кто, развесив уши, внимал «голосам», морячкам и мажорам, окончившим МГИМО только для того, чтобы получить допуск к «тамошним» тряпкам-шмоткам.
По мнению Таманского, выпускать из Союза надо было всех желающих, чтобы на собственной шкуре прочувствовали все прелести «той жизни». И чтоб, накушавшись колбасы и улыбок, возвращались назад.
Жить на горбу у женщины Таманский не мог. Однако денег у него, считай, тоже не было. И все, что он мог сделать, – это, несмотря на протесты Маризы, сунуться в парочку местных газетенок. На предмет работы.
В двух газетах ему отказали. Редактор безо всяких улыбок показал ему на дверь. Буквально. В третьей поинтересовались, не может ли он выполнять роль корректора на испанском. В четвертой кинули мелкий, но срочный репортажик с манифестации представителей рабочих коллективов. Костя ухватился с радостью.
Через десять минут он уже был на бульваре Аманцио Алькорта, где шумная и больше всего походившая на карнавальное шествие толпа размахивала транспарантами и флагами Аргентины. Костя нырнул в это сборище, тыкая диктофоном то в одну, то в другую сторону. Лозунги и крики он переведет потом. С возвышения надрывался оратор. Ему отвечали, потрясая кулаками и знаменами.
Таманский ухватил за локоть какого-то солидного горлопана, в костюме и с круглым брюхом.
– Простите, какие у вас требования?
Брюхан обернулся к Косте, глаза его блестели.
– Журналист?
– Да.
– Вот и напиши, журналист, что мы хотим работать! Работать, а не просиживать штаны дома на пособии! Если Сервантес не даст нам работу, мы разберем его завод к чертовой матери!
– Сервантес, кто это?
– Глава правления нашего завода… – Толпа пришла в движение, толстяка начали оттирать от Таманского. Но тот кричал, обращаясь к журналисту: – Он нанимает штрейкбрехеров! А мы хотим работать и получать деньги!
– А кто, кто вы такие? Откуда?
Но их разнесло в стороны. Костя попытался разговорить стоявших рядом. Но ему не везло. Никто не знал английского. На него смотрели как на чужака, стараясь отойти подальше.
И вдруг что-то произошло.
Оратор, витийствовавший на трибуне, замолк. Толпа на какой-то момент замерла. А потом взревела.
Таманский встал на цыпочки, оглядываясь по сторонам, стараясь понять причину происходящего.
И понял.
Демонстрантов медленно, но верно оттесняли в сторону набережной отряды конной полиции. Пока без драки. Кони просто шли вперед, всадники сидели на них в непроницаемых зеркальных шлемах, рыцари среди черни. Какой-то полицейский чин, взобравшись на освободившуюся трибуну, кричал в мегафон. Вероятно, призывал разойтись.
Таманский понял, что дело дрянь, выскочил в первые ряды и, тряся красной книжечкой Союза журналистов, кинулся к полицейским.
– Советский журналист, советский журналист! – кричал Таманский.
Он почти столкнулся с лошадью, которая всхрапнула, прижала уши и покосилась на Костю, страшно выкатывая белки.
– Советский журналист! – крикнул Таманский в зеркальное забрало.
Всадник на мгновение задержался. В ровном конном строю образовалась дырка. И Костя нырнул в нее, мигом очутившись в безопасности. За оцеплением.
С бьющимся сердцем, тяжело дыша, он прислонился к стене дома. Посмотрел на свое удостоверение и улыбнулся:
– Надо же… И тут работает.
Тем временем рабочих бойко гнали к парапету, разбивали на группки и вязали по одному. В кавалеристов полетели бутылки, кто-то швырнул камнем. Испуганно заржала лошадь.
Чин на трибуне плюнул, отбросил мегафон и махнул рукой.
В тот же миг всадники сорвались с места, рубя дубинками, как мечами. Вслед за ними кинулись пешие полицейские.
Кто-то заорал истошно сквозь грохот подков. Завизжала женщина.
Таманский шагнул было вперед, но уперся в непонимающий взгляд офицера в темных очках. Оцепление распадалось в некоторых местах, пропуская скованных наручниками людей. Возле нескольких карет «Скорой помощи» оживились медики.
Наконец Костя увидел полицейского чина, который до начала разгона манифестации призывал всех разойтись, и кинулся к нему.
– Простите, один вопрос для прессы!
Чин обернулся. Усики, лицо в морщинах и мешки под глазами.
– Что еще? Никаких комментариев!
– Советский журналист! – Костя махнул красной книжечкой.
– Какой?
– Советский. Советский Союз, знаете?
– Чертовы марксисты… – буркнул чин по-испански и пошел прочь.
– Так и напишем, – ответил Таманский по-русски.
Мимо него волокли недавнего толстяка в костюме. Его лицо было залито кровью, глаза налиты бешенством.
На мгновение взгляды Кости и толстяка пересеклись.
– Они не дают нам работать! – заорал тот, выкручиваясь в крепких руках полицейских. – Они не дают нам работать!!!
Таманский покачал головой, а потом, сам не понимая, что делает, вскинул правый кулак по-коминтерновски вверх.
Через час он накатал небольшую статью и с грехом пополам при помощи Маризы перевел ее на испанский. А к вечеру уже имел небольшой портфель заказов на ряд статей. За которые и засел сразу же, радуясь тому, что еще может работать, в отличие от тех, кого разгоняли на набережной бульвара Аманцио Алькорта.
Подсчитав возможные гонорары, Костя понял, что счет от зубного врача он оплатит.
Но не более.
68
Той ночью Таманский не спал.
Глаза отчаянно резало, будто под веки кто-то злой сыпанул песка. Голова была тяжелая. Но сон не шел.
Это была последняя ночь.
Наутро Косте предстояло решать. Наутро истекал срок, отпущенный ему консулом.
А дальше…
На груди зашевелилась Мариза. Таманский провел рукой по ее волосам. И осторожно высвободил руку, девушка тут же свернулась калачиком, устраиваясь у него под боком.
Костя чуть выждал, пока она успокоится, и выскользнул из-под одеяла. Он ушел в соседнюю комнату, оделся, зажег свет и сел за письменный стол.
Нельзя уходить просто так.
Он достал бумагу и принялся писать.
«Милая. Прости…»
Костя скомкал лист, выкинул его в мусорное ведро и начал новый.
«Мариза, я должен уехать. Я люблю тебя, но я не смогу предать страну, в которой родился. Помнишь, я рассказывал тебе о России? О моем детстве и жизни в…»
Этот листок тоже последовал вслед за первым.
Он писал. Рвал бумагу, снова писал. Бросал ручку на стол и ходил по комнате.
Любые слова казались ему лживыми, ненастоящими, нелепыми в этой ситуации. Всякое оправдание казалось ему гнусным издевательством. Таманский ходил по кабинету, сжав голову ладонями. Он садился за стол. Писал. Выбрасывал бумагу и начинал снова. Слова, бывшие ранее послушным инструментом, теперь отказывались ложиться на бумагу.
Близилось утро, когда в прихожей запиликал телефон. Таманский метнулся к нему, поднял трубку, с замиранием прислушиваясь, не проснулась ли Мариза.
– Да, слушаю?
– Сеньор Таманский? – Голос редактора «Латинской газеты» был взволнован. – Сеньор Таманский?
– Да, это я, сеньор Санчес. Что случилось?
– Мне некого послать, но намечается что-то грандиозное. На площади Колон. Сегодня. Вы должны быть там! Я вас очень прошу! Я удвою гонорар!
– Сеньор Санчес, я…
– Только не говорите мне, что вы не можете. Я умоляю вас, я встану на колени! К нам в газету пришло письмо. Там, на площади, перед президентским дворцом, сегодня утром… Я не знаю что, но наверняка мы не единственные… Вы же профессионал! Вы же, в конце концов, сочувствуете нашему народному движению, я знаю, я понял это по вашим репортажам!
– Митинг?
– Я не знаю. Но информация оттуда, от монтонерос. Это точно, как то, что я вас разбудил!
– Вы меня не разбудили… – пробормотал Таманский. – Я не спал.
– Не важно, сеньор Таманский! Не важно! Я вас прошу, будьте там. Вы сделаете?
– Сделаю.
Костя повесил трубку и начал собираться. Бессонная ночь отдавалась в голове болью. Отсрочка была нелепой, но…
Уже уходя из дома, он подумал, что стоило бы сжечь все неудачные письма. Но возвращаться не стал.
Утро радовало солнечным светом. Весело орали в ветках деревьев какие-то пичуги, ранние прохожие спешили по своим делам. Буэнос-Айрес выглядел умытым и свежим.
Таманский попил кофе в небольшой забегаловке, прикидывая, что, если материал будет действительно стоящий, он сдерет с редактора «Латинской газеты» надбавку. Пусть на прощание, но все-таки… Оставит деньги Маризе.
Хотя это… как-то пошло.
Таманский поморщился и отодвинул чашечку. Кофе вдруг приобрел прогорклый вкус.
Времени до назначенного срока было навалом, и Костя не стал втискиваться в утренний переполненный автобус, а двинулся пешком. Благо дорогу он уже знал.
Таманский хотел попрощаться с Аргентиной.
Он точно решил для себя, что уедет. И станет предателем, не став им. Парадокс? Наверное. Но в жизни можно стать предателем своей любви, но не стать предателем Родины. А можно и наоборот. Про человека говорят, что он умеет жить, если не позволяет жизни загонять себя в такую страшную вилку.
– Все пройдет, – прошептал Таманский. – Все пройдет… Пройдет…
Он врал себе, потому что понимал: не пройдет. Никогда. И перед смертью, в далекой-далекой Москве, Таманский будет шептать только одно имя. Только одно. И ничего больше.
Году в восьмидесятом Таманский близко сойдется с Марком Захаровым и на одной из театральных попоек расскажет ему свою историю. Захаров извинится, попросит листок бумаги и примется что-то писать, писать… «Мы тут с Вознесенским одну штуку задумали, хорошо может получиться».
Костя шагал по Буэнос-Айресу, словно в первый день, когда восторженным советским туристом он рассматривал вывески, какие-то плакаты, дома. Вслушивался в звуки музыки, такой чудной и непохожей.
Город казался новым. Незнакомым. Особенным.
На площадь Колон он прибыл чуть раньше намеченного срока. Приготовил диктофон. Осмотрелся.
Пусто. Если не считать группки людей, торчащих неподалеку. Блокноты, фотокамеры… Коллеги-журналисты?
Таманский удивился. Видимо, намечается действительно что-то особенное, раз собралась такая толпа.
К аргентинцам Костя подходить не стал. Еще побьют как штрейкбрехера…
Поискал глазами Джобса, но не нашел. То ли американец запил где-то, то ли просто уехал к себе в Штаты. К дяде самогонщику на ранчо. Да и пес с ними обоими.
На площадь медленно выползала туристическая группа каких-то узкоглазых. Видимо, японцев, хотя кто их разберет?..
Таманский присел на бордюр и стал ждать.
69
– Гражданин, нам нужно поговорить…
Приблизительно так должны начинаться неприятности для простого советского человека. Особенно если он находится в загранкомандировке.
После того как честное советское «товарищ» меняется на подозрительное «гражданин»… Жди беды. Поскольку если первое слово подразумевает отношения, где что-то прощается, а что-то просто подразумевается само собой, то второе подразумевает ответственность. И прежде всего перед законом. В этом словоблудии и заключается магия бюрократических коридоров, где чиновник, страшащийся напора посетителей, что жаждут его чернильной кровушки, прикрывается непробиваемым: «Граждане, неприемный день!» Он взывает не к пониманию, нет. Не к состраданию, но к могучему эгрегору закона. Мол, и рад бы помочь, но закон не велит, день-то неприемный, а вы, как люди ответственные, должны с пониманием отнестись… Ибо вы не товарищи мне, но граждане.
Впрочем, если кто-то мнит в диссидентском угаре, что уж при капитализме-то оно все иначе… нет. Ошибается. То, что слово «товарищ», пахнущее трудовым потом, шершавое, как мозоль, надежное, как танк «Т-80», превратилось в респектабельное, надушенное, с оттопыренной губой словечко «господин» – совсем ничего не значит. Потому что «гражданин» как был, так и остался…
Учитывая все это, можно понять чувства Таманского, когда на площади Колон, где он стал свидетелем политического убийства, ему на плечо легла тяжелая ладонь и прозвучало:
– Гражданин, нам нужно поговорить.
Костя едва не сел.
Посреди испанского гомона русская речь прозвучала ошеломляюще.
Таманский замер, чувствуя, как внутри рушится что-то стеклянное, хрупкое. Потом медленно обернулся.
Перед ним стоял коротко стриженный мужчина лет тридцати пяти – сорока, в пиджаке и рубашке с расстегнутым воротом. Черты его лица были мягкими, словно вылепленными из пластилина, такие люди бывают прекрасными отцами семейства, школьными учителями, из тех, которых ученики никогда не забывают… если бы не глаза. Костя не мог определить точно, но когда этот человек смотрел на него, казалось, что в Таманского кто-то целится.
– Вы кто?
– Представитель посольства, – уклончиво ответил мужчина. – Меня зовут Ракушкин Антон Яковлевич.
– А… – Таманский облегченно выдохнул. – Я понял. Вас прислал Нестеров. Я собирался к нему сегодня… Там… э-э-э… меня выписали из больницы…
– Нет, консул тут ни при чем. – Ракушкин покачал головой. – Я совсем из другого ведомства.
– Какого? – брякнул Костя и тут же об этом пожалел.
– Нам надо поговорить. – Ракушкин покосился на полицейских, которые, оцепив место убийства, теперь уныло пялились на лужу крови. – Я думаю, не здесь.
– Да, пожалуй, – согласился Таманский.
– Пойдемте, тут есть несколько пока еще спокойных мест. Я введу вас в курс дела по ходу. Как вы относитесь к хунте?
Антон бодрым шагом направился к выходу с площади. Как раз в том направлении, куда побежал убийца.
– К чему? – Костя замешкался, и ему пришлось догонять Ракушкина.
– К хунте, – спокойно повторил тот. – Ну, знаете, войска, Пиночет, Чили, расстрелянный Альенде…
– Странный вопрос. – Таманский прокашлялся. – Я же советский человек. Гражданин.
Ракушкин покосился на журналиста, и тот примолк.
– Это, конечно, хорошо, что советский гражданин, – пробормотал Антон. – Однако я вас спрашиваю не как гражданина, а как человека. Если уж гнать казенщину, то в Союзе соблюдаются права человека, которые подразумевают, что вы можете иметь собственное мнение.
– Мое мнение совпадает с генеральной линией партии, – отчеканил Таманский.
Ракушкин тяжело вздохнул и покачал головой.
Еще несколько кварталов они шли в тишине. Антон молчал, а Таманский, чувствуя себя не в своей тарелке, все никак не мог подобрать слова. Наконец Костя не выдержал:
– Куда вы меня ведете? Я в чем-то провинился?
– Если бы вы провинились, мы бы не шли, а ехали. В чем? – буркнул Ракушкин и посмотрел на Таманского. – Побледнели? Правильно. Ехали бы в «воронке». А поскольку мы не на колесах, то считайте, что мы прогуливаемся по Буэнос-Айресу. И идем в кафе. Вот в это…
Ракушкин резко завернул под большую вывеску «Хименес». Внутри Антон выбрал столик возле раскрытого окна.
– Вы кофе пили? – спросил он Таманского.
– Да.
– А я вот еще нет. Знаете, в Москве я привык к чаю, а тут… Не знаю, почему-то хочется именно кофе. То ли климат, то ли местные традиции так влияют. – Ракушкин высунулся в окно, кого-то увидел. Махнул рукой.
Тотчас подбежал мальчишка, разносивший газеты. Антон кинул ему мелочь, взял ту самую «Латинскую газету», которой Костя должен был сдать материал.
– Уже напечатали, – пробормотал Ракушкин. – Оно еще обсуждается в парламенте, а текст уже разошелся по газетам. Ловко.
– Что там?
– Одно письмо, – ответил Антон, откладывая газету в сторону. – Давайте так, Константин, если вы думаете, что я пришел создать вам максимум проблем, то вы ошибаетесь. Поэтому не надо меня кормить агитационными плакатами и рассказывать про генеральную линию партии и то, как вы ее поддерживаете. Во-первых, потому, что это не обсуждается, а во-вторых, потому, что это вне моей компетенции. Мне нужна ваша помощь, а вы мне выдаете какие-то заготовки для статьи про Первомай. Понятно?
– В общих чертах, – уклончиво ответил Таманский.
– Вот и хорошо. К тому же я знаю, что у вас возникли кое-какие сложности. Так?
Таманский кивнул.
– И эти сложности скорее всего будут вас преследовать и по возвращении на родину. Я же, по своему ведомству, могу вас от этих проблем избавить. Я хочу сказать, что вы задержались в Аргентине не потому, что… – Антон отвел глаза в сторону. Он не имел понятия о том, почему Таманский настолько задержал свой вылет на Кубу. – Не важно почему. Главное, что вы задержались, оказывая помощь. Мне. Вы понимаете мое предложение? Есть какие-то вопросы?
– Вопросы, конечно, есть. Но в целом мне все понятно. И это меня устраивает.
– Прекрасно. Почитайте. – Ракушкин придвинул Таманскому газету. – На первой полосе. Еще краска не просохла. Я думаю, текст был отпечатан сегодня утром. Заранее, так сказать.
– Я плохо понимаю испанский.
– Я вам прочитаю, основные моменты. Но сначала поясню один немаловажный вопрос. Почему вы? Именно это, наверное, вертелось на языке? Так?
– Если честно, то да. – Таманский кивнул. – Я же не спортсмен, не… Не…
– Я понимаю. – Ракушкин кивнул. – Так вот, ситуация в целом такова, что мне нужен помощник, который…
Таманский ждал, а Антон тщательно подбирал слова.
– Который имеет навыки работы с людьми. Работы с разными людьми. Имеет склонность к авантюризму. И вместе с тем немного идеалист… – Ракушкин поморщился. – Ерунда все это, Константин. Проблема в том, что я не могу просто взять и попросить о помощи людей из своего ведомства. Действовать надо быстро, а на согласования, проверки и прочие дела уйдет масса времени. По правилам оперативной работы я имею право привлекать к сотрудничеству всех, кого сочту нужным. И к тому же меня просто упекут в дурку, если я представлю дело так, как я его сейчас буду представлять вам. Проблема очень большая. Серьезная. И сейчас у меня нет времени на то, чтобы доказывать собственную психическую состоятельность. Тем более что я не совсем в ней уверен.
– Многообещающе… – пробормотал Костя.
– И еще, вы журналист. А это значит, сможете в случае чего описать все внятно. Понимаете?
– У меня голова идет кругом, Антон Яковлевич, – признался Костя.
– Тогда давайте я вам зачту вот это. – Ракушкин постучал пальцем по газете. – Скоро, думаю, появится и на английском. Да и вообще будет переведено на все языки мира. «Обращение Парламента Аргентины к генералу Хорхе Видела». Вот так. «В силу того, что президентская власть в стране стала номинальной, в силу того, что кризисные процессы вышли из-под контроля правительства, мы, люди, ответственные перед народом и страной, призываем вас, генерал, взять всю меру верховной власти в свои руки». И далее в том же духе. В стране переворот, Константин.
Таманский побледнел.
– Мы… мы должны…
Ракушкин выжидательно смотрел на него.
– Остановить это! Как-то помешать!
– Стоп, стоп, стоп… – Антон выставил вперед ладони. – Вы что же, всерьез предполагаете остановить приход хунты? Со мной на пару?
– Но… Я думал, может быть… – Костя замялся, не зная, как выразить мысль о всесильном КГБ. Таманский предполагал, что Ракушкин именно гэбист. – Ваше ведомство…
– Ну, нет. – Антон опустил глаза. – Мое ведомство не уполномочено вмешиваться во внутренние дела такой страны, как Аргентина. Если, конечно, ее внутренние дела не касаются, прямо или косвенно, интересов нашей с вами Родины.
– А они касаются?
– В том-то и дело, что да. Что вы знаете о нацистах, Константин?
– Опять?! – вырвалось у Кости.
– Ну-ка… С этого момента поподробнее…
– Выглядит полным идиотизмом, – прокомментировал Антон рассказ Таманского. – И неудачной провокацией. Хотя для провокации слишком сложно. У вас есть женщина, Костя?
– Есть.
– Если бы у меня было намерение вас скомпрометировать, то я бы начал с нее. Несколько снимков, и готово. Но нацисты, прячущиеся в лесах… Это какой-то бред. Слишком сложно.
– Вот посмотрите, – Таманский извлек из внутреннего кармана пиджака фотографии, переданные ему Джобсом. – Вот…
Ракушкин долго изучал снимки.
– Ваш американец славный парень, – наконец сказал Антон, отодвигая в сторону одну фотографию. – Посмотрите. Видите этого человека?
На карточке какой-то бритый налысо не то сержант, не то кто-то постарше орал на вытянувшихся в струнку солдат.
– Это Рудольф Уолш. Мистер Уолш. Толстый Рудольфо.
– На вид в нем всего килограммов восемьдесят.
– Конечно. Так мистер Уолш перевел фамилию известного русского классика. Толстый – это, в некотором роде, псевдоним. Рудольф Уолш – писатель и журналист. Ваш коллега. Шесть лет назад ушел в ряды монтонерос. Добился там, судя по всему, решительных успехов. Принимал участие в разработке ряда террористических актов в США. Его ищут многие. Например, ЦРУ. Вряд ли американцы боятся его бомб, но его книги, листовки, агитационная работа – это настоящая опасность. Учитывая, что местные марксисты, как они себя называют, это просто масса разрозненных революционных группировок, которые объединились совсем недавно под властью одного человека, такой парень, как Уолш, – очень ценный кадр.
– Он и есть главный лидер?
– Нет. – Ракушкин покачал головой. – Мистер Уолш просто один из активнейших деятелей, которые делают дело и работают на результат. Его не интересует власть. Тем и опасен. Он никогда не вылезает из джунглей, где раскиданы вот такие вот базы. То там, то тут… Ваш американский коллега, как, вы говорите, его зовут?
– Джобс. Уильям Джобс.
– Так вот, ваш Джобс очень ловкий парень. В одиночку он побоялся двигать в джунгли, и, судя по тому, что вы рассказали, правильно сделал. Зато теперь у него есть улов, террорист. За эту рыбку мистера Джобса погладят по головке в Центральном разведывательном управлении. Вам он скормил наживку из страшных неонацистов, понимая, что, испугавшись коричневой чумы, вы можете сунуться в джунгли.
– Не проще ли было найти проводника из местных?
– Проще. Но не безопасней, вспомните индейца. Местные сочувствуют марксистам. Особенно индейцы. Это раз, а два, Константин, это то, что Джобс сказал вам сам. Ваша статья, его фотографии. Красивый подставной ход, на котором сам Джобс и вылезет, сняв дополнительные дивиденды.
– Деньги? Всего лишь деньги?
– А что вас смущает? – Ракушкин удивленно поднял брови. – Вы что же, полагали, что у Уильяма Джобса будут какие-то… высокие идеалы? Какие-то более весомые причины? Константин, поймите, деньги для американского деляги – это очень важно. Чрезвычайно важно. Это и есть наивысшая ценность. То, ради чего стоит рискнуть. Да. Если вы полагали, что это преувеличение нашей пропаганды, так вы ошибались. Вот вы, испугавшись прихода военных к власти, помня о Сантьяго и Пиночете, предложили мне остановить государственный переворот. Так работает ваше сознание. А первое, о чем бы подумал мистер Джобс, это репортажи, фотографии, интервью. Деньги, деньги, деньги. Так что единственное, в чем ошибается наша пропаганда, это мнение о том, что с американцами мы когда-нибудь придем к взаимопониманию, для всеобщей выгоды.
Ракушкин не доживет до тысяча девятьсот восемьдесят седьмого года и не увидит договоренности с заокеанским «другом». Антона застрелят в Москве, в восьмидесятом. Во время спецоперации.
Ракушкин посмотрел в окно.
– Как все быстро развивается…
– Что? – Таманский посмотрел туда, куда указывал Антон.
На перекрестке стояла окрашенная в зеленый цвет машина, наподобие той, которую использовал Джобс. В центре перекрестка, у которого вдруг прекратили работать все светофоры, торчал человек в военной форме, с винтовкой на плече и жезлом регулировщика в руках. Еще двое стояли около машины.
– Как быстро… – прошептал Ракушкин.
Через перекресток с грохотом и ревом поползла колонна бронетранспортеров.
– Так какой у вас был план? – тихо спросил Таманский.
– Сейчас расскажу, – ответил Ракушкин, отворачиваясь от окна. Его лицо, прежде мягкое, вдруг приобрело жесткость.
70
Москва. 1982 год. Простое отступление от сюжета.
Военный переворот.
В стране меняется порядок. Президент мечется в своем кабинете. Министры в ужасе, оскальзываясь на паркете, жгут бумаги и рвут провода, ведущие к телефонам, теперь бесполезным, но все же трезвонным.
Военный переворот.
По улице грохочут тяжелые грузовики. И днем и ночью, рычит и ревет.
Солдаты на улицах. Неувольнительная.
– Переворот!
Танки, винтовки и автоматы, бронемашины, патруль. Куда ты? Куда ты идешь без документов? Там лают собаки, и хаки, так много хаки. В глазах рябит, и хочется плакать, винтовки не целятся больше в зенит, они смотрят черным, глубоким зрачком, тебе в горло метят штыками. Рычит грузовик, визжит собака с перебитым хребтом.
Страшно?!
Сама история остановилась возле твоих ворот, стучит каблуками! Открой!
– Кто там?
– Военный переворот!
В ресторане ВТО, что на Арбате, стихами, написанными на салфетке и забытыми около тарелки с объедками, никого не удивишь. И официантов в особенности.
Убирая тарелки со стола, Сереженька, второй дежурный по залу, подхватил салфетку и унес ее на кухню. На этих кусочках бумаги иногда попадались презанятные рифмы, обычно матерного содержания. Или рисунки голых баб, с приписками типа: «У Аньки все лохматое…» Стишки Сереженька запоминал, чтобы при случае блеснуть, а картинки выбрасывал.
Написанное на этой салфетке не показалось официанту забавным, скорее наоборот. Переворот, танки…
И Сережа отнес салфетку администратору, Игорю Всеволодовичу.
– Тут вот… забыли… Игорь Всеволодович, – пробубнил дежурный и положил на стол скомканную бумажонку. – За пятнадцатым столиком…
Администратор неторопливо нацепил очки, прочел. Глянул на Сергея поверх оправы.
– Читал сам-то?
– Читал. Вроде и не в рифму. Мало ли…
– Это белый стих, дубина. Кто оставил?
– Андрей Андреевич оставили… – прогундосил Сереженька. – С журналистом каким-то обедали.
– Понятно. – Игорь Всеволодович спрятал бумажку в ящик. – Иди. Я разберусь. Спасибо.
Официант ушел.
Игорь Всеволодович достал салфетку, разгладил, подписал в углу: «Вознесенский А.А. 1982 г. Июль». Потом вложил эту бумажку в особую папочку, где хранились «всякие такие» записочки, по неосторожности оставленные посетителями ресторана.
А через пару лет грянула перестройка… И «всякие такие» записочки стали никому не нужны.
71
Хорхе Видела готовился к перевороту давно.
Не доверяя никому, он разрабатывал планы лично. Генерал точно знал, по каким улицам пойдет техника. Где и в какое время можно ожидать сопротивления. Что нужно взять под контроль. Какие узловые точки столицы контролировать. Видела заранее отобрал людей, которые будут претворять его планы в жизнь, и заранее подобрал других людей, которые в случае чего заменят первых. Времени у генерала было много, благо власть не интересовалась делами армии.
Первым делом в городе отключилась телефонная связь и прекратилось радиовещание. Телевидение как заведенное показывало только обращение генерала к народу. Видела призывал сохранять спокойствие, соблюдать порядок и не выходить из дома. Несколько танков встали на площади, напротив казарм национальной гвардии. Представитель генерала обратился к гвардейцам через мегафон и призвал их не поддаваться на провокации марксистов, засевших в правительстве, и не покидать казарм. К полудню на площади установили несколько железобетонных блоков, которые были оборудованы под пулеметные гнезда. Гвардия была блокирована, а больше оказать активное сопротивление было некому.
Президентский полк охраны разбежался.
Парламентариев заперли в зале заседаний. После того как некоторые депутаты попытались выломать дверь, солдаты пригрозили открыть огонь, и народные избранники успокоились.
Всем издателям было предложено воздержаться от публикаций каких-либо материалов, связанных с политическим моментом.
На всякий случай все типографии были взяты под контроль, персонал распущен по домам, а ворота опечатаны. Работали только подпольные печатные станки, которыми располагали монтонерос, но они опаздывали, безнадежно опаздывали.
В президентский дворец Видела явился лично. Изабелла Перон сказала только одно слово:
– Почему?
Она сидела за столом, сжав в руках бесполезный и молчащий телефон. Бледные губы. Стиснутые в кулаки руки.
– Сеньора, ваша власть завела страну в тупик. Вы не в состоянии вывести Аргентину из кризиса.
– А вы в состоянии?! – В голосе мадам президент прозвучали истеричные нотки.
– Да, – твердо ответил генерал. – Я в состоянии.
– Кровью?
– К сожалению, после того, что сделали вы… – Видела открыл дверь в кабинет, вошли двое офицеров. – Без крови уже не обойтись.
– Подлец.
– Гражданка Перон, вы арестованы.
– В чем меня обвиняют? – поинтересовалась Изабелла, поднимаясь из-за стола.
– В государственной измене.
В кабинете остро пахло сгоревшими бумагами. Диктатор открыл окно.
Удивительно, но в первые минуты переворота никто не пострадал. У гвардейцев хватило ума не высовываться. Президентский полк разбежался. А начальник полиции заявил, что его дело – ловить преступников, а не заниматься политическими интригами. Это было очень мудрое решение.
В принципе могла наделать шороху тайная полиция, но и она… решила не вмешиваться.
Переворот был произведен в считаные часы. Это был своеобразный марш-бросок генерала Виделы во власть.
И когда марксисты сориентировались, нашпиговали город листовками, призывающими опрокинуть диктатуру, строить баррикады… Было поздно. Эти листовки исчезли с улиц так же внезапно, как и появились. Жители сидели по домам, не зная, чего ждать от новой власти.
72
– Вся прелесть ситуации в том, что нам не нужно ничего делать. – Фон Лоос потер ладони.
Он стоял у окна, глядя на встающее солнце. На туман, из которого проступали очертания деревьев, сада. Барон не спал всю ночь. Однако усталости не чувствовал. В отличие от Генриха.
– Нам совершено нет нужды делать что-то! Только ждать, когда эта страна, как спелое яблоко, упадет к нам в ладони. Вы любите яблоки, Генрих?
– Я до сих пор не знаю, как их правильно есть.
– В смысле? – Фон Лоос удивленно обернулся.
– Как правильней – очищать их от кожуры или просто есть вместе с семечками. Как делали это у нас, в Мюнхене.
Фон Лоос захохотал.
– Как хотите, дорогой Генрих, как хотите! Мы будем есть это яблоко так, как нам того захочется! Может быть, – он схватил со стола серебряный ножик для разрезания бумаги, – может быть, сдерем с него кожу и разделаем на дольки! Или сожрем со всеми потрохами! Или станем поджаривать его на медленном огне! В этом прелесть власти, Генрих, прелесть власти. Делать то, что хочется делать, тогда, когда пришло желание!
– Вы исключаете из этой бочки меда ложку дегтя.
– Какую же?
– Ответственность.
– Пустая болтовня! – отмахнулся фон Лоос и засмеялся. – Вот чем вы мне нравитесь, Генрих! Вы мой адвокат дьявола. Я уже слышу, как вы бормочете: помни, Цезарь, ты смертен. Ха! Ответственность, друг мой, это уступка современного правящего класса пролетариям. Уступка, сделанная, чтобы предотвратить бунт. Быдлу скормили байку о том, что власть – это прежде всего ответственность. Этому поверили. Еще бы! Просто современный правящий класс не в состоянии держать пролетариев в подчинении. Не в состоянии! Поэтому вынужден идти на уступки. На самом деле власть – это прежде всего возможность делать все! Делать все! Как вам нравится? Дело плебса – стоять на коленях. Дело тех, кто правит, – властвовать. А дело императора – быть олицетворением власти. Которая может все.
Генрих внимательно слушал. Фон Лоос прохаживался по кабинету, толстый, надутый, возбужденный.
– А помните, – вдруг сказал Генрих, – как все начиналось? Веймарская республика, голодные дети, пустые заводы и рабочие, которые торчат перед воротами в ожидании возможности, просто возможности работать? Помните? И то, как от простого гриппа немцы мёрли подобно мухам, помните? И как фюрер кричал: «Я вытащу вас из этой грязи! И поведу вас к звездам! К звездам! Я дам вам работу. Много работы! Настоящей работы, которая имеет смысл!» Помните?
– Это трудно забыть… – уклончиво ответил фон Лоос.
– Я приверженец старой школы. Все, что мы делали когда-то, мы делали для своего народа. А не для власти. Зеботтендорфа интересует наука, если, конечно, тот концлагерь, который он у себя развел, можно так называть. Вас интересует бездна власти. А кого будет интересовать народ?
– Вас! – обрадовался фон Лоос, указывая на Генриха ножиком. – Вас, черт побери, кого же еще?! Я сделаю вас министром… Нет! Я сделаю вас Великим Защитником Народных Желаний! Или, там, Жрецом! Чем хотите! Пускайте вашу фантазию вскачь! И ведь вы правы, чертовски правы, мой друг! Народу нужна забота, нужна любовь. К тому же этим штучкам Зеботтендорфа я не слишком доверяю…
Генрих вымученно улыбнулся и вздохнул.
– Ну что ж, жрецом так жрецом…
Фон Лоос не услышал. Он был слишком увлечен ситуацией.
– Сейчас, Генрих, они все будут делать сами. Вот в чем прелесть, вот в чем интрига. Марксисты вцепятся в шкуру военных, армия задавит государство и возьмется вычесывать врагов. Все, что нам останется, это появиться в нужный момент и прибрать все это к рукам. А потом… Пророчество! – Он поднял руки вверх, словно призывая в свидетели богов. – Пророчество! И мир наш!
– Вы так серьезно верите в это?
– Нет! Конечно, нет, друг мой, я не верю. Я знаю. Мы никогда не были так близко… Даже когда Зиверс приволок это копье, даже когда мы нашли те чертовы руны, когда почти вышли на камни в Ливии…
– Про камни я помню. Копье даже видел. А что с рунами?
– Мутная история начала тридцатых годов. Наши археологи выкопали…
– Археологи?
– Ну, почти археологи. В общем, обнаружили какие-то железки, которые, как бы это вам сказать, имели некоторое влияние на реальность. Я тогда еще не занимался подобными проектами… Только читал архив.
– И что? – Генрих удивился. – Странно, что эта история прошла мимо меня.
– Ничего странного, там не было ничего, что можно было бы копать. – Фон Лоос усмехнулся. – Это направление довольно быстро свернули, хотя поначалу оно нам сильно помогло. Почему, вы думаете, Европа так легко легла нам в руки?
– Так в чем же проблема?
– Русские ухитрились раздобыть кое-что… Там, знаете, ребята тоже не дремали. – Фон Лоос раздраженно фыркнул. Старая история явно не доставляла ему удовольствия.
Генрих отвел глаза в сторону.
– Была экспедиция в Финляндию. Некоторые наши люди вернулись ни с чем, некоторые вообще не вернулись. Кое-кто притащил совершенно бесполезные камушки. В общем, в борьбе с русскими эти штучки нам ничем не помогли. – Он хлопнул ладонями. – Ну, да черт с ней, с этой историей. Важно то, что сейчас, друг мой, мы выкопали нечто уникальное! Настоящее! Идущее оттуда, от самих Древних! Так-то…
– Думаете, канал все еще работает?
– Работает, – серьезно ответил Лоос и вдруг сощурился. – Вы ведь не видели чаши!
– Не видел, – спокойно ответил Генрих.
– Пойдемте!
Фон Лоос кинулся вон из кабинета. Генрих едва поспевал за ним.
Они прошли по узким коридорам баронского дома, потом спустились в подвал. На Генриха пахнуло сыростью.
– Тут я храню вино… – Барон походя махнул рукой куда-то в сторону стеллажей с бутылками. – Неплохое, кстати.
– Я знаю.
Фон Лоос зажег факел. В ответ на удивленный взгляд Мюллера барон ответил:
– Вы сами все поймете. У вас есть что-нибудь электрическое?
– Н-нет…
– Возьмите. – Фон Лоос протянул Генриху фонарик. – Проверьте, чтобы избежать искушения заподозрить меня в мистификации. Проверьте!
Мюллер щелкнул выключателем. Вспыхнул свет. Затем он выключил фонарь, открыл корпус, придирчиво осмотрел батареи, лампочку. Все выглядело настоящим и действующим.
Фон Лоос наблюдал за его действиями с явным удовольствием.
– Восхищаюсь немецкой обстоятельностью.
Мюллер хмыкнул.
– Все в порядке…
– Тогда вперед. – Фон Лоос двинулся в глубь подвала.
Вскоре стеллажи с бутылками исчезли. Насколько доставал свет от факела, Генрих видел только каменные стены. Где-то далеко впереди гулко капала вода.
– У вас тут пыточные подвалы?
– Что? Знакомая атмосфера? – хохотнул фон Лоос.
– Напрасно иронизируете. Это дилетантский подход. Каземат не должен быть сырым, это место работы, а не антураж для съемок фильмов про инквизицию.
– Ладно-ладно. – Фон Лоос обернулся, и Генрих увидел, что тот улыбается. На какой-то момент улыбка показалась ему волчьей. – Вы первый начали про пыточную. И, к слову сказать, вы правы, современные заплечных дел мастера работают в лабораториях. Чистота, антисептики, санитарная обработка, стерильность. В наше время все эти палки, гвозди под ногти – это средневековье. Сыворотка правды! Гипноз!
– Далеко не всегда действуют… – пробурчал Генрих.
– Зато перфорация ротовой полости без наркоза работает безотказно. А для этого нужен инструмент, свет, белые халаты. Что ни говори, а наука двигает прогресс вперед. Как бы цинично это ни звучало.
Они прошли еще метров десять молча. Под ногами ощутимо хлюпало, и когда Генрих посмотрел вниз, он обнаружил, что его сандалии утопают в белесом отвратительном мху.
– Мерзость…
– Это точно, – согласился фон Лоос. – Раньше этой дряни тут не было. Она очень быстро распространяется.
– Погодите…
Мюллер включил фонарь. Осмотрелся.
Белый мох покрывал все вокруг. Стены, пол, низкий потолок. В ярком свете казалось, что маленькие усики шевелятся, будто черви или щупальца. Чувствуя, как к горлу подкатывает тошнота, Генрих выключил фонарь.
– Сначала я тоже чувствовал себя не очень хорошо, – посочувствовал фон Лоос. – Но потом вырабатывается привычка. Даже… чувствуется определенное удовольствие.
– Черт бы вас побрал, Лоос! Какое в этом может быть удовольствие?
– Не знаю, – честно ответил барон. – Это чувство не поддается логическому определению. Что-то звериное, наверное. То, что никак не вытравить из человеческой природы. Ну что? Вы удовлетворили свое любопытство? Можем двигаться дальше?
– А еще далеко? – осторожно поинтересовался Мюллер.
– Не слишком. И разве это что-то меняет?
– Пойдемте…
Когда Генрих сделал первый шаг, он почувствовал, с каким трудом дается ему движение. За подошвами тянулись белесые тонкие нити.
– Дьявол…
– Может быть, вы и правы, – неожиданно сказал фон Лоос. – Дьявол… Однако мне кажется, что это нечто более древнее, чем вся иудейская мифология. Древнее даже, чем Вотан.
– Куда уж? – Мюллер обернулся. Их следы тускло фосфоресцировали в темноте коридора.
– Не знаю. Но все же… – Фон Лоос помолчал и добавил непонятно: – Пучина. Бездна.
Они действительно шли недолго.
Вскоре под ногами снова застучал камень. Генрих удивленно обернулся. Посмотрел вверх, на пол… Чистый камень. Булыжники подогнаны друг к другу плотно. Никаких следов белесой мерзости.
– Мы пришли, – сказал фон Лоос. – В непосредственной близости от них мха нет. Как и всего прочего…
– Чего прочего? – с подозрением спросил Генрих.
– Ну… – Барон неопределенно пожал плечами, его мысли сейчас занимало что-то другое. – Вы ведь слышали про пищевую цепочку?
– Безусловно… – Генрих почувствовал, как мурашки пробежали по его спине. – А скажите, Лоос, кто построил этот подвал? Эти коридоры?
– Черт его знает, – беспечно ответил барон. – Но местечко удобное.
Несколько минут он возился с ключами. Наконец скрипнули петли.
– Заходите… Только не ударьтесь о притолоку.
Генрих пригнулся и бочком пробрался в небольшую комнатенку с высоким потолком. Тут так же, как и около двери, не было никаких следов мха и сырости. Воздух был свеж, холоден. И запах… Так пахло в горах и в поле после грозы…
– Что за черт? – пробормотал Генрих.
В комнатенке ощутимо пахло озоном.
– У вас тут вентиляция?
– Вы с ума сошли? Как вы думаете организовать вентиляцию в этом подземелье? Нет, мой друг… – Факел освещал Лооса и какие-то ящики, расставленные около стен. Барон подошел к центральному. Снова зазвенел ключами. – Прошу…
Генрих пригляделся.
В свете факела это более всего напоминало череп на тонкой-тонкой ножке. У черепа была срезана верхушка так, чтобы образовалась чаша. Желая лучше рассмотреть предмет, Генрих щелкнул выключателем фонарика. Ничего не произошло. Еще раз.
Фон Лоос ухмыльнулся.
– Ничего не получится.
Генрих разобрал фонарь, проверил батареи, снова попытался включить, но нет…
– Полное радиомолчание. Никаких электрических соединений. Ничего. Батареи исправны. Лампочка тоже. Когда выберемся из этой комнаты, все снова включится. Но до этого момента… ничего. Зеботтендорф их разве что не облизал. Но не смог даже понять, из чего они сделаны…
– Ну-ка… – Генрих подвинул факел ближе к чаше.
Череп только на первый взгляд был человеческим. Совсем другой. Совсем.
– Что это? То есть… Я хочу сказать, кто это?
– Не знаю. Как видите, пропорции больше, некоторые формы совершенно иные. Мы даже пытались воссоздать голову… Ну, знаете, как восстанавливают динозавров по костям. Однако и с этим вышел конфуз.
– То есть? – Мюллер осторожно рассматривал чашу.
– Специалист сошел с ума.
– Вот как?
– Именно так. Просто сошел с ума. Его нашли тут, на полу. Весь обделался и мычал. Нажрался своего пластилина, которым хотел лепить голову.
– Может быть… мистификация, подделка?
– Мы нашли ее там, в пирамиде. То, что этот объект не был знаком современным ученым, – факт. Когда мы прорвались через эти заросли, мох… – Фон Лоос закашлялся. – Кстати, то, что растет за дверями, тоже… Не совсем растения. У нашего Доктора есть мнение, что это какой-то защитный механизм чаш.
– Их много?
– Четыре. Каждая сейчас находится в специальном контейнере из свинца. Если вытащить все четыре, начнется такое светопреставление… Но свинец каким-то образом помогает. По крайней мере, мох растет не так быстро. Когда мы все-таки вошли в помещение, то потеряли треть команды разом.
Фон Лоос осторожно взял чашу и спрятал ее в сейф. Генрих отметил, что руки барона мелко-мелко трясутся.
– Нам надо идти. Человеку очень трудно находиться около этих предметов. Очень… А я провел тут слишком много времени…
В кабинете было тепло. Однако фон Лоос накинул на плечи шерстяной плед и сел в кресло.
Генрих наблюдал за ним с некоторой тревогой. После подвала барон резко переменился в настроении. Стал молчалив, хмур, под глазами обозначились темные круги.
– Чего мне тут не хватает, Генрих, – наконец сказал фон Лоос, – так это настоящего камина. Знаете, как в замке. Большой камин, чтобы в нем пылали огромные дрова и можно было подойти и протянуть к огню руки. Согреться. Это придает уюта. И эта природа. Все эти пальмы… Мне не хватает суровости севера. Горы. Заснеженные вершины. Снег. Ели. Когда все закончится, я переберусь куда-нибудь… Куда-нибудь, где похолоднее. И можно жечь камин круглый год. Пить горячее вино…
– Вы не спали всю ночь, Лоос. Отдохните. – Генрих встал.
– Я не спал уже пятые сутки, Генрих. И не буду спать еще черт знает сколько. – Барон пожал плечами. – Не знаю почему. Спросите у Зеботтендорфа.
– А я пойду. После того, что вы показали мне, я чувствую себя не в своей тарелке.
– Понимаю.
Генрих подошел к дверям. Потом остановился и спросил:
– Скажите, Лоос, а вы не боитесь, что путч провалится?
Барон скрипуче засмеялся.
– Нет.
73
– Вы нарушаете декрет о публичных выступлениях и демонстрациях! Повторяю! – орет в четыре железные глотки фургончик, спрятавшийся за двойным полицейским кордоном. – Вы нарушаете декрет о публичных выступлениях и демонстрациях! Все собравшиеся на площади должны разойтись по своим домам. В противном случае будет применена сила!
– Работу и свободу! Работу и свободу! – неслось с площади. – Чили не пройдет!
Там, перед оцеплением, волновалось людское море.
– Работу и свободу! Работу и свободу!
Фургончик поперхнулся. Заглох.
Аугусто Рикас, старый и толстый, открыл дверь, выбрался наружу из прокуренной духоты.
– Черт знает что… – Он откашлялся, сплюнул на мостовую. Закурил. – Дурная работа.
– Радуйся, что такая есть, – ответил стоящий рядом лейтенант. – А то бы торчал вот там…
И он ткнул пальцем на площадь.
– Я вообще-то спортивный комментатор, – пожаловался Аугусто.
– Да? – Лейтенант оскалился. – Много ты матчей видел в последнее время?
– Нет. – Рикас покачал головой и снова прочистил горло. – Душно там… Чего они хотят?
– А то ты не слышишь? Работы хотят и свободы. Можно подумать, их кто-то держит… Требования какие-то передали.
– Требования?
– Ну да. Бумажки.
– И что?
Лейтенант косо посмотрел на Аугусто и ответил чуть презрительно:
– Послал я их куда подальше.
– Это куда же?
– К майору! – Лейтенант захохотал. – Не мое это дело, бумажками заниматься.
– Жалко. Интересно все же… Чего они хотят? Ну там, понятно, работы, свободы, но конкретно что? А то ведь собрались, кричат…
– Марксисты, не иначе. – Лейтенант жестом попросил у Рикаса закурить. Тот покрутил головой:
– Последняя…
– Да? Катись тогда к себе в вагончик! Тебе не за болтовню платят!
– Это как посмотреть, – проворчал Аугусто, но полез обратно.
– Вы нарушаете декрет…
А там, за оцеплением, звенели стекла витрин. И в первые ряды выбирались люди покрепче. Откуда-то передавались по-над головами длинные штакетины, которые выставлялись вперед, словно пики. Несанкционированную демонстрацию полиция остановила на подходе к бульвару Независимости. Впрочем, сейчас все демонстрации были несанкционированными, поскольку первым же декретом новая власть запретила любые общественные сборища. Толпа попыталась прорваться, но крепкие парни в форме ощетинились дубинками, и люди откатились назад. Теперь же дело явно шло к повторному штурму.
Лидеры передали лейтенанту свои требования, как в письменной, так и в устной форме. На что лейтенант, как и было сказано выше, послал их официально к майору, а неофициально к такой-то матери. Майор бумажки принял, и вскоре они оказались на площади Колон.
Полиция готовилась ко второму штурму и нервно ожидала водометы, которые застряли где-то на выезде. То ли не было воды. То ли какая-то авария.
– Работу и свободу! Работу и свободу!
Зазвенела витрина. На асфальт перед демонстрантами полетели стулья, кресло. Видимо, пострадала мебельная лавка. Ножки от столов быстро разошлись по толпе в качестве импровизированных дубинок.
– Работу и свободу! Работу и свободу!
Откуда-то из дворов была прикачена огромная бочка. Упал фонарный столб. Из задних рядов, раздвигая толпу, выкатилась легковушка. Бойкие ребята с засученными рукавами грамотно развернули ее поперек и принялись раскачивать под неумолкающее:
– Работу и свободу!
Громкоговоритель умолк в очередной раз. Потный, в расстегнутой рубашке, Аугусто снова выполз наружу.
– Не могу больше… Глотку перехватывает… – Он сложил пополам листок с текстом и принялся обмахиваться им, как веером. – Что там? Машину выкатили?
– Выкатили, – все тот же лейтенант зло прохаживался за спинами своих подчиненных. – Выкатили. Догадайся, куда они слили из нее бензин?
– Куда?
Лейтенант зыркнул на комментатора и ничего не ответил. В отличие от Аугусто Рикаса, он знал, что такое «коктейль Молотова», не понаслышке.
– Сейчас, поди, ихние бабы свои трусы на фитили переводят…
– Да ну! – Аугусто заулыбался. – Что ж, так и будут без трусов?
– А то! Это ж особый кайф у них. Чтобы бутылкой с трусами своей бабы шарахнуть… Кураж такой вроде. Чего лыбишься?
– Да представляю, как они там. Без трусов-то!
– Да никакой разницы. Марксисты и есть. – Лейтенант сплюнул и заорал надсадно: – Чего топчетесь?! Ровно стоять! Щиты перед собой, собаки! Не опираться на край, зубы лишние есть? Опустить забрала!
Аугусто уважительно покосился на него.
– С твоей глоткой на стадионе хорошо.
– С моей глоткой везде хорошо…
Сзади к демонстрантам с рыком подъезжал легкий грузовик. Он остановился в толпе. Стоявшие в кузове люди начали раздавать обрезки арматуры, железки, палки. Водитель, стоя на ступеньке кабины, о чем-то ругался с кем-то из организаторов. Наконец несколько крепких рук вцепились в водителя и выволокли его наружу. За руль тут же прыгнул кто-то из своих. Машина угрожающе взревела.
– Ага… – рассудил Аугусто и забрался в свой фургончик. Но не внутрь, а на место водителя.
Лейтенант проводил его завистливым взглядом и сплюнул. Он тоже сейчас хотел бы убраться подальше.
– Прошу, господа. – Генерал Видела кинул на стол несколько отпечатанных листков. – Ознакомьтесь.
– Что это? – Министр экономики подтянул к себе листок и подслеповато вгляделся. Остальные, привстав, заглядывали через его плечо.
– Это, господа, требования. То, чего хотят от нас господа марксисты.
– И чего же они хотят? – поинтересовался Доминик Фернандес, глава тайной полиции. Он сидел развалясь, широко расставив жирные ноги. Его фигура, обрюзгшая, расплывшаяся, вызывала у генерала омерзение.
– Вообще-то это должны были сказать мне вы. – Видела стоял, отвернувшись к окну.
– Они же не присылают мне своих требований, – улыбнулся Доминик.
Генерал покосился в его сторону, но промолчал.
– Итак, господа, что же мы будем делать? – обратился он ко всем собравшимся. – Я позвал почти весь старый правительственный кабинет. И хочу услышать ваше мнение.
– Поорут и разойдутся. – Доминик Фернандес улыбнулся жирными губами. – Такое и раньше бывало. Зря вы их остановили.
– Надо было пропустить к президентскому дворцу?
– Такое уже было.
– Хорошо. Какое еще есть мнение?
– Мое дело – экономика… – Министр экономики отодвинул от себя листки.
– Которой нет! – прорычал Видела. – Нет вашей чертовой экономики! А есть толпа людей, которые верят не вашим россказням, а марксистам. Вы вчитайтесь, вчитайтесь! Фабрики рабочим! Вот что они хотят…
В кабинете царила тишина. Наконец Видела повернулся к собравшимся.
– В общих чертах я понимаю ваше молчание как согласие с Домиником Фернандесом. Он же свою точку зрения выразил со всей определенностью.
– Не совсем так, – подал голос министр внутренних дел. – Там мои люди. Они удерживают толпу, согласно вашему распоряжению. И я бы предложил разогнать демонстрацию. Но у меня нет на это сил.
Видела посмотрел ему прямо в глаза.
– Силы будут.
Он нажал на столе скрытую кнопку. Двери со стуком распахнулись. На пороге стоял отряд солдат.
– Арестуйте этих господ, – распорядился Видела.
Когда возмущенных министров вытолкали прикладами в коридор, генерал поднял телефонную трубку.
– Полковник… Вы можете начинать.
Аугусто Рикас споро развернулся и двинул на своем фургоне подальше от полицейской линии. И едва успел затормозить, когда дорогу ему преградила махина пожарной машины. Водитель зло прогудел и замахал руками.
– Святая дева Мария, – бормотал Аугусто, забыв с перепугу, где находится задняя передача. В конце концов ему удалось отъехать назад и пропустить два бронированных водомета.
Не в силах победить собственное любопытство, Рикас остановил фургон в зоне прямой видимости от места событий и забрался на крышу.
К оцеплению сзади подошли водометы. Из бронированных пожарных машин выпрыгнуло десятка два человек подкрепления. Кто-то достал ручной мегафон и принялся орать на демонстрантов. Аугусто ощутил укол ревности и уже собрался спрыгнуть, чтобы вернуться к своим обязанностям, как вдруг произошло нечто ужасающее.
Со стороны демонстрантов раздались крики. Потом рев мотора. Аугусто как раз слезал со своего фургончика и не видел подробностей. Когда он поднял голову, на полицейское оцепление несся объятый пламенем грузовик.
Аугусто видел, как разбегаются в разные стороны черные фигурки полицейских. И как из одного водомета бьет струя воды, точно в лоб несущемуся автомобилю. Видимо, кто-то там, в пожарной машине, решил сбить пламя. Тщетная попытка!
Грузовик врезался в заграждение, как таран.
Пламя жарко взлетело к небесам. Из кабины водомета выпрыгнула объятая огнем фигура. Покатилась по асфальту.
Толпа с ревом кинулась вперед.
Полиция попыталась вернуться на место, окружить единственный действующий водомет. Прочертили дымные траектории шашки со слезоточивым газом.
Но поздно!
Толпа ревущих людей захлестнула щиты, опрокинула. Кто-то принялся неистово раскачивать водометную машину. Уцелевшие полицейские собрались в каре, отступая к выходу с улицы. В них полетели камни, бутылки с зажигательной смесью. Рванули первые «торпеды», старавшиеся пробить стену щитов.
Аугусто Рикас терзал зажигание фургончика и никак не мог завести мотор. Никогда еще в жизни Аугусто не испытывал такого ужаса. И когда дверь его автомобиля распахнулась, он завизжал от страха, как женщина.
Его схватили крепкие руки. Ничего не видя и не слыша, Аугусто кричал и брыкался, но его выволокли на асфальт и отшвырнули в сторону. Над головой оглушительно загрохотало. На миг наступила тишина, и кто-то гаркнул:
– Даю вам пять секунд. После этого вы все объявляетесь вне закона! Говорит полковник вооруженных сил Хулио Алказар. У меня есть приказ стрелять!
Аугусто не решался открыть глаза, только сжался в комочек и обхватил голову руками.
– Раз!
Это работала его машина, кто-то, вероятно сам полковник, говорил в микрофон.
– Два!
Лопнула неподалеку бутылка. Аугусто окатило жаром пламени, но он все равно не открыл глаз.
– Три!
Через плотно зажмуренные веки по глазам ударила вспышка света. Аугусто, не зная того, вошел в историю. Его снимок, фотография маленького человека, лежащего в позе зародыша у солдатских ног, обойдет весь свет.
– Четыре!
Рикас услышал, как лязгнули затворы. И от этого тихо завыл. Он не видел, что в солдат, рассредоточившихся по улице, летят камни, арматура и коктейли Молотова. Пять секунд, щедро выделенные полковником Алказаром, демонстранты потратили не зря. Они отошли за полыхающие машины и убрали подальше женщин и молодежь.
– Пять!
Полковник поднял руку. Аугусто открыл глаза, в ужасе оглядываясь вокруг. Он видел только сапоги, зеленую одежду и собственную машину. Свой родной фургончик.
– Огонь!
Полковник Хулио Алказар за разгон этой манифестации получит орден. В результате столкновения с демонстрантами погибнет один солдат, семь полицейских и сорок пять мирных жителей, в том числе женщин и детей. Пути к отступлению будут отрезаны, поэтому вскоре митингующие окажутся в кольце. Сумевших вырваться будут отлавливать армейские патрули. Из всех ушедших из дома в тот день вернутся обратно только три человека.
С этого дня в Буэнос-Айресе будет объявлен комендантский час.
Техническая школа Военно-морского флота, спешно переоборудованная в тюрьму и фильтрационный центр, примет в этот день своих первых заключенных.
В тот день писатель и публицист Лара Рауль скажет, что все люди вокруг в единочасье сошли с ума.
Он будет прав.
74
– Я что-то пропустил? – поинтересовался Ловега, когда Антон вошел в палату.
Около его кровати сидели хмурые парни, которых Ракушкин видел с ним в первый день знакомства.
– Очень многое. – Антон присел на подоконник. В приоткрытое окошко задувал свежий ветер. В палате было прохладно. – Не замерзнете?
– Можете не беспокоиться. – Рауль лежал неподвижно, как лежат инсультники.
– Прежде всего я хочу представить вам моего друга и помощника. – Антон кивнул в сторону Таманского. – Это Константин. Он тоже из Союза и находится в курсе дела.
Ловега покосился на Костю и едва заметно кивнул.
– Хорошо. Можете без предисловий тоже вводить меня в курс дела. Мне рассказать вам нечего. У меня такое чувство, что я заснул, а проснувшись, обнаружил, что почти не могу двигаться, все тело болит и я не могу даже под себя сходить. Никакого света в конце туннеля я не видел и голосов не слышал. Так что теперь рассказывайте вы.
– Хорошо. Прежде всего, в стране военный переворот. – Антон посмотрел на часы. – Через два часа наступит комендантский час.
– Кто у власти? Что с президентом?
– Диктатором объявил себя генерал Хорхе Видела. Очень деятельный человек. О судьбе Изабеллы Перон я ничего не знаю. Скорее всего она жива. И, видимо, в тюрьме. Это, так сказать, общие новости. Теперь по нашим делам. Я прошел не по всему вашему списку. Однако того, что я видел, мне хватило.
– Так-так…
– Видимо, кто-то, и я предполагаю кто, прошелся по этому списку до меня. Фактически все лидеры подпольных групп, те, кто входил в Комитет, убиты. Гонсалес, Вольке, этих видел сам. О Крепком Эрнесте читал в газетах. За то, что ты жив, можешь благодарить только своих людей, которые не покидали больницу, и собственную кому. Те, кто убрал Комитет, явно не надеялись на то, что ты очухаешься.
– Кто жив? – прохрипел Рауль.
– Жив? – Антон улыбнулся. – Я понимаю, о чем ты думаешь. Но дело тут, как мне кажется, гораздо сложнее. Жив, конечно же, Кристобаль Бруно. Который сейчас возглавляет сопротивление. Его ребята организовали на днях манифестацию с погромами, против них были выпущены войска, есть множество убитых. Сегодня, видимо в ответ, взлетела на воздух машина с солдатами, которые собирались в увольнительную.
Рауль тихо застонал.
– Город засыпан листовками и наводнен патрулями. Самое удивительное, что в борьбу включились все. Если раньше на идею революционной борьбы население плевало, то сейчас будто плотину прорвало. Люди разделились – на тех, кто поддерживает власть, и на тех, кто готов кидать бутылки с зажигательной смесью. Патрули гребут всех. Нас с Константином пока спасают только бумажки из посольства. Но боюсь, что это ненадолго. Мне уже было предложено сворачивать работу.
– Что же вас удерживает?
– То, что я узнал.
– Поделитесь?
– Слишком долго рассказывать. Главное – то, что происходит сейчас в Аргентине, коснется всего мира. То, что делается сейчас, это только модель. Отработка эксперимента. Именно из Буэнос-Айреса эта чума начнет расползаться дальше и дальше… Самым простым способом сейчас было бы подвергнуть Аргентину атомной бомбардировке. Но я думаю, что это невыполнимо. Поэтому придется двигаться более долгим путем.
– Я плохо вас понимаю.
– Вы мне не поверите все равно. Но факт, что я все еще тут, сам по себе должен кое о чем говорить.
Рауль молча рассматривал Антона.
– Но относительно вас, Рауль, у меня есть кое-какие планы.
– Я разбит параличом, если вы не заметили.
– Но голова-то еще работает?
– Возможно. – Ловега покосился на столик, и сидевший рядом человек тут же подал ему стакан воды.
– Этого вполне достаточно. Дело в том, что кто-то должен возглавить подполье после смерти Кристобаля.
Рауль молчал.
– Это должен быть человек, который может остановить войну с новой властью на условиях, выгодных самой власти.
– Это как же?
– Сейчас монтонерос – подонки, которые устраивают взрывы, погромы и теракты. Так вы выглядите в глазах общественности. Недавняя манифестация тому примером. Власть будет вынуждена, повторяю, вынуждена развязать ответный террор. И помочь вам в вашей борьбе будет некому. Даже соцстраны не станут мараться помощью террористам и бандитам, которые прикрываются марксистскими идеалами. Вы останетесь в изоляции и неминуемо будете раздавлены хунтой. Пока из живых лидеров остались только вы и Кристобаль.
– Да, но я не могу руководить из больницы.
– Это не проблема. – Антон пожал плечами. – У вас есть надежное место?
– Найдется.
– А прикормленный доктор?
– Конечно. В моем возрасте это полезно.
– Отлично.
Через пятнадцать минут они катили тележку с Раулем по больничному коридору. Тележка была старая, железная. Таманский решил, что Антон взял ее в морге. Колесики грохотали и вращались с ужасающим визгом. Из палат выглядывали редкие больные. Наконец выскочила медсестра.
– Что происходит?!
– Поднажмем, – сказал Антон, и процессия ускорилась.
– Стойте! – Медсестра побежала следом.
Когда они выскочили в вестибюль, дорогу им преградил охранник.
– Не останавливаемся!
Отчаянно грохочущая тележка едва не сбила парня с ног, толкнула дверь и оказалась на улице. Антон задержался.
– Сеньоры и сеньориты! – Он поднял вверх руку. – Прошу без паники! Вас только что покинул пациент, который мог причинить вам множество хлопот. Счет в больничную кассу будет оплачен своевременно.
Он выскочил за дверь, чтобы запрыгнуть в подъехавший автомобиль.
– Послушайте, Рауль, мне нужно десять человек. Надежных, как… Как скала!
Ловега, лежавший на заднем сиденье, прохрипел:
– Найдется! Если выберемся, то найдется!
Машина колесила по улицам Буэнос-Айреса.
– Как стало пусто, – обратил внимание Таманский. – Раньше тут всегда были пробки. Или я ошибаюсь?
– Не ошибаетесь! – почему-то радостно сообщил Антон. – Угроза попасть под комендантский час положительно сказывается на дорожном движении. Вы, кстати, запоминайте, запоминайте! Получится замечательная статья!
Они говорили по-русски, Антон обратил внимание, что Рауль жадно вслушивается в звуки незнакомой речи, и пояснил:
– Мой друг удивляется тому, что нет пробок. Военные справились с проблемой движения!
Ловега слабо улыбнулся.
– Кстати, как вы считаете, ваш друг Джобс все еще тут или уже смылся?
– Почему вы спрашиваете?
– Очень странный тип, я все гадаю, будет он участвовать в предстоящей игре или нет.
Таманский пожал плечами.
Машина направлялась к северному выезду из города.
– Кстати, Рауль, вам этот автомобиль дорог?
– Не слишком. Он краденый.
Антон понимающе кивнул.
– Вы мне чем-то напоминаете главу банды. Эдакого босса мафии, как его принято изображать в американском кино.
– Я иногда думаю, – Ловега дышал тяжело, с присвистом, – что между нами нет никакой разницы. Просто на каком-то этапе наши интересы расходятся.
– Ваши интересы с мафией?
– Да, конечно. Нам обоим не нравится нынешняя власть. Но цели у нас разные. Революционер мыслит шире.
Впереди показался блокпост. Деревянные ежи, обмотанные колючей проволокой. Из мешков сложено пулеметное гнездо, ствол смотрит куда-то в небо. Трое солдат скучают около шлагбаума. Когда показался автомобиль, они оживились. Двое взяли винтовки на изготовку, третий полез за мешки.
– Подбавь газу! – крикнул Антон и высунулся в окно. – ПОМОГИТЕ! ПОМОГИТЕ!
– Что он делает?! – Таманский придерживал совсем взбесившегося товарища.
Рауль начал издавать странные лающие звуки. Костя с трудом понял, что это смех.
– ПОМОГИТЕ! – надрывался Ракушкин и размахивал какой-то тряпкой. – Солдаты армии Аргентины, помогите нам!
Машина на огромной скорости приближалась к блокпосту. Из-за мешков выскочил сержант. Он что-то орал солдатам, размахивал руками, и Таманский понял, что сейчас произойдет. Он завопил и потянул Антона внутрь.
Солдаты вскинули винтовки. Машину метнуло вправо. Затем влево.
Лобовое стекло разлетелось на мелкие кусочки, на Таманского навалился Антон. Под Костей что-то хрипел Ловега.
Автомобиль метался по трассе, как безумный. Потом раздался оглушительный треск, что-то грохнуло. На какой-то момент машина зависла в воздухе. Таманский зажмурился, всем телом ощущая, как его ломает о все углы, бьет о крышу… Но нет! Автомобиль бахнулся днищем и, надсадно рыча мотором, понесся дальше.
Что-то пару раз ударилось в багажник сзади, словно камешки из-под колес. Сильный ветер гулял по салону.
Таманский поднял голову.
– Рауль, вы живы? – поинтересовался Антон.
– Кажется, – прохрипел Ловега. – Если доеду до точки назначения, то буду жить вечно. Вы псих, сеньор Ракушкин. У вас не все дома!
– Иногда. – Антон обессиленно откинулся на сиденье. – Но не сегодня. Блокпост с деревянным шлагбаумом, без бронетехники, с одним пулеметом и солдатами, которые и на стрельбах-то бывали хорошо если один раз. Погодите, через неделю из Буэнос-Айреса мышь не выскользнет. Железобетонные блоки. БТР. Увеличенный офицерский состав. Рауль, армия не готова воевать. Если бы не сержант, нас бы вообще пропустили без единого выстрела. Пулеметчика трясло вместе с пулеметом… о чем вы говорите? Но есть один печальный момент. Машину надо бросать. Погоня будет.
Водитель прижался к правой обочине. Остановился.
– Так, аккуратно вытаскиваем Рауля… – распорядился Антон. Но водитель не пошевелился.
– Вытаскивайте сами, – сказал он тяжело. – Я поеду дальше и уведу их далеко. Эти места я знаю. Носилки в багажнике. Я уеду на запад, а вы идите к морю. Там деревня.
Таманский увидел, что парень прижимает к груди руку. Из-под плотно сжатых пальцев пробивалась кровь.
75
В Буэнос-Айрес возвращались уже вечером, почти в полной темноте.
Антону удалось уговорить какого-то индейца отвезти их в город. Старик спрятал деньги в карман поношенных брюк и ушел в сарай, который, видимо, служил ему гаражом. Изнутри донесся рык, потом выстрел, потом все стихло.
– Он там кого-то убил? – спросил Антон Таманского.
– Меня не спрашивай.
Через некоторое время рык повторился. Поднялся до рева, потом стал стихать и перешел в голодное урчание. Вспыхнул свет, и наружу выехал, покачиваясь на рессорах, здоровенный пикап. Машина постоянно норовила заглохнуть, и индеец часто подгазовывал.
– Ого, – прошептал Таманский. – У моего деда такая стоит. В деревне. Только не заводится уже. Лет сто.
Антон легко запрыгнул в кузов, подал Косте руку.
– Залезайте.
Автомобиль тронулся. Его подбрасывало и трясло даже на самых мелких камешках. Косте приходилось цепляться за поручни изо всех сил, чтобы не вылететь наружу.
– В город нас не пустят, – прокричал Антон, стараясь перекрыть рев двигателя. – Попробуем обойти блокпост.
– Не проще ли было пересидеть в деревне?
– Нет.
Таманский пожал плечами.
– Мне нужно домой, – неожиданно для самого себя сказал он.
Антон кинул на него непонимающий взгляд.
– Я имею в виду… – замялся Таманский. – Туда… Где я жил… в Буэнос-Айресе.
Ракушкин молчал, ожидая продолжения.
– Там меня ждут.
Костя вдруг понял, что слово «дом» у него теперь ассоциируется только с одним местом. С квартирой Маризы.
– А кто вас ждет дома? – спросил Ракушкин и поправился: – Я имею в виду в Союзе.
Таманский задумался.
Машина вышла на шоссе. Трясти стало меньше. Холодный ветер забирался под пиджак. Костя поднял воротник, скрестил руки на груди, чтобы хоть как-то согреться.
– Да никто…
– Жена? Дети?
– Детей нет. И не будет. Жена… – Костя пожал плечами.
– Понимаю. А тут?
Костя молчал. Ракушкин внимательно разглядывал его лицо.
– А знаете, – вдруг сказал Антон, – может ведь случиться, что… Что вы умрете. Погибнете.
Таманский посмотрел в глаза Антону.
– Понимаете, о чем я говорю? В Аргентине вот-вот разразится гражданская война. И мало ли что может случиться. Вы и сами отлично понимаете, что будет, если вы просто не вернетесь. Но если вы погибнете, все получится иначе.
– А ведь может случиться так, что и тела не останется… – пристально глядя Ракушкину в глаза, сказал Костя. – Граната там…
– Или болото, – кивнул Антон.
Пикап подкинуло на какой-то яме. Костя сильно ударился затылком.
– Черт!
– Уже недолго. По моим прикидкам, скоро будет блокпост.
И действительно, индеец вскоре остановил машину. Пикап затормозил с диким скрежетом, пару раз дернулся и застыл. Фары погасли. Дорога погрузилась в темноту.
Ракушкин выскочил из кузова, следом выбрался Таманский. Они отошли от дороги подальше.
– Почему он стоит? – шепотом спросил Костя у Антона.
– Пережидает, – ответил Ракушкин. – Может быть, думает, что свет фар могли заметить с блокпоста. Не знаю.
Антон двигался в полной темноте, будто у него были глаза кошки. Шел уверенно, перепрыгивал через ямы, обходил препятствия. Таманский же путался в траве, то и дело спотыкался, чертыхаясь, падал.
– Сколько вы знаете примет? – вдруг поинтересовался Антон.
Таманский растерялся.
– Не считал. Кошки там, черные… Перед грозой утопленники всплывают.
– Понятно. Вот вам еще одна, современная. Если города не видно, значит, в стране переворот. – Ракушкин тихо засмеялся.
– Не понял.
– Зарева нет. Такой огромный город, как Буэнос-Айрес, всегда оставляет в небе зарево. Улицы, дома, вывески. А сейчас – нет.
Таманский хмыкнул.
– А вот я знаете что про кошек слышал… – Начал было он, но тут едва заметный силуэт Ракушкина нырнул вниз, а в лицо Косте ударили яркие огни.
– Стоять на месте! – заорал кто-то. – Руки за голову! Руки за голову!
Таманский, ослепший и испуганный, заметался. Дернулся в одну сторону, в другую. Отовсюду бежали люди и слепили яркие огни.
– Стоять!
Что-то твердое с хрустом вломилось ему в подбородок. Из глаз посыпались искры, и Костя рухнул на спину, закрывая голову руками от ударов, которые сыпались на него, казалось, со всех сторон.
– Лежать!
Его пару раз пнули, потом перевернули на живот, скрутили руки за спиной. После этого кто-то ухватил Таманского за волосы и заломил голову назад. Яркий свет ударил в лицо.
– Я советский гражданин, – прохрипел Костя. – Вы не имеете права!
Ему тут же сунули кулаком в зубы. Рот наполнился кровью.
Вокруг лопотали по-испански. Таманского быстро и сноровисто обыскали. Выгребли из карманов какую-то мелочь, документы и пистолет. За последнюю находку Костя получил еще пару пинков под ребра. Наконец его подняли под локти и куда-то поволокли. Он пытался идти сам, но после хорошо поставленного удара под ребра больше не рыпался и висел мешком. Таким же мешком его бросили у колес машины и оставили.
Таманский, повозившись в пыли, сумел сесть и прислониться спиной к колесу. Огляделся. Рядом стоял солдат с американской винтовкой и фонарем. Около переднего колеса лежала еще одна человеческая фигура, грязная, в крови и свернувшаяся калачиком.
– Антон? – позвал Таманский.
Солдат что-то рявкнул и пнул Костю в бок.
– Молчу, молчу… – пробормотал Таманский.
Он осматривался кругом, стараясь запомнить все. Машины, форму солдат, все, что попадало в небольшой круг света от фонарика постового.
Наконец к Косте подошел офицер. Он присел на корточки напротив Таманского и рявкнул:
– Имя!
– Константин Таманский. Я советский гражданин.
– Марксист?!
– Нет. Я советский подданный. В моих документах записано…
– Что ты тут делаешь? Почему у тебя вооружение?! – Английский у этого усатого кабальеро был настолько ужасен, что Костя с трудом понял, о чем речь.
– Пистолет… Пистолет… Не мой! – Эта нелепая отмазка пришла в голову неожиданно. – Я подобрал его на дороге. Там. Он не мой. Я хотел сдать его властям. Отведите меня в комендатуру! Я имею важную информацию…
Краем глаза Таманский увидел, что лежащего рядом парня перевернули и куда-то поволокли. Костя повернул голову. И, несмотря на окровавленную маску, узнал этого человека. Индеец, подвозивший их…
Неподалеку заработал двигатель. Включились фары. Офицер ударил Таманского по щеке:
– Смотреть сюда! Ты марксист?! Ты коммунист?!
– Я гражданин Советского Союза! Отведите меня к коменданту. У меня важная информация.
– Молчать! Долбаный марксист! – Офицер снова отвесил Таманскому пощечину. Почему-то эти удары, не такие уж и сильные, казались Косте особенно неприятными, оскорбительными до слез. Было мерзко.
Костя видел, что избитого до полусмерти индейца поставили на колени в освещенном фарами кругу.
– Ты его знаешь?! – орал офицер. – Отвечай! Ты его знаешь?! Кто это? Марксист?!
– Я не знаю его! – закричал Таманский. – Я не знаю его! Я заблудился! У меня важная информация! Это не мой пистолет! Я гражданин Советского Союза!
Горло перехватило, Костя почувствовал, как слезы потекли по его лицу.
– Я гражданин… Советского Союза!
Офицер посмотрел на Таманского со смесью презрения и отвращения. Потом рывком поднялся и махнул кому-то рукой.
В тот же миг машина, освещавшая стоявшего на коленях индейца, взревела мотором и дернулась вперед. Хромированная, сверкающая в свете фар решетка ударила человека, подмяла под себя. Под колесами автомобиля омерзительно захрустело. Раздался резкий чавкающий звук, будто лопнул мешок с чем-то жидким и вязким. Костя изогнулся в рвотной конвульсии, жалея только, что не получается наблевать на сверкающие лакированные ботинки того офицера, и завалился на бок.
Его подхватили крепкие руки солдат. Подняли на ноги. Какой-то расторопный молодец пару раз ударил его в солнечное сплетение. После чего Таманского, начисто лишенного возможности дышать, бросили на заднее сиденье джипа.
76
Таманский открыл глаза.
Первым, что он увидел, был крупный коричневый таракан, который полз в нескольких сантиметрах от его лица. Некоторое время Таманский тупо рассматривал насекомое, не осознавая, где находится и что делает. Чувства медленно возвращались к нему. Вместе с чувствами вернулась и боль.
Таманский застонал и попытался встать.
Каменный пол, на котором он лежал, был влажным. Одежда отсырела. Все тело била мелкая колючая дрожь.
Костя приподнялся на четвереньки и застонал от боли. От долгого лежания на холодном полу суставы как будто одеревенели. Тело едва слушалось.
После нескольких попыток Таманский, шатаясь, поднялся на ноги и огляделся.
Все камеры так или иначе похожи друг на друга. Нары. Вонючая дыра в полу. Маленькое окошко где-то под потолком. И сырость.
Костя находился в городской тюрьме. В относительно мягких условиях. По крайней мере, в одиночной камере он был один. И городская тюрьма более подходила для заключения, чем стадион или техническая школа, где люди задыхались в узеньких клетушках.
Таманский постарался припомнить вчерашний день. Как они пробирались через ночь. Потом как их арестовали и долго били. Кажется, дубинками. Разве это было вчера?
Костя находился в тюрьме несколько дней. Он уже плохо различал день и ночь. Исхудал. Тело постоянно болело от побоев.
Иногда к нему в камеру заходили люди, говорившие по-испански, и чего-то требовали от него. Не получая ответа на свои вопросы, они били Таманского резиновыми дубинками, бросали на пол тарелки с какими-то объедками и уходили.
На все вопросы Таманский твердил одно: «Я советский гражданин. Я требую встречи с консулом. Я советский гражданин…»
Его не понимали.
Костя добрался до нар, сел, потом откинулся на спину. Тут было хотя бы не так сыро.
Сколько он провалялся в полубессознательном состоянии, сказать было трудно. В этом месте время не имело никакого значения.
Наконец загремел замок. Железная дверь распахнулась. И Таманский сжался в комок, понимая, что сейчас будет.
– Я советский гражданин… – шептал он, как заклинание. – Я советский гражданин…
– Господин Таманский? – услышал он английскую речь.
– Да? – ответил Костя, не разжимаясь.
– Меня зовут Хуан Фернандес. Я начальник тюрьмы. Хотите мне что-то сказать?
– Я требую встречи с консулом.
– Все так говорят. Сначала попадают к нам, а потом требуют консула… Не находите, что это смешно?
Таманский покачал головой.
– Вы говорили при задержании, что имеете информацию. Я готов вас выслушать.
– Эта информация касается, – Костя поднял голову и посмотрел на вошедших людей, – касается людей из правительства. Я передам эту информацию только людям из правительства. Я советский гражданин. Я требую встречи с консулом.
– Тут нет другого правительства, кроме меня. – Фернандес улыбнулся. Ухмылочка получилась жесткой, злой. – Но все-таки скажите, господин Таманский, какого рода эта информация?
– Монтонерос. Подполье. Террористы.
Стоявший рядом с директором тюрьмы человек дернул желваками и покосился на Фернандеса. Тот, в свою очередь, произнес пару слов на испанском.
– Передайте эти данные мне, и я передам их дальше. Обещаю, они дойдут до адресата. А ваша участь будет значительно облегчена.
– Нет.
– Вас перестанут бить.
– Нет. Я вам не верю. Меня задержали незаконно, – гнул свою линию Таманский.
– Вы шпион, Таманский. – Фернандес снова улыбнулся. – К шпионам у нас в Аргентине относятся очень плохо. Завтра вас переведут в другое место, которое очень не похоже на эти гостеприимные стены.
– Я требую встречи с консулом. Я не шпион. Я журналист.
В камеру вошли люди, которых Костя знал в лицо. Он сжался, закрыл голову руками и закричал.
Сознание Таманский потерял не сразу. Его еще некоторое время топтали ногами.
Когда Костя открыл глаза, все тот же таракан, похожий на маленькое чудовище, медленно полз куда-то по своим делам.
«Сегодня меня убьют, – скользнула отчетливая мысль. – И все кончится».
Таманский перевернулся на спину.
Видимо, за ним наблюдали, потому что сразу же загремел замок и распахнулась дверь. В камеру вошли двое в военной форме. Молча подхватили Костю под руки, нацепили на голову мешок и выволокли наружу. Там Костю поставили на ноги и, подталкивая дубинками, погнали куда-то в темноту.
Потом он упал на что-то твердое. Остро запахло бензином.
Коротко рыкнуло. Машина тронулась. Таманский понял, что лежит на дне грузовика.
Так продолжалось долго, пока наконец машину не тряхнуло. Грузовик резко затормозил.
Таманский услышал, как охранники переговариваются о чем-то с водителем. Потом в разговор вмешался кто-то третий. Резко щелкнул затвор винтовки. После этого что-то загремело, как будто обрушилось что-то тяжелое. Закричал человек. Коротко, как перед смертью. Затем все стихло.
Кто-то ткнул Таманского под ребра.
– Я гражданин Советского Союза… – прошептал Костя. – Идите в жопу все.
– Неплохое начало, – раздался голос Антона. – Можете считать, что Советский Союз прислал за вами подразделение десантуры.
Мешок сорвали с головы Кости. Руки вмиг освободили от наручников.
– Антон! – Таманский почувствовал, что плачет.
Его подхватили крепкие руки Ракушкина.
– Ну! Живой? Яйца на месте?
– На месте. – Костя прижался лицом к пиджаку Антона. – На месте.
– Ну, остальное заживет! Давайте двигать отсюда. Ноги ходят?
– С трудом…
Ракушкин помог Таманскому выбраться из грузовика. Через борта свешивались трупы охранников. Водитель лежал лицом на руле.
Еще одна машина охраны стояла неподалеку. Внутри виднелись мертвые тела.
– Это все вы? – глупо спросил Костя.
– Я. – Ракушкин тащил Костю в переулок. – Я. Наш друг Рауль только сегодня выделил мне десяток бойцов. Если бы он сделал это пару дней назад, мы бы взяли городскую тюрьму штурмом. А так оставалось надеяться на вашу стойкость и на то, что убивать вас на месте они не станут.
Они свернули под арку. Костя обернулся и увидел, как какой-то молодой человек позади них размахивается и швыряет в грузовик пылающую бутылку. Еще одну. Полыхнуло жаркой волной.
– Ну вот, вы и погибли, – прошептал Ракушкин. – Вот и все.
Таманский всхлипывал. Впереди показалась машина, около которой нервно прохаживался мужчина в кожаной куртке. Увидев Ракушкина, он побежал навстречу, подхватил Таманского под руки и помог усадить его в автомобиль.
– Вы простите меня, Костя, – сказал Антон, садясь рядом. – Я не успел тогда.
– Когда? – не понял Таманский. Только сейчас он почувствовал, как смертельно устал. Как жутко болят растянутые суставы. Как хочется есть. Просто есть… И жить.
– Я бежал за джипом. Мне не хватило чуть-чуть. Если бы удалось запрыгнуть тогда, никакой тюрьмы бы не было.
– Ничего… – тихо ответил Костя. – Ничего. Мне бы поспать. И все будет хорошо…
– Это можно организовать. Что было в тюрьме? Кроме мордобоя.
– Они хотели знать, что у меня за информация. Потом испугались и повезли куда-то…
– Испугались?
– Да. Я сказал, что информация о монтонерос и террористах. После этого меня избили и на следующий день отправили… куда-то. Сказали, что там мне будет очень плохо.
– А кто вас допрашивал?
– Начальник тюрьмы. И еще один тип… Я запомнил его лицо.
Ракушкин помолчал.
– А еще… – Он обернулся к Косте, но осекся.
Таманский спал.
77
– В городе черт знает что. – Ракушкин сидел на стуле около постели Таманского. – Знатная неразбериха. Постоянно, почти каждый день, кто-то что-то взрывает. Военные устраивают облавы. Хватают всех. Едва ли это им помогает.
– А что Рауль?
– Поправляется. – Ракушкин взял со стола апельсин. – Хотите есть?
– Нет. Спасибо.
– Рауль собрал людей и спрятался. Как мог глубоко. Это очень хорошо, потому что он не станет нам мешать. Весь этот бардак нам на руку. Если бы военные утвердили жесткий порядок, было бы значительно труднее.
– А что вы собираетесь делать? – спросил Костя.
– Для начала нам необходимо удалить со сцены Кристобаля Бруно. Именно он отвечает за террор и взрывы. Удалив его, мы стабилизируем ситуацию.
– Но вы же сказали, что бардак нам выгоден.
– Да. – Ракушкин утвердительно кивнул. – И нам выгоден. И тем, кого мы ищем, тоже. Именно такие беспорядки позволяют получать человеческий материал… в неограниченных количествах. Бруно – это одна из ключевых точек. Так-то. Убрав со сцены его, мы выйдем на остальных…
– Каким образом?
– Чужими руками желательно. Потому что Кристобаля охраняют не только его люди, но и те, о ком я вам говорил. А поможете мне вы…
– Я? – Костя слабо улыбнулся. – Куда уж мне… Я в интригах не силен.
– А и не надо. Вы просто сделаете все, как я скажу.
– Да, но я же бежал из тюрьмы. Меня снова посадят.
Антон покачал головой.
– Я постараюсь, чтобы не посадили. У вас завтра встреча с новым министром безопасности. Эта должность замещает старого начальника тайной полиции.
– Завтра? – Таманский даже привстал.
– Именно, – кивнул Антон. – Время не ждет. Я понимаю, что вам трудно, но время не ждет.
– Это совершенно невозможно…
Таманский вошел в ресторан «Сауза» ровно в пять минут первого.
– У меня назначена встреча, – сообщил он выскочившему как чертик из табакерки официанту. – Господин Эмилио Фернандес.
Официант посторонился, указывая рукой направление.
Эмилио Фернандес, брат Доминика Фернандеса, сейчас уже расстрелянного, был абсолютной противоположностью своему родственнику. Эмилио был решителен, жесток и имел спортивную фигуру. Увлекался боксом и стрельбой из лука. Он обожал спорт и ненавидел все то, чем Доминик окружил себя: роскошь, мягкие кресла, толстые женщины. Эмилио не испытывал к брату каких-то особенных чувств, наоборот, терпеть его не мог. Поэтому он с легкой душой занял пост министра по безопасности, зная, чего это стоило родственничку.
В первые же часы работы новое министерство, в которое была преобразована тайная полиция, занялось самоочищением. Были уволены все следователи, замеченные во взятках. Были выкинуты все те, кто не приносил результата. Целый ряд чиновников, занимавших высокие посты, был посажен за решетку. Перед каждым был поставлен выбор: или работать, или убираться.
Своих людей Эмилио не щадил, и более того, сам хватался за работу как сумасшедший.
Таманский подошел к столу. Не дожидаясь приглашения, сел.
– Итак, у вас есть пять минут, пока я ем, – хмуро буркнул Фернандес. – Сам не знаю, зачем я согласился прийти на встречу. Не терплю журналистов…
– Как и ваши подчиненные. Нашей встречи можно было бы избежать, если бы они делали свою работу.
– Что?!
– Ваши ребята сначала бьют, потом снова бьют, а потом бросают в тюрьму. Им наплевать, что говорит человек, знает он что-то или нет.
– Ах, так это все, – Фернандес указал на лицо Таманского, – их рук дело?
– Естественно.
– Грубая работа.
– Еще бы. Я полагаю, вам бы хотелось найти главу монтонерос, Кристобаля Бруно?
– Правильно полагаете. – Эмилио равнодушно отрезал кусочек бифштекса и отправил в рот. – Рано или поздно мы его схватим. И если вы думаете, что я поверю в то, что вы знаете, где он, то вы сильно ошибаетесь.
– Я знаю, где он будет.
– Где же?
– Сто тысяч.
– Что? – Эмилио Фернандес едва не подавился. – Что?!
– Долларов США. – Таманский покрутил в пальцах вилку. – Я собираюсь переехать туда жить.
– Вы с ума сошли. Никакой марксист не стоит таких денег.
– Бруно стоит. Я полагал, что вы отличаетесь от вашего брата. Тот бездарно упустил Кристобаля, когда он уже почти был у него в руках. Результатом стал взрыв на площади Колон.
– Вас уже били? – Эмилио прищурился. – Я надеюсь, вы не полагаете, что это был верх пыточного совершенства?
Таманский почувствовал, как холодеют ладони. Он покрепче сжал вилку, словно она могла чем-то помочь.
– На это нужно время. Хоть сколько-то я продержусь. А рыбка улизнет. К тому же я подготовился к встрече. Если вы возьмете меня, Бруно точно уйдет.
– Рано или поздно мы все равно возьмем его, а вы наверняка знаете что-то еще…
Таманский помолчал. А затем улыбнулся.
– Я думаю, что будет поздно. Особенно для вас. Если Бруно сделает то, что собирается.
– Не нужно меня пугать.
– Моя цена сто тысяч. Хотите – платите. Не хотите, я ухожу.
– Убеждены, что у вас получится?
– Я попробую. – Таманский встал.
– А где гарантии?
Костя пожал плечами и поморщился. Больно.
– Треть суммы наличными сейчас. Ваша расписка. И остальное после того, как вы его возьмете.
– Вы думаете, что я ношу такие деньги с собой?
– Нет, конечно, но я готов подождать…
Таманский вышел из ресторана через два часа.
– Ребята, наша работа, – сказал Антон, глядя, как Костя идет по улице. Следом уже увязался какой-то бродяга. – Пошли…
Таманский ускорил шаг, через пару кварталов свернул в подворотню и побежал. Выскочив на соседнюю улицу, он снова перешел на неспешный шаг.
Бродяга свернул за ним.
– Эй, амиго! – окликнули сзади. – Прикурить есть?
– В чем дело? Я не курю…
Что-то острое и холодное вошло ему под ребра. Рот закрыла потная ладонь, а по ногам полилось горячее…
Из подворотни не вышел никто. Но Таманский не остался в одиночестве.
Его аккуратно взяли в «коробочку» трое. Таманский свернул на менее людную улицу, и через несколько шагов ему заступили дорогу еще два человека.
Костя прижался к стене и закрыл глаза. После встречи с Фернандесом Костю била дрожь. Смотреть, что будет дальше, у него уже не было сил. Таманский уже слабо понимал, что делает. Кто его сопровождает? Кто перегородил дорогу? Костя знал одно: надо тупо следовать инструкциям, данным ему Ракушкиным. Идти по указанному маршруту, никуда не сворачивать, в случае осложнений вжиматься в угол и не рыпаться.
Выстрелов было четыре.
Потом Таманского тряхнули за плечо.
– Пошел, пошел…
Костя что было сил побежал вдоль по улице и остановился, только когда рядом взвизгнули тормоза.
– Прыгай! – гаркнул Ракушкин.
И Таманский прыгнул.
78
Эмилио Фернандес, как говорилось выше, был полной противоположностью своему брату. Если тот ездил по Буэнос-Айресу на роскошном, американской сборки «Линкольне», то Эмилио сразу пересел на открытый военный джип, который одинаково легко прыгал и по сельским дорогам, и по проспектам столицы. Если прежний шеф тайной полиции любил толстых женщин и сладкое, для чего покровительствовал небольшому борделю неподалеку от управления, то его брат бордель закрыл, толстух разогнал, а уникальную коллекцию конфет и прочих сладостей велел раздать детям. Доминик Фернандес не показывал носа дальше центра Буэнос-Айреса, а его брат в первые же дни объездил полстраны для личного контроля за региональными представительствами нового министерства.
Именно эта черта, желание во всем разобраться лично, была слабой стороной Эмилио Фернандеса. Он хотел знать, что происходит в провинциях, что делается в маленьких городках, в военных частях, на отдаленных заставах. Какие настроения, какие мысли бродят в головах солдат, простых граждан, чиновников? Была б его воля, Эмилио вызвал бы каждого для личного собеседования!
Это не было психозом. Фернандес отлично понимал, что надеяться может только на себя. В развращенной и разложенной до основания организации он не видел людей, на которых можно было бы положиться.
Фернандес старался не ради зарплаты, карьеры или личной славы. Он хотел, чтобы его фамилию вспоминали не только в связи с братом-сластолюбцем…
Эмилио спал четыре часа в сутки. Остальные двадцать он работал.
Естественно, чтобы успевать везде, ему нужен был четкий график. Где каждый день был расписан буквально по минутам. И так на две недели вперед.
Этот график и был украден ловкачами из числа подпольщиков. О чем сам Эмилио узнал только со слов Таманского.
79
Кордоба – большой город, окруженный множеством деревушек и сетью дорог, на которых немудрено заблудиться, особенно если учесть, что множество деревень носят похожие названия, а указатели чаще всего сбиты или перепутаны.
Кортеж Эмилио Фернандеса как раз подъезжал к Аль Грация, когда дорогу, петлявшую между холмов, перегородила огромная повозка с сеном, в которую был запряжен маленький ослик.
Крестьянин, тянувший упрямое животное за уздечку, при виде машин снял шляпу и принялся кланяться.
Автомобили остановились. Из первого вышел человек в черном костюме и замахал крестьянину руками. Тот, не переставая бить поклоны, пятился за ослика.
– Проваливай, дурья башка! – заорал охранник. – Уводи свою телегу!
– Простите, сеньор! – вопил мужик, спрятавшись за осла. – Животное не идет! Оно боится машин!
– Да проваливай же!
Из головной машины вышел еще один. Вдвоем охранники направились к крестьянину. Тот, бросив шляпу на дорогу, спрыгнул в канаву и побежал по ней в сторону деревни.
– Идиот…
Ослик принялся истошно орать. Двое молодцов никак не могли заставить его двигаться. Животное уперлось. Наконец машину покинули все, кроме водителя, и совместными усилиями они слегка развернули воз с сеном.
– Дьявол! – выругался старший. – Проклятая скотина!
– А давайте отстегнем его от воза, а телегу столкнем в канаву сами, —предложил кто-то из молодых.
Стоило ослику почувствовать свободу, как он мирно затрусил по дороге вслед сбежавшему крестьянину. Когда молодцы взялись за телегу, на холме, как чертик из табакерки, появился человек с ружьем.
– Эй! – Он выстрелил в воздух.
Охрана развернулась в одно мгновение, блеснуло на солнце оружие.
Человек на холме положил винтовку перед собой и поднял руки. Виден был только силуэт, лица не разглядеть.
– Вы везете Эмилио Фернандеса! Я – Кристобаль Бруно! Вы окружены. И если окажете сопротивление, будете уничтожены. Повторяю, нам нужен только Эмилио Фернандес! Остальные будут отпущены.
Со всех сторон дорогу окружали вооруженные люди. Из сена высунулся ствол пулемета, и кто-то тихо посоветовал охранникам:
– Пистолеты на землю… Живо…
Позади кортеж был блокирован раскатанной поперек дороги лентой с шипами.
– Повторяю! – кричал Кристобаль. – Нам не нужны остальные! Это означает, что мы можем вас отпустить, но времени у нас мало, и на счет «три» мы начнем расстрел! Раз! Два!..
Вдалеке послышался едва слышный рокот.
Двери джипа открылись, наружу вышел Эмилио Фернандес. Он сложил руки рупором и крикнул:
– Эй! Кристо! Я не хочу никого убивать! Я хочу, чтобы соблюдался закон! Сдавайся, и не будет лишних жертв!
Звонкое «тах-тах-тах» приближалось. Нарастало.
Кристобаль огляделся.
– Что за черт?..
– Твои люди в Кордобе арестованы! – крикнул Эмилио. – А также люди в Вилла Карлос и Вилла Де Розарио. Я взял почти всех. Но мне нужен только ты! Не вздумай бежать, это место уже оцеплено. Солдаты перероют все эти холмы и найдут тебя, где бы ты ни спрятался!
Небеса рычали моторами. Теперь Кристобаль видел, как к месту действия приближаются вертолеты.
– Дерьмо…
Вдалеке, на дороге, стояли пыльные хвосты – это двигались машины с солдатами.
– Эмилио Фернандес! – крикнул Бруно. – Ты палач и убийца! Ты предал свой народ! Я приговариваю тебя к смерти!
Дальнейшее напоминало кошмар.
Первым заговорил пулемет. Длинная очередь прошила старшего охранника, размолотила головную машину и убила водителя. В изуродованном двигателе что-то бахнуло, и крышка капота взлетела в воздух.
Самый молодой из вышедших усмирять осла охранников принялся палить в стог сена наобум, только приблизительно понимая, откуда ведется огонь. Его напарник прыгнул в канаву, стреляя вверх, в движущиеся силуэты террористов. Другой нырнул под телегу, и пока его молодой товарищ всаживал пулю за пулей в сено, стараясь нащупать пулеметчика, вынул зажигалку и чиркнул колесиком. Пламя весело побежало вверх по сухой траве.
Пулеметчик не сразу понял, в какую ловушку угодил, и это его погубило. Чувствуя себя в безопасности, он расстрелял молодого охранника и принялся поливать беглым огнем остальных, прячущихся за дверцами автомобилей. Он подумал, что дымят маленькие травинки, которые касались раскаленного ствола пулемета, когда же дышать сделалось совершенно невозможно, было уже поздно. Два человека, пулеметчик и его тяжело раненный друг, сгорели заживо.
За то время, пока к месту действия летели вертолеты, случилось многое.
Кристобаль Бруно с группой товарищей бросились к подземному ходу, который был известен только ему и вел прямиком в Кордобу.
Остальные монтонерос расстреливали охрану министра. Сам Эмилио Фернандес лежал под днищем своего джипа, прикрыв голову ладонями. Его охрана, которая была предварительно усилена, вела бой без надежды на победу.
Оба героя этой бойни оказались в безопасности. Эмилио под бронированным дном своей машины, а Кристобаль в подземных коридорах древних катакомб.
Но люди умирали. Одни выполняя свой долг. Другие следуя убеждениям.
Когда прибыли вертолеты и в какофонию боя резко вклинилось безапелляционное «тра-да-да-да!» крупнокалиберных пулеметов, из охраны министра безопасности в живых было только трое. Один из них скончался в больнице, а другой до конца своей жизни остался калекой.
Эмилио Фернандес планировал операцию сам. После украденного расписания полагаться на начальника охраны было нельзя…
Пока его сторонников либо добивали на месте, либо вязали, Кристобаль Бруно бежал по узким коридорам подземного лабиринта вместе с несколькими близкими сторонниками.
Дорогу Бруно знал.
Не знал он только того, что вчера вечером человек, который некогда показал товарищу Кристо план катакомб, был доставлен в тюрьму Кордобы, где рассказал все, что знал, о плане захвата министра. Особенно стараться следователям не пришлось. Провода с током, приставленные к гениталиям арестованного, сделали свое дело. Всего за пять минут… И сейчас навстречу Кристобалю двигалась армейская группа захвата.
Схватка была короткой.
В темноте авангард Кристобаля налетел на солдат, как на стену. В первые же секунды трое марксистов свалились с проломленными черепами.
Фонари погасли. Дрались молча. В темноте. Ножами и прикладами. Фактически каждый за себя.
Когда же вспыхнул свет, Кристобаль лежал без сознания на полу, а над ним склонились солдаты. Пятеро из десяти.
Они положили связанного Бруно на плащ одного из убитых и, взяв плащ за уголки, потащили в обратном направлении.
Через сто сорок два метра солдаты были расстреляны в спину двумя неизвестными.
80
– Он у нас уже давно. Я не заметил, чтобы положение стабилизировалось. – Таманский проглядывал заголовки газет.
– Не стоит судить по газетам, – ответил Антон. Он разложил на столе чистую тряпицу и чистил на ней пистолет. Это занятие доставляло ему, видимо, истинное удовольствие. – Газеты, во-первых, отрабатывают заказ на истерию, сотворенную, когда Бруно еще был на свободе. А во-вторых, газеты скоро вообще заткнутся. И вот когда они замолчат, начнется самый жуткий период. Однако по заголовкам все будет замечательно. Так что газеты – это несерьезно.
– Что же серьезно?
Ракушкин указал пальцем на свой глаз.
– Вот что. Собственные наблюдения – серьезно. Вы обратили внимание, за последнее время не было ни одной демонстрации, которую бы разогнали военные. Ни одной. Хотя аресты продолжаются по старой схеме, но и их все меньше.
– Что же, по-вашему, достаточно удалить из революции лидера, и все замолчит? Кончится? По-моему, это несколько противоречит трудам…
– Не противоречит. – Ракушкин покачал головой. Он посмотрел на Таманского через ствол разобранного пистолета. – В Аргентине нет революции. Есть злоба, борьба нескольких движений, которые гребут каштаны из огня чужими руками, и безумие толпы. Я такое уже видел несколько раз. Знаете, Константин, когда в обществе накапливается… я даже не знаю, как точно определить, накапливается, может быть, усталость, отупение какое-то, люди сходят с ума. Делают то, чего в другое время и в страшном сне бы не стали… Часто это принимается за революцию, часто подается как революция, с совершенно понятными целями. Так что не путайте, Константин, в Аргентине нет революции. Хотя признаки революционной ситуации все-таки есть.
– А что же тогда творится в Буэнос-Айресе?
– Переворот. – Ракушкин пожал плечами. – Всего лишь переворот, на фоне общего безумия. А мы с вами, Константин, пытаемся достичь наших целей в этом кошмаре. Пожалуйста, не забывайте об этом. Это очень важно, во время борьбы не забывать, к чему вы, собственно, стремитесь. Чтобы ненароком не взвалить на себя ответственность за чужие поступки.
Таманский промолчал.
Антон прочистил ствол, снова поглядел через него на Костю. Затем принялся собирать оружие.
– Я уверен, что уже сейчас наши немецкие друзья ощущают некоторые трудности. Недостаток людской массы.
– Для опытов?
– Может быть. Хотя, если честно, мне это больше всего напоминает жертвоприношения. Как у майя или ацтеков. Вы ведь знаете об этих древних цивилизациях больше меня. Почти по всей Южной Америке находят остатки каких-то храмов, городов. Это было жестокое время…
– Да уж… – вздохнул Таманский. – Хотя иногда мне кажется, что мы изрядно превзошли все народы прошлого. Если не по жестокости, то по изощренности.
– Поясните. – Ракушкин чем-то щелкнул, и пистолет из растопыренной железяки превратился в нормальное оружие.
– Жестокость индейцев была примитивна. Содрать кожу, вырвать сердце. Современные люди поставили мучение на поток. И размах, конечно, совсем не древний. Мы все время норовим угробить весь мир разом.
– Ну, не настолько уж все плохо. – Ракушкин отложил пистолет и поинтересовался: – Вы свой чистили?
– Нет. Я не умею…
– Гуманитарии, – вздохнул Антон. – Давайте сюда…
Таманский передал Ракушкину тяжелый «кольт» и спросил:
– А почему вы заговорили о жертвоприношениях?
– Немецкий прагматизм – это совсем недавняя выдумка. Как вы, наверное, знаете, Германия в годы войны крепко увязла в мистике и всяком мракобесии.
– Ну, слышал…
– Так вот, прагматиками немцы стали только после войны. А те, с кем мы имеем сейчас дело, это инквизиторское старичье, все вышли из тех времен. Старые мистики… Так что, если все это часть одного огромного жертвоприношения, я не удивлюсь. Как концлагеря, как печи…
– Да, но какая же цель?
– А все та же. – Ракушкин подцепил что-то на «кольте» отверточкой, потянул, и пистолет распался на составные части. Таманский вздохнул. Настолько дружить с техникой он не умел. – Все та же. Власть и вечная жизнь. Сколько лет, по-вашему, сейчас… ну, скажем, Зеботтендорфу?
– Не имею понятия.
– Более ста лет!
Таманский вытаращил глаза.
– Более ста, – повторил Ракушкин. – А по моим данным, старичок и на шестидесятилетнего не тянет! Вот вам и мистика, вот вам и мракобесие…
– Я не совсем понимаю, что вы хотите сказать? Вы же сами только что…
Ракушкин выжидающе смотрел на Таманского.
– Ну… Про прагматизм немецкого народа и про… средневековую дикость… Что же получается?
Антон улыбнулся.
– Я не хочу сказать, что мракобесие – это научный термин, но в некотором смысле так получается. Есть факты… А факты – штука упрямая. Зеботтендорф жив и здоров. Кстати, у него нет могилы, как и у Мюллера, скажем.
– Что, Мюллер тоже жив? – Таманский округлил глаза.
Антон вогнал в ствол «кольта» шомпол. Некоторое время потаскал его туда-сюда.
– Нет. Мюллер не жив…
– Но кто-то же Зеботтендорфу помогает!
– Да. Их тут много, таких долгожителей. Правда, все в некотором смысле второго сорта.
– То есть?
– Ну, не из первой когорты третьерейховских бонз. Да и помоложе будут, чем наш доктор. – Таманский покапал в недра оружейного механизма из масленки, протер тряпочкой. – Но, возвращаясь к мистике, я вам скажу, что старички эти живее и бодрее многих молодых. Судя по тому, что я знаю, они нашли что-то… Что-то запредельное. – Антон посмотрел на обалдевшего Костю и добавил: —Или, чтобы не вводить вас в искушение заняться спиритизмом, открыли новую, совсем нам незнакомую сторону жизни. Очень может быть, что они даже нашли этому научное объяснение. Сами понимаете, когда-то умение подниматься в небеса было доступно только птицам, ангелам и ведьмам. Последних жгли на кострах, а потом братья Монгольфье надули горячим воздухом свой первый воздушный шар. Но до этого момента идея полета для человека была не более чем мечтой и выдумкой. По ужасному стечению обстоятельств, этот безумный мистик нащупал в темноте что-то. У него хватило ума понять и осмыслить находку. Ну а в том, что у него хватит подлости использовать открытие именно таким образом, я и не сомневался.
– А почему вы, Антон, полагаете, что это не что-то высшее?
– Ну вот, – Ракушкин улыбнулся, – я боялся, что вы впадете в мистику. Слишком уж велик соблазн. Но я могу объяснить.
– Интересно.
– Чтобы мистическое учение существовало, в нем всегда есть некая система сдержек и противовесов. Это как весы. Если они не будут находиться в равновесии, произойдет катастрофа. И скорее всего мир, построенный на этом учении, перестанет существовать. Ну, понимаете, Константин, есть пары: бог—дьявол, герой—дракон, ангел—демон, свет—тень. На этом держится любая религиозная система. Если ситуация слишком резко изменяется в одну сторону, на другой стороне обязательно… божественное вмешательство. То есть если Зеботтендорф получил свои знания свыше, то и мы с вами должны получить что-то… особое. Не от мира сего. – Ракушкин хитро посмотрел на Костю. – А поскольку вы не ангел, да и у меня крыльев нет, то мы имеем дело с новыми, особыми законами природы, над которыми властен не бог, а человек. – Пистолет в его руках лязгнул, затвор встал на место. – Вот так-то. – Ракушкин протянул оружие Таманскому. – Зарядите и держите под рукой. А еще скажите мне… у вас есть кое-какие связи с местными газетами? Сможете опубликовать статью?
– Если тема будет интересной, то конечно.
– Да уж куда интереснее. Нам понадобятся статья, одно письмо и небольшое объявление. – Ракушкин выглянул в окно. – Статья будет о том, что у вас есть доказательства, будто Кристобаль Бруно, лидер подпольного движения, жив. Я схожу, покормлю нашего узника, а когда вернусь, мы с вами все обсудим. И знаете, сходите к Педро Моралесу, пусть подготовит ребят: чует мое сердце, что совсем скоро у нас будет жарко.
81
Ракушкин стоял около памятника основателю Буэнос-Айреса Хуану де Гараю. Благообразный и бородатый конкистадор надменно смотрел на Антона со своего коня. Взгляд статуи был задумчив и даже печален, а постамент загажен наклеенными марксистскими листовками.
Антон тревожно поглядывал на часы. На носу комендантский час.
Улицы города были пустынны. Редкие прохожие спешили убраться подальше от патрулей. Сильный восточный ветер гонял по асфальту обрывки газет, мусор, листовки, неведомо откуда взявшиеся тряпки. И тишина. Особая напряженная тишина испуганного города, где на улицы не выходят, кроме как по необходимости. Где не поют и стараются не открывать окон. И нет детей во дворах…
Буэнос-Айрес жил, свернувшись в клубок, и больше всего напоминал сейчас человека, которого избивают дубинками. Сжавшийся, закрывший голову руками… беззащитный. Даже патрули, которые разъезжали по улицам на своих машинах с открытым верхом и пулеметами, чувствовали этот испуг, чувствовали и подчинялись ему. Даже оружие не придавало уверенности. Казалось, Аргентиной овладело всеобщее массовое помешательство. Паранойя. Все боялись всех. Соседей, армию, марксистов, журналистов, рабочих, капиталистов… Всех. И все были готовы убивать всех, уже ни за что. Просто так! Ради крови! Ради сумасшедшего чувства, когда чужая жизнь утекает из-под твоих пальцев! Утекает в никуда…
Каждый человек, каждое живое существо в Буэнос-Айресе чувствовало эту повисшую над страной истерию. И только тонкая пленка страха еще удерживала мутный и кровавый поток, готовый выплеснуться наружу.
На улицах не было видно даже бродячих, вечно сонных собак. И только грустные вороны, нахохлившись, сидели на крышах, изредка встряхиваясь и каркая.
– Это была очень удачная, хотя и не оригинальная идея с газетным объявлением, – сказал кто-то. – О подробностях того случая в Варшаве знаю только я и ваша разведка.
Ракушкин обернулся.
Рядом стоял Генрих. В плаще с поднятым воротником и больших солнцезащитных очках.
– Вы не боитесь, что в таком виде будете привлекать еще больше внимания? – поинтересовался Антон.
– Времена изменились, – ответил Генрих. – Теперь люди думают иначе. Только идиот будет маскироваться подобным образом, думают они. И забывают обо мне сразу же. Вы не поверите, сколько патрулей я миновал подобным образом.
– Патрули… Их теперь много… – Ракушкин никак не мог разобраться в себе, чтобы понять, как же он относится к этому человеку, у которого за спиной такое страшное прошлое.
– На каждом углу. Все боятся. Обратили внимание, сколько в городе ворон?
Антон осмотрелся. Вокруг площади буквально на каждой крыше сидели птицы.
– Они чувствуют, – проворчал Генрих. – Слишком умные птицы… Слишком умные. Впрочем, не надо быть животным, чтобы ощущать этот кошмар.
– Да… Это точно. Иногда мурашки по спине бегут.
– Лаборатории работают на полную мощность. Старина Рудольф не теряет времени даром. И знаете, коллега, иногда мне страшно, что он все-таки заглянет мне в душу… Что он там увидит?.. Когда я общаюсь с ним, мне кажется, что я говорю с мумией, которая по какой-то ошибке всевышнего воскресла. Страшно. Особенно сейчас, когда стало… Стало ясно, что он знает, что делает.
– Арестов меньше сейчас…
Мюллер искоса посмотрел на Ракушкина.
– Напрасно вы так думаете. Достопочтимый сеньор Эмилио Фернандес очень старательный работник. Особенно если к нему приставить соответствующее наблюдение. С пропажей Кристобаля Бруно у нашего Рудольфа освободились кое-какие мощности. И он направил их в тайную полицию.
Ракушкин сплюнул.
– Не отчаивайтесь. Вашу работу нельзя назвать напрасной. Доктору пришлось изрядно попотеть, чтобы восстановить ситуацию. К тому же этот Фернандес крепкий орешек, его совсем не так просто держать под контролем. Все революционеры, за редким исключением, это люди, склонные к разрушению, часто психически неустойчивые. Таких контролировать не так уж и сложно. А вот их противники – это антитеза разрушению… В общем, Доктору пришлось потрудиться. Он так старательно давил подполье, что, лишившись подконтрольного ему марксистского лидера, едва не сошел с ума. Обработка того же Фернандеса требовала сил и времени, а время Рудольф ценит больше всего на свете. К тому же Эмилио крайне трудно сломать. Пару раз я слышал от Рудольфа слово «бездушный», и это относилось к Фернандесу. Долго это продолжаться не может. Нам срочно нужна марионетка вроде Бруно.
Антон посмотрел на часы.
– Да-да, – тут же отреагировал Генрих. – Времени у нас маловато. Вы хотели…
– Порошок.
Мюллер кивнул.
– Около памятника, с обратной стороны пакет. Поднимете, когда я уйду.
– Спасибо. Информации о лабораториях нет?
Генрих покачал головой.
– Нет. Вам придется самому. Я знаю только, что это недалеко от Буэнос-Айреса. Недалеко. И знаете…
На какой-то момент Ракушкину показалось, что старик хочет что-то сказать, но тот сдержался.
– Нет. Ничего. Вы ведь, наверное, материалист? – непонятно зачем спросил Мюллер.
– В общем и целом.
Мюллер некоторое время молчал, а потом взял Антона за руку. Ракушкин почувствовал, как волоски на шее встали дыбом. Будто сама История прикоснулась к нему…
– Я помогу вам, – прошептал старик. – Как смогу. Я не уверен, что смогу. Но поскольку вы явились из страны победившего атеизма, то у вас выйдет еще меньше моего. Скорее всего вы даже не будете знать, получилось у меня или нет. В любом случае… это наша последняя встреча. Я стар. И я устал. Если хотите меня о чем-то попросить, у нас есть еще немного времени.
– Да. – Антон чувствовал, как немеет рука. Он смотрел в эти голубые, по-старчески водянистые глаза и ничего больше не мог произнести.
– Мало времени.
– Хорошо. – Ракушкин с трудом стряхнул с себя оцепенение и вытащил из кармана бумажку с адресом. – Вот тут сидит Бруно. Мне наплевать, что с ним будет. Но постарайтесь донести эту информацию до вашего… руководства. Если он им нужен. Будет очень хорошо, если за ним придут люди в серых плащах. Ведь их обиталище – лаборатория?
Мюллер замер, а потом медленно кивнул.
– Я так понимаю, вы любите рискнуть?
– Не люблю. Но надо. Я уже достаточно глубоко увяз в этом деле. Мое руководство… мягко говоря, недовольно. Еще чуть-чуть, и меня вышлют обратно. Но пока я… я еще пользуюсь доверием. Так что если я не дам результат в самое ближайшее время…
– Понимаю. – Генрих поднес руку к голове, словно салютуя. – Мне пора.
– Удачи…
Вместо ответа старик вздохнул.
Генрих пошел прочь от памятника, где стоял молодой и борзый русский. Ему, старику, уже не тягаться с такими… Хотя кое-что он все-таки еще может. Недаром у него две могилы. И обе свои.
Генрих ушел с площади и довольно долго кружил по улочкам, пока не вышел на бульвар Кордоба. Тут, на одной из самых крупных магистралей города, даже сейчас было многолюдно. Но атмосфера нервозности, подступающей истерии никуда не исчезла. Люди двигались или стремительно, словно бежали от кого-то, или ползли, как полумертвые, придавленные к земле огромным неподъемным грузом. Некоторые стояли, прислонившись к стене, будто пьяные, рассматривая прохожих мутными, злыми глазами.
– Это даже не сорок четвертый, – прошептал Генрих. – Это хуже…
И он сморщился, словно от зубной боли.
Через два квартала Генрих свернул на Монтевидео. Потом в подворотню, где и была припаркована машина. Внезапно из-под ног что-то шарахнулось, взвизгнуло и кинулось в подвал. Мелькнула на свету цветастая юбка.
Генрих замер. Позади него от стены неслышно отлепилась тень и заступила дорогу. Впереди поднялся с колен человек. По виду индеец, из тех, кто сохранил в себе гены поклонявшихся Кецалькоатлю. Высокий скошенный лоб, горбатый острый нос, губы полные, чуть вывернутые.
Страшное лицо.
Картину усугубляла неровно наложенная на губы помада. Индеец провел ладонью по лицу, и Генрих понял, что это не помада.
Кровь!
Мюллер прищурился и разглядел, что под ногами у краснокожего валяется какой-то мешок, огромная тряпичная кукла. Или… Нет. Человек. На свету лежала бледная рука, кажется женская. Другой руки… не было. Только темная лужа под рукавом… С лицом жертвы, а Генрих уже не сомневался, что женщина, лежащая на асфальте, именно жертва, тоже что-то было не так. В полумраке переулка Мюллеру показалось, что он видит… кости черепа?
Индеец неслышно сделал шаг вперед. Попавшие на свет руки были по локоть в крови.
Неслышная черная тень сзади медленными шагами направилась к Генриху. У того моментально взмокли ладони, участилось дыхание…
– Не шути, амиго, – прохрипел Генрих.
Индеец не ответил. Замер. И только глаза с дикими расширившимися зрачками смотрели буквально в душу Генриха.
В душу…
Черная тень подходила все ближе и ближе… Шаг, другой! Совсем рядом!!!
Старик в смешном плаще крутанулся на месте, присел, и револьвер, неведомо как оказавшийся в его руке, оглушительно грохнул.
Ба-бах!!!
И еще раз!
После первого выстрела фигура словно бы сломалась, сложилась пополам, как будто это был не человек, а кукла из ветоши и медной проволоки. Вторым выстрелом его отбросило назад, в темноту…
А там, за спиной Генриха, рос, приближаясь, страшный индейский бог с окровавленной пастью!!!
И, чувствуя всем телом это холодное, обжигающее как лед приближение, Генрих развернулся, понимая, что опаздывает. Что старые колени уже не могут повторить заученного движения… Но все же!
Ствол револьвера ткнулся в пустоту…
В переулке никого не было. Только изломанная пулями кукла ростом с человека да труп женщины со страшно обглоданным лицом…
– Нет, – прошептал Генрих. – Не сорок четвертый.
В груди медленно разгорался пожар.
Мюллер сел на асфальт, тяжело дыша и расстегивая непослушными пальцами ворот рубашки.
«Только бы не подохнуть… Только бы не подохнуть…»
82
– Вы удивительно мрачно настроены, Генрих. – Фон Лоос закинул ногу на ногу. – К тому же выглядите весьма неважно. Что случилось?
– Вся моя жизнь, – ответил Мюллер.
Он сидел в кресле, пододвинув его к окну, и глядел в сад. Деревья, желтая песчаная дорожка, искусственный прудик с небольшим фонтанчиком. Фон Лооса тревожило то, что Генрих не вылезал из своей комнаты со вчерашнего вечера. Всегда общительный, обычно он приходил к барону выпить вечерком чая или чего покрепче. Однако…
– Я вас не понимаю…
– Вы поинтересовались у меня, что случилось, – ответил Генрих, не отрываясь от пейзажа за окном. – Я ответил: вся моя жизнь. – Наконец он встал, тяжело опираясь на подлокотники. – Вся моя жизнь случилась со мной. – Генрих обернулся к фон Лоосу. – Не обращайте внимания. Я просто внезапно ощутил свой возраст. Весь свой возраст! Это, оказывается, очень тяжелый груз. Как-то раньше я не замечал.
– Генрих…
Мюллер поднял руку.
– Только не надо советовать мне, чтобы я обратился к нашему Доктору. Ощущать возраст – это естественно. Пока нет острой необходимости, я бы не хотел идти против матери-природы. Я просто стар. От этого умирают, но я пока не собираюсь.
Фон Лоос внимательно рассматривал Мюллера.
– Но что-то случилось. Просто так груз прожитых лет не обрушивается на плечи человека. Старость приходит тогда, когда ей открываешь двери.
– Нет. – Генрих вздохнул. – Старость, как любовь, сама выбирает время. Вы когда-нибудь любили, барон?
Фон Лоос округлил глаза.
– Вам положительно не по себе…
Генрих кивнул и ответил:
– Ничего, ничего… Это пройдет. Чем меньше мы обращаем внимания на эту слабость, тем легче мне будет от нее избавиться. Скажите мне лучше другое: наш Доктор… проводил эксперименты на индейцах?
– Он на всех проводил. Хотя, насколько я помню, с чистокровными индейцами были какие-то трудности.
– А из лабораторий у него не сбегал… Никто не сбегал?
– Оттуда невозможно убежать. – Фон Лоос ухмыльнулся. – Исключено. А почему вы спрашиваете?
Мюллер поморщился. Его рука дернулась было к груди, словно там, под ребрами, что-то болезненно сжалось. Но Генрих удержался, однако спрятать этот жест от фон Лооса не удалось.
– Вы когда последний раз были в Буэнос-Айресе, барон? – недовольно спросил Мюллер.
– Периодически.
– Вы гуляете по улицам?
– Нет. Сижу на заднем сиденье автомобиля.
– Значит, вы давно не были в городе…
– Что же там такого интересного? – удивился фон Лоос.
– Страшный городок стал. Страшный. На его улицах стало возможно повстречать чудовищ. Монстров! – Мюллер вздохнул. – А когда я прибыл сюда, это было самое чистое и светлое место на земле.
– Бросьте хандрить! Друг мой! – Фон Лоос подошел к Генриху и обнял его за плечи. Встряхнул. – Бросьте! Это борьба! Неужели вы не помните, как она пьянит? Как дрожит каждая жилка внутри?! Мы возьмем эту страну, а следом и весь мир! Понимаете, друг мой? И совершенно не важно, что происходит сейчас, потому что впереди у нас великое будущее. Победителей не судят! Кто сейчас помнит Дрезден? Да никто! Зато каждый знает о Праге, которую мы так и не уничтожили. Чего же вы хотите от Буэнос-Айреса? Этот город пережил только один военный переворот, а то ли еще будет. Ничего! Потомки испанских колонизаторов – крепкие ребята.
Генрих пожал плечами.
– Может быть, вы и правы. А я просто расклеился. – Он задернул шторы. – Давайте лучше о делах.
– Вот это я понимаю! Давайте! Что у вас?
Фон Лоос подошел к столу, за которым обычно работал Мюллер, и уселся в кресло. Генрих едва заметно поморщился.
– У меня есть данные о том, где содержится Кристобаль Бруно.
Лоос выпучил глаза.
– И вы молчали?
– Я получил эту информацию совсем недавно. Если быть точным, вчера вечером.
– Черт побери! – Барон вскочил, бросился к двери. Остановился. – А я в вас не ошибся! Вы все тот же… Тот же…
– И даже лучше, – улыбнулся Генрих. – Но не спешите. Я бы хотел обсудить с вами план операции. Там есть некоторые тонкости.
– Какие же?
– Ну, например, правительство, безусловно, пожелает заполучить этого деятеля в свои руки. А я почти уверен в том, что слухи о том, что Кристобаль в столице, уже просочились наверх. Вряд ли вы хотите, чтобы Бруно попал в руки властей. Вытащить его оттуда будет посложнее, чем из рук…
– А кстати, у кого он? – перебил Генриха фон Лоос.
– Чем из рук его же собственных соратников. Ну, скажем так, бывших соратников.
– Хм… – Барон нахмурился. – Я изучал местных оппозиционеров очень долго. Более того, некоторые из них – это плод нашей с Зеботтендорфом работы. Совершенно невозможно, чтобы мы упустили людей… способных… на какие-то решительные действия. Невозможно!
– А старик Ловега?
– Он в коме…
– Был.
Фон Лоос провел ладонью по лицу.
– Знаете, Генрих, мне кажется, что стареете не вы, а я. Становлюсь мягкосердечным, что ли. Совсем разучился добивать врага. Мне казалось, что кома – достаточное основание, чтобы снять пешку с доски.
– К сожалению, она осталась на доске, и, судя по всему, ей нужно совсем немного, чтобы прыгнуть в ферзи. – Генрих незаметно выудил из кармана пузырек с таблетками и проглотил парочку. После вчерашних приключений сердце давило все сильнее и сильнее.
– Так. – Фон Лоос встряхнулся, и Мюллер почувствовал, что завидует этому молодому старику. Зеботтендорф с его проклятыми богом исследованиями знал, что предложить стареющим бонзам. – Что вы думаете по этому поводу? Вы провели серьезную работу, и я полагаю, что будет справедливо, если вы доведете ее до конца.
83
Большая часть посольских работников была эвакуирована, а само посольство перешло на чрезвычайный режим. То есть в любой момент в устье Ла Платы могла войти подводная лодка, забрать пассажиров и исчезнуть в океане. Впрочем, все надеялись, что до такого экстремального способа эвакуации не дойдет и все ограничится обыкновенным самолетом. Сначала на Кубу, а потом домой.
Из всех вещей у Яковлева на столе лежала только одна папка, а рядом со столом всего один «дипломат», где находились кое-какие личные вещи. Все остальное было упаковано и отправлено в Союз.
В дверь постучали.
– Входите, Антон, входите, – устало пробормотал Яковлев.
– Здравствуйте. Вызывали?
– Как вам сказать. – Яковлев снял очки и потер уставшие глаза. – Вызывать, я надеюсь, мне вас не придется никогда. Но приглашал, это да.
– Я вас слушаю.
– Нет, Антон Яковлевич, это я вас слушаю. Что у вас там за история? Меня уже спрашивали… Сами знаете откуда. Интересовались. Я, конечно, как мог, объяснил. В меру своего понимания вопроса. Однако боюсь, что моих пояснений надолго не хватит. И наше с вами горячо любимое руководство начнет сердиться. Сами понимаете, что сердиться будут не на вас, а на меня. Вот так-то. А вы мне совсем не помогаете. Нехорошо.
– Виноват.
– Оставьте это, Антон Яковлевич… Оставьте. Лучше помогите мне разобраться в ситуации. Что за игру вы затеяли? Страну сейчас, мягко говоря, лихорадит. Вот-вот всех иностранных специалистов нашего профиля попросят со сцены… Сами видите, к чему все идет. Так что рассказывайте… У работника вашего уровня есть большая, очень большая свобода действий, но… Теперь я слушаю.
– Мною взяты в разработку люди, имеющие отношение к марксистскому подполью. И у меня есть веские основания считать, что весь военный переворот был заранее спланирован в плотной связке с местным подпольем. Более того, над некоторыми членами марксистской оппозиции проводились опыты с применением психотропных веществ, вызывающих подчинение условному «хозяину». Есть основания полагать, что… – И тут Антон запнулся. Не то чтобы он не любил врать. Нет. Правда в его профессии – понятие очень относительное. Просто Ракушкин не торопился в сумасшедший дом. – Что следы этих веществ тянутся к иностранным разведывательным управлениям. Таким образом, Аргентина является всего лишь испытательным полигоном.
В кабинете стало тихо. Только муха остервенело билась в стекло.
– А насколько вескими доказательствами вы обладаете по этому вопросу? Сами понимаете, что сказать можно что угодно. Пока разговор очень беспредметный.
– Пока вещественных улик у меня нет. Свидетельства очевидцев. Однако доказательства будут. Я уверен.
Яковлев побарабанил пальцами по столу.
– Это очень плохо, что нет доказательств. Безусловно, ваше слово тоже кое-чего стоит. Но все-таки хотелось бы получить какие-то конкретные материалы, если дело так серьезно, как вы утверждаете. Психотропное воздействие на человека – это очень серьезно, вы понимаете? Да еще в таких масштабах…
– Да, конечно.
– И у вас очень мало времени, вы понимаете?
– Так точно.
Яковлев поморщился.
– И еще один момент. Что у тебя там… с этим журналистом. Что за странная история?
– Константин Таманский?
– Он самый.
– Он… – На языке у Антона завертелось слово «погиб». Яковлев поднял взгляд от стола и посмотрел Ракушкину прямо в глаза. Пауза тянулась долго. – Он… мне еще нужен. Человек активный. Полезный. Участвовал в деле…
– Я ведь предлагал тебе помощь.
– Таманский имеет личную заинтересованность. У меня на него есть определенные планы.
Яковлев вздохнул.
– В общем, так, Антон, поймите меня правильно. Я многое в жизни видел. Я подозреваю, что это моя последняя командировка. И я вам скажу так: если журналист не вернется домой…
Юрий Алексеевич снова внимательно посмотрел в глаза Антону.
– Можете идти. На всякий случай вот вам расписание самолетов… —Яковлев протянул Ракушкину листик с несколькими строчками. – Не потеряйте. Может понадобиться.
Антон кивнул и вышел.
84
– Совсем плох наш узник. – Антон закрыл дверь, ведущую в комнату, где сидел Кристобаль, и повесил ключ на гвоздь. – На вопросы не отвечает. Трясется и бормочет что-то непонятное. Я такое один раз уже видел, правда, в более яркой форме.
– Когда? – поинтересовался Костя. Он с утра чувствовал себя неважно. Странное, неприятное предчувствие тревожило его. Ощущение чего-то непоправимого, неумолимо приближающегося.
– Совсем в другом месте, – соврал Ракушкин. – И в другое время.
– Скажите, Антон, а вам бывает страшно?
Ракушкин внимательно посмотрел на Костю.
– Конечно, бывает. Всем бывает страшно.
– А чего вы боитесь?
– Того же, что и все остальные.
– Тюрьмы? Смерти?
– Нет. С чего мне бояться тюрьмы? Тюрьма – это лишение свободы, точнее, какой-то ее части. Строгое подчинение режиму и внутренним законам. Все на зоне делится между двумя полюсами: охрана и лагерные авторитеты. Во всех тюрьмах мира… все одно и то же. Не скажу, что это приятно, но бояться тут нечего. То же самое и со смертью. То, чего не избежать.
– Тогда чего же вы боитесь?
– Меня пугает неопределенность. Когда неизвестно, чего ждать, я начинаю нервничать.
– А сейчас?
– Сейчас? – Ракушкин улыбнулся. – Я знаю, что будет, и, следовательно, не нервничаю.
– Хорошо вам.
– А вы о чем думаете, Константин?
– О Маризе. Аргентине. Обо всем…
– Мариза – это та девушка, про которую вы мне говорили?
– Да. Я думаю, что самое трудное в жизни – это проблема выбора. – Таманский вздохнул и потер ладони. – Надо же… руки взмокли. Никогда такого не было.
– Не волнуйтесь, Костя. – Ракушкин выглянул в окно. – Никакой проблемы выбора не существует.
– Почему?
– Потому что всегда найдется человек, который решит за вас. Возможность выбирать самому – настолько большая редкость в нашем мире, что бояться ее нельзя. Ею надо наслаждаться. Помните, я говорил, что знаю, что будет?
– Да… Но…
– Так вот, – Антон засунул за пояс пистолет. – Сейчас будет штурм. – Ракушкин кинулся к двери, ведущей на лестницу. – На нас вышла одна из поисковых команд! – крикнул он следующему за ним Косте. – Они точно еще не знают, что он тут…
– Может, обойдется?
– Вряд ли! Ребята Моралеса за эти дни напряглись дальше некуда.
– Я не понимаю…
В этот миг внизу оглушительно грохнуло. Дом тряхнуло. С потолка тонкими струйками посыпалась побелка.
– Ого! – Антон подскочил к узкому окошку, выходящему на улицу. Внизу за машинами прятались какие-то люди. Штурмовые винтовки, зеленая форма. Армия.
Снизу раздался еще один взрыв.
Ракушкин выбил стекло и несколько раз выстрелил. Какой-то резвый мальчик в зеленой форме упал, раскинув руки. Через несколько секунд по окну ударила автоматная очередь. Антон отскочил за стену.
– Ломают дверь. Насколько я понимаю, это поисковая команда. Вряд ли они попытаются взять нас своими силами. Скорее всего просто блокируют и будут ждать подмогу.
Снизу доносилась разрозненная пальба.
– А что же тогда делать? – крикнул Таманский.
С внутренней площадки они держали подходы к лестнице.
– Те, ради кого это все затевалось, не станут дожидаться… Если они не появятся в течение минут пятнадцати, надо будет уходить. И тащить с собой Бруно. А не хотелось бы… – Ракушкин отошел в глубину помещения, чтобы видеть через окно дальнюю сторону улицы. – Вы принимали сегодня тот порошок, Константин?
– Да, – ответил Таманский. Его голос звучал как натянутая струна.
– Очень хорошо, – похвалил его Ракушкин. – И очень вовремя…
– Почему?
Вместо ответа Антон поманил Таманского рукой.
– Смотрите…
За осадившими вход армейцами, не скрываясь, шли люди. Пара десятков вооруженных головорезов и… Таманский прищурился. Эти парни словно расплывались, терялись в воздухе. Пятеро в серых, развевающихся плащах.
– Что это?
– То, что нам нужно. – Ракушкин перегнулся вниз через перила лестницы. – Моралес! Приготовиться!
Снизу что-то неразборчиво ответили.
– Костя, я вниз! – Антон, пригибаясь, чтобы уйти под простреливаемым окошком, нырнул в провал лестницы.
Таманский подошел к окну-бойнице и осторожно выглянул наружу. Армейцы вели себя более чем странно. Они словно бы не видели вооруженных бандитов, что приближались к ним. Сам не понимая, что делает, будто ощутив неслышимый зов, Костя пригнулся, миновал окно, двинулся вслед за ушедшим далеко вниз Антоном, но тут с улицы донеслись выстрелы. Таманский вздрогнул, обернулся… Армейскую поисковую команду расстреливали в упор, словно стайку слепых щенков.
Внизу Антон вырывал автомат из рук Педро Моралеса.
– Я сказал, не стрелять! Не стрелять, я сказал! – зло рычал Ракушкин в трясущееся лицо.
– Они же их как котят!.. – Моралес, прежде невозмутимый, равнодушный и хладнокровный, сейчас покраснел, взмок и дрожал всем телом. Он цеплялся за оружие, как утопающий за соломинку. —Я сам, я видел!
– Ты где должен быть?! Где должен быть?! – рявкнул Антон. – Отвечать!
– В комнате, под лестницей…
– И что ты должен делать?
– Ждать!
– Тогда какого черта ты тут делаешь?! – заорал Ракушкин, схватив аргентинца за шиворот. – Пошел на боевой пост, скотина!!!
Удивительно, но на Моралеса это подействовало, и он исчез в темноте коридора, ведущего к лестнице.
Остальных бойцов уже не было видно.
– Идиот, решил посмотреть, с кем будет иметь дело, – проворчал Антон подошедшему Косте. – Так насмотрелся, что чуть все дело не завалил. – Ракушкин осторожно выглядывал в небольшую бойницу.
Снаружи донеслось несколько хлопков.
– Добили раненых, – прокомментировал Антон. – Сейчас сюда полезут. Давайте-ка, Константин, займем свое место. Зря вы спустились. – Он посмотрел Таманскому в лицо. – Что? Накрывает?
Костя кивнул. Он чувствовал неладное, чувствовал, как дрожит каждая мышца, каждый нерв натянут как струна, и вот-вот зазвенит неслышным звоном паники.
– Поймите, Константин, это всего лишь люди. Просто очень сильно изуродованные, но все-таки люди.
– Я знаю, – выдавил Таманский. – Знаю.
– А значит, их можно убить. Помните об этом. Можно убить! – Ракушкин прислушался. – Бегом!
Таманский развернулся и на ватных ногах, оскальзываясь на битом стекле, побежал к лестнице. Там, в темноте, ухватившись за холодные металлические перила, Костя ощутил, как отпускает его непонятная сила, неслышный зов, тянувший его на улицу. Таманский встряхнулся и заторопился вверх.
Бойцы вошли внутрь.
Старое, разрушающееся здание. Где-то сквозь ряд обвалившихся перекрытий, через дырявую крышу можно было увидеть небо.
Кажется, тут раньше, еще до Перона, располагались какие-то склады. У городских властей не дошли руки, чтобы разобрать эти руины. После того как при обвале крыши погибли какие-то подростки, дверь заколотили, а редкие на первом этаже окна заложили кирпичом. Со временем некачественная кладка обвалилась, открыв узкие полубойницы-полуокна. Свет проникал только через дыры в перекрытиях второго этажа.
– Дерьмовое место, – сказал Второй.
– Да. – Первый кивнул.
Остальные промолчали.
Когда эти парни потеряли свои имена и сделались просто номерами? По чьей воле? Никто из них не смог бы сказать точно. Просто Первый, просто Второй, Третий… Это воспринималось естественно.
Имена? Какие? Зачем?
Никто из них даже не задумывался над этим. Это состояние не было подавленной волей, потому что любое подавление подразумевает бунт. Это не было внушением, не было необходимостью их профессии. Нет. Первый, Второй, Третий… не просто слова, часть души. Суть.
Просто за каждым из них следовала серая, не видимая никому фигура.
Они продвинулись вперед. Рассредоточились вдоль коридора.
Первый, Третий и Одиннадцатый обследовали две комнаты и остановились. Еще одна группа прошла дальше. Нырнула в комнату. Тихо.
Следующая тройка вышла на первый перекресток. Один длинный коридор пересекал другой. Все замерли.
Первый поднял руку, собираясь послать своих людей дальше, но не успел.
Позади них с грохотом взметнулась в воздух пыль, осколки камня, штукатурка. Взрыв!!! Грозно дрогнуло здание.
Осколками посекло двоих. Насмерть. Еще один, Пятый, оказался под завалом. Ему раздавило ноги, и теперь он тихо лежал, придавленный железобетонной плитой. Молча. Только пустые глаза смотрели на товарищей.
Первым от взрыва отошел Первый. Он встал, отряхнулся. Подошел к завалу. Выход из здания был заблокирован полностью.
– Сможешь вылезти? – спросил он у Пятого.
Тот покачал головой, и Первый разрядил ему в лицо пистолет.
– Выхода нет. Ты, ты и ты. – Первый ткнул пальцем. – Ищите выход. Окна, старые двери. Кладка не может быть прочной. Постарайтесь ничего не взрывать. Стены старые…
Он проследил, как трое молча исчезли в коридоре, уходящем направо.
– Остальные туда… – Первый кивнул в сторону левого коридора. – Там должна быть лестница.
Номера двинулись в темный коридор. Ныряя во мрак тройками, останавливаясь в ключевых точках и проверяя каждую комнату. Серые тени на некоторое время задержались у входа. Наконец одна из теней двинулась за ушедшими в правый коридор. Они уходили все дальше и дальше. Комнаты были пусты. В одной поисковая группа натолкнулась на труп. Уже старый, разложившийся. Развалины пользовались в Буэнос-Айресе дурной славой, и, видимо, не зря. В другой комнатушке среди обвалившейся и полопавшейся штукатурки лежали детские игрушки. Мишки, куклы, кубики… Свалены в кучу, огромную, почти до потолка. Все гнилое, покрытое плесенью. Около входа стоял обглоданный временем маленький велосипед. Номерам не было страшно, хотя они понимали, что в любое другое время они бежали бы без оглядки из этих жутких корпусов. Но сейчас… сейчас страшно не было. Собственно, все страхи исчезли давным-давно. Когда к клетке, где они сидели долгую неделю после ареста, подошел человек в белом халате и еще парочка ребят в черных очках.
Наконец в одной из бесконечных комнат обнаружилось плохо заложенное красным кирпичом окно. Кладка осыпалась, сквозь дыры пробивалось солнце. Ведущий тройку подошел ближе. Осторожно выглянул. Остальные остались у двери, контролируя коридор. Ведущий легонько толкнул камни. Кладка под рукой чуть подалась, будто живая.
– Хорошо…
Он вернулся обратно.
– В коридоре чисто, – пробормотал один из наблюдателей.
– Надо проверить остальные комнаты. Когда будем уходить, на это не останется времени.
Остальные согласились.
И снова коридор. Комнаты, темные, брошенные, заваленные хламом, битым кирпичом, мусором. Как случилось, что этот человек оказался сзади, никто так и не понял. И только камешек, подвернувшийся под ногу, выдал его и заставил номер обернуться… перед смертью.
Парень в лохмотьях, к которым кое-где прилипли кусочки мусора, утопил спусковой крючок автомата. Пламя зло рванулось из ствола…
Парень в лохмотьях не двигался.
В комнате, которую только что проверили номерные, кто-то был.
Шуршали песчинки под сапогами.
Парень осторожно, подняв автомат к плечу, двинулся вперед, заходя по окружности к дверному проему. Он знал, там должен быть этот, в сером плаще, которого велено взять живьем. Если получится.
Однако к встрече он готов не был.
Когда из-за угла на него посмотрело бледное, узкое лицо и глаза… Глаза!!!
Паренька с автоматом как будто отбросило к стене. Ничего не соображая, он снова вжал спуск, и автомат безвредно выплюнул пули в стену. Все до единой. Сухо щелкнул боек. И в тот же миг в комнате засмеялся тот… со страшными глазами. Тихо, почти беззвучно. Но от этого шелеста по телу пробежали мурашки и поднялся каждый волосок на теле.
Парень кинулся назад, к спасительной куче мусора, где прятался все это время. И вдруг понял, что не знает, где находится. Пространство – верх, низ – все перемешалось. Все закрутилось, превратилось в странную уродливую пародию. Он упал, вцепился ладонями в грязный пол, зажмурил глаза и пополз.
А позади раздавались шаги. Тяжелые. Страшные. Будто двигался не человек, а гигант, великан!
Тихо подвывая, парень вполз в небольшую комнатку, служившую, видимо, кладовкой. Зажался в угол, уперся спиной, елозя ногами по плесени и мху… А в дверях уже вырастал, надвигался титанический силуэт. И эти глаза…
Парень взвыл. А потом резко дернул что-то с пояса. Черное. Круглое. Ребристое.
С негромким хлопком отлетел в сторону рычаг.
Группа поддержки, бежавшая по коридору, видела только взрыв. Из маленькой комнаты с грохотом вырвалось пламя и дым.
А сзади уже раздавались выстрелы. Это была атакована группа номеров, которые остались в левом коридоре.
К месту действия подмога снова не поспела. На полу лежало несколько мертвых номеров. Нападавшие скрылись в темноте коридоров.
– Больше не делимся, – сказал Первый и махнул рукой.
Продвижение, остановившееся на время, было возобновлено. Сначала двигались осторожно. А потом…
– У нас нет времени. Тут скоро будет армия.
И номера пошли в полный рост. А позади осторожно двигались серые тени.
Где-то наверху метался в своей камере обезумевший и связанный по рукам и ногам Бруно. Таманский, дрожа каждой жилкой, прижимался к стене около входа, сжав в потных ладонях тяжелый пистолет.
Когда внизу снова загрохотало, на этот раз уже ближе, Костя вздрогнул. По лбу покатился крупными каплями пот.
Бой продолжался несколько долгих минут. Дважды взрывались гранаты. Потом все стихло. И только глухой, сквозь кляп и закрытую дверь, вой товарища Кристо нарушал тишину.
Номера прошли на второй этаж. Позади лежало пять человек, оборонявших здание. Трое убиты в перестрелке, один застрелился и еще один умер, сжав лицо ладонями. Его пальцы застряли в глазницах… Атакующие потеряли троих номеров и одного из серых плащей. Его как раз и убил парень, вырвавший себе потом глаза.
На втором этаже номера застряли сразу около лестницы.
Поперек коридора была поставлена баррикада, с которой неприцельно лупил легкий пулемет. Стоило кому-то высунуться или поднять голову, как начиналась стрельба. Точку пытались забросать гранатами, но стрелок всякий раз продолжал огонь, как заговоренный. И тогда трое оставшихся серых плащей собрались в круг, прижались тесно друг к другу, обнялись, как братья, что не виделись давным-давно… И страшно закричал кто-то на том конце коридора. Номера бросились вперед. Грохнул выстрел. Другой.
Крик оборвался.
Следом за номерами, шатаясь и держась иногда за стены, ползли серые тени. Одну из них неудержимо рвало, и, когда на следующем повороте атакующих встретил автоматный огонь, серая тень, согнувшись пополам, ткнулась лицом в собственную блевотину.
– Быстрее! – рыкнул Второй, заменивший убитого Первого. – Быстрее!
И сам двинулся вперед. А когда из одной комнаты вылетела граната, Второй бросился на нее грудью.
– Быстрее! – крикнул Восьмой.
Все решилось уже под самой крышей. До заветной камеры оставался один этаж. И пятерка номеров застряла перед хитрым проходом, из-за которого какой-то ловкий ублюдок то и дело высовывал ствол.
Когда номера, подавляя позицию противника шквальным огнем, рванулись вперед, понимая, что потери хоть и неизбежны, но всех не положат… позади фигуры в сером неслышно вырос Ракушкин. Он ласково, как родного, обнял Алефа за шею, воткнул пистолет ему в висок и исчез…
На лестнице послышался шорох. Бруно как раз затих, и Таманский отчетливо слышал, как кто-то осторожный медленно поднимается вверх по шуршащим кусочкам штукатурки, раскиданной по ступеням… Костя постарался выровнять дыхание. Сжал рукоять пистолета. Ему показалось, что время замедлилось, и каждое его движение сделалось неуклюжим, неповоротливым… А сердце оглушительно лупит где-то под самым горлом.
– Таманский! – прошептал кто-то за стеной.
Костя мигом развернулся и упер ствол в хлипкую стенку, что отделяла его от лестничного пролета.
– Таманский! Не стреляйте! Это я, Антон.
Костя обмяк. В комнату ввалился ободранный, в ссадинах, Ракушкин. На плече у него висел человек в сером плаще.
– Мертвый? – выдохнул Костя.
– Почему же? – Ракушкин сбросил тело на пол. – Очень даже живой. Только не в форме.
Он ногой перевернул человека на спину. Костя поразился бледности лица незнакомца и тому, что, несмотря на жаркую погоду, он был закутан в плащ, застегнутый на все пуговицы. На руках у него были перчатки.
– Хорошо… – прошептал Ракушкин. – Очень хорошо…
По лестнице энергично затопали.
Антон и Таманский схватились за оружие, но на пороге показался Моралес. Он тяжело дышал, из рассеченного лба сочилась кровь.
– Кончено, – прошептал он. – Кончено. И с моими людьми тоже.
Ракушкин не ответил.
– А скажите, Костя, – вдруг поинтересовался он. – Вы когда-нибудь присутствовали при форсированном допросе?
– Что?
– При пытках.
– Нет. – Таманский почувствовал, как под ложечкой засосало.
– Хотите?
– Нет!
– Я почему-то так и подумал. Тогда помогите мне. И вы, Педро, тоже.
Втроем они подняли тело и быстро потащили его вниз по лестнице.
– Погодите! – спохватился Таманский. – А этот?..
– Кристобаль? – спросил Антон. – За ним придут. Можете мне поверить. Двигаемся, двигаемся!
Они вышли из здания через старый подземный ход, когда из-за поворота показался БТР с десантом на броне. А за ним еще один.
Когда дверь распахнулась, Кристобаль ничего не увидел. Яркий свет ослепил его. Крепкие руки вытащили Бруно наружу. Грубо вытащили изо рта кляп. Чья-то ладонь, крепкая и мозолистая, схватила его за подбородок, и тогда Кристобаль разглядел лицо человека, который стоял перед ним.
– Вильгельм! Кечоа! – вымолвил Бруно.
Индеец ухмыльнулся.
– Я, Кристо. Лейтенант Вильгельм Кечоа, если не возражаешь.
Только сейчас Бруно разглядел на своем верном телохранителе военную форму.
– Когда?.. – прохрипел он. – Когда?!
– Всегда! – Кечоа брезгливо отряхнул руки и добавил невозмутимо и твердо: – Всегда. – Затем индеец подошел к двери и гаркнул куда-то вниз: – Он тут, господин министр!
85
За дверью кто-то орал. Кто? Человек? Таманский сомневался.
Голос был человеческий, но Костя слишком хорошо знал, чья глотка издает эти звуки. По дороге пленник очнулся и принялся что-то шипеть, выкручиваясь из веревок. Таманский прижал его к сиденью и на какой-то момент встретился с ним глазами.
Нет.
У человека не бывает такого взгляда.
Никогда.
Ни у человека, ни у животного.
Таманский почувствовал тогда, как страшно хочется отскочить, отпрыгнуть в сторону от этого мерзкого, уродливого существа. Как от клубка ядовитых змей, как от разлагающегося, полного червей трупа, как от мерзкого подводного гада, которому и названия-то нет! Навсегда Костя запомнил этот взгляд. Навсегда запомнил, как окаменели мышцы, как замерли мысли и как медленно, исподволь потекла из Таманского жизнь… Сама жизнь!
Тогда, в машине, ему помог Ракушкин. Обернувшись с переднего сиденья, он дважды с силой ударил пленного по физиономии. Тот заткнулся и закрыл глаза. А Костю еще долго трясло.
Сейчас в другой комнате Ракушкин остался с этим существом один на один. И пленник кричал. Громко, протяжно… Но Таманский знал: это кричит не человек…
Напротив в кресле сидел Моралес. Костя видел, как трясутся его руки.
– Вам страшно? – спросил Таманский.
Аргентинец не ответил. Только отвел глаза.
– Когда он посмотрел мне в глаза, там, в машине, – сказал Костя, – я всю свою жизнь вспомнил. Банально звучит. Как будто умер. Вспомнил все до мелочей. Как учился. Как мечтал. Любил. Ненавидел. Все ясно-ясно увидел. В какие-то… секунды? Вся жизнь.
Таманский замолчал, потер лицо, удивился, обнаружив на щеках многодневную щетину. И, словно бы прорвав плотину, на него нахлынули все страхи, все ужасы прошедших дней. Тюрьма. Издевательства. Страх улиц. Ужас ночей, когда мимо дома проносятся с воем машины. Когда стреляют. Каждый час стреляют. То дальше, то ближе. А утром дворник засыпает темные лужи песком.
Таманский вздрогнул, зажмурился, крепко-крепко. И понял, что боится не за себя. Боится за девушку, у которой, откуда-то он это знал, будет от него ребенок, боится за нее, хрупкую, нежную, красивую… погруженную в кошмар, которым стал Буэнос-Айрес.
– Я старался остановить это… Старался… – шептал Костя. – Я старался… Но сейчас я нужен ей. Только ей.
Он встал.
Хлопнула дверь, и из соседней комнаты вышел Ракушкин. Он деловито вытирал руки полотенцем и улыбался. Но его лицо еще хранило то жуткое, страшное выражение, которое видел в последние мгновения жизни теперь уже мертвый Алеф.
– Вот вы, Педро, верите в бога? – неожиданно спросил Антон у Моралеса.
– Конечно! – Тот перекрестился.
– А я вот материалист, – усмехнулся Ракушкин. – Как оказалось, быть материалистом лучше. Кого-то защищает вера, а кого-то неверие. Никогда не знаешь, что надежней. А вы что думаете, Константин?
– Я? – Таманский растерялся. – Я… Понимаете, Антон… Антон Яковлевич, я должен сказать… В общем, я должен уйти. Я нужен сейчас совсем в другом месте. Понимаете? От меня ведь толку никакого. Сделаем, как договаривались… Я должен, поймите меня!
– Понимаю, – легко кивнул Антон. – Все понимаю.
– Так… – Костя ожидал, что Ракушкин станет уговаривать его, угрожать, приказывать. – Так я пойду?
– Конечно… – Антон отошел к столику.
Таманский на ватных ногах направился к двери, и тут Ракушкин неуловимо стремительным движением оказался у него за спиной и треснул Костю по голове рукояткой пистолета. Журналист обмяк.
Ракушкин деловито проверил пульс. Кивнул удовлетворенно:
– Живой… – Затем вытащил из шкафчика какие-то бумаги. – У меня, Педро, будет к вам поручение, – обратился он к Моралесу. – Вы доставите этого гражданина на самолет. Вот тут написано, какой и куда. Доставите прямо к трапу. И передадите людям, что будут вас ждать, эти бумаги. Все понятно?
Моралес равнодушно кивнул.
– И запомните, Педро, вы доставите этого человека к трапу самолета любой ценой! Даже если вам самому придется лететь на этом же борту. Понимаете меня? Самолет летит на Кубу. Если понадобится, вас возьмут на борт. Это безопасно.
– Я понимаю. – Моралес взял бумаги.
– Вот и хорошо. А я, пожалуй, навещу нашего Рауля. Совсем скоро, Педро, город превратится в кошмар. Так что я бы на вашем месте улетел на том самолете. И, если честно, мне очень жаль, что мы с вами не можем поменяться ролями.
86
Генрих застал фон Лооса в кабинете, где тот лихорадочно собирал какие-то бумаги. Что-то сминал и бросал в урну, а что-то укладывал в одну из разложенных на столе папок. При этом барон постоянно бормотал, ругался под нос, зло шипел и более всего походил на взбешенного кота. В кабинете остро воняло горелой бумагой.
– Ого! Лоос, у меня странное чувство, что все это я когда-то уже видел, – сказал Мюллер. Он тяжело опустился в кресло, смахнув с подлокотника кусочки разорванного документа.
– Черт вас дери, Генрих! Где вы были? Я за вами посылал! – Фон Лоос вытряхнул ящик стола на пол и принялся рыться в бумагах. – Да где же оно?!
– Объясните толком…
– Эти ублюдки расстреляли Бруно! В городе мятеж!
– Ну и что?
– А то, что ваша операция провалилась к чертовой матери, Генрих! Мы потеряли почти всех наших агентов, а новых чертов Доктор еще не сделал! Мы не контролируем ситуацию, понимаете?!
– Думаю, вам не привыкать…
В голосе Мюллера проскользнула особенная интонация, и фон Лоос поднял голову.
– Что? – Он почувствовал себя как тогда, в подвале, где за стеной жутко орал какой-то несчастный. – Что?!
– Я имею в виду, – улыбнулся Генрих, – что Аргентина вообще не особенно стабильное государство. Мятеж, карнавал, революция… Все время что-то происходит.
– Знаете, черт побери, меня очень раздражает ваша самоуверенность. – Фон Лоос отшвырнул очередную скомканную бумажку. – Может быть, вы почувствуете некоторое волнение, если я вам скажу, что лаборатории атакованы?
– Кем? – Генрих не изменился в лице, но улыбка его стала натянутой.
– Повстанцами!!! – заорал барон. – Монтонерос, дьявол их раздери! Они устроили фейерверк в центре города, придавили президентский дворец и отсекли казармы! В их руках свобода перемещения и маневра, а теперь еще они штурмуют лаборатории. Там сейчас Зеботтендорф, и что-то мне подсказывает, что он там и останется. Навсегда! Я послал к нему всех! Но что я могу сделать силами одного чертового взвода?! Дерьмо! – Он пинком отбросил от себя кипу бумаг. – Самолет будет через полтора часа. Забирайте все, что сочтете необходимым.
– Мне нечего брать. Только так… мелочи. Уложусь в одну сумку.
– Тогда через час я вас жду. В гараже.
Генрих рассеянно кивнул и вышел.
Фон Лоос что-то зло прошипел и принялся упаковывать папки, забитые бумагами доверху, в большой чемодан из крокодиловой кожи.
Мюллер постоял за закрытой дверью, стараясь унять сердцебиение.
Дом напоминал разоренное гнездо. Какие-то бумаги. Разбитая ваза. Незакрытое окно с развевающимися занавесками. Рассыпанные вокруг шахматного столика фигурки. Мелочи, признаки скорой смерти. Тогда, в далеком сорок пятом, так выглядела его контора. Не хватало только пьяных офицеров и самоубийств в запертых кабинетах.
– Разорение, вот точное слово, – прошептал Генрих. – Точное слово…
Он вздохнул. Оттолкнулся от стены и решительно зашагал к себе. Взял большой саквояж и сразу же вышел, направляясь к лестнице.
В подвале было сыро, как и прежде. Однако ко всему прочему тут стоял упругий винный дух. Одна из полок с вином была расколочена. Осколки многочисленных бутылок, разлившееся по полу драгоценное вино. Генрих прошел дальше и едва не споткнулся о лежащего человека.
– Неплохо, – пробормотал Мюллер. Вокруг головы лежащего разлилась темная лужа. Вино? Кровь? Не разобрать. А проверять Генрих не стал. Его цель была дальше. Много дальше.
Взяв со стены факел, он зажег фонарь и двинулся в темноту. Вскоре его ноги ступили на пружинящий белый ковер.
Через некоторое время Генрих заметил, что фонарь светит уже не так ярко. А помещение словно бы сжимается. Темнота становится невыносимой. И, кажется, вот-вот погаснет лампочка, и все… Все кончится.
Трясущимися руками Мюллер достал коробок. Зажав фонарик под мышкой, он попробовал зажечь спичку, но коробочка выскользнула и упала вниз. В белую, чуть шевелящуюся мерзость. Тихо чертыхаясь, Генрих собрал рассыпавшиеся спички, и наконец маленький огонек затеплился в темноте коридора. Нехотя, словно бы делая одолжение, загорелся факел. От этого живого огня стало легче дышать.
Генрих облегченно выдохнул и двинулся дальше. Он не посмотрел назад, и наверное правильно, потому что сзади, вместе с первыми бликами живого огня, истаяла неясная белая тень…
Однако через некоторое время идти снова стало трудно. Мох со времени последнего посещения вытянулся и мешал шагать, цепляясь клейкими усиками за подошвы. Генрих тяжело дышал, с усилием передвигая ноги, как по вязкому болоту. Сам уже не понимая, что делает, он запел задыхающимся надтреснутым голосом:
Знамена выше! Строй держи плотнее! С.А. чеканит шаг по мостовой… И в том строю шагают с нами тени Друзей, убитых красною рукой…Дальше первого куплета дело не пошло. Дышать стало совсем невыносимо. В боку нарастала неприятная, стягивающая боль. Так продолжалось долго. И когда клейкие нити вдруг кончились, Генрих едва не рухнул.
Он еще долго стоял, уперевшись ладонью в каменную стену и тяжело дыша. Наконец, собравшись с силами, Мюллер подошел к двери, вытащил из саквояжа отмычки и принялся возиться с замком.
На это ушло порядочно времени, но его усилия были вознаграждены, дверь со скрипом отворилась. Странно, но по сравнению с прошлым разом воздух внутри помещения показался Генриху спертым. Он поставил саквояж в центр комнаты, переложил что-то себе в карман и подошел к свинцовым сейфам. Снова пришел черед отмычек.
Когда, наконец, замок щелкнул, за дверью негромко кашлянули. Генрих вздрогнул, выхватил револьвер и прицелился в проем двери.
– Хотите открыть? – поинтересовался фон Лоос, выходя из-за угла. В его руках дрожал пистолет.
– Уже открыл, – ответил Генрих.
– Так-так… – Барон улыбнулся. – Ну, тогда прошу…
Мюллер не пошевелился.
– Вас смущает это? – Фон Лоос потряс пистолетом. – Я спрячу… Мне очень хочется посмотреть, как вы откроете сейф.
Мюллер одной рукой потянул на себя тяжелую дверцу.
– Ну, как? – еще шире ухмыльнулся фон Лоос.
Сейф был пуст.
– Удивлены?
– Где они? – Генрих дернул револьвером. – Где они? Ну!
– Далеко. – Фон Лоос прислонился спиной к косяку. – Очень далеко. Я планирую отбыть туда через… наверное, через полчаса. Полагаю, что вас я с собой уже не возьму. Мне просто интересно, вы хотели играть в свою игру? Лично? Или вместе с Доктором? Не может быть, чтобы в одиночку… Я ни за что не поверю, что вы знаете, где находится Точка Всех Начинаний. Вы знаете?
– Где чаши?! Я не шучу!
– Бросьте… Нет нужды трясти незаряженной пушкой.
Вместо ответа Мюллер нажал на курок. Сухо щелкнул боек. Ничего не произошло. Генрих отбросил бесполезный револьвер.
– Вот видите, Генрих. Надо было вам обратиться к Доктору на предмет омоложения. Это придает резвости не только телу, но и уму. Два дня назад вас не было, надеюсь, вы не сильно огорчитесь, что я побывал в вашей комнате? Увы… Я подумал, вилла охраняется, зачем вам оружие? – Фон Лоос радостно рассмеялся. – Вам, наверное, не страшно умирать, Генрих? Жалеете только, что я переиграл вас? Ну, не все же вам дурачить мир. Но перед смертью скажите мне все-таки. Вы работали в паре или в одиночку? – Лоос поднял пистолет. – В паре или в одиночку? Хотя Зеботтендорф мне и не страшен без своих ублюдков, но я все-таки хочу знать.
– Откровенность за откровенность. Хотите? – Генрих опустил руку в карман.
– Договорились!
– Я вам отвечу, но меня интересует одно… Эти чаши… Неужели вы думаете, что без Доктора у вас получится?
– Уверен! Рано или поздно армия справится с мятежниками. Я в это время буду в безопасном месте. А с досточтимым сеньором Хорхе Виделой, нынешним диктатором, у меня хорошие личные отношения. Очень хорошие, смею вас уверить! И, прошу обратить внимание, безо всяких ублюдков в серых плащах! Все основано на личном доверии и взаимовыгодных отношениях. Так что у меня есть на кого опереться. А дальше… Дальше – дело техники. Того, что проделал со мной наш Доктор, хватит на много десятков лет. Я еще увижу то, чего так и не увидел фюрер. Я увижу мир на коленях!
– Значит, чаши…
– На островах. – Фон Лоос утвердительно кивнул. – На тех территориях, где точно можно будет спокойно пересидеть смутное время. И черт с ним, с Зеботтендорфом. Ну, что? Расскажете мне свой план?
– Да. Если у вас есть время.
– Найдется.
– Все очень просто. Я собирался уничтожить чаши.
– Зачем?!
– Этого, боюсь, вы не поймете. Наверное, мне очень не хотелось видеть мир на коленях перед такой посредственностью, как вы. Времена таких титанов, какими были Гитлер, Сталин, Муссолини, Черчилль или Рузвельт, давно прошли. А когда они наступят снова, никому не понадобятся побрякушки древних… За них цепляются только такие, как вы, да сумасшедшие вроде Зиверса.
– Но, черт побери, вам-то какое до этого дело?! Мюллер! Любой еврей с удовольствием повесил бы вас на ближайшем суку! На вас же клейма ставить негде! И вы еще смеете читать мне мораль? Ха! Феноменальная наглость, Генрих!
– Мои грехи – это мои грехи. И я за них отвечу. Но… знаете, Лоос, у меня есть внуки. Я не желаю, чтобы они жили в вашем мире. В мире победившего выскочки!
– Вы закончили? – Фон Лоос поджал губы.
– Не совсем. Еще немного. Восстание, которое разрушило ваши планы, часть моей работы. Так что с Зеботтендорфом я не сотрудничал.
– Довольно!
– Момент! – Генрих поднял руку вверх. В ладони была зажата маленькая коробочка. Большим пальцем Мюллер утопил кнопку. – Если я ее отпущу, нам не поздоровится.
– Не берите меня на пушку, Генрих! В конце концов, я воевал…
– Саквояж набит тринитротолуолом. Детонатор на дне. Взрыватель у меня в руке. Как, по-вашему, я собирался уничтожить чаши? – Генрих рассмеялся. – Видите, Лоос, резвость тела совсем не подразумевает резвости ума. Когда вы меняли мне патроны в барабане, я добывал взрывчатку. Этого количества хватит, чтобы обрушить своды и завалить эти коридоры к чертовой матери. Теперь ведь ничто не мешает прохождению радиоволн, не так ли?
Фон Лоос некоторое время молчал, потом убрал пистолет.
– Чего вы хотите?
– Как все поменялось. – Генрих улыбнулся. – Да, собственно, ничего. Чаши вы отправили черт знает куда, хотя я и предполагаю, где они, но искать их мне придется долго. Наверняка они охраняются. С Зеботтендорфом пусть разбираются русские…
– Русские?! Черт побери…
– Да, да. Вы многого обо мне не знаете, Лоос. – Мюллер посмотрел на взрыватель. – Ну, что ж. Если я не могу уничтожить чаши… Это хорошо, что вы зашли. – Он посмотрел на пятящегося к двери фон Лооса. – И вы правы, дружище. Мне совсем не страшно умирать…
Звонко щелкнула кнопка взрывателя.
87
– Без вас эти работы не имеют смысла! – Американец волновался. Наверху слышалась стрельба. Штурмующие уже прошли внутрь лаборатории, и бой велся в коридоре. – Мы можем уйти вместе. Я гарантирую вам безопасность. Наше правительство имеет большой опыт сотрудничества с выходцами из Третьего рейха. Вспомните хотя бы ваших ядерщиков.
Зеботтендорф покачал головой.
– Это не имеет смысла. В конце концов, я стар. Мне более ста лет. И если мое тело вполне еще годится для работы, то… Я просто устал. Еще одного поражения мне не пережить. А отдавать свои работы этим… – Рудольф кивнул наверх. – Не желаю.
– Черт, но тут же… – Американец покосился на папки, что лежали в сумке. – Тут же малая часть! А вы знаете все!
– Малая часть, вы правы. – Старик ухмыльнулся. – А почему вы думаете, что для меня ваши Соединенные Штаты чем-то лучше… тех же русских? Вы точно так же воевали против Германии, как и они. И получить все… нет. Я не настолько хорошего мнения об Америке, чтобы давать ей такой карт-бланш. Запомните, как вас там…
– Джобс.
– Не важно, в конце концов… Запомните: третья мировая будет вестись не оружием! Она будет вестись словами! Идеями! Красивыми картинками! Плакатами и призывами! Рекламными буклетами, чтоб они сгорели! Запомните и передайте это тем, кому отдадите мои труды. Все ваши атомные бомбы можете просто утопить в океане. Главное оружие тут! – Он постучал себя по лбу согнутым указательным пальцем. – Главное оружие и главная для него мишень! – Он встал, махнул рукой. – Даже если бы я дал вам все… Тупоголовые янки… – Зеботтендорф вздохнул. – Идите! Через этот проход вы сумеете добраться до аэропорта.
Американец поднялся.
– Ну, если я не могу вас уговорить… – Он вытащил пистолет.
Но целиться было не в кого.
– Я бы мог вас убить, – прошептал кто-то за спиной.
Джобс обернулся. Но вокруг было пусто. Одни только клетки, в которых бесновались подопытные.
– Что за?..
– Идите уже!
Американец наконец увидел Зеботтендорфа. Тот стоял в десятке метров от него, на лестнице. Джобс снова прицелился. Но фигура доктора словно бы растворилась в воздухе.
– Проклятье! Что вы собираетесь делать?! – крикнул он.
– Повеселиться напоследок. Выпущу всех своих питомцев. Поверьте, среди них есть очень странные экземпляры. Может быть, кого-то из них вы еще увидите…
Американец побежал в дальний конец лаборатории, где на белоснежной стене зиял черный провал. Позади него отворялись двери клеток.
Что же было потом?
Рудольф фон Зеботтендорф был застрелен во время штурма лаборатории. Умение отводить глаза ему не помогло. Его подопечные, разбежавшиеся по всей округе, еще долго сеяли ужас в окрестностях Буэнос-Айреса. После того как генерал Хорхе Видела подавил восстание, специальные отряды национальной гвардии отлавливали людей с изуродованной душой. Обычно дело заканчивалось расстрелом на месте.
Однако кое-кто из них сумел пересечь границу и осесть в США. Последнего из тех, кто прошел Лабораторию Душ доктора Зеботтендорфа, казнили в 2001 году в Сиэтле. Гари Риджуэй убил сорок восемь женщин. На следствии он заявил, что только так мог поддерживать в себе жизнь. В планах «убийцы из Грин-Ривер» было дожить до столетнего возраста.
Сама лаборатория Зеботтендорфа была взорвана.
Во время ее штурма Антон Ракушкин едва не погиб. Он был ранен и зажат в узком тупике одного из переходов. Его спас неизвестный аргентинец, который сумел взять на себя командование, переформировать бойцов и продолжить штурм. Он же вытащил Антона из боя. Потом Ракушкин так и не смог найти этого человека. Черные волосы, берет, бородка. И, кажется, красная звездочка на берете. Это все, что запомнил Антон.
Это была последняя операция Антона Ракушкина за рубежом.
Константин Таманский пришел в себя уже на борту самолета. Вернувшись в Союз, он написал книгу о Че Геваре, которую так никто и не напечатал. Со своей женой он развелся, повторно не женился и умер в одиночестве. После развода он увлекся живописью, но рисовал только один сюжет. Смуглую девушку, растерянно стоящую на подмостках кабаре. Яркий свет, красные кулисы… После смерти Константина эти картины разошлись по московским театрам, с руководителями которых Таманский был дружен. Кое-где удивительную «Девушку на сцене» можно встретить и по сей день.
Мариза счастливо избежала страшных арестов периода «грязной войны». Советник Эмилио Фернандеса был страстным поклонником кабаре, поэтому все актрисы находились под его негласным протекторатом. После ухода Таманского из квартиры Мариза прочла все его прощальные письма и долго, очень долго искала его. Когда самолет, увозивший ее любимого, делал разворот над Буэнос-Айресом, Мариза смотрела в небо.
Через девять месяцев у нее родился ребенок, которому она дала фамилию отца. Тамански. Рудольф Тамански вырос, получил образование и работал в администрации президента. После того как распалась одна из наиболее могучих империй мира, Советский Союз, приехал в Россию. Вместе со своей постаревшей матерью они посетили могилу Константина Таманского.
Рудольф Тамански уехал в Аргентину, но вскоре вернулся назад. И поселился в Москве. Он женился. Вскоре у него родился сын Костя.
Могил у Генриха Мюллера действительно две. И в обеих лежит неизвестно кто, но только не сам Мюллер. Настоящая могила бывшего шефа гестапо – в пригородах Буэнос-Айреса, неподалеку от деревеньки Сан-Боливар. После того как стало ясно, что прежние хозяева куда-то подевались, окрестные крестьяне разграбили виллу фон Лооса. Теперь на этом месте лишь руины. По иронии судьбы, перед смертью Генрих Мюллер стал очень похож на артиста Леонида Броневого.
Уильям Джобс успешно покинул Аргентину и отвез материалы фон Зеботтендорфа своему руководству. После расшифровки данных в недрах ЦРУ был создан особый отдел. Через некоторое время «папка Доктора» была украдена и привезена в СССР. Однако в области «гуманитарной войны» Советский Союз безнадежно отстал, что и обусловило его последующий распад.
Чаши из древнего храма были найдены во время фолклендского кризиса и разошлись по частным коллекциям Европы. Своим новым владельцам счастья они, впрочем, не принесли. Чарльз Дуглас Бенсон, участник битвы за Фолкленды, был зарезан ночью в своей постели неизвестными злоумышленниками. Часть коллекции была уничтожена и исчезла, в том числе и странная чаша. Эмилия Уотс покончила с собой, бросившись в бассейн. Судьба антиквариата, принадлежавшего ей, неизвестна. Вирджиния Бейли погибла во время путешествия по Амазонке. Ее чаша была продана с аукциона Кристи анонимному покупателю. Четвертая чаша попала в руки Романа Полански, но тот почувствовал что-то неладное. Он попросил водителя остановиться у причала, где дети играли в «хелтер-скелтер», и под эту жуткую для него считалочку [5] Роман выкинул Чашу в Гудзон.
А Эрнесто Гевара де ля Серна до сих пор жив. Что бы о нем ни говорили.
Примечания
1
Изабелла Перон – вторая жена президента Перона.
(обратно)2
Иоганн Гуттенберг – немецкий первопечатник.
(обратно)3
Стихи Ивана Ситникова
(обратно)4
На День отца в Германии принято дарить главе семейства пучки тимьяна и других трав, собранных в поле. Эти травы используются для травяного чая, популярного в Германии.
(обратно)5
Хелтер-скелтер – американская детская считалочка, а также основа жизненной философии Чарлза Мэнсона, американского маньяка-убийцы, по приказу которого была зарезана вся семья режиссера Романа Полански.
(обратно)



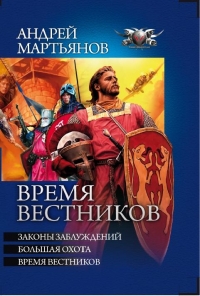


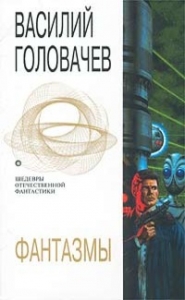

Комментарии к книге «Не плачь по мне, Аргентина», Виктор Бурцев
Всего 0 комментариев