Андрей Валентинов ОЛА
Если жертва его есть Всесожжение, пусть принесет ее без порока; пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом; и возложит руку свою на голову жертвы Всесожжения – и приобретет он благоволение, во очищение грехов его; священники же принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник; и снимет кожу с жертвы Всесожжения и рассечет ее на части; священники же положат на жертвенник огонь и на огне разложат дрова; и сожжет священник все на жертвеннике.
Это Ола – Всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу.
Книга Левит, 1, 3-9.Мигелю
де Сервантесу Сааведра
Дон Мигель!
С почтительностью, какую внушает мне Ваше величие, молю Вас принять мою книгу под милостивое свое покровительство, дабы, хоть и лишенная драгоценных украшений изящества и учености, обычно составляющих убранство произведений, выходящих из-под пера людей просвещенных, дерзнула она под сенью Вашей Милости бесстрашно предстать на суд тех, кто, выходя за пределы собственного невежества, имеет обыкновение выносить не столько справедливый, сколь суровый приговор. Вы и без клятвы можете поверить, как хотелось бы мне, чтобы эта книга, плод моего разумения, являла собою верх красоты, изящества и глубокомыслия. Но отменить закон природы, согласно которому всякое живое существо порождает себе подобное, не в моей власти. А когда так, то что же иное мог породить мой ум, если не эту повесть? Случается иной раз, что у кого-нибудь родится безобразный и нескладный сын, однако же любовь спешит наложить повязку на глаза отца, и он не только не замечает его недостатков, но, напротив того, в самих этих недостатках находит нечто остроумное и привлекательное. Вы же, Ваша Милость, вперив очи мудрости своей в мои благие намерения, надеюсь, не отвергнете столь слабого изъявления нижайшей моей преданности.
Надеюсь также, Дон Мигель, Вы простите меня за то, что все искренние слова, написанные выше, принадлежат не мне, а именно Вам и взяты из Вашей бессмертной Книги. Свет, зажженный Вами, Ваша Милость, четыре века назад, не погас и ныне возвращается к Вам же.
АвторНА КНИГУ «ОЛА»
УРГАНДА НЕУЛОВИМАЯ
Эй, любители фанта (зий!) Налетайте, книжка вы(шла!) Про идальго с кабалье(ро,) Про красоток, про чудо(вищ,) Про ужасных людое(дов) И, конечно, про драко(нов.) Хватит мудрствовать лук(аво) И сушить мозги без тол(ку,) Философий начитав(шись!) То ли дело, меч взяв слав(ный,) Долбануть врага по шле(му, —) Не на игрищах – взаправ(ду,) Да чтоб звон пошел по ми(ру —) Этим с вами и займем(ся!) Мимо замков великан(ских,) Через чары колдовски(е,) Поплывем за Море Мра(ка,) А что там – пока загад(ка,) Прочитайте – ясно бу(дет.) Если ты решила, кни (га,) Путь направить к тем, кто зна(ет,) Там тебе дурак не ска(жет,) Что ты пальцы ставишь кри(во.) Если же тебе приспи(чит) Даться в руки остоло(пам,) Так они тебе в два сче(та) Разлетятся пальцем в не(бо,) А меж тем все ногти б съе(ли,) Чтоб явить свою уче(ность.) Ты, не слушай, друг, эсте (тов —) Все эстеты – мужелож(цы,) Лишь себе подобных хва(лят,) А за что – вполне понят(но.) Ну, а кто не мужело(жец —) Прочитай – жалеть не ста(нешь!) Книжка эта – про пика(ро,) [1] Про братка-контрабандис(та) Да про рыцаря-геро(я,) Да про юную деви(цу,) Да про призраков ужас(ных,) В общем, весь набор в нали(чьи,) Ночью даже будет снить(ся.) Ну, кто смелый? Все за мно(ю!)НАЧО БЛАНКО по прозвищу БЕЛЫЙ ИДАЛЬГО
СОНЕТ
Ошибочка! Наш автор пошутил, Прошу меня назвать совсем иначе. Я не идальго, просто Белый Начо, Вовеки в эскудеро [2] не ходил! Мне ни к чему дворянской спеси пыл. А риск смертельный ни к чему тем паче. Щит на монетах я носить любил. А если рыцарь был – то лишь Удачи. Пикаро я, обычный вор морской. Не рыцарский роман, а плутовской Строчить про Начо Бланко было б впору. Не по плечу мне белый плащ с крестом. Не жить мне меж молитвой и постом. Но делать нечего. Спешу я в бой, сеньоры!ДОН САЛАДО
СОНЕТ
Кто здесь смешон, так это – только я. Калека в мятом шлеме, в старых латах, С рукой сухой (спасибо, не горбатый!), О ком страна забыла и семья. Пусть так, пускай нелепа жизнь моя. Мне ни к чему гнить в каменных палатах, Дороги камень – он ценнее злата. И судьями мне Бог лишь – и друзья. Я вижу то, что прочим не узреть, Вершу я то, что трусам не посметь. Пускай смеются, пусть кричат мне: «Враль!» Всю мудрость, все богатства, все владенья Не променяю на свои виденья. И верю, что увижу я Грааль!ЛИСЕНСИАТ [3] АЛЕССАНДРО МАРИЯ РОХАС
СОНЕТ
Ученый муж, что слова в простоте Не молвит. И подобно попугаю Твердит: «Не может быть!» – в ответ мечте Неужто я таков? Ей-ей, не знаю. Смешная роль – читать moralite. Но автор строг ко мне – и я читаю, Репейником болтаюсь на хвосте, Хоть сам и ни черта не понимаю. Таков удел, увы, печальный мой. Я резонер, я вовсе не герой. Толстяк в очках, почти дурак из сказки! Но – лишь пока. И стану я иным, Когда подступит Смерть к друзьям моим И миг настанет всем нам скинуть маски.АКАДЕМИКИ ЧЕРТОБЕС, ТИКИ-ТАК И ЛИЗОБЛЮД
СОНЕТ
Роман плохой, его читать не след. Во-первых, автор путает все факты Истории. Предмет не знает он — Ни лошадей, ни лат и ни одежды. А во-вторых, опять Добро и Зло! Опять борьба меж ними, понимаешь! Какая скука! Если б киберпанк! Драконы в виртуалке – это круто. А в-третьих – ну, не любим мы его! А кто не люб нам, тот и не писатель. А посему, кто дочитал доселе, Захлопни книжку – и о ней забудь! Когда б еще мы рифмовать умели, Мы б вам похлеще песенку напели!ОСЕЛ КУЛО
СОНЕТ
Назвали так, что стыдно повторить. Ну чем я плох? Своей ослиной шкурой? «Осел, – кричат, – осел!» Бреду понуро. Ей-богу, впору только слезы лить! А между тем повествованья нить Не рвется, скреплена моей натурой Ослиною, простой – но трубадурам Лишь рыцарей положено хвалить. Таков удел. Нагрузят, как верблюда, И – по ушам! Как только выжил – чудо! Легко героем слыть, осла кляня! Но ты, Читатель, рассуди без лести. Взгляни, чего я стою честь по чести. Ведь все в романе началось с меня!Часть первая. КАЛЕЧНЫЙ ИДАЛЬГО
ЛОА [4]
Чтоб гулялось веселее,
Чтобы скука не знобила,
Кинем краски вдоль дороги.
Желтый цвет – на Алькудийо,
Поле, мертвое от солнца,
Под бескрайним синим небом.
Красный цвет для гор оставим,
Для утесов Сьерра-Мадре.
И немного еще белый —
Для героя шевелюры
(Что диковинка в Кастилье,
Потому он Начо Бланко),
А чтоб в такт нам ехать было,
Заиграем самакуэку —
Страсть, что смешана с весельем:
Без заботы и без горя.
Что за горе у пикаро?
А забот и быть не может,
Ежли двор есть постоялый,
Где сиесту проведем мы
Под винцо (чуток с кислинкой,
Да другого не достанешь).
Желтый, синий, красный, белый.
Самакуэка!
ХОРНАДА [5] I. О том, как я стал богаче на два эскудо [6] и на одного рыцаря
Ну где, скажите на милость, слыхано, чтобы осла – осла! – звали Куло? Осел и без того – скотина из последних, хуже галисийца, честное слово. Ну а если его (осла, не галисийца) еще и кличут Задницей!…
Вот и влип. Не осел, конечно. Я влип. Влип, а точнее, застрял аккурат посреди Алькудийских, будь они трижды неладны, полей. Картинка что надо: жарынь, на небе – ни тучки, спрятались, поди, на горизонте – три дохлых ветряка, а вокруг – овцы, овцы, овцы, серые такие. И тоже полудохлые от жары. Ну и мы с ослом. Который Куло.
Знал я, знал, что обманет Одноглазый Пепе! Глаз-то один, а как глянет… Я ведь у него честно выиграл, у него «десять» выпало, у меня «одиннадцать». Так он, мерзавец, вначале отыграться хотел. В карты, в «королевство». Ну, я-то в карты не игрок, пусть в них французишки, которые их и выдумали, играют. Кости – другое дело, вот в кости я его и обставил. Честно – на пять серебряных реалов. Ну а он, Пепе-поганец, как с картами не обломилось, всучил мне осла, вот этого самого Куло. Вместо денег. А мне ехать было самое время, вот я сдуру и согласился, тем более осел вроде как ничего, серый, даже с колокольчиком. Подкованный притом, ровно не осел – мул какой-то.
Ну и влип.
Вначале эта скотина идти не хотела. Ну совсем никак. Ни с вьюком, ни без вьюка. Потом пошла, но не на юг, к Севилье, а на север, не иначе в мою родную Астурию собралась. А когда мы наконец как-то поладили – захромала. Подкова, оказывается, у этого Куло на одном гвозде висела.
И вот, пожалуйста: полдень, жара, Алькудийские поля, а впереди – харчевня Молинильо, последнее место во всей северной Андалузии, куда бы мне хотелось заглянуть. Во-первых, винишко там дрянь дрянью. Во-вторых, тамошней ольей [7] только крыс травить, в-третьих…
Ну, да что там! Деваться-то некуда. Только и осталось, что Пепе Одноглазого сердечно помянуть, Задницу этого до ворот дотащить, стреножить, чтобы не похромал куда не следует…
Уже на крыльце понял – бьют. Да не просто, а от всей души. Визг женский, крики, а в перерывах «бух-бух!», «бух-бух!». И громко так! Мне даже показалось, что по железу колотят. Вроде как в кузнице. Взялся я за ручку дверную…
– Сеньоры! Ради Господа, сеньоры! Не трогайте его! Бу-бух!
Ясно! Лупят, и славно лупят. И вроде как действительно по железу. Но не в кузнице, это уж точно. Душевное это местечко – заведение папаши Молинильо!
А как вошел, как огляделся…
– Не трогайте, не трогайте его!
Его – которого лупят, понятное дело. Длинный такой дядька, худой, поперек пола неметеного разлегся, встать пытается. Да где там! Рядом трое, чернобородые, в шароварах цветных, в платках пестрых…
Бу-бух!
Ах вот оно что! Дядька-то в латах. Вот почему я о кузнице подумал! Как они еще ноги себе не отбили? Башмаки, конечно, тяжелые, и подметки деревянные…
– Не трогайте его, сеньоры! Сеньор, сеньор, заступитесь!
Вот и дама! Да не простая, в дорожной маске [8], плащ не какой-нибудь, генуэзский, сразу видно. Неужели без слуг? Ага, и слуга имеется, вон он, к стеночке прижался, мешать не хочет…
Бу-бух!
Служаночка-козочка тоже подальше отошла, глазенками лупает, а папаша Молинильо, само собой, за стойкой, кружки протирает. И не видит ничего, и не слышит…
– Сеньор, сеньор, ради Девы Святой, вмешайтесь, они же его убьют!
Кажется, это мне. Я даже оглядываться не стал. Хватит с меня и Задницы. Мне бы кружку кислятины здешней пропустить да Куло подковать…
– Сеньор!!!
– Ладно! – вздохнул я. – Эй, парни, вы там прервитесь, мне пройти надо!
Прервались. Прервались – и плохо так на меня посмотрели.
Они – на меня. Я – на них.
Все ясно, гуртовщики из Месты [9]. И одеты сходно, и плащи-сайяли в углу грудой свалены. Это мне все ясно. А им?
– Тебе что, парень, тоже захотелось?
– Мне? – восхитился я.
Дагу, что у пряжки висит, даже поправлять не стал. Не слепые, заметят. И дагу, и белый платок на голове, и поясок-агухету с бляшками, и серьгу в левом ухе – серебряную.
– А-а, с Берега, что ли? Ну, проходи! Эй, ребята, пошли хлебнем по кружечке!
Заметили! Они, конечно, Места, ну, а мы – Коста [10]. Тоже не сушеные тараканы.
Звякнуло, грюкнуло. Этот дядька, который в латах, отползти пытался. Поглядел я на него…
– А ему нальем?
– Ему? – хором-басом. – Ему?!
Между тем наш латник умудрился перейти на четвереньки. Плохо это у него получалось. В латах оно не очень удобно, к тому же левая рука…
Всмотрелся я, присвистнул, головой покачал:
– Так он же калека! Вы чего, парни, калек бить начали?
– Видел бы ты этого калеку! – возмутился кто-то, но уже тоном пониже. Отходчивые они, здешние гуртовщики.
Пойло оказалось пойлом, олья – ольей, парни из Месты – парнями из Месты. Не лучше и не хуже. Зря о них всякое болтают, будто и разбойники, и грабители. Обычные гуртовщики, спокойные даже – если, конечно, ближе чем на лигу [11] к ним не подходить. Ну, мы-то, ребята с Берега, их не боимся. У нас с Местой вроде как перемирие.
В общем, выпили по пол-асумбре [12], кружками стукнулись ради знакомства.
– Начо Бланко к вашим услугам, сеньоры, – сообщил я. – А назовете Бланкито – в ухо дам! [13]
– Это который Бланко? – поинтересовался самый бородатый. – Который от Пабло Калабрийца?
Слышали! Тесен мир!
– Так ведь, Начо, или мы сами не видим? Калека он, понятное дело, мы калек и пальцем не трогаем. Так и сидел бы тихо! Мы, значит, зашли, винца спросили, я козе этой, служанке тутошней, леща дал, как водится, а он…
«Он» – тот самый латник. Меч выхватил, заорал…
– И ведь чего заорал-то? Уйдите, мол, людоеды, от прекрасной инфанты! Мы-то людоеды? Обидно даже! А инфанта… Тьфу, и сказать стыдно. Ну как такого не отделать?
Защитника прекрасных инфант мы усадили на лавку, вручив кружку все той же кислятины. Я почему-то ждал, что дама, которая в маске, к страдальцу тут же подбежит – платочек к синякам прикладывать. Ан нет, вина заказала (не здешнего – неаполитанского) и в сторону отвернулась. Вроде как неинтересно ей стало.
…Неаполитанского! Обидно даже. Сколько по Кастилии [14] нашей да по Арагону ездил, ни разу приличного винца не выпил. Местного то есть. А все мавры, будь они! Вот и приходится сеньорам важным, у кого золотишко в кошелях позвякивает, неаполитанское пить (нам с Калабрийцем забота!). Говорят, посадили виноградники в Малаге и в Хересе, но когда еще они вырастут! Да и вырастут ли?
Ну, неаполитанское – это для господ. Нам и кислятины хватит.
А между тем сеньоры гуртовщики…
– Да знаю я его, калечного! – это уже другой, тоже бородатый. – Ему башку под Малагой отшибло. Ездит где попало и принцесс с инфантами защищает. А как кто не понравится, словами плохими обзывается. Мол, великан злобный, или, как сегодня, людоед. Или там, колдун. Добро бы обзывался, так ведь драться лезет. Железо хватает!
«Железо» – старинный, в пятнах ржавчины меч, мы закинули в угол. Тяжеленный оказался!
Слушать про чудачества этого железнобокого пришлось довольно долго. Мой Куло никак не хотел подковываться, к тому же жара аж через ставни закрытые заползала. Даже здешняя олья показалась мне получше тамошнего пекла. Спешить я особо не спешил, осел мой – тем более, так что можно и в холодке посидеть, про борца с великанами послушать.
– Таких, как он, Начо, вообще на цепи держать надо. Идальго странствующий, понимаешь! Да пес с ним, с рыцарем, прости Господи, этим. Ты лучше расскажи, что у вас там нового на Берегу?
Спросил, называется! Это все равно если бы я поинтересовался, что нового у ихних овец. Стадо сюда, стадо туда, тут волки, там собаки. И у нас, на Берегу, все то же. Тартана с Сицилии, фелюга с Корсики. И волки с собаками, опять же.
Ну, мы люди вежливые, ответим.
В общем, приятная вышла сиеста.
Свой закон есть у пикаро: Коль живой – живи минутой, Кто считал, осталось сколько, Если ходишь ты по краю? Все – твои! Винишко в кружке, В миске – олья иль поэлья [15] , А за стойкою девчонка В безрукавке, в юбке пестрой, Не отходит, строит глазки. Много надо ли живому? Не откладывай на завтра! Может, завтра ждет веревка, Может, зыбкая пучина Над башкой сомкнётся шалой, Иль тебя вдогон достанет Мавританская стрела?Сквозь ставни раскрытые прохладой вечерней веет, сеньоры гуртовщики только что откланялись, слуга, тот, что при сеньоре, которая в маске, вещи стал укладывать. Пора и мне. Не ночевать же в здешнем сарае! Как раз по холодку до «Черного петуха» доберусь, а там и винцо получше, и служаночка, хоть и не инфанта, а не в пример смазливее.
– Эй, ты! Эй, я?
Да-а-авненько ко мне так не обращались! В последний раз в Триане это было, как раз зимой, полгода назад. Тогда одному арагонцу здорово захотелось подраться…
– Тебе говорю. Моя барыня тебя видеть хочет!
Ну конечно! Герой-слуга, тот, что к стеночке прилип, когда парни латника-горемыку обрабатывали. Отлип, выходит?
Поглядел я на него, хотел слово доброе сказать. Не сказал. Из любопытства. И в самом деле, на кой бес я этой, в маске, сдался? Даже интересно.
– Чего сеньора изволит?
Кланяться не стал – спина отчего-то закаменела. Да и то, будь эта барынька годков на двадцать помоложе…
– Вы… Вы, я вижу, храбрый молодой человек.
И на том спасибо. Теперь и поклониться можно. Слегка.
– Спасибо, что защитили этого… этого сеньора.
Странное дело, она вроде как волнуется? Маска маской, а вот пальцы не скроешь. Платочек, тот, что в руках, вот-вот треснет…
– У меня… У меня к вам просьба. Этот сеньор… Он болен, ему нужно помочь. Вы не взялись бы… Сама я не могу, мне ехать надо. А вы могли бы заработать…
Заработать? Она что, меня за погонщика мулов приняла?
– Я – пикаро, досточтимая сеньора, – пояснил я. – Пикаро, да будет известно вашей милости, не работают.
– Пикаро? Ах да, конечно…
Каждому званию – свой почет. Сеньоре в маске ездить дозволено, а такому, как я…
– Ну… вы могли бы слегка… подработать.
Тут я не выдержал – улыбнулся. Знает! Мы, пикаро, не служим, не работаем. Прирабатываем, если что, перехватываем где придется – или деньгу сшибаем по-легкому. Работать же – увольте. Мулы пусть работают!
– Да-да, молодой человек, подработать…
А платочек-то! Бедный платочек! И с чего бы ей так волноваться?
– Я вам заплачу! Два эскудо, золотом. А там, куда вы его отвезете, вам заплатят еще столько же. Это не так далеко, по дороге в Севилью, там живет его дальний родич. Там этому сеньору помогут, ему лекарь хороший нужен, вы же понимаете…
А вот и денежки. И письмецо. Когда только написать успела? На письме – адрес крупными буквами. Это чтобы я, значит, не спутал.
– Вы… вы ему поможете?
Оглянулся я, на героя железнобокого взглянул. Сидит на лавке, где его и посадили, ложку в блюдо с ольей тычет. Бороденка-мочалка вниз свисает, все той же ольей заляпана. Оно, конечно, и помочь можно – за четыре-то эскудо. Тем более мне по пути, крюк совсем небольшой, в полдня всего.
– Вы же понимаете, он как ребенок…
Я кивнул, соглашаясь, и вдруг понял: что-то тут немного не так. То есть совсем не так. Ну, скажем, пожалела барынька этого бедолагу – бывает. И к месту определить решила, с верным человеком направить, золота не пожалела. Тоже случается, конечно. Но странное дело, за весь разговор ни одного имени не помянула. Ни своего, ни идальго этого ушибленного. Не знает? Тогда откуда ей ведать, где родичи его проживают? И моего не спросила. Да как же так? А может, я первый в округе разбойник-душегуб?
– Так вы согласны?
И снова платочек безвинный терзает! Да с чего ж это ей так волноваться?
Подумал я чуток, на горемыку этого поглядел, снова подумал.
Согласился.
И тут же пожалел. Будто мне одного осла мало!
Поблагодарила барынька, платочек спрятала, слуге своему наглому кивнула.
И нет ее! Растворилась словно.
И остались мы с бедолагой идальго вдвоем. Это, конечно, если папашу Молинильо не считать, но он и за шкаф посудный сойти может.
Поглядел я на свои эскудо, в руке взвесил, даже на зуб попробовал…
Вот уж не знаешь, где счастье найдешь!
Два эскудо – деньги. И немалые – двадцать шесть реалов, а в мараведи если – то вообще бесова уйма. Где-то столько мне причитается с каждого плавания – ежели серые волки под латинским парусом не нагонят, конечно. Это мне причитается, я ведь у Калабрийца правая рука, другим же и по полудюжине реалов за глаза хватит. Так что, считай, к Корсике на фелюге сходил. Вот если бы к золоту еще герой благородный не прилагался…
Поглядел я в окошко – пора. До «Черного петуха» еще ехать и ехать.
– Ваша милость! А, ваша милость?
Услышал? Услышал вроде. Бороденкой свой заляпанной качнул, пустую миску на лавку поставил.
– Увы мне, увы!
И вздохнул. Грустно так, жалобно. Даже меня проняло.
– Ехать надо, ваша милость!
– Увы… Вновь не по силам мне оказался подвиг. Поистине тяжек путь странствующего идальго! Однако же мужество поистине превозмогает все препятствия, о чем засвидетельствовал жизнию своею благородный сеньор Ланчелоте, справедливо прослывший первым рыцарем всех времен…
Слушать дальше я не стал. Кликнул служанку, сунул ей медяк, и принялись мы сеньора рыцаря в путь собирать. Меч-то я сразу нашел, а вот за шлемом пришлось за стойку лезть. Шлем тоже старым оказался, мятым, словно топтались по нему, – да еще и французским. Смех, а не шлем! Такие лет сорок тому носили, а то и все полвека. Я понадеялся было, что это все, да где там! Ко всему еще полагалось копье – тяжелое, с треснувшим древком. Оно все это время в углу простояло, я его даже не заметил – за оглоблю принял. Взялся я за это копьецо – и тут же занозу в ладонь вогнал.
А когда я узнал, что у сеньора рыцаря имеется еще и конь, то только вздохнул. Если латы таковы, то коняга не иначе самой Бабьеке [16] бабушка двоюродная.
Как выяснилось – нет. Приличный конек оказался. Упряжь, правда, чуть ли не из мочалы, а так – ничего. Во всяком случае, если и старше меня, то ненамного. Только маленький очень. Сеньор рыцарь даром что тощий, зато длинный, с собственное копье ростом – брас, с четвертью, не меньше [17]. Ну, ничего, сюда приехал, значит, и отсюда сподобится.
Ну, все? Кажется, все!
– Ваша милость, пора!
И снова вздох – такой же тяжкий. Борода-мочалка дрогнула.
– Стоит ли тебе, о юный эскудеро, пускаться в столь опасное странствие? Поверь, я не сомневаюсь в твоей смелости и честности, однако же путь странствующего рыцаря поистине труден…
Я невольно оглянулся, пытаясь найти того, кому предназначена эта тирада. Не нашел. Оставалось признать очевидное: юный эскудеро – это я.
– А посему мой долг предупредить тебя, о отважный оруженосец…
Слушать дальше не стоило. Я не без труда приподнял благородного идальго за плечи…
– …Что путь мой отмечен не столько славою, сколько горестями, кои нет у меня делить охоты с теми, кто не принимал обета странствия.
На двор я его все-таки выволок. И даже на коня взгромоздил. Служаночка тем временем копье подтащила, я ее за ухо потрепал. А вот и мой Куло. Отдохнул, Задница, аж бока залоснились!
Все из-за тебя, зараза!
Ну, едем?
– Однако же ежели ты и вправду решился разделить со мною и все трудности, и славу…
Едем!
Договорил он уже за воротами. Что именно – я даже и не понял. Что-то про того самого сеньора Ланчелоте. Чем-то ему этот сеньор ко двору пришелся. Не иначе родич.
Оглянулся я, вздохнул. Хорошо! Отдохнул, жару переждал, за поясом золотишко позвякивает. Если бы еще не этот…
Ладно, раз уж так выпало!
– Меня Начо кличут, ваша милость. Начо Бланко, а еще Начо Астурийцем.
Вначале показалось – не понял. Задумался, шлем свой мятый-давленый поправил.
– Поистине, Начо, Астурия – земля истинных идальго! И горд я тем, что предки мои – тоже оттуда, из славного города Овьедо…
Поглядел я на него – уже совсем по-другому. То-то мастью он такой светлый, почти как я! Астурийца узнать легко. Меня ведь потому Бланко прозвали – Белым то есть.
– Сам же я родом из Эстремадуры, из селения Охоно, что возле берега славной реки Тахо. Зовут же меня Алонсо Торибио-и-Ампуэро-и-Кихада…
Я чуть не подавился. Это что, мне все запоминать придется?
– …Однако же с недавнего времени принял я имя Дон Саладо, как и надлежит странствующему рыцарю…
Я покосился на его шлем. Дон Саладо! Хорошо еще, не Дон Сомбреро [18].
В общем, познакомились.
Так и ехали мы рядом, Я да он, да конь в придачу, Да осел паскудный Куло. Рвался к подвигам мой рыцарь, Погонял конька-беднягу. Мой осел спешил к кормушке, Я один не торопился. Я не рыцарь, я – пикаро, Мне спешить – так только к плахе. Прожит день – и слава Богу. (А срубил деньгу – тем паче!) Всех монет не переловишь, Но за пригоршню эскудо Можно стать и эскудеро. А что дальше – жизнь покажет.ХОРНАДА II . О том, как мы бросили вызов нескольким злобным великанам
– Великаны же из них всех поистине наиболее зловредны! – уверенно заключил Дон Саладо, тыча в горячее небо длинным костлявым пальцем. – Однако же, Начо, колдуны тоже весьма и весьма опасны. Но – по-иному.
– Вам виднее, рыцарь, – вздохнул я, дожевывая последний кус ветчины. – Кто бы спорил, я не стану.
И действительно, спорить с доблестным идальго оказалось совершенно бессмысленно. Это я понял быстро. Как и многое другое.
– Есть еще вино, сеньор, – напомнил я. – Неаполитанское «греко». Вы бы глотнули – жарко!
Жарко! Это еще слабо сказано. Хорошо еще, мы наткнулись на эти деревья, каким-то чудом выросшие прямиком у дороги. Какой-никакой, а тенек, значит, и перекусить можно. И выпить.
На «греко» это я его раскрутил еще в «Черном петухе» (чем я барыньки хуже?). Двадцать мараведи за кувшин – помереть можно! Тем более моему идальго, кажется, было совершенно все равно, что есть и что пить. Ему все равно, но мне-то нет. Оно конечно, но двадцать мараведи! Тем более чуть ли не последние его мараведи.
Щедр оказался борец с великанами. И добр. И даже покладист – в некоторых вопросах. А вот во всем остальном…
– И пусть не говорят, Начо, что странствующие рыцари безрассудны, – между тем продолжил он, отхлебнув из кувшина и явно не почувствовав вкуса (а зря!). – Это совсем не так. И пусть не удивляет тебя, что я принимаю отнюдь не каждый вызов…
Я чуть не поперхнулся. Отнюдь не каждый! Ну, знаете!
Первым, кто бросил вызов славному идальго – почти сразу же за воротами заведения папаши Молинильо, – была отара овец. Даже без пастуха, не иначе не проснулся еще, лежебока, после сиесты. Мирные такие овцы, разве что от жары слегка очумелые. Так это для меня они мирные. Не успел я опомниться, а копье у Дона Саладо уже наперевес, глаза огнем горят-пылают. Миг – и с воплем «Святой Яго! Рази Испания!» (бедный мой Куло от страха ветры пустил) славный идальго ринулся сокращать местное поголовье.
Ну, остановил я его. Ну, отобрал копье.
За овцами последовала телега с какими-то сонными поселянами, за телегой – стая ворон…
В общем, вовремя барынька эта, которая в маске, меня в няньки наняла. А то не доехать бы моему Дону Саладо даже до «Черного петуха». Вороны-то его, может, и не заклевали бы…
…То есть не вороны, конечно! Это для меня, доблестей рыцарских не разумеющего, они – вороны. А на самом деле – гарпии. Это, значит, тоже птички, только с клювами стальными и с перьями вроде арбалетных болтов. И овцы – не овцы, а агромадная толпа ведьм, что на шабаш собрались. А телега оказалась то ли драконом трехглавым, то ли тремя драконами сразу.
(Телега-то ладно! Сегодня утром доблестный идальго все порывался к ветряной мельнице свернуть. Плохо так на нее посматривал. Ну, туда я его не пустил. Еще не хватало!)
А уж когда мы к «Черному петуху» подъехали!… Ну, это разговор отдельный. Хорошо еще, догадался я в этот «великанский замок» на разведку напроситься – прямиком в стан вражий. Хоть предупредить успел, чтоб народ не слишком нашему явлению удивлялся. А как меня после этого мой рыцарь хвалить начал! Мол, герой, не побоялся в самое великанье логово наведаться.
Да-а-а, боком мне мои эскудо выйдут! То есть уже выходят. Особенно ежели…
– …Особенно ежели, Начо, опасность грозит прекрасной даме или же ребенку. И вот тут рыцарь должен быть непреклонен! Что раны, что смерть? Это и отличает истинного идальго от презренного ландскнехта-наемника, который продает свою кровь за горсть серебра.
…От меня, значит.
– Увы, золотой век давно позади, Начо! Минули времена доблестного короля Артуро, великого рыцаря Ланчелоте и славного Сида Компеадора! Видят мои глаза закат, и я молю Господа, дабы не узреть мне черную ночь!
Я бы поспорил, конечно, насчет золотого века. Это у нас в Кастилии он минул, а в Арагоне – в самом цвете. То-то тамошние поселяне всех этих Ланчелоте так и норовят на вилы поднять. А случается – и поднимают.
Поспорил бы – но не стал. Уж больно рыцарь показался мне хорош. Глаза сверкают, борода-мочалка торчком, усы, тонкие, с легкой проседью – и те дыбом встали.
Орел!
Копье я ему все-таки не отдал – объяснил, что эскудеро, мне то есть, его носить положено. Я бы и меч отобрал – подальше от греха, – но тут уж точно бы не вышло. Так и поехали дальше: я с копьем (ну и видок же у меня со стороны!) и славный идальго Дон Саладо – налегке. Не спеша поехали. Мой рыцарь-то в седле скверно держался – калека, да и видел плохо – шагов на двадцать вперед, не больше. А у меня свой расклад имелся. Очень не хотелось дуриком через некий городок проезжать. Городок-то ничего, а вот алькальд [19] тамошний меня слишком хорошо знает. Повесить – не повесит, но…
… Но зачем мне лишние расспросы? Если даже те бородачи в харчевне знают про Пабло Калабрийца! И про меня, раба божьего, слыхали. Так что с королевской стражей (да и со Святой Эрмандадой [20] тоже) лишний раз встречаться резону нет, особенно ежели золото при поясе и этот чудило в латах рядом.
В общем, у Черного Распятия свернули мы налево, на Старый Тракт (его еще Пыльным называют). Кажется, мой рыцарь этого даже не заметил. Да и заметить трудно – что Старый Тракт, что Новый – оба пыльные. А вокруг все то же – овцы, мельницы, полудохлые деревца на холмах…
Так и едем. Так и болтаем. То есть это сеньор Саладо болтает, а я слушаю. Или не слушаю – киваю просто. Да и что слушать? Про великанов да драконов – надоело, а с остальным – ясность полная. Воевал Дон Саладо (тогда еще, конечно, дон Алонсо Торибио-и-Ампуэро-и-Кихада) с маврами, с двенадцати лет воевал, еще при старом короле Хуане, что нынешней королеве дедом приходился, в седло сел. И – довоевался. Брал Малагу (аккурат десять лет назад это было), и надо же такому случиться – бомбарда разорвалась. Не вражеская – своя. Всех вокруг переубивало-перекалечило, и моему рыцарю досталось. Руку перебило – высохла рука, глаза опять же, а главное – башка. Отвезли его домой в Эстремадуру, выхаживали долго – да все без толку. С тех пор у него одни великаны с драконами на уме – то есть, конечно, на том, что от его ума осталось. Все эти годы семья его взаперти держала, а вот недавно – вырвался.
Вот так! И ведь жалко дядьку. Настоящий рыцарь, что ни говори, из тех, которые Кастилию нашу от мавров черномазых освободили. Не то что нынешние щеголи в итальянских шелках-бархатах (те самые шелка-бархаты, что мы с Калабрийцем на фелюгах привозим – выгодное дельце!).
Одно любопытно – отчего эта барынька в маске не велела мне славного идальго прямиком домой доставить? Далеко, конечно, но ежели бы мне один эскудо прибавили…
Да, интересно!
Под вечер дорога перестала мне нравиться. Не то чтобы совсем, но все-таки перестала. Я ведь и бывал здесь всего пару раз, и то не сам, а с ребятами Калабрийца. Когда толпой-гопой едешь, многого не замечаешь. А тут…
Прежде всего сгинули овцы. Даже непривычно как-то стало. Вроде и дорога не хуже, и ручьи встречаются… Значит, парни из Месты сюда не суются. Или не по дороге им? Так ведь вроде им всюду в Кастилии путь открыт, захотят – через Вальядолид стада свои прогонят!
В общем, неуютно как-то стало. А как в селеньице одно заехали – так и вообще. Селеньице-то обычное, но народ уж больно странноватый. Ни харчевни, ни постоялого двора, ворота на запоре, на окнах – ставни закрытые. И хоть бы кто в нашу сторону поглядел! Может, оно и к лучшему, потому как рожи… Ой, рожи!
И тут я вспомнил – мавры! Самые их места тут. С большой дороги ушли, а здесь остались. Правда, не мавры уже – мориски [21], даже церковь выстроили (ну, точно мечеть, правда, с крестом), но все равно с моей астурийской шевелюрой сюда лучше не соваться.
Да, заехали! О том, чтобы тут заночевать, понятное дело, и думать не стоило. Правда, за горкой, как я помнил, постоялый двор имеется, но до него еще добраться нужно. А ведь уже вечер! Куло, даром что Задница, приуныл, уши свои серые развесил, конек-недоросток тоже еле ноги передвигает. Поглядел я на моего рыцаря…
– Гложет меня сомнение, Начо! Ибо места сии словно созданы для засады злобных колдунов, особливо же – великанов…
Я даже спорить не стал. Горка, что перед нами, – самая распаршивая. На вершине не лес – бурелом пополам с кустарником, к самой дороге подступает.
– Хоть и не верю я в предчувствия, равно как в гадание и прочую ворожбу…
– Не верите? – поразился я. – Как же так, рыцарь? В великанов – верите, в колдунов – верите?
Спросил – а сам дагу поудобнее на поясе пристроил, чтобы рукоять сама в ладонь легла. Дага – это хорошо, но вот копье! Куда мне его девать, ежели что случится? И тут послышалось что-то странное. Вначале подумал – дерево треснуло, затем – у Куло моего в брюхе заурчало. А после понял – это Дон Саладо смеяться изволил. От удивления я даже о дороге на какой-то миг позабыл.
– Ах, Начо! Поистине, даже самые лучшие из нынешних юношей – слепы! И я бы не верил в этих страшилищ и злодеев, ежели бы не зрел их своими собственными глазами. И хоть слабо я вижу ныне…
Хотел я вновь его перебить, присоветовать, дабы рыцарь благородный в ближайшем городишке окуляры у аптекаря заказал и не мучился – но не стал. Успею еще. В здешних местах аптекарей нет.
– … Однако же смело могу сказать, что чудища сии и вправду существуют, ибо могу я не токмо видеть, но и слышать их, равно как осязать и даже, увы, вдыхать их мерзкое зловоние. Посему, логике следуя, надлежит мне признать их злодейское существование. Гадание же и ворожба – суеверия суть, и верить в них не велит Святая Католическая Церковь!
При этих словах Дон Саладо рискнул отпустить поводья, дабы осенить себя крестом. Я замер – этак и с седла брякнется, поднимай потом! Не брякнулся. Перекрестился. Я перевел дух.
– Даже в цыганские не верите? – не отставал я. – В смысле гадания?
Спросил, а сам вновь на дорогу взглянул. Мы уже на горку подниматься начали, кусты да коряги к самым ослиным копытам подползать стали…
– Или нагадали тебе что, Начо?
Смутился я. Смутился – впервые за последние полгода. Или даже за год. Скривился, рукой махнул.
– Вроде того, сеньор. Я еще маленький был. Нагадала мне цыганка две вещи. Первое – будто бы принцем стану. Только вы не смейтесь, Дон Саладо!
– Отнюдь! – бодро ответствовал рыцарь. – Отчего же смеяться, Начо? Ты молод, у тебя все впереди, отчего же не стать тебе принцем? Я же обещаю, что как только прославлюсь и одержу великую победу, то сделаю тебя для начала аделантадо [22] какого-нибудь острова…
– Только не Сицилии, – вздохнул я, сообразив, что зря разоткровенничался. И перед кем?
– Отчего же не Сицилии? – бодро вопросил бесстрашный идальго, но тут же прервал себя: – Начо!
Позвал он меня уже шепотом. Костлявая рука указывала куда-то вперед. Вперед – и чуть в сторону.
Я поглядел – и помянул дьявола вкупе с ослиной задницей. Птицы! Взлетели веером, над буреломом этим поганым кружат…
На дорогу смотреть надо было, дурак болтливый!
– Великаны! – в шепоте Дон Саладо послышалось нечто вроде удовлетворения. – Сейчас ты увидишь, Начо, что чувства мои и на этот раз не подвели меня…
Я уже не слушал – ни про чувства, ни про великанов. Влипли! И место какое – самое что ни на есть убойное! Слезть с осла? А копье? Бросить?
Тьфу ты!
Я еще успел заметить, как мой рыцарь, изрядно качнувшись в седле, здоровой рукой взялся за рукоять своей железяки, прежде чем…
– … А ну, слазь с седел! Приехали, сеньоры!
Слева, справа, спереди, сзади… Дюжина? Больше! На плечах – сайяли мехом вверх, на башках нечесаных – шапки чуть ли не из овчины. А рожи-то, рожи! Зна-а-ко-мые рожи! Не из того ли селеньица, что внизу осталось?
– Слазь, говорю!
Вот это здешних разбойничков и губит – желание поболтать. Или покрасоваться – что одно и то же. Я бы в этих кустах сидел – так у меня и ветка бы не хрустнула, и птица не шелохнулась, и языком трепать бы не стал. Вот месяц назад, как раз на этой самой Сицилии…
– Поживее, поживее, кастильские свиньи! Первое дело – кошели кидайте, а там уж поглядим!
Посмотрел я на разбойничков – и почему-то успокоился. Ни луков у мордачей этих, ни мечей. Даже кинжалов приличных нет. Только дубины да ножи. Кухонные.
Козопасы!
(А за «кастильскую свинью» можно и пырой в брюхо получить, мориски драные!)
– Не соблаговолите ли, любезные сеньоры великаны, точнее изъяснить ваши намерения?
Вроде бы мне и привыкнуть пора, а все равно не выдержал – рот раскрыл. Вернее, он сам собой растворился – рот. «Любезные сеньоры великаны»! Ну сказанул, дядька!
– Че-че-чего?
Кажется, не у одного меня со ртом неувязка вышла!
– Дело в том, сеньоры, – как ни в чем не бывало продолжал доблестный идальго, – что мы с моим эскудеро, благородным юношей Игнасио [23], прозываемым Бланко, изволим мирно путешествовать, отнюдь ваших великаньих владений не тревожа и добра не трогая…
Ну надо же! «Игнасио»! Мне даже понравилось.
– Однако же, коли вы из племени великанов злых, до добра чужого жадных, то не будь я благородный идальго Алонсо Торибио-и-Ампуэро-и-Кихада…
Главного я уже успел приметить – именно он про «кастильских свиней» помянул. И не зря! На башке – не шапка козья – тюрбан! Навидался я таких в Гранаде! И в Алжире навидался.
А что болтают – славно! Пусть болтают.
Пока!
– … прозываемый ныне Доном Саладо, то не избежите вы доброй трепки. А посему вызываю я вас на славный бой!…
Болтайте, болтайте! А я пока считалочку вспомню. Старая такая считалочка, глупая: «Ты гуляй, гуляй, дубье! Разбегайся прочь, ворье! Первый – раз, второй – погас…»
– Бей! Бей кастильцев! Бей неверных собак! Опомнились! Бей – значит бей. Бьем! Гуляй, дубье!
Завертелось, засвистело, Заорало, закружилось, Эх, гуляй, гуляй, пикаро! Жалко, музыки не слышно. Хорошо под кастаньеты Проломить башку дурную! Бей налево, бей направо! Ты не сам придумал это — Или враг откинет ноги, Или сам лежать здесь будешь! А убьют – что за досада? Над пикаро не заплачут, Но и сам не стану плакать, Если выжить доведется!Эх, опоздал! В жизни с копьем этим дурацким не обращался. Хотел древком навернуть…
«Ты гуляй, гуляй, дубье!»
…прямиком по тюрбану наглому. Нет тюрбана! По шапке, что рядом… Ах ты!
…нет шапки!
Ну, по следующему уже не промажу! Есть! «Первый – раз!…» Странное дело, когда дерусь – ни черта не слышу. Вот и сейчас – вроде бы орут, пасти свои грязные раззявливают с клыками желтыми…
«Второй – погас!…»
Кстати, как там мой рыцарь? Как бы не убили! Жив? Ой! Ай! Дьявол! Таки попали, по плечу, правда, но все же!…
«Ну а третьему мы…» А где, кстати, третий? Третий где? Тот, кому мы, понятное дело, в глаз.
Оглянулся.
Копьем – древком стоеросовым – на всякий случай в воздухе махнул – аж просвистело… Нет третьего! И четвертого, кстати, тоже.
Неужели все?
– Ты славно обращаешься с копьем, Начо, – одобрительно молвил Дон Саладо, невозмутимо вкладывая в ножны свою железяку. – Однако же в следующий раз советовал бы я тебе повернуть его иным концом, именно же острием…
Фу-ты!
В кустах – шорох, на дороге мы с рыцарем, да конек с моим Куло, да пара башмаков деревянных вкупе с шапкой. Плечо ноет… Кровь? Нету крови, и на том спасибо. Ни на плече, ни на дороге… Да где же все? Этих ублюдков с дюжину ведь было, а я даже дагу не вынул…
– Они чего, убежали?
Ляпнул, не подумав. Потом, естественно, задумался. Задумался, а после – изумился.
– Сеньор, это вы… вы их прогнали?
Теперь удивился он. Удивился, глазами своими подслеповатыми моргнул.
– Неужели ты хотел бы, Начо, пролить кровь этих бездельников? Поверь, навидался я великанов и скажу, что эти – из распоследних. Посему и бил я их, как и должно – плашмя. Хоть и надел их предводитель стальные латы…
Латы? Это он что, о тюрбане?
Латы?!
Кто это хохочет? Неужели я? Действительно, обхохотаться можно. Сухорукий калека с допотопным мечом в дурацком шлеме! А я думал, этого дядьку на помочах водить придется!…
– Поистине, рыцарь, вы совершили изрядный подвиг! – отдышавшись, заметил я. – А этот… предводитель, который в стальных латах?
– Унесен был, – удовлетворенно кивнул Дон Саладо. – Под руки унесен двумя чудищами…
…А жаль! Мне бы с этим тюрбаном поговорить. И не только мне!
– …И вновь повторю – не спасли его латы стальные дамасского закала, хоть и исщербил я о них свой славный меч…
– Покажите! – не выдержал я.
Кажется, самое время начинать лечение. Раз уж мой рыцарь столь ценит логику… Глазами не увидит, так пальцем пощупает!
Протянул он мне меч (ой, старый! ой, ржавый!), взял я железяку эту. Взглянул.
Глаза протер.
Снова взглянул…
Что за диво? Слом на стали, Словно били по железу. Свежий слом – никак не спутать, Исщербилась железяка! Я стоял, глазам не веря, И все пальцем в нее тыкал. Или был тюрбан железный? Иль под ним башка стальная? Или это просто – случай? Так ведь не было железа — Только шапки и дубины! Так стоял я, дурень дурнем, Не решаясь слово молвить. Заревел тут мерзкий Куло — Не иначе – рассмеялся!ХОРНАДА III. О том, как мы с доблестным идальго участвовали в одном высокоученом диспуте
– И что же еще тебе предсказала оная цыганка, Начо? – вопросил Дон Саладо, удовлетворенно отодвигая в сторону пустую миску.
Надо же, не забыл!
Я свою похлебку давно уже проглотил и хлеб дожевал, и теперь от нечего делать обозревал старый ржавый щит, висевший возле окошка. Ну и рухлядь! Как раз для моего рыцаря.
– Цыганка эта, сеньор, велела мне опасаться святой Клары, потому как именно от нее мне смерть приключится.
– Гм-м…
Как хорошо, когда вокруг ни единой мавританской рожи! Все здесь свои, все добрые кастильцы. На первый взгляд, во всяком случае.
Здесь – это на постоялом дворе «Император Трапезундский». Я не ошибся – аккурат за горочкой распаскудной, где на нас напали, двор этот находится. То есть для меня – постоялый двор, для Дона Саладо же, понятное дело, замок. Хорошо еще, не великанский! Замок не замок, но тут уж точно – не мавры обитают. Не мавры, не мориски, не мудэхары, не эльчи [24]. Не суются они сюда. И хвала Деве Святой!
Про мавров (они же – злобные великаны) я прямо с порога здешнего хозяина расспросил. Он даже не удивился, а ежели и удивился, то тому, как это мы с моим идальго живыми сюда добрались. Гиблые там места, за горой. Сплошные мориски, Магомету своему паршивому чуть не в открытую поклоняются, а тех, кто мимо проезжает, – в ножи. За последний год аж семеро пропало. И купцы, и просто народ бродячий вроде нас.
Послушал я, головой покачал, перекрестился даже. А потом и удивился – слегка. Ежели мы с Доном Саладо дюжину этих душегубов разогнали, то чем другие хуже? Купцы-то без охраны не ездят, даже самые захудалые.
А похлебка тут хороша! Только у мяса вкус какой-то сладковатый.
– Однако же, Начо, – молвил рыцарь после долгого раздумья, – сдается мне, что предсказание сие не должно тебя тревожить. Не говорю уже о том, что святая Клара никому еще не приносила зла да и принести не может, какова цена сиим пророчествам? Маги и ворожеи редко говорят правду, ибо королем у них сам Отец Лжи, коего называть мы тут поостережемся.
Я пожал плечами, а самому стыдно стало. Не то чтобы я в это все поверил, но с тех пор ни в одну церковь Санта-Клары не заходил. Вот, наверное, обижается она на меня!
А насчет этих самых магов и ворожей…
– А я слыхал другое, рыцарь. Того, кого вы называть не захотели, вообще не следует опасаться. Ведь Господь всесилен, так? Кто же против него бороться сможет? Между прочим, в старых книжках, где ад описан, сказано, что этот самый, кого мы не называем, лежит на самом донышке в цепях, а его с боков огнем подпаливают. Это сейчас попы стали нас им пугать – чтобы мы церкви десятину платить не забывали.
– Помилуй, Начо! – борода-мочалка недоуменно дернулась. – Кто мог рассказать тебе такое?
И действительно, кто? Зря я об этом заговорил. И с кем?
– Один… один священник. Падре Рикардо его звали. Я как из дому ушел, в Севилью попал. Мне и семи лет тогда не было. Так он, священник этот, не дал мне с голодухи сгинуть. Даже читать выучил…
– Достойный, видать, человек, – кивнул Дон Саладо. – Однако же взгляды его…
– Да… Взгляды… – вздохнул я. – Это вы в самую точку попали, рыцарь. Точнее не бывает.
Не люблю об этом вспоминать. О чем угодно – только не об этом!
– Может, стоит спросить у здешнего хозяина вина? – поинтересовался мой идальго. – Потому как вид у тебя, Начо, стал уж больно невеселый!
Ну, разве что вина…
Вино мы потребляли в доброй компании. Повезло – сюда, к «Трапезундскому Императору», нечасто гости заглядывают – опять же из-за этих самых морисков. В этот же вечер народу собралось немало. В углу двое купчиков, из тех, что вразнос торгуют, у окошка, прямо под щитом ржавым – широкоплечий молодец в красной рубахе, а за соседним столом – толстячок в темном балахоне. Ну, и сам хозяин, так сказать, сеньор Трапезундский.
А еще служаночка. Чернявая такая – точь-в-точь цыганка. Поглядел я на нее…
Да-а-а… И чего это мне, белому, такие цыганочки всегда нравятся?
Вот она нам вина и принесла. Я нарочно по полкружки заказал, чтобы вновь ее подозвать.
Глядел я, понятное дело, не только на нее. Любопытство, конечно, грех, и грех изрядный, но чего еще делать, когда целый вечер впереди? Тем более если не пялиться, а потихоньку, полегоньку…
С купчиками – полная ясность. Ни на кого не смотрят, руки на поясах, к деньгам поближе. Шушукаются, тихо так. Ну и пусть себе. А тот, что в рубахе красной, – ну чистый мясник! Ручищи – каждая с бычью голяшку, а глаза…
Странные глаза! Или это свечной огонь в них отсвечивает? Страшновато даже! А так – парень как парень.
Хозяин… Да все они одинаковые, эти трактирщики! А вот толстячок в балахоне… Так-так…
– А не спросить ли нам у хозяина, Начо, чей это славный щит украшает зал этого замка?
– А?!
Фу-ты, задумался! И действительно, отчего не спросить?
– Щит этот, любезные сеньоры, не простой щит, скажу я вам. Ибо принадлежал он не кому-нибудь, а самому императору Трапезундскому сеньору Мануэле, коий как раз двести лет тому изгнан был турками из своих земель, после чего отправился в нашу Кастилию, дабы помочь добрым христианам в борьбе со злокозненными маврами…
Хозяин прямо-таки светился от довольства. Кажется, он только и ждал этого вопроса. И то, зря, что ли, щит повесил?
– Предок же мой служил в его отряде. И, скажу я вам, не последним был он бойцом! И вот после злой сечи сеньор Мануэле пожаловал сей щит пращуру моему. Я же, сей постоялый двор приобретя, повесил реликвию эту, дабы все могли узреть память о давней славе.
Я покосился на Дона Саладо. Тот даже рот раскрыл, да так, что борода в кружку с вином влезла. Ну еще бы!
Слушали, конечно, не только мы. Даже купчики шушукаться перестали. Лишь парень в красной рубахе и ухом не вел. Все так же сидел, ручищи на груди сложил, а в глазах – огоньки свечные.
– А посему, любезные сеньоры, – закончил хозяин, – давайте выпьем за всех славных рыцарей, что в нашей Кастилии жили и сейчас живут. За их доблесть да за их подвиги!
Ну кто же за такое пить откажется? Подбежала служаночка-цыганочка, в кружки вина плеснула. Подмигнул я ей, она – мне… Выпили!
– Однако же странно, сеньор хозяин. Не обманули ли вас с этим щитом?
Кто это сказал? Толстячок? Точно, он!
– Извольте взглянуть, сеньоры!…
Встал – чуть скамью не опрокинул, к щиту прокосолапил. А это что из-под балахона выпирает? Никак кинжал носим? Дрянь, конечно, ножичек… Кто же мы такие? Меня чуток постарше, под носом усики темные, на переносице пятно, не иначе окуляры надевает…
– Сей щит, сеньоры, есть не что иное, как brusttartsche, то есть грудной тарч, именуемый также венгерским. Вот, извольте видеть, здесь справа выемка, дабы сподручно было действовать копьем. Он и вправду с Востока, из Венгрии или Полонии, причем достаточно редкий, поелику упомянутые тарчи делались обычно из дерева, сей же – стальной. Однако же вошел щит этот в обиход лишь в прошлом веке, а посему никак не мог принадлежать оному императору…
– Вы, я вижу, сеньор, весьма ученый человек, – с глубокой обидой в голосе молвил хозяин. – Мы-то люди простые!
– Я лисенсиат, с вашего позволения, – гордо молвил толстячок и приосанился.
То-то мне сразу Саламанкой [25] запахло!
– К тому же, сеньор хозяин, ни в одной книге я не читал о приезде упомянутого вами сеньора Мануэле в Кастилию. Да и нужды в том не было, ибо только тридцать с небольшим лет назад Трапезунд был захвачен турками…
– Как вашей милости угодно будет, – вздохнул хозяин.
Мне даже его жалко стало.
– Да разве это важно, сеньоры!
Славный Дон Саладо вскочил, воздел худую руку к деревянной люстре.
– Кто бы ни был тот, чье отважное сердце защищал сей щит, он, верю, был славным рыцарем. Ибо хоть и худо я вижу ныне, рассмотреть я смог на сем щите следы лютых ударов. Кто ведает, может, был сей идальго не менее славен, чем Ланчелоте или сам король Артуро, да только не нашлось поэта, который бы воспел деяния его. А посему почтим Неизвестного Рыцаря, который этим щитом защищал нашу Кастилию и весь христианский мир! Да воссияет слава рыцарства в веках!
Уф, сказал! А хорошо сказал! Хозяин прямо-таки расцвел, купчишки переглянулись, цыганочка рот раскрыла. Я ей снова подмигнул…
Только парень-мясник даже не моргнул. Лишь в глазах огоньки блеснули.
– А-а, это вы, сеньор, Мэлори, видать, начитались! – махнул пухлой ручкой лисенсиат.
– Простите, – растерялся Дон Саладо. – Какого Мэлори?
– Да англичанина Мэлори, – вздохнул толстячок. – Книгу его, «Смерть Артура» именуемую, два года назад в Мадриде перевели на кастильский и издали. Не читали? И не советую, ибо все это – басни и ерунда! Прочтя такую книгу, поневоле пожалеешь, что сеньор Хуан Гутенберг изобрел способ тиснения книг. Раньше такую ерунду читали в лучшем случае десятки, теперь же тысячи, а скоро, не дай Господь, конечно, миллионы. Вся эта чушь с баронами, драконами, эльфами…
– Что вы называете чушью, сеньор лисенсиат? – возопил Дон Саладо. – Рыцарство? Короля Артуро?
Эка завелись! Хозяин поближе подошел, и купчишки пересели…
Только парень все там же. Или он просто глухой?
– Да не рыцарство, сеньор, – вздохнул лисенсиат. – Хотя и о рыцарстве можно сказать не только хорошее. Сейчас же, после изобретения бомбард и аркебуз рыцари просто смешны!
…Мочалка Дона Саладо встала дыбом.
– Да Господь с ними, с рыцарями. Настоящими, я имею в виду. А чушью я назвал те нелепые басни, которые сейчас пишет кто не лень и, увы, издает. Вот увидите, люди скоро с ума сходить начнут. И немудрено! Ланцелот, король Артур… Да их и не было вовсе! По крайней мере таких, как пишет этот англичанин…
– Позвольте, сеньор, – не выдержал один из купцов. – Однако же Артур действительно существовал. Это все ведают!
– Кто ведает? – вновь махнул пухлой ручонкой лисенсиат. – Читатели этих, как их стали теперь называть, романов? Если этот Артур и жил, то он был не король, а обыкновенный разбойник…
Хорошо, что я был начеку и вовремя перехватил руку моего идальго! А то быть бы сеньору толстячку если не без головы, то уж без языка – точно.
…Меч я на всякий случай положил рядом с собой – чтобы Дон Саладо не дотянулся.
– Но древние летописи… – не сдавался купчик.
– Древние? – лисенсиата явно понесло – по кочкам, по кочкам. – Единственная достоверная летопись, сеньоры, где говорится об Артуре, это книга англичанина Ненния да разве еще труд Гильдаса, тоже англичанина, хоть он, по мне, все же сомнителен. И что же там сказано? Артур, да будет вам известно, всего лишь вождь наемников, который помогал римскому военачальнику Амброзию в войне с какими-то варварами. Сей Артур и вправду неплохо бился, но зато не был чист на руку и разграбил некое аббатство, за что его отлучили от церкви…
…На этот раз Дона Саладо пришлось хватать за плечи.
– А все остальное – выдумки, – пухлая ручка рубанула воздух. – В «Хронике» Вильяма Малмсберийского сказано, что Артур один-одинешенек сокрушил девять сотен врагов, у Гальфрида Монмутского Артур уже король и даже, кажется, император. Ну а после и говорить нечего… К слову, если вы так любите всякие байки, отчего бы не вспомнить легенду о том, что Артур и все его рыцари были страшными оборотнями?
– Но как же гробница Артуро? – не выдержал славный Дон Саладо. – Ибо слышал я, что найдены были кости великого Артуро и супруги его, прекрасной королевы Гвиневры и погребены были с почестями в неком аббатстве, именуемом…
– …Гластонбери, – маленький нос лисенсиата нетерпеливо дернулся. – А в Дувре хранится череп сеньора Гавейна, Артурова племянника, в Винчестере же – тот самый Круглый стол… Сеньор! Чьи-то кости действительно нашли, а в Винчестерском дворце стоит какой-то старый стол. Но помилуйте, все это требует надежной атрибутации, которую, естественно, никто не проводил!
На этот раз даже мой идальго не нашелся что сказать. Слово «атрибутация» его, кажется, добило. Я между тем, изрядно наскучив этими высокими материями, вновь поглядел на служанку.
Улыбнулась! Эх, если бы не мой рыцарь калечный под боком да не хозяин!
Хотя…
Встал я, к двери подошел, вроде как во двор собрался. То ли воздухом подышать, то ли по нужде. В самое время вышел – сеньор лисенсиат вновь с хозяином сцепился – на этот раз из-за королевы Гвиневры.
Встал я на пороге, глазами служаночку нащупал.
Подмигнул.
Вышел…
На небе ни облачка, воздух тихий, звезды лампадками сияют.
Хорошо!
А интересно, если бы я этому мозгляку-лисенсиату про тюрбан да про меч щербленый рассказал? Так ведь не поверит, толстяк!
Ага, дверь скрипнула! Она. Цыганочка!
– Ой, сеньор!
Ну да, конечно, «ой!». Я, между прочим, в сторонке стоял, меня еще и найти надо было. А ведь нашла!
– Начо Бланко к вашим услугам, прекрасная сеньорита, – улыбнулся я. – Сейчас и всегда!
– Мне… Мне идти надо, сеньор! Дядя… Хозяин который, прибьет, если увидит!
Говорит, а сама улыбается. И не уходит.
– Но ведь заснет же он когда-нибудь! – усмехнулся я в ответ. – Ночью стукни в дверь…
Задумалась. Странное дело, вроде как помрачнела. Или это из-за темноты? Кажется просто?
– Нет, сеньор Начо. Если я постучу… Или дядя постучит, или кто еще… Не открывайте! Что бы я ни говорила, что бы кто другой ни говорил… Святой Девой молю, не открывайте! И другу своему скажите!
Я только моргнул. Моргнул, рот раскрыл…
Ну и дела!
Пока моргал, пока рот закрывал…
Убежала!
Огляделся – пусто рядом, В небо глянул – звезды в небе. Ветерок блуждает в кронах, Где-то птица прокричала. И не знаешь, что же думать? Помощь звать, орать от страха? Или просто посмеяться?В зале все еще кости Артуровы перемывали, но мне уже не до Артуро этого было. Вновь осмотрелся, на парня в рубахе красной поглядел…
…Блеснули огоньки свечные в глазах. Аж морозом меня ударило!
А тут и комната вспомнилась – моя. Та, в которую я уже вещи забросить успел и где мне ночевничать предстоит. На втором этаже комнатушка, маленькая, только гроб и поставишь. И таких комнатушек на втором этаже целых шесть, значит, сегодня пять из них заняты будут.
Хорошо еще, комната славного идальго как раз напротив моей!
Или эта девчонка просто пошутить решила? Чтобы меня, нахала, отвадить?
Поглядел я на Дона Саладо, покачал головой:
– Э-э, рыцарь! Эка вас развезло! Надо бы на двор прогуляться, водички в лицо плеснуть!
А сам его – за плечи. Чтобы не опомнился. Опомнился, но уже на крыльце:
– Но… Начо! Я вовсе не…
Я прикрыл дверь, по сторонам поглядел.
– Слушайте… Выслушал, вздохнул…
– Так и сделаем, Начо! Однако же если твои сомнения основательны, не должно ли нам предупредить остальных?
– О чем? – вздохнул я. – Что девчонка не велела мне дверь открывать? А если это правда, представляете, что с ней сделают?
– Но что же?…
– Увидим, – перебил я. – А вдруг все это байки? Как те, про короля Артуро?
– Ах, Начо, Начо, – укоризненно молвил рыцарь. Молвил, головой качнул. – Не будь таким маловером! Хотя должен тебе заметить, что щит, с которого и начался наш горячий спор, действительно не такой старый. Думаю, лет восемьдесят ему, но уж никак не больше.
Я не выдержал – улыбнулся.
Проверил щеколду – ничего щеколда, держит. Дверь посмотрел – крепкая дверь, сразу не выбьешь.
Только бы рыцарь мой не сплоховал! Прибегут, закричат, что в двери шайка злых великанов ломится…
Вытащил дагу из ножен, провел пальцем по острию…
Хороша, сам точил!
А может, ерунда все? Не любит эта цыганочка заезжих ухажеров с серьгой в ухе – и отваживает?
В доме тихо, в коридоре тихо…
Даже мыши не шуршали, Не скреблись под половицей, И не лаяли собаки — Тихо-тихо, как в могиле. Потолок в побелке новой, Черный крест над изголовьем — Будто в склепе я ночую, Словно бы меня отпели! Гаснет свечка, салом пахнет, А я вспомнил почему-то Мясника в рубахе красной, Огоньки в его глазах.ХОРНАДА IV. О том, как мы с рыцарем провели ночь на постоялом дворе
– Сеньор! Сеньор Начо!
…Ее шаги я услыхал еще внизу – быстрые, легкие. Затем ступени проскрипели, те, что на второй этаж ведут.
– Это я, откройте!
Шепчет цыганочка, да как-то громко шепчет. Или это слух у меня такой сделался?
Час прошел, не больше, как я дверь закрыл. Тихо было в доме. А я и глаз не сомкнул – слушал. То шаги мерещились, то скрип дверной, то вообще что-то несусветное. Но – нет.
И вот – пришла.
– Сеньор Начо! Вы спите? Откройте, а то дядя проснуться может, он строгий очень… Сеньор!
Уже не шепчет – в полный голос зовет. Молчу.
Молчу, а сам себя дураком обзываю. Когда ж такое было, чтобы девица сама ко мне стучалась, а я… Узнают – засмеют, прохода давать не будут!
– Сеньор Начо! Это же я пошутила, чтобы вы дверь не открывали! Пошутила! У вас такое лицо было! Откройте, я и денег просить у вас не стану, вы – парень видный, сразу ясно – из города.
Молчу. А сам эту цыганочку, как есть, представляю. Всю! Огонь-девчонка, такую на всю жизнь запомнишь. Эх, дурень, дурень! Может, ну его все к бесу? Одна она в коридоре, точно! Открыть? Открыть, ее впустить, снова дверь на щеколду…
– Сеньор Начо!
И открыл бы! До того глупыми собственные страхи-ужасы показались. До того ее голосок сладким был! Да в последний миг, как рука уже к щеколде тянулась, о рыцаре моем непутевом вспомнил. Поди, тоже не спит, слушает. Открою дверь – на выручку кинется. Вот смеху-то будет!
Да и вроде как пообещали мы друг другу заодно держаться. Посмотрит на меня, вздохнет: «Эх, Начо!»
И так стыд, и этак. Пусть уж лучше думают, что сплю. Умаялся, на Куло этом поганом весь день сидючи…
– Сеньор…
И снова шаги. По коридору, вниз по лестнице…
Ушла!
Ох и дурак же я! Хорошо еще, не узнает никто. Мой идальго с Пабло Калабрийцем знакомства не водит… Чуть не сплюнул я от досады, да вспомнил, что плевать в доме – непотребство последнее. Ладно, потом плюну. Утром.
Лег на кровать, даже раздеваться не стал, дагу спрятал, руки за голову закинул…
А так хорошо вечерок начинался! И от ублюдков-морисков ушли, и винцо неплохое, и похлебка (хоть и мясо сладковатое почему-то).
Заснул.
И только тогда проснулся, когда в дверь стукнули.
Не в мою – в ту, что напротив.
– Сеньор рыцарь! А сеньор рыцарь! Хозяин!
Тут у меня весь сон и пропал. Вместе со стыдом.
– Сеньор рыцарь! Не соблаговолите ли дверь открыть? Ухо к двери – дышат. Громко дышат. То ли один, то ли двое, то ли больше даже. А сколько именно – не поймешь. Толстые доски!
– Сеньор рыцарь! Покорнейше прошу извинить, но без вас, ей-ей, не обойтись. Вы бы дверь отворили, надолго я вас не задержу…
Хоть бы дядька мой не отзывался!
– Что вы, сеньор! Вы отнюдь меня не потревожили, ибо не спал я еще. Помочь же я вам – всегда сердечно рад, ибо в том и состоит долг каждого идальго…
Фу-ты! Молчи, дурень сухорукий, молчи!
– …Но дан мною обет крепкий не отворять дверь сию До рассвета без крайней на то надобности, а обет я не нарушу вовек. А ежели хотите спросить о чем, то спрашивайте, сеньор… Слава Богу!
– Эй, сеньоры, а до утра отложить нельзя? Ночь на дворе!
А это кто недовольный такой? Ба, да это же сеньор лисенсиат! Точно, его комнатушка рядом, чуть левее.
Слушаю – дышат. Один? Двое? С одним хозяином справиться немудрено, он уж точно – не Ланчелоте!
– Прошу прощения у высокоученого сеньора, но прошу войти в мое незавидное положение. Вышел спор у меня с одним из постояльцев…
Интересно, с кем? С одним из купчиков? Или с тем, у кого в глазах огоньки отражались? Вот уж не думал, что он спорщик!
– А всему виной, сеньоры, тот разговор, что вели мы все вместе весь вечер. Спор же наш – о рыцарстве, и только вы, сеньор идальго, разрешить его способны. До утра же ожидать никак не можно, ибо постоялец сей намерен пуститься в путь еще до рассвета…
…Это кто же тут такая пташка ранняя?
– Спор о рыцарстве – поистине наилучший спор! – бодро ответствовал мой рыцарь. – И рад я буду разрешить его в меру способностей моих. Так что спрашивайте, любезный сеньор, сколько душа ваша пожелает. Дверь же не открою и всем иным то же советую…
Я даже крякнул – молодец рыцарь! «Иным то же советую»! Все понял!
И чего ж только такому умному все великаны с людоедами мерещатся?
– Что же, сеньор, пусть так и будет, – в голосе хозяина – обида самым краешком. – Однако же лучше бы вы все же дверь отворили, ибо мешаем мы спать вашим почтенным соседям…
– Да замолчите вы! Нашли время. Я спать хочу! Спать, ясно?
Эге, снова сеньор лисенсиат!
– Первый же вопрос, что нас озадачил, в том состоит, какого из рыцарей, в землях христианских живших, надлежит почитать первым из всех?
– Вопрос сей и вправду занимателен, – тут же отозвался мой идальго. – Знаете вы, любезный сеньор, конечно, об Артуро и Ланчелоте, первыми рыцарями в мире почитаемых. Однако же слышали вы и иное мнение, ибо слишком давно жили эти великие герои, а посему подвиги их иной раз с баснями сходны…
– Да прекратите вы! – сеньор лисенсиат уже на крик перешел. – Вам что, делать больше нечего? Я спать хочу!
Эге! А что там в коридоре? С ноги на ногу переступили? Что-то ног слишком много!
– А посему скажу иначе, – как ни в чем не бывало продолжал хитроумный Дон Саладо. – Первым рыцарем почитать должно Готфрида Бульоно, что Крест Святой над славным городом Иерусалимом водрузил. Вторым же…
– Я сейчас дверь открою! – голос сеньора лисенсиата от злости аж задрожал. – Открою – и вздую вас, болванов, клянусь Черной Девой Саламанкской!
– …Вторым же назову я императора Карла, первого сего имени, называемого французами Шарлеманем. Третьим же – Сида Компеадора, с маврами храбро бившегося. И таким мой ответ будет…
– Все? Ну слава Деве Святой! – сварливо отозвался лисенсиат.
– Простите, сеньоры, – вздохнул хозяин. – Но у меня еще один вопрос будет. Какая рыцарская добродетель вами выше всего ценится? Только, сеньор рыцарь, вы и вправду впустили бы меня, что ли? Ведь соседи ваши почивать желают!
И снова – с ноги на ногу переступили. Да не с одной, не с двух…
– Славный вопрос! – согласился Дон Саладо. – И охотно я отвечу, ибо сей предмет всегда был близок сердцу моему. Дверь же открывать не стану, ибо дал я крепкий обет…
– А вот я не давал! – взвыл от злости толстячок-лисенсиат. – И если вы еще слово скажете!…
Ах ты, бес! Предупредить? Обождать еще? Мы-то отсидимся, а завтра сюда новые бедолаги приедут…
– Ответ же мой, любезный хозяин, вот в чем состоит. Для рыцаря все добродетели любезны и глубоко почитаемы, прежде же всего – преданность вере христианской. Однако же имеются некоторые, для рыцарей особо важные. Первой назову я верность, второй же – бесстрашие. Но пуще всего ценю я милосердие к ближнему, ибо в чем долг рыцарский состоит, как не в защите ближнего своего?
– Как прекрасны ваши слова, сеньор! – воскликнул хозяин. – А посему, верю, ответите вы на третий вопрос, ибо поспорили мы с постояльцем моим, какой рыцарский меч почитается наиболее славным?…
– Ну все! Я вам сейчас покажу меч, негодяи! Я вам!… Лисенсиат! Что, неужели дверь открывает?
– Не смей! – заорал я что есть силы. – Не смей! Но понял – поздно!
– А-а-а-а-а-а!
Черт, дьявол, палец о дагу порезал!…
– Дон Саладо! Тарч! Тарч! Тарч!
И – ногой в дверь. Щеколду я раньше отодвинуть успел – когда тот дурак пухлый свою открывать начал.
– Тарч!
(Про «тарч» – чтобы три раза, мы с Доном Саладо еще на дворе сговорились. На том самый случай, который крайний.)
– Тарч!!!
В коридоре – тени,тени, Пляшут тени сарабанду, На полу, на стенах, всюду. Посреди – свечной огарок В медной плошке, еле дышит. Двери – настежь, словно буря Пронеслась сейчас по дому. В коридоре – Дон Саладо, Босиком, в ночной рубахе, Меч в руке, бородка – дыбом, Ланчелоте – да и только! В стороне чуток – хозяин, Император Трапезундский, К стенке крашеной прижался, А в руках – тесак тяжелый. Где-то шум, кричат, дерутся, Только где – поди пойми!– Начо!
Кажется, мой рыцарь меня даже не заметил. В темноте, поди, сидел, а тут какой-никакой, а свет.
– Здесь! – заорал я, прижимаясь к стене. Только бы сбоку не подобрались! Темно, свечка вот-вот сдохнет…
– Ах ты! А-а-а!
Чей это голос? Чей крик? Лисенсиата? Ах, черт! Толстячок!
– Туда! – закричал я, тыча дагой в открытую дверь – ту самую, которую дурень ученый открыл себе на беду. – Туда, Дон Саладо!
Но – опоздали!
Слишком поздно я увидел, что поганец-хозяин к свечке подбирается. Слишком поздно заметил, как его башмак…
Тьма!
Ну все! Эти-то небось здесь каждый вершок знают, без света обойдутся…
– Рыцарь! Назад! Стойте на месте, не пускайте никого. Рубите всех!
А сам – по-над стеночкой, по-над стеночкой. Тихо так…
И снова: «А-а-а-а-а-ах!»
Шаги! Нет, вроде как бежит кто-то. Вниз бежит. Хозяин? Нет, у того шаги другие…
– Сеньоры! Сеньоры! Вы живы? Если живы, откликнетесь!
Лисенсиат! А я уж думал в ближайшей церкви свечку за упокой ставить.
– Их двое было! Хозяин и тот, в красной рубахе. Одного я, кажется, слегка задел…
Экий молодец!
Свечка никак не желала воскресать. Или это у меня руки дрожали? Наконец, я спрятал огниво…
Фу-ты!
Ну и войско! Дон Саладо в ночной рубахе, сеньор толстячок – в той же амуниции. Один я – при полном параде.
И чем, интересно, лисенсиат разбойников этих пырял? Неужто кинжальчиком своим? Ну и дрянь ножик!
– Кажется… Кажется, я изрядный дурак, сеньоры, – вздохнул толстячок, словно мысль мою прочитал. – Как же я не понял? Вы же говорили, Дон Саладо, чтобы никто двери…
– Потом, – весьма невежливо перебил я, поднимая повыше плошку со свечой. – Пошли! Я – первый!
– Однако, Начо… – встрял было доблестный идальго, но я только плечом дернул.
Коридор пуст, комнаты пусты. Никого! А где же купчики наши? Ни вещей, ни их самих. Только на полу в одной из комнатушек, в той, что слева, пятнышко. Темненькое такое, свеженькое…
Опоздали! Но когда? Я же не спал, не было никого в коридоре, пока эта цыганочка не появилась!
– Вниз! – воззвал Дон Саладо. – Покараем злодеев! Увы мне! Не смог я разглядеть глазами своими слабыми в хозяине замка здешнего людоеда!
– Вы правы, сеньор, – вздохнул лисенсиат. – Об этом постоялом дворе давно ходит дурная слава, меня даже предупреждали. Но сколько их? Я видел… Точнее, слышал двоих…
На лестнице – пусто. Эге, а это что?
– Кажется, вы одного из них не просто задели, сеньор лисенсиат!
Пятна на ступеньках – одно за другим. И немалые! И какой запашок мерзкий!
– Не знаю! – теперь в его голосе – чуть ли не страх. – В жизни никого не ранил. Меня толкнули, хотели за горло схватить, я увернулся…
Ай да толстячок! Увернулся!
– …ткнул кинжалом несколько раз, кто-то крикнул…
Этот «кто-то» ждал нас внизу, в зале. Точнее, уже не ждал. Знакомо блеснул в глазах свечной огонек. В мертвых глазах. Пустых.
– Он… Он мертвый? Неужели он мертвый, сеньоры? Кажется, сейчас наш герой-лисенсиат в обморок брякнется!
– Так вы же ему все брюхо попороли, сеньор! – хмыкнул я, кивая на окровавленную красную рубаху…
…Черной смотрелась на красном кровь. Как смола. Как деготь.
– Как сюда дошел, странно даже. Видите, он же кишки руками придерживал!
– О-о-о-ох!
Но все-таки дошел, дошел, и даже не упал – сесть попытался. Как раз под тем самым щитом.
– Однако же, сеньоры. – Дон Саладо поднял вверх худой костистый палец. – Не слышите ли вы?…
Да, точно! Во дворе!
– Туда!!!
Хозяина мы уже у ворот догнали. Отвык, видать, ногами двигать, за стойкой да на кухне мозоли оттаптывая. Да и куль бежать мешал – тяжеленный куль!
Видать, был этот куль Его Трапезундскому Величеству подороже жизни!
– Стой! Стой, сволочь! Обернись!
Не обернулся. Только куль к пузу своему прижал. Я так и убил его – в спину.
– Но… Но, сеньоры, разве можно так! – привычно возмутился лисенсиат. – В конце концов, может, он был и не так виновен? Может, его просто заставили?
Я только хмыкнул, дагу о хозяйские штаны обтирая. Заставили, как же!
В дом мы только с рассветом вошли. Так до солнышка во дворе и просидели. И вроде бояться больше нечего, но все-таки…
Ох, скверный же дом! Хорошо еще, ночь теплая да в конюшне пара старых плащей нашлась…
Купчиков мы в подвале нашли – мертвых да голых.
Я так и не понял, когда их, бедолаг, достать успели. Одного прямо в сердце пырнули, а на втором – ни кровинки, задушили, видать. Лежат, страшные, с глазами открытыми, а вокруг чего только нет! Одежа, и старая, и новая совсем, мешки всякие, и деньги, конечно. Какие в кубышках, какие прямо по полу рассыпаны…
Никто и нагибаться за теми деньгами не стал. Даже я!
…А в куле, что хозяин, кол ему осиновый, унести пытался, детская одежа оказалась да игрушки всякие. Схватил, видать, первое, что в руки попалось.
Ох, и пожалел же я, что сразу его убил! Мориски, значит, во всем виноваты? Да они – ангелы небесные, если с этими сравнить!
В общем, вытащили мы бедолаг во двор, плащами накрыли, сеньор лисенсиат принялся молитву бормотать, мой рыцарь – креститься.
А я о цыганочке вспомнил. Ведь как ни крути, она нас спасла. Хоть бы спасибо сказать! Да как скажешь, во дворе ее нет, и в сараях нет, и в доме…
Долго искал, да все никак найти не мог. Пока в старый колодец, что у самого забора, заглянуть не догадался…
Успели! Поняли, что не обошлось без чернявой, – и успели-таки! И не достать ее, бедную: глубокий колодец, а веревка перегнила…
Стоял я, губы кусал, себя, дурака, последними словами крыл. Она меня спасла, а я, выходит, ее погубил?
А что делать-то было? Дверь открыть? Купчики, бедняги, открыли! И поди, не хозяину – ей открыли. Нестарые были еще, в соку самом.
А потом я и на кухню заглянул. Заглянул – и пулей выскочил. Выскочил, на колени рухнул…
Вывернуло меня! Ну, как есть, всего наружу! Еле встал, еле до кадки с водой добрел…
Вот почему мясо в похлебке сладковатым было! А я еще над Доном Саладо смеялся, в людоедов не верил.
Долго в себя приходил, все очухаться не мог, меня уже и звать принялись…
– Однако же, сеньоры, чего делать нам надлежит? – вопросил со вздохом Дон Саладо. – По закону должно бы нам сообщить королеве или кому из сановников ее о сем злодействе…
Вещи мы уже собрали, на одров наших нагрузили, купчиков, бедняг, прикопали, как смогли, я из дров крест связал.
…Про кухню да про то, что в леднике я увидел, говорить никому не стал. И про колодец – тоже не стал. Постоял возле него, «Pater noster» прочел.
Эх, цыганочка!
– Сообщить можно, – неуверенно проговорил сеньор лисенсиат. – Да только задержат нас, причем надолго, ибо законы нашего королевства весьма несовершенны…
Вот уж точно. Как бы нас самих в убийцы не записали!
– Сожжем! – решил я. – Дотла! Чтоб только угли остались.
И не возразил никто.
Труп хозяина прямо в зал втащили, посреди бросили, я за сеном в сарай сходил. Дом, конечно, каменный, да крыша деревянная! И внутри дерева полно. Дерева – и пыли.
Дверь конюшни – настежь. Пусть гуляют лошадки. Может, найдут себе нового хозяина – получше?
Все?
– Погоди, Начо! – благородный идальго вздернул бородку-мочалку. – Не все еще сделано, что должно!
Зашел в дом, вернулся. Со щитом. С тарчем тем самым, который brusttartsche.
– Не должно, сеньоры, оставлять сей славный щит в таком месте. Ибо уверен я, что нечестным путем достался он хозяину сего злодейского замка. Пусть же побудет у меня, пока не найдется для него более достойный владелец!
И снова – никто не спорил.
Ну, все.
Амен!
Дым из окон, дым над крышей — Занялось, раздуло ветром, Вот и пламя – как из ада, Словно пекло перед нами! И почудилось внезапно, Словно стон – протяжный, долгий Из земли, из самой тверди, Будто души убиенных — И виновных, и невинных, Ад покинуть тот не в силах, Словно нас о чем-то просят, Молят, отпустить боятся. А огонь все выше, выше, По двору уже крадется, Будто нас достать он хочет. Уж не стон – а рев ужасный. Набирает пекло силу! И ушли мы поскорее, Ад оставив за спиною. И никто не обернулся!ХОРНАДА V. О преславной и преужасной битве с василиском
В ушах у нашего рыцаря начало звенеть аккурат после полудня, когда в церквушке, мимо которой мы как раз проезжали, колокол ударил. Гнусно так звякнул – треснутый, поди! Может, оттого и в ушах у него зазвенело?
Об этом всем Дон Саладо нам тут же сообщить изволил, да внимания мы, признаться, не обратили. И вправду – звенит и звенит, оно, между прочим, к деньгам, особливо ежели в левом ухе. Не обратили, а зря!
– Итак, сударь, вы пикаро, да еще с Берега, – подытожил сеньор лисенсиат Алессандро Мария Рохас.
– Осуждать станете? – покосился я на него не без любопытства. – Контрабандист да законы не почитаю?
Хоть он и лисенсиат, в Саламанке и Париже учился, а обычный вроде парень. Ну, усики, словно три дня не умывался, ну, горячий очень. Зато ведь не трус! И не дурак вроде.
…Ехали мы теперь втроем – по пути оказалось. Я на Куло своем поганом, Дон Саладо – на коньке-недомерке, а толстячок – на муле. Крепкий такой мул, большой. Мне за моего Задницу даже стыдно стало…
– Осуждать? – задумался лисенсиат. – Нет, не стану, Начо. Не стану…
И снова думать начал. Я и не мешал – человек он оказался такой: кричит, шумит – а после соображать начинает, гаснет вроде. Слыхал я как-то, что таких холериками зовут, это значит, будто холера на них накатывает – потрясет да бросит.
Дон Саладо тоже беседой нас не баловал – в ушах у него звенело. Ехал себе и ехал.
Ну и ладно.
– Законы наши, Начо, весьма несовершенны, – подумав, продолжил толстячок. – Об этом я уже как-то упомянул, однако добавлю: они порой несправедливо жестоки…
И снова замолчал. А мне интересно стало.
– Такие, как вы, делают доброе дело – благодаря этому во всей Испании нет недостатка в самом необходимом. Увы, ремесла да и промыслы у нас развиваются слишком медленно. Так что контрабанда нас, по сути, спасает – вопреки, увы, законам.
Вот как! Я даже приосанился. То, что мы с Калабрийцем доброе дело делаем, – это я и сам знал, но когда такое Ученый человек признает!
То-то!
– И еще добавлю: самые жестокие законы – отнюдь не самые древние, как можно было бы подумать. Увы, наш век, который отчего-то итальянцы назвали Ренессансом, дает примеры невиданной жестокости и несправедливости. Вы о Супреме [26] слыхали, Начо?
Не хотел – а вздрогнул. Отвернулся, на ветряк дохлый поглядел.
«Ты слыхал о Супреме, Начо?» – спросил меня тогда падре Рикардо. Грустно так спросил. А после улыбнулся – тоже грустно…
– Эти, зелененькие, которые? [27] – не глядя на сеньора лисенсиата, ответил я. – Фратины? [28] Чего-то слыхал…
– Вот и я слыхал, Начо…
Странное дело! Ему-то что до этих зелененьких? Не марран [29] ведь, не мориск. Не священник даже…
…И вообще, чудной парень. То есть не сам по себе. А вот куда и зачем едет? Говорит, в Севилью (потому и по пути нам оказалось), да не просто – а к невесте. Вроде бы доброе дело, но только какой же это жених о своей невесте даже словом не перемолвится? От иных спасу нет – и медальон с парсуной ейной покажет, и стихи всякие прочтет, и про приданое говорить-рассказывать станет. А этот сказал – и все. Отрезало словно! Загрустил – и думать стал.
Или невеста его – вроде ведьмы? Или это я не в ту сторону думаю?
…А еще у него деньги в поясе – ох, немалые деньги! Я-то сразу не заметил даже, а у хозяина покойного – у Императора, значит, Трапезундского, глаз острее оказался. Видать, той ночью за сеньором лисенсиатом главная охота шла!
Хотя деньги – это понятно. Свадьба ведь у парня!
– Это все сицилийцы, – заметил я, дабы разговор поддержать и невежливым не показаться. – От них все беды, сеньор, скажу я вам. И вообще, Сицилия – препаршивый остров!
Надо же, удивился!
– Помилуйте, Начо, при чем здесь…
– А при том, сеньор, что все эти фратины зеленые, что в Супреме служат, сицилийцы и есть. Их король Фердинанд сюда привез, нам на беду! [30]
…И если бы только это! Но не про «Омерту» же сицилийскую толстячку рассказывать. Не поймет ведь!
– Томазо Торквемада – не сицилиец, – ответил он, тихо так, еле слышно. – Но в чем-то вы правы, Начо. Мне кажется, что объединение наших королевств не пойдет во благо. Кастилия всегда славилась своей свободой, Арагон – предприимчивостью и успехами в мореходстве…
Это уж точно! Если чего есть у этих арагонцев – то это моряки. Один Калабриец чего стоит!
– Вот наши монархи и надеялись все сие объединить. А получается, что объединяется кастильский фанатизм и арагонское рабство…
Странное дело, это и падре Рикардо говорил. Тогда как раз свадьба королевская к нам в Севилью пожаловала. Маленький я еще был – а запомнил. Удивился потому что.
– Из Арагона мы взяли инквизицию и рабство. Наши сеньоры хотят ввести тут «дурные обычаи», слыхали? А у них, у арагонцев, начались гонения на марранов, чего и отродясь не было…
Я только плечами пожал – не моего ума это дело. Пикаро рабом не станет, помрет скорее. А насчет «дурных обычаев» – слыхал, как же! И от Калабрийца, и от других. У них, в Арагоне этом, сеньор может горло рабу перерезать и в крови ноги парить. И еще с каждой свадьбы невесту себе требует – на первую ночь.
Вот злыдни! И такое хотят у нас в Кастилии нашей вольной ввести? Да не позволим, понятно! А вообще, не моя это забота.
– Стоит ли об этом, Начо? – заметил лисенсиат, будто и вправду мысли мои услышал. – Хотел бы я у вас о другом спросить.
Оглянулся, на Дона Саладо нашего поглядел, ближе придвинулся.
Зашептал.
Мог бы и не шептать! Рыцарь мой совсем в себя ушел. Не иначе звон в ушах слушал.
И я послушал – то, что толстячок мне шепчет. Послушал – и только руками развел. И вправду, почем мне знать, как да чем беднягу Дона Саладо лечили-пользовали? Да в его глуши, в Эстремадуре этой, всего лечения, поди, для таких, как он, – цепь да ошейник!
Про то, что с Доном Саладо осторожность требуется, я сеньору Рохасу сразу же поведал – от греха. Не удивился он даже – сказал, что еще прошлым вечером о чем-то таком догадался. Уж больно Дон Саладо горячо про Ланчелоте всяких говорил.
– Чему же удивляться, сеньор, – заметил лисенсиат, меня выслушав. – Увы, невежество все еще царит в нашей славной Кастилии. На цепь! Какая дикость! Если и нужна в случае этом цепь, то совсем иная – цепь системы…
Очень мне это слово отчего-то не понравилось. Система, понимаешь!
– Лечение оной болезни нелегко, но все же возможно. И пользуясь тем, что волею случая оказался я в вашей компании…
Щелкнул толстячок пальцами, усиками своими дернул.
– А что? Болезни такие приходилось мне изучать в городе Париже…
И аж глазами заблистал! Смолчал я, но отчего-то не захотелось мне, чтобы сеньор Рохас моего идальго пользовал. Ну никак не захотелось.
Нет, не дам сажать я рыцаря на цепь! И кровь пускать не дам, и пиявки тоже.
Система! Придумал, умник!
А лисенсиат вновь в задумчивость впал, пальчиками своими крутить начал. Мне даже любопытно стало. Ну, ладно, система системой, а где в этакой глуши он аптеку найдет?
Обошлось, однако, без аптеки.
На ближайшем привале (Куло мой опять заартачился, Задница!) сели в теньке на холмике, я уж и плащ на траву постелил – отдохнуть чуток. Но не тут-то было! Достал сеньор Рохас из вьюка бумагу, а к ней лаписьеро [31] свинцовый. И окуляры на нос нацепил. Тут уж и Дон Саладо заинтересовался.
– Не собираетесь ли вы, сеньор, снимать с кого из нас парсуну? Смею вам заметить, что слава моя, увы, пока не такова, чтоб мог я сей чести удостоиться.
– Отнюдь, – ответствовал лисенсиат. – Да и не мастер я насчет парсун. А давайте-ка, сеньор Саладо, пейзаж нарисуем, сиречь местности этой изображение. С вашей помощью. Итак, что вы видите?
– Гм-м…
Оглядел мой рыцарь окрестности, даже ладонь ко лбу приставил. От солнца.
– А вижу я перед собой горы, слева же – замок, а справа вроде как пещера…
– Вот и славно!
Р-р-раз – и забегал свинец по бумаге. Вот и замок, вот и пещера. И горы, конечно. А толстячок все уточняет: сколько у замка башен да насколько горы высоки.
Вот и готово. Поглядел Дон Саладо, одобрил. Точь-в-точь!
– А теперь, сеньоры…
И вновь – свинцом по бумаге. Бегло так, позавидовал я даже.
– Вот, извольте сравнить, Дон Саладо. Не видите ли вы некую разницу?
А что там видеть-то? Второй-то рисунок правильный. Ни гор на нем, ни замка. Холмики, овцы вокруг, домишко скособоченный.
Все как есть.
Задумался мой идальго, бороду мочальную кулаками подпер.
– Понял я, сеньор, и увидел, конечно же, различие. На втором рисунке изобразить вы изволили то, что вам отсюда видно, на первом же…
Не договорил, вздохнул грустно, голову понурил.
– Или не знаю я, сеньоры, что почитают меня всюду безумцем? Но что делать, ежели все органы чувств говорят мне одно и то же? Если бы только зрение, но ведь и слух, и обоняние даже…
– Логика! – вставил я, наш с рыцарем разговор вспомнив. И не только разговор, но и меч пощербленный.
А может, не все так просто?
Лисенсиат, как про логику услыхал, даже крякнул. Поползли вверх брови вместе с окулярами, еле-еле на лбу удержались.
– Однако же, сеньор Саладо, должны вы согласиться, что все прочие видят и чувствуют иначе!
И дернуло тут меня за язык!
– Отчего же все, сеньор лисенсиат? Или мы с вами этих «всех» считали? Мир велик, а мы и треть Кастилии не объехали. Может, за морем где-то или за Пиренеями видят так же, как Дон Саладо?
…На Сицилии, например. Там уж точно на каждом шагу – драконы с людоедами!
На этот раз толстячок запыхтел, на меня воззрился гневно. За то, что я его систему порушил.
– Но, может, Дон Саладо, для начала так поступим: вы о том, что видите, нам говорите, однако в поступках будьте умеренны. А мы с вами вместе рассудим, надо ли за меч браться.
Вновь рыцарь голову понурил. Кивнул.
– Что ж, пусть так и будет. Но не могу я молчать, ежели чую беду…
И тут задумался я. Людоедов с великанами вспомнил – и тех, что на горке, и тех, что на постоялом дворе.
– Говорил я уже, что звенит у меня в ушах. И не было бы в том особой беды, если бы не примета верная. Где-то рядом совсем обретается чудище жуткое, именуемое василиск.
– Простите? – растерялся лисенсиат. – Василиск? Это который basiliscum? Co змеиным хвостом и петушиной головой?
– Да! – костлявый палец взлетел вверх, к горячему солнцу. – Чудище, что над всеми гадами повелевает. Монстр, убивающий взглядом своим и дыханием своим. Адский выползень!…
Скривился сеньор Рохас, а мне не по себе стало. Ну, путается мой дядька в словах, морисков людоедами кличет…
Но ведь не в словах дело!
А если и вправду какая-то дрянь рядом обретается?
И снова меч тот, со щербинкой, перед глазами встал!
– Увы, не взял я с собою зеркало, – вздохнул рыцарь. – А ведь зеркало – лучший способ поразить чудище, ибо мечом рубить его несподручно, так как в случае этом есть опасность глазами с ним встретиться. А сие, как ведомо, – верная смерть!
А я уже думаю-гадаю, как рыцаревы слова на кастильский перевести. По дороге селение скоро быть должно. Не там ли чудище это? Может, мой идальго местного альгвазила [32] почуял? Знаю я этих василисков!
А может, и того хуже?
В общем, не понравилось мне это, страх как не понравилось. И только мы селение это увидели – сразу, как с холма спустились, – я тут же дагу поудобнее пристроил. Мало ли? Да и рыцарь мой подобрался весь, копье у меня забрать попытался.
Ну, копье я ему не отдал, однако твердо решил, что лишней минуты в том селении не задержусь. Вот лишь напоим наших одров, которые с копытами.
Только лисенсиат носиком своим недовольно дергает, вроде как возмущается. Да какой с него спрос, с ученого? Жизнь, она – не такая, как в книжках!
Колодец на самой околице оказался, у перекрестка.
Направо поедешь – не знаю куда попадешь, налево – в горку упрешься, а нам туда не надо. Прямо нам, к Арасене, откуда дорога к Севилье ведет, не сворачивает. Да только без скотины далеко не уедешь, а скотина пить просит. Мой Куло даже орать начал, громко так, противно.
А у колодца – народ. Всякий – и поселяне, и жены ихние, и вообще непонятно кто. Значит, ждать надо.
А Дон Саладо с конька своего даже слазить не стал. Сидит, ноги худые, длинные, пятками пыль цепляют, рука, которая не сухая, за гарду держится.
Фу-ты! Я уж себя и так успокаиваю, и этак, да на душе все муторнее и муторнее. Словно и я того василиска клятого чую.
Лисенсиату, понятное дело, хоть бы хны.
Слава Деве Святой, дошла до нас очередь. Кинул я вниз ведро, ворот покрутил, плеснул воды в корыто деревянное, а сеньор Рохас уже и мула подвел. Куло мой, как воду увидел, вообще взвыл.
Дошла и до идальгового конька очередь. Слез Дон Саладо на землю, а сам белый, пот на лице…
– Здесь он, Начо, – шепчет. – Рядом! Ты, Начо, далеко не отходи, да только не вздумай смотреть, не дай Господь, глазами встретишься…
А меня морозец бьет, как тогда, прошлой ночью. Оглянулся я, туда-сюда посмотрел…
…Колодец, народ вокруг, куры в пыли купаются, чуть дальше улочка да заборы.
Попил рыцарев конек, оно и ехать можно, да тут, конечно же, лисенсиат вмешался. Мол, одрам нашим отдых требуется, а вот и тенек, сиеста опять же…
Я даже не огрызнулся – за рыцарем следил. А он напрягся весь, ушами, точно собака, водит…
…Только сейчас я заметил, какой он ушастый. Это потому что шлем его, салад который, набок съехал…
– Начо! Он…
Тихо так сказал, чуть ли не шепотом, да я такой шепот и за десять шагов бы услыхал.
Вот и услыхал, рука уже на гарде, глаза псами охотничьими бегают. А Дон Саладо дернул плечами своими худыми, вздохнул, выдохнул…
Вперед шагнул – с лязгом железным. Туда, где первый дом стоял.
– Видать, сеньоры, это и есть бой мой последний! Только вперед не глядите, ибо взгляд его…
Да чей взгляд-то?
А тут народец как раз расступился, вид на улицу открыл – в ту сторону, куда идальго собрался. А там ничего и нет. Улочка (да не улочка, тропа пыльная меж двумя канавами), куры опять же. И петух – здоровенный такой, с хвостом разноцветным. Король-петух!
А Дон Саладо уже рядом, и меч его, железяка, в руке, ржавчину солнышку кажет…
– На бой, на бой, чудище! На смертный бой!
Я уж и вперед было подался, но с кем биться-то? Если бы альгвазил здешний, то я бы сразу дагу вынул.
– Ко-ко-ко-ко-ре-ку-ку-у-у-у!
Взметнулась железяка – и прямо на петуха! Сверху!
Ой!
А у меня челюсть отпала. Это что, василиск?
– Рази, Испания-я-я!
Черкнул меч по пыли, а петух уже в стороне. Нахохлился, перья взъерошил…
– Рази!!!
Да как кинется на рыцаря моего! Да как закричит!
Ну, схлестнулись! Бой ужасный! Пыль и перья закружились. Меч свистит без передышки, А петух орет-кудахчет Да когтями вкупе с клювом По доспехам бьет-молотит. Очумели поселяне, Что на бранный шум сбежались, Трут глаза, себе не веря, Кто креститься даже начал. А петух-то не сдается, Вновь и вновь он налетает, Клювом в глаз идальго целя, И кудахчет, и кудахчет! Но тут рыцарь Дон Саладо, Силу всю свою собравши, Закричал что было мочи: «Санто-Яго Компостело! Смерть тебе, лихое диво!» И мечом своим тяжелым Разрубил врага с наскока. Крикнул кочет, наземь рухнул. Тут и смерть ему случилась!Первым опомнился не я – я все еще столбом стоял, рот закрыть забывши. Сеньор Рохас сообразил – на мула вскочил, меня в плечо толкнул…
Да, самое время! Народ тоже приходить в себя начал, кое-кто уже за дубину взялся.
Схватил я рыцарева конька под уздцы, вперед шагнул…
Поздно!
– Бей их! Бей курокрадо-о-ов! Бе-е-ей!
Только и успел Дон Саладо обернуться, а чья-то дубина его прямо по шлему так и припечатала.
Ой!
Ну, тут уже не до шуток стало. Ближнего я дагой полоснул – не до крови, только рубаху пропорол. Другому ножик свой перед глазами крутанул. Отшатнулись, понятно. На миг-другой всего, но мне хватило. Подхватил я моего идальго (ой, тяжелый, в латах же!), через спину конскую перебросил…
– Бей! Бей их! Курокрадо-о-о-ов!
А тут, как на грех, Куло мой в очередной раз решил характер показать – уперся всеми четырьмя. Зря это он. Кольнул я его дагой…
– Бе-е-е-е-е-е-ей!
Куда да в какую сторону удирали – даже и не помню. Вот как камни над ухом свистели – на всю жизнь сниться будет.
Хорошо, что у народа здешнего коней под рукой не оказалось!
Очухались, с одров наших слезли, на землю бухнулись…
Это мы очухались и слезли, а Дона Саладо пришлось с конька снимать, на камешки укладывать…
Оглянулся я. Почему камешки? Неужели на горку взлетели? На ту, которая налево?
Так и есть!
Хорошо, что вода нашлась – сеньор лисенсиат во фляжку набрать догадался. Смочили мы тряпицу, рыцарю на лоб положили…
– Сеньор Рохас! – торжественно заявил я. – Видели ли вы моего осла? Так вот, сеньор, признаю себя еще большим ослом, чем этот Куло! Больше ни одного василиска, не говоря уже о великанах с драконами. Так что считайте меня своим верным союзником!
А сам себя в который раз крепким словом припечатал. Ну и дурень! Ну и болван! Меч, понимаешь, вспомнил. Да мало ли где тот меч исщербиться мог!
Или болезнь у моего идальго заразная? Чур меня, чур!
А тут и стон раздался. Это Дон Саладо глаза открыл. Открыл, губами пожевал…
– Увы мне, увы… И вновь не довелось мне совершить великий подвиг!
Добрым Рохас оказался — Пожалел, не стал смеяться, А наш славный Дон Саладо, Как немного оклемался, Шлем поправив, молвил с грустью: «Это я во всем виновен! Не иначе – перепутал, Слаб глазами стал я ныне! Но сказать при этом должен, Если был там все же кочет, То весьма дурного нрава!» Спутник наш, ученый славный, С тем немедля согласился И сказал: «Вас, Дон Саладо, Будем звать теперь мы Рыцарь Петушиное Перо!»ХОРНАДА VI. О том, как сбылась некая мечта Дона Саладо
– Сеньор Рохас, – поинтересовался я, морщась при виде очередной скалы, загородившей небо. – А не изучали ли вы в городе Париже, скажем, географию?
И не спрашивал бы, так ведь заехали! Слева горы, справа горы, тропа между скал вьется. Воду еле-еле нашли, еды не купишь, одры наши затосковали, Куло на меня бесом смотрит, ушами прядет.
Ох, и удружил нам бесстрашный идальго! Я и так эти места с пятого на десятое знал, а уж когда в горы заехали, совсем растерялся. Горы – это уж точно не для таких, как я. С меня и моря за глаза хватит.
– Изучал, – подтвердил лисенсиат, покосившись на меня не без интереса. – Но не в Париже. В Париже, Начо, тамошний университет, Сорбонной именуемый, богословием славен. Географию изучал я в Саламанке, особливо же в Италии.
В Италии? Интересно, где? Если в Генуе, Неаполе или даже в Венеции, то могли бы и встретиться. Я там тоже географию изучал. Правда, сугубо практическую.
– Вас волнует, куда мы заехали? – одними губами усмехнулся толстячок. – Помилуйте, Начо, это не Альпы. Это всего лишь горы Сьерра-Мадре, которые есть отрог великих гор Сьерра-Морена, что через всю Андалузию протянулись. Насколько я понимаю, слева от нас, выше по ущелью, будет селение Педранес – то, что выше всех прочих в Кастилии находится, оттого и прозывается Поднебесным. А дорога ведет нас как раз куда следует, на юг, к Гвадалквивиру. Когда же мы спустимся вниз на Андалузскую низменность, Кордова будет у нас слева, Севилья же – справа.
Ну, если так… Я прикинул – крючок мне придется изрядный делать. Ну, ничего, довезу как-нибудь славного рыцаря куда требуется!
– Дикие тут места, – продолжал между тем лисенсиат.
– Это вы насчет разбойников? – осторожно поинтересовался я.
– Не думаю, – под тонкими усиками вновь мелькнула улыбка. – Здесь вообще людей почти нет. Скот выпасать негде, а купцам проще ехать равниной.
И слава Богу! А чудная у толстяка улыбка! Губами дергает, а глаза как неживые. То ли скрывает что, то ли горе какое на душе.
– Между прочим, эти места – первые, куда смогли проникнуть христиане еще три века назад. На равнине были мавры, а тут кастильцы построили несколько замков. Говорят, здесь воевал сам Сид или кто-то из его потомков. Но с тех пор тут ничего не осталось. Кого мавры убили, кто сам в долину спустился, когда король Альфонсо вернул Горную Андалузию…
– Увы, – сбоку послышался тяжелый вздох. – Не довелось нам жить в то славное время!
Несчастный Дон Саладо с повязкой, выпирающей из-под съехавшего на ухо шлема, уныло трусил на своем коньке, глядя куда-то между конских ушей. Лучше бы шлем этот вообще выбросить! Он и так на тазик для бритья походил, а после того, как по нему дубиной припечатали, вообще на тарелку стал смахивать.
– Помилуйте! – поразился лисенсиат. – Чем вам наше-то время не по душе?
…Я-то не удивился – слышал уже.
Вместо ответа – новый вздох, еще тяжелее, еще безнадежнее. Петушиный бой явно поубавил уверенности у славного идальго. Переглянулись мы с лисенсиатом и поняли – грех его сейчас расспросами тревожить.
И ведь жалко дядьку! А чем поможешь? По системе этой самой лечить? Уже пробовали.
– Не мило мне время это, сеньоры, ибо мню, что не совершить в наши дни ничего великого.
Отозвался, Петушиное Перо!
– То есть как? – толстячок даже в седле подпрыгнул. – Великое сейчас только начинается, Дон Саладо! Разве не следует назвать великим то, что творят ученые и мастера искусств изящных в славной Италии? Разве Джотто, Брунелеске и Поджио Броччолини – не истинные титаны?
– Право, не слыхал я о подвигах этих рыцарей… – начал было Дон Саладо, но толстячка уже понесло.
– А Гутенберг? А университеты? А то, что португальцы уже обогнули мыс Бурь и вот-вот достигнут Индии? А то, что мы уже отвоевали Испанию нашу у мавров? Вы же сами брали Малагу, сеньор!
– Иногда я жалею о маврах, – со вздохом ответствовал рыцарь. – Хоть и негоже сие делать доброму христианину. Просто кажется мне, что во времена великого Сида, вами, сеньор, только что упомянутого, когда не было еще ни бомбард, ни аркебуз, доблесть и храбрость более ценились. Знаете, сеньоры, есть у меня мечта. Никому не говорил я о том, но вам скажу, ибо люди вы храбрые и благородные…
Подмигнул я толстячку, а он мне – в ответ. Это, значит, чтобы мы оба молчали, когда наш дядька про великанов с драконами рассказывать начнет.
– Точнее сказать, у меня их две, две мечты, уважаемые сеньоры. И главная из них такой будет…
Костлявая рука долго поправляла шлем, затем неуверенно погладила бороду-мочалку.
– Даже не знаю, как начать… Снилась мне некая земля, сеньоры. Прекрасная, обильная всем, славными и благочестивыми людьми населенная. Царит же в земле той вечное лето, и воды ее подобны млеку, золотом же выстланы донья речные, но лежит то золото втуне, ибо нет в нем нужды и потребности. И будто бы чей-то голос повелел мне в эту землю войти. Удивился я и спросил путь, ибо вначале подумал, что велят мне идти во святой град Иерусалим – мечту каждого рыцаря…
Странное дело, у меня весь смех куда-то сгинул. Красиво говорил Дон Саладо, душевно даже.
– Но было поведано мне, что не Иерусалим это, не Индия и даже не царствие Хуана Пресвитера. Земля сия, сеньоры, за морем лежит, а вот за каким и в стороне какой, сказано мне не было…
И вновь мы с лисенсиатом переглянулись. Хотел он что-то сказать, да я палец к губам приложил.
– Разумею я, сеньоры, что трудно найти землю эту, однако же скажу, что узнаю ее сразу, ибо памятна она мне, хоть и снилась лишь однажды. Даже имя я дал ей – Терра Граале, Земля Чаши Господней, ибо столь же прекрасна она и недоступна, как сам Святой Грааль.
– Не смогу ли я помочь вам, сеньор? – не выдержал лисенсиат. – Ежели попадем мы с вами в Севилью, куда ныне я путь держу, то сможем посмотреть атласы и прочие землеописания. Там вы сможете найти то, что ищете.
Качнулась борода-мочалка. Кажется, Дон Саладо не очень верил атласам.
– Меня считают безумцем, сеньоры, и то мне хорошо ведомо. Но не всегда я был таким, и в прежние годы, когда честно служил я в войске королевском, приходилось мне говорить с людьми знающими, особливо же со шкиперами и кормчими, все моря избороздившими. Дивились они, сколь подробно я эту землю знаю, и признавались честно, что о такой и не слыхивали. Не Индия это, не Китай, не Африка и не страна Сипанго…
Хотел я сказать, что всякое людям снится, особливо же с перепою, но вовремя язык закусил. Пусть себе! Тут бы в пропасть не заехать.
Пропасти, правда, нам покуда не попадались, но горы эти мне совершенно нравиться перестали. Едешь словно в коридоре каменном, того и гляди, сверху крышкой прихлопнут. Хоть бы дом какой встретить или часовню. Да куда там! Трава – и та пропала, камень один. Этак Куло мой совсем взбесится, меня есть начнет!
– Вторая же моя мечта, сеньоры…
Какая еще? Ах да, у моего идальго их целых две!
– …совсем простой кажется на первый взгляд. Хочу я встретить у некоего перекрестка странствующего рыцаря. Ведом вам сей обычай – ждать у перекрестка собрата своего, дабы вступить с ним в бой ради обета или же ради прекрасной дамы. И вновь – увы! Хоть и встречал я немало рыцарей, но никто из них не следовал давним обычаям…
– У вас есть прекрасная дама, ваша милость? – не утерпел я.
Подслеповатые глаза Дона Саладо гордо блеснули.
– Истинно скажу – есть! И дама эта, чей платок, ее руками вышитый, ношу я возле сердца, – моя законная супруга донна Маргарита, заботливая хозяйка дома моего и мать троих моих сыновей!
Я чуть не присвистнул, да и сеньор лисенсиат был явно удивлен.
– Помилуйте, Дон Саладо! Отчего же вы дома не живете?
Спросил – и тут же пожалел. Понурился мой рыцарь, да так, что чуть носом в гриву конскую не ткнулся. Дернула рука за бороду, качнулась голова в дурацком шлеме…
– Что говорить об этом, Начо? Дом наш небогат, и с тех пор, как привезли меня, беспамятного, из-под славного города Малаги, издержалась моя супруга на лечение, и поистине стал я всем в тягость. Не скрою, случилось меж нами великое огорчение, и тогда решил я избрать стезю, которая и привела меня в сии глухие места…
Вот бес! Да не иначе, моего дядьку из дому выгнали? Калеку! Больного! Ну, семейка! Не потому ли та барынька в маске не велела бедолагу рыцаря домой везти?
– А я и рад, сеньоры, ибо, шествуя путем странствующего идальго, смогу я оказать помощь добрым христианам, защищая их от мерзких чудищ, коих, в милости своей, Господь и Дева Святая дозволили мне зреть. И, может статься, свершу я великий подвиг…
В последних словах славного рыцаря сквозила неуверенность. С подвигами у него что-то явно не складывалось.
– Нам стоит подумать о ночлеге, Начо, – негромко проговорил лисенсиат. – Вы, конечно, человек более опытный, но уже темнеет, а впереди я вижу какой-то ручей…
Опытный! Да какой уж опыт – на голых камнях ночевать. Я потому и не останавливался, что до харчевни какой-никакой добраться думал. Или хоть до хижины пастушеской. Да где там!
А ручей он сразу приметил. Молодец, толстячок!
Сначала меня укусил мерзавец Куло. Больно укусил, Задница проклятая! А все потому, что травы не нашел. Впрочем, и я бы на его месте кусаться начал.
Травы не было – не росла она тут, хвороста, чтоб костерок запалить, – тоже. Я бы копье рыцарево на растопку пустил, да вот беда – потерялось копье, покуда мы удирали. Так что одно осталось – жуй всухомятку да водичкой запивай. Ну ровно как в монастыре каком!
И место мне не нравилось. Ну совсем! Ручеек маленький, со скалы сбегает, а скала громадная, прямо над головами висит. Не выдержал я, вверх по тропе пробежался. Да все без толку. Скалы, правда, там чуть потесниться изволили, зато голо, а под ногами – камень. И дорога, еще одна, поперек нашей. А у перекрестка этого столб торчит – каменный, вроде как в землю (то есть в тот же камень, конечно) вбитый. Махнул я рукой и понял: нечего искать. Уже и солнышко за гору ныряет, один краешек остался. Так что болеть моим бокам на этих скалах! Хоть бы плащ пастушеский был, сайяль который. Знал бы, у парней из Месты прикупил!
Сел я на корточки и загрустил. Сеньор Рохас рядом примостился – чтобы мне самому грустить не так скучно было. Одному Дону Саладо хоть бы хны, у него бока железные – спи хоть на гвоздях. Обернулся я, дабы на рыцаря своего перед сном взглянуть, ан глядь – нет рыцаря. Не иначе за скалу завернул – нужду справить. Воспитанный он у нас!
– Расскажите что-нибудь, сеньор лисенсиат, – вздохнул я. – Грустно оно как-то!
Передернул толстячок плечами, в сторону посмотрел.
– Знаете, Начо, ваша жизнь поинтереснее моей. Так что вам и рассказывать!
И вновь подивился я – в который уж раз. Это когда же образованный человек случай упустит языком потрепать? Да быть того не может!
– Да чего уж тут рассказывать, сеньор Рохас! Родители померли, когда я совсем сопляком был. Я ведь даже имен их не знаю, только фамилию запомнил. От голода померли. Голодуха тогда в Астурии у нас была страшная – почитай, все село вымерло. Вот и пошли мы с дружком моим на юг, чтоб прокормиться. А его дорогой собаки разорвали. Большие такие, их с островов Канарских привозят, чтобы на людей спускать. Мы тогда с голодухи-то этой в сад чей-то залезли…
Прикрыл я глаза, губу закусил. И действительно, что вспоминать? Как эти псы Хуанито, друга моего, на части рвали, а он все кричал, все умирать не хотел? Как я после этого три года заикался, говорить почти не мог? Спасибо падре Рикардо – выходил, на ноги поставил…
Да один человек мне в жизни и встретился – такой, чтоб настоящим был. Эх, падре Рикардо! Если б все это сейчас случилось, я бы за него всех парней с Берега поднял, сам мертвым лег, а тем гадинам зеленым не отдал бы! А тогда что, мне только-только тринадцать исполнилось. Или меньше даже…
– Извините, Начо, – тихо-тихо проговорил сеньор Рохас. – Я не хотел…
Дернул я плечом, думал сказать, что все пустяки это, ведь я – пикаро, а пикаро никогда на жизнь не жалуются, потому как сами никого не жалеют, значит, и чужого сочувствия не ищут…
Хотел сказать – не успел.
– Начо!!!
Я чуть не подпрыгнул. То есть не чуть – вскочил, рука у пряжки, где дага…
Дон Саладо!
Борода-мочалка – дыбом, в глазах – пламя плещет, переливается.
– Начо, там… Там… Рыцарь! Странствующий рыцарь! У перекрестка!
Фу-ты!
Первая мыслишка – связать. Связать, воды из ручейка набрать да той водичкой идальго нашего и попользовать – охолонул чтоб. Вторая – жалко все же…
– Да нет там никакого рыцаря, ваша милость, – махнул я рукой. – Еще скажите – василиск!
– Нет, нет, Начо! – даже голос его задрожал, от переживаний, видать. – Копье! Копье мне! Верил я, верил, сеньоры!…
И уже на конька своего взбирается. Плохо это у него выходит – с одной-то рукой. Но – взобрался. Взлетел даже.
– Вперед, сеньоры!
– Давайте сходим, – невозмутимо предложил лисенсиат. – Может, какая-нибудь коза забрела…
Не стал я спорить. Почему бы перед сном не прогуляться? Только бы с козой этой рыцарь мой битвы не начал!
А Дон Саладо…
– За мной, сеньоры! Санто-Яго Компостело-о-о-о! И – простучали по камням копыта.
– Поспешим, – вздохнул я. – А то свалится еще!
И вот скала позади. Крутой подъемчик, запыхался даже! Ну, где коза?
Поглядел я туда, где перекресток. Поглядел. Обмер…
Над горами – вечер красный, Словно кровь лилась по небу, Скалы лезут к поднебесью, В небеса зубцы вонзают. Перекресток, камень черный. И стоит недвижней камня Рыцарь на коне огромном В темном шлеме и в кольчуге, А рукой копье сжимает. Конь копытами уперся, Словно вылит он из бронзы, До земли свисает грива, На боках парча златая… Я хотел перекреститься, Да не смог – застыли пальцы.И все-таки перекрестился – после того, как пальцы по одному расцепил. В ладонь впились, чуть ногти кожу не порвали.
Не исчез! Стоит, копье – к небу, не двигается, даже страшно мне стало… То есть не «даже»…
– Из королевского войска, похоже, – неуверенно проговорил сеньор лисенсиат, близоруко всматриваясь в нежданного гостя. – Странно, вся конница сейчас у Гранады…
И тут я очнулся. Очнулся, пот холодный со лба вытер. И вправду, этак и спятить можно! Конечно, какой-нибудь кабальеро или просто стражник, дорогу от разбойников стережет…
Эге, а со стражниками лучше бы не встречаться! Да как не встретиться, если Дон Саладо…
…Вот он, Дон Саладо! Уже у камня. Ну, все!
– Приветствую вас, о благородный рыцарь, возле этого перекрестка. Не могу ли я помочь вам исполнить некий обет? Или желаете вы скрестить копья во имя прекрасной дамы?
А у самого голос дрожит пуще прежнего. Ну, еще бы! Эх, не выберемся! Кликнет сейчас этот железный подмогу, набегут альгвазилы с веревками…
– Привет и вам, рыцарь! Рад я встрече с вами, хоть и дивной она мне кажется. Но в любом случае Хорхе Новерадо рад приветствовать собрата по доблести. Правы вы, рыцарь, имею я некий обет, однако же не помочь вам мне его исполнить…
Глухо так его голос звучал, странно. Это потому, что шлем у него с забралом. Большой такой шлем – как горшок.
Пока мой идальго этому Хорхе представлялся (по полному списку со всеми Торибио и Кихадами), пока я глазами лупал, ушам своим не веря, толстячок задумался, нос принялся свой короткий чесать.
– Знаете, Начо, я где-то уже слыхал это имя. Хорхе Новерадо, гм-м…
Может, и встречал, да не это сейчас важно. Как бы рыцаря моего этот Новерадо не зашиб! Пока разберется, с кем дело имеет…
– Обет же мой, сеньор Саладо, в том состоит, чтобы мимо сего камня никого из гостей незваных не пропускать, не вызвав его на честный бой…
Ой! Сейчас начнется!
– О, сеньор Новерадо! – мой идальго вновь подпрыгнул, на этот раз вместе с коньком. – Поистине это истинно рыцарский обет! И готов я немедля…
Я понял – пора. Иначе собирать мне Дона Саладо по кусочкам.
Дагу вынуть? Нет, рано еще…
– Добрый вечер, сеньор, – начал я, поближе подойдя и на железного этого поглядывая. – Мой славный хозяин, Дон Саладо, охотно поможет исполнить вам обет… но не сейчас.
– Что ты говоришь, Начо!… – вспыхнул доблестный идальго, но я только плечом двинул.
– Хозяин мой недужен, как видите, а это, знаете, не по-рыцарски будет – с хворым да сухоруким биться. А ежели вам подраться приспичило, то Начо Бланко к вашим услугам!
Говорю – а сам в прорезь, что поперек его горшка-шлема идет, всматриваюсь. Внимательно так. Он, конечно, при коне да в железе…
Но и не таких резали!
– Приветствую тебя, храбрый эскудеро, – вздохнул сеньор Хорхе Новерадо. – Твой порыв поистине рыцарский, однако же не намерен я нанести твоему хозяину какой-либо вред. Не от христианских рыцарей стерегу я эту дорогу, вам же очень рад, ибо давно, очень давно не было в замке моем гостей… Не мог бы ты представить вашего спутника? Он, я вижу, человек ученый…
В общем, познакомились.
– Вспомнил! – сеньор лисенсиат даже пальцами в воздухе щелкнул. – Новерадо – известный род из Старой Кастилии! Ну конечно!
Мы снова ехали вверх между скал. Дон Хорхе с Доном Саладо впереди, мы с толстячком – чуть поодаль.
– Новерадо прославились два века назад, когда шли бои за Андалузию. С одним из них случилась какая-то история, очень неприятная…
Мне, признаться, все равно было. Мало ли родов знатных у нас в Кастилии? Астурийцы, земляки мои, между прочим, все до единого дворянами считаются, потому как нами ни дня мавры не владели. Оттого и белые мы – кровь сберегли.
Хоть и давно все это было – а приятно. И что не на камнях ночевничать выпало – тоже приятно. Вовремя мы этого рыцаря встретили! Скучал, наверно, в своем замке – и поехал прогуляться, воздухом горным подышать.
…А что тут, среди скал живет – тоже понятно. Слыхал я, в последние годы многие из тех, что познатнее, подальше от Вальядолида переселились. Крепка, говорят, рука у королевы Изабеллы! Вот и отсиживаются кто где.
Но все-таки в этом всем было что-то странное. Но вот что? Ломал я голову, ломал…
– Вы обратили внимание, Начо, – продолжал между тем лисенсиат, – какие у сеньора Хорхе доспехи? Старинные, такие сейчас немало стоят!
Ну конечно! Толстячок-то наш по всем этим тарчам да саладам – первый знаток.
– Его шлем – это же topfhelm! Очень характерный, с бармицей… Сейчас такой только в какой-нибудь старой церкви и увидишь. И наколенники, заметили?
Загорелся сеньор лисенсиат. Любит он, видать, старину!
– Он не в латах – в кольчужной рубахе. Такие доспехи были у самого Сида! То есть, конечно, не совсем такие…
А по мне, что Сид, что Артуро, что Ланчелоте. Другое непонятно…
Только вот что?
Ага, вот и подъем кончился!
Замок!
Стены черные – зубцами, Плотно заперты ворота, А над всем – донжон темнеет, В узких окнах – сгустки тени. Словно спит химерный замок, Заколдованный навеки. Глухо бьют копыта в камень, Тишина вокруг, молчанье, Словно к склепу подъезжаем. Только вдруг запели трубы, И ворота заскрипели. Вот и факелы на стенах. Засветились враз окошки, Ожил замок! Словно сняли Вековечное заклятье. Повернулся к нам дон Хорхе, С головы снял шлем тяжелый, Улыбнулся, руку поднял: «Вас приветствует Анкора! Будем рады мы гостям!»ХОРНАДА VII. О том, как Сеньор Хорхе Новерадо играл с нами в старинную игру
Паренька этого я сразу приметил, как только мы во двор въехали. То есть не совсем чтобы приметил – темно уже стало, ночь совсем. А факелы, известное дело, шага на два тьму прогоняют, а дальше чернота вроде бы как сгустком идет. Так что я все больше угадывал. Да и что угадывать? Бывал я в таких замках. И в Кастилии (она ведь в честь замков и названа), и в Италии – там крепостей таких хоть ослом моим ешь. Этот-то замок, Анкора, по сравнению с ними совсем скорлупка. Ну, двор, понятно, стражники в кольчугах, слуги с факелами (все мрачные какие-то, из-за темноты, видать). Ну и паренек этот – возле самого крыльца, что ко входу в донжон идет. Стоит себе такой невысокий, худой, узкоплечий, в плаще до пят – и лобастый, хоть сейчас бодаться начинай. А нас с доном Хорхе (понял я уже, что этот Новерадо не просто «сеньор», а «дон», зря, что ли, замком владеет?) увидел – дернулся и вперед аж побежал. А мы как раз с одров наших слазили.
– Сеньор Новерадо! – громко так, испуганно. – Отец! Что случилось?
Заведено так у благородных – родителей полным именем титуловать.
А дон Хорхе ласково так его по плечу:
– Случилось, но думаю, все это к добру. Познакомься с гостями, Инесса!
Кто?
Он (она?!) к нам поворачивается, а глаза испуганные почему-то (огромные такие глаза, темные, утонуть можно):
– Извините, благородные сеньоры! Просто гости к нам жалуют так редко…
– Инесса, – улыбается сеньор Новерадо. – Моя единственная дочь. А это…
Ведь почему я перепутал? Темно потому что, опять же плащ, и на голове у него, у нее то есть, шапочка какая-то дивная, не носят у нас таких.
Ну, поклонились, Дон Саладо чуть ли не в пояс согнулся, а после в донжон замковый пошли. А покуда по ступеням вверх карабкались, я все понять не мог, отчего они дом себе не выстроят. Кто же это сейчас в донжоне живет? Соседи у них буйные? Так ведь нет вроде тут никаких соседей!
Пока за стол садились, пока ужинали, я все молчал больше. Обычное дело: не понимаешь чего – молчи. А тут много вокруг непонятного было. Бедно очень, стены каменные, только в зале круглом, где стол накрыли, – побелка. Ну, бедность – дело привычное, да только тут странная бедность какая-то. Стены голые, а на них – оружие в каменьях цветных да ковры – тоже цветные. Ну, по оружию это больше Дон Саладо вкупе с сеньором Рохасом знатоки (то-то они от меча к мечу кидались!), а вот с коврами…
Возили мы такие! Из Алжира (будь он неладен, хуже Сицилии), из Берберии, из Туниса. Да за дюжину ковров таких можно целый дом построить. А тут их не дюжина – больше. И гобелены (эти мы из Прованса к нам сплавляли), а на гобеленах – рыцари в шлемах, дамы в платьях старинных. Дали бы мне их, так я за месяц дону Хорхе особняк в центре Севильи купил! На Морской улице, скажем, возле самой Хиральды-колокольни.
Ну, да не мое это дело. Живут – и живут. У тех, что самые благородные, свои причуды. Только вот не все это оно, непонятное. За столом сидим, Дон Саладо с лисенсиатом-толстячком в два голоса чего-то рассказывают, а я их не слушаю, за хозяином да сеньоритой Инессой незаметненько так послеживаю. Они, ясное дело, вежество свое кажут, улыбаются, кивают даже. А в глазах… Вроде бы как заглянул к папаше Молинильо на двор его постоялый настоящий великан. Влез в комнату, на пол сел, головой в люстру уперся и стал бы про дела свои великаньи излагать.
Так что и вправду дивно. Тем более Дон Саладо молодцом себя держал – людоедов с великанами этими в стороне оставил и все больше про войну с маврами рассказывал, да про Малагу, да про старого короля Хуана, да про короля Энрике, при котором смута была, и про нашу Изабеллу, конечно.
А дон Хорхе с дочерью все переглядываются, а Инесса (то есть, понятное дело, сеньорита Инесса) губку так закусывает – волнуется…
…К ужину она переодеться успела, и вновь я удивился.
Ну где так одеваются? Платье длинное, до горла самого, на голове шапочка, но уже другая – совсем маленькая, бисером шитая. Или я не знаю, чего дамы с девицами нынче носят? Такое платье вкупе с шапочкой только на гобеленах, что на стенах здешних висят, и увидишь.
Но и это – не мое дело. Тем более покормили славно, и винцо неплохим оказалось. Только перца много – и в мясе, и в вине. Ну прямо рот горит!
…И перец мы тоже возим – из Леванта самого. Прав толстячок – незаменимый я человек!
А как поели, как руки розовой водой ополоснули (а вода-то – в миске серебряной!), встал дон Хорхе…
– Дорогие сеньоры! Должно мне пригласить вас в опочивальни, дабы отдохнули вы от пути долгого. Но ежели желание ваше будет, то посидим мы еще у огня и предадимся славной беседе. Ибо скажу еще раз – давно в замке моем гости не появлялись, и ценно для меня каждое слово ваше!
Переглянулись мы с сеньором Рохасом, потом с рыцарем моим. Устать мы, конечно, устали (один петух-василиск чего стоил!), но вроде как отдохнули уже.
И решили мы остаться. У огонька посидеть.
Слуги – смурные они тут, слова не скажут – стол разобрали, унесли, а мы в кресла сели. То есть они все сели, а мне табурет достался. Ну, табурет так табурет, мы люди простые. А вот что дон Хорхе дочь свою услал – жалко. Я бы на нее еще бы поглядел.
И ведь некрасивая! Лоб в пол-лица, губы маленькие, щеки какие-то впалые. Но ведь человек – это не лоб и не губы. Было в ней что-то! Недаром заметил я – те, что самые благородные, никакой красоты не имеют. Зато есть в них что-то этакое – даже не знаю, как назвать. Порода, что ли? Вот наша королева Изабелла…
Точно! Вот кого мне сеньорита Инесса напомнила. Ее, королеву нашу! Лицо, конечно, другое (лоб разве что тоже большой), но все вместе…
Или родственница какая? А почему бы и нет? У этих Трастамара – родичей пол-Кастилии. Может, и я тоже – родич?
Так что сижу я на табурете, об Инессе лобастой думаю, о королеве думаю, в огонь смотрю. Большой очаг, чуть ли не быка зажарить можно. А остальные по-прежнему о жизни толкуют. То есть Дон Саладо и толстячок толкуют, а хозяин наш, дон Хорхе – тот больше слушает.
Кивает.
Наконец подзывает слугу, кубок серебряный с блюда берет, к губам подносит. И нам – по кубку. А там – вино подогретое с пряностями разными.
Пьем. Ставит дон Хорхе кубок обратно на поднос, слуге ладонью машет – мол, шагай отсюда, а сам встает, к очагу подходит.
Молчит.
Долго так молчит, затем к нам поворачивается:
– Много дивного рассказали вы мне, сеньоры! Редко тут гости бывают, так что мало мы с дочерью моей знаем о том, что деется за горами. Скажу больше, по причинам неким в замок наш попасть очень трудно, невозможно почти. Вы же и меня встретили, и в замок въехать смогли…
И – снова молчит.
Опять загадка! Наверно, разбойников тут – пруд пруди, потому и не доехать до Анкоры этой. Ну и повезло же нам!
А дон Хорхе подумал еще чуток, улыбнулся, бороду свою черную рукой тронул:
– Полно об этом! Хочу предложить вам, дорогие сеньоры, сыграть в некую старинную игру. Суть ее вот в чем состоит: каждый из вас расскажет случай, самый необычный в вашей жизни. Под необычным разумею я не случайность житейскую, а то, что истинной загадкой для вас осталось и разумом объяснено быть не может. Мы же все вместе выслушаем и решим, чей случай самым удивительным покажется.
И вновь мы переглянулись. Не люблю я откровениичать, душу выворачивать, но ведь сейчас вроде бы не о душе речь идет?
Переглянулись – согласились. А дон Хорхе меж тем продолжает:
– Играем же честно, сеньоры. Пусть лучше промолчит кто, ежели рассказывать не пожелает. Не стану говорить, что выдумывать в такой игре не должно…
Ну, это понятно! Дон Саладо мой весь подобрался, вперед подался, чуть с кресла не свалился. Сеньор лисенсиат ради такого случая окуляры на переносицу нацепил.
С него и начали – с сеньора Рохаса. Поерзал толстячок в кресле, ручки свои пухлые потер:
– Сказать я вам сперва должен, сеньоры, что как человек, к наукам склонный, не разделяю я суеверия веков минувших, равно как века нынешнего. И, право, смешно мне слушать тех, кто увлекается поиском камня философского или же будущность по звездам определяет. Но был все же случай…
Помолчал, вновь ручки свои потер, пальчиками покрутил.
– Гостил я как-то в городе Болонье, в университете тамошнем, старейшем во всем мире христианском. Как-то пригласил меня к себе сьер Америго Батильери, человек весьма ученый, однако, увы, все свои средства тратящий на смешное суеверие, называемое алхимией. Был он учеником знаменитого Базилия Валентино и, как говорили, знался с самим Агриколой, который жил в Болонье незадолго перед тем. Пятеро нас в его доме собралось, причем все – люди достойные, достаточно в делах этих понимающие. И когда в очередной раз изъяснили мы сьеру Батильери свое мнение, к алхимии относящееся, предложил он поразить нас неким опытом. Вначале мы не соглашались, поскольку знали, что опыты алхимические – суть обычные фокусы, подобные фокусам уличных бродяг. Но стал сьер Батильери настаивать, и, наконец, согласились мы. Сьер Вертулли, университета тамошнего профессор, послал слугу своего домой за памятной медалью, хранившейся в его семье. Медаль же та, серебряная, с блюдце целое величиной, вычеканена была еще при покойном папе Николае в честь юбилейного года, 1450-го от Рождества Христова. На медали был изображен сам папа Николай, на обратной же стороне – Мадонна с младенцем и ключи святого Петра…
Тут даже мне интересно стало. Слыхал я об этих алхимиках! Для одного из них мы из Турции какие-то камешки да порошки привозили. Дорого они ему обошлись – чуть ли не на вес золота.
– Осмотрели мы упомянутую медаль, все царапины на ней приметив, – продолжал сеньор лисенсиат. – А затем взяли острый скальпель и процарапали на ней свои вензеля – чтобы подменить ее невозможно было. После чего погрузил эту медаль сьер Батильери в алхимический куб, развел огонь и субстанции некие добавил. Мы же в стороне сидели, ничего из делавшегося не пропуская. Опустил же медаль сьер Батильери в куб ровно наполовину. И что же? Через два часа с четвертью извлечена была медаль, омыта и нам показана. И – верите ли? – та половина, что в куб погружена была, золотой оказалась! Мы, подозревая в том фокус или, попросту говоря, обман, не пожалели медаль, на части ее разрубив и те части достойно осмотрев. И подивились, ибо серебро и вправду заместилось чистым золотом. Добавлю, что царапины все, нами примеченные, равно как вензеля наши, остались на месте. И с тех пор не знаю я, что и думать. Не верю я в алхимию, но верю глазам своим и глазам моих достойных коллег. Таков, пожалуй, мой рассказ будет…
– Славная история! – кивнул дон Хорхе, и мы с ним, конечно же, согласились.
…А я меж тем уже прикидывать стал, что неплохо бы нам с этим Батильери поближе познакомиться да поручкаться. Болонья, конечно, не ближний свет – но и не такой уж дальний.
Если не помер сьер Батильери, конечно. Или за колдовство не спалили.
А тем временем очередь рассказывать к моему идальго перешла. Я вначале и слушать не захотел. Начнет перечислять сейчас людоедов с великанами да с василисками. Опозорится, и себя дураком выставит, и нас!
Эх, надо было с самого начала игру эту не затевать. Поздно спохватились!
А Дон Саладо бородой-мочалкой дернул, голову вскинул:
– Поистине есть у меня такая история, сеньоры! Хоть и немало в моей жизни случилось всяких чудес, и повидал я всякое…
Я только вздохнул. Еще бы! Ну, сейчас будет! «Еду я, сеньоры, и вижу замок людоедский…»
– …но история эта и вправду дивной мне кажется. Под Малагой это было, когда только подступили мы к ее стенам. Воевал в войске нашем некий юноша из Ламанчи, фамилия же его с моей сходна была – Кехано. Не был он рыцарем еще, но воевал храбро, и обещали мы ему, что как только возьмем передовой бастион, что звался Гемера, то прямо на валу его посвятим оного сеньора Кехано в рыцари. Но за день до приступа, а было это как раз на праздник Святой Троицы, проклятые мавры совершили вылазку, и ранен был сей Кехано, причем ранен весьма тяжко, а посему и в лагере оставлен под присмотром братьев-траппистов, что больных и недужных пользовали. Приступ же весьма горяч был, и потеснили нас мавры, и сыграла уже труба отступление, когда узрели мы на самом валу сеньора Кехано без шлема, в одной кольчуге легкой. И бросился сей юноша на мавров, и поразил их без счета, и взяли мы бастион Гемера. Там же, на вершине вала, как и обещано было, дон Алонсо Энрикес, великий адмирал Кастилии нашей, посвятил сеньора Кехано в рыцари. И славили мы юношу этого, и поздравляли, и восхваляли Господа за великую победу…
Раскраснелся мой идальго, разволновался. Славный, наверно, был вояка!
– Когда же в лагерь мы вернулись, рассказали нам братья-трапписты, что умер сеньор Кехано – как раз в самом начале приступа. И покоился тут же труп его, уже охладевший, и кровь была омыта, и на глазах лежали монеты медные. И с тех пор, сеньоры, не ведаю я, что и думать. Ибо не призрак воевал вместе с нами – сам я жал его руку, и была та рука горячей и твердой, и другие то видели, сам дон Алонсо Энрикес, великий адмирал, всему случившемуся дивился…
Помолчал Дон Саладо, головой в повязке мотнул. И мы помолчали.
– Дивный рассказ, спорить нечего! – согласился дон Хорхе. И – на меня взглянул.
А что я? Я тоже всякого навидался, расскажу – не поверят. Да только меня ведь спросили про самое-самое! И поди пойми, что это? Вот ребята с Берега считают, что везучий я. И Калабриец так думает, на самые опасные дела меня берет. И действительно, везет. А если подумать, то и вправду: в детстве, когда в Астурии жил, с голоду мог помереть – не помер, в Севилье раз сто зарезать могли – не зарезали. И на галеры («скамейку» – по-нашему) не попал, и корсары алжирские в рабство не забрали.
Да все не то. А вот то самое… Тем более честно говорить просили.
Отмолчаться? Неудобно вроде, толстячок рассказал, и идальго мой калечный тоже…
– Не знаю, сеньоры, – вздохнул я. – Человек я не больно ученый, так что мало в таких делах понимаю. Может, почудилось мне…
– Не смущайся, Игнасио! – улыбнулся дон Хорхе. – Ибо верим мы каждому слову твоему.
…Для него я, понятно, не Начо – Игнасио! Благородный, вежество всякое знает!
– Ладно! – решился я. – Слушайте!
Никому я об этом еще не говорил – только падре Рикардо. Он-то мне поверил!
– Кажется мне… Ну, в общем, видел я Святую Деву Марию, заступницу нашу милостивую…
Выговорил – и сжался весь. Вот сейчас сеньор Рохас губами своими улыбочку изобразит!
Нет, не изобразил толстячок. Слушает.
– То есть, сеньоры, я и перепутать мог, мне тогда лет шесть было. Мы с дружком моим, Хуанито, как родители наши, царствие им небесное, с голодухи померли, на юг подались, в Андалузию. Ну, тепло там, хлеб есть. Да как-то погнались за нами собаки, у Хуанито нога подвернулась, упал он, закричал, а я не обернулся даже – страшно! Собаки эти проклятые не отстают – догоняют, много их там было, одни друга моего рвут на части, другие, стало быть, за мной…
За спиной – затихли крики, Не орет уже дружок мой, Помер, значит, Хуанито! Плохо помер – хуже нету! А канарские ищейки Мне на пятки наступают. Лай собачий да ворчанье — Словно смерть в затылок дышит! Под ногами – листья, листья, Лес вокруг, бежать нет силы, В горле сухо, будто камень В рот зачем-то затолкнули. А собаки – ближе, ближе, Понял я – не убежать мне. Вот и все, выходит, Начо! Лучше дома бы ты умер, Чем попал в собачьи зубы! Тут деревья расступились, За деревьями – дорога, Перекресток и часовня. Добежать бы! Сил уж нету, Прыгнул камешек под ноги — И упал я носом в землю, Для Канарских псов – закуска. Только слышу голос чей-то, Тихий голос, ровно шепот: «Их уж нет! Не бойся, мальчик! Я всегда с тобою буду!» Приподнялся – где собаки? Нет, проклятых, ни следочка! А у старенькой часовни, Словно пламенем одета, В белом плате, в ризе белой На меня глядит Она.– Все ли с тобой в порядке, Игнасио? – спросил дон Хорхе, заботливо так спросил. Мне даже не по себе стало.
– Да все в порядке, сеньор, – вздохнул я. – Переволновался только чуток, пока рассказывал. Бывает это!
– Поистине, сеньоры, это самая дивная история! – воскликнул Дон Саладо. – И отдаю я свой голос за то, чтобы признать моего славного эскудеро победителем в этой чудесной игре!
И все с ним согласились, спорить не стали. А я уже в себя пришел, поблагодарил, понятно, – и снова странность приметил. Все мы о своем рассказали, а хозяин наш, сеньор Хорхе Новерадо – нет.
Как же так?
Не спалось мне ночью. Ну никак не спалось. И до тысячи считал, и по комнатушке, что мне досталась, из угла в угол ходил. Нет, не так что-то! И с доном Хорхе этим, и с замком. А в башку словно гвоздь забили – ведь приметил я что-то, еще там, у перекрестка! Приметил – а вспомнить не могу. Оно, понятно, всякое бывает. Может, хозяева здешние – чудики, вроде моего идальго. Тот за великанами гоняется, эти из гор носу не кажут.
Но все равно – не так что-то! Вроде и бояться тут нечего, опасность-то я кожей чую, печенкой. Нет, не зарежут и маврам не продадут, но все же…
А как заснул, уже под утро, такое сниться начало! Никогда ничего подобного не видел – даже во сне. Будто бы в горах я, в ущелье узком…
Латы блещут, крест кровавый По плащу огнем растекся, На руке моей – перчатка Из тяжелой твердой кожи, А в руке уже не дага — Меч в руке из синей стали. А вокруг – лихая сеча, И веду я в битву войско. Каждый воин – в белых латах, И на каждом – крест алеет. Подивился я такому — Не иначе Дон Саладо Сон мне этот одолжил!ХОРНАДА VIII. О том, как мне достался платок, завязанный семью узлами
– Горы-то красивые, слов нет, – согласился я, глаза от солнца прикрывая, дабы эти самые горы получше увидеть. – Только, сеньорита, вы бы меня «сеньором» не величали, а особенно с фамилией вместе. Ежели честно, непривычно оно как-то!
…То есть не в привычке, конечно, дело. Просто как услышу «сеньор Гевара», все начинает казаться, что я у севильского коррехидора [33]. Он, гадина очкатая, вежливость изображает. Даже перед тем, как на дыбу послать, все «сеньор» да «сеньор». И – по фамилии! Не Бланко, а Гевара. Все знает, змеюка!
Впрочем, сам я виноват – спросила меня сеньорита Инесса, отчего это фамилия моя такая странная – не как у идальго вроде. Ну а я, дурень, хвост распушил, что твой петух, и ляпнул: мол, Бланко – прозвище, не фамилия. Белый потому что, и монета еще такая есть, бланко. Маленькая совсем, в половину мараведи. А я тогда среди пикаро, что на площади Ареналь в Севилье собирались, самым маленьким и был. И белым самым.
– Вы правы, Игнасио, – чуть подумав, кивнула сеньорита Инесса. Серьезно так кивнула, значительно. – Конечно, среди рыцарей, что каждый день с врагами смертно бьются, нелепо соблюдать этикет, для дворцов придуманный. Но и вы, Игнасио, по имени меня зовите.
Чуть не подавился. То есть не чуть – подавился слегка. Воздухом. За кого же лобастая меня принимает?
Да я уже понял – за рыцаря. Вернее, за рыцарского оруженосца – за эскудеро, значит. Этакий юноша благородный Игнасио Гевара по прозвищу Белый.
Белый Идальго почти! Ха!
А все потому, что утром мы так и не уехали. И собрались вроде уже, и Куло мой ушами дергал – застоялся, гулять хочет. Только вдруг прибегает лисенсиат наш, глаза – с двойной реал каждый, носик дергается, точно у кролика какого. Сеньоры, мол, сеньоры, я тут такое увидел! Мне хотя бы часок, или два, или лучше неделю…
А увидел он книжки, библиотеку то есть. Нам еще вчера дон Хорхе сказал, что в Анкоре этой книжки имеются. Мне-то что, а толстячок запомнил. Запомнил – и утречком попросил разрешения туда нос свой короткий сунуть.
Сунул – и очумел. Очумел, о невесте своей даже забыл.
И что тут делать? Хозяин наш, сеньор Новерадо, возражать не стал, Дон Саладо тоже. А мое дело маленькое.
Но вот что интересно. Сеньор Рохас, понятное дело, в библиотеку нырнул – как раз она под тем залом круглым, где ужинали мы. А сеньор Новерадо моего рыцаря – хвать! И увел. И тут только сообразил я, что книжки те вроде крючка с наживкой. Сеньор Новерадо толстячка нашего сразу раскусил, вот и закинул удочку. Видать, очень ему хотелось с Доном Саладо наедине остаться да поговорить по душам.
И скажите мне на милость, о чем? О великанах с василисками? Так вроде дон Хорхе в своем еще уме.
А меня сеньорита эта лобастая на самый верх повела. Горы показывать. Красные они тут! А небо не голубое даже – белое. От жары, видать.
– Я часто сюда прихожу, – вздохнула сеньорита Инесса, на горы эти красные глядя. – Мир такой большой, Игнасио! А для меня мир – только это…
А я в затылке почесал. Ну и папаша у нее! Никуда дочку не пускает. Она же тут спятить может, в этих горах. Вот бедняжка!
– Там, на юге, Севилья, да? Какая она? Большая, наверно?
– Что? – очнулся я. – Большая? Это уж точно!
И действительно большая, за день не обойти. И за два тоже. Но я-то обошел! Так что я про Севилью нашу неделю рассказывать могу. И про собор наш с Хиральдой Поднебесной, и про Триану, и про Башню Золотую, и про то, где какие лодки к набережной Гвадалквивира пристают, и про Морскую улицу, и про Мавританскую, и про площадь Ареналь. И про пригороды все…
Есть чего вспомнить!
– Сколь славно, Игнасио, что ныне Севилья принадлежит добрым христианам, – вновь вздохнула она. – Даже не верится! Наконец-то…
Хотел я сказать, что двести с хвостом лет назад она нашей стала, но, понятно, промолчал. Лобастая, поди, только байки про мавров и слышала, вот и живет, как при Сиде Компеадоре.
– А ведь вы моряк, Игнасио? – в темных глазищах словно вспыхнуло что-то. – Как бы я хотела море увидеть!
– Ну, не совсем моряк, – смутился я. – Но море видел, это точно.
Не моряк, потому что канаты тянуть и румпель крутить – это для других. Пехота я – морская. Для того Калабриец меня с собой и берет. Для дел всяких интересных. Да только не рассказывать же этой лобастой, что такое абордаж или как тюки с шелком в бурю с борта на борт перекидывать!
– Пойдемте! – маленький острый подбородок резко дернулся. – Спустимся ко мне, и вы мне все расскажете, Игнасио. Все, что помните! И про Севилью, и про море.
Все? Ну, сказала! Однако же нечего делать – пошел.
А бедная у сеньориты Инессы комнатка оказалась! Ковер, правда, есть, и кровать балдахином занавешена. И – все, если распятия не считать да двух табуреток. И еще лютня на подоконнике лежит. Не балует дочку дон Хорхе, не балует!
Один табурет мне достался, другой – ей. Сел я, воздух выдохнул, потом вдохнул.
И – поехали!
Ох, как она слушала! Будто я из Индии или с острова Сипанго приплыл. Словно я – последний, с кем она в жизни разговаривает. Ну а я уж стараюсь. Тут ведь с умом нужно. Про наши с Калабрийцем дела языком трепать не след, не для ее это ушей. Плаваю себе и плаваю. А вот про города разные – можно. И как папу римского на площади Петра Святого видел – тоже можно. И про всякое другое.
Слушает – вся вперед подалась, глазища черные горят, пальцы четки перебирают. А я этак незаметно сворачиваю туда, где девицам особо интересно. Чего где носят, во что ножки обувают, какие сейчас привычки у девиц этих. Я не то чтобы знаток великий, но кого в каждом городе вперед всего примечаешь? Их и примечаешь, красавиц.
Вот и пригодилось!
Отчего-то ей, лобастой этой, больше всего про Венецию понравилось. И то, что на гондолах там плавают, и что дамы с девицами часами на крышах просиживают – волосы солнцем выбеливают. А особенно про цокколи – обувку ихнюю, новую, самый писк. И действительно, каблук – в локоть от земли! Ходят, как на ходулях, бусами да серьгами позвякивают. Цок-цок, цок-цок! Оттого и назвали.
Рассказал я про эти цокколи. Выдохнул, на солнышко поглядел. Ого, считай полдня трепался! Как только язык еще движется?
– Спасибо, – кивнула она, значительно так кивнула. – Это все… Это все очень важно.
Хотел я пошутить – насчет цокколи, но понял – нельзя. Серьезная она девочка (то есть, конечно, сеньорита). Даже слишком. Ни разу не улыбнулась даже!
– Я знала, что мир большой, но не знала, что он такой… Такой разный. Жаль, мне не увидеть!
Грустно так сказала! Что за бес? Или дон Хорхе до конца дней дочку солить в этих стенах собирается? Ведь замуж выдавать уже пора!
Подумал – и язык прикусил на всякий случай. Ну и мыслишки у тебя, Начо!
– Так ваш замок тоже ничего, сеньорита… То есть, Инесса, – ляпнул я. – Крепкий такой замок! И горы красивые, значит.
Не ответила. Дернулось лицо – словно ударил ее кто.
– Этот замок… Его называли Замком Королевской Измены. Вы слыхали, Игнасио?
– Да откуда мне слыхать-то? – развел я руками. – И какому такому королю тут изменили?
– Не королю, – тихо-тихо ответила она. – Значит, и это уже забылось… Тогда Кастилией правил король Альфонсо.
– Слышал! – обрадовался я. – Который Севилью вернул? [34]
– Да… – еще тише ответила она. – Но это случилось раньше, тогда в Севилье были еще мавры… Есть один романсьеро, очень старый…
Встала, плечиками дернула, словно морозом ее пробрало, отвернулась.
– Если хотите… Я могу спеть.
– Еще бы! – обрадовался я. – Хочу, понятно!
А что? Люблю, когда девицы поют. И когда танцуют – тоже люблю. А вот когда грустят – это лишнее. А Инесса как раз загрустила чего-то, так пусть развеселится чуток. И я послушаю.
Подала голос струна – негромко так, чисто. Затем другая, третья…
– Редко я играю, – наконец-то улыбнулась она, – а пою еще реже. Но…
И тут – словно стерло улыбку. Сжались губы, блеснули глаза.
– Слушайте!
Чуток помолчала, глаза на миг прикрыла. Легли пальцы на деку…
Разошлась молва в народе, По Кастилии свободной, По Леону и Наварре, Будто зол король Альфонсо, Спать не может он от гнева, Ходит тяжкими шагами По дворцовым он покоям, Кулаки сжимая с хрустом. И не мавров проклинает, Не безбожных сарацинов. Зол король на дона Хорхе, Повелителя Анкоры. Славен Хорхе Новерадо, Всей Кастилии известен, Не пускает Хорхе мавров, Что гнездо в Севилье свили, Через горы Сьерра-Мадре. Каждый день стоит на страже, Все наскоки отбивая. Всем богат дон Новерадо, Но иных богатств дороже Дочь, прекрасная Инесса. И слушок в народе ходит, Будто сам король Альфонсо Кликал юную девицу В свой дворец в Вальядолиде, Ибо в ссоре был великой С королевой, доньей Кларой. Только гордая Инесса, Честь свою оберегая, Отказала королю. А в Севилье мавританской На брегах Гвадалквивира В своем замке Алькасаре, Что из золота построен, Абенгальб, эмир севильский, Тоже с горя спать не может. Вновь разбиты его мавры, Снова Хорхе Новерадо Не пустил их в Сьерра-Мадре, Разгромил у стен Анкоры! Абенгальб письмо читает, И лицо его светлеет, Ибо пишет Абенгальбу Враг его, король Альфонсо: «Есть на чем нам помириться! Потому пошлю приказ я, Чтоб открыл тебе ворота Гордый Хорхе Новерадо. Смерть его – тебе награда, Мне же – дочь его Инесса. И на том с тобой поладим!» И восславил Магомеда Абенгальб, эмир севильский, И велел седлать коней. В темноте не спит Анкора. На высокой черной башне Сам дон Хорхе Новерадо Вместе с дочерью Инессой. Слышат – в трубы затрубили, И несет гонец известье, Что король приказ прислал им: Открывать скорей ворота И впустить в Анкору войско, Чтобы вместе биться с мавром. Говорит отцу Инесса: «Это – черная измена! Мавританский слышу говор, В темноте тюрбаны вижу!» Отвечает ей дон Хорхе: «Не бывало и не будет, Чтобы я, дон Новерадо, Вдруг ослушался приказа. Если ж это все измена, Пусть Господь меня рассудит С королем моим Альфонсо!» И ответила Инесса, Поднимая вверх распятье: «Слышит нас Святая Дева! Пусть же мне она поможет. Если враг ворвется в замок, Даст мне силы в миг последний Вниз шагнуть вот с этой башни!» А отец ее, дон Хорхе, Тоже руку к небу поднял: «Даже если я погибну, Пусть навеки здесь останусь, Чтоб стеречь мне эти горы От проклятых сарацинов! И пускай сгорит Анкора, В черный пепел обратится, Даже мертвый, не позволю, Чтобы мавр пришел в Кастилью!» Обнял дочь дон Новерадо И спустился вниз к воротам.Замолчала, положила лютню обратно, пальцы сцепила…
Ну, вот! А я думал, веселее станет! Хотя какие могут быть песни в этаком замке?
Хотел спросить я, что дальше случилось (вечно эти романсьеро на самом интересном месте обрываются!), но не спросил. И так понятно. Об ином узнать захотелось.
– Выходит, Инесса, тот дон Хорхе так же звался, как батюшка ваш? А дочка его…
Не дослушала, кивнула. Кивнула, к окошку узкому подошла, вниз поглядела. Обернулась.
– Ваши друзья уже во дворе, Игнасио. Пора вам. Встал я, улыбнулся, руками развел.
– Погодите!
Резко так сказала лобастая, руку подняла. Растерялся я даже.
Подумала чуток, губки сжала, подошла к полке, сняла ларец. Маленький такой, из дерева полированного.
– У меня… У меня к вам просьба, Игнасио. Когда будете в Севилье, зайдите в собор. Тот, где самая высокая колокольня.
– Хиральда-Великанша которая, – кивнул я. – Зайду, если просите.
– Оставьте его там, где-нибудь ближе к алтарю. В этом ларце нет ничего, что могло бы осквернить святое место. Вот, посмотрите…
Достала ключик, провернула два раза. Заглянул я, а внутри – непонятно что.
– Это платок, – строго сказала она. – На нем семь узлов, очень сложных. Платок старый, ему, наверно, лет двести…
Ну, сказала! Новенький такой платочек, шелковый. А узлы и вправду – на славу. Прямо-таки морские.
– Это легенда, Игнасио. Просто легенда, и ничего больше. Но пусть платок останется в доме Божьем!
– Ну, как хотите, – согласился я. – Только у вас ведь в замке тоже церковь…
– У нас часовня, – перебила Инесса. – И не вздумайте развязывать узлы. Ни в коем случае!
– На-а-ачо-о-о!
Эге, а это внизу, Дон Саладо мне голос подает!
– Все ясно, сеньорита, то есть Инесса, – бодренько заявил я. – Ларец – к алтарю, узлы не развязывать. Будет исполнено!
А самому как-то кисло сделалось. То ли не договорили мы с Инессой этой, то ли кто из нас лишку сказал.
И потом… Я уеду – она останется: в этих стенах куковать да на горы красные глядеть. Не мое это вроде дело…
Или мое? Что за бес, опять непонятно!
А она, Инесса, улыбнулась – второй раз за весь разговор. Улыбнулась, что-то маленькое мне протянула:
– Это вам на память, Игнасио. Носите на воротнике, лучше, чтобы никто не видел.
И – в глаза мне взглянула. Серьезно так, со значением. Я как в глаза ее черные поглядел, так и о подарке забыл. Сжал в кулаке – и все.
А если честно, то не только о подарке – обо всем запамятовал. Да чего уж тут!
Кулак я уже во дворе разжал, когда на Куло своего взбирался. Дон Саладо, орел наш, уже на коньке своем восседает, сеньор лисенсиат на муле, окуляры нацепил, бумажку какую-то читает, оторваться, грамотей, не может. И мне пора.
Поглядел, а на ладони моей – булавка. Да не простая, серебряная, с синими камешками, маленькими такими. Яркими!
Эге, оберег. Да еще из серебра! Молодец, лобастая, понимает!
Нацепил я эту булавку на воротник рубахи, даже приятно стало. Все?
Нет, не все. Ларец! Подумал я, достал ключик, вынул платок – и на груди спрятал. Сохранней будет! А ларец пока и во вьюке полежит, не пропадет. И тоже – приятно. Вроде как рыцарь я, что платок дамы своей на груди у сердца греет.
Подумал – и чуть за ухо себя не дернул. Окстись, Начо! Тоже мне, Белый Идальго нашелся!
– Готовы, сеньоры? – это Дон Саладо, весело так, не иначе отдохнул в этих стенах, сил рыцарских набрался.
Да чего уж там, готовы. А вот и дон Хорхе. Улыбается в бороду свою черную.
– Счастливого вам пути, сеньоры! И да минует вас зло. Да пребудут с вами Господь и Дева Святая!
– Амен! – это мы, в три голоса. Ух, красиво получилось!
– У нас примета есть, – смеется сеньор Новерадо. – Просто примета, старинная, не больше, но все-таки… За воротами не оглядывайтесь, пока до перекрестка не доедете. И в этом просьба моя будет…
Ну, ясное дело, я и сам в приметы верю. Да только чудной замок! Приметы, легенды, обереги… Впрочем, кто их, благородных, поймет?
Обернулся я – как раз перед воротами, чтоб обещания не нарушить. Обернулся, наверх посмотрел…
На самой вершине донжона стояла Инесса. Стояла, на нас смотрела. А затем рукой махнула – раз, другой.
И показалось вдруг, что именно мне она машет…
Креститься надо, ежели кажется, Начо!
Вздохнул я, кончик носа отчего-то почесал.
Отвернулся…
За воротами Анкоры, Где дорога к скалам жмется, Вдруг очнулся толстячок наш, От бумажки взгляд свой поднял, Усмехнулся этак едко: «Мне в приметы верить стыдно!» И – немедля обернулся, Поглядел опять на замок. Поглядел, снял окуляры, Головой качнул и молвил: «Что-то жарко нынче стало! Или холодно, не знаю!» Мы с идальго удивились: Что за притча? День нежаркий, И с чего наш муж ученый Пот платочком вытирает? Эка вдруг его прошибло!ХОРНАДА IX. О том, как мы лечили сеньора лисенсиата по его же системе
– Вперед, сеньоры, вперед! Поспешим, ибо, чую я, ждут нас славные подвиги!
Если кто и чувствовал себя наилучшим образом, то это, конечно, Дон Саладо. Приободрился, даже как-то шире в плечах стал, повязку сбросил, шлем-тарелку на уши свои оттопыренные надвинул, бороду-мочалку распушил. И конек его почуял что-то словно, копытами бьет, из ноздрей – чуть ли не пламя с дымом.
А мы с сеньором лисенсиатом на призывы горячие даже не откликались, потому что и так вперед ехали. Вперед – и вниз. Горы уже поменьше стали, вроде как отступать начали, а слева, в ущелье, речка зашумела. Реку эту толстячок сразу узнал, да и я узнал – Сухар, его еще Сухаром Бешеным называют. Ну, это он весной Бешеный, а сейчас плещет себе и плещет. И течет куда надо – прямиком к Гвадалквивиру.
В общем, тут я бы уже и без сеньора лисенсиата не заблудился. Тем более толстячок, как только замок мы этот, Анкору, позади оставили, в задумчивость впал. Даже не впал – вгруз. Носик свой короткий чуть ли не до груди опустил, насупился и лишь усиками тонкими – дерг-дерг. Тик на него напал, что ли?
А я и сам помалкивал, потому как было о чем мозгой пораскинуть. Рыцари, замки, легенды всякие да девицы красные – это больше для Дона Саладо…
…Хотя насчет девиц – тут еще подумать следует. Зацепила меня сеньорита Инесса! И чем – не пойму даже.
И вообще, горы эти словно для идальго моего нарочно взгромоздили. Катайся тут сто лет, великанов с василисками разыскивай. И места подходящие, и людям никакого вреда. Да только горы скоро позади останутся, и въедем мы в королевство Кастильское, где в каждом селеньице альгвазилы на тебя косятся, где по дорогам Святая Эрмандада таких, как мы, гоняет-ищет.
И если бы только это! Мне еще свои эскудо отработать надо. А там и Севилья…
Ну, о Севилье я решил после подумать, иначе мозги набекрень свернуть можно, и будут они вроде шлема Дона Саладо. Оно бы до Гвадалквивира доехать в такой-то компании! Один мой идальго калечный чего стоит, а тут еще и толстячок…
– Скажите, Начо, не приходилось ли вам наблюдать некое явление природное, именуемое арабским словом «мираж»?
Я даже головой мотнул. Ну и пляшут мысли у сеньора лисенсиата. Мираж ему подавай!
– Отчего же, приходилось, сеньор, – поспешил согласиться я. – Да кто же эти миражи не видел? Особенно если жарким летом, вроде как сейчас. И воду на камнях голых видел, и целый лес видел, и города даже.
…Особенно в Берберии, как ветер этот проклятый задует, сирокко который. Да ну ее, Берберию, там только верблюды жить и могут!
– Это хорошо, – вздохнул толстячок и лоб платком вытер – в который уже раз. – Это хорошо, Начо!
Хотел я узнать, чего же тут хорошего, да не стал. Что-то не так с нашим лисенсиатом. Приболел, что ли?
А дорога все вниз и вниз, а Сухар все громче плещет, ущелье заполняет. И под плеск этот стал я думать о всяком-разном, а все больше о сеньорите Инессе отчего-то. Не только о ней, конечно. И о Севилье тоже. Ох, и много дел у меня в той Севилье, а как поразмыслить, все к одному сводятся…
Только бы человек мне нужный на месте оказался! Да еще хорошо бы человечка этого не в соборе и не в Башне Золотой прихватить, а где-нибудь как раз посередине, потому как светиться ясным месяцем мне не след. Ну, никак не след!
В общем, задумался. Задумался и не заметил даже…
– Начо! Начо!
Вначале показалось – сеньор лисенсиат зовет. Ан нет – Дон Саладо. И озабоченно так. Великана приметил, что ли? Как раз вон и скала подходящая, впору будет…
– Нам надлежит вернуться, Начо! Ибо спутник наш…
Толстячок! Оглянулся – нет толстячка. Вот бес!
– С мула свалился? – брякнул я первое, что на ум пришло. По глупости брякнул: свалился бы – голос подал. Или хотя бы плеснуло, ежели он головкой – да в ущелье.
Фу-ты, мыслишки!
– Отнюдь! – покачал своим шлемом доблестный идальго. – Однако же…
Что за «однако же» мы узнали, как только одров наших поворотили и за уступ скальный заехали. Сидит бедолага лисенсиат на камешке, голову руками обхватил, а мул его рядом бездельничает, травку, от жары желтую, пощипывает.
– Сеньор! – воззвал рыцарь голосом, что твоя труба. – Добрый сеньор Рохас! Уж не случилось ли чего с вами?
Нашел что спросить! И так ясно. А вот что именно… Думали – не слышит. Нет, почуял толстячок. Почуял, голову от ладоней оторвал (или наоборот, не разберешь)…
– Кажется… Кажется, сеньоры, захворал я изрядно. И хворь моя…
Этого еще не хватало! Подскочил я, первым делом за лоб его взялся. Лоб как лоб, не горячий, не холодный…
– …немалое опасение мое вызывает!
А я уже его за средний палец тяну – верное средство, если нутряность прихватило. Тяну, значит…
– Нет, нет, Начо! Хворь моя скорее меранхолическая, правильнее же выразиться «меланхолическая», ибо слово сие, в языке нашем искажаемое, от греческого происходит…
И тут я пуганулся – всерьез. А не спятил ли толстячок наш? То-то после замка он сам не свой!
– Надо бы лекаря, – заметил Дон Саладо. – А не ведаешь ли ты, Начо, есть ли таковой в селении ближайшем?
Я только отмахнулся. Селение, ближайшее которое, это Касалья-де-ла-Сьерре, не селение даже – городок. Да только откуда там лекарь? Там скорее крысомора найдешь!
…Хоть, по мне, что лекари наши, что крысоморы – одни других стоят. Не все, конечно. Но многие!
– Суть же хвори моей, – продолжал меж тем лисенсиат, – в неадекватности, с которой я мир наш воспринимаю.
Как услыхал я слово «неадекватность», так сразу понял: лечить! Лечить – и немедленно!
Кое-что мы с Доном Саладо все-таки уразумели. Не спятил толстячок, хвала Деве Святой. Не спятил – но кажется ему, сеньору Рохасу, что все-таки завелись в башке его ученой тараканы. А отчего – не говорит. Мы его и так спрашивали, и этак. Есть, стонет, причина, а потому, мол, в себе я сомневаюсь.
А я на Дона Саладо между тем поглядываю. Ну, точно, он заразу разносит! Сначала я чуть было не повелся с мечом этим щербатым да с василиском (вспомнить стыдно!), теперь вот сеньор Рохас, даром что ученый человек. Только у него, книжек начитавшегося, башку на другую сторону перекосило.
Вздохнул я, припомнил всю толстячкову систему, которую он на идальго нашем опробовать хотел.
Все равно, хуже не будет!
– А доставайте-ка, сеньор лисенсиат, бумагу! – велел я. – И окуляры свои не забудьте. Сейчас с божьей помощью рисовать станем!
Подчинился! Бумагу достал, лаписьеро свой свинцовый.
– Извольте, сеньоры! Да уж не знаю, будет ли толк…
Сначала мы за горы взялись, которые вокруг. Толстячок их рисует, а мы смотрим. Смотрим – и успокаиваемся понемногу. Все как есть: скала двуглавая, скала с уступом, вот и ущелье, вот и башня вдали, старинная, еще мавры строили.
…И ведь что любопытно: Дон Саладо тоже в деле нашем участвует, на рисунок глядит, и – ничего. В смысле, ни замков, ни великанов. Видать, просветление на дядьку нашло. И славно, если так!
Покрутил лисенсиат рисунок в пальцах своих пухлых, оглянулся:
– Нет, все равно не так все! Ибо неадекватность моя прежде всего с замком, что мы недавно покинули, связана.
Делать нечего – стали замок рисовать. И со стороны ворот, и со двора, и даже зал тот, где мы трапезничали. И снова – точь-в-точь! Но толстячок все свое гнет, не успокаивается:
– Увы, сеньоры, увы! Наука ведает случаи, когда затмение сразу на многих находило, причем видели все одно и то же…
Тут уж меня оторопь взяла. Это на что же он намекает? Что нам всем замок этот привиделся? И дон Хорхе? И сеньорита Инесса?
Расстегнул я ворот, булавку с камешками синими потрогал, затем отвернулся, платок с узлами достал.
Все на месте. Значит, не спятили мы. По крайней мере я.
– Если бы мне удалось зацепиться за деталь некую! – вздыхает толстячок. – Наваждения, как правило, из уже виденного и ведомого возникают. Ежели бы вспомнил я в замке том нечто, никогда прежде мне не встречавшееся! Ибо нахожу я в сеньоре Новерадо некое сходство с портретом, мною виденным в Саламанке…
И тут меня словно кувалдой по бестолковке навернули.
– А книги? – воскликнул я. – Вы же книжки полдня смотрели да на бумажку чего-то записывали!
Чуть не подпрыгнул толстячок. Засуетился, из сумы седельной бумагу достал – ту самую, с которой из замка выехал.
– Да-да, конечно! Книги… Их там, сеньоры, оказалось не слишком много, однако же каждая – истинное сокровище. Вот, пометил я, летопись времен готских, написана в дни короля Родриго, что враждовал с родичем своим Хулианом…
Окуляры поправил, подумал. Погрустнел.
– Однако слышал я о летописи той прежде и отрывки читал. История же вражды Родриго с Хулианом, который и привел мавров на землю нашу, всем известна…
– Так нет ли чего иного, сеньор? – подхватил Дон Саладо. – Того, что неведомо было вам прежде?
– Вот! – пухлый палец уперся в какую-то строчку. – Рукопись, в коей содержится неведомая мне прежде поэма о великом Сиде. И хоть отсутствует в рукописи той начало, однако же поэма поистине прекрасна. Даже запомнил я некоторые строчки…
Зажмурился толстячок, шевельнул усиками.
– Да, вот! Послушайте! Всадники… Да, точно!
Всадники шпорят, поводья ослабив. Ворона в Биваре взлетела справа, А прибыли в Бургос, слева взлетает. Мой Сид распрямился, повел плечами: «Вот, Альвар Фаньес, мы и в изгнанье, Но с честью в Кастилью вернемся обратно». Вступает в Бургос мой Сид Руй Диас, С ним шестьдесят человек дружины. Встречать и мужчины и женщины вышли. Весь людный город у окон теснится. Бургосцы плачут в большом унынье. Каждый твердит, взирая на Сида: «Честной он вассал, да сеньором обижен». Дать ему кров им в охоту, но страшно…– Стихи о великом Сиде! – вскричал мой идальго, даже до конца не дослушав. – И притом неведомые даже мне, хоть немало я слышал об этом замечательном рыцаре! Поистине, вам не о чем беспокоиться, сеньор Рохас, самому такое не придумать и в бреду, конечно же, не услышать.
И вновь послышался вздох, но уже совсем иного рода.
– И в самом деле, сеньоры, в самом деле! – сеньор лисенсиат даже окуляры снял, на солнышко взглянул. – Не придумать мне такого, тем более стихи эти сложены на старинном наречии и забытым ныне размером… Но хотелось бы еще, еще что-то, чтобы уже никаких сомнений…
Палец снова заскользил по бумаге.
– Есть! – теперь сеньор лисенсиат уже улыбался. – Мне надо было про это сразу вспомнить. О таком я точно нигде не слыхал и придумать тоже не мог…
Встал, ручки свои потер, вновь на небо посмотрел.
– Как славно, сеньоры! Как славно, что разум мой в порядке, хоть и засомневался я изрядно, потому как имелась причина, показавшаяся мне веской…
А меня уже и любопытство разбирает. И в самом деле, что такого могло случиться, чтобы сеньора Рохаса с толку сбить?
Толстячок уже и бумаги все спрятал, и на мула взобрался.
– Пора нам, сеньоры! Надеюсь, извините вы мне мою слабость…
– Да чего уж там, – вздохнул я, самого себя вспомнив. – С каждым бывает!
– Если помните вы, сеньоры, – принялся рассказывать толстячок, между мною и рыцарем калечным пристроившись (благо тропа пошире стала). – Хозяин наш, дон Хорхе Новерадо, не велел нам оглядываться, когда выберемся мы за ворота. Не удержался я, признаться, назад поглядел.
Вспомнил я – точно! Было дело – оглянулся толстячок. Оглянулся, а после принялся пот со лба вытирать.
– Верно, сеньоры, солнце было тому виной или дымка над горами, однако не увидел я замка, где только что мы с вами гостили. Ни его, ни руин даже. Просто площадка ровная да какие-то ямы. И камни по бокам. Долго я глядел…
– Думаю, причиной тому не солнце, – глубокомысленно заметил мой идальго. – Всему виной окуляры, которые не столь помогают, сколь искажают зримый образ мира, особливо же на расстоянии. Потому и не ношу я их.
– К тому же я тоже оглядывался, – подхватил я. – И ничего никуда не пропадало.
Лисенсиат вновь кивнул, весьма успокоенный, а я вдруг сообразил, что оглядывался-то еще перед воротами! Перед ними – не за!
Сообразил – но вслух уточнять не стал. Этак и впрямь тараканы в голове заведутся.
– А потому, – подытожил сеньор Рохас, – будем исходить из логики, всеми мужами учеными чтимой. Ежели во многих случаях видел я нечто, вполне меж собой согласующееся, и только в одном – нет, то резонно предположить будет, что именно в этом случае чувства мои слегка обманулись. Сие и следует из правила, бритвой Оккама именуемого…
– И быть по сему! – согласился я, а Дон Саладо поспешил осенить себя крестным знамением. Не иначе оттого, что про Оккама услыхал. И действительно, что за демон такой?
…А я вновь булавку потрогал. Все в порядке, на месте булавка.
Ну точно, заразная хворь у моего идальго!
– Однако же, сеньор Рохас, – продолжал Дон Саладо, – что за книгу вы вспомнили последней? Видать, особая она была, ежели от воспоминаний о ней ваша хворь без следов сгинула.
– И правда, – кивнул толстячок. – Книга сия весьма редкая, ей лет двести без малого будет. И замечу, что сохранилась она отменно, более того, эта книга, точнее же, рукопись – самое последнее, что приобрели предки почтенного дона Новерадо для своей библиотеки. Видать, новые книги у них не в чести! Охотно расскажу о ней, поскольку чую, что вам, Дон Саладо, услышать о том любопытно будет.
А мне уже и не до того стало. Здоров наш лисенсиат – и славно. А книги… Бог с ними, с книгами этими! От них уму – одно помутнение. Тем более за тропой следить требовалось. Вниз шла тропа, катилась даже. Значит, с горы сваливаемся, прямиком на равнину. Не налететь бы нам аккурат на заставу Святой Эрмандады. Вечно они в самом ненужном месте появляются!
– Рукопись эта вот о чем гласит, – вещал тем временем наш толстячок – бодро так, весело даже, не иначе оклемался совсем. – В году Anno Domini 1291-м два венецианца, братья Луиджи и Пьетро Вивальди, оба – кормчие опытные, отплыли на двух своих галерах мимо Столпов Геркулесовых, именуемых еще Гибралтаром, прямиком в море-океан [35], надеясь обогнуть Африку…
Тут уж и я уши навострил. Эка замахнулись! Мы от острова к острову ходим, берег из виду не теряем, а тут – в море-океан! И когда? Вон, португальцы уже почти сто лет пытаются Африку морем обойти – да без толку все. Недаром океан этот мавры, чтоб им пусто было, морем Мрака называют.
– Однако же сильная буря, равно как течение, куда галеры эти попали, понесли их прямиком на запад. И плыли они более тысячи лиг… [36]
– Сколько? – не удержался я, обо всем позабыв, даже о Святой Эрмандаде. – Вы, сеньор Рохас, зря книжку эту читали. Тысяча лиг! Да галера и двести не пройдет, да что я говорю – ста, если воды на борт брать не будет. Видел я эти галеры. Большие, конечно, но чтобы тысяча лиг!…
Вспомнил я Венецию, Арсенал тамошний, галеры, что всю бухту покрыли. Хороши, очень хороши, но не для моря-океана. Там ведь шторма не такие, как у наших берегов. Говорят, волны – вроде тех гор, что мы только-только проехали.
– И вправду, досталось им изрядно, – согласился толстячок. – Однако все же доплыли они до некой земли…
– И мы доплыли, – самым невежливым образом перебил я, Куло своего придерживая. – То есть не доплыли, конечно. Приехали!
Приехали – потому что кончился спуск. И горы кончились. Впереди – словно яйцо куриное разбили да желток развезли. Равнина! Желтая-желтая, даже деревья, что вдалеке торчат, желтыми мне показались. От пыли, видать.
Ну, равнина желтая – это по сторонам. А впереди, совсем близко – стены серые, приземистые, за ними – крыши черепичные, а вот и колокольня – странная такая, не иначе минарет бывший.
– Касалья-де-ла-Сьерре, сеньоры, – сообщил я, для верности рукой указав. – Сейчас приступ начнем или до вечера подождать следует?
– Отчего же до вечера? – удивился лисенсиат. – Думаю я…
Бум-м-м!
Не везет толстяку сегодня – опять перебили, договорить не дали. Но на этот раз уже не я был тому виной. Колокол! Да так громко!
Загремело с колокольни, Загремело, отозвалось. Отовсюду зазвонили, Басовито, со значеньем. Не пожар ли? Так нет дыма. Не война? Врагов не видно!
И поехали мы шагом Прямо к городским воротам, Тому звону удивляясь. «Если ловят, то не нас ли?» — Я сказал, не удержавшись. «Не чума ли?» – вздрогнул Рохас, Поспешив перекреститься. Только славный Дон Саладо Не имел на то сомнений: «Не простой тот звон – драконий! Не иначе, монстр ужасный Подступил к вратам Касальи. Чую, ждет нас нынче битва!» Усмехнулся наш ученый, Про драконий звон услышав. Я ж имел иное мненье: Пусть уж лучше два дракона, Даже вместе с василиском, Чем Святая Эрмандада!ХОРНАДА X. О том, как мы встретились с Драконом
Хорошо, когда ловят кого-нибудь другого, а не тебя! То есть, конечно, нет, никому подобного не желаю (еще не хватало!), просто дышится легче, ежели не ждешь, что Дурак-глашатай вот-вот заорет: «По указу королевскому… за злодейства разные… именуемого также Бланко, лет же ему… приметы же…» А приметы у меня – и не придумаешь лучше, одна башка белая чего стоит, особенно в Андалузии. Орет глашатай, а соседи уже морды любопытные в мою сторону поворачивают, реалы с мараведи в уме пересчитывают…
Фу-ты!
А вроде искать меня пока не должны, во всяком случае по указу. Правда, коррехидор в Сарагосе распорядился еще год назад, и алькальд в Малаге, той, что мой идальго приступом брал… Но туда я и не суюсь – ни в Сарагосу, ни в Малагу, ни в Бургос.
А здесь что?
«Здесь» – это, само собой, в Касалья-де-ла-Сьерре. Пока мы с одрами нашими через толпу, что улицу главную запрудила, протискивались, успел я осмотреться. Бывал я тут этак с год назад, и ничего в Касалье не изменилось. Да и чему меняться? Крыши черепичные, стены желтого кирпича, морды опять же – кирпичные.
Дыра!
Одно хорошо – людно тут сегодня, отовсюду собрались-набежали. Со всего города, да и с округи, пожалуй. Стиснули – не повернуться, отовсюду луком несет да маслом прогорклым.
Не хотел бы я здешней ольи отведать!
И все это толпище вперед ломится – на главную площадь. Бывал я и там. Площадь как площадь, мощеная, вокруг дома под желтой черепицей, один, алькальда здешнего, даже двухэтажный. Ну и церковь, понятно – та, что с минаретом. Только в обычные дни пусто тут и голо. А вот сегодня…
– Или праздник какой нынче, Начо? – вопросил Дон Саладо, не иначе мысли мои подслушав.
В этой пыльной толпе козопасов да свинопасов мой идальго на своем коньке выглядел чуть ли не самим Сидом Компеадором. По меньшей мере – Ланчелоте. На нас уже поглядывали – уважительно так, серьезно.
– Едва ли, – дернул я плечами. – Троица уже прошла, святой Андрей и святой Хуан – тоже…
– Может, праздник тут местный? – встрял толстячок, от чьей-то широкополой шляпы нос свой отводя (ой, несло от той шляпы, на десять шагов слышно!). – Известно, что в провинции почитаются обычаи всякие, порою весьма древние…
Я даже слушать не стал. Праздником тут и не пахло (луком пахло!). Ясно – случилось что-то. Но не пожар, не война. Или война все-таки? Повелела Ее Высочество [37]Изабелла созвать воинство да идти прямиком на Гранаду…
А по хребту – словно иголочки покалывают. Нет, не война, чую. Вот заорет сейчас глашатай про злодея державного с башкой белой да с дагой миланской у пояса…
Ага, уже орет! Прямо с паперти церковной.
– …и к тем словам должно отнестись вам с вниманием и почтением!…
Ага! Так и есть. Морда пропитая, штаны черные, узкие, накидка тоже черная.
Глашатай! Да не простой – из Севильи, не иначе, накидка-то серебром шита! А рядом с ним…
Да как тут увидеть того, кто рядом? Площадь маленькая, ступить негде, людей ежели не море, то с озеро немалое – точно. Толкнули нас, затем снова, Куло мой зуб ищи желтые скалит, сейчас укусит кого-нибудь…
– Пропустите сеньора! Пропустите! Эх, деревенщина, а ну, в сторонку!
Так и знал, так и чувствовал! Эрмандада! Этих сразу узнаешь – морды красные, бороды черные, латы огнем горят. И прямо к нам!
– Сеньор! Сеньор идальго! Благоволите поближе! Мы вам место расчистили.
Ого, кому это такой почет? Неужто рыцарю моему калечному?
Оказалось – ему. И не только ему – нам. И дорогу указали, и место освободили к паперти поближе. Поклонились даже.
…Ох, ни к чему мне такой почет!
А Дон Саладо приосанился весь, мочалку свою огладил.
Хорош!
Ну ладно, что там на паперти? Точнее – кто там?
А на паперти, у самых врат церковных – черное с белым.
– …почтенные и благочестивые братья фра Мартино и фра Луне [38]… Да тише вы, добрые граждане Касальи! Тихо, болваны, кому говорят!
Стихло!
Стихло, замерло, я в седле чуть привстал, за чью-то шляпу заглянул…
Да, черное с белым – ризы. И знакомые такие!
– Домине канес…
Тихо сеньор Рохас это сказал, прошептал почти, да только я услышал. Услышал, повернулся…
Не узнать толстячка! Похудел словно, губы ниточкой сжались, побелели…
– Домине канес…
Повторил, глазами блеснул. А мне не по себе стало. Зря это он так шутит! А ежели думает ученый, что латынь тут не знают, то зря думает. Я вот не знаю, а то, как он братьев-доминиканцев обругал, сразу понял. Домине канес – божьи собаки, значит. Псы!
Не любишь монахов – и не люби. Только чтобы тихо. Вслух-то зачем?
– Дети мои-и-и-и!
Словно бомбарда ахнула. Колыхнулась толпа, Куло мой ушами дернул, я еле в седле усидел. Только это не бомбарда и не кулеврина даже, это один из черно-белых голос подал. Большой, громоздкий, лицо как жернов мельничный, брови черные глаза закрывают. А голосина! Бас колокольный!
– Дети мои! Граждане города Касальи! О великой беде пришли мы с фра Луне рассказать вам!…
Тишина – мертвая. Была бы муха – услыхали муху. Да только нет мухи, от жары, наверно, сдохла.
– …В опасности наша Кастилия! В великой опасности! И не только она, но и весь мир христианский, Господом нашим сотворенный и спасенный!…
Что такое? Переглянулись мы с толстячком.
– Не иначе турки, – озабоченно заметил сеньор Рохас. – Слыхал я, эмир Гранады завел переговоры с Баязедом…
– Неужто в крестовый поход? – донеслось из-под шлема. – Славно, сеньоры, славно!
Я только вздохнул. Ну, Дон Саладо! А громоздкий нас словно услышал. Услышал, ручищу поднял, да так, что рукав черный сполз. Ух, ручища!
– Но не от мавров беда эта, не от турок даже, не от французов и не от португальцев! Враг – в нашем доме, в нашей родной Кастилии. Тут, среди нас, готовит он измену черную. Имя же ему – Легион, ибо многочисленны сии бесы, наш дом запрудившие!…
– Бесы-то в свиньях… – тихо-тихо проговорил сеньор Рохас, а мне вновь не по себе стало. Молчал бы лучше!
– Я понял, кажется, сеньоры… Ах, сволочи!
Не молчит! Рот ему, что ли, заткнуть, толстячку? Уже и соседи коситься начали!
– Кто же враги эти, дети мои? Кто?!
Эге, да это уже другой – длинный, худой как жердь. Но тоже – черно-белый.
– Кто? Спросите меня, добрые граждане Касальи! Спросите меня, скромного брата Луне!
– Кто?! – единым вздохом отозвалась толпа. – Кто-о-о?!
– Знаете вы их! – заверещала жердь. – Хорошо знаете, дети мои! Кто распял Христа, Господа нашего? Кто погубил Его апостолов? Кто забил камнями святого Яго, нашей Кастилии покровителя?
– Но не только в давние годы злодействовали они! – вновь вступил бас. – Но и наши дни мерзостью их переполняются. Правда, фра Луне?
– Правда, фра Мартин! – радостно подхватила жердь. – Кто дерет с вас безбожные проценты, деньги в рост отдавая? Кто упивается кровью добрых христиан? Кто презирает веру Христову и над таинствами глумится? Кто маврам проклятым первый помощник? Кто-о-о-о?
– Иудеи! Иудеи! – глухо пронеслось над толпой.
– Кто-о-о?!
– Жиды-ы-ы-ы-ы-ы!!!
Я покосился на своих спутников. Дон Саладо недоуменно моргал, ладонь к уху приложив, – не понял, видать. А толстячок замер, губы свои тонкие закусил…
Этот-то понял!
– Поглядите на них, на христопродавцев! – вновь загремел бас. – Всегда они отвергали учение наше и христианских обрядов сторонились, от креста святого отворачивались. Да посмотрите только на них! Они – пропойцы и обжоры, жрущие и пьющие за наш счет! Правда, фра Луне?
– Правда, фра Мартин! – взвизгнула жердь. – Разве не жарят они лук и чеснок на растительном масле, оттого и воняют гнусно – и они сами, и дома их. Воняют! Воняют! Воняют!…
Я не удержался – принюхался. Кажется, я попал в синагогу!
– …Они мерзкие, гадкие, уродливые, похотливые, отвратительные, жестокие! Даже у соседей наших, португальцев, нет в языке слова «жестокий». Говорят они «judeu» – «иудей». Naosejajudeu – жестоким не будь, то есть не будь иудеем! Не будь жидом! Правда, дети мои? Правда?
Зашумело, загудело. Но, странное дело, люди словно очнулись. Переглядываться стали, плечами пожимать. Перемудрил фра Луне. Португальцы кастильцам не указ!
– А еще ведомы они хитростью своей змеиной! – пришел на помощь бас. – Многие, страха ради своего иудейского, согласились принять Завет Христов. Можем ли мы верить им?
И вновь – стихла толпа. Иудеев ругать – дело привычное, да и где встретишь в этой глуши иудея? Но речь сейчас, кажется, не о них.
– Не можем! Не можем! – что есть силы завопила жердь. – Иудей – всегда иудей! Даже если примет он для вида Завет Христов, то в душе иудеем остается, и праздников наших не чтит, и свинину не вкушает, и шаббат свой мерзкий соблюдает. Ведь правда, фра Мартин?
– Правда! – грянул бас. – И не только сами в ереси своей иудейской остаются, но и добрых христиан к тому склоняют. Недаром зовут их «марраны», что означает «проклятые»!
– Марраны – от слов «Марран-атха» – «Господь идет»! – не выдержал сеньор лисенсиат.
Его не услышали – к счастью, конечно. А достойные братья между тем переходили к главному.
– Вы скажете, добрые граждане Касальи, что не ваша это забота, – загремел фра Мартин. – Ибо есть власти светские и духовные, коим такими делами ведать надлежит. К тому же мало в ваших краях тех, о которых речь сегодня идет. Значит, нет для вас в том беды. Так ли это, фра Луне?
– Нет! – пустила петуха жердь. – Ошибаются они, фра Мартин! Ибо зло проникло даже в эти края! Так знайте же, добрые граждане Касальи, что совсем недалеко отсюда, в трех днях пути, совершено страшное дело. Страшное, умом непостижимое! Гнусные иудеи, под личинами христианскими рожи свои жидовские скрывающие, выкрали прямо из церкви ребенка, и пытали его, и бичевали, распяли на кресте, и вырезали сердце! А чтобы не думали вы, что все сие – лишь сплетни, то скажу, что случилось это чуть больше трех месяцев назад на Страстной неделе, в селении, именуемом Ла-Гвардия, и звали того ребенка Хуан Мартиньес, отец же его – тамошний чесальщик шерсти, мать же – блаженная женщина, слепая от рождения…
Колыхнулось море – с ревом, с шумом, с грохотом. Колыхнулось, плеснуло выше черепичных крыш.
– Какие сволочи! – выдохнул сеньор лисенсиат. – Господи, какие сволочи!
И вновь не услышали его. А если и услышали – то не поняли. Решили, видать, что ученый человек гнусных марранов ругает.
Повезло нам, что так решили!
– Надо что-то делать, что-то делать, что-то делать! – бормотал толстячок, пальцы свои узлом сцепляя. – Это же толпа, стоит ее подтолкнуть – и все! Надо обратиться к властям, есть же тут власть!
Не стал я отвечать. Вот ведь умный вроде, а непонятливый. Да вот она, власть, – рядом с этими крикунами стоит. Вон и алькальд, староста здешний, и судья, и, понятно, парни из Эрмандады.
Разве сами эти псы господни такое придумали?
А жердь черно-белая между тем словно выросла, ростом выше стала, вверх потянулась, тощую руку с крестом вперед выставила, лысой макушкой сверкнула.
…Взвизгнула! Да так, что вороны над крышей церковной засуетились.
– А нет ли в славном городе вашем оных марранов, кои Христа и Деву Святую что ни день предают, а? А не поискать ли?
И в ответ – дружное, слитным хором десятков голосов:
– Бе-е-е-ей!!!
Оглянулись, брови хмуря, Друг на друга косо глядя: «А не жид ли ты, Хименес, То-то нос твой больно длинен? А не ты ли, Санчо Лопес, В долг мне дал в запрошлом годе По привычке иудейской? Вот цирюльник наш, Рисалес, Тот уж точно сын Сиона — По субботам в чистом ходит! Не позволим! Не позволим! Разбирай дубье скорее! Надо вычистить Касалью От иуд-христопродавцев!» Колыхнулось, зашумело — Будто кто бревно в болото Ненароком уронил!Рыцаря моего я поймать все же успел – не унесла толпа. Подхватил я его конька за узду, сам с осла соскочил…
Хорошо еще, стена церковная близко оказалась. К ней и прижались.
– Однако, Начо, я отнюдь ничего не понимаю! – бормотал сбитый с толку Дон Саладо. – Неужто столь страшные злодеи обитают в этом мирном городке?
Я даже огрызаться не стал. Не до того было. Кого-то уже топтали – прямо у паперти, но большинство валило по улице – искать. С криком, с гиканьем, со свистом. Видел я, как конокрадов ловят, да разве с этим сравнишь!
Оглянулся я, думал толстячка увидеть, да где там! Сгинул лисенсиат.
– Кажется, у городских ворот есть харчевня, – вздохнул я. – Надеюсь, тамошний хозяин – не марран…
– И все-таки не понимаю, Начо, – Дон Саладо мотнул головой, словно шлем вдруг стал ему тесноват. – Ежели злодейство имеет место, то надлежит обратиться в королевский суд…
Под навесом, куда мы забрались, было пусто. В эту сиесту здешнему трактирщику не придется заработать. Ничего, вечерком наверстает, когда герои с победой вернутся и захотят жажду утолить!
Почему-то я думал, что вокруг будут кричать, вопить, проклятиями сыпать. Нет, тихо кругом, пустынно даже. Только где-то вдалеке вроде как шумок легкий.
– Если же в городе этом и вправду злодеи обретаются… – не унимался мой идальго.
– О чем вы, рыцарь! – вздохнул я. – Где-то за сотню миль кого-то зарезали, поэтому надо убить цирюльника Рисалеса да всех прочих, у кого носы с горбинкой? Какой суд? Вы не в сказке, идальго, тут великанов с василисками нет. Это Кастилия, ясно?
Зря я голос повышал! Бедный рыцарь даже отшатнулся, в глазах темных – испуг.
– Но я не понимаю, Начо! Ты хочешь сказать, что в нашей славной Кастилии, оплоте истинного благородства…
Тут уж и я не выдержал.
– Вы что, не слыхали, Дон Саладо, что в нашей славной Кастилии людей живьем палят? И не видели? Место такое рядом с Севильей есть – Кемадеро. Не бывали, нет? Красиво там, ухожено все, по бокам фигуры разные, вроде как пророки библейские. А как люди горят, знаете? Сначала одежа огнем идет, потом кожа лопается…
– Начо!
Его рука легла мне на плечо.
– Не надо. Я понял.
Веско так сказал, тяжело. Отвернулся я, чтобы лица моего он не видел, плечами дернул.
– Говорил ты, Начо, про учителя своего, коего падре Рикардо звали. Угадал ли я?
Да чего уж тут угадывать! Ведь не слепой он, Дон Саладо, а всего лишь сумасшедший…
– Он был марраном, сеньор. Даже не он – то ли прадед, то ли прапрадед. Его, падре Рикардо, обвинили, будто у него в задней комнате семисвечник стоит и еще что-то… Будто я в той задней комнате никогда не бывал! Не любили его попы за то, что с голытьбой, такой, как я, якшается, деньги все им раздает, кормит, лечит… Тогда, семь лет назад, в Севилье первый Акт Веры готовили. Никто и не верил вначале, что живых людей эти сицилийцы сжигать станут. Виданное ли это дело – живых! Поверили…
И снова – его рука на моем плече. И вроде как легче мне стало.
– Есть Бог, Начо! Есть Бог на небе!
– Так и падре Рикардо говорил, – согласился я. – На небе. Да только мы с вами – на земле пока что…
Только под вечер, когда уже в харчевню народ потянулся, нашел нас сеньор лисенсиат. Даже не он – мы его нашли. Идет, бледный весь, мантия его черная – клочьями, под глазом – пятно темное. Идет, мула в поводу тащит.
Окликнули. Поглядел на нас, ничего не сказал. Рядом сел.
Спрашивать не стали. Я лишь подумал, что у лисенсиатов этих одежа – один к одному, как у священников. Потому, видать, и жив остался толстячок. Поколотили только.
А вокруг уже кружки вверх поднимают. Поднимают – хвалятся: кому кости пересчитали, кого на балке потолочной подвесили, с чьей дочкой от души позабавились, под чью крышу петуха красного пустили. И мордатые эти, из Святой Эрмандады, тут же, и альгвазил здешний, порядка да закона страж.
Все постарались, все потрудились.
На славу!
– Еще месяц назад я думал, что хуже не будет, – наконец негромко проговорил сеньор Рохас. – А теперь вижу, что ад только начинается…
Хотел я возразить, да понял – нечего.
В красном мареве заката Покидали мы Касалью, В ночь, не глядя, уезжали Прочь от проклятого места. Хмурил брови Дон Саладо, Я молчал, кусая губы, А ученый сеньор Рохас Вдруг сказал, негромко этак: «Зря не верил я вам, рыцарь! Повстречали мы Дракона. Жалко, голову не срубишь, Слишком много их у гада!» Помолчал в ответ идальго, А затем ответил тихо: «Раз голов драконьих много, Бить пристало прямо в сердце!»Часть вторая. СИЛА БУКВ
ЛОА
Подставляй скорей палитру!
Нам нужны иные краски,
Все вокруг переменилось.
Вместо желтого – зеленый:
Мандариновые рощи
Андалузии Приморской.
Золотой для апельсинов.
И лимонный – для лимонов.
В небо кинем больше синьки,
Не жалей! Ведь мы на юге,
Мы почти в гостях у мавров,
Что гнездо в Гранаде свили.
Только все цвета – по краю,
В середине будет черный,
Грязно-черный, цвета крови,
Что покрыла коркой рану,
Запеклась на ярком солнце.
А идти нам под чакону,
Под напев ее печальный,
Что на поминках играют,
Что у склепов ночью слышен,
В час для призраков привычный.
Зелень, спелые лимоны,
Синька, золота немного,
Чернота кровавой коркой
И чакона!
ХОРНАДА XI. О том, как Дон Саладо рассказывал о своих подвигах
– Не встречали ли вы, рыцарь, во время своих странствий некоего Федерико Гарсиласио де Кордова? – поинтересовался я с самым невинным видом, на тучки, что по небу плыли, поглядывая.
– Как ты сказал, Начо? – встрепенулся Дон Сала-до. – Де Кордова, слов нет, род известный, более того, слыхал я, кто-то из этой семьи был возведен в достоинство маркиза, однако же ни с кем из де Кордова я не встречался, да и в свойстве с ними не состою.
Я кивнул, ничуть этим не удивленный, хотя следовало бы. Ведь именно к маркизу де Кордова направила барынька в маске моего калечного идальго.
Узнавать об этом было самое время – до поместья маркиза всего день пути оставался. Почти приехали.
Итак, не знает, и даже не родич. Почему-то я сразу об этом подумал, когда меня барынька попросила…
Кстати!
– А не приходится ли вам родственницей сеньора Лаура Брантес-и-Энрикес?
Дон Саладо подумал, помотал головой своей ушастой:
– Нет, даже не слыхал об этой достойной сеньоре и не встречал ее никогда.
…Встречал, да только оная сеньора Лаура любит маску носить. И представляться не спешит. Мне вот не представилась. Только мир, как известно, тесен…
И что прикажете делать? С одной стороны, моя забота маленькая: довести Дона Саладо до места, сдать с рук на руки, эскудо свои, честно заработанные, получить.
Это с одной стороны…
Я покосился налево, где восседал на муле достойный сеньор лисенсиат. Совета спросить? Так он вроде не видит ничего, не слышит. Думает – разговаривать не желает.
Еле уговорили его на постоялом дворе мантию отдать, чтобы зашили, да лед к синякам приложить.
И вновь, в который раз, ощутил я некую странность. Ну точно на похороны спешит, а не к невесте! Понятно, что не по душе ему все, нами в Касалье виденное. Да и какому кастильцу этакое понравиться может? Но только слишком мрачен наш толстячок, словно гложет его что-то…
А между тем самое время на что-то решиться. Горы далеко за спиной остались, вокруг – сады да поля, селеньица друг к другу жмутся, по дорогам народу – как на ярмарке. Андалузия! Скоро Гвадалквивир, а там и морем повеет.
…И снова схитрил я чуток – на одном перекрестке влево мы свернули вместо того, чтобы прямо ехать – к Севилье. Влево, потому что поместье Кордова-маркиза как раз в полутора днях пути. Так наш толстячок даже не заметил, а еще географию изучал!
Вредно много думать. И ничего не замечать – тоже вредно. Плохо, если не видишь, не слышишь…
– Вы что-то говорили о маркизе де Кордова, Начо? Я вновь покосился налево. Слышит. Ну, надо же!
– Я немного знаю этого достойного человека… Вот даже как? Достойного!
– …Он и супруга его – известные меценаты, ко всем людям ученым весьма щедрые. Маркиз каждый год присылает немалые деньги в Саламанку, в наш университет. Слыхал я также, что и у себя в поместье создал он школу…
Теперь уж я поглядел направо, на рыцаря нашего. Или барынька эта думает его в школу отдать?
– Впрочем, слывет маркиз изрядным чудаком. Поговаривают, что избегает он дневного света, все же приемы проводит только ночью.
Я только плечами пожал. Еще один чудак! Будто мало мы их встречали. Впрочем, чудак – это не беда.
– Однако же рассказывают о нем и не столь лестное. Передавали мне, будто бы маркиз де Кордова первым в совете королевском настаивать стал, чтобы Супрема начала поиск марранов, якобы от веры католической отпавших. Именно он на Севилью указал, сообщив Ее Высочеству, что в городе этом проживают чуть ли не сто тысяч отступников. А сейчас, по слухам, требует он, чтобы каждый подданный королевский получил хартию, в которой указано будет, давно ли принял он веру христианскую. Впрочем, это лишь слухи, а верны ли они – не знаю даже.
Помолчал сеньор лисенсиат, кончик носа зачем-то потер.
– А об ее сиятельстве маркизе говорят, как о прекраснейшей из женщин, хоть видели ее немногие, ибо редко покидает она поместье. Не знаю, так ли это, ведь слыхал я, что маркиза блистала еще при дворе покойного короля Хуана, то есть лет сорок тому. Значит, сейчас ей, как и супругу…
Я быстро подсчитал – да не сходится. Впрочем, и это не диво, за десяток реалов любую старуху наши стихоплеты первой красавицей назовут.
Я ждал продолжения, но толстячок явно исчерпался. Зато Дон Саладо…
– Вспомнил я, сеньоры, разговор наш, что случился в тот день, когда повстречали мы сеньора Новерадо. Обещали вы, что, буде доберемся мы до славного города Севильи, покажете вы мне книги, именуемые атласами, дабы мог я поискать там землю, мне привидевшуюся.
Вот ведь, не забыл! Одна беда, не в Севилью я его везу.
…Или плюнуть на маркиза вкупе с двумя эскудо? Отвезти дядьку в Севилью, а еще лучше в Палое или Кадис? Там моряков – пруд пруди, никакие атласы не понадобятся.
– А также рассказывали вы, сеньор Рохас, про двух братьев из Венеции, кои двести лет назад…
– Что? – вздрогнул сеньор лисенсиат. – А-а, действительно. Извольте, охотно завершу я рассказ, ибо должно мне отвлечься от забот…
Давно пора!
– Итак, причалили оные галеры к некой земле. Произведя необходимые измерения, определили братья, что находятся они много западнее и несколько южнее относительно Геркулесовых Столпов. Неудивительно, что климат земли той от нашего весьма отличается. Он много теплее и влажность немалую имеет, однако же не чрезмерную…
А я уже и слушать бросил – не до того. Севилья скоро, а в Севилье ой как много крутиться придется! И по делам Калабрийца, и по своим собственным. А ведь еще доехать следует, да так доехать, чтобы никакая рожа любопытная нос свой в мой вьюк не сунула. Пока обходилось вроде.
…Повезло мне с идальго моим да с толстячком! Другой кто спросил бы, не удержался: а по какой надобности ты, друг Начо, пикаро с Берега, так далеко от моря оказался? Отчего не на фелюге в Севилью добираешься, удобней ведь да и привычней. И вообще, откуда едешь?
Соврать-то можно, но не люблю врать без крайней потребности. Оно и опасно – умный человек всегда ложь почует. Есть, правда, способ: когда врешь, чуток глаза скашиваешь – налево и вверх. Да только не всегда помогает.
А кстати, что там с землей этой неведомой?
– …На обратном же пути настигла братьев Вивальди новая буря, – вещал толстячок, ручкой своей пухлой для убедительности помахивая. – И на сей раз разметала она галеры. Та, на которой Пьетро Вивальди пребывание имел, без вести сгинула, брат же его Луиджи после странствий долгих у берегов королевства Английского оказался, после чего в плен попал и только через десять лет в Венецию вернуться сумел. Там уже сеньора Вивальди погибшим почитали, отчего передали имущество его наследникам. Пришлось оному Вивальди с родичами судиться, о чем он тоже с огорчением великим пишет…
Вздохнул толстячок, усиками дернул, не иначе жадных родичей сеньора Вивальди осуждая.
– Отчего же не плавали больше к этой чудной земле? – весьма удивился Дон Саладо, немного подумав. – Разве не долг наш попасть туда, дабы жителей тамошних в веру Христову обратить и с добрыми обычаями познакомить?
– С такими, как мы в Касалье видели? – не утерпел я, на что мой идальго лишь головой помотал. – А насчет Венеции дело ясное, сеньор, – продолжал я. – Жадные они, венецианцы, за цехин удавятся. А что за выгода в столь дальние края плыть? Никакого барыша, я вам скажу.
– А другие о той земле просто не узнали, – подхватил сеньор лисенсиат. – Подозреваю, что скрыли власти Святого Марка рассказ Луиджи Вивальди. Дивлюсь лишь, как рукопись сия в замок Анкору попала? Однако же ныне, в Кастилии нашей, разговор идет, что есть нечто на западе, за морем-океаном. Тому и доказательства имеются. Мартин Висенте, кормчий на службе короля португальского, подобрал к западу от мыса Сан-Висенти кусок дерева, весьма искусно обработанный. Подобный же обломок дерева найден был на острове Порту-Санту. К берегам же островов Азорских прибивало во время бури целые сосны и тела неких людей, ни с кем из известных нам народов не сходных. Даже имя той земле дали. Кто называет ее Антилия, кто – остров Святого Брендана, а кто – земля Семи Городов.
Лучше бы не рассказывал! У дядьки моего глаза аж засветились, словно лучину в его башку вставили. Вцепился он здоровой рукой в бороду-мочалку, качнул шлемом:
– Тысяча лиг! Много, конечно, но что такое тысяча лиг перед лицом доблести рыцарской?
Хотел я спросить, бывал ли он хоть раз в море, когда штормить начинает, но не стал. Ведь шторм перед лицом доблести рыцарской – тоже сущая ерунда!
О доблести рыцарской в этот день еще раз вспомнить пришлось, да только совсем по другому поводу. Даже сразу по нескольким.
Здесь, в Андалузии Приморской, я за рыцарем моим особенно внимательно поглядывал. Это там, на Алькудийских полях, овец больше, чем людей. Здесь же – наоборот совсем, в харчевнях – не протолкнуться, на постоялых дворах народ прямо на улице ночует. Так что жди беды отовсюду. Как заведется Дон Саладо со своими великанами и людоедами, как назовет трактирщицу принцессой!
Пока обходилось. И вовсе не потому, что идальго мой помалкивал. Совсем даже напротив! В первой же харчевне толстопузого хозяина «сеньором герцогом» титуловал, заодно осведомившись, не требуется ли ему помощь против злобных великанов, что во дворе его замка обосновались. Повезло – хозяин смешливый попался, решил, видать, что гость шутки шутить горазд.
…А той девчонке, которую мой рыцарь «инфантой» назвал, даже понравилось. Покраснела, хихикнула…
Понял я, что зря опасался. Много народу – даже хорошо. Привыкли тут к чудикам, да и сами андалузцы слова в простоте не молвят. Так что Дон Саладо вполне ко двору пришелся. Ну, едет себе сеньор в помятом шлеме, ну, кажет вежество свое рыцарское. Драться не лезет – и ладно.
И в харчевне, куда мы ближе к вечеру завернули, тоже обошлось. Хозяин (диво дивное, первый раз я худого трактирщика увидел) только кивнул, когда наш рыцарь его «благородным сеньором» назвал. Не до удивления ему было – народу полным-полно, еле-еле мы места свободные нашли. А вокруг – шум, кружек стук, разговоры всякие. Ковырнул я ложкой здешнюю олью, винца хлебнул – да и уши навострил, благо Дон Саладо с толстячком вновь о земле той неведомой лясы точить принялись.
А я себе слушаю. Не их, понятно, с ними-то я наговориться еще успею…
Послушал, снова из кружки хлебнул.
Да, дела!
Черно-белые, жердь и громоздкий, и тут побывали. Правда, народец здесь поумнее, чем в Касалья-де-лаСьерре. Поумнее – да потише. Бить никого не били, но из соседних селений несколько семей марранских уже уехали – от греха подальше.
Выходит, во всей славной Андалузии такое творится? А может, и по всей Кастилии?
Про младенца, украденного и распятого, тоже толковали. Оказывается, все началось в такой же харчевне, только в Ла-Гвардия. Не понравился завсегдатаям тамошним некий пожилой сеньор. Точнее, не он, а его нос. И решили они узнать, а что у этого носатого в дорожной сумке такое? Глядь – а там гостия святая!
Ну и кликнули парней из Эрмандады. А те, понятно, рады стараться. Прижали носатого к стенке, сапогом куда надо наступили…
Ох, не понравился мне этот рассказ! И про сапог, и про сумку. А ежели в мою заглянут? Святой гостии там, понятно, нет, но ведь у меня не только сумка с собою…
– Начо! Начо!
Фу-ты, что значит задуматься! Эге, а чего это с нашим толстячком? Шепчет, глаза скашивает куда-то влево… И я глаза скосил. Скосил – и плохо мне стало. Эрмандада! Накликал! Вот уж, не поминай беса к ночи…
Виду мы не подали, за олью взялись, за винцо. Сидим, никого не трогаем, ни в чем не виноваты. То есть это мы с сеньором лисенсиатом вид делаем, а славный идальго гостей незваных даже не заметил. Ну и хорошо!
Вдруг обойдется?
Не обошлось, понятно…
– Так что, добрый вечер, сеньоры! Кто такие будете, откуда да куда едете? А бумаги какие имеются?
Бородатые, в латах, на красных рожах – усмешки. Сразу поняли – нездешние мы, таких и проверять следует.
…И что обидно – мзды не берут! На лапу, в смысле. Не берут, потому как не просто Эрмандада, а Святая. То ли дело обычные альгвазилы. Сунул пяток мараведи – и гуляй.
Хотел я ответить и уже глаза скосить приготовился – чтобы налево и чуток вверх.
Не успел.
– И вам добрый день, славные рыцари!
Ну конечно, Дон Саладо! Уже стоит, мочалку свою выпятил.
…А про «рыцарей» им, кажется, понравилось.
– Приветствует же вас скромный идальго Алонсо Торибио-и-Ампуэро-и-Кихада…
Переглянулись бородачи, один даже шлем снял. Не иначе – подействовало!
– Рады приветствовать вашу милость! А это спутники ваши?
Его, само собой. Дон Саладо сие подтвердил, даже «доблестными сеньорами» назвал.
– Мы чего спрашиваем, – продолжал бородач, тот, что шлем снял. – Потому как время тревожное. Заброды всякие ходят, добрых людей бить зовут, разбойники опять же. А в Авиле, слыхали, мятеж учинился. А вы-то часом не из Авилы едете?
…Самое время глаза скашивать!
– Мятеж? Какой мятеж, сеньоры?
Это уже толстячок. Молчал бы лучше, а то спросят про мешок с деньгами, что на брюхе его спрятан!
– Или вы не слышали? – удивился бородач. – Мятеж в Авиле нынче. Добрые горожане против герцога Бехарского как один поднялись. То есть не добрые, конечно… Гм-м…
– Войска, что герцог послал, как есть разбили! – подхватил второй, чуть постарше. – Потому как оружия у мятежников – страх как много. И бомбард, и кулеврин с аркебузами, и пороху само собой. А ведь порох, сеньоры, в Кастилии нашей продавать запрещено. Так не оттуда вы?
…Ну, пороху в моей сумке, конечно, нет – как и святой гостии.
– Ручаюсь я за спутников своих! – гордо ответствовал Дон Саладо. – Игнасио Гевара, славного моего эскудеро, повстречал я в неком замке великанском, где напали на меня жестокие людоеды…
Ой!
– Но оный Игнасио Гевара опасность презрел и помощь мне оказал, людоедов страшных не убоявшись…
Ну, все…
И поехал мой идальго, Ничего не пропуская, Про ужасных людоедов, И про злобных великанов, И про замки, где инфанты Заточенные томятся, И про славного Артуро, Про сеньора Ланчелоте, Про ужасного Дракона И, конечно, про Анкору, Про сеньора Новерадо, Что гостей у перекрестка Встретил, следуя обету. Стало ясно – мы пропали! Поглядел я на окошко — Может, выпрыгнуть успею?Договорил рыцарь мой. Умолк.
Тихо-тихо вокруг стало, я даже голову поднять не решился. Кажется, рядом с нами вся харчевня собралась.
– С-с-сеньор! – наконец выдавил из себя бородач. – С-с-сеньор, вы…
– Не внесу ли я некоторую ясность? – прехладнокровно заметил лисенсиат, вставая. – Зовут меня Алессандро Мария Рохас, изучал же я разные науки, в особливости же медицину…
Переглянулись бородачи, плечами кольчужными пожали.
– А-а-а! – спохватился один. – Так вы лекарь, сеньор Рохас?
– А-а-а-а! – подхватили другие, но уже с пониманием.
– Юноша же сей, – невозмутимо продолжал толстячок, – нанят мне да сеньору Кихада в помощь. А почему сопровождаем мы этого доблестного сеньора, могу обстоятельно пояснить.
– Да что вы! – тут же откликнулся тот, что про Авилу спрашивал. – Никакой надобности в том не имеется, сеньор Рохас. Нам бы сразу догадаться, как только мы про Анкору да про старого сеньора Хорхе услышали!
– Помилуйте, да в чем дело? – поразился ничего не понимающий Дон Саладо. – Или вы сомневаетесь в благородстве славного сеньора Новерадо?
– Что вы! Что вы! – замахали руками бородачи, друг друга перебивая. – Ну, никак не сомневаемся, сеньор! Потому как дон Хорхе – рыцарь великий, с маврами еще двести лет тому назад бился, и сейчас бьется, и завтра тоже будет. И Сид, который Руй Диас, – тоже сеньор благородный, и тоже мавров проклятых бил, и сейчас их бьет, видели его недавно в войске королевском. Вы, главное, сеньор, не волнуйтесь, потому как волноваться вам вредно…
– Странное дело! – воскликнул Дон Саладо после того, как бородачи, переглядываясь да перемигиваясь, прочь убрались. – Показалось мне, что сии благородные сеньоры сами изрядно были взволнованы. И кто пояснит мне, отчего?
Вытер пот со лба наш Рохас, Подмигнул: изрядно вышло! А потом ко мне склонился И сказал: «Вам ехать завтра, А сегодня, как стемнеет, Пошептаться надо, Начо, Только чтоб никто не слышал!» Не понравилось мне это — И у стен бывают уши! А бездомному пикаро, Что по краешку гуляет, Ни к чему чужие тайны, Мне своих пока хватает. Или он мне про невесту, Что в Севилье ожидает, Вдруг собрался рассказать?ХОРНАДА XII. О том, как довелось мне расстаться с моими славными спутниками
– Сир-е-е-ена-а-а-а-а-а-ас! [39]
Ну конечно, и тут они, «сиренасы» эти! Селеньице в сотню домов, а поди ж ты – прямо как в Севилье, где-нибудь на улице Головы Короля Педро. Бродят по ночам, людей пугают. Или я не знаю, какая нынче погода?
– Сире-е-ена-а-а-с!
Хвала Деве Святой, уже подальше. Пошел к дому алькальдову людей пугать-будить. Слыхал я, где-то в море такие же «сиренасы» имеются, тоже людей криком да ревом своим с пути сбивают. Сам не видел, да шкипер один в Палосе рассказывал.
Оглянулся я, поежился. А прохладно нынче ночью! Или это мне кажется?
Во дворе харчевни – королевство сонное. Спит народ – кто на телегах, кто просто на плащах да попонах. Спят? А хорошо бы, потому как всегда кто-то в самый ненужный момент просыпается да ухо из-под попоны выставляет…
– Я здесь, Начо!
Толстячок! В мантию свою черную закутался, шляпу на глаза надвинул – словно серенаду петь под чьим-то балконом собрался.
– Пойдемте, сеньор, – вздохнул я. – Присядем в уголке, авось не услышат нас.
С самого начала мне этот разговор страх как не понравился. Чутье у меня на всякую гадость!
…И на опасность – тоже чутье. Печенкой слышу, селезенкой даже.
Присел я на какое-то бревнышко, сеньор лисенсиат рядом бухнулся, плечами дернул. Не иначе ему тоже не жарко.
Молчит!
И я молчу. Молчу, на небо поглядываю, на звездочки. Ушли тучки, ясная нынче ночь. Сиренас, стало быть.
– Как я понял, Начо, стражники уверены, что никакого замка Анкоры не существует. После гибели Хорхе Новерадо Анкора была разрушена до основания, и никто там больше не жил…
– Ага, – согласился я. – Это и я сообразил.
– Вы помните, мне показалось…
– И мне показалось, – вновь кивнул я. – В самом начале, как только мы сеньора Новерадо встретили. Тени он не отбрасывал. Ни он, ни конь его. И в замке тени не было, даже днем.
…Это я и заметил, да все сообразить не мог. Только недавно дошло.
– Не знаю, что и думать, Начо, – вздохнул толстячок. Потрогал я булавку – ту самую, с камешками синими, снова на звездочки поглядел.
– Да и я не знаю, сеньор. Но только не об этом, видать, вы разговаривать пришли.
– Не об этом, Начо…
И – замолчал. Тяжело так замолчал.
– Сеньор Гевара…
Дернуло меня даже. Плохи дела, если толстячок меня по фамилии называть начал!
– Я – добрый католик, сеньор Гевара. Католик и подданный Ее Высочества. Мой отец и дед воевали с маврами, честно воевали. Я сам, как могу, служу Кастилии. Но сейчас в нашей… в этой стране происходит нечто ужасное.
Повернулся ко мне, словно ответа ждал. Ну уж нет, на такое отвечать не стану!
…Вот ведь чудно как – сейчас сеньор лисенсиат обычными словами заговорил, понятными, словно и не ученый.
Припекло, видать, – угольками.
– Вы знаете об этом не хуже меня, сеньор Гевара. Нас словно стали рвать на части… Нет, даже не так, кастильцы, наш народ, начал разрывать на части сам себя. Мы очень долго воевали, много веков, поэтому привыкли всюду видеть врагов. Уже много лет в Кастилии преследуют иудеев. Их всюду преследуют, увы. И виной этому не столько власть, сколько фанатизм и зависть темного народа. Да вы сами видели!
Видел, конечно. И не только в Касалье…
– Можно было надеяться, что успехи просвещения и усилия Церкви покончат с этим, как уже покончено с подобным в Италии. Увы… Случилось нечто страшное. Наши монархи внесли раздор в самое сердце народа. Теперь уже нет кастильцев, есть «старые» и «новые», настоящие – и нет. А ведь «новые» – почти половина народа. Мы начинаем душить друг друга!
Хотел я сказать, чтобы он, толстячок, про королеву нашу зря языком не трепал – без языка остаться можно. Но – промолчал.
Жаль, что я вообще сюда пришел!
– В Кастилии организована Святейшая Инквизиция, как ее еще называют – Супрема. Во главе ее – Томазо Торквемада, племянник кардинала Педро Фернандеса. Говорят, Торквемада не просто фанатик, он – больной человек, а это особенно страшно. Даже фамилия… Turre Cremata – Сожженная Земля. Это то, что он творит с нашей Кастилией… В феврале 1481 года в Севилье был проведен первый Акт Веры.
– Знаю! – не выдержал я.
…Почти всех тогда придушили перед тем, как спалить. А вот падре Рикардо живым зажарили. Не покаялся он, да и не в чем ему каяться было. Долго жгли – на соломе, и еще воды подливали, чтобы не сразу умер…
– Сейчас созданы трибуналы в Севилье, Кордове, Хазне и Толедо. Погибли тысячи, десятки тысяч погибнут завтра. И убивают не мавров, не иудеев – убивают добрых кастильцев, виноватых лишь в том, что их предки имели не ту форму носа. А сейчас готовится что-то вообще чудовищное. Вы же слышали эту дурацкую историю с распятым ребенком! Понимаете, чем все это кончиться может?
– Вот что, сеньор Рохас, – перебил я, вставая. – Считайте, что вы мне ничего не говорили, а я и не слышал. Спал я, ясно?
– Погодите! Погодите, Начо! Вскочил толстячок, оглянулся испуганно.
– Погодите, ради Бога! Я… Я не знаю, что делать. Ее отец арестован, и братья тоже, она сама под домашним арестом…
Повернулся я, чтобы уйти. Подумал. Не ушел.
– Стало быть, сеньор Рохас, невеста ваша… Понурил голову, кивнул. Зашептал – тихо-тихо, еле слышно:
– Ее отец – марран, на него донесли, будто он тайно соблюдает субботу, не ест свинины. Какая-то сволочь не поленилась залезть на крышу севильского собора – в субботу, чтобы поглядеть, над какими крышами нет дыма. Конечно, это все глупость, страшная глупость, но…
– Для того и деньги везете? – понял я.
– Да… Я продал все, что у меня было, занял у друзей. Деньги – единственное оружие против них. И я надеялся… И я надеюсь, что вы мне поможете, Начо.
Я только вздохнул. Вздохнул, опять на небо взглянул.
– Спятили вы, сеньор? Да кто же вам поможет? И как? Да вы хоть понимаете, чем рискуете?
– У меня нет выхода, Начо! Слушайте…
– А что ты думаешь, Начо, по поводу неведомой земли, что лежит за морем-океаном? – вопросил Дон Саладо, близоруко поглядывая по сторонам.
Поглядеть и вправду стоило. После желтой равнины и красных гор – сад. Огромный, на целые мили протянувшийся. Маслины, мандарины, апельсиновые деревья. Дух такой, что башка кружиться начинает, вот-вот в пляс пойдет.
Славно живется по владениях маркиза де Кордова!
– По поводу той земли, рыцарь? – пожал я плечами. – Да чего же тут думать? Далеко она.
– И то правда, Начо. Однако же сожалею я, что расстались мы с ученым спутником нашим и не расспросил я его более обстоятельно.
Сеньор Рохас покинул нас утром. Ему было по той дороге, что направо идет – к Гвадалквивиру и Севилье. Нам же с идальго моим – прямо, через сады эти. К маркизу, который де Кордова. Вот и едем, воздухом дышим, о земле, что за морем-океаном лежит, разговариваем.
То есть это Дон Саладо разговаривает. Я-то молчу больше.
– Но знаешь, Начо, хоть и прекрасна земля, куда сумел доплыть сей сеньор Вивальди, кажется мне, что видел я во сне землю иную, еще более прекрасную. Достичь бы ее! Совершил бы я поистине прекрасный подвиг, тебя же, Начо, как и обещал, сделал бы аделантадо некоего острова…
Вот спасибочки, не забыл. Хоть не слушай дядьку этого! То великаны ему с драконами, то земля на краю света. Мне бы такие заботы!
…Еще и толстячок со своими бедами, будто мне собственных напастей мало. И далеко ходить не надо: вот она, напасть, в шлеме расплющенном на коньке восседает. И что мне с напастью делать прикажете? Маркизу этому, де Кордова, отдавать?
А зачем он, рыцарь мой калечный, его сиятельству? Или дон Федерико Гарсиласио де Кордова, кроме школы, еще и богадельню в поместье завел?
Я уже понял – богатые владения у сеньора де Кордова. Богатющие. Одни сады чего стоят! А ведь земли его не только тут, под Севильей. Наверно, и в других провинциях кое-что имеется.
Но что интересно – никто из местных о маркизе и говорить не хочет. Молчат! Это когда же такое было, чтобы добрые кастильцы о своем сеньоре языки бы не чесали? Куда ни поедешь, на первом же постоялом дворе местному владельцу все косточки перемоют, с мылом даже. Добрый он, злющий, щедрый, скупой – все расскажут.
А тут – молчок. Вроде как не слышат.
Оглохли!
– Так почему бы не купить нам с тобою, Начо, галеру добрую да не набрать храбрых матросов и не отправиться за море-океан?
– Потонете, – перебил я, от мыслишек своих невольно отвлекаясь. – И вместе с матросами храбрыми, и с галерой.
– Но отчего же, Начо? – весьма удивился Дон Саладо. – Ведь плавают же многие достойные шкиперы…
– Где плавают? – вздохнул я. – У берегов плавают, и то если не зимой. Галера или, скажем, галеас в открытом море – это, рыцарь, гроб плавающий. И не только галера. На всем том, на чем мы к Сицилии или в Берберию ходим, в океан лучше не соваться. Для моря-океана другие суда нужны.
– А какие? – подхватил доблестный идальго. – Ведь слышал я, плавают бесстрашные португальцы…
Кажется, мой дядька себя уже на палубе видит! Потер я лоб, затем нос почесал.
…Это вроде как к деньгам. Хотя нет, к деньгам, когда левая рука чешется, а нос – к выпивке. Много винца можно будет купить на те два эскудо, что маркиз мне за рыцаря калечного выплатит! Иуде – и тому немногим больше досталось, тридцать сребреников всего, то есть вроде как тридцать реалов.
Эй, о чем это я?
– Приходилось мне слышать о судах, именуемых каравеллами…
Господь Вседержитель, Святая Дева! Каравеллу ему!
– Есть такие, – кивнул я, пытаясь о тридцати реалах этих забыть. – Удобные, слов нет. Борт у них высокий, волна не захлестнет, управлять легко.
…Плавать не плавал, а на борту бывать приходилось, и не раз. И в Палосе, и в Кадисе.
– Только маленькие они, сеньор. У некоторых даже палубы нет. А маленькие – значит, воды не наберешь, припасу опять же. Португальцы, между прочим, тоже у берегов ходят, далеко в море не суются. И по одной каравеллы не пускают, а сразу по нескольку, чтоб вернее было. И все равно тонут эти каравеллы, считай, каждая третья не возвращается. Есть еще нао, у тех паруса лучше, но тоже, слыхал, не очень они надежные.
Говорю – а сам по сторонам поглядываю. Нет, не лежит душа дальше ехать! Два эскудо, конечно, деньги, а четыре тем паче…
Вот и Иуда так думал!
– Есть другие суда, рыцарь, их только недавно строить начали. Называется судно такое «каракка». Видел я одну в Палосе – загляденье просто. Четыре мачты, паруса – и прямые, и латинские, три палубы, десять бомбард. До трехсот человек на борт возьмет, а то и поболее. На такой далеко уплыть можно, особливо ежели кормчего опытного позвать с компасом да с прочими хитростями…
Даже сам увлекся, пока рассказывал. И вправду, прикупить бы такую каракку да уплыть куда-нибудь к бесовой бабушке – подальше от родной Кастилии!
Укусил я себя за язык глупый, по башке даже пристукнул, мыслишки дурацкие отгоняя. Точно! Заразная хворь у моего идальго. Надо бы осадить его слегка. И его, и себя, дурня.
– Только, рыцарь, напрасно вы нашего сеньора Рохаса так внимательно слушали. Он, конечно, человек ученый, зато я в море по полгода провожу, да и с моряками знаком. Ерунда все это! Чтобы знали вы, у всякого кормчего на картах эта самая земля, за морем-океаном которая, обозначена. Только у каждого – по-разному, и никто туда по доброй воле не поплывет. А думать об этом вредно, между прочим. Встречал я генуэзца одного, который сам эти карты и рисует. Так он вообще спятил – хочет на запад плыть, чтобы в Индию попасть.
– В Индию?! – Дон Саладо от удивления даже конька своего осадил. – Но ведь Индия, как всем ведомо, на востоке находится!
Вовремя мой рыцарь остановился. Вот и постоялый двор, словно по заказу…
– Потому что генуэзцу этому кто-то сказал, что Земля наша – вроде шара, – пояснил я, с Куло своего слезая. – Круглая, значит, как апельсин.
– Кру… – оторопел Дон Саладо. – Ты сказал, кру…
– Круглая, – кивнул я. – Все, сеньор, приехали!
Апельсиновое царство, Мандариновое графство — Красота вокруг и благость, Только что-то гарью тянет, Мертвый тлен шибает в ноздри… На краю живет пикаро, Каждый день – как день последний, Но спешить нет смысла в пекло И других толкать не стоит. Два эскудо – это деньги, А четыре – деньги вдвое. Много стоит Дон Саладо! Был бы я корсар алжирский, Попросил бы даже больше. Только я – не мусульманин, Я рабами не торгую И людей не продаю!– Вот так, Дон Саладо, – подытожил я, кружкой глиняной по столу пристукнув – для убедительности пущей. – Потому, значит, и ехать туда вам никакого смысла нет!
Хороший постоялый двор оказался. И название пристойное – «Меч Сида», и комнатка свободная нашлась – маленькая, но чистая.
Там и поговорили. Все, понятно, идальго моему я рассказывать не стал. Ни к чему ему знать это «все». Но про главное – выложил.
– В чем же сомнение твое, Начо? – помолчав немного, вопросил Дон Саладо. – Или думаешь, что захватил замок славного маркиза де Кордова некий ужасный людоед-великан? Не числишь же ты самого маркиза, верно Кастилии нашей служившего, людоедом?
В самую точку вопросик! Да как ответить?
– Даже не знаю, рыцарь, – вздохнул я. – Да только сами посудите. Барыньку ту, что деньги мне дала, вы не знаете, маркиза тоже не знаете, не родичи они вам…
– Но вдруг сподобились они помочь по доброте своей христианской? – несколько растерянно предположил мой идальго. – Отчего бы и нет? Почла меня та сеньора, которую мы с тобой в замке Молинильо встретили, хворым и решила помощь оказать.
Ничего не ответил я, к окошку подошел, выглянул. На втором этаже наша комнатка, а внизу – зелень чуть ли не до самого горизонта. И дух сладкий.
…В дверь ломиться станут – высоко прыгать!
– Однако же отнюдь не вижу я в замысле том злодейском, на который намекаешь ты, Начо, никакой логики…
Фу-ты! Опять логика! Затошнило меня даже от этого словечка.
– Небогат я, Начо, и не взять за меня доброго выкупа. Доспехи же мои, сам видишь, немного стоят, равно как и конь мой, хоть и честно он мне служит…
Это верно, конечно. Покосился я на моего идальго – неглуп дядька, когда не про своих великанов говорит.
…К тому же я и сам не прочь с маркизом этим познакомиться. Есть на то причина!
– И не на войне мы, чтобы в плен меня стоило обманным образом захватить и о некой тайне проведать. Если же ты мнишь, что ждут нас лютые душегубы, до крови христианской жадные, то стоило ли нас за столь много миль в логово свое заманивать? К тому же дал ты слово, а слово эскудеро, от чистого сердца данное, так же нерушимо, как и слово рыцаря!
Достал я письмецо – то, что барынька мне всучила, в руках покрутил-повертел. Запечатано, конечно, да только печати – дело смешное…
– Пишет она, чтобы маркиз помощь вам оказал, – заметил я, письмецо пряча. – Помощь оказал – и лекаря вам определил. Доброго лекаря! Слово «доброго» она даже подчеркнула – аж два раза.
– Ну и что? – не понял мой идальго, глазами своими близорукими моргая.
– Ничего, – вздохнул я. – Мы с вами вот что сделаем, рыцарь…
Отошел я от окошка, пальцами прищелкнул. Годится!
– Я поеду, а вы тут покуда побудьте. Если пришлю я вам письмецо, то не читайте даже – на подпись поглядите. Подпишусь «Бланко» – значит, в порядке все, можете к маркизу ехать. А уж если «Гевара» – уносите ноги.
– Постой, постой, Начо! – Дон Саладо даже подскочил. – А ты?
Усмехнулся я, на героя моего каленного поглядел.
– Да я-то выберусь. Я – пикаро.
Не пускал меня мой рыцарь, Зашумел, за меч схватился, За дурную железяку, В бой готовый устремиться, Поразить врагов коварных, Что в засаде ждут героя. Только меч его забрал я И коня его стреножил, Комнатушку прочно запер, А хозяину поведал, Что буянить друг мой начал, Потому как выпил много, — Надо дать ему проспаться. За воротами уж слышу: «Начо! Начо!» – из окошка Борода торчит – мочалка. Почему-то страшно стало, Словно вправду к людоедам Или к злобным великанам Повезет меня мой Куло. Вот уж, право, незадача!ХОРНАДА XIII. О том, каково бывает гостеприимство у маркизов
– Так что вали, парень, отсюда! Письмецо давай, а сам проваливай!
– А вот сейчас, – с самым наглым видом ответствовал я, письмецо барынькино пряча. – Сказано: в собственные руки, значит, в эти самые руки и отдам. В собственные.
Ну, никак не хотели меня в дом пускать! Видать, рожа моя привратнику здешнему не понравилась. Даже подмогу кликнул. Здоровые ребята, да и привратник тоже – не заморыш. А рожи-то, рожи! Чистые мавры!
…А богатый дом, даже снаружи видать. И сад вокруг, и забор с башенками. Дом тоже с башенками – мавританский, старый очень. Жил тут какой-нибудь эмир, может, даже Абенгальб.
Тот самый.
Эмира-то уже нет, а вот мавры остались (самые настоящие, хорошо, если крещеные). Не пускают. Да я тоже уперся – иначе как маркизу письмо не отдам. И все!
А не пустят – уйду. И гори оно все вместе с моими эскудо!
А мавры ряхи свои кривят, переглядываются.
– Лично в руки, говоришь? Его сиятельству, говоришь? Ну, заходи, заходи, если смелый!
Нехорошо так сказал, с намеком вроде. Словно тут и вправду людоед живет, а людоеду тому самое время обедать пришло.
Ладно, чего уж тут!
Зашел.
Сначала по лестнице вели – вверх, потом по галерее, затем по комнатам каким-то, потом снова по лестнице, но уже вниз. Головой вертеть не стал – не деревенщина какая-нибудь. Зато искоса поглядывал, да не просто, а со вниманием. Во-первых, пригодится, ежели удирать придется – от людоеда, к примеру. А во-вторых, интересно, как маркизы живут. У графов бывал, даже к герцогу одному заглянул как-то (в Италии, правда), а вот к маркизам еще не захаживал.
Да, богатый дом, нечего сказать. Каждая комната чуть ли не шелком обита, гобелены всюду, мебель дерева темного. Ну, богатый – это понятно, только вот странное дело – все двери, через которые проходить пришлось, – с замками. А не с замками, то с засовами.
Или они тут друг от друга запираются?
А вот еще двери – тоже с замком. Ну, дела!
Слуга, что меня вел, двери те отворил – не обе створки, понятно, одну, потому как птица я невеликая. Отворил – знак мне сделал: жди, мол. А сам – за дверь.
Жду. Жду и по сторонам поглядываю. Странное дело, за дверью вроде как птицы поют?
А как слуга вернулся да мне кивнул, чтобы, значит, шел я дальше, все и разъяснилось. За дверью-то сад оказался. Только не сад – садик, маленький такой, меж четырех стен. Оттого и птички пели. Красивый садик! Посреди – фонтан мрамора белого, водичка, самой собой, струится-плещет, чуть дальше два льва, тоже мраморные, на меня облизываются.
А у фонтана – кресло. Вот туда меня и подвели. Слуга – не тот, что меня привел, другой – толстый, мордатый, над креслом склонился:
– Письмо, ваше сиятельство!
– Буль…
То есть как это «буль»?
– Буль! Буль-буль!
Точно, «буль». И не вода булькает, а именно «буль» – словами. И не из фонтана, а из кресла.
– Ваше сиятельство…
– Буль-буль!
Оторопел я вначале – не каждый день такое услышать можно. А после и понял. Сидит в кресле дядька чернобородый, весь в черном бархате. Шляпа тоже черная, на шляпе – жемчужина чуть не с мой кулак. Сидит – булькает. А глаза – веселые-веселые. А щечки розовые-розовые!
– Буль-буль! Буль-буль!
– Ну так чего, парень? – это мне слуга, шепотом. – Отдавай письмо. Хотел лично в руки – вот тебе и руки!
– Буль!
Сглотнул я, Деву Святую мысленно помянул, письмо достал.
…Теперь ясно, почему его сиятельство Федерико Гарсиласио де Кордова днем никуда носа не кажет. Занят потому что – булькает.
Взял он письмецо (а на руке перчатка – тоже черная), в пальцах повертел, распечатал…
– Буль-буль-буль!
…в воздухе письмецом помахал.
– Буль!
А слуги уже ухмыляются да перемигиваются – по моему, понятно, адресу. Мол, хотел повидать его сиятельство – так и повидал. А хочешь свои два эскудо просить – проси, тебе в ответ побулькают…
И смех и грех. Ну, барынька и удружила. Через всю Андалузию ехать, чтобы бульканье послушать. Хорошо еще, не кваканье!
…И что рыцаря моего калечного тут не ждут – тоже хорошо. Даже очень! А насчет маркиза – ошибся сеньор лисенсиат. Не старше сорока маркиз, так что, видать, это другой де Кордова старому королю Хуану служил.
Да и какой из этого «буль-буль» служака!
– От кого письмо? Даже вздрогнул я.
Обернулся – туда, где львы мраморные.
В темном шелке, в длинном платье, Серебром тяжелым шитом, С пестрым веером огромным, Крепко сжатым в тонких пальцах, На меня она смотрела Без улыбки и без гнева — Равнодушно, как на мрамор Или просто – на собаку, Что случайно забежала. Лишь на дне очей зеленых Под высокими бровями Что-то странное плескалось, Только что – не разобрать……Высокая, худая, длинноносая, длиннорукая.
– От кого письмо?
Спокойно так повторила, равнодушно – словно и вправду с собачкой разговаривала.
– Его сиятельству письмо, – ответил я, чуть головой дернув вместо поклона. – Маркизу де Кордова. Лично в руки, стало быть. Ему.
…Не ей, в смысле. Мы – тоже гордые.
Поглядела, губы тонкие поджала, ко мне шагнула – резко так, словно из чьих-то рук невидимых вырывалась.
Сколь же ей лет? Тридцать – точно будет, но уж никак не больше. Или больше?
– Я – маркиза де Кордова. Говорите!
Моргнул я только. Все не так, все толстячок перепутал! Маркиз – все ясно с маркизом, да и ее сиятельство совсем другая. И лет ей поменьше, чем сеньор лисенсиат думал – раза в два, и уж точно – не прекраснейшая! Острая вся какая-то, резкая.
И глаза зеленые. Злые глаза!
Однако делать нечего – рассказал. Все, как было.
Слушала, веером по пальцам постукивала, губами чуть подергивала – словно ругаться собиралась. А как я закончил, задумалась, веер сжала…
– Деньги вам заплатят.
И на том спасибо. Теперь и поклониться можно.
– Пойдемте… Адонис, возьмите веер! Какой еще Адонис? Может, собачка?
Нет, не собачка. Соткался из-за льва мраморного худосочный сеньор в балахоне с разводами желтыми (такое сейчас в Генуе носят, неудобно – страх) и в желтом же колпаке, поклонился, изобразил усердие, веер подхватил. Думал я – зубами возьмет. Обошлось, но вид у него – точно собачий. Имя, впрочем, тоже.
…Но не слуга. Слугу сразу узнать можно. И одет богато, и перстни на пальцах.
– О-о-о-о-о-о-о-о! О, Галатея! О, не оставляйте меня, Галатея!
И глазами томными – на маркизу. Та, впрочем, и ухом не повела, ко мне повернулась:
– Да пойдемте же!
А я так и не понял, обругал этот Адонис ее сиятельство – или похвалил?
– Алонсо Торибио-и-Ампуэро-и-Кихада… Нет, не слышала.
На этот раз разговаривать в комнате довелось. Мрачной такой, темной тканью обитой. И окошко маленькое, словно бойница. Вот ведь диво! Бывал я в домах у сиятельств всяких, даже у светлостей бывал (у того самого герцога итальянского). Так там у каждой дамы – комната с эстрадо [40], с коврами да с подушками. А тут словно узилище какое.
– Род моего мужа в свойстве с Ампуэро, но те живут в Леоне, а этот сеньор, вы говорите, из Эстремадуры…
Ее сиятельство изволили в кресле восседать, мне же скамейка досталась. Но все-таки усадила! Это мне понравилось даже. И что на «вы» – тоже понравилось.
– Сеньора Брантес-и-Энрикес наша дальняя родственница. Она – человек добрый, наверно, и в самом деле пожалела этого рыцаря…
Замолчала, куда-то вверх поглядела.
– Но в любом случае мы, само собой, поможем. Не по-христиански бросать человека на дороге, тем более защитника нашей Кастилии… Да, конечно.
Нельзя сказать, чтобы сомнения мои совсем развеялись. Но все же поменьше стали. Кажется, барынька в маске и в самом деле думала моему Дону Саладо пособить. Бывает же иногда, чтобы без подлости обошлось!
Редко, правда…
– У нас есть хорошие лекари, в том числе по душевным болезням. Увы… Вы же видели моего мужа.
Ап!
Кивнул я, с ее сиятельством соглашаясь, а сам глаза незаметненько опустил. Взгляд чтобы не выдал.
Зря ее сиятельство меня за собачку принимает. Впрочем, собаки – они тоже умные.
По каким таким душевным болезням лекарь? Ведь я ни о чем подобном и не говорил! Про руку сухую сказал, про то, как бомбарду разорвало, сказал…
А я чуть было Галатее этой не поверил!
Знает. Все знает!
Эх, зря я сюда сунулся!
– Так где, вы говорите, Игнасио, оставили сеньора Кихада?
Как же! Ничего такого я как раз и не говорил…И не скажу. Теперь уж точно.
– В Севилье он меня ждать будет, – сообщил я, глаза влево скашивая. – В Триане, на улице Альтосано. Ну, знаете, той, что от деревянного моста, который на тринадцати лодках, идет. Рыцарь этот, ваше сиятельство, человек страх как скромный, обузой быть не желает, потому и к вам ехать не хочет. Но ежели хотите, я его уговорю. Прямо сейчас туда отправлюсь.
И ищи ветра в поле!
– Нет. Его и так найдут. А вы пока здесь побудете. Твердо так сказала – и в глаза мне поглядела. Понял – не выпустят.
Всем хороша комната оказалась – та, куда меня поместили. И окно большое, и кровать широкая. Мягкая кровать! Только засов на дверях не изнутри, а снаружи.
Плотник перепутал – не иначе спьяну мастерил.
Запирать все же не стали. Гуляй по коридору да в другие комнаты заглядывай. Правда, все комнаты запертыми были. И не на засов – на ключ. А из коридора хода нет – тоже заперто. Прошелся я взад-вперед, послушал. И почудилось мне, что за одной из дверей вроде как шевелится кто-то. Прислушался, ухо к двери приложил. Точно!
Ну что же, теперь можно и губы приложить. К замочной скважине.
– Сеньор, а сеньор! Шевельнулось, замерло.
– Сеньо-о-ор!
Нет, не отвечает сеньор! Или сеньора. А может, они тут собаку заперли? С них станется!
Осталось одно – на подоконник забраться и в окошко смотреть. Тем более второй этаж, далеко видно.
А виден был из окошка сад – тот, что дом окружает. Густой такой сад, схорониться легко – если искать станут. А что? Окошко широкое, решеток нет, вниз слезть – раз плюнуть. Вот стемнеет только…
Подумал я – и сам себя одернул. Потому как хуже нет, когда другого за дурака считаешь. Сам в дураках враз окажешься. А тут дураков нет – если маркиза булькающего не считать, конечно. Так что окошко это неизвестно куда еще ведет.
Значит?
Значит, поглядим. Итак, сад, в саду – деревья всякие: и апельсины, и маслины, и мандарины, и просто тополя с кленами. За деревьями – забор. Не то чтобы высокий, но и не слишком низкий. А поверх – ничего, ни решеток острых, ни чего-то иного. Словно зовут-приглашают – в окошко, по-над деревьями, к забору. А поскольку дураков тут нет…
Значит, собаки. Или сторожа. А скорее всего и то и другое. Правда, сейчас день, никого не видать – ни тех, что на лапах, ни тех, что на ногах.
Но и это тоже ничего не значит. И такое видеть приходилось – тишь да гладь, да благодать божья…
Высунься, высунься, называется.
…Только бы идальго мой геройствовать не начал! С него станется. Еды-то ему принесут, заплатил я хозяину. И не выпустят – за это тоже заплачено.
А там и я подоспею.
В общем, решил я не спешить покуда. С тем и с подоконника слез.
А тут и дверь в коридоре грюкнула.
– А-а-а-а-а-а-а! О-о-о-о-о-о-о! Галатея, а-а-а-а! Что-то знакомое! И что-то, и кто-то.
Сеньор Адонис, все в том же балахоне и колпаке, дверь подпирать изволили – ту, что в одну из комнат вела. Лбом. Подпирать – и выть. Тоскливо так, протяжно.
– Галате-е-ея!
– Помилуйте, сеньор, – не выдержал я. – Да что это с вами? И разрешите загадку – отчего это вы ее сиятельство Галатеей обзываете? Маркизу ведь Беатрисой кличут!
…Не просто Беатрисой (представились мне ее сиятельство), а Беатрисой Марией Селестиной Анной. Но уж не Галатеей – точно.
– А-а-а-а-а-а-а! Галате-е-е-е-я-я-я!
Ну и дом! Один булькает, другой воет, третий за дверью скребется.
И всех запирают!
Огляделся я по сторонам – никого, пусто в коридоре. Человек пропадает, чуть ли не дверь лбом пробить пытается – а помочь некому!
Взял я Адониса этого, встряхнул как следует.
Умолк!
Умолк, зубами клацнул, на меня поглядел. А глаза пустые, какие-то белые…
Отволок я его в свою комнату, водой из кувшина (спасибо, оставили – не забыли) ополоснул слегка.
– Эй, сударь, очухались?
– Да… Да, кажется. Очухался!
– Зовут меня Франциско Пенья, сеньор, Адонис же, равно как Галатея, – имена поэтические, из древних мифов взятые. Называю я так сеньору маркизу потому, что Беатрисой может звать ее каждый, Галатея же – имя, только мною произносимое, оттого и особо оно сладким кажется.
Почесал я затылок, пытаясь всю эту мудрость уразуметь, да не вышло. К тому же хотел бы я поглядеть на того, кто ее сиятельство запросто Беатрисой назовет!
– Знает она о любви моей безответной и в милости своей позволяет мне изъяснять оную любовь поэтически, конечно же в формах пристойных и изящных…
Когда ближе я присмотрелся, Адонис этот, который Франциско Пенья, даже на человека похожим показался. Молодой парень, меня чуток постарше, тонкокостный, лицо смазливое, такие дамам всегда нравятся.
Похожим – но не до конца. Чего-то в этом Адонисе было непонятное, да такое, что и словами не выразишь. Прозрачный он какой-то! Не бледный (хотя и бледный – тоже), но именно прозрачный.
И так я присматривался, и этак. Вроде бы не светится, и стену через него не видать.
…А все-таки прозрачный!
– О сколь славно воспевать даму своего сердца сладкими словами языка кастильского!…
– А дверь бодать зачем? – вновь не выдержал я.
– Что?!
Удивленно так поглядел, даже рот раскрыл.
Не помнил! Ни как дверь бодал, ни как выл, ни даже как веер из ее сиятельства рук брал. И что весь день делал – не помнил.
И что интересно – даже не удивлялся. Вот когда я расспрашивать его стал – удивился.
– Действительно, сеньор, не помню я, что со мною за день этот случилось. Ночь помню, утро… Нет, ночь не помню, спал я, конечно, но… Не помню. Не иначе любовь, душу мою переполняющая, затмила на время рассудок.
– Да вы не волнуйтесь, сеньор Пенья, – вздохнул я. – Оно бывает!
…И надо же такому совпадению статься. Маркиз булькает, Адонис-бедолага воет да себя не помнит, тот, что за дверью, – молчит.
А еще им мой Дон Саладо, головою скудный, понадобился!
– Вы, значит, успокойтесь, – продолжал я. – О себе расскажите, что ли. Вы, стало быть, поэт будете? Романсьеро сочиняете?
– А? – вскинулся он. – Что вы, сударь! Романсьеро – не стихи, а песни, причем весьма грубые, созданные в угоду простонародному вкусу…
Вспомнил я сеньориту Инессу, как пела она, – и даже обиделся.
– К тому же я не признаю стихи, где есть то, что именуется сюжетом. Стихи – это звукопись, сеньор, в них не должно быть иного смысла, кроме смысла созвучий. Настоящая словесность это та, где герои не рыцари, с драконами воюющие, но слова. Это и есть литература, истинная, глубинная. О-о-о-о-о-о!
Кажется, опять начал!
– Вы бы, сеньор, свои стихи почитали, – поспешил я, чтобы это «О-о-о-о-о-о!» не слушать. – Страсть как хочется про звукопись вашу узнать.
– Стихи? – сеньор Пенья задумался, затем на меня поглядел – растерянно этак.
– Стихи, сеньор? Но я не помню своих стихов!
За окошком – месяц полный Серебрит листву на ветках. Тихо-тихо! Только шорох И чуть слышный скрип деревьев. Дом как вымер, сад как вымер, Сторожей совсем не видно, И не слышен лай собачий. Выходи, гуляй где хочешь! Только знаю – все неправда. Сторожат и глаз не сводят. Словно взгляд чужой уперся — Прямо в сердце, не в затылок. Месяц скалится на небе, Тоже взгляда не отводит, И хохочет, и хохочет: «Что, попался, глупый Начо? Не старайся! Не уйдешь!»ХОРНАДА XIV. О том, как мы снова встретились со славным идальго Доном Саладо
Когда не о чем думать – или когда ни о чем мозгой шевелить не тянет, самое время о жратве поразмыслить. О еде, в смысле. Оно, правда, тоже опасно бывает: лежишь голодный, руки за голову закинув, и представляешь себе то пулярку жареную, чтобы с жиром да с кожицей золотистой, то карпа со шляпу размером – тоже, стало быть, жареного. Вначале ничего, отвлекает, а потом совсем худо становится. Одна надежда – накормят, не дадут с голоду пропасть.
Это я к тому, что к утру оголодал я ну прямо-таки всеконечно. А все потому, что всю ночь глаз не сомкнул. И не то чтобы спать не хотелось. Хотелось, да еще как! Но появилась у меня одна задумка, и вот эту задумку я всю ночь и исполнял. А как солнышко сквозь кроны густые, что за окном, выглянуло – тогда и лег, чтобы о жратве подумать. Ведь все-таки я у их сиятельств в гостях. Должны же покормить хоть чем-нибудь!
И только тогда, как петуха (тоже жареного и тоже с корочкой) себе во всей его красе петушиной представил, долбануло меня – прямиком по макушке. Ведь пятница сегодня! У всех добрых католиков – пост, стало быть, в лучшем случае кусок хлеба принесут, а в худшем до полуночи ждать придется. Ждать – да слюнки пускать. Тем более в последний раз завтракать довелось еще на дворе постоялом, перед тем как мы с идальго моим расстались.
Фу-ты!
И взяла меня тоска. Да такая!…
Впрочем, ненадолго.
Ведь я думал как? Думал, сперва ключи зазвенят, потом та дверь, что из коридора дальше ведет, хлопнет, потом появится на пороге какой-нибудь мавр с рожей бородатой – и с хлеба куском. Потому как в тюрьме я, а в тюрьмах (навидался!) все так и происходит.
А разве не в тюрьме? Никуда не пускают, дагу мою еще вчера отобрали, а что решеток на окнах нет – так тюрьмы, они разные бывают. Да только одна другой не слаще, даже если без решеток.
А все иначе получилось. И ключи зазвенели, и дверь хлопнула, и мавр на пороге появился. Появился – и пригласил, вежливо этак. Оказалось – на завтрак. По коридору, вниз по лестнице, на первый этаж, а там не то комната, не то целый зал. А в зале том – стол накрыт да слуги возле стола скучают. И две тарелки (не миски, понятно, не в харчевне). Одна для меня, само собой. А вторая для кого?
А у меня аппетит уже почти пропал. Не совсем, конечно, но куда поменьше сделался. И не в том дело, что на столе стоит – пахнет, ароматы пускает. То есть и в этом тоже. Мясо на столе, в подливке с перцем и шафраном, да вино в кувшине чуть ли не серебряном. Это в пятницу-то!
…Перекрестился даже.
С одной стороны – спасибочки, конечно. Все мечты, что желудок за ночь мой посетили, сбылись – причем враз. Мяско такое – пальчики оближешь и еще попросишь. А с другой… В каком же благородном доме пост не соблюдают? Это мы, кто попроще, грешим порою. И то редко.
Ну, вкусил. А как винцо распробовал – местное, но из неплохих, пожаловал к столу генуэзский балахон. Сеньор Адонис персоной собственной.
Вошел, на меня и не взглянул – а ведь я сразу поздоровался! Сел, начал в мясе ковыряться…
Все ясно, опять сеньор не в себе. Хорошо еще, не воет и не бодается. Хотел я его растормошить да порасспрашивать о всяком да о разном. Но – не стал. Потому как не одни мы, да и подумать требуется.
…Вот уж право, смеялся я с сеньора Рохаса, с толстячка нашего, что он часто слишком этим занимается – думает, в смысле. А тут и самому довелось.
Думал я уже в саду, потому как после завтрака меня прямиком в сад отправили. Проветриться, видать. Не в тот, где львы с фонтаном, а в большой, что вокруг дома. Тот самый, за которым я всю ночь наблюдал.
Вот я и говорю, полезно не спать иногда. И слушать. Да и поглядывать.
И вот дышу я всем этим благорастворением – мандаринами с апельсинами – и вспоминаю, чего ночью видел. Стены, на башенках мавританских, что по углам, по стражнику, но это охрана не для нас, а для тех, кто снаружи пожалует. Потому как эти, на башенках, спуститься не успеют, если я через забор перелазить стану. Конечно, у них и арбалеты могут быть, и аркебузы или эспингарды [41]даже, да только ночью темно, не совы же они, в самом деле!
А во дворе – ни собак, ни сторожей. Долго я удивлялся, потом даже злиться начал. Или дураки они тут – или умные очень. А если умные, то, значит, это я дурак буду.
Обидно!
И только под утро заметил – ходит! И вроде бы как женщина. То есть не ходит – появляется вроде. То в одном углу, то в другом. Темно, понятно, всего не разобрать (луна уже за ветки спряталась), но дивно как-то. То тут она, то там. Невысокая, кряжистая такая, плечистая. Но – не баба, а чуть ли не дама. Одежа, во всяком случае, благородная. Платье темное, на голове вроде шапочки круглой. Почти как дуэнья, которую ни с того ни с сего в сторожа определили.
В общем, как хочешь понимай. А понял я так: в сад без спросу ни ногой. Потому как непонятное – хуже всего.
…А днем – точно не убежишь. Я гуляю, воздух нюхаю, а за мной пара мавров – тоже прогуливается.
Ну и пусть себе! А я дальше думать буду. Про то, что увидел, – ясно, а вот что услышал…
Первое дело – шаги. В той самой комнате, что заперта. Ходит кто-то – то быстро, то медленно. Значит, не собаку там заперли. Послушать, так вроде мужчина, крупный такой. Но это ладно, а вот сеньор Адонис, который Франциско Пенья!…
Вначале молча сидел. Тихо-тихо, как мышка. Потом вдруг подвывать начал. То «О-о-о-о-о-о!», то «А-а-а-а-а!», а порою и вовсе «Ы-ы-ы-ы-ы-ы!». Даже страшно мне стало. А затем выходит. В коридор. Думал вначале, в нужный чулан собрался (в самом конце коридора чулан этот), так нет. Постоял, позавывал, потом чего-то скрипнуло…
И нет его! Ни шагов, ни вытья. Сгинул – а куда? Допустим, гулять его пустили, дверь коридорную открыли. Но он туда даже не подходил, возле своей двери постоял. И пропал – с концами.
Уже под утро вернулся. Сперва скрипнуло, затем дверь комнаты открылась, а потом «О-о-о-о-о-о!».
Ну и домик!
А по саду народ всякий ходит, на меня не смотрит даже. Ну, мавры, что дом сторожат, ну, слуги (этих по одежке пестрой сразу узнать можно). Служаночка пробежала, козочка (она-то как раз на меня взглянула!). Это понятно. А потом появился дядька в балахоне темном да с книгой под мышкой. На подбородке – борода козлиная, на носу – окуляры. Следом – такой же, только без бороды, зато тоже с книжкой. И чернильница при поясе. На меня не взглянули, прямо в дом пошли. А следом – еще один.
Вспомнил я – школу тут его сиятельство открыл. Да только не для детишек сопливых, видать, эта школа!
…И сразу же увиделось. Собрались все эти умные в том садике, где фонтан, выкатили к ним маркиза в кресле, а его сиятельство им: «Буль!» Они и записали. Он снова: «Буль!»
Смехота, конечно. Только не до смеху мне было.
…Особенно когда меня из сада этого позвали. Погулял, значит, и будя. А как понял, куда меня ведут…
– Садитесь, Игнасио. Я сейчас…
Вежливая она, сеньора маркиза, Галатея которая. Вроде бы как извиняется.
В ту самую комнатку меня привели – в маленькую, с окошком узким. И ее сиятельство там же – в кресле, у столика. На столике, рядом с ампольетами [42], бумага, письмо вроде, а ее сиятельство это письмо читает.
Она читает, я жду. Это вроде как у коррехидора на допросе или у судейского какого. Не сразу говорить начинают – томят. Чтобы, значит, помягче стал. Помягче – да поразговорчивей.
– Я попросила вас задержаться, Игнасио. Надеюсь, вы не в обиде.
Ага, уже дочитала. И снова извиняется.
– Да чего уж! – руками развожу. – Какие тут обиды, ваше сиятельство!
И рожу делаю – вроде совсем дурак. И тут поглядела она на меня глазами своими зелеными……И сразу язык к гортани прилип.
– Ваши деньги, Игнасио. Возьмите.
И на стол кивает. Как же я не заметил? Вот они – мои два эскудо, на подушечке бархатной, гербами кастильскими сверкают.
Встал я, к столику подошел.
Странное дело! Обычно эти благородные сами не расплачиваются. На то у них секретари есть или просто слуги. А Галатея не побрезговала.
И только когда я эскудо эти рукой сгреб, понял – не так что-то. С монетами все в порядке (тяжелые, даже края не обрезаны!) и со мною пока – гоже.
…Или нет? Словно слабость какая-то накатила, и булавка с камешками синими, что у меня за воротом, тяжеленной сделалась.
– Сеньор Кихада неподалеку отсюда, на постоялом дворе «Меч Сида». Напишите ему!
И снова на меня посмотрела – прямо в глаза. Ох, и плохо же мне стало. Наивный я человек, если думал моего Дона Саладо от этой зеленоглазой спрятать!
– Если надо, могу позвать писца. Продиктуете.
– Обойдусь как-нибудь, – вздохнул я, табурет к столику поближе придвигая. – Это у тех, которые благородные, почерк плохой [43].
Даже дернуло меня, когда она рассмеялась.
– Согласна! Да что с вами, Игнасио? Неужели вам кажется, что сеньору Кихада здесь нанесут какую-нибудь обиду?
– Да не кажется мне, ваше сиятельство. (Кажется – это если никакой уверенности нет.) Перо уже в руке – большое, чуть ли не павлинье. И что делать? Не писать? Так на веревке идальго моего притащат.
Написал. Расписался, аккуратно так, буквочка к буквочке: «Игнасио Гевара», на ампольеты поглядел…
Сыплется в ампольетах песочек – песчинка песчинку догоняет.
А может, еще успеет мой рыцарь удрать? Или сообразит чего? Мечом-то он работать умеет, сам видел!
– Хорошо.
Сложила она письмо, в руке подержала. Положила.
– Я хотела бы, чтобы вы, Игнасио, пожили здесь еще некоторое время. Вам будут платить тридцать мараведи в день, а делать ничего не придется.
Угу…
Улыбнулся я, встал.
– Пикаро я, ваше сиятельство. А пикаро – они народ вольный!
– Знаю! – оборвала она меня – резко так, решительно. – Но пикаро тоже служат, если срок не превышает год. От одного дня Святого Хуана до другого. Так?
Все верно! Как говорится, я служить исправно стану от Хуана до Хуана…
А ей-то кто сказал? И на что намекает? Что меня здесь цельный год солить будут?
– Так что вам, Игнасио, лучше остаться здесь. И лучше со мною не ссориться. Это ясно?
Тут с меня весь задор и сошел. Потому как и вправду ясно все стало. И с тем, что не выпустят, и чего с моими эскудо не так. Полное просветление наступило. Потому как не просто золотые на подушке этой лежали…
Эх, где же мои глаза-то были!
…а в петелечке вроде. Тоненькая такая петелечка – из волос человеческих…
Говорят, что у Кордовы, Если чуть на юг проехать, Ты увидишь пропасть Кабра. По краям там голый камень — Камень да земля сухая, Не найдешь и травки козьей. Днем туман стоит над Каброй, Даже солнца не заметишь, Ночью блещет свет холодный — Словно бы гниет там что-то. И болтают поселяне, Если выпьют в праздник вволю, Что не просто пропасть Кабра, А дорожка в преисподнюю. Будто сам Нечистый ходит В ночь на Страстную субботу Через Кабру в мир наш грешный, Чтоб забрать лихие души. Но маркизе де Кордова Ни к чему в Кордову ехать, Если Кабра под рукою — Дверь открыла – и шагнула.Весь коридор – сорок шагов. А если широко шагать – тридцать четыре.
Вот и шагаю. А чего еще делать? Комнатка за день опостылеть успела, поговорить не с кем, из коридора не выпускают.
И тошно так, тошно! Рука, что эскудо эти проклятые брала, аж горит. Одна надежда – не дотронулся я до этой петельки. Да только надежда слабенькая, знала ее сиятельство, что делала.
Ох, и наслышался я про эти петельки! Про петельки, про следки вынутые. Фу, и вспоминать не хочется. Вот дела! Бабку какую-нибудь из селеньица глухого за эту петельку прямиком на дыбу пошлют. На дыбу, а после на поля Табладо, где Кемадеро это, будь оно неладно. Ну а с их сиятельствами так, понятно, не поступишь. Да и разве докажешь чего? Посинеет морда, кишки со внутренностями всеми узлом завяжутся…
Ой!
Повернулся я, головой тряхнул, чтобы про внутренности мои бедные не думать, – и снова коридором. Я ведь не просто так хожу, подметки стаптываю. У той двери, что заперта, каждый раз останавливаюсь.
Слушаю.
Да только тихо там. Не совсем, конечно. То шелест какой-то, а то и вроде застонет кто-то. Но – не отзывается, я уже три раза выкликал.
И сеньора Пенью, Адонис который, снова куда-то черти унесли.
…А вдруг и правда, спаси нас Дева Святая?
Остановился я, подумал чуток и решил коридор больше не мерить. Иначе поступить. Я, конечно, не лицедей-хуглар, в театре бродячем не играю, но если надо…
Встал я возле дверей, за которыми комната сеньора Адониса, и себя им вообразил. И ростом я меньше, и в плечах уже, и балахон на мне генуэзский. И ночь вокруг стоит. Выхожу, значит, я из комнаты, вою, гнусно так:
– О-о-о-о-о-о-о!
…Ну, выть я, положим, не стал, вообразил только.
И шаг делаю, другой, третий. Вроде как прямо иду, потому как шаги не удалялись и не приближались. Иду, значит, затем чем-то скриплю.
Исчезаю.
А куда? Перед носом – стена, деревом обшита, темным таким, прочным…
Обшита, значит? Ой как интересно!
Стал я пальчиком обшивку эту ковырять…
Не успел – сеньор Адонис пожаловать изволили. Не сквозь стену – через дверь коридорную. Отворили, видать, ему. То есть не пожаловал, потому как слово это ну никак сюда не лезет.
…Еле подхватить успел!
– Вы правы, сеньор, со мною и вправду происходит что-то странное, но самое невероятное в том, что я об этом не могу думать. Вот разве что, когда вы рядом…
Как меня зовут, он тоже забыл. Бледный такой весь, прозрачный.
Точно – прозрачный! Только не светится, а вроде как наоборот. Лежит, тихий такой, даже не моргает, в потолок беленый уставился.
Уложил я его на кровать – в его комнате, само собой. Заодно и осмотрелся. Такая же комната, как у меня, на столике – книжка толстая в переплете кожаном с застежкой серебряной, перо с чернильницей, лист бумаги. Чистый – ни строчки, ни кляксы.
И распятия нет. У меня-то висит – черное, большое.
– Вот сейчас, когда вы рядом, сеньор, понимаю я, что помню себя только пару часов в сутки – на рассвете и ближе к вечеру, как сейчас. А в прочее время… Может, это и есть любовь, как вы думаете?
А я все петельку вспоминаю…
Поглядел я на него, болезного, головой покачал:
– А скажите мне, сеньор Пенья, откуда вы взяли, что вы поэт и что Галатею, то есть ее сиятельство, страх как любите?
Моргнул, губами пошевелил – испуганно так.
– Не знаю!
Не знает, значит…
А ночью, как стемнело совсем, собаки во дворе появились. Много! Большие, вроде канарских ищеек, будь они, сволочи, прокляты! Не лают, зато по всему двору носятся, носами землю роют.
И женщины той нет – дуэньи. Или привиделась мне она?
Ну, и понятно, вой в коридоре, шаги, скрип. Сгинул сеньор Адонис, прямо через стену. Через панели эти. А в комнате, что заперта, то ли плачет кто-то, то ли скулит.
А мне и самому выть захотелось.
Утром за мною пришли. Бороды черные, рожи наетые. Мавры, стало быть. Пришли, во двор потащили.
…То есть не потащили, сам пошел. А все равно – противно. Один бородач впереди, двое с боков. И зубы скалят – радуются.
А чему радуются, уже у самых ворот я понял. Настежь ворота, а в воротах…
Ох, и тошно мне стало!
– Добрый вам день, сеньоры! Позвольте приветствовать славных хозяев этого замка и благ всяческих пожелать, и благословение Божье на вас призвать!
– И вам добрый день, сеньор Кихада. Добро пожаловать в поместье де Кордова!
Это, понятно, ее сиятельство. Тут уже она, и Адонис блаженненький здесь же, веер держит, меня не узнает.
А Дон Саладо с конька-недомерка слезает, поклон отдает, железками своими позвякивает. Улыбается, бороду-молчалку выставил…
Эх, рыцарь, рыцарь!
Поговорить нам все-таки дали – минутку всего. Отвел я его в сторону, за плечи железные взял:
– Что же вы, Дон Саладо, или читать совсем разучились?
А он мне тихо-тихо так:
– Неужто думал ты, Начо, что брошу я тебя в беде? Пусть прав ты, и в замке этом вправду зло таится, разве не справимся мы с тобой, не разобьем все козни супостатов? Ведь чем трудней наш подвиг будет, тем большую славу добыть нам предстоит!
Посмотрел я на рыцаря моего, на шлем его дурацкий, на бороду мочальную.
И вроде как легче мне стало.
Увели конька куда-то, Долго он смотрел-косился, Шею все тянул, старался. Улыбнулся Дон Саладо, Улыбнулся, шлем поправил, Что на ухо ему съехал. Ну а мавры скалят зубы, На меня глядят-смеются. Не по-твоему, мол, вышло, Сам попался, глупый Начо, И идальго твой калечный Сам приехал в наши сети! Ничего я не ответил, Не ответил, отвернулся. Не спешите щерить зубы! Одного меня съесть можно, Но двоих – не подавиться б!ХОРНАДА XV. О том, что узнал я днем и увидел ночью
– Нет, нет, Начо! – воскликнул доблестный рыцарь Дон Саладо, головой своей ушастой качая. – Не ведаю я, что станется дальше, но покуда не причинили мне здесь ни малейшего вреда. Обхождение же со мною самое благородное. Порой даже стыдно становится, ибо не привык я жить в безделии и роскоши.
Спорить я не стал – до того рад был, что вновь идальго моего калечного вижу. Живого и умытого. А обо всем остальном он мне как раз рассказывать собрался.
В сад меня выгнали – и снова утром. То ли чтобы в комнате моей убрать (а чего там убирать-то?), то ли чтобы соседями моими заняться. Меня, стало быть, оставили – вроде как на закуску.
Ну и ладно. Денек – но мой.
В общем, спустился я в сад (с маврами за спиною), а в саду – мой идальго. Прогуливается, мандаринами с апельсинами дышит.
– Поместили же меня в покоях истинно королевских, – продолжал Дон Саладо. – И яства приносят отменные, и лекари ко мне ходят…
Насчет королевских покоев я тоже не стал спорить – много ли дядьке моему надо? А вот приодели его знатно. Вместо лат мятых – куртка с плечами до ушей бархата темного с блеском серебряным, штаны черные узкие до самых щиколоток. Из самой Флоренции полотно, не спутать. И сшито – как раз на него. Вдобавок – туфли длинноносые, мягкие, последнего писку. И такой, знаете ли, серьезный сеньор получился!
…Шлем, впрочем, никуда не делся – так и остался над ушами сверкать. А мне даже понравилось.
– Что же касаемо тебя, Начо, то не иначе недоразумение тут некое вышло. Ибо обошлись с тобою, как с человеком роду худого, с коим и церемониться не след. Но пояснил я, что род твой искони дворянский и не простолюдин ты, а мой верный эскудеро, которому славным рыцарем быть предназначено. А нужен ты, как мне пояснили, поелику лекари здешние присутствие твое полезным почитают ради здравия моего…
И вновь я спорить не стал – да и слушать начал вполуха. Лекари себе – и лекари. Не режут они дядьку моего – вот и славно, а так пусть лечат, хоть в апарисиевом масле [44]купают. А у самого мыслишки уже совсем о другом. Я ведь снова ночь почти не спал. Смотрел, слушал… мозги напрягал.
– И что дивно, Начо, стал расспрашивать меня лекарь про самые удивительные случаи в жизни моей. А еще более странно, о тебе вопросы стал задавать, не было ли с тобой происшествий неких удивительных…
– Что? – очнулся я. – Удивительных, говорите? Оглянулся я, схватил моего рыцаря под ручку, к скамеечке каменной поволок – в самом теньке скамеечка.
Усадил.
– То есть, Дон Саладо, спрашивали вас о том же, что и дон Хорхе, так?
Оказалось, так. Внимательный лекарь попался – про всю жизнь моего идальго выслушал. Тот, однако, благородство проявил – про себя рассказал, не утаил ничего, а обо мне говорить отказался.
– А какой лекарь? – не отстаю я. – Один из этих?
И на соседнюю скамеечку киваю. А на скамеечке той школяры бородатые восседают – с книжками да в окулярах. Они в сад каждое утро выходят – тоже мозги проветрить. На этот раз их целых четверо оказалось.
Прищурил Дон Саладо глаза свои близорукие, качнул шлемом:
– Отнюдь, Начо. Лекарь тот старше был, и виду благородного, и одет иначе совсем. Забыл же я тебе сказать, что оный лекарь отчего-то ночью приходил, как стемнело совсем…
Почесал я затылок – не помогло. Странные дела тут ночью деются. К дядьке моему лекарь неведомый приходит, Адонис, бедняга, невесть куда шляется, а по саду дуэнья в платье черном до пят бродить начинает.
…Снова появилась! Она появилась – а собаки сгинули. До утра ходила – то тут мелькнет, то там. Рассмотрел я ее, благо луна светила ярко. Крепкая такая, плечистая, на черном платье – воротник кружевной, широкий. А ходит быстро, резко – прямо как ее сиятельство. Может, и вправду дуэнья? С бессонницей, стало быть?
Хотел я рыцаря моего про все это спросить, но решил по-другому начать. Только как начать, чтоб не обиделся?
– А не видели ли вы тут, рыцарь, чего-нибудь странного? Ну, великана там, дракона?
Хотел про василиска добавить – осекся. Задумался Дон Саладо, бороду-мочалку огладил:
– Увы, Начо! Не видел я всех сих чудищ мерзких, так что не удастся мне защитить этот славный замок и тем совершить подвиг великий. Но скажу тебе иное. Не заметил ли ты, Начо, что каждую ночь небо над замком этим отнюдь не черное, но почти белое, ибо исходит от дома некое свечение? Даже луна меркнет, и звезды не видны совсем.
Как?!
Решил я Дона Саладо обо всем этом поподробнее расспросить, да не вышло. Подошли к нам мавры, поклон изобразили – и прости-прощай, рыцарь!
Увели!
Увели, меня одного оставили – думать. И как прикажете дядьку этого понимать? То ли померещилось ему, как с тем василиском, то ли…
А мне и самому ночью не по себе было. Прилягу, глаза закрою – и словно зовет кто-то. Негромко так, настойчиво. Слов не слышно, и голос не разобрать, но ясно – зовет. И вроде не просто зовет, а как бы чего обещает. Сладкое такое, душевное.
…А булавка на рубахе моей словно свинцом наливается. Я ведь рубаху теперь не снимаю, даже ночью – о петелечке волосяной помню. Ведь петелечка, дрянь этакая, все что угодно означать может. Схватил я золото – и попался. Зацепили, одним словом, душу мою грешную, и теперь могут в свое удовольствие ею распоряжаться.
Или не могут все же? Зовут меня – а я не иду. А не в булавке ли дело? Если так, спасибо сеньорите Инессе!
Ее, Инессу, я каждый день вспоминал, и как пела она, и вообще. Вот ведь дела! Или я с девицами общения не имел? Вроде не урод последний, и деньга за поясом порою звенит. Да и без денег бывало. А тут – и некрасивая вроде, и мне уж совсем не ровня, и видел ее всего ничего.
Без всякой петелечки зацепила!
Только что сейчас об этом думать? Вот выберусь (то есть не вот, а если), справлю на золотишко свое, честно заработанное, платье новое сукна флорентийского, а еще лучше – шелка венецианского. И в гости завалюсь!
…Если, конечно, стоит еще замок этот, Анкора. Вот ведь непонятка! Все мы трое его видели, и булавка на месте, и платок с узлами на месте, при мне. А как же тени? Или ошибся я, свет там неяркий был, вот и тень не заметил?
А стражники, те, что из Эрмандады Святой, могли все и перепутать. Разрушили Анкору мавры, а родичи старого сеньора Хорхе снова замок отстроили, соседям не доложились. Все так, но отчего-то привиделось: еду я дорогой знакомой, вот и камень у перекрестка торчит, а дальше, вместо замка – пустота.
Даже передернуло меня от таких мыслей, даже морозом ударило!
Ну, мысли я эти прогнал, потому как не время об этом мозги сушить. Иные есть заботы. Тем более меня как раз из сада попросили. Обратно, в комнату.
А у меня и там дела есть!
– Благодарю вас, сеньор Гевара! Знаете, в вашем присутствии мне становится легче.
Бедняга Адонис уже и говорить не мог, шептал только. И вставал с трудом. Зато выть перестал. Лежал – прозрачный, словно и не здесь уже, и улыбался – жалобно так.
…После того как сеньор Пенья мне на руки прямо у двери свалился, кончились его гуляния. Раз-два из комнаты выйдет, в нужный чулан завернет – и назад.
Зато дурь вроде как проходить начала. И меня вспомнил, и о себе кое-что.
– Вы знаете, сеньор Гевара, я, кажется, ошибся. Стихов я никогда не слагал, хотя читать всегда любил и знаю их изрядно. Жаль, не могу вспомнить, чем я занимался и почему попал в это поместье. Раньше думалось, что привела меня сюда любовь, теперь же даже в этом стал я сомневаться.
– А сосед наш? – перебил я. – Тот, что в запертой комнате? С ним вы встречались, сеньор Пенья?
Не откликается тот, кто за дверью. Ночью голос подает, но не мне, а вроде как себе самому. И слова непонятные.
– Сосед? Какой сосед? – моргнул бедняга-Адонис. – А-а, понял! Увы, не помню. Хотя… Кажется, видел его. Бородатый, волосы седые, чуть ли не до плеч. Почему-то показалось мне, что он иудей. Может, одежда? Нет, не помню…
Уже кое-что. Ежели иудей, понятно, отчего молчит. То есть непонятно, но предположить можно. Разыскивают беднягу фратины из Супремы, вот он и притих. Лучше уж тут сидеть, чем в севильской тюрьме!
…Или не лучше?
– Вы вот что, сеньор Пенья, – вздохнул я. – А вспомните-ка, откуда вы родом да кто родители. Глядишь, и поможем вам.
Говорю – и сам себе не верю. Не жилец, он, бедолага, губами – и то шевелит еле-еле. Вот, шевельнул.
– Нет, сеньор Гевара. Не вспомню. Не могу! Даже не в силах понять, что я делал в этом доме. Пытаюсь вспомнить и…
Закрылись глаза, судорогой дернулись губы бесцветные.
– Страшно… Чудится мне, что лежу я на полу… Нет, на каком-то ложе, и жила на шее моей отворена, и что пьет она мою кровь. Жадно пьет! А глаза ее уже не зеленые – желтые, словно пламенем горят. А потом заключает она меня в свои объятия и любит, и слизывает мою кровь с шеи…
Даже не стал я спрашивать, о ком сеньор Пенья толкует. Все ясно с этими глазами зелеными. Повернул я его голову, на шею посмотрел, затем на руки.
Нет ни шрамика. А все-таки не по себе стало.
– Понимаю, сеньор Гевара, – вновь шевельнулись бледные губы. – Сочтете вы мои слова бредом. Хотя бы потому, что упыри не способны к близости любовной, да и не видел я ни разу на теле, равно как на платье своем пятен крови. Наверно, и в самом деле брежу…
Задергалось его лицо, задрожали губы.
– Вот уж точно, сеньор, – согласился я, виду стараясь не показать. – Никто кровь из вас не пил, и все это – мозгов помутнение. Вы вот чего, отвлекитесь лучше. Говорите, не писали стихов? Но, быть может, читали? Так вспомните чего, мне перескажите!
Стихи мне эти, понятно, до свечки сальной, но уж больно парня жалко стало. А заодно голос, что меня ночью звал, вспомнился.
Это же куда, интересно, меня кликали?
– Увы, кастильская поэзия не в силах пока сравниться с поэзией Прованса, в особенности же с итальянской, украшенной такими именами, как Данте и Петрарка, – вздохнул сеньор Пенья, не иначе немало тем огорчаясь.
– Который Петрарка? – не утерпел я. – Тот, что шелком торгует, из Неаполя?
Имел Калабриец с Джузеппе Петраркой, с хитрованом этим, делишки. Ушлый итальяшка, такого на кривой козе не объедешь!
– Что вы, сеньор! – Адонис даже глаза раскрыл, широко так. – Франческо Петрарка, поэт величайший!
Да-а, ляпнул, называется!
– В нашей же Кастилии славен разве что только Хуан Руис, что создал поэму, именуемую «Книга о благой любви». Но давно это было, полтора века тому. Из современников назову лишь сеньора Фернандо де Рохаса, хоть пишет он в последнее время низкую прозу вместо сладкозвучных стихов.
Фернандо де Рохас – уж не нашему ли толстячку родич?
– Вы, кажется, спрашивали меня о романсьеро, сеньор Гевара…
– Спрашивал, – согласился я.
Вспомнил! Ну, молодец! Так, глядишь, благодаря стихам этим и башка у него проветрится.
Эге, уж не изобрел ли я свою систему? Жаль, сеньора лисенсиата нет – позавидовал бы.
– Повторю, однако, что литература сюжетная есть чтиво для толпы, ибо произведения словесности не могут быть занимательны, читатель же, равно как и слушатель, должен соучаствовать в труде литературном, тонкости всякие разгадывая…
Отвернулся я, дабы взглядом своим сеньора Пенью не спугнуть. Пусть болтает до полного прояснения!
– …Вот, скажем, упомянутый сеньор Фернандо де Рохас в молодые годы писал сонеты по строгому замыслу. В одном сонете были все гласные буквы, кроме буквы «а», в следующем же отсутствовала «е», в третьем – «i»…
Никак опять бредит?
– Целью же имел он создать венок сонетов, именуемый «Отрицание литер». Подобное перевернуло бы всю словесность нашу и превыше итальянской ее бы вознесло. А дальше хотел упомянутый сеньор де Рохас творить «моносонеты», то есть сонеты, в каждом из которых только бы одна гласная присутствовала. Скажем, «о-сонет» или же «u-сонет». Увы, не осуществил он замысел сей и стал писать прозу, причем сюжетную, для чтения отвратительно легкую и занимательную, где обязательно добро борется со злом. Ну, скажите, сеньор Гевара, какому настоящему ценителю словесности интересно, зло в мире правит или добро, если есть слова и звуки? О-о-о-о, слово, только ты самоценно и прекрасно!
– А я вот один красивый романсьеро знаю, – перебил я его самым невежливым образом, не в силах более про «u-сонеты» слушать. – Знаете такой, про Хорхе Новерадо?
Не зря я сегодня сеньориту Инессу вспоминал!
– А-а! – без всякого интереса откликнулся он. – Варварские средневековые песни! Это для хугларов…
Ну вот! Сеньору Рохасу, толстячку нашему, романы про рыцарей не нравились. А этот за романсьеро взялся. Видать, образованным главное, чтобы книжки скучными были – и чтобы мозги набекрень.
– Впрочем, история Хорхе Новерадо и его дочери весьма, как сейчас любят говорить, романтична… Вы знаете, сеньор, я, пожалуй, встану.
Встать я сеньору Адонису помог – самому ему тяжко было. Встать, к окну подойти.
…Опустел сад. Солнце за кроны валится, значит, скоро ночь, а там дуэнья эта, в черном которая, бродить начнет.
Я сеньора Пенью и про нее спрашивал. Видел он ее, но только не в саду, в доме. А вот где именно да чего она делала – не помнит.
– Про Хорхе Новерадо сложили несколько романсьеро, – продолжал между тем Адонис, воздух вечерний вдыхая жадно. – Один о том, как он с эмиром Абенгальбом сражался, второй про Королевскую Измену, третий – про заклятие. Или проклятие, не помню.
Навострил я уши.
– Потом про то, как родичи Новерадо отомстили королю. А вы какой романсьеро имели в виду, сеньор Гевара?
– Про Королевскую Измену который, – откликнулся я, вновь лобастую вспоминая. – А страх как интересно, что дальше было? После того, как дон Хорхе к воротам спустился?
Задумался сеньор Пенья, плечиками пожал, снова воздух глотнул.
– Точно не помню, сеньор. Кажется… Да, дон Хорхе погиб, мавры попытались взять в плен его дочь, чтобы отдать ее королю, ибо таков был уговор, но сеньорита Инесса покончила с собою, шагнув с башни. А перед смертью завязала она свой платок семью узлами…
– Этот? – не утерпел я, платочек шелковый доставая. Даже засмеялся Адонис – негромко так, слабо. Засмеялся, головой покачал:
– Что вы, сеньор! Это же легенда. Семь узлов на платке – символ семи смертных грехов, ибо самоубийство – грех, равный по тяжести им всем. И говорят… Вы знаете, сеньор Гевара, я, кажется, вспомнил. Да, верно…
Поглядел сеньор Пенья на солнце заходящее, глаза чуть прикрыл.
Не найти душе покоя, Ибо грех самоубийства Всех грехов иных страшнее. И блуждать теперь Инессе По развалинам пустынным Тихим призраком безгласным, Пока трубы не затрубят, Пока Страшный суд настанет. Говорят же и другое: Тот, кто семь узлов развяжет, На себя возьмет проклятье, В рай отпустит ее душу, А свою – тотчас погубит. Только скрыт платок с узлами В подземелиях Анкоры, И ночами призрак девы Вновь стоит на тени башни, И не смилуется Небо Над несчастною Инессой, Той, что душу загубила Ради чести и отца.Поглядел я на платочек, в ладони качнул. Как это говорила лобастая?
«…Не вздумайте развязывать узлы! Ни в коем случае!»
Выходит, Инесса тоже этой легенде верила? Взялся я пальцами за один узелок – тот, что побольше…
…Отдернул руку.
И что прикажете думать? Лучше бы я сеньора Пенью ни о чем не спрашивал!
Ночью тоска накатила. Да такая – что чуть было не пошел двери в коридоре вышибать. Вольный я человек, не люблю, когда запирают. Другие в тюрьме годами сидеть могут, знавал таких. Хоть и грязно, и тесно, зато кормят и крыша над головою есть. Нашу тюрьму севильскую (ух, дыра!) некоторые так и называют – «Каса», дом то есть. Ничего себе, дом! Я и мальчишкой больше недели высидеть в Касе этой не мог, руки грыз, жилы себе кусал. А теперь – так совсем худо. В последний раз, как забрали, на третий день из Касы этой дернул. Не из севильской, правда, а из той, что в Бургосе.
…В предпоследний, впрочем, тоже.
И вот теперь – снова. Да только здесь хуже дела. Сам-то я, может, и сделаю ноги, а Дон Саладо? Это какой же пикаро друзей своих бросит?
…Бросали, конечно. Да только я не из таких буду!
В общем, плюнул я в окошко, отношение, стало быть, выразил, а затем – в коридор. Благо свечка только наполовину сгореть успела.
Дверь, правда, ломать не стал – успею. А вот стену, ту, что деревом обшита, самое время было оглядеть. Да повнимательнее, ничего не пропуская.
…Адонис, бедняга, про стену тоже ничего вспомнить не мог. Значит, без него обойдемся.
Трудного, конечно, в стене этой ничего не оказалось. Все доски одинаковые – в треть браса длины, в шестую долю – ширины, а одна на три части вроде как поделена. Ширина та же, а длина – как раз в треть локтя. Каждая часть – одна над другой. Нажал я одну – поддалась. Другую-тоже…
И ничего! Я уж их и по очереди нажимал, и по два раза каждую. Хитрая задумка, слыхал о таких. Нажимать следует не просто, а в порядке строгом. Скажем, верхнюю три раза, среднюю – два. А не так нажмешь – клац, и падает засов, чтобы, значит, особо любопытные судьбу не испытывали.
Засов, правда, не клацал, но и стенка не двигалась. У меня уже и пот на лбу выступил. Хотел я кулаком что есть силы по доскам этим клятым врезать – просто так, от злости…
– Зачем ты все стучишь, молодой человек? Такой молодой и такой беспокойный. Если ты такой беспокойный, то полежи в гробу – это очень хорошо успокаивает!
Замер. Застыл.
– Или ты вообразил, что там, за стеной, сад Пардес, где только и ждут таких неучей, как ты, чтобы позволить вкушать блаженство рядом с уважаемыми и почтенными людьми? Ой, и ошибаешься же ты!
Голос хриплый, немолодой такой. Незнакомый, сердитый очень…
Конечно, незнакомый! Не подавал голоса мой сосед – тот, что в комнате запертой.
А вот теперь – откликнулся!
Заскрипела дверь негромко — Позабыли петли смазать, Огонек свечной зажегся, Осветил седые космы, Пал на бороду седую. В темном глазе отразился — В левом глазе, а на правом Вроде черная повязка. И не скажешь, кто: разбойник? Или человек достойный? Или просто сумасшедший? Поглядел, губами дернул, Вроде, значит, улыбнулся, И кривым костлявым пальцем Поманил меня к себе.ХОРНАДА XVI. О том, как довелось мне остаться без серьги
– А если думаешь, неуч, что тебя звали в гости, то пойди и подумай об этом где-нибудь очень-очень далеко отсюда!
В его комнатушке стоял чесночный дух, да такой, что даже открытое окно не помогало. Но я все-таки зашел.
Свечку он отставил подальше, так что, кроме бороды и седых волос, что до самых плеч спускались, я так ничего и не приметил. Разве что повязку на макушке – странную такую, в полосках.
– А вы, видать, иудей, сеньор, – заметил я, слова бедняги Адониса вспоминая.
– Ну конечно! – откликнулась темнота. – Сейчас этот молодой человек будет говорить, что именно я продал гвозди, которыми прибили к бревну бен-Пандиру! Если бы ты, неуч, хотя бы слыхал о книге, именуемой Талмуд, то я бы тебе мог сказать, что этого вашего бен-Пандиру вообще никто не распинал. Сорок дней серьезные и уважаемые люди ждали, чтобы хоть кто-то заступился за этого недоучку, а потом сына Пандиры просто побили камнями. Ха! А как прикажете поступать с тем, кто позабыл, что лик времени еще не стал мордой собаки и Нестираемые Имена – это не игрушки для необразованных молодых людей?
Выслушал я все это спокойно – рыцарь мой с сеньором Рохасом приучили. Сварливый старик в полосатой повязке все-таки меня позвал. Кажется, не только я следил за ним – но и он ухо к двери прикладывал.
– Вот чего, сеньор, – заметил я. – Про бен-Пандиру вашего – это вы мне в следующий раз. Как-нибудь. А сейчас мне страсть как интересно узнать, чего в доме этом происходит? Сдается мне, вы, сеньор, куда больше моего об этом знаете.
Кажется, не так спросил. Во всяком случае, борода седая аж ходуном заходила.
– Он хочет узнать! Узнать! Это слово не для таких, как ты, молодой человек! Однажды, когда раби Шимон спокойно ехал на своем осле, Амнуэль, будь он неладен, подбежал к нему и осмелился спросить, в чем смысл слова «Вай»? Раби Шимон снизошел к этому неучу, остановил своего осла и объяснил, что Глава Основания – это буква «Йод», ибо «Йесод» – это малое «Вав», Святой, благословен Он, – это «Вав» большое. И поэтому записывается буква «Вав» через два «Вава», а глава «Йесода» – это «Йод». Что может быть проще и понятнее? Но раби Шимон напрасно останавливал своего осла. Амнуэль, будь он неладен, конечно же, ничего не понял, потому что был таким же неучем, как ты. Вы оба недостойны не только бежать за ослом раби Шимона, но даже мыть копыта моему ослу, который, впрочем, все равно уже сдох… И что ты понял из всего этого?
Выпуклый темный глаз блеснул в темноте. Кажется, меня проверяли – на знание буквы «Вав».
– А дайте-ка подумать, сеньор, – вздохнул я. – Понять, конечно, мудрено, но я вам вот что скажу. Все в этом доме не так. Хозяин с хозяйкой, с ее сиятельством, еще старому королю Хуану служили, значит, годов им ну никак не менее семидесяти стукнуло, ежели не больше. А на вид – и сорока нет. Сеньора маркиза умным считают, а он булькает только. Собирают в доме этом людей как есть странных – страннее некуда, да творят с ними чего-то скверное. Вон парня, что рядом скучает, вроде как выпили – тень одна осталась. А мне деньги в петелечке волосяной дали – душу, значит, ловили. И сторож тут странный – тетка в платье черном. А еще здесь всякие бородатые ходят, вроде вас. Я все правильно сказал, сеньор?
– Хм-м-м…
Он медленно встал, подошел к окну.
– А еще бы ты мог добавить, молодой человек, что вместо решеток тут – Непускающие Имена. Ха! Неужели они думают, что старый человек будет спускаться со второго этажа, теряя башмаки и кашляя? Впрочем, на твоем окне ничего такого нет, но, раз ты до сих пор не полез в сад, значит, ты все-таки не Амнуэль, будь он неладен… Зачем тебе нужна потайная дверь, молодой человек?
Ну вот! А говорил – не понимаю.
– А чего делать-то, сеньор? Через сад не уйти – это я уже понял…
– Не все, – негромко перебил он. – В ночь с пятницы на субботу – можно. Если не боишься собак. Но по тайному ходу далеко не уйти. Там всего две двери – одна сразу налево, а вторая – вниз по лестнице. В первую дверь ходил глупый молодой человек, который сейчас готовится отдать все, что осталось от его души, Тому, Кто так неосмотрительно ему эту душу одолжил. Во вторую иногда хожу я… Ходил – прежде. Поверь, тебе там делать нечего.
Странное дело, даже голос его изменился. Усталым стал, хриплым. Старым совсем.
– Стража в этих комнатах есть? – осторожно поинтересовался я. – Такая, чтобы со мною справилась?
Кажется, хихикнул он. Или просто заскрипел.
– Или ты считаешь себя, молодой человек, Голиафом? Стражи из таких неучей, как ты, там нет, но там есть Стража Букв. Раз тебя ловили на волосяную петлю, значит, пока не приняли всерьез. Вернее, приняли за того, кто ты есть – за нахального молодого неуча. Все эти уловки не страшнее слепой собаки. Сунь ей в пасть тряпку, чтобы пахло твоими грязными пятками, и она эту тряпку заглотнет. Только это – пока. Здесь правят неучи, но страшные неучи – неучи, которые сумели что-то узнать…
Замолчал он, голову опустил, затих. Ну точно Дон Саладо, когда расстроится! Прямо-таки жалко мне его стало.
– Ты еще здесь? – наконец вздохнул он, головы не поднимая. – Если так хочешь геройствовать – иди! Шифр простой – «гимель» – «бейт» – «гимель»… Что, не понял? Три-два-три! Или старый человек должен еще выходить в коридор на сквозняк и показывать молодому неучу…
Получилось со второго раза. Кажется, вначале я «бейт» с чем-то другим перепутал. Скрипнуло дерево, скрипнули петли…
И тут их не смазывают!
Свечка моя совсем доходила, и я ее брать не стал – от греха. Все и так понятно. Обычный коридор, только дверь с хитринкой. А в коридоре – пусто вначале, затем дверь – справа, и лестница – вниз ведет. Шагнул я – и поморщился. Скрипят половицы! Или плотника позвать забыли?
…А может, и не забыли? Как войдет кто – слышно сразу, особенно если ночью.
Сел я прямо на пол, ноги скрестил, что твой мавр. Задумался.
Вначале казалось, что за дверью этой тайной – чуть ли не спасение. Пройду коридорчиком прямиком к Дону Саладо, потом – на конюшню, где Куло мой скучает…
Теперь понял – глупость это. Ход – для самых своих. А кто тут свои? То-то!
…Про стражу я недаром у деда этого спросил. На самый крайний случай, когда уже выбирать не придется, можно и на прорыв пойти. Стража Букв – дело, видать, серьезное, но кто знает? Ведь я – везучий!
Но пока – рано. И прорываться рано, и коридорчик обследовать этот – тоже рано. Сцапают – запрут, и хорошо, если в комнате, а то и в подвал загнать могут.
…А этот седой, в повязке полосатой, не иначе – колдун. Причем настоящий, такой и в жабу превратить может.
Но ведь не превратил! Видать, и ему тут несладко.
Посидел я, послушал. Тихо кругом – то ли нет никого, то ли двери плотные. И совсем уже было назад собрался…
Словно толкнул кто-то.
В спину.
И – сгинуло все. Словно петля-удавка на шее схлестнулась. Схлестнулась, вперед потянула.
Очнулся уже у двери – той, что направо ведет. От боли очнулся – будто что-то в шею мне впилось. То есть это потом уже я понял, что у двери стою. Темно вокруг, шея болит – а я во что-то твердое упираюсь.
Лбом.
Сперва я Адониса вспомнил – как он с дверью бодался. Потом шею пощупал.
Булавка! Та самая, с камешками синими! Накалилась, кожу печет…
И сразу же – как отпустило.
Фу-ты! Еще бы немного – прободал бы головой дверь… Точно – дверь! Ладонью провел, ручку дверную нащупал. Эге, а тут открыто!
…И еле-еле заметный свет просачивается. То есть не было его еще миг тому, а теперь – появился. Хотел я уже отступление сыграть, чтобы, значит, врассыпную, и – спасайся кто может. Но тут зло меня взяло. В гости ждете? Ну, считайте, дождались!
Толкнул я дверь…
Свечи, свечи – не из сала, Восковые. Не скупятся! Только воск не желтый – черный, Словно сажи подмешали. Огоньки идут звездою, Пять лучей горят по полу. В центре – ложе, покрывало — Хвост павлиний гладью вышит. А на стенах то ли буквы, То ли знаки – паучками По побелке разбежались. В изголовье – как тарелка, Медь горит, и глаз на меди С белой выпуклой глазницей. Ни иконы, ни распятья, Пряный запах, как в таверне… Возле ложа белым камнем, Неподвижная, немая, Их сиятельство стояли, Наготой своей сияя. Замер я, не в силах молвить, Словно вдруг ударил кто-то Белой кожей – по глазам!Одурел я, очумел даже. Стою, глаза на ее сиятельство пялю, а мыслишки всего две: выжгут мне глаза за то, что сеньору маркизу в таком сраме увидел, да еще одна – про кожу. Белая кожа, гладкая, точно у девчонки, да только ненастоящая какая-то. Будто бы и вправду – из камня.
…И не пахнет ничем. А если и пахнет – то воском.
Схватил я мыслишку эту, про воск, за самый хвост и понял – готов. Спятить, в смысле, причем без всякой ворожбы.
Стою – молчу. Не говорить же «Доброй ночи, сеньора!». То есть, может, я бы и ляпнул, не подумав, да на взгляд ее наткнулся. И сразу язык прикусил. Пустой был взгляд, никакой – словно у Адониса-бедняги, когда он веер таскал да шакалом берберийским выл. Страшно так смотрит ее сиятельство, но не на меня, а как бы на дверь.
Насквозь.
Да она же меня не видит. Вот дела!
Закусил я губу, отвел глаза. Не то чтобы глядеть на ее сиятельство неприятно было. Совсем наоборот даже – видная дама, таких встречать не приходилось (без одежи, в смысле). Да только дико это все – стоит голышом посреди свечек черных ее сиятельство Беатриса Мария Селестина Анна, маркиза де Кордова, пустыми глазами светит (и вроде бы не зелеными уже – желтыми), а на стене дрянь всякая, и по стенам – дрянь всякая. И распятия нет!
…Бывают, слыхал я, чудики такие – луньерос, которые от луны дуреют и по крышам ходят. Да тут, видать, без луны обошлось.
Попятился я назад.
– Иди… Скорее… Иди…
Даже рот не раскрыла, губами не шевельнула. Будто слова сами собой в уши воткнулись.
– Иди! Мой… Мой! Словно хлыстом по ушам!
– Мой!
Вперед подалась, руки подняла – медленно так, неспешно.
Оскалилась.
– Скорее…
Мне бы бежать, а я с места сдвинуться не могу. И не потому, что грех уходить. Хороша маркиза, слов нет, но в ту минуту не о прелестях ее думалось. Вроде бы как мертвец зовет. Или старуха древняя, кожу молодую нацепившая. Содрала кожу с кого-то…
…С сеньора Пеньи, к примеру.
А она руки тянет, а на пальцах ногти кровью горят, длинные такие. Чисто упырь!
Пропал, думаю.
А сеньора маркиза шаг делает – меня аж затрясло всего, – но возле свечей горящих, что звездой идут, словно натыкается на что-то. Как будто руки ее в железо ударились. Отшатнулась, зашипела кошкой – и снова ко мне.
И опять назад! Не пускает, видно, что-то.
Эге! Вот оно как, значит!
И тут не знаю уж, что на меня накатило. Может, байки про ведьм да про колдуний мавританских вспомнил – в каждом селении тебе такую байку расскажут. А может, и слова соседа моего – про слепую собаку да про тряпку.
Вынул я из уха серьгу (пропадай – не жалко!), сорвал с головы пару волосин да плюнул на все это дело. Слюной, в смысле.
– Вот я, ваше сиятельство!
И через свечи перебросил – прямо к ногам ее босым. Упала серьга, звякнула чуть слышно.
Н-на!
Тут ее сиятельство и повело. Дернулась, волчком крутанулась…
А когда повернулся уже, за ручку в дверную взялся, ударил в спину вой. Словно дагу мою ей в живот вонзили. И вроде бы слова даже какие-то слышны, а непонятно.
Да я и понимать не пытался. Болтом арбалетным в коридор меня вынесло. Да так, что только у своей двери перекреститься догадался.
А сзади – вой. Даже сквозь доски слышно.
…Когда уже отдышался, когда на кровать повалился, когда все молитвы, какие знал, прочел, странная картинка мне привиделась. Будто сижу я в заведении папаши Молинильо, что на полях Алькудийских, вокруг – парни из Месты в своих лохматых плащах-сайялях, и рассказываю я им все как есть, чего со мною за последние дни случилось. И про старого дона Хорхе, и про платок с семью узлами, и про их сиятельств. Рассказываю, а чернобородые перемигиваются, пальцами у висков крутят, кто-то уже за веревкой побежал, чтобы беднягу Начо Бланко, умом повредившегося, вязать. Живо так представилось!
А мы над Доном Саладо зубы скалили, когда он, калечный, про великанов с людоедами толковал.
Чего же это выходит?
Ясное дело, до утра глаз не сомкнул. Так у окна и просидел. Решил так: в дверь рваться станут (чего ж рваться, не на запоре она), так я сразу – в окошко. А там – будь что будет!
Не рвался никто. Тихо в коридоре было. За дверью, где старик в повязке полосатой, вроде как шепот, а из комнаты сеньора Пеньи – плач, жалобный такой. Не выдержал – в обе двери постучал, но – не открыли. К Адонису я и так войти мог – открыто у него, да только неловко как-то. Видать, совсем парня довели.
…А потом запалил я свечной огарок, ворот рубахи расстегнул да на булавку с камешками синими глаза скосил. Снимать, понятно, не стал – себе дороже. На месте булавка, но вроде как почернела. Потер – снова серебром блестит. Так и не понял, почудилось или вправду.
А у забора дуэнья круги пишет. То есть не круги, а как и в первую ночь: появится – и сгинет. Исчезла и тут же где-то в стороне вынырнула.
В общем, успокоился я только под утро, когда небо белеть начало. И уже спать собрался, как вдруг слышу – топот. Не в доме, хвала Деве Святой, на улице. Всадники – да не один, не два, чуть ли не десяток. Сон, понятно, сам собой пропал, и превратился я в одно большое ухо – растопыренное такое, словно у Дона Саладо. Точно – подъезжают. Куда – не видно, зато слышно – прямиком к воротам. А дуэнья черная уже там, а вот и стража, что на башенках мавританских, голос подала.
А затем – голоса, уже близко, во дворе. Высунул я голову – точно. Конные, у каждого лошадь заводная рядом.
Значит, гости – и не простые. Звон железный издалека слышно. А этот звук спутать мудрено. Ясное дело, с оружием гости. И оружия этого у каждого – полным-полно.
Этого еще не хватало! Уж не Эрмандада ли пожаловала? Правда, шлемов я не заметил, так, может, сняли шлемы?
Эх, зря я в первую ночь из окошка не выпрыгнул!
За стеною – плач негромкий, Словно маленький ребенок Злою нянькою обижен. В коридоре – скрип да шепот, Сквозняком холодным дует, Шелестят под ветром кроны, Голоса доносит ветер Вперемешку с конским ржаньем Видно, гости у конюшни Лошадей по кругу водят. А в ушах, не умолкая, Плещет вой нечеловечий, А в глазах – пылают свечи, Истекают черным воском, И маркиза де Кордова Снова тянет свои руки Прямо к горлу моему!ХОРНАДА XVII. О том, как бежал сеньор Франциско Пенья
К утру вроде как отпустило слегка. То ли из-за солнышка, то ли оттого, что бедняга Адонис плакать перестал – заснул, видать. А может, просто свыкся я. Кому утонуть не суждено? Вот именно, таким пикаро, как я, тем, кто по краешку ходит да на лезвии даги севильяну танцует. А годом раньше, годом позже…
Когда же во дворе оказался, то и вовсе весело сделалось. День прошел, ночь прошла, а я жив! Ну, не славно ли? А там, глядишь, идальго моего увижу, потолкуем о том о сем. В общем, когда мы на дорожке, под старой оливой (высокая такая, выше крыши), нос к носу с ее сиятельством столкнулись, я даже улыбочку изобразил. Добрейший, мол, вам денек, сеньора де Кордова, хорошо ли почивать изволили?
Не ответила. Не увидела. Через меня посмотрела – насквозь.
Эге!
Шагнул я в сторонку, дабы ее сиятельству дорогу не загораживать, глаза потупил слегка, а сам гляжу – не отрываюсь. Ох, не так что-то с маркизой. То есть совсем не так. Во-первых, не узнает никого – ну, точно как сеньор Пенья. Глазами пустыми по сторонам рыщет, губы кривит, словно завыть собирается. Что-нибудь этакое: «О-о-о-о-о! Адони-и-и-с!» Во-вторых, не одна она. И не с беднягой Адонисом, понятно, а с какой-то дамой. Плотной такой, широкоплечей, в черном.
Тут я и ахнул. Да это же дуэнья! Персоной собственной. Жаль, лица разглядеть не успел, только и заметил, что волосы короткие, не женские какие-то. А ступает дуэнья эта черная твердо так, аж гравий трещит, на ногах – туфли-чапины, тяжелые, старинные, такие только у меня дома в Астурии и носят. А ее сиятельство улыбается себе блаженненько, головой крутит – и на руку дуэньи опирается.
И еще показалось, что вроде как постарела сеньора маркиза. Или морщинки легли, или кожа потемнела, серой сделалась.
Ну, это, видать, от ночи бессонной. Спать надо, а не голышом среди свечек выплясывать!
Поглядел я ей вслед и дальше пошел – идальго моего искать. Вокруг дома пробежался – нет его, одних учеников этих, которые с книжками и бородами, встретил (если, конечно, слуг не считать). Я к воротам, а там…
– Эге, парень, да ты, видать, с Берега?
Пятеро… Нет, шестеро даже, рожи – смотреть страшно, кинжалы у пояса, шляпы серые, пастушеские, сапоги высокие, мехом вверх.
Уж не гости ли ночные?
– С Берега и есть, – киваю я с видом невозмутимым. – От Калабрийца. Слыхали, может быть?
Переглянулись рожи, кивнули. Слыхали!
– А мы, стало быть, монтаньес. С Горы, от Риваро Коррехи.
И я о них слышал – о тех, которые с Горы. И о Риваро тоже. Не встречался еще, правда.
– Ты чего, Коста, тоже тут служишь?
Я плечами – дерг. Понимай как знаешь.
– Ну его, маркиза этого! Даже не заплатил. Или мы виноваты, что Бенито Гарсия, дурак старый, попался? Сделали работенку – так плати, не задерживай! А с Гарсией пусть сам разбирается.
Изобразил на лице я сочувствие и дальше пошел. Мне бы удивиться, да за эти дни я напрочь удивляться разучился. А вообще-то говоря, непонятно. С Берегом многие благородные дружат. Кому винцо требуется, кому шелк-бархат, кому кость слоновая (хорошо продается!). А Гора – это же сплошь душегубы-разбойники, Калабриец с ними и дел никогда не имел.
Или их сиятельство в долю вошли – кошели на больших дорогах отбирать?
Ох, и попал же я!
– Нет, нет, Начо, ничего плохого о доме сем, равно как о хозяевах его, сказать не могу. Однако же…
Поглядел я на рыцаря моего, кивнул. В том-то и дело, что «однако же».
Дона Саладо я все-таки нашел. Возле самого дома, на скамеечке каменной. Сидит благородный идальго, голову в шлеме своем мятом опустил. Но не грустный – задумчивый скорее.
– Скажу более, Начо. Нашел я тут понимание, какое редко где встретишь. Не хотелось мне ехать сюда, ибо знаю, что слыву безумцем в глазах людей, истины не разумеющих. Даже дама сердца моего, моя дражайшая супруга…
Вздохнул Дон Саладо, шлемом качнул.
– Здесь же верят мне; и даже лекарь, человек весьма разумный и ученый, сразу же сказал, что не сомневается ни в одном слове моем. Все честно поведал я: что видел, с кем сражался. И о мечте моей, о земле, которую я Терра Граале именую, не умолчал. И что же? Рассудил он, что дана мне свыше способность прозревать нечто, иным людям недоступное.
Не стал я спорить. Видать, у лекаря неведомого своя система имеется: кивать да поддакивать. Не хуже прочих.
– Более того, Начо! – дернул своей мочалкой рыцарь. – Более того! Сказано мне было, что великую пользу могу я принести Кастилии нашей, если сумею дорогу в ту землю открыть. Ибо только таким, как я, сие доступно бывает, иные же вслед пойти смогут.
– Выходит, рыцарь, владетели здешние за державу нашу радеют? – не выдержал я, нашего толстячка вспоминая. Помнится, говорил он, сеньор Рохас, что маркиз де Кордова, пока еще не булькал, первым призвал костры запаливать на Кемадеро да кастильцев на «новых» и «старых» делить. А насчет ее сиятельства у меня и свое мнение сложиться успело.
– Радеют, конечно! – вскинулся Дон Саладо, но тут же сник. – Хотя…
Все-таки неглуп дядька! И улещивают его, похоже, и обхаживают. И все-таки почуял что-то.
А Дон Саладо между тем оглянулся, привстал даже, а затем к самому моему уху склонился:
– Думаю, бежать тебе следует, Начо. И в том бегстве не вижу я стыда, ибо из плена бегут, паче же из темницы. Мне же спокойней будет, и на душу грех не ляжет.
Редко когда меня стыд пробивает – кожа уж больно дубленая. А тут – пробило. Насквозь! Это же кто кого сюда затащил, кто за кого деньги взял?
– Спасибо, – говорю, – сеньор. Да только вместе мы убежим.
Говорю – а сам отворачиваюсь, на него смотреть не хочу. Где уж тут убегать, особенно если вместе.
Вздохнул Дон Саладо, за бороду-мочалку себя дернул:
– Негоже мне бежать, Начо. Надо будет – проложу себе дорогу верным мечом, как истинному рыцарю надлежит!
Ну, что с него взять, с дядьки этого?
Думал – посплю. Дело нужное, особливо ежели ночью не довелось почти. Оно и про запас поспать не во вред, потому как еще одна ночь предстоит. А ночью в доме этом – самая жизнь начинается.
Думал – да не пришлось.
Только в коридор меня завели да замком за спиною щелкнули, услыхал я крик. Страшный такой, отчаянный. Даже не понял сперва, кто это голос подает. Или гостей здешних уже резать начали?
Оказалось – не режут. Сам по себе кричит – сеньор Пенья, Адонис который. На кровать упал, бьется, пена на губах. Отпоил я его водой, подождал, пока затихнет.
Делать-то чего? Лекарей и прочих умников – полон дом, а сюда хоть бы какая собака забежала! Стукнул я в дверь коридорную, затем кулаками забарабанил. Да куда там, даже не кашлянули в ответ. Плюнул, к соседу постучал – тому, что с бородой. И тоже – молчок. Я к стеночке, которая на три буквы («гимель» – «бейт» – «гимель») открывается, – мертво! То ли засов задвинули, то ли бревном подперли.
Помирай, мол, сеньор Адонис, не надобен более.
Выпили – и выбросили!
Долго я рядом с ним сидел, с сеньором Пенья. Оклемался он чуток, в разум пришел, стал чего-то говорить. Да не понять только – тихо очень. Одно лишь уразумел: не хочу, мол, тут умирать. Грешно без исповеди да еще в стенах этих.
Стал я его, конечно, успокаивать, а самого злоба разбирает. Если уж не лекаря, так хоть попа привели бы! Или тут одни мавры живут? Так даже мавры к нашим, которые в Алжир попали, в рабство тамошнее, братьев-францисканцев пускают, потому как люди – не собаки все-таки!
Ну а здешние, видать, похуже собак.
Наконец заснул сеньор Пенья, укрыл я его да и к себе пошел – спать. Только, как стемнело, глаза и открыл. Плеснул в лицо водой – и на подоконник. Свежо, мандарины пахнут – и думается лучше. Тут бы, конечно, толстячок более меня сгодился, но делать нечего – приходится самому. Вроде как ниточки сплетаешь – одна к одной, чтобы веревочка получилась.
…А во дворе – непонятно что. Будто бы кричит кто-то, и даже не один. Глухо так, словно под землей. Или и вправду под землей?
В общем, стал я ниточки скручивать, что за эти дни к пальцам пристали. Первая не ниточка даже – петелька волосяная. А к ней в привесок сеньор Адонис, да свечки черные, да серьга моя. И все – узелком, а в узелке том – ее сиятельство. Теперь даже я мог бы сеньору лисенсиату растолковать, отчего это она на полвека моложе самой себя выглядит. Одно неясно – что меня уберегло? То ли булавка с камешками синими, то ли совет того, в повязке полосатой, то ли все вместе.
…А под окнами – перемена. Дуэнья появилась, да не одна, а с мешком. Длинный такой мешок – но легкий. На одном ее плече лежит. Подошла, под дерево мешок скинула…
С одним узелком ясно, а вот с другим хуже. Первая ниточка – сеньор маркиз, его булькающее сиятельство. Значит, всеми делами супруга его, Галатея которая, вертит? И королеве нашей пишет, и в совете Ее Высочества выступает? Так знали бы уже. Или его сиятельство недавно в уме повредился?
…А мешков-то уже два! Скинула дуэнья груз с плеча – и обратно пошла. Видать, за третьим. Жаль, не разглядеть, под деревьями лежат, а на дворе темно уже совсем…
Затем наши с Доном Саладо ниточки. Если мною думали Адониса-беднягу заменить, то идальго калечный им зачем? Ведь ясно, неспроста лекарь тот с ним лясы точит. Дон Хорхе вроде как в игру старинную играл, этот же о здоровье выспрашивает. А все к одному идет. Да только к чему? Не верить же байкам про мир неведомый, только моему рыцарю и доступный? Впрочем, я ведь и сам чуть было не поверил, когда по мечу пощербленному пальцем провел.
…Четыре мешка! Или она репу для кухни таскает? Много же тут репы едят!…
Теперь еще парни с Горы. Зачем их сиятельствам разбойнички? Не вяжется ниточка. А замок этот, Анкора? Вроде и не к месту, но ведь никто его не видел, а мы с Доном Саладо и с толстячком – совсем даже наоборот. Причем сеньора Новерадо именно идальго мой и встретил! Тот еще удивлялся очень.
…Шесть мешков!
В общем, не сплелась веревочка. И не скажешь, плохо ли это. Как бы на такой веревочке повеситься бы не пришлось!
Слез я с подоконника, на кровать рухнул, только собрался руки за голову закинуть…
Крик! Совсем рядом, громкий такой. То ли «А-а-а-а!», то ли «О-о-о-о-о!». Не в коридоре – под окном.
Не увидишь – тень на тени, Лунный свет закрыли кроны. Только крик – такой знакомый, И как будто легкий шелест. Хлопнул я по лбу ладонью: Думать надо, глупый Начо! В коридор, к соседней двери — Пусто в комнате у Пеньи. Табуретка вверх ногами, Книги – горкой, а окошко… Значит, верно говорил он, Что на воле гибель слаще! Понял я – ругаться поздно, Поздно связывать беднягу. Свистнул ветер – и подошвы По траве скользнули влажной. А в саду гуляют тени, Шорох, шепот, шелест листьев. Оглянулся – вдруг увижу? Лунный лик блеснул сквозь ветви. Не увидел я – услышал. И упало сердце – поздно!Споткнулся я о труп. Споткнулся – и почему-то сразу понял, что попалось под ноги. Я ведь не бежал – летел, думал, успею. Хорошо еще, кустов в саду мало, можно прямо между деревьями. Вот я и рванул – к воротам, мимо тех мешков, что дуэнья в черном на плече таскала.
И – споткнулся. Кажется, о голову. Мотнулась голова, дернулась.
Даже не взглянул – до того страшно стало. Но когда нога зацепилась за чей-то сапог…
…Все шестеро были тут – те, кого я днем у ворот встретил, бравые парни с Горы. Недолго довелось им его сиятельство ругать! Только зря они жаловались, будто не рассчитались с ними. Вот он, расчет. Все шестеро, один рядом с другим!
Глотнул воздух – не глотается. Выдохнул, что осталось – и к воротам.
Но все равно – не успел.
Седьмой труп возле самой стены валялся. Недалеко убежал бедолага Адонис! Да и то, как только сил хватило из окошка выпрыгнуть и сюда добежать? Очень, видать, не хотелось в доме их сиятельств Господу да Деве Святой душу отдавать. А что готовенький он, я еще на бегу понял, потому как не бывает, чтобы у живого – голова на сторону, подбородком чуть ли не к лопаткам. Так и лежал – на животе, а лицо вверх смотрело.
Хотел я к нему броситься, поглядеть, вдруг чудо какое, жив еще. Да только словно к месту меня пригвоздило. Семь холодненьких уже тут, восьмого не хватает. А восьмым-то я буду, больше некому.
Крутнулся я на месте…
Вот тут меня и накрыли!
Потом вспоминал – вспомнить не мог. Только пятна какие-то. Кажется, меня сразу по башке огрели, да я слегка уклонился, потому и на ногах устоял. А потом словно камень на горло упал.
…И лицо. Дуэньи этой в черном. Спокойное такое, как у младенца. На губах улыбка, глаза насквозь смотрят – будто меня, Белого Начо, уж и на свете нет. Да, в общем, так оно и было.
– И почему из-за какого-то наглого неуча достойные люди должны тратить свое время, тратить Нестираемые Имена, спасая этого мальчишку от его собственной глупости, достойной глупости самого Амнуэля, будь он неладен?
Седая борода, седые волосы под полосатым платком. А может, это просто лунный свет по комнате пляшет. Скачут пылинки в нестойком серебре. Вверх-вниз, вверх-вниз…
– Верно говорят мудрые: оставь дурака идти путем его, пусть его ведет осел, ибо они достойны друг друга…
На лбу – холод. Не тряпка мокрая, не льда кусок – просто холод. Словно лунный свет загустел, на голову пролился. А горло – нет горла, голова вроде как отдельно лежит, и я – отдельно. Будто на плахе побывал.
А пылинки – вверх-вниз, вверх-вниз…
– Спасибо, сеньор, – хриплю. Или мне только кажется? Да и кого благодарить? Лунный свет?
– И он смеет еще говорить «спасибо», бездарный неуч, вообразивший себя Голиафом! Ты недостоин не только Имени, что я послал тебе вслед, но и той ямы, в которую тебя бы уже давно закопали…
А лунный свет снова идет в пляс, вновь надо мною склоняется седая борода. Выпуклый темный глаз смотрит равнодушно, с насмешкой.
– Что… Что это было, сеньор? – дергаю губами. Беззвучно, бессильно. – Эта… Дуэнья которая?
Дергаются пылинки от его смеха, пляшут в лунных лучах.
– Дуэнья? Слепому не увидеть, неучу – не понять. Да не твое это дело, наглый мальчишка, посмевший красть мое время. Ты – безоружный болван, рискнувший выйти на поле битвы, наглец, посмевший сунуть свой глупый нос в пещеру, где молится сам ребе Пинхас!…
Вверх-вниз, вверх-вниз пылинки. И вот уже ничего не увидеть, свет гаснет, и только где-то далеко, на краю мира, за морем-океаном, маленькими капельками падают тихие слова:
– Если не поймешь, не я буду виноват, а ты… Возьми земли из-под камней синагоги или глину, принесенную водой с гор, не тронутую еще грешными руками. Позови с собою двух помощников, коим ведомы Нестираемые Имена. И молитесь вместе семь дней, и не говорите друг с другом, после же омойтесь, в чистое облачитесь и с чтением молитв ступайте вон из города…
Слова-капельки падают, не застревая в памяти, уносятся куда-то прочь.
– Вылепи же из глины образ человека высотой в полтора локтя, положи его на спину, затем обожди до полуночи, после чего потерпи еще четыре часа. Когда же срок настанет, пусть каждый из вас троих воплотит в себя один из элементов, из которых наш мир состоит: огонь, воду и воздух; землей же будет тот, кто лежит на спине. И пусть один твой помощник обойдет вокруг слепленного семь раз, повторяя нужные Имена, если известны они ему. И станет тот, кто слеплен, сухим, после же горячим и, наконец, раскалится докрасна…
Голос из-за моря-океана то стихает до неясного шепота, то приближается, а я все никак не могу понять, не могу догадаться…
– Затем пусть твой второй помощник проделает то же, и станет слепленное влажным, и вырастут ногти на пальцах, и покроют голову волосы. Следом же обойди созданное тобой сам, после чего положи ему под язык пергаментный свиток, именуемый «шем», на котором начертано Имя Жизни. После чего поклонитесь все трое и произнесите нужные слова из книги Берейшит, если знаете их. Созданный же тобой пусть встанет и откроет глаза свои. Тогда дай ему имя, и пусть откликается он на него, и служит тебе верно…
И снова – ничего не видать, даже голос куда-то пропал. Жаль, я ничего не понимаю! Разве можно сделать человека из глины? Разве глина живет?
– Когда же вырастет твой слуга и станет ростом со взрослого, будет он делать для тебя, что требуется, и на все способным окажется, недоступна ему будет лишь речь, ибо это – дар Святого, благословен Он. Если же хочешь сотворить сторожа, невидимого для злодеев, надень на шею слуге своему ладанку из оленьей кожи с известным тебе Именем. Но не забывай вовремя вынуть изо рта создания этого пергамент «шем», ибо в ночь с пятницы на субботу сила того, кто слеплен из глины, возрастает неимоверно, и не будет он слушаться тебя. Пусть пребудет слуга твой весь шаббат в праздности…
Тьма накатывает, шепчущая тьма ночного сада, Сада Смерти, где сгинула глупая башка Начо Бланко, пикаро с Берега, которому уже никогда не стать Белым Идальго, не ступить на Терра Граале, Землю Чаши Господней, что за морем-океаном, куда может добраться только несчастный калечный рыцарь, называющий себя нелепым именем Дон Саладо.
…А может, и не было ничего? Может, я погиб еще тогда, возле иного сада, такого же Сада Смерти, где канарские псы разорвали моего дружка Хуанито? Я просто не успел добежать до старой часовни, не успел увидеть Ее, прежде чем жадные клыки сомкнулись на горле?
Если ходишь ты по краю, Если лезвие кинжала Вместо камня под ногами, Когда пляшешь под веревкой, Прежде чем сплясать в петельке, То узнать, конечно, хочешь, Какова у Смерти морда, Что там ждет тебя за краем? У попов своя есть байка, Но пикаро любопытен, Если пальцем не пощупать, То увидеть краем глаза, Чтобы после не бояться. Вот и я чуток увидел, Вот и мне понюхать дали. Но глаза во тьме не смотрят, И ничем уже не пахнет Темнота.ХОРНАДА XVIII. О том, как разговаривали со мною двое – полуживой и мертвый
Ни дня, ни ночи.
Вроде как кисель серый вокруг, ни увидеть ничего, ни руки поднять – вязнет рука. И не поймешь, сколько времени – то ли Страшный суд уже настал, то ли ночь эта проклятая еще тянется. Будто бы в ампольетах, что на Небесах время отсчитывают, песок кончился.
Помер я, что ли? А ежели помер, отчего вилы в бок не втыкают да в котел не волокут? Грехов на мне висит достаточно, к тому еще причаститься не успел, исповедаться…
Вспомнил я о вилах, на которые таких, как я, нанизывать полагается, и обрадовался даже. Потому как думать могу, мозгой шевелить. Значит, не помер! А раз не помер и мозги шевелятся, то отчего рукой не попробовать?
Но до руки дело не дошло. Свет я увидел – далекий такой, желтоватый. Потом по ушам ударило – словами.
Громкие такие слова, а не понять. Не по-кастильски и не по-мавритански даже.
– Вс-стань!
Даже сообразить не успел – болью всего дернуло. Потому как вновь руки-ноги вкупе со всем прочим ощутил. Шея ноет, грудь словно меж жерновов побывала, в висках кровь молоточками звенит.
Но – жив. И не просто жив – стою. А свет этот желтый все ближе.
– Глаза! Открой глаза!
Открыл. Открыл, зажмурился, снова открыл. Стена передо мною каменная, на стене факел потрескивает. Вот, значит, откуда свет!
– С-смотри на меня!
Да только я уже в себя пришел. Кажется, тут приказы отдавать любят! А у меня насчет приказов плохо – слушаться их, в смысле. Потому я сперва глаза наверх скосил, затем в сторону…
Вроде как подвал – или погреб. Стены камня темного, пол тоже каменный, неровный, рядом скамья колченогая (не иначе на ней я и валялся). А передо мною…
– Мне с-следовало поднять тебя мертвым, наглец! Глаза на меня, говорю!
Черная борода, глаза темные, щеки пухлые…
– Ты меня с-слышишь? Игнас-сио Гевара, ты меня с-слышишь?
Хотел я сказать, что покуда глухотой страдать не приходилось, да рот не раскрылся. То есть как раз открылся, а челюсть так и вовсе вниз поехала. Отвисла, в смысле. Потому как узнал я его, чернобородого.
– Вижу, что с-слышишь. С-садись.
Бухнулся я на скамью, а сам все челюсть пытаюсь на место вернуть. То ли глазам своим не верить, то ли ушам. То ли вообще ничему верить уже нельзя.
Он и есть! Только в прошлый раз на голове его шляпа была черная – с жемчужиной. И лицо румяным казалось.
И не булькает уже. Зато сипит – на «сы» вроде как с-спотыкается.
– С-сейчас мне нужно, чтобы ты с-слушал очень внимательно, Игнас-сио Гевара. Очень внимательно!
Его сиятельство Федерико Гарсиласио де Кордова заложил руки за спину, чуть наклонил голову, поглядел внимательно. Дрогнули яркие губы среди черной бороды.
Вот тебе и «буль-буль»!
– Для тебя ес-сть много дорог, Игнас-сио Гевара. Но вс-се они ведут к с-смерти. Вс-се – кроме одной. И по этой дороге тебе придетс-ся идти с-со мною. Это яс-сно? Отвечай!
На такие вопросы только один ответ и имеется. Да что-то на меня накатило. Или злость, или даже чего хуже. Встал я, шеей, от боли ноющей, повел, на факел чадящий зачем-то взглянул.
– Помирать никому неохота, ваше сиятельство, это точно! А душу губить – тем паче. Вы же вроде как католик, сеньор. Были то есть.
Думал – заорет. Или чего хуже. Кликнет своих мавров и растащат раба божьего по косточкам. Нет, не заорал. Улыбнулся – снисходительно этак.
– Конечно! Мужланы с-сиволапые боятс-ся ада… А с-скажи, Игнас-сио, творить инкуба – разве не грех? Первый раз вижу богобоязненного колдуна!
Услыхал я такое – даже о шее своей забыл. Это кто же тут колдун? Сам он, его сиятельство, это слово и есть. Колдун то есть.
– Мне с-следовало брос-сить тебя подыхать, как с-со-баку. Ты, негодяй, погубил мою с-супругу, с-сеньору Беатрис-су! Не знаю, удас-стся ли ее вернуть… Я не могу одобрить то, что она делает, но ты пос-ступил с-слишком жесстоко. И подло!
Моргнул я, его слова переваривая. Это чего же я сделал? Не тогда ли, когда серьгу свою за свечки кинул? Эге, кажется, собака и вправду тряпку заглотнула!
– А вы бы у сеньора Пеньи спросили, ваше сиятельство, – совсем осмелел я. – Он бы нас и рассудил, чего хорошо, а чего не очень. Вот, например, жизнь по капельке из человека выпивать, чтобы самой жить подольше, это как?
Яркие губы вновь дернулись, злым огнем вспыхнули глаза.
– А ты непрос-стой парень, Игнас-сио Гевара! С-спрос-сить хочешь? С-спрос-сим! Но с-сначала – выс-слушай и не вздумай больше с-спорить.
Уже не сипит – шипит!
Прошелся он по комнате, руки зачем-то потер, отвернулся, снова на меня поглядел.
– Я не колдун, Игнас-сио! Я – добрый католик и верный подданный кас-стильской короны. Для других – это с-слова, для меня – жизнь. Мои предки дралис-сь с маврами еще при С-сиде, еще при с-старом короле Родриго. Я тоже воевал, но с-сейчас требуетс-ся иное. Меча мало, нужна мудрость. А чтобы эту мудрос-сть пос-стичь, должны пройти многие годы. Поэтому я и живу долго. Я прос-сто разделил свою жизнь надвое…
Сглотнул я, такое слушая. А говорит – не колдун!
– Днем я – бес-смысленный труп, зато мне ос-ста-лись ночи – долгие ночи, которые я провожу, пос-стигая истину. Моя с-супруга, маркиза де Кордова… Ты уже и с-сам вс-се понял. Она не решилас-сь на такое, и у нее теперь с-своя с-судьба. Я не с-судья ей, и тем более не с-судья ты, Игнас-сио! С-сейчас – из-за тебя – ее жизнь вытекает из нее, и не по капле, увы… То, что ты с-создал, выпивает ее всю.
Поглядел он на меня – страшно так. Да и мне худо сделалось. Но только чего мне делать-то было? За свечки ступить, чтобы стать таким, как бедолага Адонис?
– Теперь – главное. Ты готов выс-слушать?
– Чего уж там? Готов, ваше сиятельство, – вздохнул я, сообразить пытаясь. Не иначе «главное» – это моя башка на колу.
– Есть с-сила вещей, Игнас-сио. С-сила, которая ведет, нет, тащит нас-с вперед. А впереди нашу Кас-стилию не ждет ничего хорошего. Мы с-слишком много отдали с-самих с-себя, воюя с-с маврами. Мы бедны, у нас мало плодородной земли, мы отвыкли работать. Двадцать лет назад Португалия уже пыталас-сь захватить нашу с-страну. С-скоро португальские каравеллы дос-стигнут Индии, и тогда наша гибель – лишь вопрос-с времени. В Европе нам не помогут, там возрождаете-ся С-священная империя, лет через тридцать-с-сорок она поглотит государства Италии и, возможно, королевс-ство Французс-ское. А ведь есть еще турки, которые вот-вот придут в Алжир. Гранада – это пос-следнее, что мы ус-спеем завоевать, мы без с-сил, воюем на пос-следнем вздохе. Знаешь, Игнас-сио, наша Кас-стилия напоминает мне сеньора Кихаду, твоего знакомого. Ис-скалеченная, нес-счастная, без гроша в кошеле, с-со с-старым дедовс-ским мечом, которым уже никого не напугаешь…
Слушал я его сиятельство, и что-то непонятное в душе копошиться начало. Уж больно убедительно сеньор маркиз говорил. Не он первый, конечно. Всякого наслушаться довелось, пока по морю плавал. Итальяшки на нас зубы скалили, французишки посмеивались, мавры… Ну, мавры – дело понятное. И что бедны мы, как крысы церковные, – тоже ясно. Зачем нам с Калабрийцем все из-за моря таскать? Потому что своего нет, зачем же еще?
– Это с-сила вещей. Но ес-сть иная С-сила, Игнас-сио! И эта С-сила поможет нашей нес-счас-стной с-стра-не. Ради этого я отдал с-свою жизнь и, если потребуетс-ся, отдам любую жизнь. Любую!
Очнулся я от слов этих. Красиво говорить начинал его сиятельство! А чем закончил? Все о том же – о ведовстве. Это чью же он жизнь отдавать собрался? Не мою ли?
– Я не имею в виду колдовс-ство, Игнас-сио! – усмехнулся он в черную бороду, а мне вновь худо сделалось. Или его сиятельство мысли подслушивать горазд?
– Больше с-ста лет назад двум очень умным людям – одному иудею и одному египтянину – удалос-сь разгадать тайну Бога. Иудея звали Моше де-Лион, египтянина – ибн-Араби Афлатун. Понимаешь, Игнас-сио? Раньше мы могли только читать и толковать его с-слова, теперь же можем видеть нас-сквозь, через вс-се миры. Видеть и зас-ставить вс-се с-силы мира с-служить нам.
– Чего-то непонятно, – не выдержал я. – А как же папа римский, ваше сиятельство? Ему вроде как ключи святой Петр завещал!
Вздрогнул я от его смеха.
– Католики побоялис-сь с-сделать пос-следний шаг, Игнас-сио! Нынешний папа торгует индульгенциями и обкладывает податями римс-ских шлюх. Да, может, оно и к лучшему. Получи Рим эту С-силу, мы бы с-сделалис-сь жалкой провинцией в новой Римс-ской империи. Поэтому надо с-спешить, чтобы нас-с не опередили, чтобы С-сила Букв пос-служила Кас-стилии!
Сила Букв – а ведь знакомое что-то!
– Погодите, ваше сиятельство, – не сдавался я. – Ежели иудеи с арабами эту Силу Букв заимели, отчего сейчас они всем миром Божиим не владеют?
– А ты неглуп, Игнас-сио Гевара! – дрогнули красные губы. – Иудеи прос-сто не ус-спели. У них, как и у нас-с, не хватило с-смелос-сти, к тому же их раввины не умнее наших попов. Пока они с-спорили, удалос-сь принять меры – и в Кас-стилии, и во вс-сей Европе. С-самые решительные, те, кто был готов дейс-ствовать, погибли, а ос-стальные до с-сих пор тряс-сут бородами и с-спорят о ко-личес-стве С-сефирот и Оламот, а также о значении буквы «Вав»…
…И это знакомо!
– К тому же иудеи ждут с-своего Мешиаха, а это нам очень на руку. Арабы… Там учение великого ибн-Араби попало к грязным с-суфиям, которые не толковее уличных пляс-сунов. Но вс-се же они с-сумели ос-сновать с-свою с-сильную державу. К с-счас-стью, она далеко, в Перс-сии.
Бедная моя башка! Мало того, что чуть с плеч не скатилась, до сих пор ноет, так еще такую заумь слушать. Да какое мне дело до этой самой Персии? Ковры там, конечно, загляденье…
– Пока – довольно. С-сейчас-с я тебе кое-что покажу. Это поможет тебе правильнее ответить на мои вопрос-сы.
Хлопнул в ладоши, раскрылась дверь, железом обитая. А вот и мавры. Давно не виделись!
Думал – свяжут, а то и в цепи закуют. Обошлось, просто за локти взяли – не повернуться. А коридор длинный, слева и справа факелы трещат, смолой на пол капают, а вот и лестница под ногами побежала.
Глубоко спускаться! Словно и вправду – в ад.
Фу-ты, мыслишки!
Но – привели, перед дверью поставили, сеньор де Кордова связку ключей из-за пояса достал…
Комната – но побольше, вроде как зал целый. Известка белая по стенам, а по известке краской черной – знакомое что-то.
…Уж не в комнате ли ее сиятельства значки я такие видел?
У стенки, той, что справа, – занавес бархату синего, почти как на представлении у хугларов. Свечей черных, слава Господу, нет – факелы горят.
Повертел я шеей (ой, ноет!), огляделся. Дальше-то чего будет?
– Подведите его. Ближе.
Думал, к его сиятельству ближе. Оказалось, к занавесу. Подвели меня мавры, тряхнули слегка, отпустили, а сами-к двери, быстро так, чуть ли не бегом. Не иначе даже головорезам здешним не по себе стало.
А его сиятельство засов на двери задвинул, на каблуках крутнулся – и снова улыбается. Недобро так, со значением.
– Ты, наверно, думаешь, Игнас-сио, почему это я, первый гранд Кас-стилии, перед такой с-сошкой, как ты, рас-спинаюс-сь? С-скоро поймешь, но с-сначала с-скажу о важном – куда более важном, чем твоя никчемная жизнь.
Облизнул я губы – пересохли! Это ему, его сиятельству, моя жизнь никчемной кажется. У меня же на сей счет совсем другое мнение…
– Чтобы помочь… Нет, чтобы с-спас-сти нашу Кас-стилию, чтобы с-сделать ее первой державой мира, нужна С-сила. И я знаю, где ее взять. Мы очис-стим учение Моше де-Лиона и ибн-Араби от ненужной чепухи, ос-ставим главное и единс-ственное – с-связь с-с Творцом, возможнос-сть говорить с-с Ним и прос-сить Его. Многое уже с-сделано, но работы ос-сталос-сь еще на долгие годы. Мне помогают – по доброй воле и… не очень по доброй. Моим учителем был один с-старый иудей, я с-стащил его прямо с-с кос-стра. Звали его Ицхак бен-Иегуда, или Одноглазый Ицхак. Когда он умирал, то вс-се жаловалс-ся, будто душа его не найдет покоя, потому что он из с-страха поде-лилс-ся с-со мною С-сокровенным. Раньше надо было жалеть! Говорят, его призрак до с-сих пор ходит по дому. Не видел, но в комнате, где он жил, и в с-самом деле почему-то пахнет чес-сноком. С-смешно! Что-о-о?!
– А теперь – гляди!
Отдернулся занавес. Отдернулся, задрожал… Дернуло меня – словно петлей-удавкой за шею. Прикрыл я глаза…
– С-смотри, с-смотри!
…Эх, не зря я о голове подумал – которая на шесте торчит.
Кровь на шее – черной коркой, Желтый срез – кости обрубок. Вместо тела крюк железный (Рядом тоже крюк пустует, Не иначе – ждет кого-то). На лице – как будто масло, На пол капает, стекает. Рот открыт, свисает челюсть, Меж зубов язык чернеет, Мертвый взгляд – недвижный, страшный Из глазниц полуоткрытых. (Есть примета – даже медью Не закрыть глаза такому. Все равно глядеть он будет, Чтобы высмотреть убийцу.) Плохо жил Франциско Пенья, Плохо жил и скверно помер, Чтобы тут навек остаться — Головою на стене.Перекрестился я, «Pater noster» зашептал. Не по-людски это все-таки…
– Узнал? Узнал, с-спрашиваю?
Улыбнулся его сиятельство, белые зубы оскалил. Страшно так, словно и сам без шеи остался – с одной головою отрубленной.
– Узнал, вижу. А пус-стой крюк видел? Догадайс-ся, для кого он?
Да чего уж тут гадать?
– Не захочешь с-служить мне живым, пос-служишь мертвым. Мертвые тоже многое умеют. С-смотри!
Достал его сиятельство из-за пояса перчатки тонкой кожи, потом вновь за пояс полез. Глядь – а в руках пластинка золотая.
– Когда-то таких, как твой дружок, называли «терафим». Терафимы были еще в храме царя С-соломона. Неглуп был, иудей, недаром арабы его повелителем джиннов с-считают. Ты, кажетс-ся, хотел поговорить с-с с-сеньо-ром Пеньей? Ну, поговори!
Куда уж там говорить! Язык не движется – к гортани примерз. Да и с кем говорить? С головою мертвой?
А его сиятельство поближе к крюку подходит, морщится – брезгливо этак, за челюсть отвисшую берется. А вот и пластинка – во рту уже. У головы во рту – под языком черным.
Да ведь и об этом слышать доводилось! «…Положи ему под язык пергаментный свиток, именуемый „шем“, на котором начертано Имя Жизни…» Только не свиток тут – пластинка золотая.
Дрогнули мертвые веки, шевельнулись белые губы…
– С-спрашивай!
Помотал я башкой, отшатнулся, лопатками стену нащупал.
– Тогда с-спрошу я. Тот, кто пришел, ответь! Что нужно Кас-стилии нашей, дабы победила она врагов и вознес-слас-сь выше вс-сех держав в мире?
Шевельнулся черный язык, дрогнул…
– Ола! Ола!
Хоть и страшно мне стало до полного помутнения, но все-таки понял: не его голос, не Адониса-бедолаги. Другой совсем – хриплый, каркающий. Словно вместо сеньора Пеньи иной кто голос подает.
…А ведь нетрудно догадаться – кто!
А его сиятельство на меня поглядел, краешком рта скривился, и снова – к терафиму этому.
– А почему? Почему, отвечай!
– Ола насытит Малахов наказания, и свяжет их, и пошлет в иные края. Ола! Ола!
– А мне чего делать? – заорал я во всю глотку. – Чего делать-то? Не хочу тут! Не хочу помирать!
– Кебаль, – шевельнулись белые губы. – Проси кебаля. Уходи с ним. Уходи…
– Молчи!
Дернул сеньор де Кордова рукой, спрятал за пояс пластинку золотую.
…Отвисла челюсть, язык черный меж губ свесился. А его сиятельство перчатки снял, на пол каменный бросил.
– Вот так, Игнас-сио. Второй крюк – для тебя. Понял?
Чего уж тут не понять?
Хорошо, хоть не связали. И так радостей полно – сыро, камень вокруг, факел догорел, чад в воздухе стоит. Ни окошка, ни щели даже. А подвальчик – с гроб величиной, полтора шага туда, полтора – обратно. И скамейка – для мебели.
Сел я на эту скамейку, башку свою непутевую руками обхватил…
Ведь что плохо? Все плохо! Чего угодно в жизни видел, всякой дряни нахлебался. И голодал, и лупили без жалости, и под петлей стоять приходилось. Обвык как-то. Не то чтобы совсем (с петлей свыкнуться – поди попробуй!), но задубела кожа, не проколешь, не укусишь даже. А тут – и вправду задело, до самых печенок.
А я еще над Доном Саладо, бедным моим рыцарем, посмеивался. Да он первый мудрец по сравнению с этими сиятельствами, будь они неладны! Ведь ясно – спятили оба. И неизвестно, кто хуже – сеньора маркиза или супруг ее булькающий? Впрочем, и это понятно – оба хуже. А с теми, кто спятил, – какой разговор? Отрежут башку и на крюк повесят. Как бишь этот седой, в повязке полосатой, говорил? Неучи, мол, тут правят, но неучи страшные, те, что чего-то узнать сумели.
…А все-таки не убили меня. Жив Начо! А если жив…
Кстати, а почему, собственно, не убили? Слуга ему, его сиятельству, требуется? Ой, нет! Слуге бы он про Кастилию да про иудеев с египтянами не выкладывал. А мне сказал – не побоялся, потому как знает – не выйти рабу божьему Игнасио отсюда.
Но все-таки я им нужен! Да только зачем, понять бы. Или потому, что мы с Доном Саладо вроде как вместе? А он, идальго доблестный, на что булькающему этому сдался? Может, его сиятельство вправду думает землю, что за морем-океаном, отыскать? Так мы ему зачем? Купил бы каракку, нанял шкипера…
Эх, жаль, что не знаю я, где тот сеньор Кебальо, о котором терафим мне сказал! Послать бы весточку, может, и помог бы.
Вывел!
Сверху камень, снизу камень, Темнота, тошнит от чада. А в глазах – башка на стенке И железный крюк, что рядом. Я зажмурился покрепче, Прогоняя страх и одурь, Не убили – есть надежда, Если жив еще, не помер. Лучше вспомню, как по морю Мчатся белые барашки, Как летит шебека наша Под косыми парусами. Ветер в скулу, чайки рядом, За кормой – корсар алжирский, И смеется Калабриец: «Погуляем нынче, Бланко, Вспорем брюхо сарацинам! Раз еще мы не пропали — И сейчас не пропадем!»ХОРНАДА XIX. О том, как Дон Саладо скорбел о погибели рыцарства
– Поистине, Начо, невозможно найти должных слов, дабы описать радость мою, что жив ты и что вновь я тебя вижу!
Да какие уж тут слова? Схватил я идальго моего за плечи, тряхнул, снова тряхнул, по спине хлопнул. А у самого – бес знает что в глазах. Неужто плачу? Отвернулся я, чтобы его не смущать – да и себя тоже.
В саду мы встретились, все на той же скамейке каменной. Ввек бы нам не увидеться, но рыцарь молодцом оказался. Уперся, что Куло ушастый: подавайте, мол, эскудеро моего, иначе ни есть не стану, ни пить. Болен – к больному ведите, даже чума у него если.
Вот молодец дядька!
Конечно, не одни мы тут. Слева мавры, справа мавры, на нас поглядывают, зубы свои мерзкие скалят. Но все-таки!
– Велели мне не расспрашивать тебя ни о чем, – продолжал идальго, – да и самому от рассказа воздержаться, ибо мнится лекарю, что нам двоим сие вредно будет.
– И мне велели, – усмехнулся я, все еще глазам своим не веря. – Дайте-ка, рыцарь, погляжу я на вас!
А посмотреть и вправду было на что. Из всего прежнего остался на Доне Саладо только шлем его мятый. Ну, это я и раньше видел, зато теперь на носу у моего идальго окуляры появились со стеклышками толстенными, чуть ли не в палец каждое. А в придачу к ним – книжка, большая, как сундук. Еле-еле на коленях его худых уместилась.
– Экий вы стали, сеньор, – хмыкнул я. – Никак в Саламанку собрались, в университет тамошний?
Смутился дядька, по скамейке заерзал.
– И верно, Начо, негоже рыцарю странствующему окуляры цеплять, однако же счел я сие возможным ради книги этой, прочесть которую за истинное счастье почел.
– И что за книжка такая? – подхватил я тут же.
Думал я, в погребе проклятом сидючи, что, коль встречу идальго моего, тут же все ему расскажу. Ведь ясно – не только моей башке беда грозит, но и его тоже. Но как только увидел его, Дона Саладо, решил – не стану. Что толку? Дядька неглупый, сам уже что-то понял. А лишние страхи ему ни к чему. Лучше уж о книге поговорить.
…Да и что за вид у меня будет? Дон Саладо мне про великанов с драконами рассказывал, а я ему про дуэнью глиняную с пергаментом под языком и про голову на крюке. Еще решит, что спятил я!
– А помнишь ли ты, Начо, – с важным видом возговорил рыцарь, палец худой вверх поднимая, – как познакомились мы со спутником нашим, высокоученым сеньором Рохасом? Был между нами спор на дворе постоялом, что «Император Трапезундский» именуется…
– Именовался, – возразил я. – Угольки там сейчас. Черные!
– И верно, – кивнул мятый шлем. – Говорили мы тогда о рыцарстве, и вспомнил сеньор Рохас некую книгу, именуемую «Смерть Артуро», написанную англичанином сеньором Мэлори. И будто бы перевели книгу эту на кастильское наречие и напечатали ее способом книжного тиснения в городе Мадриде…
– Неужто она? – подивился я.
– Истинно так! – подтвердил Дон Саладо не без гордости. – Нашлась она в доме этом, и дали мне ее, и даже окуляры подарили…
– Лекарь подарил? – поинтересовался я.
Ох, понял я, что за лекарь рыцаря моего пользует! Благородного виду лекарь – и только по ночам приходит…Занят он днем – булькает.
– Верно, Начо, – согласился Дон Саладо. – И поскольку провожу я дни свои в непривычной праздности, то решил я провести время с великой пользой. И хоть не успел я прочитать ее всю, но просмотрел немало, особенно же начало и конец. Веришь ли, Начо? Написал эту книгу сеньор Мэлори, будучи в узилище, может, оттого и столь грустна она…
Вздохнул рыцарь – невесело так. То ли о неведомом сеньоре Мэлори сожалея, то ли о нас, грешных.
– И понял я, Начо, что в чем-то прав оказался спутник наш, сеньор Рохас. Видать, и вправду гибнет в мире этом славное рыцарство, а может, и погибло уже. И не в бомбардах дело тут, не в аркебузах и кулевринах. Сгинули обычаи благородные, и вежество, и обхождение, главное же – нравы добрые, вере христианской преданность. А без них – зачем же нужны мы?
И вновь вздохнул Дон Саладо, книжку раскрыл, принялся страницы листать.
– Послушай, Начо! Описывается тут прегорестная кончина благородного короля Артуро, смертельно раненного – увы! – своим собственным сыном. И вот отнесли славного Артуро в некую часовню у моря, и услышали вдруг крики на поле, где только что окончилась кровавая битва…
Наклонился мой идальго, окулярами чуть ли не самой страницы коснулся:
«– …Вдруг слышат они крики на поле.
– Пойди, сеньор Лукан, – сказал король, – и узнай мне, что означает этот крик на поле.
Сеньор Лукан с ним простился, ибо был он тяжко изранен, и отправился на поле, и услышал он, и увидел в лунном свете, что вышли на поле хищные грабители и лихие воры и грабят, и обирают благородных рыцарей, срывают богатые пряжки и браслеты, и добрые кольца, и драгоценные камни во множестве. А кто еще не вовсе испустил дух, они того добивают ради богатых доспехов и украшений…»
Покачал шлемом Дон Саладо, книгу толстую закрыл.
– Разве только о погибели Камелота пишет тут сеньор Мэлори? Не так ли погибло все рыцарство мира христианского во всех странах наших? И хоть до сего дня посвящают многих в звание рыцарское, и мечом плеча касаются, но мнится мне, что это грабители и воры друг друга возвеличивают…
Поглядел я на дом, что за садом спрятался. Если бы одни лишь воры и грабители!
– И вновь скажу: поздно довелось мне родиться, Начо! Не застал я времена славные, когда доблесть миром правила, когда сильный не обижал слабого и зло всегда встречало отпор.
Не стал я спорить (пробовал уже сеньор Рохас, да что толку?), хоть и сомнение на сей предмет имел. Уж больно невесел стал мой рыцарь.
– Чем же возвеличится Кастилия наша? Неужто черным ведовством, каждому доброму христианину мерзким? Не воздвигнется ли на месте славного королевства Град Антихристов, видом блестящий, внутренностью же богопротивный?
И вновь не стал я отвечать, только рукой до его плеча Дотронулся. Все понял идальго, даром что разумом недужный!
Понурил голову Дон Саладо, но внезапно выпрямился, очами сверкнул:
– Не бывать тому, Начо! Пока живы мы с тобой – не бывать! Не со мною ли мой славный меч?
– Не с вами, – вздохнул я. – Не с вами, рыцарь… Меч-железяку у него сразу забрали. Не иначе лекарь ночной настоял.
– Верно…
Задумался рыцарь, худыми пальцами бороду-мочалку потрепал.
– Верно, да только не меч – главное оружие рыцарское. Важнее меча – вера наша христианская, да доблесть, да смекалка, да хитрость воинская. Вот, смотри, Начо, пишет сей Мэлори…
Вновь зашелестели страницы.
– …Пишет сеньор Мэлори о двух рыцарях славных – о сеньоре Персианте и сеньоре Бомейне, истинное имя которого было Гарет. И должно было им поспеть к замку Красного Великана, дабы выручить некую даму. Времени у них не оставалось совсем, слуги же оного Красного Великана стерегли каждую тропку в лесу…
Уткнулась борода-мочалка в страницу.
«… – Поистине это безделица, рыцарь, – заметил сеньор Персиант, – ибо поскачу я между капельками дождя, и увидят враги наши лишь тень мою.
– И вправду безделица, – согласился сеньор Бомейн. – Ибо я поскачу между мгновениями, и не заметить им даже моей тени…»
– Отменно, ваша милость, – усмехнулся я. – Кто бы отказался, я не стану. Чтобы, значит, между капельками дождя, раз уж сквозь стены не выйдет.
…Про стены я уже много раздумал. Про стены, про ворота, про собак, что в ночь на субботу по двору бегают. Да что толку?
– И вот о чем я еще размышлял, Начо, – заявил Дон Саладо, окуляры с носа снимая. – Может, земля неведомая, что во сне мне привиделась, есть знамение Божье? Может, велено проложить мне туда дорогу не только ради славы рыцарской, но и ради тех, кому обычаи нынешние не по душе, кто верит еще в доблести старинные, в честь и верность, коими наша Кастилия славилась? Может, не зря я назвал ее Терра Граале, Земля Чаши Господней, ибо несет Святой Грааль спасение тем, кто его отыщет и благо всему миру нашему христианскому? Не основать ли там нам Новую Кастилию, не поднять ли над нею знамя с малиновым крестом и не созвать ли туда доблестных рыцарей со всего света, если живы они еще и рыцарями быть желают? И станем мы жить по заветам давним, по чести закону, и будем хранить веру Христову и обычаи наши.
Покосился я на дядьку этого калечного. А ведь не шутит!
– Основать можно, – кивнул я. – Да только приплывут туда вслед за нами португальские каракки, высадят аркебузиров…
Сказал – и пожалел тут же. Зачем идальго моего мечты его лишать? Мне бы такую мечту!
…А если подумать – пусть приплывают португальцы эти! Набрать парней, кому под петлей ходить надоело, да пороху побольше. Пусть плывут – и португальцы, и наши тоже. Встретим, мало не покажется! Особенно если с вояками фратины зелененькие приплывут, из Супремы которые…
Эй, о чем это я?
Только мысль не отпускала, Клешней крабовой вцепилась. На краю живет пикаро, Под веревкою танцует, Прежде чем сплясать в петельке. Что там завтра будет, Начо? Хорошо, коль «завтра» будет! День прожил – уже победа. Не петля, так пуля в спину Иль в алжирской яме цепи. Ради нескольких эскудо Зря расходовать удачу? Почему бы не решиться — Кинуть мачеху-Кастилью И за море на каракке Вместе с доблестным идальго? А потонем – не повесят, А повесят – не потонем. Лучше так, чем Кемадеро И севильская тюрьма!Да только рано стал я мечтам предаваться, потому как «завтра» это…
Почему-то я сразу понял, что «завтра». Печенка у меня так устроена – чует.
Впрочем, завтра – это завтра, а кое-что и на сегодня осталось. Часа через два, как ужин принесли, слышу: топают. По коридору топают. Знакомо так, не спутаешь. Научился я шаги различать за эти дни!
Не ошибся я – мавры. Вытащили наружу, за локти взяли. И – дорожкой знакомой. Иду я, ноги переставляю, а перед глазами – крюк пустой железный. Не иначе ошибся я с этим «завтра». Понадобился его сиятельству новый терафим, к примеру, или решил на кишках моих гадание устроить. Слыхал, и такое бывает. В общем, как к двери меня подвели – той самой, уперся я, что мой Куло перед горкой. Да где там! Впихнули – и по шее добавили. Для пущей резвости.
Влетел!
Влетел – и первым дело,м на стенку, где занавес черный, взглянул. Нет его! И головы страшной (хвала Деве Святой) не видать. Только крюки пустые – оба.
Не успел я решить, к добру ли такое, как хлопнула дверь…
– Завтра ночью ты понадобишьс-ся, Игнас-сио.
На этот раз его сиятельство изволили шляпу надеть. Ту самую, с жемчужиной. И в самом деле, что за гранд кастильский без шляпы?
– А с-сегодня хочу кое-что тебе объяс-снить, чтобы завтра ты не болтал лишнее.
– Угу, – кивнул я, чувствуя, как отпускает сердце. До завтра доживу – и то славно.
А как сердце отпустило, стал я по сторонам глядеть. Привычка! Я и под петлей любопытства не теряю (проверено!). А смотреть было на что. Изменился зал. На стенах знаков всяких прибавилось вкупе с медными, не поймешь, тарелками, что ли? А на тарелках – тоже значки.
Ну, это ладно, а на полу! Господь весть, что на полу! Круги краской темно-красной – прямо по камню, от кругов линии белые разбегаются, меж собой крестом идут. Стал я думать, на что это похоже, да тут же сообразил – а ни на что. Только и смог круги эти подсчитать – десять их оказалось.
– Понял, Игнас-сио?
Оказывается, пока я кругами да линиями любовался, сеньор маркиз на меня поглядывал.
– Как есть понял, ваше сиятельство, – согласился я. – Понял, что без попа да воды святой тут никак не разобраться. Уж не Ола ли это ваша?
Сказал – и язык прикусил. Гоже ли доброму католику такие слова повторять?
Думал, посмеется дон Федерико, ан нет, не стал. Серьезно так ответил:
– Ола – с-совс-сем другое, Игнас-сио. Ее не нарис-суешь, не выразишь знаком. Да не о ней с-сейчас-с речь. Ола – щит против С-судьбы, а это – меч. Вернее, дорога, что к мечу этому ведет.
Объяснил, называется!
– Тебе ни к чему знать вс-се это. Но ес-сли хочешь, пояс-сню. Круг вверху, с-самый дальний – это Корона, за нею – Мудрос-сть и Рас-спознание, с-следом – С-сила и Милос-сть, а ближе к нам – Великолепие, Победа, Величие, Ос-снование и Царс-ство. Вс-се вмес-сте же это – Древо С-сефирот. Ес-сли по-кас-стильс-ски – Древо Миров или же Вс-селенная Вышнего Человека.
Сглотнул я только, такое услышав.
– И крас-ска эта – непрос-стая, и цвета непрос-стые… Но не о том с-сейчас-с речь, Игнас-сио. Завтра мы пос-смотрим, чего с-стоит вс-ся эта книжная мудрос-сть…
Замолчал его сиятельство, перчатку с руки стянул – с левой. Снова надел, усмехнулся.
– Если С-сила Букв дейс-ствительно с-столь могущеес-ственна, мы ее почувс-ствуем. И ты, и я. А откроет нам дорогу с-сеньор Кихада. Ведь его с-считают безумцем, так? Чудаком, который видит какой-то иной мир, с-с великанами, драконами, заколдованными инфантами. Наверно, думают, что он нас-слушалс-ся о рыцарс-ских подвигах – да умом тронулс-ся…
– Так и есть, – вздохнул я. – Думают.
…Бедный Дон Саладо! И он им понадобился, штукарям этим.
– А ес-сли допус-стить, что он дейс-ствительно видит какой-то иной мир? Он был тяжко ранен, чуть не умер. Разве такое могло пройти бес-сс-следно? Более того, что, ес-сли ему открыта в тот мир дорога?
– Это как же? – отозвался я. – Он что, и в нашем мире живет, и в том, другом?
…А сам все замок дона Хорхе вспоминаю. Поглядел на меня его сиятельство, с интересом так.
– А ты неглуп, Игнас-сио. Но я уже проверил. С-сам с-сеньор Кихада только видит, дорога туда ему заказана. Но, кажетс-ся, ему вс-се же удалос-сь там побывать. И знаешь, благодаря кому?
Отвернулся я, чтобы в глаза ему не смотреть.
– Вы это зря, сеньор, намеки такие делаете. Потому как у меня с головой пока все в порядке.
– Да и у него в порядке! – подхватил дон Федерико. – Он видит то, что действительно существует, только не у нас, не в нашем мире. Нужен кто-то, с-способный его подтолкнуть. Понимаешь?
Разгорячился его сиятельство, перчатки снял. И заговорил иначе – словно ровня я ему. Словно не мою башку он на стену цеплять собирался.
…И даже «сы» на место стало. Не сипит уже почти.
– У тебя тоже было в жизни нечто необычное. Ты можешь не помнить, это могло с-случиться в детстве, но это точно – было!
…И дон Хорхе Новерадо так считал! Потому, видать, игру старинную затеял. Недаром я победителем оказался.
Да только этому булькающему я ни слова не скажу. Ни про то, как псы Канарские Хуанито на куски рвали, ни про Нее, как Она надо мною склонилась…
– Мы очень долго разговаривали с сеньором Кихада. И что интересно: после знакомства с-с тобою он не просто увидел, он почувствовал этот, другой мир!
…Меч пощербленный! Рыцарь у перекрестка. И Анкора!
– Поэтому завтра вы попытаетес-сь открыть дорогу. С-сила Букв поможет вам. И мне тоже. Я с-смогу увидеть то, что увидите вы. Увидеть – и самому почувствовать. А может, и побывать там!
– Да зачем это вам, ваше сиятельство? – крикнул я в отчаянии. – Вы же католик! Как же можно? Круги эти, буквы, заклинания всякие мерзкие…
– Имена, – перебил он. – Не заклинания – Имена. Я не еретик, я не с-служу Сатане. Я – верный католик, но это знание выше христианс-ства – того, которому учат нас-с священники. И что вс-се эти страхи перед величием нашей Кас-стилии? Ты представляешь, что мы с-сможем найти в другом мире? Да и не будет он другим. Он с-станет частью мира нашего, пос-сле того, как вы с с-сеньором Кихада проложите туда дорогу. Не понимаешь?
– Нет, – вздохнул я. – Не понимаю…
На полу – круги из краски, Словно кровь из вен пролилась. Белых линий паутина, И под каждой – черным знаки, Пауками разбежались. То ли факелы чадили, То ли свет горел неровно, Но почудилось внезапно, Будто линии поплыли, Заплясали сарабанду, Загорелся свет кровавый, И сквозь камень проступила Рожа с острыми рогами И с клыками в черной пасти. Не круги – глаза пылали, Словно чуяли добычу. Вместо факельного чада В зале серою запахло — Серой пахнет Сила Букв!ХОРНАДА XX. О том, как мы с Доном Саладо наследовали сеньору Бомейну
Сплю? Не сплю?
Сплю, понятно. Хоть и видно все, а неправда. Темно в моем подвале, даже днем темно, а тут вроде как свет, и подвал уже не подвал.
– Сказал безумец в сердце своем: «нет Б-га». Они развратились, совершили гнусные дела…
Да и не один я тут. Сон со мною – знакомый такой. Борода седая, волосы под повязкой полосатой, черная тряпица на глазу. Рядом со мною сидит, на меня не смотрит.
– …нет делающего добро. Г-дь с небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Б-га. Все уклонились, сделались равно непотребными; нет делающего добро, нет ни одного…
Грустно так говорит, словно себе самому. А мне и не страшно, любопытно только.
– Да вы же вроде как померли, сеньор, – говорю я сну. – А не померли если, так объясните. Вы меня неучем величали, а как же неуч умным станет, ежели ему не растолковать, что к чему?
Не отвечает сон, черной тряпицей, что на глазу невидящем, ко мне оборачивается.
– …Неужели не вразумятся все, делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб и не призывающие Г-да? Там убоятся они страха, где нет страха, ибо Б-г в роде праведных…
– Вечно вы, сеньор, загадками изъясняетесь, – жалуюсь я сну. – Может, вам в радость, что души христианские тут, в доме этом проклятом, пропадом пропадают?
Вроде как дерево треснуло. Или это сон мой смеется?
– Можешь ли ты удою вытащить Левиафана и веревкой схватить за язык его? Вденешь ли кольцо в ноздри его? Проколешь ли иглою челюсть его? Будет ли он много умолять тебя и будет ли говорить с тобою кротко? Можешь ли пронзить кожу его копьем и голову его рыбачьей острогою? Клади на него руку свою, и помни о борьбе…
– Никак намекаете вы, сеньор? – не сдаюсь я. – Вы бы мне словами простыми чего объяснили. Кому башку острогой, значит, протыкать, это и мне, сеньор, понятно. Да только чего задумали они? Не хотите про дерево, с кружочками которое, так хоть про сеньора Кебальо рассказали бы или про Олу эту!
Только кого я прошу? Разве сон может ответить?
– Сказал раби Ами: «Почему рассказ о смерти Мирьям смежен с заповедями о красной корове? Как красная корова дана для искупления, так и смерть праведников искупляет». Сказал раби Элизар: «Почему в рассказе о смерти Аарона упомянуты одеяния священства? Как одеяния священства служат для искупления, так и смерть праведников искупляет…»
Все тише голос, все дальше сон, уже и не видно ничего, только тень. Тень старика одноглазого, тень голоса…
– И если человек праведен, то он истинное возношение для искупления. А иной, неправедный, не пригоден Для возношения, потому что порча в нем…
Вот сгинуло все – ни подвала, ни старика, ни голоса его. Ветер в лицо, соленый дух в ноздри…
Море!
Чуть не заплакал я, волны с барашками белыми увидав. До смерти соскучился! А ведь помозговать ежели, то и вправду – до смерти. Но только тут, во сне, первый сон сменившем, жив я – и не просто жив. Вроде бы как на борту шебеки стою (или не шебеки, кто во сне разберет), и латы на мне, словно на Доне Саладо, и меч в руке, и шлем железный на башку давит. Потому как я уже не Начо – пикаро-висельник, а рыцарь. Игнасио Гевара – Белый Идальго, аделантадо острова, что лежит за морем-океаном. А впереди бой, и борт каравеллы (или не каравеллы – галеры?), и стволы кулеврин с борта этого смотрят. Даже засмеялся я во сне. Чем напугать решили? Перед этим подвалом кулеврины да аркебузы семечками кажутся!
…А галера-каравелла все ближе, и в душе азарт привычный, словно мне опять пирата алжирского на абордаж брать, да только на мачте почему-то не полумесяц, а флаг кастильский и другой еще – с королевскими вензелями. И не мавры-сарацины в меня целятся…
И тут ударило словно. Будто кто в ухо шепнул – в левое (ох, знаю я, кто в левое-то шепчет!). Не каравелла это, не галера, а сама святая Клара, от которой смерть мне случится. И только удивиться я успел, как такая небылица присниться-привидеться может, плеснуло в глаза темное пламя, ударило болью прямехонько в сердце…
…А на сердце – платок с семью узлами. Сеньориты Инессы платок.
Тьма!
А как проснулся – от собственного крика проснулся, как веки расцепил, лбом в стенку холодную, каменную ткнулся…
Лучше б и не спал! Хоть и не довелось цыганом родиться, да такие сны и без ведовства цыганского растолковать легко!
Упал обратно на скамейку, тьму глазами пощупал, зубами скрипнул.
Врете!
Не съели Начо – и не съедят, подавятся. Как это мне сон говорил? «Можешь ли ты удою вытащить Левиафана и веревкой схватить за язык его? Вденешь ли кольцо в ноздри его? Проколешь ли иглою челюсть его?» Жаль, ни кольца, ни иглы нет!
Провел рукой по лбу холодному, по рубашке ладонью скользнул. Булавка – та самая, с камешками синими. Выходит, есть игла!
А там, глядишь, и кольцо сыщется!
Думал, уже ничему не удивлюсь. Усохло у меня то, чем удивляются, – начисто.
А все-таки удивился.
Потому как на сей раз меня не его сиятельство встретить изволил, а сама сеньора Беатриса Мария Селестина Анна маркиза де Кордова. Только в зал меня этот впихнули, только я оглянуться успел…
– Добрый вечер, Игнасио!
Сидит ее сиятельство в кресле со спинкой высокой, точно такая, как в первый день – в платье темном, в перчатках, даже с веером.
– Д-добрый… сиятельство… ваше.
Брякнул – и глазами ее пожевал. Оклемалась вроде сеньора маркиза, уже не блаженненькая, морщины пропали, словно не было их, даже веер…
И тут я все понял. Не у нее веер – но с нею. У парня, что в кресле рядом восседает. Молоденький такой паренек, белокурый – вроде как я. Вот он веер и держит. Держит – глаз с ее сиятельства не сводит.
Заметила она, как я на веер гляжу, губы поджала, а в глазах зеленых – то ли обида, то ли сожаление даже. Покачала головой, уголками губ улыбочку изобразила. А паренек этот…
– Цирцея! Цирцея, а-ах!
– Si, Alfredo!
Почесал я затылок, даже забыв на миг, для чего меня сюда притащили. Альфредо, понятно, получше, чем Адонис. А Цирцея – что за имечко? Пострашнее Галатеи будет.
Понятно, не одни они в зале. Мавры по углам застыли, еще двое по бокам моим стали, в уши луком дышат.
Ладно…
А зал опять изменился. То, что на полу, прежним осталось, только возле круга каждого свечей понаставили. Не черных – розовых. Понаставили, но не зажгли пока – факелы по углам горят-потрескивают. И на стенах знаков прибавилось. А чуть в сторонке – вроде как кафедра церковная, только пониже. И зеркало – огромное такое, венецианское, как раз у самого дальнего круга, который Корона.
Возили мы с Калабрийцем эти зеркала. Ух, и мороки с ними! Во-первых, их кому попало в Венеции этой не продают, во-вторых, хрупкие, заразы!…
…Уж не из Венеции ли Альфредо ее сиятельство выписали? Вкупе с зеркалом? Хотя едва ли, не видел я там белокурых, скорее из Милана он или из Флоренции.
Хлопнула дверь, негромко так. Скосил я глаза.
Его сиятельство! В шляпе с жемчужиной – и с книгой под мышкой. Мэлори, что ли, решил полистать? Вроде нет, та, про Артуро, потолще будет…
– Вс-се готово?
Странно так спросил, даже голос дрогнул. Никак волнуется дон Федерико?
Не знаю, кто ему ответил, да и кого спрашивал, тоже неясно, да только не до того мне стало. Потому как снова дверь открылась.
– Добрый вечер, сеньоры! И вам добрый вечер, прекрасная сеньора!
Поклонился мой Дон Саладо, достойно так, серьезно. И сам он весь собранный такой, словно в королевские покои пожаловал – или в замок, где великаны-людоеды проживают. Борода расчесана, точно как у Сида на картинках, на голове вместо шлема дурацкого – шляпа с полями короткими.
…Был Дон Саладо – стал Дон Сомбреро.
Пока моему идальго хозяева со всем вежеством отвечали, я еще раз зал этот проклятый оглядел. Мавры-то меня не напугали. Стоят, обалдуи, глаза выпучили, словно просят, чтобы я каждого под дых двинул. Двинул, кинжал у того, кто слева, выхватил, да по горлу, да к Дону Саладо…
И тут снова скрипнуло. Скрипнуло, заскрежетало, словно камнем по камню провели.
Дуэнья!
Вошла, ни на кого не взглянула. Встала – как раз перед дверью, да так, что плечами своими весь проход перекрыла. На лице – улыбочка легкая, будто бы весело ей. А глаза – пустые-пустые.
Значит, все. Хоть хватай кинжал, хоть не хватай…
А сеньор маркиз к кафедре подошел, наверх зачем-то поглядел, руку ко лбу поднес – не иначе крест сотворить решил. Но не перекрестился, опустил руку.
– Тот, Кто вс-се миры с-сотворил, да поможет нам! С-сила Букв да пребудет с-с нами! Начнем…
Открыл он книгу черную, перелистнул страницу.
Перекреститься – рука не поднимается, «Pater noster» прочесть – язык ледышкой стал…
И тут – словно палкой по ушам ударило. Так и не понял я, чего случилось. Гром ли в подземелье грянул, его ли сиятельство первое слово прочел?
Потемнело. Горят факелы – а света нет. Вернее, есть он, но какой-то черный. А тут и свечи загорелись – те, что на полу. Сами собой вспыхнули, и тоже – темными огоньками. И зал будто сжали, и стены кривыми сделались…
И не слышно ничего. Вроде шевелит сеньор маркиз губами, а вроде и нет. А в зале все темнее, и уже никого не видать…
Вспыхнуло!
Зажмурился, подождал, пока боль пройдет. Открыл глаза…
Багровым пламенем горели круги на полу. Холодом от того огня тянуло. Линии, что белыми были, набухли словно, желтыми сделались – и тоже огнем пошли. И не осталось даже сил, чтобы глаза прикрыть.
Сколько стоял – не помню. Замерли песчинки в ампольетах, замерзли…
– С-сеньор Кихада!
Издалека голос донесся, будто его сиятельство из-за ворот голос подал.
– С-сеньор Кихада! С-соблаговолите взять с-сеньора Гевару за руку и пройти от нижнего круга, именуемого Ос-снованием, до верхнего – Короны. Идите не торопяс-сь и при этом не откажите в любезнос-сти с-сообщать, что вы видите. В зеркало покуда не с-смотрите. И не бойтес-сь – С-сила Букв защитит вас-с и с-спутника вашего…
У меня и так уже мурашки по коже друг за дружкою бегали, а услыхал такое – и вовсе сосулькой сделался. Спаси нас, Дева Святая! Ведь Ты обещала, что всегда со мной будешь!
…А булавка на воротнике камнем сделалась – тем, из которых стены замковые укладывают…
– Пойдем, Начо! Даже не заметил я, когда это Дон Саладо подойти успел. Подойти, за руку взять. Дивное дело – полегчало мне сразу.
– Идите!
И снова – в ушах гром. Только слабый такой, далекий…И багровое пламя под ногами. А Дон Саладо мне тихо-тихо так:
– Не бойся!
Вздохнул лишь я, такое услыхав. Негоже, конечно, мне, пикаро с Берега, труса праздновать…
…Пламя по пояс, по грудь уже. Холодное, ледяное.
– Скажу я вам, сеньоры, что узрел я вроде как свод небесный, звезд полный. И звезды те не токмо вверху, но и всюду. И даже иду я по звездам, что, право, дивно весьма!
Не хотел я, а улыбнулся. Эх, Дон Саладо! Вчера великаны с василисками, сегодня – свод звездный. Какие там звезды! Горит все, во рту сухо…
…И холод со всех сторон. И ноги вроде как по льду скользят.
– Вижу я теперь вроде как ворота замковые, огнем горящие, но не одни. Три пути передо мною, сеньоры, и за каждым словно бы свет яркий…
Твердо говорил мой рыцарь, твердой рука его была, что ладонь мою сжимала. Не выдержал я, стал вперед всматриваться. Может, и вправду – ворота? Да где там – один огонь!
– И подхожу я к левым воротам, и вижу за ними нечто с морем сходное, и волны вижу, и чаек над волнами…
Что за притча? И вправду – словно ветром свежим подуло!
Нет, кажется только…
– Начо! Начо!
Не откликнулся я сперва, не до того было. Легко ли – перед Пастью Адовой стоять? Знаю я, какие там волны с чайками!
– Начо!
– Здесь, – отозвался я без всякой охоты. – Видать, пропали мы, рыцарь! «Ave» прочесть, что ли?
Засмеялся Дон Саладо. И совсем мне худо стало от его смеха. Видать, совсем спятил, бедняга! Оглянулся – не видать ничего, даже огонь пропал. И все вокруг сгинуло словно.
– А помнишь ли ты, Начо, о чем толковали благородные рыцари: сеньор Персиант да сеньор Гарет, именовавший себя Бомейном?
Спросил, называется!
– А посему сотворим молитву Деве Пресвятой и смело вперед ступим, ибо ничто не устоит перед силой Господней и отвагой рыцарской!
Хотел я ответить, хотел Ее, Заступницу нашу, помянуть. Самое время! Но – не успел. Шагнул Дон Саладо влево, меня за собой потянул…
Сгинула тьма!
Поглядел, глазам не веря: Зал, а в зале все, как было, Их сиятельства и мавры, Да мальчишка бедный в кресле, Да дуэнья у порога. Только нет огней проклятых, Даже свечи все погасли, Только факелы на стенах. Пот хотел со лба стереть я — Не успел, рука застыла. Понял я – не так все стало, Только что не так – неясно, Пламя в камень обратилось? Люди в зале камнем стали? Не моргнут, не шелохнутся, Словно статуи в соборе. В кресле замерла маркиза, Стал столбом дон Федерико, Книгу черную сжимая, А у мавров, у проклятых, Даже челюсти отвисли, Да такими и остались. Усмехнулся Дон Саладо, Поглядел вокруг и молвил: «Говорил тебе я, Начо! Нет для рыцаря преграды, Так пройдем между мгновений, Как меж каплями дождя!»Ответить я смог только за порогом. На лестнице. Узнал я ее – от дверей ее сиятельства лестница эта вела. Значит, впереди дверь потайная, а там коридор знакомый…
– Не стоит бежать, Начо! – молвил Дон Саладо, мою руку придерживая. – Ибо когда Господь наш творил время, то поистине он сотворил его достаточно.
Легко сказать! Да и не до времени мне сейчас было. Первая мысль – про дверь в коридоре. Заперта ли? Вторая – про окошко в моей комнате.
…В какой стороне двора конюшня находится, я еще в первый день приметил.
Повезло! И потайная дверь открытой оказалась, и та, что в коридор ведет…
Только когда мы у входных дверей оказались, остановился я – дух перевести.
И здесь то же! Стоят слуги, не моргают, кто с подносом, кто сам по себе. И тихо всюду – муху услышать можно. Но и мухи не летают.
– Однако же, Начо, – озабоченно молвил мой идальго, – разумно будет найти мой славный меч и щит, да и доспех тоже.
Хлопнул я себя по лбу, оглянулся. Всюду королевство сонное, как в той сказке про инфанту, что сто лет в постели дрыхла. Да только как бы принц не пожаловал! Тут и меч пригодится.
Да вот они, железяки! На стенах висят, как и положено. И мечи, и прочее всякое.
Снял я со стены первый попавшийся меч вместе с ножнами (много их там было!), кинул Дону Саладо, подобрал себе дагу по руке, ухватил шлем, что на палке резной красовался.
С доспехом попотеть пришлось. Взял я один, взвалил на плечо. Хорошо хоть не полный, верх только.
И – ходу!
А на дворе – тьма. А на дворе – собаки всюду. Тоже каменные. Одна мордой в траву тычет, вторая на луну оскалилась.
– Не восхотел я, Начо, колдовству черному потакать, – молвил Дон Саладо, шлем на голове своей ушастой пристраивая. – А посему не пошел я в ворота отверстые, но приметил милостью Господа нашего и Девы Святой некую тропку, что влево вела, как бы заворачивая. Или не тропку даже, а вроде как света луч. И почуяло сердце мое, что на верном я пути…
Хлопнул я его по плечу, помотал головой, все еще не веря.
– И подумал я, что такой же тропой, по тому же лучу светлому, прошел в давние годы сеньор Гарет, именовавший себя Бомейном…
Ну, рыцарь!
А в конюшню зашли – упало сердце. Вроде и Куло мой на месте, и мешок тут же – у стены свален, и конек рыцарский. Только каменные все. Глаза неподвижные, страшные.
Взвалил я свой мешок на плечо да не удержался – Куло, Задницу вредную, по холке потрепал.
Дрогнула шкура под рукой, потеплела. Поднял осел мой голову…
Вот даже как? Ай, славно!
Выбрал я двух красавцев гривастых, по шеям похлопал, подождал, пока ожили. И о коньке Дона Саладо не забыл – пригодится вещи возить…
– Должно ли нам делать сие? – смущенно проговорил идальго. – Ибо кони эти отнюдь не наши.
– Наши! – хмыкнул я. – Потому как – трофеи. Рыцарские!
А сам уже седло несу – самое лучшее отыскал.
Только за воротами, когда свежий ветер подул и деревья листьями зашумели, понял я, что не сон это. Ущипнул себя за руку…
Ой!
– Хоть и много я видел дивного, Начо, – молвил между тем славный рыцарь Дон Саладо, бороду-мочалку свою поглаживая, – однако же не решусь, пожалуй, никому рассказывать в случае этом, потому как даже мне он весьма престранным кажется. Не ведаю даже, можно ли считать сделанное нами подвигом…
Ничего я не ответил, Оглянулся – топот сзади. Не иначе принц явился, И проснулся дом проклятый. Только вижу – уши дыбом, Мчит за нами мерзкий Куло, Догоняет, шумно дышит, Укоризненно косится, Что, мол, бросили, не взяли. Наклонился из седла я, Потрепал его по холке И простил в душе беднягу За ослиный его норов И за то, что познакомил Нас он с рыцарем моим.Часть третья. СЕВИЛЬЯНА
ЛОА
Снова белого побольше!
Белой краски для Севильи —
Для паласьо мавританских,
Для домов в побелке свежей,
Для мечетей под крестами.
И немного голубого,
Чуть темнее, чем для неба, —
Это цвет Гвадалквивира,
Что вдоль вала Альменилья
Мимо города стремится —
Прямо к морю-океану.
А потом смешаем краски
Пестрой юбкою цыганской,
Яркой радугой горячей.
И – вперед под севильяну,
Под каштаны-кастаньеты,
Под лихой цыганский бубен.
Белый, синий, ярко-пестрый.
Севильяна!
ХОРНАДА XXI. О том, как славный рыцарь Дон Саладо пришелся ко двору
Однако же странное дело, Начо, – молвил Дон Саладо, отрезая себе новый кус ветчины. – Сколько ни едем мы, но Севилья отчего-то остается справа от нас. Нет ли в этом некоего колдовского умысла?
Прежде чем на такое ответствовать, я и сам к ветчине приложился. Есть хотелось до невозможности – уже третий день подряд. С того часа, как мы гостеприимный кров его сиятельства покинули. Бывает такое: просвистит мимо стрела, разрубит ятаган мавританский шапку – и превращается живот в пропасть бездонную.
Закусывали мы прямо на пригорочке под высоким пробковым дубом. Хорошее местечко, тенистое. И вид на славный город Севилью отсюда – лучше не придумаешь. Вот Гвадалквивир темно-синий, вот и мост Тринадцати Лодок, что в Триану ведет, а там и Башня Золотая, Алькасар которая. А над крышами красными, черепичными – Хиральда-Великанша крестом золотым светит. И все это – справа, как и было сказано. Дожевал я ветчину, винца хлебнул да и задумался. По поводу умысла колдовского. То есть не колдовского, конечно.
– А не съездить ли нам, рыцарь, сперва в иное место? – заметил я, Хиральдой-Великаншей любуясь. – Ну, в самом деле, что делать странствующему идальго в Севилье?
– Гм-м… И вправду. Однако же, помню, в Севилью спешил ты, Начо.
И сейчас спешу. Да что делать, ежели спешу я в два места одновременно? Это вроде как если моему Куло две связки сена показать. Одну справа, другую – слева. Не иначе с голоду, бедняга, околеет! Да только такое лишь в байках бывает. И Куло мой сена выберет, и я чего-то решу. То есть решил уже. Подождет Севилья. Тем более невелик крюк – день всего.
– Захотелось мне, сеньор, воздухом морским подышать, – пояснил я, с бока на спину переваливаясь.
…Ударило солнце в глаза. Ой, приятно! Особливо после того подвала проклятого.
– Способствует это, ваша милость. И прибой послушать – тоже страсть как хорошо!
– Гм-м…
Задумался мой рыцарь, мочалку свою трепать принялся.
– Но должно ли нам пребывать в постыдной праздности, Начо? Разве не ждут тебя и меня славные подвиги? Или там, куда мы направляемся, присутствуют некие злые великаны?
– Это сколько угодно, – зевая во весь рот, откликнулся я. – Только не злые они – добрые. Ежели не с похмелья, конечно.
Про похмелье я не зря помянул. После всего хотелось не винца кислого выпить, а по меньшей мере агвардиенте [45]сарацинской. Да не просто так, а в компании доброй, да с куражом, да с пляскою. Но только не плясать мне пока – ни севильяну, ни сарабанду с кастаньетами. Вот съезжу к морю, потом в Севилью заверну, тогда уж…
Впрочем, близко уже это «тогда уж». Одно непонятно: куда рыцаря моего калечного деть? Напоить да спать уложить? А если проспится и за подвигами поедет? Жалко будет, ежели прибьют его, беднягу! Ведь Андалузия – это не Алькудийские поля. Здесь Коста, тут сперва нож в брюхо всадят, а после об имени спрашивают.
Погладил я дагу – ту, что со стены в замке снял. Хороша, лучше моей прежней! И насечка серебряная, и клинок огнем на солнце горит.
Кстати!
– А не продать ли нам, рыцарь, те латы, что мы из дома сеньора маркиза прихватили? Странные они какие-то, и на латы не похожи.
И вправду не похожи. Схватил я тогда первое, что под руку попало. А после разглядел – и подивился. Сверху бархат синий, по бархату заклепки позолоченные рядами ровными идут. Не латы – корсаж женский. Зато дорогие. Продать такое – год жить можно.
– Продать? Что ты говоришь, Начо!
Встал Дон Саладо, тряпку откинул, в которую я латы эти замотал, дабы народ глаза не пялил. Шлем я тоже спрятал, а на Дона Саладо шляпу надел – ту, что на нем и была. Так что никто нам не удивлялся. Едет себе почтенный сеньор из хорошего дома, и слуга при нем, и конь заводной. Увидят нас – сразу шапки ломать начинают. За двадцать шагов.
– Поелику ты эскудеро, Начо, а стало быть, рыцарь будущий, должно тебе в делах этих разбираться. Сей доспех поистине прекрасен и удобен, ибо это не что иное, как миланская бригантина…
– Помилосердствуйте! – вздохнул я, но дядьку уже не остановить было.
Дорвался!
– Носят же такой доспех стрелки конные, и пехотинцы тоже, ибо легок он и прочен. Состоит же бригантина из блях стальных, подобно черепице друг на друга наложенных, сверху же, как видишь, обшита бархатом. Зашнуровывается доспех сей спереди и поясом прихватывается…
Застонал я, прикидывая, не заткнуть ли уши. Сюда бы толстячка нашего, ему такое любо. А по мне, железяка – и железяка.
– Шлем же, нам доставшийся, поистине превосходен, ибо это не что иное, как бацинет доброй работы. Меч же…
Спаси меня, Дева Святая!
– …поясным называется, славной работы мастеров из Бордо. А посему смущение меня не оставляет, Начо. Хоть и взяли мы трофеи эти вроде бы как в бою, однако же не по правилам этот бой велся…
– Это уж точно, – согласился я, травинку срывая. – Какие уж тут правила, рыцарь!
…Все эти дни пытался я не думать о том, что пережить довелось. Не думать, не вспоминать. В первой же церкви свечей наставил – на полных два реала свечей. Думал, полегчает, да только где там! Закрою глаза – и снова огонь холодный плещет.
– Ну их всех, сеньор, – вздохнул я, дожевывая травинку (кислая-кислая попалась!). – Лучше вы мне про великанов чего расскажите.
Великанов мы под вечер встретили – там, где и ожидалось. Идет дорога между камней, петляет, а камни громадные, всадника спрятать могут.
…И морем, морем пахнет. Здорово так!
– А добрый вечер вам, сеньоры! Или не туда вы заехали, такие хорошие?
Двое великанов спереди, двое сзади, остальные пока за камнями – ждут. И у всех штаны широкие, пояса-агухеты с бляшками медными, серьги в ушах. И даги, само собой. Пока что в ножнах.
Вскинулся мой идальго, к мечу потянулся. А я и ухом не повел.
– Пустое, рыцарь. Это они еще глаза после сиесты не продрали.
А великаны ближе подступают, один уже за повод коня моего схватил…
– Начо! Парни, да это же Бланко! Начо Бланко! Ага, продрали глаза-то!
Набежали со всех сторон, схватили, стащили с коня. И – кулаками по спине.
– Начо! Да мы ж тебя уже похоронить успели. Уже и свечку за упокой поставили!
За плечи схватили, затрясли – аж в башке зазвенело.
– Живой! Парни, живой! Ну, Бланко! А мы уже думали…
– Эй-эй, сеньоры великаны! – строго заметил Дон Саладо, брови хмуря. – Или желаете вы нанести некий вред моему эскудеро?
– А как же! – в семь голосов отозвались великаны. – Всенепременно, ваша милость. Для начала напоим вас двоих до смерти…
Обошлось. Напоили бы, конечно, да у парней вина почти уже не осталось. С полудня они тут, за камнями, скучали, за дорогой следили. Так что по паре глотков нам всего и досталось. Глотнули – и дальше поехали.
…Застава здесь, одна из трех, что на суше. У моря тоже сторожат, но не в засаде, а в башнях каменных. Опасные тут места. С моря – мавры да пираты алжирские, и на земле они же – вкупе с Эрмандадой Святой.
Вильнула дорога в последний раз, взбежала на бугор…
– Извольте видеть, рыцарь! – кивнул я, руку вперед протягивая. – Это, стало быть, море. А это – Саара, тунцовые, ежели вы не против, промыслы.
Прищурился мой идальго, ладонью глаза от солнца закатного прикрыл. Я и сам смотрел, не отрываясь. До самого горизонта – море. Прямо как то, что снилось, только без барашков. Тихое оно сегодня. А на берегу – башни высокие камня темного (еще от мавров остались), да сараи дощатые, да палатки, да пристань. И паруса у берега – не сосчитать.
Те, что в море-океан выходят, в Палосе швартуются. Кто в море Средиземное – в Кадисе. А мы тут гнездо свили. Мы – Коста, Братство Береговое. Так что не только тунца здесь ловят.
…Но и тунца тоже. Вон, сетями весь берег завесили!
– Не бывал я еще в этих местах, Начо, – заметил Дон Саладо, изрядно осмотревшись. – Вижу, немало тут добрых кораблей, зреть которые весьма приятно. Однако же странно, что нет на них ни флагов, ни вымпелов…
Я только хмыкнул. Это сколько угодно. Какой надо – такой и поднимем. Не жалко!
– И куда же поедем мы, Начо? – продолжал славный идальго в некотором раздумье.
– Как куда? – удивился я. – К пристани, понятное дело. Там нас и встретят, и винца поднесут…
Встречал нас сам Калабриец – персоной собственной.
Крупная у него персона – сходни прогибаются. На башке, поверх лысины – платок красный, за широким поясом – ятаган, черная борода – кудряшками. А в глазах бесенята пляшут – веселые такие.
– Начо! Или не повесили тебя? Или веревки вздорожали?
Гаркнул – чаек ветром разнесло. Заржали кони, дернул мой Куло ушами. Ух, голосина!
– Или вздорожали, – согласился я, с коня спрыгивая. – А как тебя, Пабло, еще осьминоги не съели, такого толстого?
Нет покоя альгвазилам, Верной страже королевской. Мавры прячутся по бухтам, Магомеда слезно молят. Генуэзские галеры Дни и ночи беспрестанно Ходят вдоль Ривьеры Горной. Всем забота, всем не спится — Калабриец вышел в море, Толстый Пабло Калабриец. Двинет бровью – и шебеки Полетят вперед по волнам, На борту – лихие парни, Трюмы все добром набиты. Что заказано – доставим, Хоть из самой Палестины Гроб Христа везти придется. Мы – народ по сути мирный, Только лучше нас не трогать И не гневать Калабрийца, Потому что рыбы в море, Как и люди, любят жрать!Отхлопали мы друг друга по плечам, позубоскалили вволю (я брюхо его безразмерное помянул, он – масть мою белую). Отсмеялись. А потом Пабло серьезным таким сделался, брови свои густые насупил.
– Ну, пойдем!
Сделал я ручкой Дону Саладо, дабы не волновался он, и по сходням потопал – на нашу шебеку родную. Ее Калабриец особо любит, если сам в море идет – так только на ней.
Прошли на корму, спустились в его каюту.
– Ну, куда спрятал? Или не в штаны? Так снимай, чего ждешь?
А я и не улыбнулся даже. Кончились шутки. Развязал я пояс, вынул дату…
…Два способа есть, если в штанах чего-нибудь прячешь. Первый – ближе к поясу зашить, второй – там, где штанины сходятся. У пояса лучше, потому как альгвазилы и парни из Эрмандады второй способ хорошо выучили. Так что распорол я штаны как раз у пупка, что требуется, достал.
– Оно?
– Оно и есть.
«Оно» – обрывок пергамента, маленький такой. А по пергаменту – буквочки с циферками вперемешку чернилами несмываемыми. Это для пущей верности. Ежели, скажем, я с моста в речку свалюсь да намокну.
Засопел Калабриец, достал окуляры, на нос надел. Мало кто таким Пабло Толстяка видел. Потому как идут ему окуляры, словно козе седло. Но что поделаешь!
Долго читал, долго пальцами по буквам и цифрам водил. Наконец, выдохнул шумно, спрятал пергамент в сундук кованый.
И ключ спрятал – за пояс.
– Или не молодцы мы с тобою, Бланко?
Вот и все, и говорить больше нечего. Потому что языком трепать в таверне можно. А когда о делах – слова лишние только мешают.
…А если подумать! Ради этого пергамента с закорючками сотня парней головой рисковала. Сам Калабриец с ними в Италию ходил. А потом уже – моя забота: на телеги сгрузить, куда требуется, доставить. Ну, и вернуться – живым, с буквочками и циферками за поясом.
Вот так дела наши делаются.
Молча.
Поглядели мы друг на друга, усмехнулся Толстяк, другой сундук, тот, что побольше, открыл:
– Штаны себе подбери! Светишь задницей голой, ровно мавританка в гареме…
А я все думал, сейчас напиться или чуть погодя, уже в Севилье. Потому как одно дело сделал, а второе – нет еще. Выходило, что до Севильи все же потерпеть придется. Ну а там уж…
– Новостей много, Бланко, – проговорил Калабриец, тихо так, словно голос свой зычный на берегу оставил. – Пошли на воздух – расскажу…
Хорошо на палубе! По воде рябь мелкая – ветерок вечерний нагнал, чайки чуть ли не крыльями цепляют, и тихо-тихо так. Ребята, кроме вахтенных, конечно, на берегу, а тут пусто, смолой пахнет.
Самое место, чтобы о море поговорить. О том, кто куда ходил, чего в трюме привез, кому в чем удача вышла, кому, опять же, не повезло. И таких хватает: тут и стража береговая, и алжирцы, а теперь еще и турки все чаще к берегам нашим заглядывают. Да и венецианский лев озверел совсем – у всех островов галеры с галеасами стерегут, кого поймают – сразу на рею.
Но все равно – живем. Живем, плаваем. Судьба у нас такая. По краешку жизнь идет, по кромочке.
У меня и у самого было что рассказать, да только я молчал больше. Калабрийцу про море интересно, что на берегу случилось – мое дело.
…Не только мое, конечно. Но это и до Севильи подождет, не прокиснет.
Рассказал Пабло Толстяк. Все, как есть и как было. Рассказал, вздохнул, брюхом своим безразмерным колыхнул:
– Или не знаешь ты, Бланко, что в Швейцарии есть такой кантон – Ури?
– Или не знаю, – согласился я. – Да не беда, дорогу найду. Чего туда повезем?
Поглядел на меня Калабриец – странно так поглядел.
– Или не повезем, Начо. Был я в Ури в запрошлом годе и, знаешь, домик прикупил. Горы там, красиво очень. И не сунется никто, герцог австрийский попытался – так ему все зубы пересчитали. Тихо в Ури…
Только и смог я, что моргнуть. Домик?!
– Тебе сколько лет, Начо? Двадцать? Я мне уже пятьдесят скоро стукнет. То-то!
– Да ты чего, Калабриец? – поразился я. – На покой собрался, что ли? Так ведь с тоски пропадешь в Швейцарии этой. Волком завоешь на третий день!
Зря я, конечно, голос повышал. Потому как не всерьез Калабриец про домик этот сказал. Знаю я – не бросит он наше ремесло. Так и помрет в море.
Долго молчал Пабло Толстяк, на чаек поглядывал, на берег близкий. Наконец дернул плечом:
– Или не соплей зеленой я в море вышел, Начо? Или не знает меня каждая рыба от Кадиса до Измира? Только вот что я тебе скажу, а ты уши растопырь да слушай. Дело наше – верное да правильное; надо по морю ходить, мы и ходим. Да только кончается все, Начо. Скоро не нужны мы станем, совсем не нужны. Кто сейчас по морю все больше ходит? Пираты да вояки, а честному контрабандисту и податься скоро некуда станет. Кастилия флот строит, и Арагон строит, а туркам и алжирцам уже и строить не нужно – все море в галерах. Так что вроде как между молотом и наковальней мы. Хочешь жить – иди в пираты, а это дело, скажу тебе, Начо, паскудное, паскудней некуда. А товары сейчас все больше королевские корабли возить начали. Дороже, да риску меньше. Так что не шутил я про Ури. Вот не станет Калабрийца, и Берега прежнего не станет. Мы, Начо, вроде как рыцари. Им теперь делать нечего, и нам скоро на покой. Только покой у нас, сам знаешь – петля да плаха!…
Хотел я возразить, поспорить даже. Это же надо, чтобы Пабло Калабриец (Калабриец!) такие речи вел! Но только смолчал я, потому как рыцаря моего калечного, Дона Саладо, вспомнил. Тот тоже верит, что по сей день идальго благородные по дорогам разъезжают, инфант прекрасных вызволять спешат…
Дона Саладо я на берегу нашел. Да и искать особо не пришлось. Вот костер горит, тьму ночную разгоняет, вот парни вокруг. Большая толпа собралась! И мой рыцарь посередине, на сложенных сетях рыбацких восседает. И ведь что интересно? Обычно, когда наши с Берега вот так собираются, то шуметь начинают, аж в Севилье слышно. А тут тихо как-то. Всего один и говорит.
– …И вижу я, сеньоры, что опускается подъемный мост в замке том, и ворота раскрываются. В воротах же стоит страшный великан ростом с сосну корабельную. А на великане том шлем стальной, и латы стальные в насечке золотой. И говорю я доблестному эскудеро своему: «Видишь, Начо? Настало время для славного подвига!»
Присел я в сторонке, дабы не мешать. Уж больно горячо идальго мой рассказывал. От души. Мочалку свою вперед выставил, руками разводит – для пущей убедительности.
– …А великан тот пасть свою раскрывает, клыками желтыми светит. Я, говорит, император Трапезундский, и настало мне самое время пообедать. А вот и обед мой – из двух блюд…
Протиснулся я ближе, чтобы про императора Трапезундского ни слова не пропустить. Ведь не ошибся мой идальго – по крайней мере, насчет обеда.
Узнали меня. Узнали, в бок толкнули:
– Ну и дядьку ты привез, Начо! Силен дядька!
– …И отвечает ему мой славный эскудеро: «Не достоин ты, чудище, с рыцарем моим меч свой скрестить. А отведай-ка сперва моей даги!»
Понял я – не пропадет Дон Саладо. Любят ребята байки слушать. А где еще такого рассказчика встретишь? А мне опять – шепотом, на самое ушко:
– Ты, Начо, дядьку этого здесь оставь, ясно? Пусть тут поживет, веселее с ним будет!
Ветер с моря, солью пахнет, Угли красные мерцают, А над нами – звезд без счету, Словно жемчуг кто рассыпал. Будто в сказку мы попали, А ведь точно – прямо в сказку, Где идальго благородный, Сто чудовищ поразивший, Отдыхает после боя. Только грустно стало что-то. Позавидовал я даже Сухорукому идальго. Его сказка – бой смертельный За прекрасную принцессу, За Христову веру нашу, За Кастилию родную. У меня другая сказка. Эту сказку не расскажешь У вечернего костра.ХОРНАДА XXII. О том, как меня продали за пять эскудо
Чего можно услышать на площади Барабан, особливо ежели ближе к вечеру? Да чего угодно там услыхать можно: и про цены на селедку, и про то, что суд Страшный завтра после полудня наступит. Место тут такое.
…Места знать надо! Без этого в Севилье и шагу не ступишь.
Оглянулся я, на цыпочки даже привстал. Все, как есть, знакомо. Прямо перед носом Альменилья – вал-гора, за которым Гвадалквивир плещет, справа крыши черепичные, там Речные улицы, где лодочники живут, еще правее – тоже крыши, но уже с флюгерами – квартал Ярмарок. А сзади две улочки – Сапожная и Аббатская, там мастера всякие обитают, молотками стучат.
– Эй, красивый, кинь мараведи, все, как есть, скажу, что было, чего будет…
Ну конечно! Юбка до земли, пестрые ленты по плечам. Цыганка!
Отвечать не стал, разглядывать ее – тоже. Только кошель рукой прихватил – для верности. Всякий народ тут топчется. Приезжие в основном, потому как мост в Триану рядом и пристань с лодками – рядом…
На лодке я сюда и приплыл, потому как через Триану или, допустим, через Хересские ворота пробираться мне никак не хотелось. А от пристани, через ворота Трианские, хоть мавританское войско проводи, ежели днем, конечно. Стража там стоит, но больше для виду, потому что всякие приезжие валом валят. А денежки с них не тут берут, а прямо на рынке. И еще хотелось на Севилью полюбоваться. Давно ее, красавицу, летом не видел. В последние годы я тут только зимую, а зимой – не тот замес, вид не тот. То ли дело сейчас! Подплываешь – и крест сверкающий над Хиральдой видишь. Чуть ближе – Башня Золотая показалась, потом кресты над монастырями – слева Кувас и Святой Клементий, справа – Мария Пещерная, что за рекой. Смотришь – вспоминаешь.
…Есть чего! Вот, например, Кувас и Святой Клементий. Рядом монастыри, но Кувас – для святых сестер, а Клементий, напротив, для братьев. Еще сопляком слышал я, что между ними ход подземный имеется. С двух сторон братья-сестры копали, а монахини из Клементия все одно больше вырыли.
Ну, это, положим, байки. Да зачем ход, если в сад, где сестры гуляют, через стену перемахнуть можно? Была там сестра Агата, молоденькая совсем, ее отец-зверюга насильно в монастырь отдал…
Да-а!…
Тряхнул я башкой, дабы мысли всякие не слишком мешали, и вновь оглядываться стал. Оглядываться – и прислушиваться. Ведь я чего первым делом на Барабан этот завернул? Само собой, новости узнать. Но только новости все какие-то старые. Ее Высочество из Барселоны отбыли, к нам в Севилью скоро пожалуют, под Гранадой вроде как перемирие, а сельдь подорожала – вместе с солью. Когда ж такое было, чтобы летом сельдь дорожала?
Ну, про сельдь и про все прочее я и так слыхал. Ясное дело, день не ярмарочный, вот и новости не свежие.
…Что за притча? Вроде как цыганка эта, в юбке пестрой, опять рядом? Оглянулся – нету. За кошелек – есть кошелек. Никак померещилось?
А тут и колокол церковный ударил, не иначе, у того самого Святого Клементия. Поглядел я на солнышко – уходит солнышко, уже за Хиральду спряталось. Вроде как пора мне…
– Жители славного города Севильи! Жители славного города Севильи!…
Ну, вот и новости. Глашатай – и даже, кажется, знакомый. Не тот ли, что в Касалье глотку драл?
– Слушайте и не говорите, что не слышали! Слушайте, жители славного города Севильи!…
Отчего же не послушать? Обернулись, носы вперед выставили, уши распушили. А глашатай орет-старается:
– Его светлость дон Аугустино Перен, королевский ассистент [46] города Севильи, до ведома вашего доводит. С сего дня награда за голову вора и разбойника Игнасио Гевара, именуемого также Бланко, повышена до пяти эскудо. А приметы оного Гевары такие будут: волосом бел, ростом ни высок, ни мал, плечи широкие…
Вот тебе, пикаро, и Хуанов день! Втянул я башку свою белую в плечи широкие – да прочь пошел, пока добрые севильянцы на глашатая смотрят, а не по сторонам. Хорошо, что на мне шляпа да плащ до пят.
– …А разыскивается оный Гевара за воровство морское да за измену преступную государыне нашей Изабелле…
Только тогда и оглянулся, когда площадь позади осталась. Стоят жители славного города Севильи, на глашатая-петуха уставились, а сами небось эскудо уже подсчитывают.
И кто же, скажите на милость, мне так удружил? Воровство морское – петля верная, а измена если – колесование, не иначе.
Узнал новости, называется! И ведь самое обидное, нельзя из города ноги сделать. Во-первых, вечер потому что, ворота запирают. А во-вторых, дела. Ради дел этих проклятых я сюда и пожаловал.
…И вроде снова цыганка – из-за угла выглядывает. Тьфу, притча! Чего это я волнуюсь, цыгане с цыганками здесь на каждом шагу. И не до них мне теперь.
Но – ничего. Главное, места знать надо. Вот сейчас с Аббатской улицы на Сапожную перейдем, Байонскую сзади оставим, а там уже и улица Головы Короля Педро. Мои места, королевство пикаро. Там «оного Гевару» ловить никто не станет, особенно с темнотой.
…Сколько я по этим улицам набегался! С ребятами Мата Кривого я тогда ошивался, там меня Бланко и прозвали. А чуть дальше, у монастыря Святой Паулины, где Квартал Герцога начинается, падре Рикардо жил.
К его дому я так ни разу за эти годы и не подошел. Страшно как-то! Все кажется, увижу дверь полуоткрытую (никогда падре Рикардо дверей не запирал) или даже его самого на скамеечке у входа. Часто он вечерами там посиживал. И я рядом с ним…
До «Мавра» я как раз с темнотой добрался. Лучше не придумаешь – улицы опустели, добрые горожане ставни заперли. Поглядишь – словно крепость: заборы да стены с бойницами. Старые тут места, еще мавританские. И дома от них остались. С улицы поглядишь – стена да полтора окна (а то и вообще окон нет). А внутри – садик цветущий, патио с фонтаном и прочие всякие радости.
Умели жить, сарацины проклятые!
А в «Мавре» сейчас самая жизнь начинается – ночная. Да мне вся ночь и ни к чему. Мне бы до колокола досидеть – того, что с вечерни народ распускает. В «Мавре» же с этим, как есть, хорошо. Сразу с трех сторон слышно – от Святой Паулины, от Квартала Герцога (это сзади) и, конечно, от Хиральды-Великанши. Там такой колокол, грянет – земля задрожит!
Постоял я у входа, на башку мавританскую поглядел, что прямо из стены глаза пялит (как живая сделана, ночью страшно даже). За дверную ручку взялся…
Обернулся. Назад поглядел.
… Пусто на улице, никого нет. С заходом солнца только пикаро здесь и шляются. И не шел за мной никто. Корчете [47], крючка проклятого, я бы сразу заметил-срисовал. А в «Мавре» гостей не выдают, порядки такие. В общем, места знать надо!
Помянул я Деву Святую – хранила чтобы, толкнул дверь.
И ударили кастаньеты!
Ветер носится по залу, Мимо стойки деревянной, Мимо кадок и бочонков, Рядом с грубыми столами, За которыми народец Замер, рты раззявив дружно. Свечи сальные мигают, Чуть не гаснут – ветер, ветер, В юбке пестрой, полотняной, Весь в браслетах и монистах. Раздувает ветер косы, Треплет красную косынку. Кастаньеты! Кастаньеты! Пляшет ветер малагенью. Одурел народ у «Мавра» — Где такое еще встретишь? Черноглазый легкий ветер В юбке носится цыганской!Поймал я челюсть, на место водворил, огляделся…
Эх, славно у «Мавра»! И народу полно, и место свободное в самом уголке осталось, и весело здесь, не заскучаешь. Вона, как отплясывает, чернокосая!
…Одно странно – опять цыганка! Да что это я? Мало ли цыганок?
А как сел за стол, как кивнул мальчишке, чтобы вина принес, так и совсем успокоился. Шляпа на мне та самая, у Дона Саладо одолжил, плащ черный, перчатки даже. Никто меня в таком виде не признает. Потому видом я точно идальго, из тех, что победнее. Скучно его милости стало, вот и пошел гулять по Севилье.
…А кто и узнает – молчать будет. Вон, хозяин за стойкой даже ухом не повел, а ведь знакомы! Места тут такие. Вот только цыганка…
…Отплясала черноглазая, отзвенела кастаньетами, косами черными тряхнула. А в ответ иной звон пошел: посыпались градом монеты. Я тоже не оплошал – кинул пару мараведи, потому как скучающему идальго жадничать грех. Смеется черноглазая, хохочет, а мордачи, что ныне вечером сюда заглянули, из-за столов повскакивали, лапы к ней тянут. Да только зря тянут. Плясунья глазами черными своими блеснула, ладошку подняла. Хлоп! Словно таракана задавила. Хлоп! Хлоп! Хлоп!
Отдернулись лапы.
То-то!
А я винца хлебнул, шляпу на самый нос надвинул и вроде бы как в задумчивость впал. Не приставали чтобы. Правило тут такое: ежели сеньору общение не по душе, то и лезть нечего. Это попозже, как наберутся, драться полезут. Да мне попозже и не надо, мне бы до колокола досидеть.
Приложился я вновь к кружке глиняной…
Это что же творится в мире? Ну зачем честному пикаро такие напасти? В Бургосе ищут – ладно, за дело, из Касы тамошней ушел. В Сарагосе – тоже, грешен. Но в Севилье? И главное, за что? За измену!
Даже пот меня прошиб, потому как дошло наконец. «За измену преступную государыне нашей Изабелле»! Это ж я вроде как вне закона! Каждый корчете, альгвазилишка каждый, любой стражник коситься станет. А тут еще и Эрмандада! Там парни простые, увидят белую башку и за веревки возьмутся – вязать. Сто заберут, девяносто девять отпустят.
…Понятно, кто этим сотым окажется!
Значит, из Саары – ни ногой. А еще лучше – в Калабрию перебраться, там у Калабрийца брат имеется – такой же толстый, только не Пабло, а Педро. А может, не в Калабрию даже, а куда-нибудь в Сицилию…
Фу-ты, до чего страх довел! В Сицилию? Да ни за что!
И кто все-таки удружил? Не иначе его сиятельство, дон Федерико, маркиз булькающий. Только быстро что-то…
– Чего грустишь, мачо? [48] Угости, не жадничай! Замечтался! Неужто плясунья? Приподнял я краешек шляпы – чуть-чуть, чтобы башку мою белую не засветить. Она!
– Ты, вижу, мачо, при деньгах сегодня. Угости, угости, красивый!
Тут уже плясунья! Рядом, на скамейке. Локти голые на стол поставила, в темных глазищах огоньки горят. Смеется!
– Страх люблю, чтобы красивые – да с деньгами! А я и сама красивая, мачо. Так что угости Костансу, тряхни серебром. Гульнем, мачо, пустим ночку дымом!
И в ухо мне дышит. Сладко так, враз размякнешь!
Щелкнул я пальцами, мальчишку подзывая, дабы принес чего получше. Гульнуть? Отчего бы и нет – пока колокола не зазвонили.
А Костанса эта на меня поглядывает, улыбается.
– Да не хмурься, мачо! Знаю я, как горе веревочкой завивают, все забудешь. Жена есть – жену, невеста – и невесту. До утра ничего помнить не будешь, а утром, как деньги останутся, снова начнем. Только не останутся, я до денег жадная и до красавчиков жадная. Таких, как ты, мачо!
И плечиком жмется – ближе, ближе. Народец, что рядом сидит, похохатывает, подмигивает. Повезло, мол, парню, этакую чернокосую отхватил. Хоть до утра, а радость!
…Всегда чернявые мне нравились. А эта – лучше всех. Меня помладше, крепкая, все, что требуется, при ней, губы горят, на щеках – ямочки, а в глаза взглянешь – на месте помрешь.
Да только помирать мне не с руки. Посему плеснул я в кружки того, что мальчишка принес, свою круженцию поднял.
Стукнулись!
…Все видит хозяин, самое дорогое винцо прислал.
Ну и ладно! А теперь воображу себя столбом каменным при дороге, чтобы ее не слушать. Не слушать, не чувствовать, как кожа пахнет, как губы ее горячие уха моего касаются.
…Как бы шляпа не свалилась. Ни к чему это!
Вот обида! Ну почему не деньком позже? Славно было бы – с этой Костансой реалы мои спустить. Чтобы только запах кожи ее и помнить.
…А если и вправду уезжать придется, куда я Дона Сала-до, рыцаря моего калечного, дену? Оно, конечно, каждый за себя, не я это придумал. Пусть, ежели охота, по дорогам ездит да великанов с василисками гоняет. Но только недолго ездить ему. Его сиятельство с ее сиятельством не забудут, искать станут. А кто беднягу сухорукого в эту гадость втравил? Вот то-то и оно! С собой увезти? Разом с коньком его и Куло моим мерзким? Скажу, что в Иерусалим вроде – паломничество…
– Да ты меня, мачо, не слушаешь? Ай, мачо, какой ты скучный!
Ну конечно!
Вздохнул я, из каменного столба обратно в себя самого превращаясь. И взяло меня зло на жизнь дурацкую. Взяло, ухватило.
– А ты чего, Костанса, за болтовню серебро берешь? Брякнул – не подумал. А ну как плясунья мне сейчас по морде врежет – с размаху? Не врезала, засмеялась только.
– Говорить не любишь? Песни не любишь? А чего ты любишь, мачо? Ну, пойдем, пойдем!
И – за руку меня. Хотел я упереться, как вдруг слышу: бом-м-м-м! Бом-м-м-м!
Громко так, даже сквозь гам здешний различить легко. Еще бы! Сама Хиральда! Бом! Бом! Бом!
А это уже у Святой Паулы. Вовремя!
Встал я, шляпу поправил, плащ свой черный одернул.
– Как скажешь, – соглашаюсь. – Пошли!
К двери мы, а в спину мне взгляды – болтами арбалетными. Любопытные такие, ехидные даже. На что шкура у меня толстая – почуял.
…Только можно было и не чуять. Я и так все понял, первый раз, что ли, в «Мавр» заглянул?
Вышли мы на улицу – пусто, темно, душа радуется. Взял я красавицу эту за подбородочек, к себе повернул:
– А куда пойдем, красивая? К Арсеналу, где Диего Каброн залетных дурачков раздевает, или на Сапожную, к Луису Живопыре? Туда, где сразу режут?
Дернулась, да только подбородочек ее я крепко держал.
…Видать, недавно она в «Мавре», вот и не узнала меня. А я быстро все схватил. Любят тут идальго глупых с кошелем полным за поясом.
Не испугалась – улыбнулась, весело так. Заиграли на щеках ямочки.
– Ай, мачо! Ай, не признала своего! Так ты вроде не из гато? [49]
– А кто спрашивает? – хмыкнул я.
– Костанса Валенсийка, – смеется черноглазая в ответ. – Я с Живопырой хожу, недоумков богатеньких приманиваю. Ладно, мачо, считай, твоя взяла. Обещалась – выполню. Пошли ко мне, близко тут!
И не отказался бы, так ведь колокол! Ударил, меня позвал.
– Пошли, – киваю. – Только не к тебе.
И в переулок, что щелью черной меж двух заборов змеится. Я туда, она – за мной.
– Эй-эй! Я не такая, мачо! Я тебе не пио [50], не шлюха с Речных улиц, чтобы прямо у стеночки. Ко мне идем, мачо!
Поглядел я на нее, черноглазую, полюбовался, по щеке погладил.
– До Морской улицы дойдем. Проводишь. А потом ты – налево, я – направо.
…То есть не совсем направо. Да это уж мое дело.
Не ответила. Взяла под руку, рядом пошла, к плечу прижалась. Хотел я словцо кинуть, чтобы назавтра встретиться, да что-то удержало. Печенка, не иначе. Я ведь про то, чтобы проводила, просто так сказал, наобум. Ей ведь провожать не с руки, ей в «Мавр» возвращаться надо – идальго залетных кастаньетами приваживать…
А вот и Морская. Рядом она, двадцать шагов по переулку. Выглянул я, нос высунул…
– Сир-е-ена-а-а-ас!
Фу-ты, бес! Стража! Патруль ночной. И как раз там, куда мне идти требуется.
…Вот для этого певунью я и прихватил. Подозрений меньше будет. То есть не будет вообще. Идет себе идальго при плаще и шляпе – и при девице. Спите спокойно, жители славного города Севильи!
Повернул я направо, Костансу поближе прижал, носом запах ее кожи втянул…
Эхма!
А вот и стражники, обалдуи-альгвазилы. В шлемах, в латах, и копья при них, и мечи. Топчутся на месте, на нас не глядят. А чего им на нас глядеть? Идем себе, никого не…
– Сеньоры! Сеньоры!
Даже не заметил, как руку отняла, как в сторону кошкой отпрыгнула.
– Сеньоры! Это Игнасио Гевара! Бланко это, Астуриец!
…Вот тут я и вправду в столб превратился.
– Хватайте его, хватайте, сеньоры! Это я его выдала, Костанса Валенсийка, мне награда! Да хватайте его, чего стоите?
В одном повезло – не Эрмандада это. Те бы сразу сообразили. А эти дурни замешкались, пиками задергали. На мгновенье всего, на малую песчиночку, что из ампольет падает.
Хватило!
Плащ с плеч, шляпу на мостовую…
– Стой! А ну стой, кому говорят! Сто-о-о-о-й!…А вот сейчас!
Ходу!
Эх, недаром мне сегодня все цыганки мерещились! То есть не мерещились, конечно. Наверно, она меня еще на Барабане приметила, подошла, убедилась…
А то, что Начо Бланко в «Мавр» заглянет, любой пикаро догадается. А может, и проследила.
Ходу!
…Словно я снова Бланко Малыш, Бланкито с площади Ареналь, заморыш из Астурии, что пирожки у торговок воровал. Тогда каждый день бегать приходилось. Так что все знакомо. И забор, через который перелететь следует, и пустой патио (никто в этом доме не живет, говорят, в плену хозяин – в Алжире), и еще один забор…
Переулок… Сзади кричат, да уже не так громко. А вы чего думали, Белого Начо поймаете?
Ходу!
Только за Хиральдой, возле галереи Градас, и отдышался. Тут уже бегать опасно – стража всюду. Ничего, ушел!
Отдышался, осмотрелся, цыганку чернокосую добрым словом помянул.
…Зря это она! Или думает, что Живопыра ее защитит?
Так он первый на дагу плясунью эту нанижет. Ведь я уже не Малыш Бланко с Ареналя.
Ладно! Об этом можно и потом. А сейчас…
Поглядел я на площадь, хмыкнул. Вот это «сейчас» и наступило.
Идет!
От врат соборных, мимо галереи, мимо колонн пузатых, прямиком в тот переулок, что к Бирже тянется. Высокий, чуть сутулый, руками при ходьбе дергает, правую ногу чуть подволакивает. А сутана на нем старая, а от сутаны звон тихий – ключи на поясе переговариваются.
Потому и от самых врат соборных шел. Лично он врата эти каждый вечер запирает – никому не верит.
Идет. И я за ним, тихо так. Он мимо Биржи, и я мимо Биржи, он по улице Красильщиков – и я туда же. Близко не подбираюсь, на полсотни шагов впереди держу.
Так и топаем. Вот и эмирский замок – слева, а вот и Башня Золотая, как раз впереди. Это днем она золотая, когда изразцы под солнышком сияют, а сейчас – черная, огромная, страшная. Поглядел я на нее…
– Сыне мой! Буде ты Начо Бланко, то сюда гряди. А ежели иной кто-то – вразумлю телесно, мало не будет!
И когда только остановиться успел? И как увидел? Глаза у него на затылке, что ли? А каков голосина! Куда там Калабрийцу!
Делать нечего, подошел. Подошел, склонил голову:
– Благословите, падре!
Качнул бритой головой, фыркнул:
– Тебя, сыне, должно кулаком благословлять – по шее твоей грешной. На, лобызай! Да не морщись, не мне руку целуешь, а сану моему почтение воздаешь, оглоед!
Приложился (куда ж деваться?), про «…et Spiritus Sancti» выслушал.
– Ну, пошли, окаянец! Заждался я тебя, кнут даже приготовил.
Ну, про кнут это он шутил, конечно. А так все верно. Заждался меня падре Хуан – дон Хуан де Фонсека, архидьякон собора севильского.
…Только это для тех, кто в собор ходит, он архидьякон. А для таких, как я, Эспио Майор – главный шпион Ее Высочества Изабеллы Кастильской.
Если ходишь ты по краю, Если лезвие кинжала Вместо камня под ногами, Когда пляшешь под веревкой, Прежде чем сплясать в петельке, Выбирать уже не станешь. Вот ведь притча! В пять эскудо Начо Бланко оценили. Оценили – и продали. А теперь, выходит, сам я Продавать кого-то стану!ХОРНАДА XXIII. О том, как довелось мне сидеть на бочонке из-под солонины
– Не будь слишком мудрым, сыне, но будь мудрым в меру, – наставительно молвил падре Хуан, дверь тяжелую, железом обитую, запирая. – А не то наверну тебя, сыне, крестом наперсным, мало же покажется – и сапогом приложу!
Поежился я даже. А ведь навернет, знаю!
И за что, скажите пожалуйста? Всего лишь поинтересовался, отчего это мы, как ночь, всегда в подвал спускаемся? Сыро в подвале, противно, мышами опять же пахнет.
– Каждому времени – свое место, сыне. Да не тебе, сущеглупому, сие уразуметь!
Звякнул падре ключами, у пояса их пристраивая, и мне кивнул – садись, мол. На бочонок садись. Много их тут, в подвале. Одни селедкой воняют, другие – капустой. А от того, что мне достался, вообще солониной гнилой несет.
Ну, не понимаю! Ведь падре Хуан де Фонсека – всей Башни Золотой хозяин (если бы Башни только!). Громадная башня, чуть ли не выше Хиральды. Ее еще мавры построили – сокровища хранить. А затем тут тюрьма была – при короле Педро Жестоком. От тех дней – и решетки на окнах, и крюки под потолком. Взглянешь – гадко на душе становится. А после Педро этого (его, говорят, собственный брат зарезал) чего в Башне Золотой только не было: и тюрьма опять же, и арсенал, и, снова-таки, сокровищница. А теперь все это падре Хуану де Фонсеке досталось – разом, от фундамента до зубцов наверху.
Про мавров да про Педро Жестокого сам падре Хуан мне и рассказал. Да только не пояснил, отчего это днем мы всегда с ним наверху встречаемся, а если ночью, то непременно в подвале. Наверху – понятно. Все оттуда видно: и Гвадалквивир с пристанью, и Триану, и таможню, и какие лодки куда плывут. До самой Марисмы, что уже у моря лежит, видно. И Калье-де-лос-Сьерпес как на ладони – улица Змеиная, где все севильские богачи обретаются. Говорят, что посылает каждый день падре Хуан человечка у зубцов башенных сторожить, дабы примечал тот, кто и куда по этой Калье-де-лос-Сьерпес ходит. Так что с верхотурой ясно, а вот зачем, как стемнеет, в сырой подвал спускаться? И что самое любопытное, тут падре Хуан и спит – на настиле деревянном. Вон он, у стены, ровно эшафот, пониже только.
Нет, не понять мне его, падре Хуана! Власти у него – почти как у королевы, а в затрапезе ходит, на досках почивает. И мзды не берет. А если кто в соборе осмелится медяк присвоить, то сразу – ключами по морде. Уж такой он человек!
– Или тебе особое приглашение требуется, сыне?
Не требуется. Сел я на бочонок, поежился. Сыро тут!
– Ну?
Нехорошо так спросил. Спросил – подступил ближе, глазами совиными круглыми на меня глянул. Вздохнул я, расстегнул рубаху, вынул дагу из ножен.
…На этот раз дошла очередь и до рубахи. Правда, распарывать ее не пришлось. Все, что требуется, изнутри нитками прихвачено – суровыми, в дюжину стежков. Потому и не снимал я рубахи, почитай, всю дорогу. Как и штанов.
Резанула дага – прямо по ниткам.
– Ну?!
Вот и первое «ну» – свиток запечатанный. А что в свитке том, не мне знать. Догадываюсь лишь, что по-арабски писан да из-за моря прислан.
Сгребла лапища свиток, на ладони подержала, подбросила. Поймала.
Нет свитка!
А вот и «ну» второе. На этот раз бумага – желтая, вчетверо сложенная. С печатью на шнуре – восковой.
– И чья печать, сыне?
– Педро Гонсальвеса, рехидора Авилы, советника, стало быть, тамошнего, – вновь вздохнул я. – И подпись его. Получен, значит, товар от Абу-Талиба Магриби, купца из Орана. Получен – и оплачен сполна.
Засопел падре, уперся в стол кулачищами. Оскалился.
– А что за товар, сказано ли?
Даже страшно мне стало на миг. Словно в застенке я, а передо мною – допросчик с кнутом сыромятным.
– Сказано, падре. Исчислено все…
Сверкнули в полутьме желтые клыки. Крепкие пальцы вцепились в бумагу.
– И вправду… Ну, сыне, прощаю я тебе все грехи, вольные и невольные, все, что по сей день ты натворил. Но не зазнавайся, еще завтра день будет!
Снова сопеть начал, к свече сальной бумагу поднес – дабы разглядеть получше.
А мне бы дух перевести. Улыбнуться даже – или севильяну сплясать. Ведь жив! Жив, цел, и бумага эта проклятая в нужные руки попала. А ведь достанься она, скажем, парням из Эрмандады… Или потеряй я ее ненароком…
Нет, и думать о таком не хочется!
– И отчего вопросы не задаешь, сыне? Или своим умом до всего дошел?
Покосился я на дона Фонсеку. Я на него, а он – на меня. Никак проверяет, сеньор архидьякон?
– Может, и дошел, – согласился я. – Хоть и не моего то ума дело, падре. Ежели захотели вы славный город Авилу против герцога Бехары взбунтовать, значит, так тому и быть.
…А что для бунта требуется? Порох требуется, да бомбарды, да ядра. Все это Калабриец из Италии привез, а мне досталось в Авилу добро скрытно привезти, расписку получить – и вернуться.
При штанах и рубахе.
Кому – штаны, кому – рубаха. Падре Хуану де Фонсеке – расписку, Калабрийцу – вексель на торговый дом сеньора Хуаното Берарди с улицы Змеиной. Вот так они на пару дела и делают. Ну, и я помогаю – чуток.
…Страсть как интересно, знает ли Калабриец, кто все это затеял? Ведь не каждый день порох да бомбарды возить приходится. Но не спрашивать же!
– Дурень ты, Начо! – удовлетворенно заметил архидьякон, локтями на стол облокачиваясь. – Шустрый, резвый, а все же дурень. Великая ли забота – взбунтовать! Тут иное важно, тебе пока непонятное. Но сие не во грех. Поумнеешь, ежели не повесят прежде.
Пожал я плечами. Этот меня дурнем величает, тот, что в повязке полосатой, – неучем. Может, и дурень, и неуч, да кое-что даже мне ясно. Силен герцог Бехара, вот и решили ему укорот дать – руками коммуньерос [51] авильских. Ведь у кого Бехара помощи попросит? У королевы, понятно. А расписка – уже против бунтарей. Покажут ее на совете королевском, после же на всех площадях загорланят о том, что Авиле мавры помогают, порох и бомбарды продают. И никто уже за бунтовщиков-коммуньерос не вступится – грех! А прочие коммуны трижды задумаются, прежде чем за права свои вступаться.
А может, и что еще задумано. Хитер, падре!
– А я за тебя, паршивца, волноваться уже начал, – хмыкнул между тем дон Фонсека. – Розыск объявил даже. А вдруг тебе, шкоднику, вольной волюшки захотелось? Поэтому с такими, как ты, ухо востро держать требуется. Небось сразу сюда прибежал, как глашатая услышал? То-то! Учись, сыне!
Вот, значит, кому я розыском обязан!
– Поводок коротким должен быть, длань же – твердой. А что ищут, не волнуйся. Не отыщут!
Отвернулся я, плечами дернул. Легко ему говорить! А если бы схватили меня час назад альгвазилы? Ведь эта ночь – не последняя!
…И цыганку вспомнил, Костансу Валенсийку. Вот ведь дрянь, заработать на мне решила!
Вспомнил – и злобой зашелся. Пять эскудо, значит?
А падре Хуан не иначе мысли читать горазд. Протянул лапищу свою, за плечо меня тряхнул:
– Они не отыщут – я найду. Или обидеться, сыне, решил на меня, отца своего духовного? Характер показать? Ох, сыне, под Богом ходишь! Под Богом да под веревкой. Или не я, грешный, почитай, из петли тебя, сквернавца, вынул? Так ведь та петля – не последняя. И дыба еще есть, и плаха, и колесо. Всюду найдем, ежели понадобится. И в Италии найдем, и во Франции, и у турок…
Хотел я руку его с плеча сбросить – не решился. Не шутит падре. Найдут! Найдут, сюда на веревке притащат…
– Так что служить тебе, сыне, пока мне да королевству в том нужда будет. Верой и правдой служить. Понял ли? Ответствуй!
– Понял… – выдохнул я.
– Не слышу!
Наклонился, в лицо дохнул, глазами совиными уставился. А у меня душа – в пятках. Как тогда, на эшафоте…
– Понял!
– Ну, то-то же!
Горят-чадят свечи сальные, от бочонка солониной гнилой тянет. В глиняной кружке – винцо неаполитанское, «мангьягерра», самое лучшее. Все знает обо мне падре Хуан! Даже какие вина пью.
И если бы только это!
…Никогда мне дон Фонсека денег не дает – чтобы сам. Кивает на сундук – бери, мол, сколько хочешь. А сундук-то здоровенный, сверху – серебро в мешочках, ниже эскудо золотые, тоже в мешочках, но поменьше. И не смотрит даже, сеньор архидьякон, будто заранее знает, сколько я загребу. Он не смотрит, а у меня ладони разжимаются, словно в том сундуке и вправду – сребреники Иудины. Взвесишь мешочек на ладони, сунешь за пояс, а за другим и не потянешься.
Долго сидим. Уже и полночь отзвонили, и свечи вот-вот погаснут. Да свечи не задача – целый ящик их тут. Хоть до утра толкуй.
…А ведь придется!
– Алжирцы, говоришь, у Сьерра-Мадре? – хмурится дон Фонсека. – Верно ли? Может, просто мориски?
Это я ему про разбойничков тех рассказал, что на нас с Доном Саладо напали. Великаны, которые.
– Тюрбан мы видели, падре, – не сдаюсь я. – Алжирский тюрбан. Наши мавры такие не носят, ни мудэхары, ни эльчи.
Засопел дон Фонсека, развернул карту, пальцем меня поманил:
– Ну, показывай, сыне. Сообщим, кому должно…
Не силен я в картах (это для Калабрийца больше), но делать нечего – показал. Вроде бы и гора нужная, и перевал. Тот, за которым «Император Трапезундский».
– Вот видишь, Начо, не ради сребреников служишь. И не ради дурной головы своей. Державе служишь!
А я и не спорю. Ясное дело, надобно всех этих алжирцев с маврами – к ногтю, чтобы на нас, добрых кастильцев, ножи не точили!
…А коммуньерос против герцога Бехарского бунтовать – тоже надо? Чтобы под мечи королевские их подставить?
Ой, не думай, Начо! Хуже будет!
– Еще чего?
А чего еще? Поглядел я на свечку – вот-вот сдохнет свечка, пора новую из ящика доставать…
А совиные глаза уже рядом, мосластые пальцы в ворот впились.
– Не скрывай ничего, сыне, не пробуй даже! Это на исповеди отмолчаться можно, здесь же правду слышать хочу. Ну?!
Хотел язык проклятый прикусить. Не смог.
– Вы… Вы велели, падре, проследить за одной сеньорой. За Лаурой Брантес-и-Энрикес, которая в маске по дорогам ездит…
Вот и все! А ведь хотел промолчать…
Давно падре Хуан де Фонсека этой сеньорой интересуется. Не ею одной, конечно. Целый список я заучил – имена, приметы, где кого найти можно. И не поймешь, отчего им всем такая честь. Ну, купцы или кабальеро знатные – еще понятно. А вот такие, как сеньора Лаура…
То есть это раньше мне было неясно, когда я от самой Авилы за этой, в маске которая, ехал. Ехал – и диву давался. А вот как все получилось! Может, и стоит об этом падре Хуану рассказать – о маркизе булькающем, о башке говорящей на стене, о Силе Букв проклятой. Одно плохо – дерни ниточку, весь клубок потянется. А в клубке том – Дон Саладо, идальго мой калечный, и толстячок, сеньор Алессандро Рохас, там и дон Новерадо, и сеньорита Инесса.
Но делать нечего. Чадят свечи сальные, тянется ниточка. Тянется – на мосластый палец наматывается…
На крючок поймали рыбку, На петелечку из пеньки. Бьется рыбка на крючочке, Воздух, бедная, глотает. Никуда не деться рыбке, Если рядом сковородка, Если ножик острый рядом. На крюке висишь ты, Начо! Плавники топырить поздно, Не простят и не помогут. Не повесят за разбои, Так удавят, как шпиона. Ты попался – навсегда!Редко мне злиться приходится. Нравом не таков. Злость – она от бессилия больше. Вроде как поймали меня, сопляка еще, Бланко Малыша, здоровенные парни с Сапожной улицы (не любят там пикаро!), поймали – и ногами лупить начали. А ножищи-то в сапогах, а сапоги с набойками стальными. Вот тогда злостью и заходишься! А как дага пояс оттягивать начала, я про злость почти и забыл. Потому как на равных. Повздорили, помирились – простил, забыл.
(Или убил – тоже бывает.)
А злиться – последнее дело. Ведь не на врагов злишься – на себя самого…
Да только не для этой ночи такие мысли!
Подстерег я ее все там же – у дверей «Мавра». Даже ждать не пришлось. Вынырнул я из переулочка, что на Морскую улицу ведет, глядь, а сеньорита Костанса Валенсийка в юбке своей пестрой с каким-то лопухом-растяпой целуется-обнимается у самых дверей.
…Небось не первым за ночь. Большая у Живопыры нынче пожива!
С лопухом просто вышло. За ушко взял, дагу к носу поднес, путь-дорожку показал. Он, болван, все кошелек мне свой всучить пытался, да только на что мне он? Кошелек, в смысле. Да и лопух, признаться, тоже.
А как затих топот – быстро парень убегал, завидно даже! – взял я цыганочку под руку, на переулочек темный указал.
…А дага уже у горла. Ее горла, понятно. Хотел сразу полоснуть – сдержался. В глаза взглянуть потянуло – напоследок. В глазищи ее темные. Хоть ночь, а все же погляжу…
Ткнулась она лопатками острыми о стену, подбородок задрала (лезвие-то у шеи!):
– Ай, Начо! Никак зарезать меня хочешь?
Весело так спросила. Словно не ее горло я сталью щекотал.
– А ты чего думала? – поразился я. – Своих сдавать – последнее дело, или не знаешь? Обычай пикаро!
Засмеялась черноглазая, косами тряхнула:
– Ай, Бланко, блюдешь обычаи, значит? Да только Костанса тебя все равно продаст, потому что сволочь ты, и дружки твои все сволочи. А ваши обычаи – дерьмо лошадиное, понял?
А у самой ямочки на щеках играют. А во взгляде – злоба плещет.
…Словно моя злость в ее глазах отразилась. Как в зеркале венецианском.
– Мне все равно не жить, из табора я ушла, дура, чтобы стариков не слушать, сюда ушла, в Севилью. Свободной хотела быть, чтобы никто кнутом над ухом не щелкал. Аи, дура я была! А здесь еще хуже. Звери вы, пикаро, никого не жалеете, и вас жалеть нечего. Думала, повезет, сдам тебя, получу золото, а за пять эскудо можно далеко уехать. Уехать – вас всех не видеть…
Говорит – улыбается, прямо на меня смотрит. Даже не по себе мне стало.
– А меня-то за что? – спросил, не удержался. – Чем я-то перед тобой провинился? Ведь ты меня даже не знаешь!
Сказал – и диву дался. Вроде как оправдываться начал. И перед кем?
Качнула головой черноглазая – осторожненько, чтобы на сталь не наткнуться. Качнула – оскалилась.
– Ай, Начо, Начо Бланко! Глупый ты совсем, раз не понимаешь! Да за тебя больше всех платят, ты же среди пикаро вроде как принц – Белый Начо, самого Калабрийца дружок. Тебя сдам – со всеми, считай, расквитаюсь. А зарежешь – так все равно не жизнь это, зато не забудут Костансу, песню даже сложат – про цыганку, что самого Начо Бланко продала, не побоялась.
Опустил я дагу, в ножны кинул. И отчего-то тошно стало. Никого я из своих, из пикаро, не сдавал – даже дону Фонсеке. И про разговор наш ночной, последний с сеньором Рохасом, тоже не проговорился.
…А про главное ничего он мне не сказал, сеньор архидьякон. Про их сиятельств то есть. Поглядел, набычился: «После поговорим». И все.
А с этой, чернокосой, чего делать? Знаю таких, кормятся на наших костях, словно вороны. Живут только недолго – и помирают плохо.
– А что не знаю тебя, мачо, – врешь, ай, врешь! – вновь усмехнулась Валенсийка, губы скривила. – Это ты меня не знаешь, Бланко, а Костанса хорошо тебя помнит, не забывает. Гуляли вы с Живопырой на Крещение, девочек он привел, помнишь? Одну ты себе выбрал – всласть попользовался, а потом дружкам своим отдал – на закуску. Забыл, значит? Да я не забыла!
– Да ты же шлюха! – не выдержал я. – Дрянь подзаборная ты! Пио! Подстилка дерьмовая! Помнить еще такую…
Кивнула она, серьезно так.
– Я шлюха, это ты верно сказал, Начо-мачо. Мне уже стыдиться нечего, отстыдилась, когда впервые на спину легла – под такого, как ты. Отстыдилась – и отбоялась тоже. А шлюхе, Начо, деньги нужны, ай, нужны. Так что не стыди меня, пикаро. Хочешь – режь, хочешь – прямо тут попользуйся, у стенки. Не привыкать мне. А только знай – все равно сдам тебя, не отстану! Посмеюсь, когда ты в петле запляшешь да обгадишься напоследок. И меня вспомнишь – прежде чем язык высунуть. Я уже троих ваших отдала, но только за них мне мелочи медной отсыпали, а за тебя, красивый, пять эскудо полагается!
Не сдержался – поднял руку. Дернулась ее голова, кровью губы закапали.
– Сдам! – зашипела кошкой, вперед подалась. – Всех вас сдам, а тебя – первого! Слышишь? Не боюсь я тебя, умирать стану – в рожу плюну! Режь!
Поглядел я – кровь на пальцах, На рубаху кровь попала. Крепко бьешь ты, Белый Начо! Не иначе – от обиды. Но обиды не на шлюху, Что тебя продать решила. На себя обида эта, За себя, сказать точнее. Чем ты лучше, Начо Бланко? Тем, что служишь королеве, Продаешь врагов Кастильи? Так ты сам для этой девки Враг похуже сарацина! Повернулся, прочь пошел я… В спину смех стрелой ударил: «Не зарезал, значит – струсил! Все равно тебя продам!»ХОРНАДА XXIV. О том, как мне гулялось у «Тетки Пипоты»
Служка на паперти, перед самыми вратами церковными, так на меня воззрился, словно я свечи пришел воровать:
– Иди, иди! Проваливай, messa est, опоздал ты.
А я и сам знал, что messa которая, уже est, для того и подождал нарочно. Спорить, конечно, не стал со служкой этим. Гордые они тут, в Квартале Герцога, потому как в церкви здешние не всякого еще и пускают.
…Еще бы! Дома тут не лучше, чем на площади Ареналь – стены белые в известке да заборы каменные. То есть, если с улицы смотреть, не лучше. Зато внутри! Слева от церкви граф Верагуа живет, справа – граф Барахас, а чуть дальше палаты самого Медины де Сидония, в честь его и весь квартал назвали. Сюда пикаро почти и не заходят.
А я зашел. Никто меня здесь не знает, корчете – крючки паскудные, тут не шныряют, а священники в здешних храмах ученые, потому как квартал непростой.
Так что не стал я спорить, вынул реал – новенький, красивый.
Подбросил.
Ловко служка его поймал – на лету, на самом излете. Я только языком прицокнул – силен!
– Попа сюда. Только чтоб умный был, ясно?
– А твоему господину какую требу нужно? Снова-здорово! Не иначе за слугу меня принял.
– Да не требу. Попа тащи – просто.
Сгинул служка, не кивнул даже. Оглянулся я, на солнышко, что над крышами желтыми черепичными поднялось, поглядел. Хорошо! Еще денек прожили, авось и этот проживем. Чего еще такому, как я, требуется?
…Всю ночь думал, верно ли поступил, что Костансу-плясунью на ближайшее кладбище не отправил. А к утру решил – бес с ней, с чернокосой. Все меньше грехов на душе будет. Пусть себе пляшет, кастаньетами звенит. Ведь красивая!…
– Чем могу помочь, сын мой?
А вот и священник! Молодой, лысый, в сутане шелковой (куда там падре Хуану!).
Поглядел я на него, посомневался. Мне бы кого постарше, чтобы всю премудрость поповскую ведал.
Ну да ладно!
– Мне бы, падре, посоветоваться. Служба кончилась, так что в харчевню, которая на углу, можем заглянуть. Рыбку там страх как хорошо готовят – и бешенку, и плотвичку, и осетра даже. Винцо опять же…
Засмеялся он, головой лысой качнул:
– Я не голоден, сын мой. Пойдемте, воздухом подышим.
Тоже дело!
Прошли мы мимо храма по улице Оружейников, на площадь маленькую свернули, ту, что как раз напротив палат герцогских. Оглянулся я для верности – да и достал платок. Тот самый, с семью узлами.
…Со мной он. Так и ношу, не прячу.
– Тут такое дело, падре. Ехал я как-то горами, которые Сьерра-Морена. Там отрог есть, Сьерра-Мадре называется…
В общем, обсказал, как было. Не все, понятно, но главное. Гостил я в замке, а хозяйка мне платок и дала – с поручением.
…Мне бы, конечно, в севильский собор зайти следовало, да уж больно не хотелось лишний раз с Хуаном де Фонсекой нос к носу сталкиваться. Не у него же о таких вещах спрашивать! Вот если бы мне о торговле с Португалией чего узнать требовалось…
Выслушал меня лысый, подумал.
Кивнул.
– Можно?
Взял платочек, осторожно так, подержал на ладони.
– Если это действительно реликвия дома Новерадо, любая церковь сочтет за честь его хранить, сын мой. Конечно же, вы обязаны исполнить поручение. Только вот…
Навострил я уши. Ведь ради этого «только вот» я сюда и шел.
– Есть легенды, сын мой, предания, мифы. А есть догматика Церкви. Грех самоубийства – один из самых страшных. В народе считают, что этот грех может простить лишь Святая Дева…
Перекрестился, да и я вслед за ним.
– …Но это не так. Самоубийство не простит НИКТО и НИКОГДА.
Веско так сказал, тяжело. Мне даже страшно стало.
– Но как же так, падре? – перебил я. – Ну чем сеньорита Инесса виновата? Чего ей было делать? К маврам в лапы отдаваться, что ли?
Улыбнулся он грустно, головой покачал. Блеснул зайчик солнечный на лысине.
– Вижу, сын мой, легенда вас задела за живое. Я, признаться, не уверен, что дочь Хорхе Новерадо погибла именно так. Романсьеро – всего лишь песня… Но если это правда, то Инесса Новерадо грешна вдвойне. Не восхотела она претерпеть до конца, наследуя пример мучениц наших, и разуверилась в милости Господней. Посему ее вина еще больше. Платок же… Положите его у алтаря, хуже не будет.
Вспомнил я лобастую, как пела она, как меня слушала. Вот ведь жалость! Даже если придумал я все, и дочь того Новерадо – всего лишь родня ее дальняя…
– А лучше будет, падре? – вздохнул я. – Ведь алтарь все-таки, дом Господний, опять же…
– Пойдемте, сын мой, – улыбнулся священник. – Там дальше – Тополиная роща. Красивые места!
Не стал я спорить, пошел. Хотя чего там красивого? Посадили тополя посреди города – хилые такие, кривые даже. Это, значит, чтобы благородным из Севильи не выезжать за стены. Вышел из особняка – и будто лес.
Тоже мне, лес!
Ну, дошли мы до тополей этих, ну, присели на скамеечку каменную. Поглядел священник на платок, внимательно так.
– Не хотелось бы смущать вас, сын мой, ибо вступаем мы в область преданий, Церковью не любимых. Более того, подходим мы тут к границе некой, на которой написано «Homo fuge!» [52]…
Сказанул, однако! Долго я над этим «fuge» размышлял, затылок даже чесать начал.
– Это чего, падре? Лучше, значит, об этом не думать? Кивнул он – резко так, губы сжал.
– Церковь в это не верит и не велит верить… Но не развязывайте платок, сын мой, и никому не велите. Есть истины, пока еще нам неясные. Все может статься… Ведь для чего сеньорита Новерадо завязала узлы? Узлы – символы ее греха, платок же душу грешную удерживает вроде как между небом и землей, не дает низринуться в Пасть Адову. А ежели кто другой узлы развяжет… Нет, нет, сын мой, сие – лишь темные суеверия, однако же заклинаю вас!…
Не договорил, платок мне передал – дрогнули пальцы его длинные с ногтями холеными. Мне и самому не по себе стало.
А вдруг – правда?
– В последние годы, сын мой, немало учений еретических по Кастилии нашей распространилось. Об иных и сказать страшно. И не всегда пуста ересь. Порою проповедники ее, словно Симон Маг в годы давние, способны мерзкие дива творить, католиков верных смущая. И не думают, не говорят, КТО им в этом помощник…
И снова вспомнил я: зал без окон, круги на полу, линии белые, крюки на стене. И КТО же помощник вам, ваше сиятельство? ЧЬЕЙ силой Кастилию нашу спасать думаете?
– Так что бегите всего этого, сын мой, не думайте даже. В храме же платок сей сохранней будет, ибо не достать его Врагу. И еще предание есть, что вслед за платком и душа прийти может, не будет она заперта в том месте, где с телом рассталась…
Вот ведь дела! То-то лобастая жаловалась, что за стены замка она – ни ногой.
Нет, ерунда все это! Достался платок сеньорите Инессе в наследство – вместе с легендой родовой. Она и поверила.
– Так что избавьтесь от этой реликвии, сын мой. Избавьтесь – и забудьте навсегда!
Сказал – словно мечом рубанул. И крест святой сотворил.
И чего думать прикажете? Ежели даже этот, у которого ума – палата, крест творит?
Спрятал я платок поближе к сердцу. Будь что будет, Белый Идальго!
…А у дома падре Рикардо – суета. Лавка там теперь, народец толпится, мальчишки бегают как угорелые.
И скамеечки нет – на которой мы с падре сиживали.
Долго я стоял, уйти не мог. Все годы боялся сюда заглянуть, а теперь решился – да и пожалел сразу. Нельзя в такие места приходить!…
А вдруг душа его, падре Рикардо, все еще здесь? Ведь не дали ему исповедаться, потому как не взял он грех на душу, не оболгал себя. И других не оговорил. Так и сгорел – заживо.
Долго стоял, все пытался «Pater noster» прочесть.
Не читалось…
Разогнали всех – в двери да в окошки выбросили. Чужих разогнали, своих оставили. Столы сдвинули, табуретки да скамейки – кругом…
Гуляет Начо!
Давно душа просила, не первую неделю корчилась, бедная. Но что за гулянье, когда в миг любой старуха с косой заглянуть может? А вот теперь – настало время!
Гуляем!
У «Тетки Пипоты» якорь бросили. И заведение так зовут, и хозяйку. То есть хозяек здешних по-разному крестили, да всех их по заведению величают. Пипота – и Пипота. В общем, самое место для пикаро. Площадь Ареналь в двух шагах, альгвазилы сюда раз в год заходят, и то по приглашению, корчете проклятых в эти стены даже выпивкой не заманишь – страшно! А вот нам не страшно. Сыпь на стол что есть, тетка Пилота, не жадничай, отпирай погреба. Потому как сам Белый Начо гулять собрался!
А вокруг все рожи знакомые – с бородами и без, с ушами – и опять-таки, без ушей. У кого клеймо на лбу – гвоздь да буква «S» [53], у кого ладони еще от «доски» не отмякли. Почти всех помню – с этим еще у Мата познакомились, с этим дрались каждую неделю, а этого, с серьгой золотой в ухе, вся Севилья знает – по ночам добрым обывателям снится, да так, что в поту холодном просыпаются…
Летает ковш из коры древесной, худеют бутыли кожаные, а в бутылях тех «гвадальканаль» двухлетнее, самое винцо для пикаро…
Пей, ори, тарелками битыми по столу стучи, а тарелку жалко – лупи башмаком деревянным!
– Начо! Начо! Бланко! Начо-о-о-о!
А чего бы не покричать, если сам Белый Начо, Начо Астуриец, Калабрийца первый друг, реалы кидает, не считая? Хлебни винца, заешь треской жареной, креветкой закуси, апельсином занюхай.
– За Начо! За то, что не повесили! За то, чтоб не нашли! За пикаро севильского!
И вот уже стены в пляс пустились, и табуретки на ножках деревянных скачут, и люстра со свечами сальными кругом идет. Еще по одной – и сами мы в пляс пойдем. С табуретками на пару.
– А, говорят, ты, Начо, у великана кошель срезал?
– А, говорят, ты, Начо, драконшу попользовал?
– А, говорят, ты, Начо, василиска на дагу насадил? Ну конечно! Просочилось уже из Саары – пустили звон ребята, Дона Саладо наслушавшись. Да я не обижаюсь – пусть себе. Свои все тут! Вот Ганчуэло, всем карманникам король, вот Кариарта, среди браво [54] первый принц, а вот и Хулиана, всем шлюхам севильским мамка.
Мальчишками и девчонками мы вместе с ними по площади Ареналь бегали. Кто до петельки добежал, кто до «доски», а вот нам – повезло нам!
Гуляем!
Тарелки – об пол, кружки – досуха. Тащи, тетка Пипота, еще, не жалей. А мы пока в круг станем, глотки прочистим.
– Севильяну?
– Севильяну!
Руки выше, меж пальцев – черепки битые, для стуку. Эхма!
У Гвадалквивира, у лихой реки, С голоду подохнут только дураки! Если нет кинжала, шило подбери, Спит Севилья наша тихо до зари. Ну а если выйдет кто-то за порог, Сразу шило к горлу – и снимай оброк! Ты, печаль, не суйся, уходи, тоска! Все равно ждет всех нас плаха да «доска». А покуда живы, каждый день хватай. Все равно пикаро не пропустят в рай! Нет в раю поповском девок и вина, Задирай подолы, допивай до дна! Помяни, Севилья, помяни нас, мать, Когда час настанет в петле помирать!Да только час этот пока не настал, живы мы, и Пипота новые бутыли принесла…
Гуляем!
– Не те времена, Начо! Это раньше платили за горло перерезанное, а теперь, смеяться будешь, тумаки заказывают или чтобы по морде кому двинуть. А вчера вообще помереть можно – рога к калитке чьей-то приколачивали. Заказ есть заказ! Я уже и парня одного нанял, чтобы вроде как реестр составлял: кому в ухо, кому – сапогом по заднице, кого грязью облить. Ну, ты понял, да? Во, измельчал народ!
– А кошельки, Начо, кошельки! Раньше добрые люди у пояса их носили, чтобы, значит, резать нам сподручнее. А теперь завели какие-то карманы, понимаешь. Поди дотянись! Мы уже у себя чучело приладили с колокольчиками – учиться чтобы. Лезешь в карман – и следишь, чтобы колокольчик не звякнул…
– Да это чего, парни! А моим девкам – совсем беда. Народ попроще, мясники да лавочники, пугливым стал, попов боится да жен своих толстомясых. А благородные эти, кабальеро, совсем срам потеряли. Такое от девочек моих требуют, что у меня от стыда щеки горят, как услышу. Это у меня-то, Начо! Одну полдня успокаивала – ревела, бедная, только водой святой и отходили!…
Слушаю, киваю, винцо креветками с мандаринами заедаю. У каждого – свое, вот и Калабриец затосковал. Не иначе прав Дон Саладо, идальго мой калечный: кончаются славные деньки, нет уже Старой Кастилии! Только у него с конька его рыцарского один вид, а у нас – иной совсем. А все-таки сходится в чем-то.
– Да ну его, ребята! Давайте глотнем еще, пока лезет. Слышь, Начо, самое время девочек кликнуть. Ну, какая гульба без них?
И вправду!
Поймал я себя за ухо левое, чтобы стены чуток ровнее стали. А в ухе том – шепот, настырный такой. Не люблю, когда надо мной смеются – страх как ненавижу! А ночью прошлой все вроде так и получилось. Словно не Белый Начо я, не пикаро здешних принц…
Откажет Живопыра? Да ни за что!
– …Кличут как, говоришь? Костанса Валенсийка? Да мигом, Начо, чихнуть не успеешь! Эй, кто там у двери, ты, рожа кривая, лети к Живопыре, да для нас девочек прихвати. Ну?!
А в левом ухе – хохот. Славно повеселимся! Будет знать, чернокосая, сколько я стою, а сколько она, подстилка поганая!
– Да знаем мы эту Валенсийку, Начо! С норовом, фараонова дочь. Ничего, она нам спляшет, без всего спляшет, потрясет титьками, а иначе мы ей косы срежем, голой по улицам пустим да Живопыре накажем, чтобы отделал в лучшем виде!…
Киваю я, посмеиваюсь, а на душе – непонятное что-то. То ли хлебнул лишнего, то ли добавить надо. Вон винца сколько, и ковшик рядом, сам в руку ложится…
И не вспоминать! Ничего не вспоминать. Ни порох, что мы с Калабрийцем в Авилу продали – народу тамошнему на погибель, ни маркиза булькающего, ни сеньора Пенью бедного – ни петлю, из которой дон Фонсека пальцами своими мосластыми меня вытащил…
– Эй, парни! Слыхал я, есть за морем-океаном земля. А в землей той – ни альгвазилов, ни Эрмандады, ни галер с эшафотами. Выпьем, чтобы до земли той доплыть, не утонуть!
– Ну, Начо! Ну, сказанул, ну, придумал! А все одно – будем! Чтоб доплыть, не утонуть – да чтобы не повесили!
И не услыхал я, как дверь хлопнула…
В юбке пестрой, в блузке тонкой, В черных косах вьются ленты, На груди сверкают бусы Позолотою дешевой… Не взглянула даже, словно Я – не я, пустое место. А вокруг – веселый гогот: «Эй, спляши, спляши нам, шлюха! Влазь на стол, скидай все тряпки, Да живей, не то подрежем!» Не ответила ни слова, Молча ворот расстегнула, Юбку сбросила, не глядя… «Поживей! Тряси грудями! Начо Бланко здесь гуляет! Эй, вином ее облейте, Чтобы кожа заблестела!» И ударили тарелки Вместо стука кастаньет. Заметался ветер в лентах, Ветер с мертвыми глазами, Словно к нам пришла слепая, И слепая голой пляшет На столе среди бутылей. А вокруг ревут и воют: «Славно чешет эта пио! До утра плясать заставим, С каждым спляшет – не убудет!» А на сердце – гадко, гадко, Ну а я – вином по сердцу. Продавать меня решила? Так за это – попляши!И уже не вижу ничего, кроме потолка кружащегося да люстры танцующей, и не слышу ничего – только тарелок стук и ног босых, что по столу летают. И вроде бы не так что-то. То ли булавка у ворота огнем налилась, то ли платок, тот, с узлами, камнем сделался…
К бесу все, к дьяволу рогатому! Не то творится с тобою, Начо, подменили словно. Меньше надо с рыцарями странствующими да с сеньоритами лобастыми общаться, про благородство всякое слушать. Пикаро – он пикаро и есть, значит, слабины давать нельзя, а вчера ты, Бланко, оплошал, слюни распустил, в себе копаться начал…
Значит, все верно! Ежели не зарезал дрянь, что меня продать вздумала, то теперь унизить ее надо, в дерьме искупать. Посмотрим, надолго ли ее гордости цыганской станет?
Вот притча! Вроде как сам себя уговариваю. И заразная же болячка у моего Дона Саладо, даже хуже, чем вначале думалось!
Ну, ничего, на то и винцо, на то и дружки забубённые. Пустим печаль дымом свечным!
…Догорают свечи, колышется сизый дым под самым потолком. Давно не белили потолок этот, весь в пятнах темных.
Или просто в глазах черно?
Отплясала… Отсвистели, Отревели – аж охрипли. На пол за косы стянули: «Вот тебе невеста, Бланко, Надоест – мы рядом будем!» Даже слова не сказала, Слепо на меня смотрела, Только губы побелели. А когда легла, шепнула: «Стану под тобою камнем, Обнимать ты камень станешь! Я плясала вам сегодня, Но и ты в петле запляшешь. Рад, что верх твой нынче, мачо? Вот и будешь наверху!»ХОРНАДА XXV. О том, как довелось мне побывать на эшафоте
На этот раз мне даже бочонка не досталось. Сундуком обошлось – маленьким, таким, что и не уместишься. Зато с замком – чуть ли не в арробу [55] весом замок. В общем, сплошное неудобство.
Как чувствовал! Не стоило мне днем в Золотую Башню приходить. Так ведь не откажешься. Позовет дон Фонсека, скажем, в склеп с мертвецами гнилыми, и туда лезть придется. На этот раз, правда, довелось всего-навсего пару сотен ступеней пересчитать, на верх этой самой Башни поднимаясь. Потому как день, а днем падре Хуан, как заутреню отслужит, в окошко идет смотреть – на Гвадалквивир и на все, что к Гвадалквивиру прилагается.
Опасно сюда ходить, конечно. Совсем незачем кому-либо знать, что Белый Начо с архидьяконом Фонсекой беседы сердечные ведет. Днем, правда, сюда, в Золотую Башню, целые толпы заваливают: и склад здесь товаров заморских, и писцы перьями скрипят, и менялы золотом-серебром пальцы греют. Так что и мне тут место найдется, скажем, по делам Калабрийца.
Но все равно – не люблю.
Тем более глупо получилось. Только-только я в дверь заглянул, поклониться даже не успел, как падре Хуан сгреб меня ручищей за шкирку – да за ширму, что в углу стоит, кинул. Как котенка какого, честное слово! Буркнул: «Жди да помалкивай!» – и все тут.
А за ширмой – сундучок. Сиди, Начо, не грусти! Правда, тут же и баклажка глиняная оказалась с кружкой в придачу. Открыл я, нюхнул, лизнул… глотнул.
А ничего. После вчерашнего-то!
В общем, даже не заметил я, что падре Хуан уже не один в комнате. Собственно, поэтому меня и спровадили – не мешал чтобы. Одно странно, никогда прежде такого не было. Не любит сеньор архидьякон, когда разговоры его слушают. С чего это для меня такое исключение?
Ну и ладно! Мое дело на сундучке сидеть, кружке скучать не давать. Кислятина, конечно, но – помогает.
…Утром проснулся – нет Костансы. Убежала. Если, конечно, бежать еще была способна. Крепко ее в оборот парни взяли, ни один не отказался. Другие девки даже, говорят, обижались.
Ну и бес с ней, с подстилкой этой! Впредь умнее будет. Жива осталась – и за это пусть спасибо скажет. Петлей грозить вздумала, фараоново племя!
Дохлебал я кружку, новую налил. Налил – да и ухо выставил. Просто так, скуки ради.
Эге, а голос-то знакомый! Не падре Хуана (этот-то ни с чем не спутаю!) – того, другого.
– Нет-нет, сьер де Фонсека! Передайте Ее Высочеству, что я настаиваю, да. И желания мои отнюдь не чрезмерны, ибо намерен я возвеличить Кастилию превыше всех прочих держав. А посему и прошу, да…
Странный голос. Во-первых, чужак говорит, да не просто чужак, а итальяшка (потому и «сьер» вместо «сеньор»), во-вторых, памятный голос…
– Разве звание пожизненного адмирала и вице-короля не достойная награда тому, кто преумножит владения Ее Высочества, да? И долю в доходах прошу я невеликую, четверть всего. О семье же своей забочусь, так в том дурного нет, ибо и дети мои послужат кастильской короне, да.
…И, в-третьих, не поймешь, просит или требует. Вроде бы просит, и голос тихий, слабый такой. Но чего-то в голосе не так. Словно под бархатом сталь прячется.
Не просит – требует!
– Я знаю, чего стою, сьер де Фонсека. Вы умный человек, да. Вы должны понимать, что дешево величие не купишь.
А я уже ухо отрастил с лопух величиной. О чем это итальяшка речь ведет? И почему падре Хуан помалкивает – сопит только, громко так?
– Сеньор Колон! Ее Высочество пожелания ваши находит все же чрезмерными…
Ага, не молчит уже. Хмуро так отвечает, серьезно. А прозвище-то знакомое!
– Более скажу, мужи ученые в Саламанке ваш проект ошибкой почитают. Расчеты, вами сделанные, сеньор Колон, исходят из догадок земляка вашего Тосканелли, однако же есть иное мнение. Если Земля наша и вправду шар, размеры ее куда большие, а посему до стран Индийских не семьсот лиг плыть, как вам мнится, а раза в три дальше…
Даже вскочил я от слов этих. Хотел себя по лбу ладонью хлопнуть – еле удержался. Ну конечно, сеньор Колон – тот, что карты рисует! Я же о нем Дону Саладо толковал! Итальяшка, который хочет в Индию с запада попасть. Так-так, тогда понятно. Сеньор архидьякон при королеве не только такими, как я, ведает, но и торговлей заморской.
…Потому и с Башни Золотой на пристань поглядывает. На пристань – да на улицу Змеиную.
– Ее Высочество почитает сей проект излишне рискованным, сеньор Колон!
Твердо так сказал архидьякон – отрезал. Даже пожалел я итальяшку. Не плыть ему в Индию!
– Ваша королева рискнет стоимостью одного банкета. Я же буду рисковать головой, сьер де Фонсека, да! И я не думаю, что достигну Индии и Сипанго. Я это знаю!
Ого, да мы с характером!
Присел я обратно на сундучок, винца хлебнул, руки потер от удовольствия. Нашла, кажись, коса на камень!
– Сыне! Ее Высочество вполне способна направить каравеллы на запад и без вас. Королевству сие обойдется дешевле.
Хоть и за ширмой я, а словно воочию увидел: ухмыляется сеньор де Фонсека. Зубы скалит.
– Дешевле, да. Только до Индии никто не доплывет. Кроме меня.
Эге, да он, сеньор Колон, тоже, видать, зубы выщерил!
– Два года назад я пришел с этим проектом к Его Высочеству Жуану, королю Португалии. Он тоже пожадничал, да. Мне отказал, сам же послал каравеллу – якобы на острова Зеленого Мыса. С моей карты сняли копию, думали проплыть моим маршрутом. И не нашли ничего, да! Ничего!
Вновь засопел падре Хуан – громко так, шумно.
– Значит, и нет там Индии, сыне!
– Есть! – аж задрожал его, сеньора Колона, голос, задрожал, забился. – Есть! Только не каждый сможет до нее доплыть, да. Волею Господа дана мне сила – прозревать скрытое и входить в потаенное. Другие увидят лишь волны, я же смогу разглядеть землю за морем-океаном, смогу ступить на нее. А после этого, сьер де Фонсека, откроется она и для прочих. Я не просто кормчий, я – кебаль, проводник между мирами божьими!
Отвисла моя челюсть, до самого пупка отвалилась. Вот, значит, где сеньора Кебальо искать следует! И что же дальше?
А ничего дальше. Тихо за ширмой. Даже сопения не слышно.
– А не кажется ли вам, сыне, что сие – ересь зломерзкая, вере нашей католической враждебная?
Мягко так проговорил сеньор де Фонсека – словно бархатом постелил. Словно кошечка лапкой ступила.
…А ведь из этого окна не только Гвадалквивир видать, но и луга Табладо тоже. А там и Кемадеро близко.
Засмеялся сеньор Колон, весело так, будто не картограф он, а пикаро с Ареналя. Даже дернуло меня от этого смеха.
– Золото, сьер де Фонсека! Очень много золота, да. Золото, пряности, серебро, жемчуг, шелк. Победа над Португалией, над Алжиром, над османами, да. Власть над Европой, над миром. А за все – стоимость одного банкета и немного ереси. Между прочим, мой брат Диего сейчас в Англии, у тамошнего короля Энрике. Он, говорят, неглуп, король Энрике, да?
…А мне вдруг неинтересно стало. То есть интересно, конечно, только о другом подумалось-вспомнилось. Ведь не только о сеньоре Кебальо я слышал. И о величии Кастилии мне говорили, и о власти над Европой нашей. Только сеньор маркиз, его сиятельство булькающее, все больше не на Англию – на империю кивал. Сила вещей – и Сила Букв!
…Холодом вдруг повеяло – как тогда, в подвале. И круги горящие перед глазами – Корона, Величие, Милость, Распознание, Сила…
И язык черный – тот, что с крюка со мною говорил.
– Ну, слышал, сыне?
Даже отвечать я не стал, плечами дернул только. Когда это сеньор Колон отбыть успел? Вроде бы и дверь не скрипела.
Отодвинула лапища ширму, меня за шкирку взяла… отпустила.
– Или святой водой покропить тебя, Начо? Ишь, с лица спал!
Не стал я спорить. Можно и святой водой… Посопел дон Фонсека, табурет с шумом придвинул, рядом сел – со мною рядом и, само собою, с сундуком.
– Умный ты, сыне, хоть и дурня порою строишь, а посему вижу – слышал. Да не просто слышал – понял. И о чем сей еретик толкует, и для чего я тебя, оглоеда, сюда позвал. А теперь мне внимай!…
Помолчал падре, пальцами мосластыми покрутил. Сжались в кулак пальцы.
– Чего у маркиза де Кордова видел – забудь. Начисто забудь, пока я вспомнить не велю. Потому как маркиз, может, и умом тронутый, а может, наоборот совсем. Так что дело это державное, важное. Уразумел?
Придвинулся ко мне, навис башкой своей бритой… Сцепил я зубы, головой мотнул:
– Это чего же выходит, падре? Людей за два слова на костер отправляют, а если для державы – значит, можно? Все можно – и головы резать, и баб глиняных плодить, и кебалей этих в Индию посылать? Может, уже и Бога нет?
Сверкнуло в глазах совиных – словно бомбарда в лицо выпалила. Только на полу и очухался. Привстал, ухо потер – болит ухо!
– Это тебе, сыне, дабы не мудрствовал всуе, – вздохнул падре Хуан, костяшки кулачища своего потирая. – В следующий раз покрепче приложу, мало же будет – сам тебя, сквернавца, на мокрой соломе спалю. Понял ли?
– Понял, – кивнул я, ухо свое разнесчастное слюной пользуя.
– Вижу, не понял.
Только что на полу лежал – а вот уже и под потолком оказался. Пушинкой взлетел в лапах его стальных. Сцепились пальцы мосластые на горле моем – петлей намыленной сжались.
– Твое дело – мне да державе служить, вопросов лишних отнюдь не задавая. Понял?!
Куда уж тут деваться?
– Понял… Понял, падре.
Еле-еле воздуху на хрип хватило. На слабенький такой…
– Позову скоро, знак дам. Найдешь меня после вечерни, тогда и скажу, чего делать тебе надлежит. А сейчас – гряди вон, пока не передумал да в окно тебя, наглеца, не выкинул!
Поболтал я ногами, зацепился за пол, подождал, пока его пальцы от горла отлипнут. Только после этого и понял, что жив.
…Как тогда, под виселицей, когда с меня петлю сняли. А ведь выходит, до сих пор я на эшафоте том проклятом стою?
Сайяль я просто так стащил – от злости. И в самом деле! Приехал какой-то селянин неумытый на телеге грязной в нашу Севилью да и спать улегся – прямо на площади Барабан. И добро бы плащ свой мохнатый под голову положил, так нет же – бросил рядом на сено и храпит себе, лошадей пугает. Вот я сайяль этот и позаимствовал – вместе со шляпой. Большая такая шляпа, широкополая.
Стащил – правильно сделал. Не спи, дурак!
Не только, конечно, от злости сайяль я этот взял. От осторожности тоже. Потому как если на улице Головы Короля Педро пикаро – первый человек, то за рекой, в Триане, всякое может случиться. Не любит тамошняя шваль нашего брата. Белую рубаху да шаровары широкие увидит – и сразу за нож.
А мне как раз туда – через Гвадалквивир. В плаще же мохнатом в такую жару только козопасы и ходят. В городе им останавливаться негде – не пускают, зато в Триане таким – самое место.
В общем, накинул я сайяль, шляпу на ухо сдвинул и потопал себе через мост. Тот самый, который на тринадцати лодках.
И ведь не хотел идти! Не хотел, сам себя за руки-ноги хватал. Но все-таки пошел. И не поймешь даже, отчего?
…То есть понять-то можно, легко даже очень. Разозлил меня сеньор архидьякон – до железа белого разозлил. Вот и пошел – ему в пику. Если слишком долго петлей грозить, уже и не страшно становится. Не то чтобы совсем, но притупляется как-то. Вроде как боль зубная, ежели не болит уже, а ноет.
Не выдержал – остановился. Прямо посреди моста. К перилам деревянным подошел, вниз голову свесил…
Так бы и прыгнул – в воду темно-синюю. Башкой вперед!
Фу-ты!
Выпрямился, дурнем себя за подобные мыслишки обозвал. Башкой вниз каждый прыгнуть может, да только не выход это!
…И ведь кто вспомнился? Цыганка паскудная, Костанса. Вот ведь нрав у девки! А все одно, помирать под ножами не захотела, стерпела все. И когда голой плясать заставили, и когда по рукам пустили, по кругу. Губы белые сжимала, зубами скрипела – молчала. И верно делала, потому как жить всем хочется.
А чем я шлюхи этой лучше? Так же терплю. Только у Валенсийки еще и мечта имеется – чтобы я в петле язык синий высунул. Так и у меня мечта есть. Не мечта, конечно, – мыслишка просто. Она, цыганка эта, мне насолить хочет, а я…
Не выдержал – сплюнул. Как же, насолишь падре Хуану! Он тебе первый такой соли под хвост сыпанет!
Но все-таки…
Вздохнул я, мысли поганые прогоняя, стал на Гвадалквивир глядеть. Красивый он тут, широкий. И море рядом. Чуть дальше – Альгаба и Кастельяр, поселки рыбацкие, за излучиной – Вильяманрике, там бар [56] песчаный, а за ним уже – море. То самое, море-океан которое.
Эх, подогнать бы к бару (а еще лучше – к пристани Палоса или в Кадис, например) каракку трехмачтовую, погрузить туда Дона Саладо вкупе с коньком и Куло моим – и только чтобы чайки кричали! А Индия там, за морем, Терра Граале или еще чего – разберемся. Вот ведь притча, сеньор Колон, итальяшка этот, себя кебалем мнит, а ведь рыцарь мой, кажется, тоже из них, из сеньоров Кебальо. Ведь чего мне голова та страшная с крюка говорила?
«…Проси кебаля. Уходи с ним…»
А ведь ушли – между мгновений проскочили, как сеньор Гарет, Бомейн который! Глядишь, и на каракке уйдем – не догонят. Чего я тут забыл, в Кастилии? Не падре Хуана же, в самом деле! Разве что Инесса, сеньорита эта лобастая…
То есть не разве что, конечно.
Вынул я платок с узлами, Поглядел – да снова спрятал. Ты о ком мечтаешь, Начо? Может, призрака ты встретил, Мертвеца без погребенья, Душу, проклятую вечно? Ну и пусть! Я тоже проклят, Под веревкой жить назначен, Что мне призраков бояться? Вроде как мы с нею – ровня. Усмехнулся я, булавку, Что у ворота, погладил. Губы дернулись: «Инесса!» — Тихо дернулись, без звука. Говорят, не нужен голос, Чтобы призрака позвать!Если мне на что-то везло в этот день, так разве на вино кислое. И чем ближе к вечеру, тем вино гаже становилось. То, что я у падре Хуана в Башне Золотой потребил, еще ничего, а когда мне из бурдюка налили!…
Мохнатый такой бурдюк – точно мой сайяль. Впрочем, все тут они такие, мохнатые.
Тут – это в заведеньице безымянном, что на улице Альтосано. Вначале подивился я даже, отчего так? Самая распоследняя таверна (или двор постоялый, опять же) спешит вывеску нацепить. Да не какую-нибудь, а чтобы попышнее. «Император Трапезундский», не к ночи будь помянут, например.
А здесь – ничего. Только над дверью три сапога подвешены – жестяные. Ровно тут сапожник обитает. В общем, понимай как знаешь.
По сапогам я это заведение и надыбал. Так и сказано было: улица Альтосано, а на улице той – харчевня под тремя сапогами. Вообще-то спутать трудно. Одна здесь улица, в Триане этой. Ровно в селе каком! А ведь и точно – село. Крыши чуть ли не под соломой, всюду коровы с козами бродят, не смущаются. Да и в заведении одни козы собрались. А если не козы, так козлы – это уж точно. За столы засели, в сайяли укутались (летом-то!) и винцо кислое, из бурдюков лохматых которое, попивают под олью прогорклую. Ну и мекают, само собой.
Ясное дело, козопасы! Пригнали таких же лохматых с бородами на рынок – да тут и осели. Под сапогами жестяными.
И я с ними. Пригодилась шляпа вкупе с плащом. За своего приняли, даже мекнули что-то в мою сторону.
Ну и ладно! Зато корчете сюда не заглядывают. И не заглянут вроде. Пока шел, дважды возвращался, круги делал для пущей верности.
Чисто! Не нужен никому Начо.
В смысле, почти никому…
Вынул хозяин из меха пробку, в кружки плеснул, метнулась девчонка в переднике грязном к столам. А я в окошко поглядел. Пора бы, давно тут сижу.
Ну, ничего, можно пока пальцы позагибать!
Отхлебнул я кислятины (вот уж действительно везет!), на ладонь поглядел. Первый палец…
…Бежать мне надо! Линять, удочки сматывать, ноги делать, сматываться. Чует печенка, не отвертеться на этот раз. Крепко меня дон Хуан де Фонсека держит, не отпустит. Ну, так я и проситься не стану. Не за море-океан бежать, конечно, места поближе есть.
А посему – палец второй. Не дурак, сеньор архидьякон, совсем наоборот даже. Почуял – оттого и в розыск объявил, да не за мелочовку какую – сразу за измену. Значит, бумагой какой обзавестись требуется с подписью и печатью да и башку покрасить. Был Белый Начо – и нет его. Конечно, руки у падре Хуана длинные, но не Господь Всевидящий же он! Мест в мире много, да и серебро кое-какое у меня имеется. Зря, что ли, я все эти годы с Калабрийцем ходил?
Значит, палец третий… С ним поговорить следует, с Пабло Калабрийцем. Про кантон Ури, например, или даже об Англии, где брательник сеньора Колона обретается. И четвертый палец…
– Начо!
Не успел палец загнуть – застыл палец. Это же надо, не заметил! А если бы парни из Эрмандады подобраться решили?
Встал я, вокруг поглядел. Тихо вроде вокруг. Кому какое дело до того, что сеньор некий к столу подошел? Правда, одет не по-здешнему, так и в Триане разный народ бывает…
Откликаться не стал. Вышел на улицу, в переулочек, что между двух сараев лежит, завернул.
Оглянулся.
Улыбался сеньор Алессандро Мария Рохас, словно родича какого встретил.
– Я знал, что вы придете, Начо. Вы – смелый человек! И я усмехнулся ему, толстячку нашему. Хоть и не к месту губы растягивать было. Не к месту – и не ко времени тоже.
– Это вы знали, сеньор. А я вот только сегодня решился.
Если ходишь ты по краю, Если лезвие кинжала Вместо камня под ногами, Когда пляшешь под веревкой, Прежде чем сплясать в петельке, Если шаг всего остался До старухи с бритвой острой, Так и тянет шаг тот сделать, Чтобы страх оставить сзади, Чтобы больше не бояться И старухе в ноги плюнуть! Альтосано, пыль и козы, Захудалая харчевня, Толстячок такой знакомый Улыбается-сияет… Вот и все! Шагнул ты, Начо!ХОРНАДА XXVI. О том, как отважный идальго Дон Саладо защищал добрые кастильские обычаи
– …на лугу, что именуется Табладо. А посему, добрые севильянцы, спешите сами и жен своих добродетельных ведите, и детей тоже, ибо всем дело найдется, всем рады будут!…
Вначале я и внимания на него не обратил – на глашатая. Каждый день чего-нибудь орут. Слушать – ушей не хватит. Все одно, главные новости без всяких глашатаев узнать можно. Те же самые добрые севильянцы перескажут, а не они – так жены их добродетельные…Не добродетельные – в особенности.
– А быть на лугу, Табладо именуемом, такому: бой на копьях тростниковых, бой кулачный до крови первой, арголья, сиречь с мячом забава, карусели, по столбам лазание…
Толпа, что на площади Ареналь собралась, и не толпа даже – десятка два, не больше. Утро, спят пикаро – отсыпаются. Ночная у нас жизнь! Да только глотка у глашатая луженая, и вот уже ставни открываются, рожи похмельные глазами лупают.
– А также коррида, то есть бой бычий!!!
– У-у-у-а-а-а-а-а-у-у-у-у!
Ну конечно! Не выдержал народец. Еще бы, какой севильянец корриду пропустит?
– А праздник сей дает славный город Севилья в честь королевы нашей – Ее Высочества государыни Изабеллы, город наш посещением своим почтившей!…
– У-у-у-у-а-а-а-а!
Сбегается народ. Гато сонные, шлюхи чуть ли не в исподнем, гуляки с носами красными (и синими тоже). Теперь уж точно – пойдут, побегут даже. Мало того, что праздник на Табладо, так еще в честь королевы. Как же государыню не уважить?
…И себя тоже. Ведь не просто так народ на Табладо повалит, а с кошельками полными. Ну как соседям не помочь без денежек побыстрее остаться? Побыстрее – и повернее.
– Эй, Начо, пойдем? Начо?!
Пожал я плечами. Отчего бы и нет, в конце концов. Все гуляют – и мы гуляем.
Веселый город – наша Севилья!
Если по чести, то не стоило бы мне там показываться. Лучше в заведении старухи Пипоты остаться, винца взять да за здоровье Ее Высочества выпить. В розыске я, как ни крути, – да и подумать не грех, мозгой пораскинуть.
О том о сем.
…Вот отчего падре Хуан итальяшку наглого, сеньора Колона, к себе вызывал! Королева приехала, дела вершить начала. А плавания морские – из забот наиважнейших, так всегда было.
И кто скажет мне, ведает ли Ее Высочество про кебалей этих, да про Силу Букв – или сеньор архидьякон для себя все эти премудрости оставил? Ведь не для него, не для дона Фонсеки я жизнью рисковал – для королевы рисковал.
Да только никто мне докладывать не станет. И спрашивать некого – не Ее Высочество же! Всем языка своего жалко – и головы жалко тоже. Так что одно осталось – гадать. А лучше и не гадать, не моего умишка эта забота.
Или моего все же?
В общем, махнул я рукой, повязку на башку свою белую повязал, серьгу новую в ухо вдел, цветным пояском с бляшками медными перепоясался. Пикаро в своем праве!
Потому как – праздник!
Карусели, карусели, Карусели на Табладо, Визг да крик вокруг, да хохот — Погуляем, севильянцы! Столб стоит, натертый мылом, На столбе – бутыль с винишком: Залезай, коли захочешь! Копья легкие летают — Тростниковые, для смеху. На толпу толпа стремится И вопит: «Рази, Кастилья!» Вездесущие хуглары Перед людом рожи корчат Да монеты собирают. И конечно, кастаньеты, И конечно, всюду танцы. Веселись, гуляй, Севилья! Королева в гости к нам!На столб я все-таки залез. Скользкий, понятно, от души мылом натирали, да только зря я, что ли, по мачтам в шторм карабкался? Иной раз и канаты все оборвет, и рея – пополам, и парни с ног валятся. Я, конечно, не моряк – пехота морская, но ежели вот-вот ко дну пойдем, о таком не думается. А столб – подумаешь, столб!
Залез, в общем. С третьей попытки, правда. Залез, подтянулся на самую верхотуру и, прежде чем бутыль кожаную с винишком снять, вокруг себя обернулся.
Высоко сижу, далеко гляжу! Слева на копьях тростниковых бьются, справа место отгораживают – для быков, значит. А сзади…
Туда лучше не глядеть. И не только потому, что со столба брякнуться можно. Кемадеро там, сзади. Ну его к бесу! Зато впереди…
Скользнул я вниз, подождал, пока по плечам меня отхлопают, пустил бутыль по кругу (не жадные мы!) да парням, что со мною пришли, подмигнул. Потому как там, впереди, кой-чего интересное увидел. Кобыла там. Не та, что сено лопает, а деревянная, с ремнями. На эшафоте кобыла.
Ну что за праздник, ежели кого-нибудь плетьми не отодрать? Как говорится, хоть и высекли, зато верхом славно прокатился. А такое уж точно пропускать – грех. Копья тростниковые – это для детишек больше.
Даже странно, ежели подумать. Казалось бы, нам, пикаро, от эшафотов этих бежать надо, не оглядываясь. Для нас же их и строят, досок не жалеют. А ведь не бежим, ни одного зрелища не пропускаем. Нрав такой у нас – веселый больно. Вроде как вызов бросаем – той самой старухе, которая с косой да с бритвой.
…Не только это, конечно. Для гато любой эшафот вроде как пещера с сокровищами. Людишки, что вокруг собираются, всякую осторожность теряют. Не до кошельков им. Я-то по кошелькам не мастер, но как парней не уважить?
Переглянулись – пошли. Посмеялись даже – будет кому-то на орехи!
…Не нам, в смысле.
Протолкались, пробились – и вовремя. Окружил народец эшафот – не пролезть. И пешие, и конные. А на эшафоте уже палач приплясывает, кнутом поигрывает (не плеть, однако, – кнут кожи сыромятной). Щелкнет – муху к помосту прихлопнет. Много их тут, мух. А палач их – бац! И нету мухи. Красиво это у него получается, душевно даже. И не только палач на помосте – жаровня тоже. Черная, углями дымится. Эге, значит, не только верхом катать станут. Кому-то и клеймо полагается – то самое, с гвоздем и буквой «S». Значит, до «доски» дело дошло.
Так что мухи всего лишь закуска. А вот и блюдо главное – волокут уже!
– Невиноваты-ы-ы-ый я-я-я-я! Не-е-е-е-евино-о-о-ова-а-аты-ы-ый!
Ну конечно! Невиноватый он! А кто виноватый?
И ведь даже не пикаро, сразу видать. Дрянь человечишка, корявый какой-то, мерзкий. Вопит, угрем извивается – в лапищах альгвазиловых.
– Невиноваты-ы-ый!
Грохнула толпа, за животики взялась. А братья-гато уже при деле. Смейтесь на здоровье, жители доброго города Севильи!
А вот сморчок в мантии, из судейских который. Грамотку развернул, к народу оборотился. Да только шумят, слышно плохо.
– …оную штуку бархату венецианского и продать хотел…
– Нея-я-я-я-я!
Дергается человечишка, рот раззявил, не иначе до небес докричаться думает. Да только толку-то!
– …свидетельствами уличен и сам сознался…
– Не сознавался-я-я! Били меня, признаться заставляли-и-и!
Хохочет народец, на палача поглядывает. А тот все с мухами разбирается. Пока что.
– …пятьдесят ударов полных, с размахом, да клеймо поставить, да на галеры королевские…
– Не винова-а-а-аты-ы-ый!
Хоть бы молчал! Сразу видно – не наш, не из настоящих, не с Ареналя…
– Эй, сеньоры!!! Гоже ли поступаете?!
Стихла толпа, осекся судейский, даже ворюга с раззявленным ртом замер. Больно уж голос серьезный был.
– Надлежит нам, сеньоры, по обычаю нашему кастильскому дело вершить!
Ушам своим не поверил. А обернулся – и глазам тоже.
Не может быть! Откуда?!
Моргнул я разок, затем еще, а после и понял – может. Одно дивно, откуда шлем такой?
…Потому как на Доне Саладо новый шлем блещет. Не тот шлем-бацинет с забралом, что я у его сиятельства позаимствовал, а салад, такой же, как прежде был, новый только. Блестит на солнышке, аж глазам больно, не иначе песком чистили.
А конек все тот же. И борода-мочалка прежняя.
…Эге, а копье откуда? Здоровенное такое!
– Разве не ведомо вам, сеньоры, что по обычаю, королем Родриго Старым признанному, негоже казнь вершить, ежели человек вины своей не признает?…
В стременах привстал, руку свою худую к небу поднял. А у меня руки, наоборот, опустились. И ведь сделать ничего нельзя! Был бы рядом, с коня стащил. Атак… Ох, плохо сейчас дядьке будет!
И действительно – зашевелились альгвазилы, сморчок-судейский насупился, пальцем старшого стражи подманил. Да и народ хмуриться начал. Такого зрелища лишают!
А рыцарю моему – хоть бы хны!
– Согласно же обычаю короля Родриго Старого, каждый вольный кастилец, сеньоры, вправе защитить свою честь ордалией, то есть судом Божьим, и в том препятствий ему чинить не след.
Окружили альгвазилы моего Дона Саладо. Зажмурил я глаза…
– Отчего же не поступить нам так и сейчас, добрые севильянцы?
Негромко ответил голос – женский, приятный такой. Но от голоса этого толпа в камень обратилась.
Поглядел я…
Она!
Рыжеволосая, на белом аргамаке, в платье черном с воротником высоким, серебряным…
Изабелла!
Слетели шапки, склонились головы, кое-кто на колено опустился – ежели место было, конечно.
– Вам же, сеньор, спасибо, что напомнили нам об обычаях наших славных, кастильских, блюсти кои есть наш непременный долг!
Ее Высочество Изабелла Трастамара улыбнуться изволила. Дону Саладо, рыцарю моему улыбнуться. Слетел идальго с коня, копье уронил, на колено бухнулся…
– Встаньте, сеньор, встаньте! А вы, сеньор ассистент, распорядитесь…
О чем да как – и слушать не стал. Локти сами собой заработали. Хорошо еще, толпа к помосту подалась, так что я мигом в месте нужном оказался.
– Ну, рыцарь!
Смотрю я на него – и чего делать, не знаю. То ли по шее двинуть, то ли обнять. А Дон Саладо… Цветет Дон Саладо, сияет.
– Вот видишь, Начо! Жива еще Старая Кастилия! Живы обычаи славные!
Стал я рядом, за руку идальго моего взял – на всякий случай. Жаль только, рот ему не заткнешь.
А у помоста – перемена. Ассистент королевский, сеньор Аугустино Перен, с коррехидором о чем-то шепчутся, с судейским, сморчок который…
– Не мог я, Начо, в праздности пребывать долее, ибо, знаю, ждут меня славные подвиги! А посему снарядили меня добрые великаны, что в Сааре обитают, и копье достали, и путь верный указали. Шлем же я сам обменял, хоть и с убытком некоторым…
Ну конечно!
А на помосте…
– Здесь ли маэсе [57] Педро Барба, у коего упомянутый бархат исхищен был?
– Здесь, ваша милость. Вот он я!
Ого, крепкий парень этот маэсе. Ему бы не бархат кроить – сваи забивать!
– По обычаю короля Родриго Старого должно провести ордалию, сиречь суд Божий. Согласен ли ты, маэсе Педро Барба, выйти на бой с оружием добрым, чтобы обвинение доказать и правоту свою?…
Ах, вот оно что! Переглянулся народ, заулыбался. Хорошая мысль, однако. Не хуже корриды.
– Да с удовольствием, ваша милость. Вы только дубину мне дайте да место освободите, а я уж этого мерзавца так обработаю – ни на одну галеру не возьмут!
– А ты, Урреа-вор, прозвища не имеющий, согласен ли…
Вот и дубина – озаботился кто-то, в самую руку маэсе Барба вложил. А толпа уже назад подалась – место чтобы освободить. И для боя, и для королевы, понятно. Не только для нее – для свиты. Огромная свита с нею, конные все, важные, на нас и не глядят.
Вытолкнули Урреа-вора, прозвища не имеющего, на самую середину, бросили к ногам дреколье неструганое.
– Дерись! Дерись, невиновен ежели!
А маэсе Педро Барба уже тут как тут – с дубиной. Подходит, посмеивается:
– Спасибо вам, люди добрые, и вам, Ваше Высочество, спасибо, и вам, сеньор идальго. Не мечтал я даже, что самолично злодея на тот свет отправлю. Ну-ка, становись, мерзавец, подставляй ребра, рожу свою похабную подставляй! Ну?!
Грозно так рыкнул, страшно. Просвистела в воздухе дубина…
– Не нада-а-а-а! Не нада-а-а-а!
Дернулся Урреа-вор, назад подался – прямо к копытам коня, на котором сеньор коррехидор восседал.
– Не нада-а-а-а! Виноватый я, украл, украл! Только не надо, лучше на галеры, на галеры!
Ударил хохот, залпом пушечным. Щелкнул палач кнутом, муху последнюю добивая. Щелкнул, руки потер. Дождался!
– Сеньор! Вас Ее Высочество зовет!
Думал – кончилось дело. На эшафоте – свист да вой, и вокруг свист да вой, в самом разгаре потеха. А мы с Доном Саладо как раз исчезнуть собрались. Поговорить чтобы, и вообще, от греха подальше…
– Прошу вас, сеньор, за мною…
Не альгвазил даже – рыцарь. В платье богатом цветном, со шпорами золотыми, на коне добром. Из свиты не иначе.
Огладил свою мочалку Дон Саладо, плечи расправил.
Пошел.
И я за ним. Его приглашают, не меня, да только как дядьку в такой миг бросить? Вокруг все благородные такие, важные, даже страшно…
Но – пропустили. И его, Дона Саладо, и меня тоже. А как иначе? Королева зовет!
Я, понятно, вперед не полез, в сторонке остался, подле коня. Вроде как эскудеро. А Дон Саладо…
– Приветствую вас, Ваше Высочество, Кастилии нашей повелительница! Не прикажете ли совершить мне некий подвиг ради славы вашей, ради веры Христовой?
Переглянулась свита, заулыбалась – паскудненько так. Кое-кто и перемигиваться начал.
…Не иначе слышали уже про бедолагу-идальго!
Только Изабелла серьезной осталась, лицом не дрогнула:
– Рада вас видеть, сеньор Алонсо Торибио-и-Ампуэро-и-Кихада. Как здоровье ваше? Не могу ли помочь чем?
Ох, лучше б не спрашивала! Вскочил мой Дон Саладо с колена, мочалкой своей тряхнул:
– Великое спасибо за заботу, Ваше Высочество! Но не о здоровье рыцарю думать надлежит. Ждут меня подвиги славные, ибо много еще зла в нашей Кастилии, и стану я биться, пока не искореню его – либо костьми не лягу. И в том долг свой рыцарский вижу!
Сняла Ее Высочество перчатку, руку протянула. И вновь рыцарь мой на колено бухнулся.
А сеньоры важные уже тут как тут, Дона Саладо окружили, ухмыляются, посмеиваются даже.
– Говорят, вы, сеньор Кихада, с великанами первый боец?
– А говорят, вы поразили василиска некоего?
– А много ли инфант спасли, рыцарь?
Сжались у меня кулаки. Сжались – да и разжались снова. Не в драку же лезть с этими господами!
Бедный идальго! Не видит он усмешек на рожах благородных. Серьезно так отвечает, с достоинством. И про великанов, и про василисков.
– А извольте, сеньор Кихада, в гости ко мне пожаловать! Очень интересно будет рассказы ваши послушать. И мне, и супруге моей…
Эге, сам герцог Медина де Сидония! Вот дела!
Хотел я к Дону Саладо поближе подобраться – отговорить чтобы. Ведь ясно, для чего приглашают. Небось свои шуты надоели, вот и решили нового найти – шута. Бросил я поводья конька рыцарского, вперед шагнул…
Вот тут меня и взяли – за локти, крепко так.
– Ну что, Начо Бланко, попался?
Куда уж тут деваться? Попался!…
Бывает иногда такое: все видишь – и ни черта не понимаешь. Словно не с тобой это, а если и с тобою, то не всерьез, не взаправду. Глядишь – не веришь. Особенно если самое страшное наступает.
…Не мне руки крутят, не у меня дагу из ножен выхватывают, не меня к чьим-то копытам конским кидают.
– Вот он, Гевара этот, сеньор коррехидор. Ишь, наглец, сюда прийти посмел!
Переступает конь с ноги на ногу. А на ногах, у копыт самых, вроде как бахрома из шерсти. И головы не поднять, не зажмуриться даже…
– Он это, сеньор коррехидор! Он и есть! Вот, девка его узнала!
…Опускаются копыта в пыль, стучат молоточками чужие слова – по ушам, по затылку. О ком это они? Ведь не обо мне же, не о Начо Бланко!
– Он это, как есть он, ваша милость! Он, Белый Начо. Это я его выдала, Костанса Валенсийка, мне награда полагается, ай, полагается! Пять эскудо, сеньор коррехидор, пять эскудо!
А я все на копыта конские смотрю. Не стоится гнедому на месте!…
– …морской разбойник, Ваше Высочество, давно ищем, давно плаха по нему плачет!…
– …пять эскудо! Я это, Костанса Валенсийка…
– …мой эскудеро, Ваше Высочество! И ручаюсь вам, что сей юноша благородный…
О ком это Дон Саладо королеву просит, за кого заступается? Не за меня же? Со мною ведь ничего не случилось, не могло случиться…
– Поднимите ему голову!
Чужие потные руки коснулись лица…Очнулся.
Очнулся, головой дернул, пальцы чьи-то стряхивая, вдохнул конский пот – горячий, терпкий.
– Ты ли Игнасио Гевара, прозываемый также Астурийцем?
Сеньор коррехидор брови нахмурил. Брови нахмурил, с седла свесился. И другие тут же – обступили, разглядывают.
…И Валенсийка рядом – за круп конский спряталась.
Вот и пришел час твой, пикаро! Танцевали под веревкой, станцуем в петельке.
Как и обещано было.
– Я и есть, ваша милость! Игнасио Гевара, стало быть…И смех – ее смех, чернокосой.
И она дождалась!
– Однако же, сеньоры, смею еще раз настоятельно заметить…
Даже усмехнулся я, рыцарем моим любуясь. Бедный Дон Саладо! Не пропасть бы ему без верного эскудеро!
– …Ручаюсь я за юношу этого, немало славных подвигов свершившего!…
Дернул сеньор коррехидор бровью, к старшему альгвазилу повернулся. А у меня только и мысли, что об идальго моем калечном. О нем – и о цыганке, Костансе проклятой. Вот ведь, пожалел дрянь эту, не полоснул дагой по горлу…
А коррехидор рот уже открывает – приказ отдать. То ли в Касу раба божьего (знакомое место!), то ли сразу – на помост.
Открылся рот – и закрылся тут же. Обернулся сеньор коррехидор…
Изабелла! Даже не заметил, как подъехала, как в седле наклонилась.
…Шепнула – то ли ему, коррехидору, то ли просто так, никому.
Отвернулась, на меня не взглянула.
– Гм-м…
Еще пуще его милость нахмурился, в сторонку поглядел – на сеньора Аугустино Перена, ассистента севильского.
И тот отвернулся.
– Значит, сеньор, вы – Игнасио Гевара, прозываемый также Астурийцем, эскудеро сеньора Алонсо Торибио-и-Ампуэро-и-Кихада?
Пожал я плечами – тоже мне вопрос! Пожал – да и понял: свободны руки.
– Так что прощения просим, сеньор Гевара. Обознались, за злодея приняли.
…Скользнула моя дага обратно в ножны. И снова – будто не со мною это. Да так оно и есть. Ведь не я спятил – они все свихнулись. Все разом! Улыбнулся я, дагу поправил:
– Да пустяки, ваша милость. Бывает!
– Он это, сеньоры, он! Не отпускайте, ай, не отпускайте…
Теперь уже Костанса к конским ногам бросилась. Шарахнулся гнедой, копытами в пыль ударил.
– Он это!
Отвернулся коррехидор, плечами пожал:
– Плетей! Чтоб не орала…
– Он это, Бланко! Он!…
Вот и альгвазилам работа нашлась! Схватили плясунью, лицом в пыль швырнули…
– За что? Ваша милость! Ваше Высочество! За что-о?!.
Я стоял, глазам не веря, Ничего не понимая. Или вправду все свихнулись, Или я от страха спятил? Не бывает даже в сказках, В песнях даже не бывает: Отпустили – извинились. Не иначе Дон Саладо Заразил своей болячкой Всех, включая Изабеллу! Только слышу голос сзади, Тихий голос, еле слышный: «Королева тебя помнит, Но велит быть осторожней». Обернулся – никого!ХОРНАДА XXVII. О том, что довелось услышать в Триане о увидеть на мосту Тринадцати Лодок
– Поистине, я в некотором сомнении, Начо, – молвил Дон Саладо, бороду свою, мочалку, на палец накручивая. – Ибо не ведаю, как должно вести себя, особливо же – говорить в гостях у столь знатного вельможи.
– Правда ваша, рыцарь, – согласился я. – А может, ну его, герцога этого? Здесь посидите, винца выпьете?
Здесь – это на чердаке у все той же тетки Пипоты, где идальго мой квартировать решил. Я-то думал ему лучшую комнату снять (денег мне жалко, что ли?), так нет, уперся Дон Саладо. Негоже, мол, рыцарю странствующему в роскоши пребывать! Это у тетки Пипоты роскошь-то? Впрочем, и чердак неплох – светлый, просторный, окно в полстены как раз на площадь Ареналь выходит.
…То есть это для меня – чердак, для Дона Саладо же, само собой, донжон замка. Не стал я его разуверять, особливо же после того, как мой идальго Пипоту «ее светлостью» поименовал. Чуть с копыт старуха не навернулась!
Вот в этом самом чердаке, донжон который, мы и пребывали. Сидели да спорили, идти ли Дону Саладо в гости к герцогу, к его светлости Медине де Сидония – или, опять же, пренебречь.
– Нет, нет, Начо! – подумав изрядно, заявил рыцарь. – Разве можно отказаться от приглашения столь учтивого? Не иначе слухи о подвигах моих – да и твоих тоже, Начо! – до его светлости дошли, вот и желает он рассказ правдивый о них услышать.
– Да смеяться же над вами станут, сеньор! – не выдержал я. – Вы что, рожи этих господ не видели? Смотрят на вас, скалятся!…
Сказал – и пожалел тут же. Заморгал рыцарь глазами своими близорукими, развел руками:
– Смеяться? Но с чего же? Разве не свершили мы с тобою немало славного?
Вот и объясняйся с дядькой этим!
…И ничего-то он не понял, Дон Саладо. И приглашение за чистую монету принял, и в то, что отпустили меня, раба божьего, как его верного эскудеро, людьми злыми оклеветанного, поверил.
…И ведь помнит меня королева! И даже в лицо, видать, знает. Откуда, интересно?
А если б рассказать ему, идальго этому калечному, про те самые «подвиги» мои? Ведь не услышит даже, решит, будто шутит его эскудеро, потому как нравом весел.
Ну, чисто младенец, ей-богу!
– Смущает меня, Начо, – продолжал меж тем славный рыцарь, – то, что речи среди людей благородных гоже держать не просто, а словами особыми, вежества полными. А посему рассказ простой, бесхитростный не годится тут…
Попытался я понять, чего он сказанул, – да так и не смог. Адониса бы сюда, беднягу, с его «u-сонетами»!
– Ежели бы мог мне помощь оказать муж некий, в витии словес искусный…
И вновь я сеньора Пенью вспомнил. Да где он теперь? Впрочем…
– Не тужите, рыцарь. Найдем вам мужа некоего!
И – вниз по лестнице, прямо к выходу. Выскочил на площадь, два пальца в рот засунул…
Обернулись на меня рожи похмельные, небритые, клейменые. Еще бы! Сам Белый Начо свистит. Обернулись, надвинулись, перегаром дыша.
Выслушали, по монетке медной поймали – зубами.
– Да будь спокоен, Бланко! Да мигом мы. Да в лучшем виде!…
За то и люблю Ареналь. Всегда помогут! А мне самое время рыцаря моего с его заботами наедине оставить. Потому как даже до Феса нужно плыть день с хвостом, а уж до Орана…
– Но почему Фес? – удивленно молвил сеньор лисенсиат. – Разве нельзя прямо в Геную или в Остию? Не понимаю…
– Это уж точно, – согласился я. – Не понимаете, сеньор.
С Доном Саладо мы на чердаке беседы вели, а с толстячком нашим, сеньором Рохасом, совсем наоборот – во дворике. Зеленый такой патио, уютный. Даже не скажешь, что мы в Триане. Маслины до земли склонились, над фонтанчиком маленьким – надпись на мраморе белом литерами узорными мавританскими.
…То есть это я больше по привычке сеньора Алессандро Рохаса толстячком титулую. Похудел наш лисенсиат, с лица спал. То ли не кормят его тут, то ли забот много.
Да так оно и есть.
– До Феса день морем идти, до Остии – три, – пояснил я терпеливо. – Значит, риску втрое больше. А про Геную вообще забудьте, сеньор. Галер там сторожевых сейчас – ровно чаек. Разве что осенью, когда шторма начнутся. А в Фесе христиан квартал целый да иудеев полгорода. Оттуда шебеки и тартаны куда угодно ходят. И переодеться можно, и грамоту любую достать – хоть с восковой печатью, хоть с серебряной.
– Ясно…
Задумался сеньор лисенсиат, головой тряхнул:
– Хорошо. Поговорите с сеньором Пабло Калабрийцем. Мы согласны.
– Вы-то согласны, – кивнул я в ответ. – Да только не нравится мне это, сеньор! Не в риске дело. Просто рисковать по-разному можно. С толком ежели – это одно, а вот по-дурному…
– У меня нет выхода, Начо!
Твердо так сказал – как тогда, на дворе постоялом. Мне даже спорить расхотелось. Вот ведь, навязались на мою голову! Один – идальго странствующий, умом поведенный, другой… Еще хуже другой, хоть и головою не скорбен.
И у меня ведь тоже башка на плечах – единственная, между прочим!
А сеньор лисенсиат поглядел на меня – внимательно так.
– Вам моя идея не нравится, сеньор Гевара? Но что можно сделать? Поднять бунт?
– Пробовали уже в Авиле, – вздохнул я. – Да только зубы обломали.
…Вся Севилья об этом толкует. Взял герцог Бехарский Авилу. Не сам, конечно, – войско королевское поспособствовало. И теперь там плахи кровью набухают.
Не простится тебе, Начо! Ни на том свете, ни на этом…
– Вот видите! – нахмурился толстячок, ближе ко мне пододвинулся. – Вы сами понимаете, что нынешняя политика дома Трастамара…
– Хватит! – поднял я ладонь, от подобных слов загораживаясь. – Не хочу и слушать! Ни про Ее Высочество, ни про дом Трастамара.
…А самому все кажется, будто сопит за ухом кто-то. Уж не падре ли Хуан де Фонсека?
– Как хотите, Начо, – дернул губами толстячок. – Кстати, вы просили меня узнать, что такое Ола?
Вздрогнул я даже. Обернулся.
Пусто во дворике. Только пичужки у фонтана умываются.
…А вдруг и они тоже? Взлетят – и прямо в Башню Золотую?
– Просил, – выдохнул я. – И про Олу, и про Силу Букв, будь она трижды…
А у кого спрашивать было? Не у сеньора архидьякона же. А с толстячком мы вроде как повязаны – на одной веревке висеть придется.
Встал сеньор Рохас, к источнику подошел, где надпись мраморная.
Вспорхнули пичуги!
– То, чем занимается маркиз де Кордова, именуется Каббалой. Не слыхали, Начо? Но только его деяния с истинной Каббалой никак не сходны. Представьте себе, Начо, чашу – красивую, стекла наилучшего, с узорами…
– Это сколько угодно, – усмехнулся я. – Мы такие из Венеции возили.
– Вот… А теперь подумайте, можно ли такой чашей убить человека?
– Как?! – поразился я. – Убить? Ну, ежели расколоть, да осколком по горлу…
Фу-ты, ну и мыслишки! И у меня, и у сеньора Рохаса тоже.
– Каббала – тайное учение иудеев. Век назад Моше де-Лион написал великую книгу «Зогар» – кажется, про это вам сеньор маркиз уже говорил…
Припомнил я – и точно.
– Моше-иудей и еще мавр какой-то, сарацин, в смысле.
– Ибн-Араби по прозвищу Афлатун, Сын Платона, александриец, автор книги «Ал-Футухад». Действительно, эти учения, Начо, во многом сходны. В них самих, как я понимаю, нет ничего плохого. Может, это и вправду позволит нам когда-нибудь понять Создателя, даже поговорить с Ним. Но такие, как сеньор де Кордова, не собираются пить из чаши, им требуется иное: расколоть, разбить вдребезги – и взять в руки осколок. Им не нужна мудрость – им требуется только Сила.
– Сила Букв которая? – вздохнул я.
– Да… Ола, ежели на кастильский перевести, это Всесожжение. Слово сие библейское, означает же оно жертву, Господу приносимую. Бывает Ола бескровной, бывает и кровавой.
Присел я к источнику, воды глотнул – чтобы в башке прояснилось. О чем-то таком мне уже рассказывали – во сне, когда ко мне седобородый в повязке полосатой являлся. Да только об ином чуток там речь шла.
– Говорили вы, Начо, про притчу о красной корове……Да не я, сон мне о том толковал. Про раби Ами, которого о смерти какой-то сеньоры Марьям спрашивали.
– Кажется, я понял, в чем дело. Смерть праведников! Вот о каком Всесожжении шла речь. Понимаете? Для того чтобы нашу Кастилию не покарали малахи – Ангелы Наказания, необходимо Всесожжение праведников!
Мотнул я головой – раз, затем еще. Не помогло.
Но ведь слышал я уже об этом! То ли опять же во сне, то ли наяву. Как бишь это? «Смерть праведников искупляет»?
Да!
СМЕРТЬ ПРАВЕДНИКОВ ИСКУПЛЯЕТ.
– Маркиз, который де Кордова, говорил, что Ола эта – вроде щита…
– Верно, – согласился сеньор Рохас. – Щита, который должен избавить страну от всех бедствий. А для этого нужна гибель невинных – многих, тысяч и тысяч. Огненная гибель! Вот про что толковал его сиятельство де Кордова. О человеческом жертвоприношении!
Попытался я эти слова повторить, пожевал губами.
– Да как же это, сеньор Рохас? Ведь мы, слава Богу, добрые католики!
А перед глазами – лицо его сиятельства чернобородое. И другое лицо, то, что с крюка на меня смотрело…
– Это чего же выходит? За-ради процветания Кастилии нужно сжигать невинных? Да какому богу такая жертва угодной будет? Да это же только Сатана выдумать мог!
– Вы сами сказали, Начо!
Отвернулся я, мысли свои, мыслишки, собирая, ровно парней после крепкой драки. Только не получалось что-то.
– Так вот для чего сицилийцы эти проклятые Супрему придумали? Людей в жертву приносить! Да нет, быть такого…
…не может, конечно. А ежели подумать, за-ради чего падре Рикардо сгубили? И ведь не его одного! Как это во сне мне почудилось?
«И если человек праведен, то он истинное возношение для искупления. А иной, неправедный, не пригоден для возношения, потому что порча в нем…»
А ведь точно!
Близко-близко подошел ко мне сеньор лисенсиат. Тихо-тихо заговорил – не шепотом, дыханием одним:
– А я еще понять не мог, Начо, почему маркиз де Кордова первым призвал сжигать марранов! Думал я, дому Трастамара нужен новый внутренний враг – вместо мавров. А выходит, все еще страшнее. Торквемада – просто фанатик, его используют вслепую. А на самом деле речь идет не о вере христианской, коей беда якобы грозит, а о магии черной. И самое ужасное, Начо, это – не сумасшествие. Сила Букв действительно есть, и если ОНИ смогут ее вызвать…
Отшатнулся я от шепота этого – да опять дона Фонсеку вспомнил. А ведь прав лисенсиат! Знает о Силе Букв сеньор архидьякон!
А может, и Ее Высочество? Нет, быть такого не может!…
…А почему, собственно, не может?
– Что-то страшное происходит в нашей Кастилии, Начо! Может, такие, как де Кордова, добьются своего. Но представляете, что это будет за величие? КОМУ станет оплотом наша страна? А ведь есть предание, что земля живет, пока живы в ней праведные люди – те самые, которых они собираются убивать!
– Хватит, – вздохнул я. – Вроде понял…
Не то чтобы, конечно, понял, да только слушать об этом больше не мог. Спятил его булькающее сиятельство, это ясно, что бы там сеньор лисенсиат ни говорил. Но ведь падре Хуан вроде как в своем уме? Ведь он служитель Божий! На нем чин ангельский!
Уж не из тех ли сеньоров малахио – Ангелов Наказания – чин?
…Так ведь фратины, которые из Супремы, тоже ради Господа стараются, когда дрова подкладывают!
Вновь поглядел на меня сеньор Рохас, потемнел глазами:
– Скажите, Начо, разве жалко отдать жизнь, чтобы остановить ТАКОЕ? А если уже поздно – то хотя бы спасти невинных, на страшную гибель обреченных?
А у меня словно веревка по шее заскользила, словно пальцы падре Хуана вновь на горле сомкнулись. Легко ему, толстячку ученому, о подобном языком трепать. Он эту Старуху и не встречал даже, разве что когда бабушка его столетняя помирала.
– Жизнь, – повторил я. – Это еще как сказать, сеньор! Жизнь…
Как это во сне мне слышалось? Про зверя-Левиафана?
«…Можешь ли ты удою вытащить Левиафана и веревкой схватить за язык его? Вденешь ли кольцо в ноздри его? Проколешь ли иглою челюсть его? Будет ли он много умолять тебя и будет ли говорить с тобою кротко? Можешь ли пронзить кожу его копьем и голову его рыбачьей острогою? Клади на него руку свою и помни о борьбе…»
Даже тошно мне стало. Борьба! Да какая тут борьба? Размажут, словно козявку по мостовой, сплюнут – и дальше себе пойдут.
Верно тот лысый падре говорил: «Homo fuge!»
Был у меня приятель – давно, лет восемь назад еще. Хуан Авенаданья звали, а ежели по прозвищу, то Дон Хуан. Лихой был пикаро, особливо по дамской части. Ох, и завидовал я ему, мне ведь тогда всего ничего было, в Малышах Начо ходил. А Дон Хуан – орел чистый! Ни одной юбки не пропускал – ни полотняной, ни из бархата которая. Да вот однажды влез в окошко к супруге мясника соседского (сама позвала – муж-де в отъезде), пробежал по лесенке, влетел в спальню, пояс на ходу развязывая…
А муж-то никуда не уезжал!
Что называется – влетел.
Вот и я влетел, похуже только. Ничего такого с Доном Хуаном и не случилось – встал через полгода, скособоченный, правда, а что без глаза остался – так и с одним глазом живут. А мне и такой радости не будет. Влетел, одним словом…
Про Хуана Авенаданью я как раз и вспоминал – пока по Триане пылил. И как на мост Тринадцати Лодок ступил – тоже про него. Везучий он, Дон Хуан, нашел себе вдовушку да и укатил с нею – аж в Париж. А мне куда бежать? Прав сеньор архидьякон – всюду найдут. Разве что к Терра Граале уплыть вместе с рыцарем моим калечным. Так ведь сыщут! Снарядит сеньор Колон, Кебальо этот итальянский, каравеллу…
В общем, невесело мне было. И назад уже не повернуть, и на месте не постоять даже…
А мост все тянется, словно Гвадалквивир разлиться решил средь лета жаркого. Подошел к самому краешку, к перилам деревянным, снял шляпу свою дурацкую (сайяль на этот раз дома оставил – ну его!), обмахнулся, вперед поглядел…
Птицей шляпа упорхнула – прямо в Гвадалквивир. Да только я не заметил.
Там, где я стоял недавно, О каракке португальской Да о чайках белокрылых Между делом рассуждая, Там, где я платок из шелка, Тот платок – с семью узлами, Доставал и снова прятал, Где позвал, себя не слыша, Ту, что мне платок вручила, — Там она теперь стояла, В ярком платье генуэзском, В круглой шапочке с вуалью, Белым жемчугом расшитой. Замер я, застыл на месте, Сжал рукою крест нательный. Полно, Начо! Обознался! Просто вышла сеньорита Подышать прохладным ветром. А похожа – так похожих Поискать, найдешь немало. Сделал шаг – примерзли ноги, Рот открыл – слова пропали… Обернулась. Мне кивнула, Улыбнулась – видно, рада. И упал я на колено, Точно рыцарь мой калечный, И к руке ее – губами, К теплой маленькой руке…Только за полночь я на чердак к Дону Саладо заглянул. А там!…
Над столом – окуляры, за окулярами – сам сеньор идальго, рядом еще одни – окуляры, в смысле. А на столе – бумаги горой, перья гусиные топорщатся, из чернильниц выглядывают.
– Сколь рад я видеть тебя, Начо! – вскричал Дон Саладо, бумагой шурша. – А мы тут с досточтимым сеньором бакалавром…
И на соседние окуляры кивает. На носу те окуляры – красном таком, огромном. Лицо тоже – носу под стать.
– Не отвлекайтесь, сеньор, не отвлекайтесь! Как видите, сравнили мы манеру славного Кретьена де Труа, равно как не менее славных Вольфрама фон Эшенбаха и Гартмана фон Ауэ…
Хриплый такой голос, ответственный. Серьезный, видать, мужчина, сеньор бакалавр!
…В какой только харчевне ребята его разыскали?
– Однако же, сеньор Кихада, не обратить ли нам внимание на то, как написана великая поэма о Детях Тумана, именуемых также Нибелунгами? Ибо слог ее и точен, и легок…
Понял я – свихнулись оба, Ну, и ладно! Третьим буду. Расскажу – веревкой свяжут, Обольют водой холодной И в подвал сырой запрячут. Встретил Бланко нынче призрак В генуэзском новом платье, Не на кладбище старинном, Не на замковых руинах — Прямо под горячим солнцем, И огнем горели ярким Очи призрака живые! Мы по улочкам Севильи Вместе с призраком бродили, На Хиральду поднимались, На реке считали лодки. И никто не удивился, Не призвал с крестом монаха, Будто каждый день такое В нашем городе увидишь! А когда мы расставались, Улыбнулась вдруг Инесса: «Вот ведь складно получилось, Вы меня позвали, значит? Ну а я – позвала вас!»ХОРНАДА XXVIII. О том, что мы видели с сеньоритой Инессой на площади Святого Франциска
– Истинно так, сеньорита, – качнул своей мочалкой Дон Саладо. – Чуть дальше от нас – бар песчаный, за ним же – море-океан.
– Море… – тихо, еле слышно повторила Инесса. – Сколь счастлива я, сеньоры! Наверно, эти чайки только что оттуда, может быть, их крылья касались волн…
Поглядел я на нее – девчонка ведь совсем! Лобастая худая девчонка, ни разу не видевшая моря. Благородная только, так ведь благородные – тоже люди.
Если по правде, рыцарь мой слегка ошибся. До моря-океана отсюда, от пристани севильской, часа два плыть – и то ежели с ветром попутным. Но не спорить же, в самом деле?
Для того сюда и приехали – пристань поглядеть, да лодки, да шебеки, что из Севильи в Палос собрались. А тут, словно по заказу какому, каравелла причалила. Маленькая, конечно, без палубы даже, но все-таки!
Инесса даже глаза прикрыла, вдохнула всей грудью воздух горячий.
…А ведь и вправду солью морской пахнет. Чуть-чуть, самую малость.
– Как счастлива я, сеньоры! – повторила она. – Как хорошо здесь…
На пристань выбраться я сам Инессе предложил, а вот верхами приехать – это уже Дона Саладо задумка. Как услыхал, что сеньорита Новерадо в Севилью пожаловала, так сразу же о трудах своих забыл (всю ночь они с бакалавром бумагу изводили, весь пол перьями забросали!). Негоже, говорит, девице столь благородной ноги по мостовым бить. А подать нам коней самых наилучших!
Ну, подали, понятно. Вышел я на площадь Ареналь, пальцы в рот вложил.
…Даже свистеть не пришлось!
А молодец лобастая! Она ведь так, верхами, до Севильи и добралась. Уговорила все-таки сеньора Новерадо – отпустил мир поглядеть. Не саму, понятно. Слуг с нею чуть ли не дюжина, поодаль стоят, тоже рекой любуются.
…И вчера они там имелись – на мосту. Не заметил я просто, не до того было. А на мост я ее, Инессу, и вправду позвал. Рассказывал о Севилье – тогда еще, в замке – и брякнул, что Гвадалквивиром лучше всего с Тринадцати Лодок любоваться, с самой середины.
А все-таки здорово совпало!
Ох, и смеялся же я, ох, и обзывал себя дураком последним. Ну, навыдумывали-накрутили! И замка, который Анкора, нет, и тени нет, и ничего нет. А все проще простого оказалось.
И слава Деве Святой!
А сеньорита Инесса меж тем улыбнулась, вуаль жемчужную поправила (приодел дочку дон Хорхе!).
– Значит, где-то там она, ваша Терра Граале, сеньор Кихада?
Ну конечно! Уже рассказал – не удержался. И когда только успел?
– Мнится мне, что именно там, прекрасная сеньорита. И смею вам поведать, что прелесть земли той…
И пошел, и поехал. Не соскучишься с этим дядькой!
…Ведь чего от нас шарахались, как только Дон Саладо про Анкору рассказывал да про сеньора Хорхе? Другая у него, у чернобородого, фамилия, не Новерадо. Король Альфонсо всем родичам Хорхе Старого запретил так именоваться. Но только гордость фамильная с тем запретом не считалась, вот и представился нам сеньор Хорхе прежним прозвищем.
Анкору, между прочим, еще лет сто назад отстроили. Да только не жили там почти. А сеньор Хорхе, Инессы лобастой родитель, решил в горах поселиться после того, как с родом Бобадилья повздорил. Махнул рукой – и уехал навсегда из Вальядолида. Инессе тогда еще и года не было. Потому и не ждал он гостей. Кто же поедет к опальным? А что сеньор Рохас замок не увидел, как оглянулся за воротами, так построена Анкора хитро – скала ворота закрывает.
Вот и все призраки. Хорошо еще, что Инесса меня про платок не спросила. И чего бы я ей ответил? Про семь грехов смертных?
Не удержался – на тень ее поглядел. Есть тень, такая же лобастая!
– …А посему, прекрасная сеньорита, не оставляет меня мечта нанять корабль добрый да команду умелую и отправиться к земле той!
Кивнула Инесса, серьезно так – и ко мне повернулась:
– И вы тоже поплывете туда, Игнасио?
Или почудилось мне? Или вправду голос ее дрогнул?
– Да как же иначе? – вскричал Дон Саладо, шлемом на солнце блеснув. – Разве не ждет сеньора Гевару путь славный, рыцарский?
Хорошо, что мне отвечать не пришлось. Ну никак врать не хотелось – особенно насчет пути моего рыцарского.
…Послал я паренька верного к Калабрийцу – по нашим с сеньором Рохасом делам. Все обсказал – скольких везти да куда, да за цену какую. Не сказал лишь – кого. Успеется!
Вот и весь мой путь рыцарский – я падре Хуана обмануть надумал, а он меж тем мне петельку мылом натирает…
Сжала лобастая губы, отвернулась, словно обидел ее кто.
– Так всегда… Рыцари уходят, мы, женщины, остаемся. Разве это справедливо? Разве сидеть у прялки – это жизнь? Знаете, сеньоры, после вашего отъезда я несколько ночей не спала. Мир такой огромный, а я так мало видела! Если бы я могла…
Переглянулись мы с Доном Саладо. Ну что тут ответишь?
– И о море я думала, сеньоры, о тех, кто уходит на кораблях вдаль, к землям неведомым. Разве мужество бывает мужским и женским? Я даже сонет написала, только вы не смейтесь, пожалуйста…
В два голоса мы с идальго моим ее разуверить поспешили. Дружно получилось!
Отвернулась Инесса, вдаль поглядела – туда, где за холмами да за гладью речной волны морские гуляют.
– Это сонет о той, чей рыцарь ушел в море-океан…
Прибоя ярость ночью отшумела, Морской пучины лик необозрим. Рассветный миг… Уходит каравелла, И ты уходишь, Господом храним. И в миг прощальный я спросить не смела, Надолго ли, как много лет и зим Ты будешь там, пусть с именем моим, Но без меня? Просить – пустое дело, Обычай тверд, и мы обычай чтим, Нет места нам под парусом двоим! Но почему? Иль я бы не сумела? Ведь не слабей душа моя и тело! Но строг обычай. Я не спорю с ним. Я стану в небе ангелом твоим!Замолчала сеньорита, вздохнула. А мы с идальго моим бесстрашным даже не нашлись что ответить. Разве ангелы над морем-океаном нынче летают? Другие духи там парят – те, что из окон Башни Золотой воронами черными каркают.
…А здорово все же! «Я стану в небе ангелом твоим…»
Хоть и близорук Дон Саладо, хоть и не взял с собою окуляры, а все же не слепой оказался, совсем даже наоборот. Порассказывал еще чуток про то, какие реки и горы в этой самой Терра Граале, Земля Чаши Господней которая, имеются – да и откланялся. Историю для герцога Медины де Сидония сочинять – про великанов с драконами. Ударили в мостовую копыта – и остались мы с Инессой вдвоем.
Переглянулись.
Кликнула она слуг, отдали мы им лошадей – да и пошли. По улочкам, по переулочкам…
Хороша Севилья! Иной раз забредешь – и словно в горы попал, в ущелье какое. Слева забор глухой, справа стена каменная – и только небо где-то в самой выси голубеет.
А чего еще требуется? Ноги сами дорогу найдут.
По Севилье мавританской Мимо запертых калиток, Вязью дивною покрытых, Мимо древних стен паласьо, Мимо каменных колодцев, Что поили сарацинов, Мимо храмов под крестами, Черной тенью свет закрывших. По Севилье – мимо, мимо, В никуда, без цели, просто, Ни о чем ведя беседу… Днем одним живет пикаро. Нет вчера, не будет завтра, Есть сегодня – мостовая, Старый камень, птицы в небе, И лобастая девчонка, И рука – в моей руке.…А мостовая все тянется, тянется, а вокруг словно красные горы, те самые, Сьерра-Мадре, куда не пустил мавров старый дон Хорхе, и нет вокруг никого, а если и есть кто, то мимо смотрит, не видит, шапка волшебная на нас – одна на двоих, и нет нам ни до чего дела, и не нужны мы никому, только друг другу…
Да только такое лишь в сказке бывает. А я сказок-то и не знаю почти, какие в детстве слышал – позабыл, а потом уже не до сказок стало. Это для лобастой, для сеньориты Инессы, здесь – страна волшебная, дивный город Севилья, отбитый у злых сарацинов ее пращурами, славными кабальеро, не боявшимися кинуть вызов самому королю кастильскому. Ведь не видела она почти ничего, а тут и Гвадалквивир, и каравелла у причала, и минареты мавританские под золотыми крестами.
И рыцарь рядом – я то есть, Игнасио Гевара – Белый Идальго, с платком ее у сердца.
…Вроде как шут на карнавале, что в доспехи вырядился, меч деревянный в руку взял.
А она рядом идет, меня слушает (о чем только говорю, не слышу даже!), сама что-то рассказывает, улыбается…
И так мне тоскливо стало – словами не передать, хоть трех бакалавров в окулярах за стол усаживай. Не привык я о том, что послезавтра будет, думать. Завтра – понятно, а вот послезавтра…
Уезжает завтра она, лобастая. Она уезжает, я остаюсь.
А там и послезавтра придет.
Оглянулся я, словно разбудил кто. Грязная улица, из-под каждой калитки – след от помоев, на заборах рожи гнусные намалеваны, кожура мятая под башмаки лезет. И другие рожи – из-под шляп мятых выглядывают. Кабы не дага моя да не слуги, что сзади топают, не отстают…
Севилья!
Это в горах заблудиться можно. Заблудиться, в замок заколдованный попасть. А здесь – все яснее ясного. Биржа сзади, Алькасар справа, а за ним уже и Башню Золотую, чтоб она провалилась, видать. Исхожено, изгажено, на углу каждом плевано…
А как вынесли нас ноги аккурат к Святому Франциску на площадь, так и вовсе сказка кончилась. Сгинули красные горы, и ущелья сгинули. Захлестнула нас толпа, завертела, к собору понесла, только и успел я лобастую за руку схватить…
– …И о том вам, жители славного города Севильи, фра Мартин сейчас поведает. Правда, фра Мартин?
Толкнули меня – крепко толкнули, да только не заметил я даже.
– Правда, фра Луне! И расскажу я тоже правду, одну только правду, добрые граждане Севильи!…
Святая Дева, Господь-Вседержитель! Они – жердь и громоздкий! И рожи те же, и сутаны. Только не в Касалья-де-ла-Сьерре они уже, а здесь, в Севилье, на паперти собора Святого Франциска.
…И толпа побольше будет – сотни в три.
– А правду эту нелегко узнать было. Ибо силен Враг в душах изуверов, злое дело сотворивших…
Затихла Инесса, ко мне плечом прижалась. То ли потому, что давят со всех сторон – то ли не потому вовсе. Оглянулся я – полна площадь. И как мы с лобастой шум этот не почуяли? Видать, не до того нам было.
А зря!
– Слыхали вы уже, добрые севильянцы, что исхищен был ребенок безвинный, родителей всеми почитаемых чадо единственное. А имя ему было Хуан Мартиньес, исхитили же его иудеи тайные, в личинах христианских ходящие: Альфонсо Франко, марран, и сын его Хуан Франко, марранже…
Слышали, как же… Оглянулся я, на лица добрых севильянцев поглядел. Ой, нехорошие лица! Хотел Инессе шепнуть, что убираться нам отсюда следует, да словно удержало что-то.
– …И брат его Хосе Франко, марран, и Давид Перехон, марран же. Гостию же святую для дела сего черного похитил злобный выкрест Бенито Гарсия…
Скользнуло имя – дальним эхом отозвалось. Или слыхал где уже?
…Нет, не вспоминается!
А жердь все голосу прибавляет, кабаном резаным вопит:
– И затащили они, марраны проклятые, оного Хуана Мартиньеса в пещеру, что у реки Эскарон, и бичевали его, и оплевали, венец терновый на голову возложили. И хулили при этом Господа нашего Иисуса Христа, и Деву Марию, и святых всех. Правда, фра Мартин?
Зашумела площадь – глухо, недобро, как море перед штормом. Дрогнула рука – та, что я пальцами сжимал.
– Правда, истинная правда, фра Луне! – прогудело в ответ. – И дали оному Хуану Мартиньесу полторы тысячи ударов бичом, и распяли его, после чего марран Альфонсо Франко вскрыл жилы на руке младенца безвинного и оставил кровью истекать, и лилась та кровь в сосуды, и пили те злодеи оную кровь, супротив Господа нашего проклятия изрыгая. После чего марран Хуан Франко достал нож цыганский с лезвием кривым и вонзил младенцу оному в бок, а марран Гарсия Франко сердце извлек и солью его посыпал. Правда ли это, фра Луне?
Охнула толпа, назад подалась. Сжались кулаки…Ая снова Касалью вспомнил. И это знакомо!
– Правда, фра Мартин! Чему же дивиться, добрые севильянцы? Разве не здесь, не в нашем городе, Господом и Девою Святой хранимом, раскрыт был заговор страшный? Или не помните, как проклятый Диего де Сусан, ростовщик подлый, и дружки его Хуан Абольфио да Мануэль Соли, выкресты мерзкие, оружие копили и разбойников собирали, чтобы по всей Севилье христиан перебить и храмы Божий сжечь?
– А разве забыли вы, братья, – подхватил бас, – что не остыла еще праведная кровь фра Педро Арбуеса де Эпила, инквизитора Сарагосы, пронзенного злодейским кинжалом прямо у алтаря? А кто убил его? Выкрест Сантахелла да выкрест Хуан Санчес!
И вновь отозвался люд. Уже не оханьем – ревом.
– Уйдем… – одними губами шепнула Инесса. – Скорее!
Да где там – уйдем! Со всех сторон стиснули, не продыхнуть.
– …Вот такое дело страшное сотворили те, кто за христиан себя выдавать смеет. Не спите, добрые севильянцы! Ходит враг возле нас, словно лев рыкающий! Каждый марран, каждый мориск – злодей от рождения, ибо прокляты они еще до зачатия. Что нужно с ними делать, братья мои?
И – всколыхнулось море, из берегов вышло.
– Бить! Бить! – заголосили, завыли со всех сторон. – Бить их! На костер!
Ступил вперед фра Мартин, ручищи над лысой башкой воздел:
– Не слышу вас, братья! Не слышу!
– Би-и-ить! На косте-е-е-ер! Кемадеро-о-о-о!!!
А в руке у фра Луне уже и факел горит. Потрескивает, желтым огнем подмигивает…
– Неужели это правда, Игнасио? Ведь они – пастыри, они не могут лгать!
Все-таки выбрались мы. Выбрались, в тихую улочку свернули. Поглядел я на лобастую – бледная вся, дрожит, взгляд испуганный такой.
Еще бы!
– Отец говорит, что Кастилия наша сходит с ума. Поэтому он не хочет возвращаться в Вальядолид, ко двору… Но как можно не верить Церкви?
И вновь было мне что ответить. Да только с чего начать? С Олы, с коровы красной, с головы на крюке – или с дуэньи глиняной?
Улыбнулся я, лобастую по щеке погладил. Взяла она меня за руку, пальцы сжала:
– А мне казалось, что нет ничего страшнее Королевской Измены… Отец считает, что нас всех ждет что-то ужасное, и даже мы не отсидимся в Анкоре. Вы… Вы защитите меня, Игнасио? Ведь вы эскудеро, будущий рыцарь, вы друг сеньора Кихады!…
Вот это уж точно – насчет идальго моего калечного. Связало нас с ним веревочкой, и не развязать! Да только что девочке этой ответить? Что сяду я на коня доброго, мечом славным препояшусь, шлем-бацинет надену?…
Ну почему врать так трудно бывает?!
Вздохнул я, головой мотнул даже, мысли глупые прогоняя. О чем размечтался, пикаро?
– Я не рыцарь, Инесса! И никогда им не стану. Сказал – и язык прикусил. В глазищах ее темных – изумление, такое, что не по себе мне сделалось.
– Но почему, Игнасио? Вас скоро посвятят, я уверена. А когда вы станете рыцарем, отец не посмеет отказать, если вы…
Отпустил я ее руку, глаза отвел. Если я… Если я – что?
Догадаться-то нетрудно, да толку? Бродяга, перекати-поле с петлей на шее – и наследница рода Новерадо? Не смешно даже.
Оглянулся я – топот сзади. Это слуги сеньориты наконец-то нас разыскали. Вверх посмотрел – темно уже между крышами.
Вот, значит, и все, Белый Идальго!
– А может, «мангьягерры», Начо? Или агвардиенте? Есть у меня бутыль заветная, из самого Орана привезли, никому не наливала, тебе, Начо, первому…
Суетится тетка Пипота, вокруг меня круги пишет. И в самом деле – беда. Не ест Начо Бланко, не пьет почти. Поставил перед собой кружку кислятины – и сидит, глазами лупает. А шлюхи, пио бесстыдные, что на огонек заглянули, меж собою переглядываются, рожи корчат. Чего это, мол, с нашим Начо? Или сглазили Астурийца?
Не отвечаю, молчу. Видать, и вправду сглазили.
Привела меня тропинка Да к лихому перекрестку, А оттуда – три дороги, Ждут меня, идти торопят. Влево путь лежит широкий, Легкий путь – идти удобно, А в конце – топор да плаха Иль костер на Кемадеро. В море путь второй стремится, Белым парусником манит — От родной земли подальше, От костра и Эрмандады. Третий путь повит туманом, Будто ночь – ни зги не видно. Ждет меня там Дон Саладо, Полоумный мой идальго, За туманом – мир далекий, Душам избранным доступный, Василиски и драконы — Или яма выгребная, Где придется нам подохнуть. А в затылок ветер дует, И толкает, и торопит — Час пришел, решайся, Начо! Только нет такой тропинки, Только нет такой дорожки, Чтоб Инесса Новерадо Мне бы встретилась в конце.ХОРНАДА XXIX. О том, как мы с Доном Саладо у герцога Медины де Сидония о гостях побывали
Толкнул я дверь да и зажмурился – от вони. Шибануло в ноздри, словно крючок рыболовный в нос вставили. Даже порог переступать расхотелось. Нужный чулан у них тут, что ли?
Но делать нечего, пришел – значит пришел.
Везет мне на чердаки! Только что мы с Доном Саладо на таком же сиживали, о жизни калякали, а теперь снова на самую верхотуру подниматься довелось, под крышу черепичную. Только у рыцаря моего окно во всю стену, и соломой пахнет, а здесь!…
Здесь, впрочем, тоже солома оказалась – охапка целая. От соломы-то и шел дух. Давно не меняли, видать.
– Ай, Начо-мачо! Никак ты это? Ай, какой гость пожаловал!
На соломе она и лежала – Костанса Валенсийка. Брюхом вниз, задницей поротой вверх. А на заднице да на спине – тряпка мокрая в пятнах рыжих. Крепко ее на кобыле прокатили.
Да только по голосу и не скажешь!
– Что, Начо, резать пришел? Ай, не забываешь ты Костансу! Или снова потешиться со мною захотелось? Альгвазилы-то не отказались, до ночи не отпускали, ублюдки поганые!
Повернулась, черными глазами сверкнула. Теперь-то ее никто бы красавицей не назвал – космы, как у ведьмы какой, спутанные, лицо закрывают, а на лице – струпья кровавые.
А ведь точно – ведьма!
– Да только, Начо, у цыганки, что у кошки – семь жизней. Три раньше пропало, две на тебя потратила. Ничего, остались еще, ай, остались!
Подошел я ближе, рядом присел. И все слова, что заготовлены были, словно улетели куда-то. Ведь чего пришел-то? Сказать, чтобы мотала из Севильи чернокосая – подальше да побыстрее. А то и вправду глупо выходит, словно на Сицилии этой поганой. Есть там обычай такой – вендетта. Мстят до седьмого колена – и восьмое не жалуют. И у нас с ней вроде как вендетта. Только не у нас – у нее. Даже деньжат подкинуть думал, не пять эскудо, конечно, но все-таки…
– Что, мачо, глупая цыганка попалась? Смеешься над Костансой, да?
Застонала, на бок перевернулась, космы грязные от лица отвела:
– Эге, мачо! Не смеешься, вижу? Никак страшно тебе? И злобою из глаз своих черных обожгла.
Не страшно, конечно, а все-таки не по себе как-то стало. Знавал я таких, как эта плясунья. Когда еще мальцом был, чуть ли не каждый день драться приходилось. Так вот, в драке такие самые опасные – те, что себя не помнят. Иной маленький, ни костей, ни мяса, а набросится – и кулаками молотить начинает. Хоть убивай – не отцепится.
Поглядел я на нее, головой покачал:
– И чего ты пристала ко мне, дура? Вон твои эскудо – на спине плетью выписаны. Да стоит мне парням полслова шепнуть!… – Даже не договорил. Зашипела, словно и вправду кошка, вперед подалась, тряпку сбросила. Поглядел я – да и поморщился. Вся в синяках – и бока, и груди. То ли щипали, то ли кусали даже.
– Нравлюсь тебе, мачо? – оскалились белые зубы. – Так я всем нравлюсь, каждый норовит на спину уложить. Шлюха я, пио, сам же говорил! А насчет парней – врешь ты, Белый Начо! Не скажешь, поняла я уже, хоть и глупая. Значит, верно я в тебя вцепилась, есть у тебя секрет, у самого сердца поганого своего носишь, никому не открываешь. Да только узнает этот секрет Костанса, ай, узнает. До самых кишок твоих доберется! Ведь чего я тебя выбрала-то? Золото – дело славное, но не в нем сила. Удачливый ты, мачо, красивый да смелый. А у меня не жизнь – беда сплошная. А почему так, а?
– Завидуешь, что ли? – усмехнулся я. Через силу усмехнулся – уж больно плохо ведьма эта глядела.
– А и завидую, мачо, – согласилась она. – И счастье приманиваю. Ты – счастье мое цыганское. Повесят тебя, а счастье ко мне перейдет. Поверье есть такое. Прямо в тот миг, как дергаться в петельке ты начнешь, понял, Начо?
Вздрогнул я даже, скользнули пальцы к воротнику – там, где булавка с камешками синими…
– Эге!
Нос сморщила, тряпку окровавленную на себя накинула.
Привстала.
Отдернул я руку…
– А никак заговоренный ты, Начо-мачо? Ай, глупая Костанса, не заметила сразу. Вот кто тебя хранит-то! Хитрый заговор, с одного взгляда и не поймешь. Хитрый, мертвецкий. Что, привадил мертвеца, Белый Начо? Мертвец рядом стоит, мертвец советы подает, мертвец беду отводит. А может, и любишься ты с ним? За такое большую силу получить можно!
– Вот шлюха, дура набитая! – вздохнул я. – Или тебе башку плетьми отшибли?
– Там, где ворот, – худой палец уткнулся мне в грудь. – И под рубахой тоже, непростое что-то, страшное. Крепко заговорили тебя, мачо. Приманил мертвяка, сил не пожалел!
Не удержался – снова за булавку схватился.
…Ранним утром мы с Инессой расстались. Не поговорили даже – слуги вокруг стояли. Протянула мне она руку, улыбнулась. Хотел я лобастой про платок рассказать – тот, что на груди ношу, да так и не решился. Вот зайду завтра в собор, положу у алтаря.
…А ведь и вправду – непростое это дело.
Страшное!
– Молчи!
Засмеялась Валенсийка – жутко так, хрипло. Вновь зубы оскалила:
– Да только не в этом тайна твоя, мачо, ай, не в этом! Знаю я, как заговаривают. Против кинжала – спасет, отведет смерть, но против тюрьмы и заговор не поможет. Так что не потому отпустили тебя, Белый Начо! Не потому ты меня на ножи поставить не хочешь, парням не говоришь. Есть у тебя секрет, есть. А я его все равно узнаю, не отстану, не думай даже!
Скользнула рука к даге, сжали пальцы рукоять…Осеклась, губы искусанные поджала.
– Все-таки резать пришел, мачо? Режь, да знай: вся сила твоя пропадет. Тонкий это заговор, от крови рассыпаться может. Убьешь Валенсийку – удачу свою убьешь. Так что не я в твоих руках, ты в моих, Начо! Я – твоя удача, а ты – мое счастье, здорово, да?
Встал я, отвернулся от глаз ее бешеных – и вроде как успокоился. И вправду – не отстанет. Спятила дура от злобы смертной, от того, что эскудо ей не достались, от плетей алывазиловых, вот и мелет языком своим поганым, словно помелом метет. Может, и заговорила меня лобастая, да только ее заговор – не мертвецкий, правильный. И спасибо ей за это.
А насчет мертвяка – да как можно цыганке верить? От злобы и от бессилия еще и не то могла бы брякнуть.
Огляделся я, зацепился взглядом за горшок, что на соломе стоял. Вот откуда вонища!
– Еще разок дернешься, дрянь, скажу Живопыре. Он тебя не в ножи поставит – шкуру твою поганую сдерет, подстилка грязная!
Подцепил башмаком горшок – да перевернул. Прямо ей на ноги.
– А вот тебе и золото твое цыганское!
Ни слова не сказала. Видать, поняла – кончились шутки. Совсем кончились. Так и молчала, пока я дверь снаружи не закрыл. Только взглядом жгла – аж сквозь рубаху лопатки горели.
А я, дурак, чуть ли не мириться приходил!
Надо же! Врагом разжился, Будто мало их скопилось! Альгвазилы, Эрмандада, Вездесущие корчете — Всем есть дело до пикаро! А еще – маркиз Кордова, А в придачу – и маркиза, Что светила белой кожей Между черных сальных свечек. А страшнее всех маркизов Архидьякон де Фонсека, Вездесущий архидьявол. Вот компания собралась! Только все враги за что-то. Наступил им на мозоли — Вот они и озлобились. Лишь Костанса Валенсийка, Пио, грязная подстилка, Ненавидит меня – просто, Бескорыстно, словно любит. Видно, вправду Начо Бланко Для цыганки этой – счастье, А она – удача мне.– А не повернуть ли нам назад, рыцарь? – молвил я, по сторонам оглядываясь.
Спросил и понял – поздно. Слишком далеко заехали. Прямо посреди Квартала Герцога мы, вон и храм, откуда я падре лысого доставал, а впереди уже и площадь виднеется – та, на которой особняк его светлости де Сидония стоит.
Видать, и рыцарь мой о том же подумал. Нахмурился, шлем свой поправил:
– Нельзя, Начо! Ведаешь ты, что ждут нас сеньоры благородные, а посему не приехать – чести нашей во вред.
Сказанул, называется.
Ох, и отговаривал я его! Да без толку, понятно. Я уж и юлить не стал, прямо в лоб врезал: мол, гоже ли вашей милости в шутах состоять? Не понял Дон Саладо, удивился только.
Всего-то добился, чтобы пугалом рыцарь мой не выглядел. Свистнул я парням с площади, сбегали они к тетке, что барахлишком всяким приторговывает, приволокли они тряпья всякого (теплое еще, не иначе этой ночью с рабов божьих сняли). Хоть и брыкался дядька, а нарядили его в платье флорентийское темного сукна с «крыльями» на плечах, да в туфли остроносые с пряжками, да пояс подобрали, серебром шитый.
…А со шляпой не вышло. Так в шлеме-саладе и поехал.
Я тоже приоделся, но только не в темное, а в самое яркое. Сукно красное, полосы желтые, «крылья» до самых ушей, шапочка с пером синим. Это уже не Флоренция – Падуя. Из Падуи сейчас самый писк везут. В общем, знай наших!
Да что толку? Все равно на смех подымут, для того и званы. Зря идальго мой калечный две ночи с бакалавром-пропойцей бумагу марал. Как откроет рот, как сказанет про василиска…
Поглядел я на Дона Саладо – хоть бы хны рыцарю моему. Важный такой, серьезный. Взгляд мой уловил, приосанился:
– Не стоит смущаться, Начо. Ибо тебе, рыцарю будущему, надлежит без страха с особами знатными речи вести. Ибо не в родословии честь – в славе!
Только вздохнул я, такое услыхав. Вздохнул – да решил твердо: замечу, как рожа чья-нибудь благородная засмеется, схвачу Дона Саладо в охапку…
И хорошо, что решил. Потому как – приехали.
Помянул я Деву Святую…
Вначале, впрочем, все чинно пошло. Слуги лошадей наших приняли, поклонились – серьезно, без ухмылок. Не нас одних – полно народу на площади. Благородные все – страх. На конях сбруя золотом сверкает, носилки, те, что для дам, бархатом да атласом обшиты. А уж наряды! Тут уж золота мало – каменьями блещут.
Гранды, язви их!
И тоже – здороваются. Чинно так кивают. Да только стоит повернуться, а за спиною вроде как хмыкают. Негромко, зато со значением.
…В мурашках спина. Словно вот-вот ножом меж лопаток ткнут.
Думал, в дом пойдем, а иначе вышло. В патио всех позвали, во дворик внутренний. Красивый, почти как у его сиятельства де Кордова. Правда, без львов, зато фонтанов целых два, и арки вокруг в резьбе мавританской, и апельсины-лимоны повсюду. Ну, и слуги с подносами, а на подносах – кубки серебряные. Не удержался – взял один, отхлебнул…
Ого! Всякое пивать доводилось, но чтобы такое! Да еще подогретое, с пряностями.
Не бедствует его светлость!
А народу все больше, от каменьев и золота глазам больно, и у всех носы кверху, щеки чуть не лопаются от важности. Взял я Дона Саладо под локоть, хотел в уголок отвести, с глаз подальше…
Не успел.
– Его светлость дон Аугусто, герцог Медина де Сидония, гранд Кастилии, и ее светлость донна Констансия, герцогиня де Сидония!
Проорал слуга – и замерли все, в столбы превратились.
Вошел!
А я и отвернулся, в сторонку поглядел – прямо на фонтан мраморный. Герцогов не видел, что ли? Тем более на сеньора де Сидония и смотреть никакого удовольствия – маленький, пузатенький, бороденка козлиная, щеки висят…
А вокруг снова – шум. Видать, гости здороваться подходят. Или сам герцог парад принимает – без разницы мне!
– Сеньор Алонсо Торибио-и-Ампуэро-и-Кихада? Рады вас видеть!
Только и вздохнул я – не спрятались. А Дон Саладо руку его светлости пожимает, с достоинством так – и ко мне поворачивается: эскудеро своего верного представить.
…Лезут глаза его светлости на лоб.
Помнит, видать, не забыл, чего на Табладо случилось!
Однако же и мне руку сунул, не два пальца – всю. Пожал даже.
Год мыть не буду!
Изобразил я поклон повежливее – и дух перевел.
Ушли!
А я снова по сторонам гляжу – спрятаться бы. Вон, арка темнеет! Нырнуть, рыцаря моего прихватить…
– …А посему рад вам представить, дорогие сеньоры и сеньорины, моего дорогого гостя – отважного идальго Алонсо Торибио-и-Ампуэро-и-Кихада, прославившего нашу Кастилию под именем…
Поздно!
– … Дона Саладо!
Зашумело вокруг, точно в водоворот мы попали. Кто расступился, кто ближе подошел, и глядь, вроде как посередине мы оказались. Будто конокрады, когда их возле конюшни прищучат. Слева каменья сверкают, справа сверкают. А уж рожи!
И герцог тут же – рядом. Серьезный такой, важный.
– Ведаете вы, дорогие гости, что Дон Саладо – последний странствующий рыцарь во всей Испании, великий боец с великанами, драконами и василисками. А посему пригласил я его, дабы послушать нам рассказ о его подвигах славных…
Гигикнул кто-то – рядом совсем. Мерзко так, словно его пером пощекотали. Аж дернуло меня!
– …Попросим, попросим его, сеньоры!
Теперь уже не один – десяток целый заржал. Ну точно жеребцы перед случкой! А все остальные в ладоши ударили – дружно так, радостно.
Понял я – не уйти. Словно стена вокруг.
– Просим! Просим! Эх, дядька, дядька!
А Дон Саладо вперед выступает, поклон отдает, шлем поправляет.
А сзади шепоток, мелкий такой, гадкий:
– Сеньоры, да он же кастрюлю надел. Ей-ей, кастрюлю!
Не слышит мой Дон Саладо. Окуляры на нос надевает, свиток из-за пояса достает. Разворачивает… А по толпе уже хохоток – мелкой рябью.
– Достославные сеньоры и сеньорины!…
Стихло все. Только где-то в углу вроде как взвизгнул кто-то.
– Немало смущался я, в столь славный дом собираясь. А потому прошу простить меня за рассказ бесхитростный…
– Про великанов! – хмыкнуло под ухом.
– …По примеру давних сказаний составленный… Прокашлялся рыцарь, свиток к окулярам поднес:
– Полны чудес… Да, полны чудес…
Полны чудес преданья давно минувших дней, Про давние деянья великих королей. Ушли они навеки, не встретишь с давних пор Таких, как храбрый Ланчелот и Сид Компеадор. Однако же и ныне встречаются порой Отважные идальго, что смело рвутся в бой. Дабы врагов Христовых рукой своей сломить И чудищ омерзительных без счету поразить.Ущипнул я себя за ухо – не помогло. Выходит, и вправду не чудится мне. Вон, у соседа челюсть отвисла, а у другого вообще – глаза на лоб лезут.
Дорогами Кастильи, моей родной страны, Последние герои, обычаям верны, Спешат к сраженьям храбро под знаменем Христа, И рыцарская клятва их доселе не пуста. В Эстремадуре славной идальго некий жил, Богатством не кичился, но честно он служил И королю Хуану, и нашей Изабелле, И видели его не раз в горячем ратном деле. Когда же рыцарь этот отвоевал сполна И служба его стала державе не нужна, Надел он шлем-салад свой, мечом опоясался И в дальний путь за славою без страха он собрался. Назвался Дон Саладо из скромности понятной, Как и велит обычай, идальго всем приятный: Не имя красит подвиг, а слава дарит честь. Пускай узнают все враги, кто Дон Саладо есть!Вот, значит, чего рыцарь мой с бакалавром вместе строчили!
А вокруг странное что-то. Переглядываются благородные сеньоры, плечами пожимают. Кое-кто все еще ухмыляется, но неуверенно как-то. И шепот, шепот…
А Дон Саладо не слышит ничего, не замечает, дальше рубит. И про рыцарей, и про замки заколдованные, про людоедов страшных – и про великанов, понятно. И чисто так, красиво!
Не выдержал кто-то, в ухо задышал:
– Сеньор, а кто он на самом деле? Чьи это стихи?
Отмахнулся я, отвечать не стал. Потому как Дон Саладо про самое интересное заговорил:
Однако ж великаны в свирепости великой Напали на идальго своей ватагой дикой. И смерть ему б случилась, но не дозволил Бог: Безвестный юноша-герой ступил тут на порог. Идальго Белый звался, хоть был лишь эскудеро, И в битву с великанами вступил он тут же смело, Блеснул клинок миланский – и сгинули враги, Артур такого не имел отважного слуги. Сей юноша достойный стать рыцарем дерзал, И верным щитоносцем он у Саладо стал. С тех пор они не знали досады пораженья И побеждали всех врагов в бесчисленных сраженьях.Даже не по себе мне стало, вроде как жаром припекло. Одно дело в харчевне подвигами хвалиться, а совсем другое – чтобы в стихах описали. Прямо-таки романсьеро!
…Эх, рано лобастая уехала!
А Дон Саладо все дальше забирает, все круче. И уже не ухмыляется никто, серьезно слушают, головами качают – сочувствуют вроде. А как не сочувствовать, когда Дон Саладо про замок колдовской рассказывать начал. Знакомый такой замок, куда нас с рыцарем моим заманить собрались…
Сказал Идальго Белый: «Ловушку чую я, И в том порукой станет и честь, и жизнь моя. Поеду в замок первый и весть подам я вам, А если нас засада ждет – вступлю я в битву сам!» И не послушал даже он рыцаря совет, И оттого случилось немало тяжких бед. Но все же не досталось врагам торжествовать, И вместе сокрушить смогли они лихую рать. Однако же не сразу удача к ним пришла. За стенами засада там храбреца ждала, И схвачен эскудеро, в застенок брошен он, И в недрах подземелья был герой наш погребен. Узнав об этом, рыцарь свой верный меч достал И сталь его холодную с молитвой целовал, И прямо в замок страшный решил он поспешить, Дабы погибнуть вместе им иль вместе победить!Улыбнулся я, идальго моего калечного вспомнив – как мы с ним у ворот того дома встретились. Конечно, не совсем так все было, но ведь на то и стихи!
Поглядел я искоса на сеньоров да сеньор, вокруг нас толпящихся. Не хмыкают – слушают!
То-то!
И снова – шепот в самое ухо:
– Уж не сеньор ли Фернандо де Рохас это? Славные стихи!
А ведь знакомое имя!
– Занят он, сеньор Фернандо, – не утерпел я. – Сонет пишет – чтобы ни гласных в нем, ни согласных не было. «Y-сонет» называется.
– А-а-а!…
Хотел я еще что-нибудь этакое ввернуть – про звукопись изящную…
И словно в спину толкнуло что-то! Толкнуло, морозом ударило. Налилась булавка свинцом, ворот вниз потянула.
Оглянулся – арка темная, та самая, куда я нырять собирался. И веер – знакомый такой.
По вееру я ее и узнал – не по лицу…
Колдун, ужасный видом, тем замком завладел, Личину благородную из хитрости надел, Служили ему духи, и чудища служили, И множество людей они из злобы погубили. Хотел колдун проклятый всем миром править сам Посредством заклинаний и черных пентаграмм, И кровь бедняг безвинных была ему нужна, Чтоб легче совершать во тьме постыдные дела. Лихие сарацины тот замок охраняли, И беды своей злобой они преумножали, А в мрачном подземелье копилась Вражья Сила, И Стража Букв безбожная те мерзости хранила.Молча стояла ее сиятельство маркиза де Кордова – в платье знакомом черном, в воротнике высоком, нитями серебряными шитом, в перчатках кожи тонкой. Стояла, слушала, пальцами длинными веер сжимала.
Поднял я руку – перекреститься.
Усмехнулась, кивнула – узнала, видать…
Так и не перекрестился. Отвернулся, на Дона Саладо поглядел. Разошелся мой рыцарь, бороду-мочалку распушил, на весь двор гремит-вещает:
И вот уж воспылали огни со всех сторон, Послышался из мрака могильный тяжкий стон, Читал колдун проклятый без счету заклинанья, Чтоб души грешные обречь на вечные страданья. И, глядя в пламень адский, колдун предался смеху. Вскричал: «Для Бафомета устрою я потеху! Пусть рыцаря возьмет он и в ад отправит свой, А ты, мальчишка, убегай, пока еще живой!»А у меня руки-ноги заледенели, как тогда, среди кругов горящих. Пришла, ее сиятельство, не побоялась! А чего ей бояться, ежели подумать? Как говорит сеньор архидьякон, «державное дело».
Не выдержал, вновь оглянулся – никого. Только тень черная.
Никак мерещиться уже начало, Бланко?
Хорошо Дону Саладо! Он уже победу готов праздновать.
Однако ж эскудеро не струсил, не бежал, И рыцарь ему руку среди огня пожал, Шепнул, в удачу веря: «Исчезнет вражья стая. Помогут нам Господь Христос и Дева Пресвятая!» И вот в огонь шагнули, вдвоем – к руке рука, Им выпала дорога страшна и нелегка. Но воссиял свет горний средь каменной могилы, И расступились в ужасе вассалов Ада силы.Конец, признаться, прослушал – не до того мне было. По сторонам смотрел, головой крутил – нет ее, маркизы Беатрисы Марии Селестины Анны, словно и вправду померещилось.
…Или это Дон Саладо стихами своими ее сиятельство вызвал – из самого ада?
Долго важные вельможи Нас домой не отпускали, Все хвалили и хвалили: «Хороша у вас поэма, Не писали так в Кастилье Со времен Компеадора! Не иначе в Саламанке Вы риторику читали?» И над герцогом трунили: «Обманул всех нас Медина, Обещал шута представить, А позвал сюда пиита!» А потом и рассудили: «Разыграл поэт нас тоже. Шлем напялил он для смеху. Глянешь: точно Дон Саладо!» А как вышли мы из дома, Кто-то вдруг сказал негромко: «Правду нам стихи сказали: Разыгралась вражья сила! Иль не видели,сеньоры, Вы маркизу де Кордова? Вот ведь совесть потеряла! Десять лет, как схоронили, А приходит – словно звали!» «Быть не может!» – кто-то хмыкнул, А другой ответил: «Верно! Кол осиновый не вбили — Вот и шляется по свету!»ХОРНАДА XXX. О том, как погубил я свою удачу
Ох, и не люблю же я плотников! Ну, совсем не люблю. И дерева пиленого запах, и стружки, а уж если смолой потянуло! И удивительного в том нет ничего – кто эшафоты строит, скажите на милость? А виселицы из чего срублены?
Вот то-то и оно!
Не люблю – по раздельности даже. А тут – все сразу: и дерево свежеструганое, и стружки под ногами, и смолой несет – видать, сосны не пожалели. И деться некуда – пришел и сиди. Как на том бочонке из-под солонины. Или опять же – на сундучке.
Мудрено понять дона Фонсеку, архидьякона бритого. Мудрено – но можно. Ждал я, что следующим вечером мне в знакомый подвал идти доведется – тот, что в Башне Золотой. И не ошибся, между прочим – прислал падре Хуан мальчонку из хора соборного с приглашением.
…Не с запиской, конечно. Мараведи мне передали, вроде как должок от кого. Приметный мараведи – с дыркой. А на словах – другое совсем. Вот из-за этого другого я сюда и попал, на площадь у Хиральды. Стружки свежие нюхать.
Нюхаю. Нюхаю, по сторонам поглядываю. А много же народу собралось! Все помосты свежесрубленные заполнили (только-только плотники отстарались, даже стружки не убрали), даром что Хиральда всего час назад заутреню отзвонила. И не просто собралось – основательно. Кто сыр с хлебом захватил, кто окорок целый, а кто и винишко притащил – прямо в бутыли кожаной. Потому как сидеть долго придется. Акт Веры – это даже не коррида. Утром начнется – и до ночи самой.
А вот и «бом!». Даже не «бом!» – «бом-м-м-м!».
Хиральда!
В общем, понял я его, дона Фонсеку. Велел он мне на
Акт Веры пожаловать, дабы не забывался Белый Начо. Поглядел чтобы, память прочистил. Вот и пришел я – куда деваться-то? Сам пришел – не звать же сюда Дона Саладо!
…Лучше бы падре Хуан и в самом деле меня в склеп с мертвяками кликнул!
Бом-м-м-м-м!
Зашумело, волной по толпе побежало. Вскочили добрые севильянцы, шеи выставили, глаза выпятили.
Королева! Она! На троне, помосте высоком, что справа от собора, там, где галерея Градас начинается. Не одна, понятно, – свита весь помост заполнила, от камней и золота глаза режет. А кто именно там – не разглядеть, далековато все же. Вроде бы митра золотая с троном рядом – не иначе сам архиепископ там.
А где ему еще быть, архиепископу? Акт Веры!
Бом-м-м-м-м! Бом-м-м-м-м!
Начали!
Отвернулся я, на рожи любопытствующие поглядел. Ох, добрые севильянцы, сапожники да лодочники, бронники да портные! Лучше бы и вправду на корриду ходили – или на арголью, к примеру.
…И пикаро здесь, конечно. Любопытный мы народ, ни одной беды не пропустим.
– Идут! Идут!
Не удержался – сам поглядел. Идут! Эрмандада во всей красе – в шлемах начищенных, в латах сверкающих, со стягом развернутым. Нога в ногу, ровно так. Еще бы! Сама Изабелла Трастамара смотрит.
– Иду-у-ут!
Крест! Огромный, тяжелым золотом сверкающий. Из самого собора крест. Хоть и покрывало черное сверху – а все одно золото не спрячешь. Светит!
…Так же точно крест этот выносили семь лет назад, когда падре Рикардо убивали. И Эрмандада шла, и священники соборные, и певчие, и всякий прочий народец. И так же красиво, чинно, ряд за рядом.
В пятом ряду падре Рикардо шел – до сих пор помню.
В короне бумажной, в рыжем плаще с драконами, с кляпом во рту…
– Иду-у-у-ут! Иду-у-у-у-ут! Веду-у-у-ут!
Тянут шеи добрые севильянцы, пускают бутыль по рядам. Вот они, злодеи державные, веры нашей христианской поругатели, Кастилии враги смертные!
То есть не они еще пока. Первые ряды – это беглецы которые. И есть они, и нет их. Вместо людей – куклы в полный рост. Большие, каждую двое фратин зеленых волокут. Издалека, впрочем, и не отличить – личины краской размалеваны, короны бумажные на головах, плащи с пламенем и драконами сверху наброшены.
Значит, палить станут. Корона бумажная да плащ рыжий – самый знак.
– …грешники сугубые, перед Церковью не раскаявшиеся, а посему на свободу отпущенные…
Орут глашатаи, гам и свист перекрикивают. Да все и так ясно. Хорошо придумано – «отпущенные»! Отпускает их Супрема на волю – прямо на дрова горящие.
– …а также в ересь иудейскую совратители, еретики, обрядов мерзких свершители…
Уже не куклы – трупы. Прямиком из могил выдернули. На ноги поставили, смолой облили, чтобы не развалились, плащи накинули, короны опять же. И – волокут.
Так что не ошибся я насчет склепа и покойничков!
– …Клятвопреступники, двоеженцы, растлители… Хлебнул я из бутыли – передал сосед, душа добрая.
Этим, которые растлители, повезло еще. Кнутом отделаются – вон, у каждого веревка с узлами на шее. Сколько узлов – столько раз и всыпят. Потому как покаялись – плащи зеленые, колпаки зеленые, свечи желтые в руках.
– …Лютые враги Церкви нашей, иудеи тайные, в ересь совратители, колдуны богомерзкие…
Взревел народ, с мест повскакивал (стружка к задницам прилипла!). Потому как ради этих и пришли. Вот они, в санбенито рыжих, в коронах бумажных. Этих и станут жарить. Не здесь, конечно, – на Кемадеро. У собора приговор прочтут, обедню отслужат, проповедь скажут, кнутом раскаявшихся отстегают, потом – процессией через весь город, через ворота Трианские.
А на Кемадеро и помосты строить не надо. Построены уже. И помосты, и архангелы каменные по бокам, и столбы посередине. И дрова небось с ночи завезли – кому сухие, кому сырые. И дрова, и солому.
Вопят добрые севильянцы, ухмыляются парни в латах сверкающих, машет рукой Изабелла, королева наша, народ верный приветствуя. Только фратины глазом не ведут. Ни глазом, ни ухом. Словно из глины их слепили – как ту дуэнью в саду его сиятельства.
Не выдержал – тоже встал. Пока ревут, пока глотки рвут, самое время ноги сделать. Позже, когда служба начнется, не уйти – заметят. Гори они, все эти зелененькие с доном Фонсекой в придачу, синим пламенем!
…А хорошо бы!
Оглянулся – замер. Совсем рядом стоял сеньор Алессандро Мария Рохас, лисенсиат саламанкский – прямо на помосте, что напротив. Не в черной своей мантии – в куртке простой да шляпе серой. Но только лицо не скроешь и глаза не спрячешь.
Поглядели мы друг на друга, кивнул он – медленно так, тяжело…
Брат невесты его там – среди тех, что в санбенито зеленых. Раскаялся, бедняга, да помогло лишь чуть. Не сожгут – пожизненное ему, в одиночке.
Много денег привез толстячок, но только дракона деньгами не накормишь.
Кивнул я в ответ…
Пора!
Любят славные кастильцы Карнавалы и пирушки, Мяч гонять по полю любят, А сильней всего – корриду. Потому – народ веселый, Скука – всех врагов страшнее. А костер – он душу тешит, Не быков – людей кончают, Да не просто, а красиво, Раз увидишь – не забудешь. Ведь сожгут на Кемадеро Не тебя – совсем другого, Не тебя на угли ставят, И не ты углями станешь. То-то радость, то-то сладость! Приходи, вопи что силы И бутыль пускай по кругу… Невеселый я кастилец, Но об этом не жалею.Как чувствовал!
То есть не как – просто чувствовал. Печенка у меня такая, и селезенка тоже. А тут не только печенка с селезенкой – уши огнем гореть стали.
Даже вещи в сумку кинул. Даже мальца одного к Трианским воротам послал – поглядеть, не прибавилось ли стражи.
А все-таки не ушел. Даже сам не понял, почему. Дона Саладо, правда, куда-то бесы утащили, ну, так, может, оно и лучше – не прощаясь. Что я идальго моему калечному скажу? Чтобы на Сицилии меня искал, эскудеро верного?
Остался. Ругал себя, словами последними крыл – остался. Была, конечно, мыслишка: после разговора дон Фонсека меня не сразу искать станет, так что дня три – мои, а то и неделя целая. Вот если не приду – сразу Эрмандаду по следу пустит.
Мыслишка верная, да только не для этого случая.
Сразу я это сообразил – про случай, как только сеньора архидьякона увидел. Ведь он, падре Хуан, какой? Встретит – рычать тут же начинает, шуметь. Не со зла – нрав такой. Пошумит, а после о деле заговорит.
Это если в порядке все.
А тут…
– Садись, сыне, садись…
Тихо так сказал, грустно, глаз своих совиных не поднимая. Голову бритую опустил…
Или заболел падре?
Присел я на тот самый бочонок, от которого солониной гадкой разит, огляделся.
Все то же – подвал сырой, помост деревянный, одеяло смятое на досках, распятие черное на стене.
– А был ли ты на Акте Веры, сын мой?
– Был, – сглотнул я, сообразить пытаясь. Или Ее Высочество недовольна чем-то? Вставила сеньору архидьякону фитиль крученый – вот и погрустнел?
– Скажи, сыне, слушал ли ты, когда приговор читали? Внимательно ли слушал?
И снова – непонятное что-то в голосе. Будто жалеет падре. Не их, в санбенито которые, а меня, Начо Белого.
– Или не за вину осудили их, сыне? Вот Маниферро Лопес, растлитель мерзкий. Обольстил девицу юную, жизнь ей испортил…
– Падре! – совсем растерялся я.
– …Или Педро Ринкон, марран, над распятием и иконами святыми глумившийся, в ересь иудейскую собственного брата совращавший? Или Франциско Ласалья, содомит, отроков юных с пути сбивающий?…
Не слушал я приговора – без меня читали. Были и такие, наверно.
– Разве не должно мерзость эту каленым железом выжигать. Скажи, Начо?
Медленно-медленно голову бритую поднял. Поднял – на меня взглянул глазами совиными.
Аж отшатнулся я от взгляда его. Страшно смотрел архидьякон Фонсека.
– Не попрекну тебя, сыне, что жизнь твою спас, из петли вынул. Было – и прошло. Но скажи, Начо, или обманывал я тебя? Или подлость какую учинил? Знаю – на руку несдержан бываю, грешен, но неужто за такое зло на меня держать следует?
А я уже и не слышу почти ничего. Только глаза его круглые вижу. Насквозь взгляд прожигает, да не огнем – морозом.
– Ведаешь ты, Начо, что державе мы служим, Кастилии. Сама государыня Изабелла тебя знает, спрашивает о тебе, беды от башки твоей отводит. Или не так, сыне?
– Так, падре, – выдохнул я.
Лучше бы орал, лучше бы как давеча – кулаком в ухо!
– Предал ты меня, сыне. И королеву предал. И Кастилию нашу.
Отвернулся дон Фонсека, головой бритой качнул:
– Одно дивно, Начо. Неглуп ты, умен даже. Или надеялся, что заговорщики эти мерзкие, христопродавцы-марраны трусливые, тайну беречь станут? Или думал, что дружки твои, с Берега, промолчат?
А мне и сказать нечего. Да и как отвечать, ежели в ушах словно звон погребальный? Будто ударила Хиральда колоколами всеми.
И ведь говорил я сеньору Рохасу! Еще тогда, на дворе постоялом – выдадут! Не его дружки – так мои. Даже Калабриец – и тот дожить хочет, если не до кантона Ури, то хотя бы до дня завтрашнего.
…А все равно – не жалею!
– Думаешь, вышло бы? Ну, перевезли бы твои дружки-разбойники дюжину-другую марранов в Фес или Алжир. И что? Узнали бы все равно, и там наши людишки имеются. Узнали бы – да там же и накрыли. Ее Высочество послание в Рим направила, чтобы и тех, кто к папе за спасением едет, обратно в Кастилию возвращать. И король французский обещал сие, и император германский. Да и алжирцы, нехристи, хоть и враги наши, а иудеев на дух не переносят. Написал я уже в Фес кому следует, и в Оран написал, и в Алжир. Даже ежели вырвется кто, доплывет – встретят…
Вздохнул дон Фонсека, глазами совиными на меня взглянул. И даже непонятно, от чего горюет больше – от измены моей или от того, что Белый Начо, лучший шпион королевский, так по-глупому попался?
Встал, руки вперед протянул. Вяжите, ваша милость! Да только не стал меня вязать падре Хуан, поморщился лишь – гадливо так.
– Со всех сторон Кастилию нашу враги окружают, Начо. И в стране врагов не счесть. Только железом каленым скверну выжечь можно. Только огнем костров Сатану и аггелов его прогнать, от беды землю нашу избавить…
Вздрогнул я даже. Всесожжение! Ола! Знает, все знает сеньор архидьякон!
– А теперь и ты, выходит, враг… Иди, Начо, не о чем нам с тобою говорить. Иди!
Прояснело у меня в башке на миг малый. Но и того хватило. «Иди!» Значит, живой я? Значит, не повяжут?
Или дон Хуан де Фонсека думал, что я на колени бухнусь да о прощении умолять стану? Квиты мы с ним. Спас он меня, конечно, – из самой петелечки вынул. А я ради него разве не жизнью рисковал? Разве не расплачивался каждый раз – головами людскими?
Кивнул, поклонился даже.
…Наверх!
Из склепа, из могилы сырой – наверх! Если не нашли еще толстячка нашего, не схватили, успею предупредить… Неглуп ведь сеньор лисенсиат, ни в одном доме дважды подряд не ночует.
Наверх!
Отдышался, оглянулся, воздух свежий ночной губами попробовал…
– Сире-е-ена-а-ас!
Далеко кричат, не успеют. Да и не собираются меня хватать, иначе бы еще в подвале скрутили. С чего бы милость такая?
– Сире-е-енас! – еле слышно, словно эхо глухое. Улыбнулся я, дагу на поясе поправил.
А ведь жив ты, Бланко! Не помер вроде!
– Ай, вот куда ты, значит, ходишь, мачо! Думал – все на сегодня. Зря, выходит, думал!
– К кому же ты, Начо-мачо, заглядывал? Или зазнобу нашел в Башне Золотой?
Черной тенью стояла Костанса Валенсийка. Стояла, косами длинными качала:
– Ай, правы люди добрые оказались! Вот в чем тайна-то твоя, Начо Астуриец, вот почему альгвазилы слепнут, тебя не видят. Жаль, не пойму, кого ты тут проведывал? Ничего, Живопыре расскажу, парням всем расскажу – а они у тебя, красивого, спросят! А может, и я, глупая, догадаюсь, Начо-мачо, иуда поганый? Меня за пять эскудо попрекал, а сам-то? Не ты ли пикаро наших Фонсеке-архидьякону сдаешь?
Засмеялась – страшненько так, ближе подступила.
– Думал, что всех перехитрил, Начо-мачо? Думал, Костанса, девка дурная, с задницей поротой на соломе валяется, дерьмом облитая? Ай, мачо, это ты глупый – сюда шел, не оглядывался даже!
Цокнула языком, еще ближе подошла – на шаг, на руку вытянутую.
…Не оглядывался, верно. И радовался рано. Зачем сеньору архидьякону о меня руки пачкать? Шепнет эта дрянь Живопыре – и растащат меня по косточкам да по жилочкам.
Свои же растащат – потому как не прощается такое.
Да только и она – дура. Решила – так делай. Болтать-то зачем?
А черноглазая, видать, совсем забылась – от радости своей паскудной. Как же, самого Белого Начо одолела!
– А как в ножи тебя поставят, мачо, я рядышком побуду. Посмеюсь, плюну на тебя, а после из спины твоей ремень вырежу. Вот и счастье мне привалит! А как подыхать станешь, я тебе все напомню – как ты с Костансы смеялся, как я голой плясала, как секли меня… Или убежать думаешь? Так ведь сыщут тебя парни! И в Сарагосе сыщут, и в Мадриде, и за морем…
Кивнул я, на небо взглянул звездное. Сиренас – ясно! Все ясно как день божий. Не жить мне больше.
– Убедила, – усмехнулся. – Сыщут.
И черным мне в миг этот небо показалось – словно колдун какой звезды погасил.
…Даже не охнула – прямо в грудь дага вошла, между ребер.
И не дрогнула рука. Потому как не цыганка чернокосая, не пио, шлюха подзаборная, во тьме хохотала – Смерть надо мною смеялась.
Выдохнул, наклонился, чтобы клинок о юбку ее пеструю вытереть…
– Стоять!
И тут сообразил я все – как есть, все. Да только поздно слишком.
– Клинок на землю! За острие – и медленно, медленно. Теперь руки!
Не стражники, не альгвазилы дурные – Эрмандада. Потому и подобраться сумели. Да и незачем им подбираться было, тут, поди, и ждали, в теньке черном.
– Руки, говорю!
А много же их! Не пожадничал дон Фонсека. Не пожадничал – и девку не пожалел. Выходит, и сейчас я на него сработал? Все рассчитал сеньор архидьякон – не ошибся.
…Или не он – кто другой озаботился? Да только что теперь гадать?
Даже не почувствовал я, когда в живот ударили – от души, яблоком меча. Не поморщился, когда руки за спину завернули.
– Ну, значит, конец тебе, Бланко! Понял, да? А чего ж тут не понять-то?
А когда связали руки Да по камню потащили, Еле-еле не заплакал — Жалко стало, аж до боли. Не себя, со мной все ясно. Раз убил – иди на плаху. Остальных – кого не спас я От огня на Кемадеро И за море не доставил, И калечного идальго Жалко тоже – пропадет ведь! И лобастую девчонку, Что поверила пикаро, Будто рыцарь он из сказки. И Костансу – вот ведь притча! Не ошиблась – угадала. Ведь не шлюху я зарезал, А удачу погубил!Часть четвертая. СОЖЖЕННАЯ ЗЕМЛЯ
ЛОА
Краски брошены, забыты.
Цвета нет – и света нету.
Черноту забыла темень,
Желтый блеск забыло солнце.
Даже угли, догорая,
Потеряли отсвет красный.
Ничего – лишь контур тени,
Не заполненный пространством.
Смерть приходит – гаснут краски,
Смерть приходит – блекнут тени.
Только слышно сарабанду,
Этот танец запредельный,
Под который на костер шли,
Под который умирали.
И лишь отсветом далеким,
Незаметным и неслышным,
Вдалеке, на кромке мира:
«Ave! Ave, Milagrossa!»
Песнь прощания? Надежды?
Не понять. Лишь мгла сырая.
Сарабанда!
ХОРНАДА XXXI. О том, как Хосе-сапожник играл на мандуррии
Поглядел я в потолок серый, трещинами покрытый – да как удивился. Не потолку, понятно, – каким ему еще в Касе быть? Себе удивился – до изумления полного.
Ведь чего я думал? Думал – от злости свихнусь, на стенку каменную полезу. Смерть для меня, чтобы стены вокруг да окошки с решетками. А ежели стены и окошки не просто так, за пирог, на рынке украденный, а и в самом деле – смерть?
А вместо этого – такое спокойствие накатило, что даже подивиться поначалу сил не было. Только когда утром глаза продрал – не сам, стражник разбудил, – тогда и удивляться стал.
Еще тогда, возле Башни, что-то непонятное началось. Веревками вяжут – а у меня глаза слипаются. По улицам волокут – сплю на ходу. Даже не помню толком, как в селде [58] оказался. Нащупал лежак (четыре ножки да две доски, задницами отполированные), бухнулся – и провалился.
И утром – тоже. Лежу, руки за голову закинул, в потолок серый пялюсь. И хорошо так, покойно – будто в кантон Ури попал.
Лишь попозже сообразил, когда уже обед притащили. Ковырнул ложкой дрянь вонючую в миске оловянной – да и понял, отчего таким деревянным сделался. Просто все, до полнейшей невозможности просто! Ведь чего люди боятся? Неизвестности они боятся. Поймают не поймают, повесят не повесят, чего завтра будет, опять же. И мне все месяцы последние поволноваться довелось, а уж как в Севилью вернулся, так и вообще чехардой все пошло.
А тут, под потолком треснутым, – ясность полная.
Уже не ловят – поймали, уже не может быть, а точно – вздернут.
Так чего волноваться-то?
Тем более топтал я уже эшафот – было. Так что и здесь ничем меня не удивишь. Жалко, конечно, но что поделаешь? Одним днем живет пикаро – последним, вот денек этот, видать, и настал для меня, Начо Белого. И на допросах угрем вертеться да под плетью вопить не надо – на горячем взяли, на трупе теплом. В общем, доживай времечко, пикаро, сколько бы ни осталось – твое все! В потолок поплевывай, девок вспоминай, какие в жизни встретились, друзей-приятелей вспоминай.
Хорошо!
Да только хватило меня как раз до вечера. До того, как колокол где-то вдалеке ударил. Не на Хиральде – далеко отсюда Хиральда, у Клементия Святого, где сестры-монахини скучают. Ударил колокол раз, другой…
И словно проснулся я. Или не я даже, внутри будто кто-то. То ли в башке, то ли опять же в печенке. Проснулся, меня толкнул.
…Четыре стены, дверь железом обитая, «глазок», решетка на окне, лежак колченогий, горшок вонючий в углу. Вроде бы все, как и следует.
Подошел я к стеночке, пальцем по камню холодному провел.
Ох, и дурень ты, Начо! Ну, распоследний совсем! Да все не так здесь – от двери до потолка. До пола даже.
И вот тут и забрало меня – по-настоящему. До селезенки самой.
Или я Касу севильскую не помню? Забудешь такое, как же! Яма черная, звон кандальный, вонь повсюду, на каждом лежаке – чуть ли не по трое горемык толкаются.
Вверху, над подвалом, чуток получше, но все равно – по трое, по четверо в селде. Да и не попадешь туда, ежели стражника полудюжиной реалов не ублажишь.
А я где, позвольте спросить?
Даже не «где» – об этом и потом мозгой пошевелить можно. Цепи – цепи куда подевались? Или вчера я в Севилью попал? Ведь кто есть Начо Бланко? Убийца он, Начо Бланко! А убийцу первым делом в железо куют: ручные кандалы, ножные, да еще цепь вокруг пояса. А как же по-другому?
Это раз…
Прошелся я вновь по селде, огляделся, словно впервые увидел, на окошко покосился (высоко, не подтянуться даже). Одиночка! Так ведь нет в севильской Касе одиночек!
Это, значит, два.
А потом как пошло одно за другим – пальцы не успевал загибать. День сижу, а никуда не выводят. В Касе, в подвале даже, каждый день во двор выгоняют – проветриться. Одни проветриваются, другие дерьмо с пола соскребают. Дальше – дверь. В Касе двери железные, но не такие. «Глазок», понятно, но тут еще и окошко, через которое мне жратву подавали. Это-то зачем? Или думают – сбегу?
Ковырнул я пальцем дверь железную, головой покачал. Сбежать-то можно, бегал, но только не из селды.
Значит?
Бухнулся я обратно на лежак, ладонями башку обхватил.
Думай, Начо!
Слыхал я, конечно, о селдах особых, для висельников которые. Но только нет таких у нас в Севилье, и в Бургосе нет, и в Сарагосе…
И, наконец, дырка. Небольшая – но и не маленькая, в ладонь. В полу дырка, у стены самой. Так что и с полом все не так. Это где же тюрьмы дырявые строят?
Не утерпел – взглянул. Насквозь дырка. А из дырки – сумрак серый.
Ой, интересно!
Приложил я ладонь ко рту, хотел «ау!» закричать.
Не закричал – успеется.
А может, и закричал бы – хуже не станет, да словно горло мне сдавили. Будто дон Хуан де Фонсека опять меня к потолку самому вздернул.
Не в Касе я, не в тюрьме севильской. А если не там…
И вот тогда мне и вправду на стенку полезть захотелось. И не потому, что непонятно. Понял – потому что. Все понял!
– Ты ли Игнасио Гевара, прозываемый Бланко, равно как Астурийцем?
Хоть и темно – полторы свечи сальные чадят, а сразу я узнал его. И по голосу, и вообще. Тут же и узнал, как в подвал меня притащили. Большой подвал, темный – а уж сырой!
…И ведь кто притащил? Не альгвазилы, не Эрмандада даже. Крепкие такие парни в ризах зеленых.
Фратины!
– Я и есть, – кивнул. – Так что будем знакомы, фра Луне!
Думал – удивится. Ан нет – только в ответ покивал, словно и ждал такого.
А я тем временем осматриваться начал. Привычка! В ад попаду – тут же в котел нос суну да под сковороду загляну. Но только смотреть почти что и нечего оказалось в подвале этом. Ну, стол, длинный такой, на столе вроде как скатерка, на скатерке – распятие и бумаги кипа целая, перо опять же, чернильница. Табуреты – на одном фра Луне восседает (и вправду жердь, в полтора браса росту, не меньше), два пустые еще.
Мне табурета не полагалось. Стой, мол, столбом, Начо, мозоли оттаптывай.
…И ни дыбы, ни всего прочего. И на том спасибо!
– Ведомо тебе должно быть, Гевара, что привлечен ты к дознанию Святейшим Трибуналом города Севильи…
Вблизи его, фра Луне, и вовсе слушать противно было. Не голос – блеяние с треском пополам. Да я и не слушал почти. И так ясно – Супрема. Загребли тебя фратины поганые, Бланко! Дождалась свинья Мартинова дня! [59]
– А посему ответствуй сперва: родом откуда, родителей каких, какого прихода?
На такую лабуду и отвечать не хотелось. Но – ответил, все одно разницы никакой.
…Вынырнул из темноты хмырь горбатый в окулярах, на табурет с краешку присел, пером по бумаге застрочил.
– А когда исповедовался ты в последний раз, Гевара? Не удержался я – хмыкнул. Ай, славный вопрос!
– Да вчера, в Башне Золотой, фра Луне! Думал – переспросит, дознаваться станет. Не стал.
– А что ты, Гевара, можешь рассказать о проступках своих, Церкви нашей Католической враждебных?
Еще краше вопрос, еще вкуснее. Видать, и вправду решил меня дон Фонсека по всем камешкам ребрами протащить – до самого Кемадеро. Чтобы прочувствовал я, мерзавец, каково это – помирать. Плаха да веревка – дело быстрое.
Правда, фра Луне?
– Слышал ли ты мой вопрос, Гевара?… Молчать? А, собственно, зачем?
– Да все, что угодно, могу рассказать. Вам с какой стороны интересно?
Зашуршали бумаги. Вынул фра Луне пару листков из кипы, носом уткнулся. Вздохнул – горестно так.
– Жалко мне тебя, сын мой! Ведомо Трибуналу, что согрешил ты из-за своей доверчивости, ибо больший грех не на тебе, а на соучастниках твоих. Но и они в преступлениях своих покаялись, не утаили. Да только боюсь, оговорили злодеи эти тебя, Гевара. Ох, оговорили, напраслину взвалили! Посему расскажи сам, как все случилось, ведь не замышлял ты зла, лишь в заблуждение введен был.
Даже голос изменился у него, у жерди этой. Замяукал, что твой кот на Масленицу, ласково так, сочувственно. И – снова в бумагу уставился. Не иначе – грехи мои в памяти освежить.
…А может, нашли уже сеньора лисенсиата? Нашли, на дыбу вздернули?
Вздохнул я горестно, потупился:
– Грешен, отче! И не оговорили меня – правду сказали. Велик мой грех против Церкви нашей…
Вытянул шею фра Луне – ну, точно змеюка болотная! Вытянул, напрягся весь.
– Кайся, сын мой! Кайся!
– Попользовал я монахиню, невесту Христову, – было дело. Хоть и по согласию, а нехорошо все же. И не один раз попользовал – дважды. Уж больно хороша оказалась!
Аж над столом жердь эту вознесло – к потолку самому.
– Правда?
– Правда, фра Луне! На поварне монастырской это сталось. Наклонилась она над столом – репу почистить, а я, грешный, сзади подкрался. Подкрался – да пристроился. Она репу чистит, а я…
Сглотнул фра Луне – громко так.
– Кайся, сын мой, кайся. Не пропускай ничего! Да с подробностями со всеми…
А сам ладонь к уху приложил – чтобы слово мимо не пролетело. Приложил – вперед подался. Заскрипело перо – вот и горбун при деле.
…Неужто тут и вправду такие дурни? Ой, не верю!
– А еще обыграл я монаха некоего в зернь костями подпиленными, свинцом залитыми. «Двенадцать» у меня выпало, а у него «три» только. Без ризы монах остался, без пояса даже.
– Кайся, кайся, сын мой…
Да только надоело мне уже. Вроде в игру какую играем. Дурацкую игру! Потому как все одно – убьют!
– Только, фра Луне, это и не грехи вовсе. Иным грешен. Видел я, как два негодяя добрых христиан жечь да резать призывали. Надо было их самих – к ногтю, а вот не решился. В Касалья-де-ла-Сьерре это сталось.
– Кай… Обрезало!
Если ходишь ты по краю, Если лезвие кинжала Вместо камня под ногами, Когда пляшешь под веревкой, Прежде чем сплясать в петельке, То узнать, конечно, хочешь, Какова у Смерти морда, Что там ждет тебя за краем? А увидел – тошно стало: Ни котлов, ни сковородок, Смерть – монах с поганой рожей, Ад – допросная в подвале. А в аду том скучно, скучно, А в аду том мерзко, мерзко! Хоть бы дьявола какого Да чуток разнообразья. А подумаешь – все верно, Потому в аду и тошно, Чтобы даже Кемадеро Показалось карнавалом!Впрочем, со скукой прошибся я слегка. Вначале и вправду – хоть по стенкам, бегай. Притащили обратно в селду, засовом лязгнули – и спокойной ночи, Бланко!
…Или подсказал кто им, фратинам этим, что невмочь мне запертым сидеть (да еще одному!) – хуже пытки всякой? Или сами догадались? Душно мне, тесно, еще чуть-чуть – на костер проситься стану.
Так на лежаке до рассвета серого и просидел. Залез с ногами, колени обхватил – и обмер вроде. Не думалось ни о чем, не вспоминалось. Хотел Инессу себе представить – не смог. Даже забыл, на что салад у рыцаря моего калечного походит. Черно перед глазами, пусто.
Ну, почему сразу не убили? Сразу – оно легко даже. Раз – и нету!
А потому и не убили. И не убьют – погодят. Падре Рикардо три месяца в подвале солили, прежде чем на дрова и на мокрую солому поставили. Ему еще повезло, другие по три года смерти ждали. А кто и по пять!
…Тут и ждали. Понял я, куда раба божьего законопатили! Старое аббатство, возле Касы севильской. Потому и колокол от Святого Клементия слышно. Раньше тут братья-минориты жили, а потом переселили их куда подальше, а дом Супреме отдали – под тюрьму. Удобно – обе тюрьмы рядом совсем, через забор. И забор я этот видел – высокий, в три роста моих.
Понял – и еще хуже стало. Не убежать отсюда, это уж точно! Разве что Дона Саладо позвать, чтобы между кирпичиков провел.
В общем, не обрадовался я, как серость предрассветная из-за решеток поползла. Это на воле новому дню радуешься.
И тут – как завизжало!
Вскочил, оглянулся…
Визжит!
Мерзко так, противно. Вроде режут поросенка, а дорезать не могут.
Фу-ты!
…Одно хорошо – скука кончилась. Так что прошибся я слегка со скукой.
Визжит!
Заткнул я уши, семерых бесов помянул – да и пошел разбираться. К дыре, что на полу.
Оттуда и визг, само собой. Не поросенок, конечно. Мучают – но не его. То ли виуэлу сильничают, то ли псалтерию последние струны обрывают [60].
– Эй ты, перестань надсаживаться!
…Нет, не псалтерий, у того звук другой. И не виуэла – поменьше. Вроде трумшайта, которым мы в тумане сигналы подаем, ежели в море заплутаем.
Но не в такую же рань!
Взвизгнуло – умолкло.
– Хочешь – и тебя надсажу. На иглу сапожную! Ого!
Веселый такой голос, злой. И молодой – моих лет парень, видать.
– А ты лезь сюда, – хмыкнул я. – Разберемся!
А кто – не видать. Насквозь дыра, да перекрытия больно толстые.
…Ой, не случайно тут дырку эту оставили!
Поросенок на самом деле мандуррией оказался. Видел я такую – струны в шесть рядов, двойные. Здорово визжит! А парня Хосе звали. Хосе-сапожник, потому и об игле вспомнил.
…Фамилию не назвал, только имя. И правильно, конечно. Я тоже лишь по имени представился.
– Давно тут?
Оказалось – давно, три месяца уже. Тогда понятно! Чтобы с тоски не околеть в этих стенах, на барабане заиграешь.
И ведь не запрещают! С чего бы это?
– Пытали?
Равнодушно так спросил Хосе-сапожник, словно о погоде. Передернуло меня даже.
Не пытали еще. Ни меня, ни его.
– А защитник у тебя есть? Ты, Начо, защитника проси, обязаны они. А денег нет – бесплатно дадут. Может, и не выручит, зато мозги им всем заморочит, подольше проживешь.
…И на том спасибо!
– А зачем тут жить? – не сдержался я. – У тебя хоть мандуррия есть, не так тошно.
Засмеялся Хосе-сапожник, недобро так.
– А я очной ставки жду. Чтобы свели меня с гадом этим, Бенито Гарсией. Сведут – а я ему иголочкой да в сердце. Вот тогда и помирать можно будет. Не так обидно! Он, сволочь, не только меня сдал. Всех братьев забрали, отца… Брат Хуан пытки не вытерпел – помер.
…И снова – вроде как имена знакомые. Слышал ведь! То ли в Севилье, то ли в дороге где.
– Он ведь, Гарсия, всех с собой потянуть решил, падлюка! Вот я его шилом и оприходую!… А ты, Начо, главное, слабины не давай. Они тут хитрые, прямо ничего не спрашивают, ждут, чтобы ты сам со страху на себя клепать стал.
Ну, это я, положим, и сам понял…
– И врать любят, будто оговорили тебя, будто все им известно. И еще могут – приведут к тебе дружка твоего, заставят гадости про тебя говорить прямо в глаза. А ты озлиться – и на него всякое вешать станешь. Это-то им, гадам, и нужно. Один – просто еретик, а ежели двое – заговор уже, понял? И учти, по правилам их поганым тебя только единожды пытать смогут. Стерпишь, смолчишь – отстанут, ежели выживешь, конечно. Ладно, Начо, бывай пока!
Подождал я, покуда из дыры вновь визг раздался, подумал. На лежак сел – снова мозгой крутить начал…
Неспроста дырка – ясно. И что слушают нас – тоже ясно. Слушают – да ждут, пока не проговорится кто.
Вроде бы – глупо, не детишки мы с Хосе этим, понимаем. А с другой стороны – как сказать! С тоски не только струны мучить начнешь – волком завоешь. Вот и слушать станут – о чем вой пойдет. Неглуп Хосе-сапожник, но все равно – разговорился. А ведь он меня и не знает совсем.
Всю семью у парня взяли – вот ведь сволочи! Хорошо хоть я – сирота круглая.
…А Дон Саладо? А Инесса? А толстячок?
Двинул я себя в челюсть, крепко так. А вдруг искусники здешние мысли читают? Пытать-то один раз позволено, да раз этот всяким бывает!
Воют струны, словно бесы. Бес-сапожник их терзает, Беса-Начо злит и мучит. Ад вокруг, да вот загадка — Бесам я в аду том сдался? Чтоб убить, не надо ада, Значит, жизнь – не смерть – нужна им? Думал – все. Не все, выходит! Отплясал – не наплясался, И опять плясать заставят По пути на Кемадеро? Подарил меня Фонсека Прямо бесову кагалу. Королевский был лазутчик, Стал шпионом Сатаны!ХОРНАДА XXXII. О том, как в гости меня приглашали да за язык ловили
– Заходи, заходи, парень. Гостем будешь, поболтаем, посмеемся!
Вот уж не думал, что в гости позовут. Как потащили коридором, решил, что опять – в подвал к фра Луне. А оказалось – совсем не к нему.
Но тоже – в подвал.
– Недавно, значит, у нас? Вот и славно, поглядишь, повеселишься. Хорошо тут у меня, все, что бывали, очень довольными остались!
Веселый дядька! Ну точно – повар. Толстый, на брюхе вислом – передник кожаный, ручищи – с меня толщиной каждая – волосом густым обросли. Рыжим.
А на башке – ни волоска. Убежали от дядьки.
– Ну, гляди!
А подвальчик немаленький. И светло – факелы трещат, смолой на пол капают.
…Как в том подземелье, куда меня его булькающее сиятельство приглашал.
– Ну как тебе? Чистота, чистота-то какая, цени! Сам каждый день мою-вытираю, чтобы и пылиночки не было. Иначе гости обидеться могут.
Кивнул я, соглашаясь. Чистота – первое дело, особливо на кухне.
…Даже если кухня эта – адова!
А дядька-повар меня уже за руку тащит. Видать, не терпится ему работой похвалиться.
– Значит, так, парень, слушай. Приемов всяких у меня хватает – с полтора десятка будет. А инструменту, понятно, меньше, потому как каждый – по-всякому полезен. Вот, к примеру, дыба…
Подвел он меня поближе, головой покачал, языком прицокнул:
– А хороша, правда? Всего-то и делов – два бревна да третье сверху. А пользы – навалом! Первое дело – виска. Простая – без всего. Можно за руки, можно и за ноги…
Разгорячился, пятнами пошел. Любит свое дело, повар адский!
…Думал я, не сразу до этого дойдет. Зря думал, выходит! С утра и повели – на кухню эту.
– Ну, простая виска – это для детей больше. Для девиц опять же. Вот вчера одну подвесили – любо-дорого! Обгадилась, правда, бедная, да как без этого? Для того и вода у меня, и тряпка. А чтобы не воняло, я соль ароматическую покупаю, из самого Орана привозят!…
Кивнул я, соглашаясь, – сам возил. Обрадовался дядька пониманию моему, вновь заулыбался.
– А с тобой, парень, простая виска и не годится. Крученый ты, вижу. Потому с другого начнем. Ручки назад – и повыше. А к ногам…
Пощупал он мою руку, подумал, губами толстыми пожевал.
– Три арробы для начала хватит – к ногам чтобы. Но ты не думай, это только сперва. Вон, гляди!
Дернул лапищей, словно фокусник уличный. Слетело покрывало с лавки.
– Это плеть-трехвостка, а это – кнут. Кожа какая, видал? Из Памшюны привезли, там у них кожа особая. А это плеть верблюжья. Не пробовал? Ох, хороша! Ну, ничего, скоро узнаешь…
Вздохнул дядька – с сожалением немалым. Не придется, видать, сегодня за плеть взяться. Даже посочувствовал я ему!
– А это – кобылка. Верхом ездить любишь? Вот и покатаешься. Я как раз ремешки новые поставил, свеженькие!
Хлопнула лапища по коже, погладила ремни сыромятные:
– А для кобылки я самую сладость припас. Гляди – жаровня и тазик. Увидел? А вот и горшок! Думаешь, что там? Угадай, парень, попробуй!
А сам улыбается, щурится даже. Загадал загадку, подивил гостя.
– Жир там! Жир бараний – для пяточек твоих. Жиром смазать – а опосля огоньком. Ну, доброе дело! На днях грешник один – ох, упорный, ох, злонамеренный! – а все одно оценил, понравилось. Спрашиваешь, тазик зачем? Так ведь жир на пол капает, к подошвам прилипает. Вот я тазик и подставлю. Чистота – первое дело!
Обнял меня дядька, по спине похлопал – от полноты чувств, видать. Рванулся я из лапищ его рыжих, да куда там!
– Ну, вот! Значит, чего мы с тобой поглядели? Виселку поглядели, кобылку. А вот и душилка, гаррота называется. Ее я, признаться, не очень люблю, потому как гадят сильно. И тазик не помогает. Сердиться грех, конечно, – обгадишься, когда за горло подвешивают! Потому и душилка. Ненадолго подвешивают, на чуток самый, но мысли проясняет, нечего сказать. Потому и братья наши, допросчики, душилку эту ценят.
Повертел меня повар, дал гарротой полюбоваться. Даже петлю на шею накинул – для впечатления полного.
– А это, парень, гордость моя самая. Две недели сколачивал, после неделю еще отлаживал. Трое мне помогали – таких, как ты. Первый сразу помер, бедолага, потому как веревочкой сильно перетянули. Остальные ничего – довольны до сих пор.
И снова – зашумело полотно серое. А под полотном…
– Лесенка-чудесенка называется. Ох, и славная! Гляди: привязываем, руки-ноги затягиваем. Сюда ручку, сюда ножку…
Дернулся я, вырвался все же. Захохотал дядька – до слез.
– Нравится, вижу. И мне нравится, и всем нравится! Отсмеялся, слезы передником промокнул:
– А как растянем тебя на лесенке, то в рот что вставляем? Правильно, воронку. Не бойся, чистая, каждый раз промываю. Не водой – винишком, чтобы во рту приятно было. А в воронку – кипяток. Здесь и греем, вон, очаг в углу. Это для девиц – самая сладость.
Закатил глаза повар, языком по губам провел, вспоминая.
– Иная ножкой топает, глазенками сверкает. Не скажу, мол, не покаюсь, отца-мать не выдам. А ведрышко-другое плеснешь через воронку прямиком в нутро – ух, сразу добреет! Потому и называется – воронка Святой Маргариты. Добрая она была, сеньора Маргарита! Ты, парень, извини, что я все про девиц говорю. Люблю я их, особливо у кого кожа приятная. А для тебя другое найдется, «бостезо» называется. Гляди – вроде кляпа. Здорово придумано! Так – дышишь, а так – совсем наоборот.
Прикрыл я глаза, губу закусил. Да только от дядьки не спрячешься. Вновь обнял, в угол потащил:
– А вот это – на сладенькое самое. Да ты глаза открой, парень, иначе не увидеть тебе. Жалко такое пропускать-то! Сапожок называется. Да не простой – о девяти клиньях. И чем хорош – для всякой ножки подходит. Иной раз такая лапища, ровно у медведя. А ничего, обуваем! Эге, да тебе никак водички выпить пора?
…Лилась вода по подбородку, по шее, на рубаху капала-в рот не попадала. А дядька рядом стоял, кивал сочувственно.
– Ты, главное, парень, дураков не слушай. Много их здесь, потому как место такое. Ведь чего дурак думает? Думает, что сюда, в гости ко мне, только один раз приходят. Покатался на кобылке, сапожок примерил – и дуй обратно…
Кивнул я – верно. И это верно, и то, что слушают нас, как мы с Хосе-сапожником лясы точим – тоже правильно.
– А соль ведь в чем? А в том, что дважды нельзя, зато можно прерваться. Повисишь – прервемся, пяточки погреешь – опять прервемся. Одного старикана так целый месяц здесь продержали. Жаль, помер! Да ты не бойся, помереть тебе не дадим. Молодой ты, парень, сильный. А у нас и лекарь есть, и зелья всякие, и травы. А как же без этого? Ведь не звери мы, совсем даже наоборот. Да ты не падай, еще успеешь! Или, может, сразу руки тебе привязать да подтянуть? Ну-ну, шучу я, веселый я человек, добрый. И еще скажу – с допросчиком не ругайся. Не любят они этого, страх, не любят. Шепнут мне, вот тогда он и начнется – страх-то самый!…
…Зря я, выходит, над фра Луне шутки строил!
Все-таки не упал – своими ногами по коридору пошел. А по бокам – парни в зеленом. Смеются, рожи корчат.
Не иначе тоже веселые попались!
– Итак, сын мой, что ты можешь рассказать о проступках своих, Церкви нашей Католической враждебных?
Все такой же он, фра Луне. И голос, и рожа. Даже вопрос сходен. Только теперь совсем иначе я этот вопрос услышал.
А горбун в окулярах уже наготове – с перышком. Открыл рот, на меня воззрился.
Вздохнул я, выдохнуть попытался.
Застрял воздух в горле…
– Я… Я никогда не исповедовал никакой иной веры, кроме христианской, отче!
Кивнул фра Луне – охотно так.
– Конечно, конечно, сын мой. Называешь ты свою веру христианской, ибо нашу почитаешь ложной и еретической. Верно ведь?
Закусил я губу, понять пытаясь. Да что тут понимать? Сначала напугали, теперь за язык поймать пытаются. Вон, горбун пишет, ни слова не пропускает!
– …Но я спрашиваю тебя, Гевара, исповедуешь ли ты что-либо противное тому, чему учит Римская Церковь?
Спросил – ждет. И горбун ждет – с пером поднятым.
– Верую в то, во что верует Римская Церковь, – выдохнул я.
– Конечно, конечно! – подхватила жердь. – Наверно, в Риме есть у тебя, Гевара, единомышленники, себя Римской Церковью называющие…
Не ошибся я – игра. Да только не такая, как мне вчера думалось.
– Я верю в то, во что веруют все добрые католики, отче, – и вы в том числе…
А как еще сказать? «Credo» прочесть? А ежели собьюсь, ошибусь хоть в слове одном?
Покачал головой фра Луне – серьезно так.
– Сын мой! Ежели называешь ты добрыми католиками учителей своих, еретиков злокозненных, то я вам всем в том не сообщник. Скажи лучше, веришь ли, что на престоле в алтаре находится тело Господа нашего Иисуса Христа? И что тело сие – истинное тело Господа, родившегося от Девы, распятого за нас при Понтии Пилате, воскресшего, восшедшего на Небеса?
Знать бы! В последний раз мне эти премудрости падре Рикардо объяснить пытался. Давно дело было.
– А вы сами в это верите, отче?
Думал – не ответит. Но нет – снова закивал:
– Конечно, конечно, сын мой. Верую – всем сердцем верую!
Перевел я дух, на миг самый малый глаза закрыл:
– Я тоже верую, отче!
– Нет, нет! – замахала руками жердь. – Ты, Гевара, веришь в то, что я верю в истинность всего сказанного. Я верю – не ты! А сам? Веришь ли? Готов ли поклясться на Евангелии, присягу дать от всего сердца?
А сам рукою по скатерке шарит – Евангелие ищет. Ох, и не понравилось мне это!
– Если я должен дать присягу, отче, то я готов… Покачал головою фра Луне – укоризненно, грустно.
– Я же не спрашиваю тебя, Гевара, должен ли ты клясться. Я спрашиваю, хочешь ли? И учти, сын мой: и тысяча присяг не спасет тебя от костра, если появятся свидетельства против тебя. Только совесть свою осквернишь – а от смерти лютой не избавишься. Но если ты, сын мой, просто сознаешься в заблуждениях своих, то отнесутся к тебе со снисхождением христианским…
Хороша в аду потеха — Как ни скажешь, все виновен. Поклянешься – Кемадеро, А не станешь, тоже спалят. Не по правилам играют, Только за руку не схватишь, Потому как за плечами Дядька с плетью и воронкой. Лучше помер бы ты, Начо, Посреди морской пучины, Чтобы чайки проводили, Волны чтобы отшумели, Чтоб не кляп – вода морская Рот орущий захлестнула. Только выбрать не придется, Выбор сделан без тебя!Долго я ждал, пока струны завоют, – с самой темноты.
И даже не скажешь, отчего. Казалось, стань возле дырки, позови Хосе-сапожника. Или прямо с лежака окликни – все равно услышит, ежели голоса не пожалеть. Да только молчал я – ждал. Вроде как примета какая – заиграет сапожник на мандуррии своей дурацкой, значит, жив буду.
Глупость, конечно, страшная. Да только умность всякую с меня требовать – пустое дело, особливо после всего. Слыхал я о героях, что на дыбе песенки пели да на «лестнице-чудеснице» посмеивались. Так с них пусть и спрашивают, ежели и вправду такие имеются. А я – тварь живая, не каменная. Как представлю дядьку-повара веселого, что к пяткам моим подбирается или в глотку «бостезо» вставляет, – так и всякого разумения лишаюсь.
И ведь понятно вроде. Умные они здесь, все рассчитали. Сперва – напугать, после – в изумление полное привести, чтобы наплел на себя с три короба. А наплетешь – тут тебе и амен полный, потому как откажешься – значит, обратно «впадешь» – в ересь в смысле. Впадешь и прямиком на дрова сырые выпадешь – уже на Кемадеро.
Значит, и тут, в аду этом, молчать следует – как и на допросе всяком. В Эрмандаде тоже пугать любят. В ухо двинут, сапогом в живот врежут – и колись, раб божий. А стерпишь, смолчишь – авось и пронесет. Так что правила простые, дурачку ясно – пока дурачка этого на дыбе не вздернут.
А все-таки прошиблись фратины мерзкие! Самую малость – но прошиблись. Сразу меня колоть следовало, тепленького. А раз не раскололи, на потом оставили, в разум прийти дали…
Ведь чего мы боимся? Неизвестности, понятно. А когда всюду ясность полная, то и мыслишки шевелиться начинают. А человек – скотина хитрая, особливо когда дело до шкуры доходит.
В общем, когда завыли среди ночи струны двойные, даже приободрился я. Жив сапожник! Значит, и я жив буду.
Долго я эту мандуррию слушал, не мешал. Пусть играет, все лучше, чем тишина могильная. Наконец вроде как исчерпался сапожник – или струнам решил отдых сделать.
А я уже наготове – у дыры самой.
– Живой, Хосе?
– Живой, Начо!
И ведь ясно, что не поговоришь толком – слушают, сволочи, а все одно – легче как будто.
– Не пытали, Начо? Ха-а-ароший вопрос!
– Пугали только. А тебя?
– Завтра будут. Так что конец мне, парень. Понял? Сжалось сердце. И что ответишь? Чтобы не мучился – сразу признавался, ведь все одно – помирать?
…А не для этого ли дырку пробивали? Чтобы мы вроде как страхом смертным делились?
– Чего молчишь, сосед?
А чего я молчу? Того и молчу – чтобы душу не травить, ни ему, ни опять же себе.
Да только, видать, совсем сапожника допекло.
– Как думаешь, Начо, живым выйдешь – или как? Почесал я затылок, подумал…
– Или как, Хосе.
– Жаль… Я, понимаешь, тоже. Да все одно, Начо, вдруг повезет тебе? Сказать я должен…
И тут очнулся я словно. Сказать? Так ведь для таких слов дырку и пробивали!
– Молчи лучше, Хосе. Уши тут всюду!
Смех – злой такой, сильный. Видать, не трус он, сапожник!
– Знаю! И гады эти знают. А все одно – слушай. Потому как ежели не из них ты, Начо, запомни. Выживешь – расскажешь, а нет – злее будешь, понял?
Поглядел я на дверь железную, послушал. Тихо, словно бы и нет никого. Неужто все равно им, зелененьким? Или в том и задумка, чтобы не мешать?
– Хосе Франко меня зовут. Из Ла-Гвардии родом – и я, и отец, и братья. Бенито Гарсия, сволочь поганая, нас всех выдал. Не захотел один помирать, за собою потащил…
Кивнул я – говорил он уже, Хосе-сапожник, про Гарсию этого. Про него говорил, а вот фамилию не называл – свою.
Хосе Франко – ой, знакомое что-то!
«Слыхали вы уже, добрые севильянцы, что исхищен был ребенок безвинный, родителей всеми почитаемых чадо единственное. А имя ему было Хуан Мартиньес, исхитили же его иудеи тайные, в личинах христианских ходящие: Альфонсо Франко, марран, и сын его Хуан Франко, марран же…»
Даже похолодел я, такое вспомнив. Ведь кто об этих Франко кричал? Сам фра Луне и кричал – на паперти Святого Франциска. А до этого – в Касалье!…
«…И брат его Хосе Франко, марран, и Давид Перехон, марран же. Гостию же святую для дела сего черного похитил злобный выкрест Бенито Гарсия…»
Бенито Гарсия?! Гарсия!!!
Врезал я себя по башке глупой, по башке дырявой. Как же я сразу не сообразил еще там, на площади?
Бенито Гарсия – тот, что гостию святую в мешке прятал да Эрмандаде достался!
«– …А мы, стало быть, монтаньес. С Горы, от Риваро Коррехи… Ну его, маркиза этого! Даже не заплатил. Или мы виноваты, что Бенито Гарсия, дурак старый, попался? Сделали работенку – так плати, не задерживай! А с Гарсией пусть сам разбирается…»
И мешки – длинные такие, узкие. Те, что дуэнья глиняная под деревом в рядок укладывала.
Вот, значит, какие злодеи-выкресты младенца распяли!
Прислонил я лоб к стенке холодной, подождал, пока холодом потянет…
И что делать теперь? В дверь кулаками лупить, фра Луне кликать? Кликать, все как на духу рассказывать?
«Но если ты, сын мой, просто сознаешься в заблуждениях своих, то отнесутся к тебе со снисхождением христианским…»
Чуть не завыл я похуже мандуррии всякой. Всюду клин! Расскажешь – сам в злодеи попадешь (а как иначе? Откуда мне про Гарсию известно?), смолчишь – невинных всеконечно погубишь.
Покосился я на дыру, вздохнул, головой покачал.
Ой, не спеши, Начо!
А не для того ли и придумано все? И селда пустая, и дырка в полу? Ведь рассказывал я падре Хуану Фонсеке про их сиятельств! Не все, конечно, но ведь не один я у него такой – говорливый. Дознался сеньор архидьякон про маркиза – да и решил меня, предателя, к делу пристегнуть.
А может, и не он вовсе? Ведь дон Фонсека Трибуналу не хозяин. Иной тут кто-то распорядился, поважнее да посмекалистей…
А если и не так все это? Выручу я Хосе-сапожника? Ведь не сказал он, что невиновен. Что Гарсия выдал – сказал, а что ребенка этого, Мартиньеса, не резал – не говорил ведь!
…А если меня приплетут, то не одного ведь. И Рохаса, толстячка нашего, не обойдут (ведь кого мы с ним спасать задумали?), и даже Дона Саладо, рыцаря моего калечного!
Или это я все от страха? Может, жизнь Хосе-сапожника от одного моего слова зависит? И его самого, и братьев, и отца?
Прислушался я – тихо. А все одно – вроде как хохочет кто-то.
Крест творю – не помогает, Еще пуще хохот слышен. «Pater noster» с губ не сходит, Словно ниткой рот зашили. От души смеется Дьявол — Что ни делай, все погибнешь, Олой станешь, Всесожженьем, Дымом в небо воскуришься! Да не сам – со всеми вместе. Или думал, глупый Начо, Что другим подносят чашу, Что других зазря погубят? Что Малахи Наказанья Без тебя нажрутся вволю? Промолчи – одни погибнут, Расскажи – сгорят другие. Потому-то и хохочет, Веселится Сатана!ХОРНАДА XXXIII. О том, как довелось мне насвистывать некую старую песню
Вначале даже заснуть боялся. То есть, наверно, и заснул уже, а все казалось – не сплю. Не сплю, потому как – страшно. Будто придет ко мне во сне Тот, Который…
Ох, слышал я такую байку! Еще много лет назад, как только в Севилью попал – ребята с Ареналя рассказали. Будто приходит к тому, кто уже совсем на краешке стоит – Он. То ли с рогами который, то ли просто – душа проклятая. Приходит – и предлагает меняться. Тебе, мол, жизнь да свободу, а мне – судьбу твою. И не душу даже – судьбу. Потому как всякий человек свободен, а Он – проклят, вроде бы в клетку заперт. Вот эту клетку бедолагам всяким и предлагает.
А куда же Ему приходить, как не в эти стены проклятые?
Или уже пришел? Вон, у самой двери тень густая, ночи чернее. Не движется, не колышется – ждет, пока глаза закрою.
И ведь понимаю, что сон это. Бывает такое – с устатку или с волнения сильного. Спишь – а вроде и нет, словно тебя в стекло толстое посадили, в бутыль прозрачную.
А тень не уходит, гуще становится, плотью холодной наливается. И не встать, головы не поднять, рта не раскрыть. Одно хорошо – не по-настоящему это. Пока еще. А вот ежели взаправду засну!
…А может, и не судьбу – прямо душу потребует или даже требовать не станет. Заберет – и с концами!
Успокаивал я себя, повторял, что утром посмеюсь только. Да это утром будет, а пока ночь, и тень уже совсем рядом. И все, что только страшного в мире нашем есть, – там, у порога.
Меня ждет!
Сказать смешно – молиться я принялся. Прямо посреди сна моего стеклянного. И Деве Пречистой, и святым всем, и святому Яго, нашей Кастилии заступнику, – отдельно. Даже святую Клару помянул, хоть и смерть мне от нее приключится. Но ведь все равно – святая! Об одном просил – чтобы сон какой послали, без тени черной. Дона Саладо, идальго моего, увидеть бы дали, с Инессой по улицам севильским погулять…
И – помогло. Не сразу, конечно. Вначале тень еще больше стала, к самому лежаку моему подползла. А потом глядь – и нету проклятой. Ее нет, а дверь открыта – настежь. И не просто открыта. Другая это дверь – повыше да пошире. А я ее и рассматривать не стал – сразу туда бросился. Все одно – сон, так, может, встречу кого напоследок, поговорю…
И ведь встретил! Хоть и не того, кого думал.
– Стоит ли идти вам со мною, сеньор? Белый плащ на нем – на доне Хорхе Новерадо. Белый – с крестом алым. И на мне такой же. И не в тюрьме мы проклятой – в донжоне Анкоры, на лестнице винтовой. Чуть выше – площадка с зубцами, а ниже, по ступеням ежели спуститься, – двор.
…И плащ мне такой уже снился – там же, в замке. Одно непонятно – кто сеньор? Не я же! Или все-таки я?
– Отчего же не идти мне с вами, сеньор Новерадо? – удивляюсь. – Ведь сон это, правда?
Не отвечает рыцарь, хмурится. И понимаю я, что тут, в замке, тоже ночь, и не простая ночь…
– Там – Королевская Измена, сеньор Гевара. Это моя Смерть – не ваша.
А я хоть и сплю – да все помню. Точно – измена. Враги у ворот с письмом предательским, Инесса лобастая наверху ждет…
Ох, недолго ей ждать!
– Так зачем же вам гибнуть, дон Хорхе? – удивляюсь. – Закроем ворота, дадим им всем чертей, маврам поганым, а потом и до короля-иуды доберемся!
А сам, понятно, о лобастой думаю. Ведь не дага – меч у меня при поясе, получше, чем у Дона Саладо был, не дам я ее, сеньориту Инессу, в обиду!
Качает головой рыцарь, вниз спускается по ступеням каменным. И я за ним – ответа жду.
– Все это уже было, сеньор Гевара. Очень, очень много лет назад. Прошлое не изменишь, мертвых не воскресишь. Вы – живы, сеньор, незачем вам споспешествовать мне!
Серьезно так сказал, тяжело. Даже не сразу нашелся я, чего ответить.
…А ступени бегут вниз, много их, но я знаю – все равно кончатся, во двор выведут, к тем самым воротам.
– Да разве я жив, дон Хорхе? – вздыхаю. – В Супреме я, в аду самом. Вот вздернут завтра меня на дыбу… То есть и не завтра уже – сегодня.
Остановился рыцарь, ненадолго, на малый миг всего. Остановился, на меня поглядел.
– Ну и что, сеньор Гевара? Ведь это всего лишь Смерть. Разве мы с вами бессмертны?
Сглотнул я даже от слов таких. Оно верно, конечно…
– Я мог бы обмануть Смерть, сеньор Гевара, не послушаться своего короля – и самому стать изменником. Но тогда в следующий раз мне и вправду стало бы страшно. А сейчас – чего бояться?
Ох, и не понравились мне его слова!
– А сеньорита Инесса? – говорю. – Ей-то зачем было гибнуть? Ведь не просто сгинула она – душу свою бессмертную погубила. Душу, сеньор!
Вновь остановился он, дон Хорхе, головой качнул – медленно так, веско.
– Нет! Не погубила. Разве лучше было ей отдаться в руки врагов веры христианской нашей? Разве не сказал Христос: тот, кто не побоится погубить душу ради Меня, – спасется?
…Неужто и вправду – сказал?
А каменные ступени бегут – вниз, вниз, вниз… Нет, не бегут уже – кончились, двор перед нами, ворота.
Белым жалом вырвался меч из ножен. Улыбнулся дон Хорхе:
– Вам пора, сеньор Гевара! Там впереди – моя Смерть. Она не страшнее вашей. Считайте, что ее уже нет. Душу губят не тогда, когда нарушают древние заповеди. Душу просто губят! Не погубите…
– Постойте, сеньор, погодите! – заспешил я. – Объяснили бы хоть, кто вы? Призрак ли, человек ли живой? И вы, и сеньорита? Ведь, говорят, и замка вашего, Анкоры, нет уже, и вас самих…
Не договорил, потому как плохо получилось. И вновь усмехнулся дон Хорхе:
– Тебе решать, Игнасио. Тебе!
Мне?!
Хотел переспросить (видать, ослышался – или сеньор Новерадо оговорился). Поздно! Только свет факелов перед глазами – неровный, теплый. А после и он пропал.
Тьма!
Черная, ледяная, могильная – подступила, окутала, в горло забилась…
Так почему же мне не страшно?
– Жалко мне тебя, Гевара! – вздохнул фра Луне. – Ведь живой ты человек, и душа у тебя христианская. Как же тебя не пожалеть, сын мой!
Все там же мы – в подвале. Да только брат Луне опять переменился. Вчера путал, за язык ловил. А вот сегодня – жалеть принялся.
– Погибнешь ты, сын мой. Сам погибнешь – и душу погубишь!
Вот-вот заплачет! И горбун, тот, что перышком чиркает, тоже головой качает. И ему, видать, жалко меня, грешного.
– Ведь люди мы все, сын мой. Даже распоследние еретики – тоже люди. А разве ты еретик, Гевара? Оступился ты, конечно, сильно оступился, так ведь молод ты, есть еще время покаяться, о душе своей бессмертной подумать…
И носом шморгает – видать, слезы говорить не дают.
– Ведаешь, сын мой, что ждут тебя муки сугубые, лютые. Растерзают твою плоть, огнем сожгут. Отчего же не покаяться тебе, сын мой? Одно слово скажи: грешен! Скажешь – и спасен будешь. Понимаешь, Гевара, всего одно слово!
– Понимаю, – кивнул я. – Грешен, святой отец! Даже подпрыгнула жердь от слов моих. Высоко – чуть ли не до потолка самого.
– Признался, признался! Грешен! Грешен! Признался! А горбун даже язык высунул – до того старается, мои слова записывает.
…Да только вчера им надо было меня про грехи спрашивать. Здорово тогда меня прижали! А вот сейчас – поздно.
Или не поздно все же?
– А теперь кайся, сын мой. Кайся! Все, как на духу, как на исповеди святой!…
Потер руки фра Луне, уселся поудобнее, локтями в скатерку уперся:
– Кайся!
И вновь кивнул я, задумался.
… То-то и оно – подумать дали! А ведь просто все получается. Хотел бы меня падре Хуан убить – давно бы прикончил. Или сам Эрмандаде свистнул, или на плаху отправил – за Костансу зарезанную. Но ведь не убил, не отправил.
Значит?
Нужен я! Уж не ведаю зачем, да только нужен. Ему ли, не ему – но требуюсь. Оттого и напугать решил – до смерти самой. Напугать, на поводок крепкий взять. А потом и явиться – как Тот, о котором ребята с Ареналя рассказывали. Губи душу, Начо, ежели не погубил еще!
Так чего ждать-то?
Поглядел я на жердь, что передо мною расселась. А чем этот фра Луне меня безневинней? Я в Авиле нагрешил, он – в Касалье. Да только я вроде как жизнью рисковал – своей. А этот…
– Я – королевский шпион, падре. Три года назад меня приговорили к смерти за морской разбой. Дон Хуан де Фонсека, архидьякон севильского собора, из петли меня вытащил, на себя работать заставил. На себя – и на Ее Высочество…
Покосился я на жердь поганую. Слушает? Ну, слушай, слушай!
– Много чего я сотворил, падре, а про одно всенепременно сказать должен. Покаяться в смысле.
– Кайся!!!
Аж на табурете подпрыгнул. Еще бы! Не каждый день исповедь королевского лазутчика слушать доводится. Небось уже ногами сучит он, падре Луне, к начальству своему бежать торопится.
Прикрыл я глаза, задумался на миг. Ведь все правильно, Начо? Пожил бы еще, конечно, не отказался…
И увиделось – тоже на миг, на малую песчиночку, что из ампольет сыплется: каменные зубцы, черная тьма вокруг – и худая лобастая девочка, шагающая в никуда – на каменные плиты, в адское пламя, на вечные муки. А ведь и в гареме сарацинском живут, и в любовницах королевских – тоже. Живут, не тужат…
– Три месяца назад, фра Луне, королева узнала, что в городе Авиле готовится мятеж против его светлости герцога Бехарского. Ведомо вам, наверно, что в давней вражде семьи Трастамара и Бехара. А посему падре Хуан, Эспио Майор королевский, приказал мятежникам этим помочь – укорот чтобы герцогу дать. Первое дело – порох да бомбарды доставить, да не просто – в тайне великой…
Чисто рассказывалось, словно кто другой перед столом этим стоял – сеньор Рохас или даже бакалавр тот, что моему рыцарю стишата писать помогал. Гладко слова скользили, легко. И на душе моей грешной легко стало.
…Вот и я шагнул, сеньорита Инесса!
Поскрипывало перышко, шевелил ушами фра Луне, сыпал я всем тем, что башку мою за эти месяцы забило. Ох, и много же всякого: имена, клички, цены в эскудо и цехинах [61], лазутчики наши в Оране и Фесе…
– Водички бы мне, святой отец!
Кивнул послушно. Сам поднес – не побрезговал. Глотнул я – хорошо!
– Все ли записали, фра Луне?
А чего спрашивать? Вон, горбун уже который лист переворачивает!
Повел я плечами, словно груз тяжкий скинул, поглядел на жердь эту дурную:
– И все ли понятно, святой отец? Вновь закивала жердь, радостно так:
– Поистине все, сын мой! Однако же должно бы тебе покаяться и в чем ином, пусть и в маловажном: посты, скажем, не соблюдал, перед распятием святым креста не сотворил. Грех не велик, зато в Трибунале с понятием отнесутся…
Неужто не догадался? А ведь точно – не понял. Ну, дурень!
Улыбнулся я прямо в рожу его мерзкую, улыбнулся, хмыкнул:
– Так ведь вы уже покойник, фра Луне. И каждый, кто в бумаги ваши нос сунет, – тоже мертвяк. Так что поздравляю вас, подохнувши!
Моргнул он, все еще сладости всей не раскусив…
А ведь не только жердь эту с горбуном в придачу падре Фонсека к Петру святому отправит! Всех отправит, кому о делах тайных королевских узнать придется – на свою башку глупую.
Поглядел я в потолок темный да и свистеть принялся. Не просто так – песенку одну старую. Еще в Астурии я ее слыхал, пели мы ее с дружком моим Хуанито. Жалостливая такая, про то, как моряк с побродяжкой подрались.
После пьянки дело было, Подрались – и за кинжалы, Был моряк на руку быстрый, Кишки выпустил бродяге. Только смотрит: возле уха Вроде родинка темнеет, И знакомая такая. Испугался, ахнул – поздно: Он узнал родного брата, С кем когда-то разлучился, А теперь – толкнул в могилу. Ох, и грустно песня пелась! И сейчас мне грустно стало: Два покойничка дурные На меня глядят-дивятся, Отчего, мол, рассвистелся Еретик в подвале темном? Оттого свистит, что понял: Там, где нет свободы жизни, Там свобода смерти есть!Только в селде я наконец не выдержал – расхохотался. Ну когда же такое было: одна фратина зеленая у другой бумажки исписанные выдирает, чуть ли не жевать их пытается, а другая кулаками машет – не дает? А тут и парни в ризах подскочили – и давай руки за спину вертеть. Не мне, понятно, жерди этой – фра Луне.
А не жри протоколы Супремы, болван!
А как потащили его к двери – завопил, забил ногами…
Махнул я рукой – что с него взять? Горбун-то еще глупей оказался. Им бы вместе, втихаря, бумаженции эти спалить…
Так ведь, поди, все листы пронумерованы да печатью скреплены!
…А ежели завтра к повару-весельчаку потащат – на дыбу подвешивать – и его за собой уволоку. Много у меня историй про дона Хуана де Фонсеку, архидьявола севильского, ох, много! И про него, и про Ее Высочество…
Оглядел я селду, словно в первый раз увидел. Эге, а дыры-то уже нет! Быстро заделали…
Значит, и тебе амен настал, Хосе-сапожник. А чему дивиться, ежели вокруг его сиятельства де Кордова Смертушка так и порхает? Небось посулили дюжину реалов за младенца того несчастного…
Впрочем, не только ему, сапожнику Франко, амен – мне тоже. Все простить могут Белому Начо – и цыганку зарезанную (хоть бы для порядку ее помянули!), и ересь всякую. А вот что проболтался, секрет королевский не соблюл – да еще какой секрет! – тут уж пощады не будет.
Ну и ладно!
Достал я из щели, что между камнями змеилась, булавку с камешками – в первую же ночь спрятал, не дурак – на ладони подкинул.
Хоть бы объяснил мне кто, с кем в Анкоре познакомиться пришлось? С кем по Севилье так славно гулялось?
…А пусть и не объясняют даже. С хорошей девчонкой гулялось! С той, для которой не разбойник я, не бродяга – рыцарь. Белый Идальго Игнасио Гевара!
Неужто за такое умереть жалко?
А вот платок с узлами – его я над дверью пристроил. Способ старый да надежный. Обыскивать придут – ни за что вверх коситься не станут.
Жаль, слова не сдержал, в собор севильский не отнес, к алтарю святому. А теперь уже и относить некому.
…И вспомнилось вдруг, как говорил мне во сне старый дон Хорхе: «Кто душу свою погубит…»
А ведь и вправду!
«Тебе решать, Игнасио. Тебе!»
Трудно первый узел поддавался, будто не из шелка он – из камня цельного. Зубами цеплял его, ногтями…
Дальше – легче пошло. Словно кто-то когти убрал, выпустил. Каждый узел – все проще и проще. И то верно, лиха беда начало!
…И в самом деле! Ежели один смертный грех не простится, то чего с семью делать? А ведь я без всякого платочка – по уши. Даже ежели последний месяц припомнить. Сколько душ в Авиле погибло? А по чьей вине?
И цыганка эта проклятая, Костанса Валенсийка – тоже на мне! Хоть и не жалею, а все равно – душа живая. Значит, и за нее гореть придется. Ведь не из ненависти ее порешил – от страха, а это, считай, еще хуже.
Так чего мне о душе моей трижды грешной печалиться? Раньше думать следовало, Начо! В тот миг, когда падре Хуан тебя из петли вытаскивал. Мотнул бы башкой, послал его куда подальше…
Усмехнулся я даже. Силен сам себя убалтывать, Бланко! Страшно все-таки, последний узелок ждет…
Ждал. Раз – и нету его.
Все!
А как узлов не осталось, встряхнул я платок (тяжелый, хоть и шелковый!), оглянулся…
Господь один лишь ведает, чего я увидеть думал. То ли рожу рогатую, на меня зубы скалящую, то ли сразу Пасть Адову, какой ее на штукатурке в соборах малюют.
Вот он я, Начо Белый, пожива готовая, лопайте!
Да только пусто вокруг, скучно. Даже обидно как-то стало. Вроде и понимал я (ой, понимал ли?), что все это – байки древние; прав был тот падре лысый, не завязать грехи в платок…
Но все-таки! Жаль, не узнает лобастая, что не струсил я напоследок. Хоть и не придется рыцарем стать, да и света белого не увидеть уже…
Но ведь развязал!
Шелк рукою я разгладил, Вновь сложил, у сердца спрятал. Вроде все ты сделал, Начо? Хорошо ли, плохо – сделал! Не убить тебе Дракона, Не доплыть к Земле Грааля, Плащ с крестом тебе не мерить — Ну и что? Душа спокойна, Как тогда, у перекрестка, Где Она меня встречала. И пусть даже трижды проклят, Все равно жалеть не стану, Пусть в котел пикаро кинут! Перед нею, Милагроссой, Оправдаться попытаюсь, А до прочих нет мне дела — Не простят так не простят!ХОРНАДА XXXIV. О том, что в хартиях Супремы было писано
– Прошу вас, сеньор, прошу-у! Сюда, к столу-у… Садитесь, пожалуйста!
К столу так к столу, никакой мне разницы.
Прошел.
Сел.
– Вам удобно-о? Может, еще свечу-у зажечь?
А вообще-то говоря, бес знает что творится! Как поутру разбудили, из селды выволокли, чего я подумал? То и подумал – кушать ведут. Меня в смысле, кушать – клыками рвать, чтобы в клочья. Даже булавку с камешками не пожалел – обратно к рубахе пристроил. Все веселее будет!
Ан нет! Не пыточная – и не допросная. Большая такая комната, светлая, своды полукруглые под потолком сходятся. Окна, правда, камнем заложены да известкой забелены, зато свечей – дюжина целая, и не сальных, восковых. Потому и светло.
Ну и стол с табуретом. А у стола – хмырь в окулярах. Молоденький такой, вежливый, ровно не из фратин.
…А может быть, и не из них. Вместо ризы – балахон темный, какой сеньор Рохас, толстячок наш, носил. Уж не из Саламанки ли самой хмырь этот?
Или не из Саламанки все же? Уж больно говор приметный. «Прошу-у!»
Так ведь это сицилиец! Да-а-авно не виделись. Не зря я на них, мерзавцев, грешил. Они, они Супрему выдумали!
– Вам удобно-о, сеньор Гевара?
Ну, пристал! Подпрыгнул я на табурете, локтями в стол уперся. Кивнул – удобно, удобнее не бывает даже.
– Все хартии на кастильско-ом, но иногда там плохой почерк, так что я рядом буду, подскажу-у. Но если хотите, я сам вам прочитаю…
Поглядел я на хмыря, внимательно так. Заморгал сицилиец.
– Но, насколько мне ведомо-о, вы грамоте изрядно обучены, сеньор Гевара…
Не понимает. И я не понимаю – ну ничегошеньки. Хартии – это, ясное дело, бумажки, а вот все остальное…
– Они в порядке разложены. Самые важные первыми иду-ут.
Или новую пытку изобрели – хартии читать? Неужто гарроты хуже?
Пододвинул я свечу, взял то, что сверху лежит, взглядом скользнул.
«Иудеи Испании иудеям Константинополя…»
Чего-о?
Вначале не понял, а после увидел словно: собрались все наши иудеи разом – агромадной такой толпой. Собрались – письмо пишут. По очереди. А в Константинополе другая толпища сходится – читать чтобы.
Ну, ладно…
«Иудеи Испании иудеям Константинополя.
Уважаемым братьям – здоровья и благополучия. Знайте, что Король и Королева Испании заставляют нас принять христианство, лишают нас имущества и самой жизни, разоряют наши синагоги и прочими способами притесняют нас, и мы уже не ведаем, что делать. А посему Законом Моисеевым заклинаем вас объединиться с нами, и помощь оказать, и совет дать нам верный.
Исаак Абоаб, принц иудеев Кастилии и Арагона».
Повертел я бумажку эту в руках, в сторону отложил. Ну и что такого? Ведь все правда – и христианство принимать заставляют, и синагоги прикрывают. И убивают даже. Я бы на месте этих иудеев не в Константинополь – прямиком Моисею написал!
Покосился я на хмыря – кивает мне сицилиец. Дальше, мол, глаза стирай, Начо!
А что там дальше? Никак ответ? Точно! Оттуда, из Константинополя.
…А отчего это они Стамбул по-старому величают? Странно даже.
«…Возлюбленные братья в Вере Моисеевой! Получили мы послание ваше, в котором сообщаете вы о муках и страданиях, что вам приходится сносить. Считаем мы, что ежели Король и Королева Испании желают сделать вас христианами, вам следует христианство принять. И в том все раввины наши единогласны…»
Моргнул я даже, последние слова перечитывая. Это что же получается? Вроде бы если попы наши кастильцам Магомедову веру принять присоветовали?
«…Если лишают вас добра и собственности, вы должны сделать ваших детей негоциантами, чтобы они могли отобрать все это обратно; если христиане лишают вас жизней, вам надлежит воспитать сыновей своих аптекарями и лекарями, чтобы они лишили жизни христиан; если они разрушают ваши синагоги, сделайте ваших детей клириками, чтобы они изнутри разрушали христианские храмы; если вам приходится сносить несправедливость, пошлите сыновей ваших на королевскую службу, чтобы они могли отплатить своим подчиненным – христианам.
Веру же нашу Моисееву храните в тайне, и прочих обращайте, и ослабевших поддерживайте.
Хусе, принц иудеев Константинополя».
Перечитал я еще разок, подумал: «…Воспитать сыновей ваших аптекарями и лекарями, чтобы они лишили жизни христиан…» Ну, ничего себе! Хотя чему дивиться, в Стамбуле этом турки-сарацины правят, подсказали, видать!
А хмырь уже тут как тут – следующую бумаженцию подкладывает. Хартию, в смысле.
И что на этот раз? Мелкий такой почерк, и не разобрать даже.
«…У иудеев мы, христиане, людьми отнюдь не считаемся. Детей наших называют они „нечистью“. Христианин, по их словам, не ест, а „жрет“, не спит, а „дрыхнет“, не умирает, а „издыхает“. Господа нашего Иисуса Христа именуют они, иудеи, „незаконнорожденным“, а ежели видят процессию с Иконами и Распятием, детям своим глаза прикрывают, приговаривая: „Чтобы глаза ваши чистые эту нечисть не видели“. Книги же душеполезные про Господа Христа и Деву Пресвятую называют „матери-патери“. Говорят они, иудеи эти, что души у христиан отнюдь нет, а есть только пар вонючий…»
Не стал дальше читать – в сторонку отложил. Тоже мне, удивили! Посидели бы в таверне ближе к вечеру, послушали бы, чего там про иудеев говорят. Да и не про них только. Про португальцев тоже, про французов и про итальянцев…
А ведь я и сам итальянцев «итальяшками» величаю. Фу-ты, даже стыдно стало!
Встал я, потянулся, глаза потер…
– Вам что-нибудь непонятно-о, сеньор Гевара? Вам помочь?
Ах да, сицилиец. Ну, заботливый попался! Поглядел я на стол да на хартии-бумаженции (ох, и много же их!), головой покачал:
– Зачем это?
Растерялся хмырь, окуляры с носа снял, протирать принялся.
– Но это важнейшие хартии, сеньор Гевара. Наиважнейшие! Во-от! Во-от!
Подскочил к столу, зашелестел:
– Вот! Гнусный заговор иудейский, приведший к разрушению Святого-о Распятия в Касар-де-Паломеро-о! И еще гнуснейший – попытка отравить принца Хуана, наследника Кастилии наше-ей. А вот – убийство ребенка в Ла-Гвардия: глумление-е, поругание-е, сердца вырывание-е…
– Наслышан, – согласился я, – уже… Если там и все прочее такое!
Ведь чего мне скучно стало? В Супреме я, не где-нибудь. Плеснут масла на пятки, огонек поднесут – сам себя раввином признаю – и Понтием Пилатом заодно.
…Падре Рикардо у них тоже в заговорщиках иудейских числился. То ли распятие хулил, то ли Дары Святые ногами топтал.
Не того читателя нашли!
– А вот, во-от! О тайном иудействе маркиза де Кордова, о чернокнижии мерзко-ом, об инкубов и суккубов вызывании-и…
Дернуло меня, ветром ледяным обдало. Как будто снова я в том подвале, где круги на полу светятся.
– … И о големов мерзких творении-и, об убийстве христиан невинных…
Оттолкнул я хмыря сицилийского плечом – аж в угол отлетел, бедолага.
Где?!
«… с тем же установлено достоверно, что бабушка означенного маркиза Федерико де Кордова хоть и из дворянского рода происходит, а именно Монтерубио Наварских, однако же род сей происхождения иудейского, верования свои тайно хранящего. Матушка же оного маркиза Федерико де Кордова…»
Перелистал я бумаги, взглянул наугад:
«… верные свидетели подтвердили. А говорил еще его сиятельство, что при Оле-Всесожжении должно гибнуть праведникам из числа иудеев, а также выкрестов, тайно Закон Моисеев чтущих, потому как лучше части народа погибнуть, чем народу всему. Гибель же праведников иудейских жертвой Богу станет и в скорости возвышению иудеев послужит, кастильцы же, руки кровью невинных запятнавшие, всеконечно пропадут…»
Схватился я за голову – бедная моя голова! Чего же это творится?
– Так… Так вы будете читать, сеньо-ор Гевара?
Еще и хмырь этот! Не иначе из угла выбрался.
– Буду, – вздохнул я. – Убедили!
Скверный почерк – не пробиться, Как тюремные решетки, А за ними – смерть и муки, Чернокнижие и подлость. Эх, сиятельство Кордова, Вот где встретиться пришлось нам — Не у вас, средь мандаринов, А в Святейшем Трибунале! Жаль, вы только на бумаге, Жаль, не ваши пятки жарят, И не донье Беатрисе Кипяток вливают в чрево, Чтоб обгадилась сеньора! Только что ж это выходит? Вы мне – враг, Супреме – тоже, Кто же друг тогда твой, Начо?Вот уж кого не думал увидеть вскорости, так это фра Луне. Живого, ухмыляющегося.
– Надумал ли, сын мой? Станешь ли каяться? Словно и не было ничего! И горбун тут же, и бумаги на скатерке разложены.
…А у меня перед глазами – тоже бумаги. Те, что прочитать довелось. Жаль, в башке утрясти все не дали – сразу в подвал знакомый притащили. К жерди этой.
– Кайся, сын мой. Кайся! Повергни грехи свои к подножию Церкви нашей!
Не кричит, не скрипит – мурлыкает. Мурлыкает – улыбается.
– А чтобы тебе, Гевара, проще каяться было, покажу я кое-что. Узнаешь ли печать эту?
Подошел я поближе, взглянул. Знакомая печать, верно. Ее Высочества печать. И грамотка на бумаге приметной – при дворе на подобной пишут. Показывал мне падре Хуан хартии такие – и не одну даже.
Подмигнула жердь, языком прицокнула:
– А не прочитать ли тебе, сын мой? «Известно всем, что разбойник морской Игнасио Гевара, прозываемый также Бланко и Астурийцем, гнусные преступления свершил, именно же: разбой морской, властям королевским сопротивление, товаров противозаконный ввоз в Кастилию, равно как в Арагон. Недавно же совершил он гнусное убиение подданной нашей Костансы-цыганки, прозываемой Валенсийка…»
Замолчал фра Луне, на меня покосился. Понял ли, мол, Начо?
А чего же не понять? Вот и чернокосая им сгодилась.
…А ведь подумать ежели – жалко девку все же!
– «Пуще же всего виновен означенный Гевара в измене державной. И вины его эти твердо доведены свидетельствами многими. А посему приговорить означенного Гевару…»
И снова не спешит жердь, на меня смотрит. Угадай, мол, означенный Гевара, к чему?
Сцепил я зубы, усмехнулся. И в самом деле, к чему? Не к церковному же покаянию.
…И не к плахе даже. Четвертованием пахнет.
– «А посему приговорить означенного Гевару к колесованию…»
Не угадал, выходит!
– «…конечности же и голову отсечь, после чего с надписями подобающими на позорище всеобщее выставить. Голову – у ворот Хересских, руку левую – у ворот Трианских…»
Ох, и обидно же мне стало! Не за конечности мои бедные – за фра Луне. Он-то чему радуется? Неужели падре Хуан де Фонсека слабину дал? Или скрыли от сеньора архидьякона, чего я тут наговорил?
– Так что вместе нам, сын мой, страдать придется! Ах, вот оно что!
Не выдержал я – расхохотался. Не ошибся, значит! Покачал головой фра Луне – укоризненно этак:
– Нехорошо, Гевара, ой, нехорошо! Да только за меня Церковь заступится, Трибунал Священный, смекаешь? Клириков за измену не казнят, за ересь только. Ну, отправят меня в монастырь дальний, ну, запрут на год, много – на два, чтоб не разболтал кому по глупости тайны эти. А ты?
Тут мне смеяться и расхотелось. А ведь и вправду! Вот сволочи неприкасаемые!
Но ведь чего интересно? Вчера до смерти перепугался он, фра Луне, а сегодня розой майской цветет. Не иначе успокоил кто!
…Цветет-то он цветет, но только голос подрагивает. Чуток самый – но заметно. Видать, не все так просто. Не простили, видать, пообещали только.
Неужто поверил, жердь глупая?
– А ты, Гевара? Чему радуешься? Час-другой на колесе-и свободен? Э-э, нет, не выпустим мы тебя отсюда! Еретик ты, сын мой, зломерзкий еретик. Так что готовься каяться, Гевара! А не захочешь – поможем…
Отсмеялась жердь – прямо в глаза мне поглядела. Плохо так!
– Не ты, сын мой, меня за собой потащишь – я тебя поволоку. По кочкам да по камешкам!…
Повернулся он к горбуну, а тот уже наготове – бумаженцию держит.
Ох, и тошно мне уже от хартий этих!
– Хулил ты, Гевара, Трибунал Священный, нас, служителей скромных божьих, словами непотребными именовал. Грех это, сын мой! За иудеев да марранов-выкрестов заступался – и это грех. На учителя своего лжесвященника Рикардо Переса не донес…
Сцепил я зубы, отвернулся. Раскопали! Все раскопали, гады! Даже падре Рикардо в могиле его неведомой не забыли.
– А вот и посвежее грехи. Спознался ты, Гевара, с суккубом мерзким, что обличье некой сеньоры принял, и говорил с ним, и общался всяко…
Эх, и взяло тут меня зло! Взяло – к роже этой гнусной кинуло.
– Я общался? Я?! Да она же сама, маркиза де Кордова…
Осекся – понял. Да только поздно – оскалил фра Луне зубы, горбуну кивнул:
– Признался! Пишите, брат, пишите, не отвертится грешник. А ты кайся, Гевара, хуже не станет. Значит, не с одним суккубом знался, а? Я ведь не об ее сиятельстве говорил. Побывал ты со знакомцем твоим, что именует себя Доном Саладо, в замке колдовском, Анкорой называемом. И общался там с душами проклятыми, неупокоенными. После чего вызвал ты способом зломерзким колдовским суккуба, обличье сеньориты Инессы Новерадо принявшего, что в года давние жизни себя лишила…
И снова – будто не со мною это. Будто не мне об Инессе жердь эта вещает.
Кто же разболтал, а? То ли священник лысый, то ли парни в Сааре. Значит, теперь и до идальго моего калечного доберутся!
…Выходит, нет никакого замка? Не отстраивали его родичи старого дона Хорхе, не уезжал сеньор Новерадо из Вальядолида…
Закрыл я глаза. Нет, ерунда, опять ловят. Сперва на словах, теперь – на грехах.
Не верить! Ничему в стенах этих проклятых верить нельзя!
…Но ведь о маркизе де Кордова я, выходит, как поверил? А как не поверить было?
– И вручил оный суккуб тебе, Гевара, амулет сатанинский – платок с узлами, что все грехи смертные воедино связывает… Достаньте!
А фратины в ризах зеленых уже на подхвате. Схватили за плечи, рубаху рванули.
…А я о булавке с камешками синими подумал. Не знают, выходит?
– Вот, святой отец!
Открыл я глаза. На черной скатерти лежит платок…
– Ага!
Переглянулись жердь с горбуном, наклонился фра Луне, пальцем длинным шелк ковырнул.
– А узлы где, Гевара? Узлы, спрашиваю, где?
И уже не радость в его голосе – страх. А мне хоть на миг, но легче стало. Успел!
– Узлы где? Где?! Развязал? Да ты же… Ты!… Дернулась его рука, знамение крестное творя. Отшатнулась жердь, побледнела:
– Сатана… Сатана! Vade retro! Vade retro! Уведите его, уведите!
И снова тьма черная в углу – подступает, ползет. Ближе, ближе… Вот-вот схватит, вот-вот в горло вцепится.
Понял я наконец, отчего не спешат тут, в Супреме, отчего подумать дают. Не та мука, что тебя мучают, а та, что сам себя терзаешь. От страха – к надежде, от надежды – опять к ужасу смертному. Да не просто так, а чтобы с толку сбить, чтобы с копыт сковырнулся. Вроде как в яме по кругу водят, только с каждым разом круг все меньше, яма все глубже…
И ведь вправду – не понять ничего. Могут убить – и не убивают. Пытать хотят, на дыбу вздергивать – и не трогают.
Или потомить решили, муки предсмертной похлебать вволю? А для чего тогда про иудеев читать давали? И про маркиза этого проклятого? Или у них тут левая рука не ведает, чего правая творит?
…Не удержался – снова на тень взглянул. Вроде там же она – а вроде и нет. На палец, на ноготок – но ближе подползла.
Покачал я головой, усмехнулся горько. Как же, не знают руки эти! Все знают, потому как голова имеется. А в голове той задумка созрела. Про меня, про Начо Белого. Потому и пугают, потому и бумаги читать дают. Чтобы доспел, значит.
…Не ошибся я! Ползет тень, близко уже совсем. Вот-вот вынырнет Он, Тот, что к таким, как я, приходит…
И чего же со мною сотворить хотят? И колесования им мало, и пытки. Оговорил чтоб кого? Предал?
Или еще того хуже?
То ли шорох прошуршал, то ли дверь заскрипела…
Загустела тень, сомкнулась, Ростом выросла, шагнула. Вздрогнул я, ледышкой замер. Вон Он, здесь! Пришел за мною! Постояла тень у двери, Молча голову склонила, Повернулась – смотрит вроде, Тьма сквозь тьму глядит на Бланко Вновь шагнула, подождала. (А на сердце – ужас смертный.) А потом заговорила — Тихим голосом, спокойным, Словно льдом по льду скользнула: «Здравствуй, брат! Устал я нынче, Да и ты устал, наверно. Ну так что же? Потолкуем?»ХОРНАДА XXXV. О том, как Дон Саладо и сеньор лисенсиат в плавание собирались
Заломили руки, вцепились в подбородок, между зубов – клинок холодный.
– Или сам выпье-ешь, Гевара? А то ошибемся – лишку-у плеснем!
Закрыл я глаза, зажмурился. Снова открыл – на рожи их мерзкие взглянул.
Скалятся рожи. Ну, точно – сицилийцы. И говор похож. Так что не зря я Сицилию эту терпеть ненавижу.
– Идите к бесу, – выдохнул. – Сам выпью! Отпустили, к столу подвели. А на столе – чарка глиняная.
– Пей!
Выдохнул я, Деву Святую помянул. Защити, Милосердная! Ведь видишь Ты все, все Ты знаешь!… Глотнул, ничего не чувствуя. Снова глотнул…
– До дна! До дна, еретик. Вот та-а-а-ак! Ну, на здоровьице!
Поставил я чарку, к себе прислушался. Вроде ничего, словно винца легкого выпил…Это пока ничего! А рожи все скалятся, хихикают. Весело им!
– А теперь гуляй, Гевара-а! Где хочешь – там и гуляй. К дружкам зайди – попрощайся, может, и не увидитесь уже-е, разве что на Кемадеро. Да только помни – до заката тебе время. Вернешься – противоядие-е дадим…
Вздохнул я, сам себя ощутить пытаясь. Вот придумали, сволочи!
– Опоздаешь – кровью обделаешься, а после и вовсе-е – сдохнешь. Понял? Яд хороший, верный, и не знает его никто, кроме нас, так что к лекарям и не заглядыва-ай – не помогут!
Кивнул я – и это ясно. Стреножили раба божьего, лучше пут всяких. Одно непонятно – зачем. Так не спрашивать же!
– Ну, чего стоишь? Пошел!
Скривил я губы – улыбнулся вроде бы, значит.
– Дагу отдайте! Без нее – не пойду. Переглянулись.
Отдали.
А по Севилье народ ходит. Ходит, бегает, кричит – и молчит тоже. Живой народ, завидно даже. Мертвый, впрочем, тоже имеется – хотя бы на кладбище монастырском, совсем рядом, за забором серым. А я – ни то ни се. Среднее что-то, почти как прокаженный, только без балахона и погремушки.
Поглядел я на небо, от жары белое, на мостовую каменную поглядел. Никак и вправду попрощаться отпустили-с миром божьим да со светом белым? Добрые они фратины, которые из Супремы!
А тут и колокол ударил – тот, что у Клементия Святого. Ударил – меня разбудил словно. Вытер я пот со лба, огляделся.
…Монастырь слева, Барабан-площадь справа, впереди мост, тот, что на Тринадцати Лодках. А может, и вправду туда – да головкой прямиком в Гвадалквивир? Чего до вечера ждать?
Улыбнулся – на этот раз по-настоящему почти. Врете, гады, не дождетесь!
Повернулся я спиной к Альменильо-валу, повязку на башке поправил, дагу у пупка поудобнее пристроил.
Гуляй, пикаро! Куда глаза глядят да куда ноги несут. В брюхе яд плещется, за спиной костер соломой мокрой дымит.
Хорошо!
– И вправду хорошо, Начо, что встретились мы с тобою, – озабоченно молвил Дон Саладо. – Ибо много о чем поговорить следует, поелику в жизни нашей, чую, перемены грядут.
– Это уж точно, – согласился я. – Грядут.
Там же я его и нашел, рыцаря моего калечного, – на чердаке-донжоне. Долго думал, заходить ли в гости, а потом рукой махнул: зайду! Все равно уже знают о Доне Саладо, уже и в хартии свои проклятые прописали.
Так хоть поговорим напоследок.
– Вернулся я, Начо, из поездки некой, – продолжал рыцарь. – И хоть недальней она была, однако же небесполезной.
Оказывается, все эти дни, пока меня, раба божьего, в Супреме солили, Дон Саладо в нетях пребывал. Даже не понял, бедняга, что эскудеро его верного черти куда-то унесли. Да так оно и лучше, ежели подумать.
– А сам ты, Начо, здоров ли?
Эх, задумался! Задумался и не приметил даже, что Дон Саладо меня через окуляры рассматривать изволит. Да внимательно так.
– Здоров я, рыцарь, – вздохнул. – С чего мне хворать-то?
…А в животе вроде как шумит что-то. То ли булькает, то ли шипит даже.
Покачал головой доблестный идальго – не просто, с сомнением немалым. Видать, и вправду укатало меня за эти деньки. Да и сам он переменился. Это я вначале, от радости, не заметил, почитай, ничего, а теперь, как вгляделся…
Борода, конечно, прежняя – все та же мочалка, хоть и расчесанная. А вот все другое… Вместо салада дурацкого – шляпа круглая с полями узкими, штаны широкие (у идальго! широкие!), на костлявых плечах – рубаха белая с открытым воротом. А ко всему еще – левантийский кинжал-страдиот у пряжки. Знакомый наряд!
– Помилуйте, рыцарь! Уж не моряком ли вы стать решили?
Улыбнулся Дон Саладо, палец худой к потолку черепичному воздел:
– Именно так, Начо. А посему продал я, как и советовал ты, доспех свой, именуемый бригантиной, и обзавелся платьем этим, куда более подходящим. Был же я в славном городе Палосе…
Только сглотнул я, такое услыхав. Что это с рыцарем моим? Или василиск некий в Палосе объявился?
– Как же, Начо? – в свой черед поразился славный идальго. – Разве не хотели мы с тобой нанять корабль добрый да отправиться за море-океан…
Господь-Вседержитель, Дева Пречистая, Михаил Архангел!
– Скажешь ты мне, конечно, Начо, что немало еще чудищ и мерзких злодеев на земле нашей Кастилии. Однако же замечу тебе по секрету: измельчали монстры сии. Ни в Севилье, ни в округе, признаться, не удалось увидеть мне не токмо единорога или, к примеру, грифона, но даже колдуна или же великана. Правда, в Сааре, как ведомо тебе, обитают великаны добрые, кои и показали мне дорогу в Палос…
Не стал я спорить с рыцарем моим, хоть и ошибся он насчет Севильи. Я вот три денька в гостях у Дракона проскучал…
– Немало я видел в Палосе кораблей разных, Начо. И кастильских, и португальских, и даже алжирских. Беседовал я со шкиперами славными и кормчими мудрыми, и карты их смотрел, и рассказы слушал…
Усмехнулся я, в который уже раз идальго своим любуясь. Хорош дядька, заглядеться можно. Заглядеться, заслушаться. И что он, интересно, в Палосе знакомцам своим новым наплел? Неужто про Терра Граале?
– Скажу я тебе, Начо, – продолжал между тем рыцарь, палец свой костистый опустить позабыв, – что прав был ученый знакомец наш, сеньор Рохас. Хоть и верят шкиперы и кормчие многие в землю, за морем-океаном лежащую, но плыть туда опасаются по причинам, тебе самому известным. Но все же встретил я одного кормчего храброго по имени сеньор ван дер Грааф, нидерландца, из славного города Антверпена родом. И поведал я ему о мечте своей, он же показал мне карту старинную…
Моргнул я даже, ушам своим не веря. Ну, рыцарь!
– И договорились мы с ним, и по рукам ударили, и осмотрел я каравеллу его, «Стяг Иисусов» именуемую. Каравелла же эта, скажу тебе, Начо, хоть и невелика размерами и без палубы даже, однако построена крепко и припаса вмещает немало…
Раньше бы поспорил я с ним. А как не поспорить? На беспалубной каравелле – да через море-океан! Не иначе того сеньора ван дер Граафа, из Антверпена который, тоже из бомбарды звездануло!
Поспорил бы. Но не сейчас. Поглядел я вновь на Дона Саладо, на горе это сухорукое ходячее с тараканами в башке, подумал немного.
– А вы знаете, рыцарь, вы, поди, самый честный человек будете, из тех, кто не помер еще. Да и добрый самый.
– Начо?!
Ну, надо же! Смутился дядька.
– Помилуй, Начо! Хоть и стремился я всю жизнь к следованию заповедям рыцарским, но смею ли я даже думать…
Не стал я слушать, к столу подошел. Не слова его меня заботили – пусть себе болтает, идальго мой образа нелепого. Перо заботило – гусиное, да еще чернила, да бумаги огрызок. Не все же бакалавр-пиит сжевать успел!
Сжевал – но не до конца. Отыскалось перо. И все прочее нашлось.
Присел я к столу, расправил бумажку, вспомнил, какая литера за какую цепляется…
Долго писал! Потому как не эпистола это любовная, что с дуэньями подкупленными сеньоритам всяким пересылается (сам носил, пока еще Малышом Начо прозывался). Любовные просто писать: глазки там, ручки, ушки-носики даже…
– Возьмите, сеньор Кихада. И спрячьте пока получше. Думал – спорить станет, как и обычно. Да только не стал – послушался. То ли потому, что не по кличке глупой я его назвал, то ли в голосе моем чего-то такое различил… Как тогда, в «Императоре Трапезундском».
– Недалеко от собора, сеньор Кихада, там где Хиральда-Великанша, улица Змеиная есть, Калье-де-лос-Сьерпес которая. Знаете?
Подумал мой рыцарь. Кивнул.
– На этой улице дом большой, трехэтажный – банкира Хуаното Берарди, итальянца. Запомните или записать вам?
Пожевал губами Дон Саладо, снова кивнул.
– Вот и хорошо, – вздохнул я. – Записку – ему лично. Сеньор Берарди вам должен кое-что. А на эти деньги снарядите каравеллу – или две, ежели захотите. Только за море-океан не плывите, нечего там делать. В Португалию поезжайте, дом купите, садик с мандаринами, ну, и книжек побольше – про Ланчелоте всяких. Вы ведь с реки Тахо, правда? Так там тоже Тахо, только зовется чуть по-другому – Тажо. Почти рядом с домом своим бывшим жить станете. А ежели скучно будет, голубятню заведете – или зубочистки строгать приспособитесь [62]. Только поспешите, лучше всего завтра поутру идти, не позже. Запомнили?
Подождал я, пока рыцарь мой вновь бородой-мочалкой своей мотнет, – и дух перевел. Легко-легко мне стало – почти так же, как в селде темной, когда я последний узел развязал.
…Не Супреме же денежки мои кровные отдавать! Они бы и рады проглотить, да не дурак же я, чтобы на свое имя счет у Берарди открывать. Несколько циферок, несколько буковок – поди поймай!
– Запомнил я, Начо, – подумав изрядно, молвил идальго. – И не перепутаю, и деньги получу сполна. Однако же хоть и почитают меня безумцем, хоть и смеются надо мной порою, но все же хватит разума моего, чтобы понять нечто. Хоть бы то, что не должен мне сеньор Берарди даже полмараведи…
Встал Дон Саладо, плечи костлявые расправил:
– Или думаешь ты, Начо, что оставлю тебя тут одного? Или не побеждали мы с тобою полчища злодейские и козни колдовские? Или я, рыцарь, брошу своего эскудеро, собрата моего по доблести и чести?
Фу-ты! Даже стыдно мне стало на миг малый. Вначале стыдно, а после злоба взяла. Не на него, ушибленного, на себя.
– Не эскудеро я, ваша милость! Пикаро я! Вор морской, да шпион, да убийца. Колесо по мне плачет, и верно, что плачет. А вы уж извините, сеньор, что связался я с вами на вашу голову, ровно бес какой с младенцем. А деньги, как до Португалии доберетесь, можете нищим, что на паперти тоскуют, раздать. Только за душу мою поминовение не заказывайте – не поможет. Ни хрена мне уже не поможет – ясно?! Ясно, умник благородный?
Шепотом сказать думал, а вместо этого проорал. Во всю глотку, словно и вправду мне пятки прижгли. Проорал, собственным криком задохнулся.
Ничего мне не ответил Славный рыцарь Дон Саладо, Поглядел – спокойно этак, Подошел, за плечи обнял Уцелевшею рукою. Что за притча? Вроде плачу? Так не плачут ведь пикаро! А идальго улыбнулся, Бородой качнул, мочалкой: «Все в порядке будет, Начо. Ни к чему нам зубочистки. Был бы меч – найдем дорогу!»Долго мы с ним на чердаке-донжоне сидели. А куда еще, в самом деле, идти было? Сидели, о том о сем толковали. То есть не мы – он толковал, как и обычно, а я молчал больше. Слушал, соглашался. Да какой смысл спорить? Железный он, мой рыцарь, хоть и калека. Все одно ему, что копьем разить – мельницу ветряную или Супрему, главное – за справедливость чтобы. Таким уж уродился – несгибаемым, ровно лом какой.
Одно хорошо – сильно ему за море-океан захотелось. И все он, рыцарь беспокойный, продумал, все обговорил с нидерландцем-антверпенцем. Ясное дело, сеньор ван дер Грааф – тоже с тараканами в башке. Только Дону Саладо все больше великаны с василисками свет застят, а кормчему этому – змеи морские с русалками. А пуще всего – земли неведомые.
Вот и спелись, умники! Ван дер Граафу, видать, страх как не захотелось в собственной постели помирать. А может, и по нему петля плачет? Знаю я этих нидерландцев!
В общем, не стал я возражать, согласился. Уплыть с ними вместе, в смысле. Вот дней через пяток подгонят они каравеллу, «Стяг Иисусов» которая, прямо к пристани, где мы с сеньоритой Инессой рекой любовались, протопаем мы с ним вдвоем по сходням, из Саары ребята конька его, Дона Саладо, подгонят вместе с моим Куло ушастым – чтоб веселее нам до Терра Граале плыть было…
…Что же это за каравелла, ежели через бар, что возле устья, пройти сможет? Да на ней только Куло моего перевозить, и то жалко.
Потонет!
Но не спорил я – обещался. И к пристани прийти, и вещички собрать. Может, и вправду повезет идальго моему. Уплывет он из Кастилии куда подальше. И от Кастилии подальше, и от Трибунала Святейшего. Авось не потопит его сеньор ван дер Грааф. Поплавают с недельку, оголодают – да свернут куда-нибудь. Хоть в Антверпен, хоть в Лиссабон.
А чего я еще мог сделать? Что ни говорю – ему словно горох об стенку, рыцарю этому. Даже намекнул, что пора-де мне, эскудеро славному, о посвящении подумать. В рыцари, в смысле.
…Так ведь подумали уже – и без Дона Саладо. При всех посвятят – на эшафоте. Или у столба на Кемадеро.
Посидели мы, значит, потолковали, взглянул я в окошко, что на площадь Ареналь выходит. Взглянул, руками развел.
Пора! Хоть и не коснулось солнце крыш, а все-таки боязно. И в брюхе чего-то колоть начало.
…Вот ведь придумали, сволочи зелененькие!
И только попрощаться собрался, о деньгах, что завтра получить надлежит, напомнить, как застучали шаги по лестнице – громко так.
Шаги! По лестнице, затем – у двери самой.
– Сеньор Кихада! Добрый вечер! К вам не заходил?…
Толстячок!
И тут понял я, отчего мне в Супреме отпуск дали.
– Нам надо поговорить, Начо! Мне передали, что вы хотели меня видеть, но мне тоже хотелось потолковать с вами, прежде чем…
Тарахтит сеньор Алессандро Мария Рохас, торопится. Даже не смотрит, куда идем мы. А ведь все туда же топаем – к Супреме, к монастырю старому, где окна камнем заложены.
– Пока вас не было, кое-что изменилось, и весьма…
Отвернулся я, в сторону поглядел – на улицу Сапожников, туда, где пикаро не любят. Только бы он лица моего не заметил!
– Мы все-таки добились своего, Начо! Многих выпустили, мою невесту освободили из-под ареста домашнего и отца ее тоже…
…Знаю!
– Завтра должны выпустить из узилища ее брата. Все-таки мы заткнули им глотку – золотом!
Кивнул я, все еще в сторону глядя. Эх, горяч он, сеньор Рохас, прямо как тогда, в «Императоре Трапезундском». Шумит, задуматься даже не хочет, с чего бы это Дракон на сей раз только золотом – не кровью – обошелся? Подобрел, что ли?
– Но Торквемада, этот мерзавец, не успокоился. По его приказу в Святейшем Трибунале Севильи составили списки – на двести человек почти. Там все – и я тоже, Начо. Понимаете?
Не выдержал я, остановился. Остановился, на него, сеньора лисенсиата, посмотрел. Да, похудел наш толстячок, одни усики прежними остались!
– Понимаете, Начо?
Я-то понимаю! Да что толку? Даже ежели целование крестное нарушу, расскажу все – поможет ли? Ой, не поможет!
– Поэтому надо увозить всех – сразу. Вот отчего я искал вас, Начо. Вы сможете лодки подогнать через пять дней к пристани в Триане? В Кадис и Палос нельзя, там стража усиленная, потому как португальцы рядом…
Сглотнул я, к себе прислушался. Вроде как болит уже? Или просто страх к горлу поднимается?
– Но почему я, сеньор Рохас? Удивился толстячок, изумился даже:
– Но… Нам не к кому больше! От вас только зависит, спасемся ли мы. Да и не во мне дело, женщины там, дети, старики. Мы заплатим, у нас есть золото!…
Ничего я не ответил. Повернулся, дальше пошел. Вот уже и Климент Святой виднеется. А за ним – и ворота с калиткой на запоре.
…А вдруг не впустят, сицилийцы клятые? Так и оставят подыхать – у ворот?
Да нет, впустят! Обещал мне Тот, Кто ночью ко мне заглянул. И не только обещал – по полочкам все расписал. И разговор этот, про беглецов, – тоже. Не думал я лишь, что сам сеньор лисенсиат ко мне обратится.
И ведь даже рассказать не могу. Потому – не понимаю. Ну, ничегошеньки!
– Хорошо, сеньор Рохас. Лодки будут. Я постараюсь…Если бы я! Без меня подгонят. Знать бы только – зачем.
Как благодарил он, про благородство да смелость всякую вещал – не слушал я даже. И не потому, что стыдно стало. Уплывут они, бедолаги. Так и сказал Он: «уплывут». Далеко ли – иное дело.
Верно ребята с Ареналя рассказывали – честный Он обмен предлагает. Вот и мне предложил.
Не пришлось мне резать палец, Чтобы кровью расписаться. Полюбовно порешили Головами обменяться. Голова моя лихая Без того уже пропала — Разве мало душ под двести За одну башку пикаро? Только в старой этой байке Про обмен в темнице темной Все одно конец поганый — Не обманет, но погубит. Не меня лишь – всех нас скопом. Потому что нет спасенья, Раз связался с Сатаной.ХОРНАДА XXXVI. О том, как довелось мне в зеркало поглядеться
– Ах, еретик ты злокозненный! – вскричал фра Луне, новый кус козьего сыра на стол выкладывая. – Морщится еще! Да сыр этот сестра мне прислала, сама его делала.
– Мяса, мяса ему, злодею, хочется, – прогудел фра Мартин, из баклажки глиняной прихлебывая. – Колбасы всякой да грудинки или там жаркого на вертеле…
Я не спорил – хочется, конечно. Тем более день не постный – скоромный. Но и сыр, которым меня потчевали, неплохим оказался.
…Всю ночь мутило – после того, как противоядия хлебнуть дали. А к утру напротив – жрать захотелось.
А вообще дивны дела твои, Господи! Чего творится, а?
– Ох, и еретик он, правда, фра Мартин?
– Правда, фра Луне!
Все там же мы, в допросной. Только горбуна бесы куда-то унесли, зато вся парочка – жердь да громоздкий – в сборе. И я с ними сам – третий.
Сидим, закусываем, скатерку в сторону сдвинули, дабы пятнами не попортить.
– А не удивить ли нам его, злодея этого, фра Луне?
– Удивить, удивить, – закивала жердь. – Спесь с него сбить! Что, Гевара, вор морской, небось все вина, какие в мире есть, перепробовал?
– Было дело, – согласился я, к сыру прикладываясь (а молодец сестричка, знает толк!). – Пивал.
Переглянулись жердь с громоздким. Переглянулись, хмыкнули. Протянул мне фра Мартин баклажку глиняную:
– Так отведай и скажи, лиходей, что сие, да откуда, да урожая какого.
Делать нечего. Отведал. Подивился, снова отведал…Терпкое, крепкое, незнакомое. А вкусное!
– Ваша взяла, – кивнул. – Не знаю.
– То-то! – согласился громоздкий, баклажку у меня отбирая. – Это, Гевара, винцо самое новое, из-под города Хереса, первого, считай, урожая. Скоро вина наши кастильские лучшими в мире станут, понял? Разорим мы вас, нечего будет вам, бродягам, по морю возить!
– Разорите, как же! – не согласился я. – Вина, святые отцы, тем и хороши, что много их. И людей много. Кому одно любо, кому иное какое…
– Ишь философ нашелся! – возмутилась жердь. – В пыточную бы его! Правда, фра Мартин?
– Правда, фра Луне!
…Обычай такой есть, старый очень, известный. Перед казнью да перед застенком палачи обедом угощать должны. Потому как мертвяк будущий – вроде как гость. Хороший обычай – настоящий, кастильский!
– А теперь ответствуй, злодей, враг державный, кто заговору всему голова? Кто против Кастилии нашей козни строит?
Так и спросил фра Луне – сыр дожевывая.
– Встань, встань, злодей! – подбодрил фра Мартин. – Ишь расселся!
– Отвечай!!!
– Заговору всему голова Исаак Абоаб, принц иудейский, – вздохнул я.
Не договорил – захохотали оба. Громко так, весело. Переглянулись:
– Ну ты послушай его, фра Мартин! Откуда такому знать-то? Исаак Абоаб – первый вельможа, а этот кто? Шавка мелкая!
– Может, и мелкая, – согласился я. – Да только с Калабрийцем переговоры я вел, а Пабло – человек серьезный, ему вся правда требовалась. Деньги опять же. Деньги, святые отцы, верности хотят!
Снова переглянулись, да только иначе совсем.
– А неплохо придумано, правда, фра Луне?
– Правда, правда, – согласилась жердь. – На том и стой, Гевара. Гарантии, значит, и денежки. Такому и поверить могут. Правда, фра Мартин?
– Правда, фра Луне! Ну-ка, продолжай, злодей!
– …А с ним, Исааком Абоабом, двое еще – Алонсо де Кабальеро, вице-канцлер Арагона, да Федерико де Кордова, маркиз…
– Ой, врешь ты, Гевара! – взревел фра Мартин, кулачищем мне под нос тыча. – На гранда кастильского хулу возводишь! Или, может, ты дома у его светлости гостил? Беседы с ним, лжец проклятый, вел?
– Гостил, – вздохнул я. – И с беседами тоже – было. Хотите – дом его опишу и сад даже? Львы там мраморные…
– На том и стой, Гевара, – согласился фра Мартин, кулак свой убирая. – Всех троих ты, понятно, знать не мог, не по чину, а вот кого одного – должен был. Правда, фра Луне?
– Правда, фра Мартин! А теперь, злодей, о заговоре расскажи, о том, как решили они, супостаты, Кастилию нашу сгубить?
…Понял я теперь, для чего сицилиец, хмырь ученый, хартии мне читать давал. Какой же я заговорщик, ежели не ведаю, ради чего башкой рискую?
– Заговор сей, святые отцы, иудейский. Хотят заговорщики смуту вызвать, а в той смуте и власть захватить.
Ибо марранов в Кастилии нашей, почитай, треть – не менее, и всюду они – в войске, среди клириков, в Совете Королевском даже. И вице-канцлер Арагонский Алонсо де Кабальеро – марран, иудей тайный, и его сиятельство де Кордова – тоже. А посему решили они власть перебрать. Вначале под личиной христиан добрых, дабы соседи наши не вмешались. А после и суть свою иудейскую показать, державу, Сион новый, основать…
Даже заучивать не пришлось – память хорошая. Противно, конечно, повторять такое, да что делать?
…Пока хартии читаю, выдумываю дрянь всякую – живу. То и обещано – жизнь. Недолгая, конечно, но и не короткая. Пока все это заучу, пока заговор соберется-сложится, пока следствие пройдет… Может, месяц, может, три – но живой все же. Живой, и шкура цела, и вином из Хереса угощают.
– А отчего же дружки твои, Рохас со товарищи, бежать вздумали в день такой? Им бы к злодеям присоединиться!
Вздрогнул я, зубы сцепил. Ведь обещал Он – не тронут, дадут уплыть.
…«Уплывут». «Доплывут» – не сказал.
– А чему же дивиться? – возразил я. – Шкуры спасают потому что. Да и опаска есть, посему решили баб да детишек увезти подалее, к Сааре. Удастся – вернутся, нет – за море уйдут.
– И то, – кивнула жердь. – Бегство – вины признание, а ежели еще в день такой!… Правда, фра Мартин?
– Правда, фра Луне! – прогудело в ответ. – А теперь расскажи нам, Гевара, про колдовство черное, коим маркиз де Кордова занят, да про супругу его, маркизу, что из гроба встает, да про невинных христиан убиение, да про младенца распятого!…
Подробно спрашивает – чтобы не сбиться мне. Но только в этом подсказывать мне не нужно. Не собьюсь!
…Так и не понял я, чего с ее сиятельством приключилось. То ли байки это, то ли и вправду – мертвец ходячий. Ох, и вовремя я серьгу за свечи черные кинул!
Все расскажу! В такой компании и помирать не жалко.
– Ой, врешь ты, еретик, гранда кастильского оговариваешь! – проревел фра Мартин, меня за грудки беря. – Болтовня все это. Големы, терафимы – тьфу, срамотища! Имя хоть одно назови. Имя! Кого его сиятельство сгубил, кто ему служил в деле черном?
– Сгубил он сеньора Франциско Пенью, – усмехнулся я. – А служил ему иудей некий, Ицхак бен-Иегуда, прозываемый Одноглазым, коего он, дон Федерико, от костра спас. Он-то, Ицхак, и учил его сиятельство премудростям этой, как ее?
– …Каббалы, – подсказала жердь. – Ты не сбивайся, Гевара!
– А пусть, пусть сбивается, фра Луне! – не согласился громоздкий. – Откуда ему, разбойнику морскому, премудрости все знать? И слово «терафим» говорить не должно. Башка на стене – и все тут. А с дуэньей глиняной ты, Гевара, хорошо придумал. Услышат – не забудут, да и поймут сразу. Ну, кайся, кайся, не пропускай ничего!
– Погоди, фра Мартин! – перебила жердь. – Вот чего я подумал: про Олу, Всесожжение которое, пусть молчит. Ведь иначе чего выходит? Ежели иудеев-праведников сжигать – на иудейскую же пользу, то, получается, Супрема им, христопродавцам, помощь подает?
– И то верно, – набычился фра Мартин. – Как же обойти сие, фра Луне?
Задумались святые отцы, лысины принялись чесать.
…Ведь чего я на все это согласился? Пожить захотелось еще, понятно. Не отпустят, не помилуют – это ясно. А так – живой, и сегодня, и завтра. И послезавтра тоже. Это, значит, раз. Два, понятно, толстячок. Отпустить обещали, потому как бегство марранов злокозненных изобразить следует.
Только вот плохо, что «уплывут», а не «доплывут».
А три – это, само собой, их сиятельства. Думал ли я, что поквитаюсь? Не своими, понятно, руками, так ведь и он, маркиз де Кордова, самолично сеньора Пенью, Адониса бедного, не душил и голову ему не отрезал. А марран ли он, дон Федерико, нет ли – какая мне разница?
Подло все это, конечно, да куда деваться? Да и не рыцарь я – пикаро, а пикаро только своих сдавать не должен. Вот ежели бы и вправду в рыцари меня бы посвятили!…
А это уже четыре, стало быть. О Доне Саладо забудут – хотя бы на пару деньков. А он тем временем им парусом помашет.
А может, и не четыре это, а как раз первое самое?
– Значит, так, Гевара. Про Олу скажешь, но не про сожжение, а про убиение, понял? Убиение невинных христиан, дабы злых духов ублажить. Чисто получится, как раз жертвоприношение. Понял?
Пожал я плечами – понял, конечно.
Выдумщики они, святые отцы, куда там бакалавру в окулярах! Да только они над мелочами стараются. Все главное мне Он, Тот, что из тени черной появился, обсказал. Слаба, мол, Ее Высочество, слишком много о Кастилии думает. О Кастилии – а не о вере христианской. Потому и марранов прикармливает, потому и его сиятельство Кордову не трогает.
А особенно Ему, Тени этой ночной, народ наш кастильский не по душе. Добрый очень народ! Добрый – и свободу слишком любит.
И верно ведь – и про народ, и про Ее Высочество. То-то падре Хуан де Фонсека молчать мне велел. Нужны им, королевским советчикам, Кебальо-всевидящие, чтобы до земель далеких доплыть, и щит – Ола проклятая – против Ангелов Наказания требуется. Значит, переубедить Ее Высочество следует, да и народу мозги вправить. А чем, как не заговором супротив Кастилии нашей? Даже выдумывать особо не приходится, все правда почти: и его сиятельства делишки, и падре Хуана заботы.
Выходит, я и сеньору архидьякону фитиль вставлю? И то славно! Знать бы только, за какие грехи отвечать придется? Чего заговорщики проклятые удумали? То ли Арсенал севильский подпалить, то ли хуже чего.
…А если и вправду – хуже? Кем же я стану тогда? Ведь если с его сиятельством ясность полная, то чем передо мною вице-канцлер де Кабальеро провинился? А Исаак Абоаб этот? Может, и злодеи они, маркизу под стать. А нет ежели?
– Теперь вот чего, Гевара. Пытать станут – повторяй одно и то же, быстро отвянут. Потому как не один ты такой говорливый будешь. Понял?
Застряло в горле у меня винишко хересское (снова угостили – не жалко им). Легко этой жерди советы подавать. Его бы на лестницу-чудесницу!
– Не боись! Не боись! – подхватил фра Мартин, лапищей своей меня по плечу хлопая. – Может, и не будут пытать. На колени бухнись, ори, что, мол, совесть заела, молчать не могу…
– И поклянись! Поклянись, сын мой! – вставила жердь, руку худую вверх вздымая. – Иисусом Христом поклянись, Девой Пречистой, Крест, стало быть, Святой поцелуй, душу свою бессмертную в заклад поставь. Понял ли?
Многому меня в Супреме этой проклятой научить успели, да только не такому. Перекрестился я даже. Или вправду в Пасть Адову попал?
– Вы чего, отцы святые? Или сицилийцы вы? Или в Бога не верите?
Думал – ругаться станут. Или смеяться. Или в ухо двинут, как падре Хуан.
Не стали, не двинули. Переглянулись, со значением так.
– Глуп он еще, правда, фра Мартин?
– Правда, фра Луне!
Вздохнул фра Мартин, меня, неразумного, жалея.
– Ты, Гевара, учиться должен. Выучишься – дольше проживешь. Первое дело, не просто поклясться, а со словом секретным…
– Клясться будешь, – затараторила жердь, – после каждой клятвы повторяй – про себя, не слышно чтобы было: «Сие правда, которую мне Церковь Святая сказать велит». Вот и не будет на тебе греха. А Церковь, еретик ты этакий, всякий грех с тебя снимет. Даже то, что ты с суккубами, паршивец, якшался! Понял ли?
Почесал фра Луне подбородок свой небритый, усмехнулся – мерзко так. Ну тут уж не выдержал я. Меня невесть чем попрекают – а сами? Учат, как целование крестное обойти?
В одном правы – учиться надо. Так ведь выучили уже кой-чему!
– А не докажете! Не с суккубом я общался, а с сеньоритой знакомой. А то, что ее Новерадо кличут, так мало ли фамилий?
…Про то, что иное у лобастой прозвище, говорить, понятно, не стал. Еще искать примутся!
– А пытать станем? – улыбнулся фра Мартин. Просто так улыбнулся, без злобы. Хочешь, мол, поиграть, Начо, так мы не против.
– А смолчу? – не сдавался я. – Язык прикушу? Да к тому же, отцы святые, Новерадо – герой, вроде Сида Компеадора. Такое и Трибунал слушать не станет.
– А платок! Платок! – возопила жердь, с табурета вскакивая. – Оный платок шелковый, о коем поведал Трибуналу падре Америго из храма Святой Агнессы. При свидетелях изъяли!…
…Лысый который, падре. А ведь нашли! Хорошо, что я про булавку с камешками смолчал. На месте булавка.
– Какой такой платок? – поразился я. – Мало ли платков шелковых? Узлы где, фра Луне? А то станут меня пытать, так я признаюсь, что исподнее ваше с бесовой бабушки снято, потому как вы с нею по пятницам балуетесь!
– Умный какой, да? – вздохнул фра Луне. – Правда?
– Нет, неправда, – покачал головой лысой фра Мартин. – Мыслишь ты верно, Гевара, да только учти – обвинение любое вдвое и втрое уликами да показаниями подкрепляется. Есть у нас свидетель, что называл ты знакомую свою Инессой, а сеньор Кихада, спутник да подельщик твой, именовал ее сеньоритой Новерадо. И про Анкору-замок говорили вы.
Ох, и не понравилось мне это слово – «подельщик»!
– Понимаешь, Гевара, – продолжал громоздкий, словно и вправду учить меня вздумав. – Шпионить – одно, может, тут ты и мастер, врагов же выявлять – иное совсем. Уговаривать да на дыбу вздергивать – дело нужное, но не с этого начинать следует. Покажем ему, фра Луне?
– Отчего бы не показать, фра Мартин, – согласилась жердь. – Пусть не думает, что нас он, братьев смиренных, умнее. А то начал мне он байки травить про то, как монахиню пользовал да священника в зернь обыграл. Ведь в чем случай твой, Гевара? А в том, что особый он. Полезный ты для нас человек, да только падре Хуану служил, а не Трибуналу Святейшему. Хорошо служил, собака ты этакая, трудно на тебя раскопать чего было!
– А ведь и вправду трудно, – кивнул громоздкий. – А как такого расколоть, а? А так расколоть – человечка найти верного, чтобы послужил нам не за страх – за совесть. Ну, пошли, что ли?
Взяли меня под ручки белые, встряхнули.
Повели.
И что интересно? Вроде бы снаружи монастырь этот маленький совсем, а внутри – собора севильского поболее. И туда коридор, и сюда коридор. Темно всюду, страшно. И людей – никого, даже фратин поганых. Куда только подевались?
Долго шли – вниз, вверх, снова вниз. Думал – в подвал, где селды, ан нет. Открылась дверь железная, а за нею вроде как дворик. Патио почти, только без львов и мандаринов. Камень под ногами да стены, да небо горячее сверху.
Даже зажмурился я с отвычки. Это после свечей-то!
– Ну, пошел! Назад запросишься, в дверь стучи. А как поймешь, помысли, Гевара, все ли тебе показали мы – или краешек только…
Толкнули вперед – чуть не упал. Хлопнула дверь за спиной, засовом крякнула.
Разлепил глаза – не видно! Только маревом колышет, Словно в небе – Кемадеро. А как слезы стер ладонью, Поглядел – один лишь камень С четырех боков да снизу, А над камнем – небо крышей. А в углу, где тень сбежалась, Вроде тряпку кто-то бросил, Мешковину краски серой, Не захочешь – не заметишь. Подойти хотел я ближе, Глядь, а тряпка шевельнулась, Шевельнулась, вниз скользнула, А под тряпкой – бритый череп, И глаза на черепушке На меня глядят-моргают. Удивиться не успел я, Слышу. «Здравствуй, Белый Начо! Значит, померли мы оба, Ежли встретиться пришлось?»Не стал я отвечать – рядом присел, отвернулся. Плохо глядеть на нее было, на Костансу Валенсийку. Словно и вправду – мертвяка встретил.
И тут засмеялась она – страшненько так:
– Ай, Начо, ай, принц Белый! Ну, чей верх нынче?
– Оно и видно, – огрызнулся я. – Косы куда девала? И снова смех – злобный, радостный.
– Так я ими тебя и удавила. Горячка у меня начиналась, как ты меня подрезал, вот и сбрили. Ничего, отрастет! Все жизни на тебя потратила, одна осталась. Эту – не хочу уже, себе оставлю!
– Ты чего, дура, отсюда выбраться мыслишь? – поразился я. – Лучше бы тебе и вправду у Башни Золотой помереть!
– Ой, не лучше, Начо-мачо!
Застонала, приподнялась, на руку худую опираясь. Хотел я помочь – зашипела, скривилась.
– Давно ли им подмахиваешь, подстилка поганая?
– Подмахиваю? – дернулась она. – Ишь, мачо, какие слова выбираешь! А сам чего до сих пор не помер, а? Жить хочешь? Вот и я хотела. Страшно помирать-то!
И вновь отвернулся я, чтобы взглядом не встречаться. А ведь и вправду – всем жить охота.
– Меня, Начо, полгода назад взяли. Они ведь не только иудеев и мавров едят, цыганами тоже не брезгуют. Хоть три креста надевай – все равно еретичкой останешься. Вздернули на дыбу, кипятком поить стали – про всех рассказала, не стерпела. И про тебя – как я, Костанса Валенсийка, тебя ненавижу. А они и обрадовались, сволочи. Жить, спрашивают, хочешь? А денежек? А из Кастилии проклятой уехать? А Начо-мачо своему отомстить?
Задохнулась, закашлялась, ладонь худую к груди приложила. А мне совсем худо сделалось. Не зря меня сюда притащили. Ведь что выходит? Костанса мне отомстить хотела, я – маркизу, его сиятельству булькающему…
…Как бишь она, плясунья чернокосая, толковала? Повесят, значит, меня, а ей оттого счастье привалит. Выходит, и у нее своя Ола? И у нее – и у меня?
– Дурак ты, Начо! Совсем дурак! Сообразить бы тебе, что никакая шлюха смелости не заимеет такого, как ты, альгвазилам сдавать. А мне деваться-то некуда!…
Покосился я на нее, на тряпку серую. А ведь и вправду зря поверил. Или решил, что цыганки храбрее прочих?
Сумела все-таки – встала, мешковину скинула, в одной сорочке осталась – грубой такой, какую монахини носят. Ох, и страшная же она стала – плясунья, что ветром меж столов носилась!
– Взять им надо тебя было, Начо-мачо, вот и примеривались, когда лучше – да на чем, чтоб даже падре Фонсека вступиться не смог. А я ведь не всегда в юбке ходила. Мальчишкой переоденусь, косу под шляпу спрячу – и за тобою, глядеть, как ты с барышнями всякими милуешься. А ты идешь, гордый такой, не замечаешь… А теперь мы оба с тобою – мертвые. У тебя – приговор, а меня уже, говорят, и на кладбище отнесли, и в книгу церковную записали. Да только дважды не хоронят, Начо! Выживу я, воскресну. А ты?
И вновь не стал я отвечать. И так все ясно. Оба мы с нею тут нужны. Я – против маркиза и прочих свидетель, она – против меня. Заартачусь – и сразу в подвал пыточный.
Хотел пожелать, чтобы сдохла она, сволочь, поскорее, да удержало что-то. Сволочь она, понятно. А я?
Открыл я рот, языком дернул. Не получается. Снова попробовал…
– Прости меня, а? Ведь все равно подохнем. Прости! Оскалилась, губы скривила, ко мне подалась.
– Простить? Тебя простить, мачо?
– Да, – выдохнул я. – Прости!
Поглядела она на меня – долго так, внимательно. Словно впервые заметила.
– Не хочу я подыхать, Начо! Вытащишь меня отсюда – может, и прощу. Меня вытащишь – и себя тоже. Квиты мы с тобою, а за гробом даже ненависть кончается…
Зря зеленые решили Похвалиться предо мною: Мол, крючок у нас есть, Начо, И на том крючке висишь ты! Не крючок я здесь увидел, На камнях горячих этих. Словно зеркало подали, Чтобы вволю наглядеться. Наглядеться, насмеяться Над собою, дуралеем. Обмануть судьбу решил ты, Головами расплатиться, Чтоб пожить еще недельку? Погубить врагов задумал, Чтоб друзей спасти от смерти? Не поможет! Не спасет!ХОРНАДА XXXVII. О том, как славный рыцарь Дон Саладо чудище некое повстречал
…Дом как дом, что он, что соседние – не отличить. Стены в побелке, окна ставнями закрыты, на крыше – черепица бурая. То есть это сейчас она бурая, а когда-то желтой была. Разве что калитка приметная – резная. Но и таких калиток здесь, в Квартале Герцога, немало.
Но это снаружи – не отличить. Внутри, понятно, все свое, особенное, тем более живет тут…
– …Граф де Сигода, – тычется губами мне в ухо фра Мартин. – Бывший наместник Галисии. Запомнил, Гевара? Его, значит, от должности отставили, потому как марранов привечал, вот и снюхался со злодеями, заговорщик подлый. Запомнил?
Поморщился я – больно уж губы у брата-инквизитора на ощупь противные.
Третий дом уже разглядываем. Один на улице Змеиной, два – в Квартале Герцога. С утра гулять по Севилье направились – я да фра Мартин.
– Значит, векселя ты здесь получил, Гевара. На втором этаже, из рук в руки. Ну, пойдем, грешник, надобно нам еще кой-чего поглядеть.
И – под ручку меня. А сзади еще двое в затылок дышат.
Как узнал я поутру, что в город выпустят, да еще без яду в брюхе, – обрадовался. Пикаро, он вроде рыбы, пусти в воду – из любой сети улизнет. Тем более расчетец у меня имелся. Думалось отчего-то, что жердь со мною пойдет, фра Луне то есть. Этого бы я с одного удара завалил.
…Дагу, конечно, не вернули – умные!
Но – не повезло. Не жердь со мною пошла – фра Мартин, громоздкий. А этого с копыт не собьешь, здоровый, почти как дон Фонсека. И те двое, что сзади пристроились, не отстают. Крепкие – и в плащах черных до пят. А под плащами – не поймешь чего, то ли арбалет взведенный (видел такие – маленький, в локоть всего), то ли просто нож метательный. И предупредили – дернешься, мол, подраним. И сразу – на гарроту. Вот и гуляем.
– Запомнил, значит? – продолжал меж тем фра Мартин. – А ну-ка повтори, сын мой! Да с самого начала все.
Оглянулся я, в который раз уже. Нет, не убежать. Ежели бы на улицах народу побольше было! Да мы, видать, неспроста людные места обходим.
Делать нечего – повторил. Повторил, да и усомнился:
– А если спросят, чего в домах тех внутри? И как сеньоры эти, заговорщики которые, выглядят?
– Ишь умный!
Засопел фра Мартин, насупился:
– Это верно, конечно, да только времени у нас мало, два дня всего. Коли не подпишет, начинаем. А вот ежели да, тогда все чин чином подготовим, понял?
– Да как не понять? – согласился я.
…Ой, любопытно! Это кто же чего подписать должен?
– А спросят – отвечай, что ночью дело было, а сеньоры те, само собой, маски надевали. С какой радости им лица свои благородные тебе, разбойнику морскому, показывать? А раз ночью, значит, темно вокруг, не разглядел ты. Понял ли?
Не стал я спорить – понял. Что спешат очень – понял.
Два дня, выходит?
А фра Мартин все дальше косолапит, меня за собою тянет, да только неуверенно как-то. Раз оглянулся, два оглянулся…
Встал.
Встал, тонзуру свою почесал, меня в сторонку оттащил, к калитке резной.
– Слушай, Гевара, ты особняк его милости Аугустино Перена, ассистента Севильи, помнишь?
– Чего же не помнить-то? – удивился я. – На углу Аббатской он, двухэтажный такой. И бывал я там, не в парадных покоях, правда.
Было дело! Посылал меня Калабриец к человечку одному, при доне Аугустино служившему. Да не просто – с вексельком верным.
– Так даже? – обрадовался громоздкий. – Вот и славно, сын мой! Там ты, значит, и виделся с сеньором Алонсо де Кабальеро, вице-канцлером Арагона. Восемь месяцев назад он в Севилью приезжал, не спутай. Вместе с Его Высочеством Фердинандом, в свите его.
Кивнул я – и это не спутаю. Да чего это с фра Мартином? Сопит, на меня не смотрит.
– А погулять не хочешь, грешник? Часа, значит, три? Ах, вот оно что! Не выдержал я – хмыкнул. Прямо в рожу ему.
– Так это не я погулять хочу. Вы хотите, святой отец. И не я грешник – другой кто-то!
Думал – в зубы саданет. Нет, стерпел! Снова тонзуру свою чесать принялся, да не пальцем, всей пятерней.
– Все мы грешны, все, сын мой! Все грешны, да не все умны. А умный ты ежели, поймешь. Поймешь – и язык свой прикусишь.
– Прикусил уже, – согласился я. – Так чего, идти мне?
Засмеялся громоздкий, меня по плечу хлопнул:
– Иди-иди! Да недалеко только. Смиренные братья за тобою, негодником, проследят, чтобы не случилось чего. Ты ведь свои вещички у «Тетки Пипоты» кинул? Вот туда и гряди, сын мой. Винца выпей, девочку кликни, посисястее чтоб была. Напоследок оно, значит…
Облизнулся даже фра Мартин, не иначе про «напоследок» этот подумав. А у меня словно крылья выросли. Да хоть на полчаса отпустите. Двое за спиной – подумаешь!
…Ошибся я – не двое. И не четверо даже – шестеро. Не дурак оказался фра Мартин. Ежели бы двое, то вышел бы Белый Начо на Ареналь-площадь, свистнул в два пальца…
А так нет – успеют скрутить. Или ножом саданут.
В общем, некуда деваться – пошел к тетке Пипоте. Оно и вправду, винца бы хлебнуть…
– Диририм-дрим-дрим! Диририм-дрим-дрим!
Замер я, голову в плечи втянул. Какой еще к бесу «диририм»?
Вина я, понятно, взял – кувшин целый. Взял – да и по лестнице знакомой ступенями заскрипел – прямо на чердак-донжон. Ежели дома мой идальго, так и выпить с ним можно, поболтать, порасспрашивать. А нет его – сам выпью, его повспоминаю.
…Оно, конечно, не стоило бы нам встречаться. Да только поздно – знают фратины зеленые о Доне Саладо. Одна надежда – уговорю его, калечного, ноги побыстрее из Севильи сделать.
Потому и пошел. А тут!…
– Диририм-дрим-дрим! Диририм-дрим-дрим! О думель, думель копф!
Ничего себе! А голос-то какой – хриплый, страшноватый, словно певцу по горлу дагой полоснули.
– Айне каре, айне штос! Диририм-дрим-дрим!
То есть, может, и не «каре», и не «штос» – больно голос уж хриплый, разобрать трудно. Но – похоже.
Эй, плавать шкипер по морям. Диририм-дрим-дрим! Диририм-дрим-дрим! И утонуть ко всем свиньям! Диририм-дрим-дрим! Диририм-дрим-дрим! Эге, уже и по-кастильски запел! То есть не совсем по-кастильски… Приоткрыл я крышку деревянную, что с лестницы на чердак вела, голову высунул… В подводный царство попадать. Диририм-дрим-дрим! Диририм-дрим-дрим! С морскими девками он спать. Диририм-дрим-дрим! Диририм-дрим-дрим!Ну и рожа!
И если бы только рожа! Расселся за столом этакий бурдюк в рубахе грязной, щеки небритые на грудь свисают, на подбородке – то ли борода, то ли просто мусор прилип. Расселся, кубок глиняный лапищей сжал…
Царя морского гнать он с трон, Диририм-дрим-дрим! Диририм-дрим-дрим! Звать мертвяков со всех сторон! Диририм-дрим-дрим! Диририм-дрим-дрим!Поглядел я на этот бурдюк распевшийся да и решил ничему больше не удивляться. Поет – и пусть себе поет. Тем более на столе не только кубки пустые и рыба соленая, погрызенная, но и кувшин красуется – всем кувшинам кувшин.
Матрос-мертвяк он там собрать. Диририм-дрим-дрим! Диририм-дрим-дрим! Свое он царство основать! Диририм-дрим-дрим! Диририм-дрим-дрим!Сел я на табурет скрипящий, свой кувшин на стол поставил, в кубок плеснул.
– Здоровье вашей милости! Бурдюка хрипящего, в смысле.
А сам уже и соображаю потихоньку. Уж не сам ли это отважный шкипер ван дер Грааф, с которым мой идальго море-океан пересечь решил на каравелле беспалубной?
Ну, с таким уж точно – доплывешь! Хоть до дна песчаного, хоть до скалы ближайшей.
– Вот я и говорить, вам, майне герре, – помереть! И герр Штрузе помереть, и герр Хальс-боцман помереть. Та-а! От лихорадка помереть, это я ист точно говорьить!
А сам кубок уже тянет. Не иначе – тост у него такой. Стукнулись.
– А когда их, майне герре, в море хоронить, они за каравеллой плыть продолжать. Та-а! Не весь плыть – лица только плыть. Слева – герр Штрузе, справа – герр Хальс-боцман. Две недели их лица на воде видеть. Та-а!
Снова стукнулись. Хлебнул бурдюк от души, брюхом колыхнул – и на меня воззрился.
– Так ты и есть герре арматор, который меня, шкипера старого, за море-океан плыть нанимать? Та-а? Это ист гууде! Я всю жизнь о таком мечтать, герре арматор! Да только раньше времени потонуть не хотеть, а сейчас время самый ист, отчего бы за море-океан не плавать? Та-а?
Глотнул я еще винишка (молодец тетка Пипота, не подкачала!) да и принялся переводить на кастильский. Арматор – судовладелец, стало быть…
Так ведь деньги! Мои денежки. Я же их Дону Саладо отписал!
– Я приказать закупить много-много лимон, герре арматор. Лимон мы добавлять в везере – в вода. Вода с лимон не пропадать, майне герре! И матрозен лимон жрать для пользен их брюхен. Та-а! А солонина я сам выбирать, без жука и червяк. Сам выбирать, смотреть сам!
И снова кубок тянет – стукнуться.
Так отчего бы не стукнуться? Тем более с лимонами он верно сообразил, бурдюк этот. Так что растопырил я уши пошире…
– И покупать я новый астролябий, самый лучши! Та-а! И секстант покупать. А компас я иметь три! А еще иметь гроозен бомбард и кулеврин. Но ты скажешь, герре арматор, что это все мало есть. Та-а? И ты говорьит чистый правда!
Да ничего я такого не говорьить. О другом я есть думать: доплывет ли корыто герре шкипера хоть до Лиссабона?
…Ой, вряд ли! Даже ежели он дюжину астролябий прикупит.
– Я никому не показывать это-о, на тебе, герре армотор, показать это-о. Та-а!
Зашелестела бумага, на стол легла. Покосился я – карта, ясное дело. Сверху да с боков – демоны морские с хвостами, а в центре – все, что полагается. У Калабрийца таких карт – сундук целый.
– Этот картен я сорок лет составлять. Та-а! Картен майне фатере брать, майне браазе картен брать, три картен покупать, один картен воровать. Та-а! Такой картен ни у айне шкиперен унде кормчиен нихт! Все течений – есть, розен-ветер есть, для лета – есть, для осени – есть!…
Разошелся – не остановишь. Эх, жалко, меня на борту не будет! Занесет герре шкипера вместо с идальго моим куда-нибудь к мысу Бурь, ищи их потом!
– Но ты, герре арматор, умный есть. Ты меня, старый шкипер, спрашивать, отчего я сам не плавать, если карт иметь?
– Так чего же спрашивать, ваша милость? – не выдержал я. – Сами же сказали – потонуть боязно было. А сейчас решились вроде. Потонуть, в смысле.
Напоследок – как фра Мартин сказал. Ухмыльнулся бурдюк, по брюху своему безразмерному похлопал:
– Та-а! Пусть дураки так говорьят, герре арматор. Пусть дураки за майне упокоен тринке! Та-а! Но я теперь господень кормчий иметь. Без господень кормчий мне землю за море-океан не увидеть. А теперь мне не тонуть и каравелла майне не тонуть. Я о господень кормчий всю жизнь мечтать, всю жизнь не встретить. А сейчас встретить целых два. Та-а!
Моргнул я, сообразить пытаясь. Господень кормчий – это не иначе сеньор Кебальо, рыцарь мой калечный. Видать, у бурдюка-шкипера с его сиятельством де Кордова мозги одинаково завернулись!
…Так ведь не только с его сиятельством. С падре Хуаном де Фонсекой тоже. Вот притча!
– Еще один господень кормчий есть. Кормчий гууде, моряк гууде. Но жадный-жадный слишком. Та-а! С ним я говорьить, его я просить, но ему нужен гольд, много гроозен гольд!
Тут и у меня мозги начали узлом морским завязываться.
– А зачем шкипер много гроозен гольд? В море вместе с ним кидать, как помрет? Та-а?
И тут как шибанет меня. Гроозен гольд – много золота!
«…Золото, сьер де Фонсека! Очень много золота, да».
Колон-картограф! Тот, кто над землями открытыми вице-королем стать желает. Вот ведь дела, даже говорят похоже с бурдюком этим нидерландским! Один «да» к словам прибавляет, другой же…
– Та-а! И потому сказать я тебе, герре арматор: каравелла мой «Стяг Иисусов» через цвее… два день к пристани подходить. А как прилив начинаться, Гвадалквивир-бар кроссен – и прямо в море-океан, майне герре! А еще я тебе сказать: кто из господень кормчий чего искать, тот и находить это, герре арматор. Если кто искать гроозен гольд, тот и находить гроозен гольд – но не больше, нихт! А кто искать чудо – тот чудо открывать! Тринкен, майне герре!
Покачал я головою: Ну и жизнь! Безумцы всюду. Словно мало мне идальго, Что пластает василисков, И маркиза де Кордова, И Адониса-бедняги. А подумать – чем я лучше? В той же стае, в той же шкуре! Может, самое мне место На дырявой каравелле Вместе с пьяным нидерландцем? Чайки в небе, пена в ноздри, И вода морская в глотке — Чем не участь для пикаро, Что танцует под веревкой? И на палубе станцую, Если треснет под ногами! Пусть укроет мою душу Океанская пучина — Не достать до дна морского Сатане!– Сколь рад я видеть тебя, Начо! У вас же, сеньор ван дер Грааф, прощения прошу, ибо задержался изрядно. Однако же причина тому была, и причина серьезная весьма.
Хвала Деве Святой – явился, калечный мой! Все в том же платье моряцком, в шляпе круглой…
А я и не в обиде, что припозднился он, Дон Саладо, потому как успел с бурдюком-шкипером кой-чего оговорить. Даже не кой-чего – главное.
– Признаться, сеньоры, пребываю я в сомнении немалом. Не знаю даже, вовремя ли мы за море-океан собрались?…
Подивился я даже. Неужто у Дона Саладо дурь наконец-то прошла?
…А я как раз с сеньором шкипером по рукам ударил. Первое – без меня они отплывают, ежели к сроку не явлюсь (а как явиться-то?). Да и второе…
– Ибо казалось мне, что не грозят городу Севилье чудища страшные, равно как великаны злобные и прочие андриаки…
…И второе – тоже важное. Если не заладится с морем-океаном – в Лиссабон каравелла повернет. Или куда еще, чтобы поближе, – да только не в Кастилию.
– Но сегодня увидел я нечто…
Нахмурился достойный идальго, к столу присел, вцепился рукой в бороду-мочалку. Плеснул я ему вина – не поглядел даже.
– Был я у собора севильского, сеньоры, дабы полюбоваться им перед дорогой дальней, и молитву сотворить, и свечи возле икон святых поставить. Однако же не пришлось свершить мне сие…
Ба-бах!
Точно в кувшин камешек попал. Ловко кинули – прямо через окошко отворенное. Подошел я поближе, выглянул.
…Ну конечно! Фра Мартин у входа топтаться изволит. Довольный такой, улыбающийся.
Согрешил уже, сволочь!
Меня увидел – ручкой сделал. Пора, мол, Гевара. Самое время за решетку отправляться.
А рыцарь мой и не заметил ничего – до того увлекся:
– Увидел я, сеньоры, как приближается к собору процессия некая. Двадцать рыцарей в плащах белых впереди едут, за ними – носилки конные, следом же – иные рыцари. И герольды с ними, и скороходы…
Кивнул я в окошко – скоро, мол, буду. А сам к Дону Саладо повернулся – попрощаться. Да только храброго идальго не остановишь.
– Решил я поближе подойти, дабы поглядеть, кто в почете таком ехать изволит? И что же? Хоть и не захватил я с собою окуляров, однако же сразу узрел чудище жуткое, что на носилках тех пребывало. Ввек не видел я лиха такого! Клыки в полбраса длиной, желтые, кровью текущие, вместо рук – лапы косматые с когтями медвежьими, а из-под хламиды черной хвост змеиный свисает! Стал я подмогу звать, рыцарей кликать, но оттолкнули меня, слушать не пожелав…
Делать нечего – хлопнул я по плечу идальго моего, пожал руку сеньору ван дер Граафу – да и на лестницу.
– …И вот думаю я, сеньоры, не рано ли нам Кастилию покидать? Ибо ежели таковые монстры по Севилье разъезжают невозбранно…
Прикрыл я крышку деревянную да и пожалел, что занят нынче сеньор лисенсиат. Достал бы лаписьеро свой свинцовый, чудище бы по системе нарисовал.
Глядишь, и полегчало бы!
– Отвел душу, Гевара? Ну, пошли!
И вправду доволен он, святой отец. Цветет прямо! Не иначе все это время книги душеполезные читал.
– Добрые мы, сын мой, с понятием. Ну, пошли, пошли!
Поглядел я вокруг. Стоят зелененькие, на нас поглядывают. Не убежать, не скрыться!…Зато спросить можно. О чудище.
– А чего бы не пойти, святой отец? – говорю. – А заодно не скажете ли вы мне, фра Мартин, кто это в Севилье нашей с почетом рыцарским ездить изволит? Двадцать рыцарей в белых плащах впереди, носилки конные…
Дернул он плечами своими необъятными, нахмурился:
– Трое ездят. Ее Высочество, понятно, только она больше верхом, Медина-герцог…
Медина? Как бы не так! Вспомнил и я его светлость. Нет, не герцога Дон Саладо лицезрел. Де Сидония тоже верхами путешествует.
– И еще… А ну-ка, постой!
Вцепилась в мое плечо его лапа, до боли сжала:
– А тебе-то, грешнику, зачем? Или задумал что? Поглядел я ему прямо в глаза, подождал, пока взгляд не отведет.
– Мог бы если – точно б задумал. А вам самому, что – боязно? А не против него ли заговор, а? Так я готов. Резать будем или из арбалета стрелять?
Отшатнулся фра Мартино, Оглянулся мелким бесом — Не дай Бог почует кто-то! Не дай Бог шепнет кому-то! Не дай Бог платить придется Только лишь за то, что слышал. Ведь в Севилье нашей славной Всем от мала до велика Эти ведомы носилки. И хозяин их известен: Королевский духовник он И аббат из Санта-Круса, Он же – Тень моя ночная, Сатанинский искуситель, Что приходит к обреченным. Фра Томазо Торквемада — Брат Сожженная Земля!ХОРНАДА XXXVIII. О том, как я с загадкой некой разбирался да по Севилье побегал
На этот раз не череп из мешка торчал – приодели плясунью. Платье темное чуть ли не до земли, передник белый да косынка на голове бритой, тоже белая. Чистая молочница получилась!
И жизни прибавилось, не на камнях сидит – гуляет. Не то чтобы резво очень, но все же.
– Кошка я, Начо. Завтра бегать буду, не догонишь, ай, не догонишь!
Все там же мы – во дворике. Только не солнце с неба – тучки набежали. Не иначе грозе быть. Поглядел я на тучки эти, воздух свежий глотнул (а хорошо!), да и принялся затылок чесать.
Было от чего!
Первое дело – вроде как забыли обо мне. Ну, напрочь забыли. День кончился, ночка пробежала, снова день. Хоть бы для порядку куда позвали.
А еще говорили – торопятся!
– А у меня допросчик другой, – внезапно заговорила Костанса. – То монах был, грубый, ругался все, а теперь мальчишку прислали. Смех просто! Мне «вы» говорит, краснеет, про какие-то права мои объясняет. Или не знаю я, Начо-мачо, какие здесь у нас всех права?
Кивнул я, соглашаясь, – и вновь о своем. Не так что-то. Обед, к примеру, не принесли. В дверь стукнул, потребовал – так чуть ли не извиняться стали.
А не потому ли, что и стражники сменились? Старых забрали, а новые еще службы не ведают? Обед – это ладно, а вот где фра Луне? И фра Мартин где? То часами не отпускали, то забыли о рабе божьем. Или снова потомить решили? А зачем? Мне же сейчас имена с адресами заучивать требуется! Или не нужен им Начо Бланко стал?
А сюда, к Костансе, без слов меня пустили. Оказывается, нам прогулки положены – как раз в этом дворике.
Вот тебе и «права»!
– Беги отсюда, мачо, – внезапно вздохнула Валенсийка. – Непонятное тут у них что-то творится, не до нас им. Беги! Ты убежишь – и меня выпустят…
– Меня искать чтобы? – хмыкнул я. – Ишь умная!
– Умная, – поморщилась она. – Теперь уже умная, Начо-мачо. Да и ты поумнел, красивый. Другому кому смерти желать станешь – сам помрешь. Я поняла – и ты пойми. Не желай смерти, Начо!…
Даже слушать я такое не стал. Учить меня вздумала! И кто?
– …А то, что мертвец подарил, – сними. Ай, сними, мачо!
Вздрогнул я от голоса ее тихого. Скользнула рука к вороту, до булавки дотронулась.
– …Думаешь, беду от тебя отводит? Может, и отводит, да только жизнь забирает. У тебя забирает – мертвяку отдает. Ты же мертвеца этого на земле, возле себя держишь!…
– Заткнись! – отшатнулся я. – Пасть закрой, поняла? Улыбнулась она, косынкой белой качнула:
– Ай, Начо Бланко! Ай, Начо глупый!
Пододвинул я свечку поближе, по строчкам глазами пробежал.
– Запомнил, – кивнул. – Чего еще?
Не ответили мне. Задумались, не иначе. Очень они сегодня задумчивые – фра Луне да фра Мартин.
Ближе к вечеру меня вызвали. Я даже обрадовался. То есть не обрадовался, понятно (хороша радость!), но как-то легче стало. Лучше про заговорщиков сказки рассказывать, чем меж четырех стен куковать.
Вызвали, но все равно не так что-то. Первое дело – задумчивые они оба, жердь с громоздким, серьезные какие-то. И второе имеется – молчит фра Луне, слова не вымолвит. А фра Мартин ему не очень и помогает. Спросит меня, грешника, выслушает – и снова словно не тут он. Бумажку с фамилиями и гадостями всякими (страшные заговорщики попались!) сунет – и в сторонку отойдет, будто и неинтересно ему стало. Ой, не так что-то у них!
– Ладно, Гевара! – вздохнул наконец фра Мартин. – Вроде понял ты все…
И голос иной – не гудит уже, тихо вещает.
– С беглецами-злодеями без тебя разберутся, твое имя не упомянут даже. Видишь, грешник, сколь мы о тебе, мерзавце, заботимся? Не сочтут тебя предателем дружки твои, как честного оплачут, перед тем как на Кемадеро отправятся…
Замер я. Заледенел. Вот оно! «Уплывут» – не «доплывут»!
Кому поверил я, дурак? Сатане?
– Главное же запомни: заговор сей омерзительный и опасный, всей нашей Кастилии грозящий, всей Испании даже…
– Нет!!!
Подпрыгнул я на табурете от визга этого, отшатнулся фра Мартин.
Ну, точно свинью шилом сапожным кольнули!
– Нет! Нет! Нельзя! Те coronat Dei! Те coronat Dei! Божье помазание! Божье помазание!
…Фра Луне!
– Помолчи, брат! Помолчи!
Ежели и смутился фра Мартин, то лишь на миг самый. Приподнялся, плечами крепкими повел.
– Или смерти ищешь, брат? Проклятия вечного? Или забыл, что пожалели тебя, от гибели верной избавили? Ели бы тебя уже, сущеглупого, черви!…
…Уж не за то ли, что наплел я ему, жерди этой, о делах падре Хуана? То-то писаря за столом нет. Видать, не пожалели горбуна. Так что не зря свистел пикаро!
И снова – гудит громоздкий да страшно так:
– Ведаешь ведь ты, что есть «наказание стеной»? [63] Не напомнить ли?
Это для меня страшно – но не для жерди, не для фра Луне. Дергается жердь, приплясывает словно, башкой трясет:
– Пусть! Пусть! Господь оправдает! Оправдает! Нельзя! Лучше погибнуть, чем руку поднять! Те coronat Dei!
– Умолкни!
Рыкнул фра Мартин, жердь ополоумевшую за грудки сгребая:
– Предатель подлый! Трус! Или забыл, что продан Господь наш Иисус Христос за тридцать тысяч эскудо? Снова продан? Нет на предателях благодати Божьей! Умолкни – иначе удавлю!
Сижу я, ни жив ни мертв, шевельнуться боюсь. Как назло – никого в допросной. Кроме нас, в смысле. Прежде в углах парни в ризах зеленых столбы изображали. А как речь о делах тайных пошла – сгинули. Оно и понятно – кому в стену живьем уходить охота?
– Ну что, фра Луне? Успокоился ли?
Мотнула головой жердь. Разжал свои клешни фра Мартин. Потер фра Луне горло, пошатнулся:
– Ус… успокоился… Гевара! Слушай, Гевара!…
Отбежала жердь в угол, забилась, заверещала:
– Беги, Гевара! Расскажи! Всем расскажи! Ее… А-а!…
Хрустнули кости. Прямо в лицо удар кулака пришелся.
– Расскажи!…
Даже зажмурился я, чтобы не видеть. Страшно, когда человека вот так убивают! Зажмурился, да только уши заткнуть позабыл.
– Расска…
…Долго хрипел фра Луне, все умирать не хотел. Долго его фра Мартин топтал – с хеканьем, от души самой. Умаялся, задохнулся даже.
Открыл я глаза…
– Понял, сын мой? С каждым так будет, никого мы не пожалеем! Никого!
Прямо в глаза глядел мне фра Мартин. Не врали его глаза, словам вторя. И ясно мне стало – правда это. Не пожалеют. НИКОГО!
Кивнул я, голову склонил.
…Рукой вниз скользнул, к башмаку, к подметке истоптанной.
– Зря ты, Гевара, все сие слушал. Хоть и жалко трудов, что на тебя, дурака, потратили…
…Ой, плохая подметка! Давно у сапожника не был!
– Да только…
Да только не я дурак – он. Потому как сперва убивать надо, а уж после…
Вначале – умолк. На полуслове, словно обрезало. Потом удивляться начал. Моргнули глаза, рот приоткрылся…
А я не спешил – ждал. Здоровый он кабан, фра Мартин, тут и ошибиться можно. Но только не ошибся я. Дернулись его клешни – к груди, к сердцу самому, полезли глаза на лоб…
Закрылись.
Хотел его подхватить – да не стал. Уж больно тяжелый он, фра Мартин, задавит еще. Так на пол и брякнулся. Хорошо еще, пол каменный, не прошибешь. Только эхо по углам темным разбежалось.
А все почему? Потому что шило в сердце вещь даже для фра Мартина – ну совершенно непереносимая. Это раз. И не лениться надо, башмаки у таких, как я, отбирать, потому как в башмаке не только шило спрятать можно.
…Ох, испугался же я, когда Хосе-сапожник про шило сказал! Думал – сообразят, обыщут. Да вот повезло!
Ткнул я башмаком кабана этого дохлого – для верности пущей. Нет, не встанет! Дождался Мартинова дня!
На фра Луне поглядел – и этот дождался.
…Это вам не Касалья, святые отцы! Нашлась-таки игла на Левиафана!
А потом и соображать принялся. В коридоре – стража, да у ворот стража, всех бы перебил-переколол, конечно, – не жалко ничуть, так ведь не перебьешь!
Всех и не пришлось. Только одного – того, что в дверь на стук мой заглянул. В самый раз его риза оказалась, словно для меня шили. Накинул на башку капюшон…
А дорогу-то я еще в первый раз запомнил – как в город выпускали.
В воротах только пуганулся. А вдруг слово тайное потребуют? Обошлось! Ткнул я страже под нос перстень с крестом Андреевским – с пальца у фра Мартина стащил, не побрезговал.
Пропустили!
А как уходил, все боялся – побегу, себя выдам. Так и шел, каждый шаг считая. Пятый… десятый… двадцать первый… И только как за угол завернул, как Барабан-площадь увидел…
На вечернем небе – тучи Наползают, наплывают, Вдалеке грохочет что-то, Жди грозу, моя Севилья! По делам спешит народец, До дождя успеть желает. Никому и дела нету До воскресшего пикаро, До живого Начо Бланко. Ветер пыль несет по камню, Пылью ноздри забивает. Не орать вам про «сиренас» Этой ночью, альгвазилы. Потому, гроза спешит к нам, Потому, что спасся Бланко!Далеко ли можно за два часа убежать?
Да на край света можно! Особливо ежели места знаешь. Даже если ворота городские запрут, стражу, альгвазилов дурных, по улицам пустят. Тоже мне, напугали! Или через стены не перелазят? Или Альменилью-вал трудно перейти? За два часа можно полдороги проплыть – до той же Саары, если грести, конечно, рук не жалея. А уж если эти два часа по Севилье побегать? Да еще мальчишек с Ареналя стрелами по улицам пустить… Башка звоном пойдет!
У меня и пошла. Да как ей, бедной, не зазвенеть, ежели
Хиральда-Великанша ударила? Кончилась вечерня, народишко от галереи Градас по улицам темным прошлепал…
А я – как обычно, от входа неподалеку. От дверей соборных, что ключом тяжелым запираются.
Жду.
Жду и сам себя ругаю. Небось, ежели бы время зря не тратил, уже и до Саары добрался. Протопал бы по сходням, прыгнул в первую шебеку, что за море плывет.
…А может, там меня и ждут? Ведь куда Начо Белому, вору морскому, убегать? Да и не во мне только дело.
Остается – ждать. Ждать, на двери соборные поглядывать…
Есть!
Хоть и далеко, хоть и тучи небо закрыли, а все одно – не спутаю. Высокий, в ризе длинной, руками машет… Вздохнул я, сообразить пытаясь – напоследок. Все ли верно делаю? Да кто же мне скажет? Делаю – и делаю.
Пошел! Он пошел – и я пошел.
– Благословите, падре Хуан!
Долго он на меня смотрел глазами своими совиными, сеньор архидьякон. Долго хмурился, пальцы складывал.
– Et nomini Patris…
Склонил я голову, подождал, пока «Amen» скажет…
– Падре Хуан…
Засопел он – громко так, сердито. На меня надвинулся, за руку схватил:
– Не здесь! Совсем сдурел ты, сыне? Пошли!…
Не хотел я идти, да что поделаешь? Даже ногами перебирать не пришлось – волоком тащил меня Хуан де Фонсека – до самой Башни Золотой. Пытался я слово сказать – да где там! Сопит падре только – и головой бритой качает.
Наконец хлопнула дверь подвальная, затеплилась свечка.
– Это вы, дон Фонсека?
Дернуло меня, к двери бросило. Потому как узнал я голос, тот, что из тьмы черной к падре Хуану обратился. Узнал – да только поздно. Держит меня за руку сеньор архидьякон. Держит – не пускает.
– А кто это с-с вами? Неужели Игнас-сио?
Слабо свечка горела, лишь на два шага и видно. Но вот блеснули в полутьме глаза, показались щеки пухлые, бородка знакомая…
И шляпа черная с жемчужиной! Видать, полюбилась шляпа эта его сиятельству Федерико де Кордова. Носит – не снимает.
– Ну, здравс-ствуй, Игнас-сио!
Сглотнул я воздух, с белым светом попрощался. Эх, зря это я сразу в лодку не прыгнул да к Сааре не погреб!
Или не зря все же?
Взял меня за плечи дон Фонсека, на бочонок усадил. На все тот же – из-под солонины.
– Вот чего, сыне мой, грешник ты великий. Что ты велел, сделали мы, как только письмо получили. А вот теперь тебя самого послушать хотим…
– Мы с-сменили с-стражу во дворце, – кивнул его сиятельство. – Герцог Медина прис-слал с-своих рыцарей, я пос-ставил моих мавров у ворот…
– Понимаешь, чего ты затеял, Бланко? – подхватил падре Хуан. – Какую кашу заварил?
Чего уж тут не понимать? Да только не я кашу эту на огонь ставил!
– Ваше сиятельство! Падре Хуан! Скажите сперва, не должна ли была Ее Высочество сегодня подписать какой-нибудь указ, важный очень? Должна – да не подписала? А если не подписала – то почему?
Переглянулись, головами качнули. Нахмурился дон Фонсека, на меня горой надвинулся:
– А твоего ли сие ума, сыне?
– Погодите! – поморщился маркиз. – Хуже вс-се равно не будет! Это правда, Игнас-сио. С-сегодня фра Томазо Торквемада предс-ставил Ее Выс-сочес-ству указ о полном изгнании иудеев из Кас-стилии и Арагона – в трех-мес-сячный с-срок. Ис-сключение делалос-сь только для тех, кто примет хрис-стианс-ство. Ее Выс-сочество не подпис-сала…
– Совет Королевский против был, – засопел падре Хуан. – Потому как сие – полное страны разорение. Вдобавок же деньги зело нам требуются – на войну с Гранадой. Иудеи же, что армию королевскую снабжают – Абрахам Сенеор да Исаак Абарбанель, – безвозмездно тридцать тысяч эскудо пообещали… Кивнул я – сходится все.
«Коли не подпишет, начинаем. А вот ежели да, тогда все чин чином подготовим, понял?»
«Или забыл, что продан Господь наш Иисус Христос за тридцать тысяч эскудо? Снова продан? Нет на предателях благодати Божьей!»
А чего такое «Те coronat Dei», сразу я догадался. В церкви это почти на каждой службе услышишь. «Те coronat Dei» – «Тебя Господь коронует». Божье помазание это значит. Лучше умереть, чем на помазанника Божьего руку поднять – вот о чем жердь кричала!
…Долго рассказывать пришлось. И про «заговор», и про хартии, и про то, что стражу в Трибунале сменили.
А может, и недолго? Потому как свечка даже догореть не успела. Это для меня долго было – все эти дни вспоминать. И селду темную, и повара веселого из пыточной, и как Хосе-сапожник на мандуррии играл. И Тень, что ко мне ночью приходила…
Слушали, не перебивали. Даже когда я про бабушку его сиятельства помянул. Не поморщился сеньор маркиз – кивнул только. Видать, и вправду не без бабушки тут!
А как дослушали – молчать принялись. Молчать, думать.
Переваривать.
– Его с-светлос-сть Абоаб мне пис-сал о чем-то подобном, – заговорил наконец сеньор маркиз. – Торквемада – с-сумас-сшедший. Никто из нас-с не защищает марранов, а тем более иудеев, но вс-сему имеетс-ся предел! Вы же помните, падре Хуан, как фра Томазо брос-сил рас-спятие перед королевой? Он ведь обвинил Ее Выс-сочес-ство, что она, с-словно Иуда, Хрис-ста продала!
…Выходит, не сам фра Мартин эти слова придумал!
– Мы ничего не докажем, – вздохнул дон Фонсека. – Ничего! Игнасио – не свидетель, висельник он. Да и не слышал он ничего о замысле злодейском, догадки же к делу не прилепишь.
– Или мы отдадим Торквемаде иудеев – или он возьметс-ся за нас-с… [64]
Зря это его сиятельство сказать изволил! Ох, зря! Плеснуло мне в глаза огнем желтым.
– Так за вас, дон Федерико, самое время взяться! – хмыкнул. – А то сапожники все, священники… Или благородным можно детей воровать да резать? Головы на крючья насаживать? С упырями погаными жить?!
Не кричал – почти шепотом говорил. А все одно сорвал горло.
Вновь переглянулись они – с пониманием переглянулись. Да так, что сразу ясно все стало. Не выпустят! Зря сюда ты пришел, Начо. Что та стая, что эта – все одно разорвут!
– Королеву и нас-следника охранять будут, – кивнул наконец его сиятельство, словно и не было ничего. – Эрмандаду С-святую из С-севильи пока выведем. Что еще, падре Хуан?
– Что еще – то мое дело, – вздохнул сеньор архидьякон. – С этим решить следует…
Даже в мою сторону поглядеть не изволил, да только сразу мне ясно стало – с кем.
…А не страшно почему-то! То ли отбоялся, то ли о шиле в подметке вспомнил. Двое их, конечно, да и падре Хуан не чета фра Мартину…
Но только за решетки больше не сяду!
– Его найдут, – тихо проговорил сеньор де Кордова. – И у нас-с, и в Арагоне, и в Италии. Торквемада – как Аргус-с, у него всюду глаза.
Поглядел на меня падре Хуан, почесал голову свою бритую.
– К туркам, что ли, услать мерзавца? Пусть чалму напялит да тихо сидит, пока не позовем.
Воспрял я духом – не убьют! Видать, им тоже свидетель нужен. А ежели так…
– А я и сам уеду, сеньоры! Вы только, падре Хуан, прикажите завтра утром каравеллу через бар пропустить.
…Вся стража морская ему, сеньору архидьякону, подчиняется. На то и расчет у меня был, потому и к нему, к дону Фонсеке, пришел. Иначе нипочем идальго моему из Гвадалквивира в море-океан не выбраться.
И снова друг на друга они поглядели.
– Пропустить-то можно, – раздумчиво молвил падре Хуан. – Да только куда ты собрался, разбойник?
– А я, кажетс-ся, понял, – улыбнулся его сиятельство. – Доберешьс-ся до Терра Граале, Игнас-сио, не забудь вес-сточку подать!
Вздрогнул я даже от улыбки этой. Все помнит, не забыл!
– Да не доберутся они, потонут, – поморщился сеньор архидьякон. – Хотя… Все лучше, чем с итальянцем этим, с Кристобалем Колоном, договариваться. Только ведь не так важно, как каравелла доплывет, важно, куда вернется! Да и вернется ли?
Отвечать не стал я падре. Тут отплыть бы, да подальше! А вернуться – будет видно. Ничего мне не сказали, Подождали, дверь открыли, Проводили по ступенькам… Ох, и плохо же смотрел он Мне в затылок, дон Фонсека! Только я не обернулся, Хоть и тошно стало что-то. Отпустили? Дали волю? Или бросили наживкой — Прямо в омут, чтоб вцепились, Челюстями въелись в мясо? Никуда крючок не делся, И висишь на нем ты, Начо! Вышел я, вздохнул глубоко — И ударила гроза!ХОРНАДА XXXIX. О том, как отплыли мы из славного города Севильи
Грохотало всю ночь. Грохотало, гремело, трещало, выло. Рвали белые молнии небо – спасайся кто может, добрые севильянцы!
Спаслись. Вымел ливень Севилью – начисто. Вместо народца ночного, по улицам шастающего, – воды потоки. Где по щиколотку, а где и по колено. Еще часок – и поплывет город каравеллой без палубы, лови его потом!
Только Хиральда-Великанша на месте. Громадная, словно подросла даже в эту ночь грохочущую. Нависла над улицами, колоколами гремит. Не звонари стараются, нет их, попрятались. А зачем им руки трудить, ежели ветер подсобить спешит?
Бом-м-м-м! Бом-м-м-м! Бом-м-м-м-м!
И не поймешь даже – бесы ли на волю вырвались, добрым католикам на погибель всеконечную? Или напротив, кончилось долготерпение у Господа нашего? И в самом деле, сколько же терпеть можно?
Сечет ливень, ветер по улицам Эрмандадой носится, лупят молнии, гремит Хиральда.
Бом-м-м-м-м-м! Бом-м-м-м-м-м!
– Мы догадывались, Начо, – кивнул сеньор Алессандро Мария Рохас. – Мы стали очень осторожными. Тот парень, которого вы послали в Саару, рассказал, что к Калабрийцу приезжали какие-то весьма подозрительные монахи. Я хотел сам поговорить с лодочниками…
Не понадобилось – вовремя я нашел толстячка. То есть не вовремя, конечно, раньше следовало.
…Ас другой стороны – не следовало, пожалуй. Предупредил – и всполошилась бы Супрема, придумали бы фратины позорные еще какую-нибудь пакость. А так – не успеют.
– Весьма! – усмехнулся сеньор лисенсиат, в окошко кивая. А за окошком – патио знакомый, водой залитый, хоть вплавь пускайся. – Повезло, Начо! Может, и вправду Господь гонимым помогает. Пока все попрятались, мы тоже спрячемся. Ежели убегут все вместе – те, кого Супрема ищет, Торквемада победу праздновать станет, на всю Кастилию звон поднимет, на всю Испанию. Убежали – вину признали, стало быть. Иначе мы поступим…
Как – не говорит, да я и не спрашиваю. Умен толстячок, сообразит!
– Очень хорошо, что вы зашли, Начо. Вам тоже скрыться следует. Вам – и Дону Саладо. Они не пощадят…
Поглядел я в окошко, на небо, от огня белое, на двор, воды полный. Поглядел, вздохнул. Это уж точно – не пощадят! Торквемада не доберется – дон Фонсека клешни на горле сомкнет. А не он – так его сиятельство булькающее.
– Помните, Начо, мы говорили, что Старая Кастилия уходит навсегда? Наша Кастилия, веселая свободная земля, где не было рабов, где каждый был благороден, где король считался лишь первым рыцарем, ведущим народ на бой с проклятыми маврами…
– А по дорогам идальго странствующие шастали да великанов гоняли, – кивнул я. – А в драке лежащих не били. И кошельки в карманы всякие не прятали…
Усмехнулся сеньор Рохас, дернул усиками тонкими. Горькая усмешка получилась!
– Может, и не было никогда такой страны, но мы верили в нее, все верили – от короля до последнего пикаро. И вот она уходит. Это не изменишь, но только сейчас становится ясно, ЧТО идет на смену.
Промолчал я – о чем спорить? Не мастак я красно болтать, но и у меня ясность на сей счет имелась. Вон, молнии лупят – не перестают! Не иначе Ангелы Наказания над Севильей собрались. Эх, пораньше бы!
– Быть может, Кастилия покорит Европу, найдет дорогу в Индию, откроет земли за морем-океаном, станет первой державой мира. Может, мы будем ходить по золоту и на золоте умываться. Но какой ценой, Начо? Чем заплатим за это? И что принесем другим – жестокость, алчность, фанатизм? Сожженную Землю?
Вздохнул я, затылок почесал. Ну его, такие мысли!
– А может, еще обойдется, сеньор? Сошлют Торквемаду в монастырь, зелененьких обратно на Сицилию отправят, а его сиятельство де Кордова сам дойдет – или голем придушит, или бесы уволокут?
Сказал – и сам себе не поверил. Ведь ясно – не обойдется.
Блеснула молния, гром по ушам ударил. Близко совсем, чуть ли не на улице. Вдохнул я свежесть грозовую – хорошо!
…И что жив – хорошо. А что другие живы – еще лучше.
– Хоть бы с невестой познакомили, сеньор Рохас!
Просто так ляпнул, чтобы о серьезном больше не думать. Что толку мозги сушить? Одним днем живет пикаро. И вот он, день новый, в громе да молнии рождается.
– Познакомитесь, Начо, – согласился лисенсиат. – Она уже в надежном месте. Через часок и мы с вами туда направимся.
– То есть как это? – растерялся я. – Куда?
Улыбнулся толстячок – весело так, словно и вправду пошутить решил.
– Есть еще места, куда Торквемаде не добраться. Севильские подземелья, Начо. Они огромные, там сотни ходов и галерей. Теперь там, под землей, будет наша крепость! Ходы ведут далеко, за город, так мы сможем переправлять людей не спеша, по надежным адресам и маршрутам. За Дона Саладо не волнуйтесь, мы его тоже заберем – еще до рассвета.
Ох, и не понравилось это мне! Вроде как из одного подземелья – прямиком в другое. Да я же там с тоски помру!
…Да и не во мне только дело.
– Не пойдет он никуда, Дон Саладо наш, – вздохнул я. – Вы же его знаете, сеньор Рохас. Втемяшится что в башку – и хоть колом выбивай. Решил уплыть в эту Терру Граале – и уплывет. Как раз на рассвете.
– С ума сошли! – дернул усиками толстячок. – Да ему же отплыть не дадут! А нет – так на Гвадалквивире перехватят. Или у моря…
– Да знаю, – скривился я. – И стараться не надо. У бара всегда две-три галеры дозором ходят, даже посылать никого не требуется.
Была у меня, конечно, надежда. Была, теплилась – выпустит нас дон Фонсека. Не в благодарность – из выгоды. Слабенькая такая надежда, маленькая…
– Даже если вырветесь, Начо. Даже если переплывете море-океан, доберетесь до какой-нибудь земли. И что дальше? Через несколько лет португальцы или наши туда приплывут…
– А может, и нет, сеньор, – перебил я, слова бурдюка-шкипера вспоминая. – До такой земли только Кебальо – кормчий господень добраться может. А каждый кормчий особое видит, значит, и особую землю откроет. Так что у нас вроде как своя страна будет, а у кого другого – своя!…
…Хоть бы у сеньора Кристобаля Колона, итальяшки этого. Доплывет ежели, будет ему земля – с золотом. Много-много золота, да? Гроозен гольд!
А зачем нам с Доном Саладо гроозен гольд? Моргнул толстячок, подумал, снова моргнул:
– Да о чем вы, Начо? Это же сказки. Просто сказки! Ну, Дон Саладо – еще ладно, но вы?!
Встал я, плечами повел. Набегался за день и за ночь набегался.
А все одно идти надо.
– А чего я, сеньор Рохас? Чем я Дона Саладо хуже? А насчет сказок – ошибаетесь вы. Не станем в сказки верить – тут и Старая Кастилия наша кончится. А правда это, неправда – для того и плывем. Увидеть чтобы.
Схватился толстячок за голову свою, премудростями набитую. Схватился, застонал. Не иначе от жалости, что времени нет – меня лечить чтобы. По системе своей.
Да только зачем лечить? Ясное дело – заразил меня мой идальго, потому как хворь у него – самая опасная, мигом пристает.
Заразил – ну и пусть. Не жалко!
– Ну так чего, сеньор Рохас? – улыбнулся я. – Обнимемся на прощанье или вежество проявим – поклонимся только?
Увидел я каравеллу – и одурел. Даже близко подходить не пришлось. Только через Альменилью-вал перебрался, только на пристань взглянул…
Дева Пречистая, Михаил Святой!
И на этом мы через море-океан поплывем? Тут бы до Трианы добраться – не потонуть на корыте этом!
Поглядел я на небо серое предрассветное, на тучки уходящие. А может, успею еще? Скручу Дона Саладо, через седло перекину, увезу куда подальше. Дождь кончился, конечно, но пусто еще на улицах, ждет народ, пока вода схлынет. Авось успеем!
Махнул я рукой, начал вниз спускаться – к пристани. Спускаться – да последними словами себя крыть. Кого слушал, Начо? Шкипера этого пьяного?
… Не каравелла – лодка какая-то. То, что палубы нет, и так ясно было. Но чтобы такая маленькая! Хорошо, ежели в длину двенадцать брасов будет, а в ширину – четыре. Так ведь меньше, поди! В тольдилье [65] разве что козу спрятать можно.
Зато – три мачты парусами косыми латинскими хлопают. Прямо как у взрослых!
Делать нечего – спускаюсь. А навстречу – то ли вой, то ли ор:
Благословен будь крест святой! Дирим-дрим-дрим! Дирим-дрим-дрим! Ведет нас Дева за собой! Дирим-дрим-дрим! Дирим-дрим-дрим! Нам рифы-мели не страшны. Дирим-дрим-дрим! Дирим-дрим-дрим! Пройдем по гребню мы волны! Дирим-дрим-дрим! Дирим-дрим-дрим!Ну конечно! Распелись с утра пораньше. Сколько же народу в эту скорлупу влезет? Два десятка – много будет!
Подошел поближе – и ясно все стало: воду черпают. Оно и понятно – знатный ливень был. Как только не потонул «Стяг Иисусов»?
– Бьистро, бьистро, парни! Прилив не ждать, море-океан не ждать!
А вот и бурдюк персоной собственной – отважный шкипер ван дер Грааф. На самой корме пристроился, руками машет, что твоя мельница:
– Бьистро! С рассветом, с солнышком первым, якорь вира!
А парни (ну и ряхи, не к ночи увидеть!) и стараться рады.
А как потонем – не беда! Дирим-дрим-дрим! Дирим-дрим-дрим! Прими нас, темная вода! Дирим-дрим-дрим! Дирим-дрим-дрим!Сглотнул я, такое услыхав. А с другой стороны, чего еще от бурдюка-шкипера да от парней его ожидать?
– Начо!
Даже не узнал я в миг первый рыцаря моего калечного. Словно в плечах стал шире, словно помолодел. А борода – ну прямо как у Сида Компеадора!
– Поистине вовремя ты пришел, Начо, ибо с рассветом отплываем мы…
Покосился я на каравеллу нашу. Делать нечего – отплываем. В море выйдем, через бар прорвемся – и то хорошо. А до Лиссабона ежели – так и вообще Деве Святой хвала!
– К тому же должен сказать тебе, Начо, что будет у нас в путешествии этом спутник нежданный, точнее же – спутница…
Не дослушал я – увидел Сквозь рассвет, сквозь сумрак серый. Темным призраком стояла, Плащ на голову набросив, Та, что мне платок вручила, Та, что мне когда-то пела Об Измене Королевской. Замер я, сказать не смея, Шагу сделать не решаясь. Кто пришел к нам этой ночью? Кто меня не отпускает? И свинцом булавка стала Возле горла моего!– Не ожидали, Игнасио? Знаете, я тоже, сеньор шкипер сказал, что вас не будет… Как хорошо, что вы успели! Не прогоните?
Взглянул я в глазищи ее темные, воздуху глотнул… Даже поздороваться сил не хватило. Кивнул только.
– Отец разрешил. Он верит сеньору Кихаде и… и вам тоже, Игнасио. Он считает, что в Кастилии оставаться опасно…
– Прислал он нарочного с письмом верным, – подхватил Дон Саладо. – И в том письме дочь свою заботам моим поручил, равно как твоим, Начо. Ибо вновь в опасности Анкора, как и когда-то, в годы давние…
Кивнул я, слово вымолвить не решаясь. Письмо – понятно, и что в опасности – тоже ясно. Да только с кем нам в море-океан плыть? Вроде бы тут она, лобастая, – настоящая, живая.
Вроде бы…
Собрался я с духом, Деву Святую помянул.
– Я… Узлы я развязал, Инесса. На платке которые…
– Знаю.
Веско так сказала, тяжело. Отвел я глаза.
– Слыхала я, Игнасио, что женщина в море – примета дурная. Я не стану вам дурной приметой…
– Как в том сонете? «Я стану в небе ангелом твоим!» – вспомнил я.
– Я не ангел, – внезапно улыбнулась она. – Игнасио, да что с вами?
И от той улыбки словно завеса с глаз упала. Ну и глупости в башке моей бродят!
– Начо! Начо! Фу-ты!
Даже дернуло меня от голоса знакомого. Ну, собирается компания!
– Ай, Начо, ай, Начо Белый, Начо глупый! – Валенсийка. Ну, привязалась!
Серой тенью метнулась ко мне плясунья. Метнулась – замерла:
– Зачем ты здесь, глупый Начо? Знают они, где ты! Эрмандада сюда спешит, коней не жалеет. Уходи, уходи скорей!
– А тебе что за радость? – не выдержал я. – Выпустили – так уматывай подальше. Может, и успеешь.
А сам на каравеллу взглянул. Готовы? Нет, все еще воду черпают!
Покачала головой Костанса, губами дрогнула:
– По одной жизни у нас оставалось, Начо-мачо! У тебя одна, да и у меня тоже. Говорила я – злоба к смерти только ведет. Отпустили меня – да только не уйти уже.
Совсем отпустили цыганку глупую, ай, отпустили – да только не выпустили! Ведь не простила я тебя, мачо, не смогла. Убежишь, думала, а я тебя снова найду, выдам – и себя выкуплю. Ай, дурная была!
Усмехнулась плясунья, на Инессу поглядела:
– Ай, сеньорита, сеньорита важная! Вот кто Начо Белого приворожил! Постой-ка…
Дернулась рука – ладонью вверх. Дернулась, замерла.
– Так ведь… Вы же мертвая были, сеньорита! Мертвая! А теперь – живая вроде. Ай, колдуны, ай, ворожбиты!
Переглянулись мы с Инессой.
И снова улыбнулась лобастая, да только мне не до смеху стало. Оно бы, конечно, хорошо посмеяться. Не над плясуньей стриженой – чего с цыганки дурной взять? Над самим собою. Вот ведь выдумал, глупый Начо, сам себя застращал – призрак, тень, грехи смертные! Обычная девчонка, из благородных, правда, так у каждого, между прочим, свои недостатки бывают. А что некрасивая или там пышности никакой, так нагляделся я на этих красивых, с пышностью!
…И только краешком, в закоулочке самом – платок! Развязал я узлы. Развязал – и что?
Махнула рукой Костанса Валенсийка, отвернулась, на реку, от дождя мутную, поглядела:
– Да все равно уже теперь. Ошиблась я, мачо. Отпустили меня – да не выпустили, не иначе знали, где искать тебя, беглого! Не нужна им Валенсийка оказалась…
Дернула цыганка плечами – словно мороз ударил. Да и мне почему-то холодно стало.
– Видно, и вправду, мачо, – нельзя смерти другому желать. Пожелаешь – к тебе самому и прилетит, ай, прилетит. А ты уходи, уходи, Начо, ищут тебя, сюда скачут. Не хочу, чтоб ты умер, уходи. Со смертью даже вражда кончается… Уходи!
Обернулась, на нас с Инессой взглянула…
– Прощай, Белый Начо!
И словно туманом лицо подернулось. Словно кто тряпкой мокрой по известке мазнул. Мазнул – стер, одна тень осталась.
– Прощай! – шепнула тень.
И нет ее! Только сумрак серый.
Вытер я пот холодный со лба – понял. Бежал я, вот и не нужна стала плясунья. Отпустили ее – туманом над рекой утренней.
Отпустили – не выпустили.
– Господь милостив, – негромко проговорила Инесса. – Не оставит Он – ни ее, ни нас…
Очнулся я, вновь рукой по лбу провел. Не время о призраках да о платках с узлами думать. И о всем прочем непонятном – тоже не время!
Топот!
Сквозь сумрак предрассветный, сквозь мглу сырую. Пока еще далеко, где-то возле моста Тринадцати Лодок.
…То есть и не так далеко уже. Бьют копыта в землю мокрую.
Эрмандада!
– Эй, шкипер! – заорал я. – Герре ван дер Грааф! Бросайте все, уходим! Да скорее, скорее!…
– Я-а! Я-а! – бодро отозвался бурдюк. – Эй, парни, ставь трео, бонеты ставь! [66] Бьистро! Бьистро!
Не успели. То есть успели почти, воробьиного клюва не хватило. Уже и якорь подняли (не просто так – под псалом), и сходни убирать принялись…
Вот они!
С двух сторон, с двух боков – от моста (этих я и слыхал) да с севера, где Башня Золотая. В шлемах темных, в кольчугах.
Давненько не виделись!
Эх, не успел дон Фонсека орлов этих из Севильи подальше услать! Или не собирался даже?
– Стоять! Именем Святейшего Трибунала!
Первые уже спешились, к трапу волками кинулись. Другие арбалеты с седел сняли, к плечам вскинули. А вот и аркебуза фитилем дымит…
– Стоять!!!
Посмотрел я на Дона Саладо. Улыбнулся мне рыцарь, к сходням шагнул. Оттолкнул я его, калечного, к поясу потянулся – пусто! Без даги остался ты, Начо!
Ох, и вовремя!
– Не надо!
Не я сказал – сеньорита Инесса. Тихо сказала, твердо.
Улыбнулась.
Стала у борта, руку подняла:
– Их уже нет. Не бойтесь!
И как будто все исчезло — Пристань, сходни, каравелла И лихая Эрмандада, В нас готовая вцепиться. Черным камнем борт оделся, Вниз земля ушла без звука. Не корабль под нами – замок, Окруженный тьмой ночною. На донжоне, за зубцами, В свете факелов неверном Мы втроем – я, Дон Саладо И лобастая Инесса. На плечах моих – плащ белый, Алый крест застыл у сердца. А вокруг – не мавры, бесы — Легионы легионов! Обступили, обложили — Не уйти и не отбиться. Только слышу тихий голос, Как тогда, у перекрестка: «Их уж нет. Не бойся, рыцарь! Я всегда с тобою буду! Смерти нет для тех, кто верит, Смерти нет для тех, кто любит!» Отшатнулась бесов стая, Стрелы замерли в полете — И помчалась каравелла По реке Гвадалквивиру, По воде, от ливня мутной, Прямо к морю-океану. Смерти нет для тех, кто верит! Смерти нет для тех, кто любит!ХОРНАДА XL. О том, как прошли мы бар у Вальманрике
Очухался я, только когда Куло своего зловредного узрел. Тогда и понял: не сон, да и не бред тоже. Потому как больно у осла этого вид натуральный оказался. Грустный такой вид. Стоит на всех четырех, в доски вгруз, уши развесил – и даже сено не жует. Лежит перед ним охапка, а он только морду серую воротит.
Увидел меня – да как подпрыгнет, как завопит чуть ли не гласом человеческим. Потрепал я его по холке, по спине почесал – да и в себя приходить начал. Он, впрочем, тоже – тут же за сено принялся.
Одно дивно – откуда ему, серому, тут взяться? Неужто парни из Саары привезли, не поленились?
Выглянул я наружу (ох, и неудобно, маленькая каравелла, не протиснуться даже!), Хиральдой-Великаншей полюбовался, что все еще в небо упиралась, хоть и у самого горизонта.
Прощай, Севилья!
А как Хиральда крестом золотым в последний раз блеснула, тут уж и очнулся я – окончательно.
Очнулся – начал глаза пялить. Нрав у меня такой, любопытный.
На первый взгляд-то и пялиться не на что. На всяких судах ходил, всякие видел. И такие, как этот «Стяг Иисусов», тоже. Крохотная скорлупка, хоть и трехмачтовая, вместо палубы один лишь помост на носу да тольдилья на корме. Та, где козу спрятать можно.
Ну, это я сразу заметил, теперь же и кое-что новое унюхал. Потому как пахнет. Каковы на судне ароматы бывают, мне изъяснять не требуется: тут тебе и смола, и пенька, и тюфяки матросские, что под солнышком сушатся. И тут все это имеется, но и еще кое-что. Лимоны, например. Ну, с ними понятно, а вот отчего бессмертником пахнет? И так принюхался, и этак – бессмертник, да и только! Он-то тут зачем?
На команду и смотреть не стал – навидался я таких, просмоленных да ветрами продутых. А вот паруса удивили. Косые, ясное дело, латинские, на единственном квадратном, трео который, крест алый краской наляпан. Это ладно, а вот отчего идем так шустро? Послюнявил я палец для верности, над головой поднял. Так себе ветерок, хилый такой норд-ост, как раз в левую скулу. Но ведь летим! Летим, буруны пеним. Не иначе в Генуе каравеллу строили, потому как нашим такое диво не по рукам.
А напоследок вверх поглядел, туда, где «гнездо воронье» к верхушке грота присобачено. Просто так, для виду полного. Поглядел – и головой покачал. Флаг! Никогда такого не видел. Наш-то, красно-желтый со львами и башнями, я и ночью узнаю, и венецианский, красный со львом, и португальский, и английский даже. А тут непонятно. Синий вроде – или даже лазурный.
И тут дохнул норд-ост, флаг по ветру раздувая. Ахнул я: «J.C.» – золотом по лазури. Видел я в церкви такой, синий с литерами золотыми, на Пасху его выносят, так что не спутаю. «Иисус Христос» это значит. Вот отчего каравелла так зовется – «Стяг Иисусов»!
Да только чей это флаг? Неужто и вправду Его?
Решил я мыслями такими голову себе не сушить. Плывем – и плывем себе. До бара еще часа три, так что можно и не волноваться.
В смысле – пока.
– Начо! Начо!
А вот и рыцарь мой – на корме, со шкипером рядом. Цветет, довольный весь, бороду-мочалку оглаживает. И лобастая с ними – по сторонам глядит, наглядеться не может.
А в голове уже и вправду прояснилось. Сообразил я, отчего мы ушли, отчего живы. Не стреляла Эрмандада, грозила только. Видать, приказу не было. Точнее, был как раз: чтобы, значит, живыми. А сходни-то мы убрали – в тот самый миг, когда первый, старшой, видать, на них прыгнуть вздумал.
Не верхами же за нами по Гвадалквивиру гнаться!
А что померещилось всякое, так чему удивляться? И ночь не спал, и в голове карусель, словно на Табладо. Вот и увиделось.
…А ежели и вправду Она заглянула, так и хвала Ей, Заступнице! Значит, не проклят я еще, жива душа грешная!
И мы все живы.
– Начо! Начо!
Кивнул я, слышу, мол. Иду!
– В прошлый раз, как гостили вы в Анкоре, не стал отец упоминать о тяготах, что выпали на долю семьи нашей. Ни к чему это было. Ведь не с маврами нам бороться довелось, не с басками даже…
Негромко говорила лобастая, словно себе самой рассказывала. И на нас с Доном Саладо не глядела – вперед смотрела, в даль речную.
– Давно еще, до того, как я родилась, отец выступил против брака Изабеллы, в те дни еще инфанты кастильской, с Фердинандом Арагонским. Ведь браком этим нарушался договор Торрес-де-Гисандо, тот, что давал Кастилии нашей независимость, а Изабелле – права на корону. Мог ли отец поступить иначе, сеньоры? Но Беатриса де Бобадилья, устроившая сей брак, была лучшей подругой Изабеллы. Вскоре наши владения в Галисии и Эстремадуре конфисковали, отца лишили права заседать в Королевском Совете. Пришлось нам уехать в Анкору, назваться старой фамилией…
Не для меня Инесса рассказывала – для Дона Саладо. Я-то уже про всех этих Бобадилья слыхал. Потому и запомнил – фамилия приметная: Бо-ба-ди-лья. Почти как Ампуэро!
– Увы, отец не ошибся. Объединение с Арагоном разрушило кастильские вольности, Супрема дожигает все, что еще уцелело. Отец не выдержал – поехал в Вальядолид, переговорил с Ее Высочеством. Это ничего не дало, даже хуже. Бобадилья снова вспомнили о нас…
Слушал Дон Саладо, кивал сочувственно. Да и я слушал, хоть и вполуха. Все и так ясно – плохи дела у дона Хорхе, совсем плохи. Вот и решил хотя бы дочь спасти. А что к Дону Саладо ее направил, тоже понятно. Где еще такого честного дядьку найдешь?
…А все-таки платок этот! Откуда было лобастой знать, что я узлы развязал? Ведь так и сказала, знаю, мол.
Дернул я себя за ухо, мысли дурные прогоняя. Ну что за глупости тебе, Начо, на ум приходят? Живая девчонка рядом стоит – худая, лобастая, серьезная не по годам. А платок – подумаешь, платок! Легенда – да и все тут!
А если и не все даже? Кто знает-ведает, вдруг я узлами этими развязанными чего-то в мире Божьем изменил? Вдруг чудо свершилось? Взял я на себя грехи проклятые – и выжила сеньорита Инесса Новерадо тогда, в ночь Королевской Измены? Выжила, спаслась, внуков-правнуков дождалась? А потом и лобастая родилась – тоже Инесса? Или по-другому как получилось?
«Тебе решать, Игнасио. Тебе!»
Обернулся я – не слышит ли кто мысли мои глупые? Тоже мне, Начо-чудотворец! Глупость все это, как есть глупость. Она жива, я жив. И нечего мозги сушить!
Вдохнул я поглубже воздух свежий речной. Убедил? Вроде как.
Почти…
– Сколь печален ваш рассказ, прекрасная сеньорита, – качнул бородой Дон Саладо. – И сколь жаль, что благородный дон Хорхе, отец ваш, не смог присоединиться к нам…
– Он сказал, что не нарушит клятвы, – сжала губы лобастая. – Это древняя клятва рода Новерадо – его глава не покинет Кастилию, пока мавры еще ходят по нашей земле.
…Как в том древнем романсьеро: вечно будет дон Хорхе стеречь горы Сьерра-Мадре…
Фу-ты! И что это на ум такое лезет? Вроде ж белый день на дворе!
– Однако же не станем думать о прошлом, друзья! – воскликнул Дон Саладо, руку свою костлявую вверх поднимая. – О нем мы вспомним, когда преклоним колени на прекрасной земле – той, что ждет нас за морем-океаном. Сейчас же – вперед, к Терра Граале, к Земле Чаши Господней! Вперед, друзья!
– Вперьед! Ха-ха, это есть гууде! – рявкнул ван дер Грааф, ворочая рулем.
– Вперед! Вперед! – радостно подхватили матросы.
– Вперед, – одними губами шепнула Инесса.
Один я стоял столбом, глазами моргая. Ну, повелись все, вся честная компания! Эх, заразная хворь у Дона Саладо!
Значит, одному мне соображать придется. Ежели повезет, ежели бар проскочим да в море выйдем, сам к рулю стану. А там – курс вест, затем резко на норд, после – на норд-ост…
Дойдем! А в Лиссабоне сгружу всех на берег, ребят нужных разыщу, о работенке подумаю. Ведь и там у Калабрийца друзья имеются!
Но это послезавтра будет – коли в море прорвемся. А пока…
– Восславим же Господа нашего, Иисуса Христа! – продолжал рыцарь, очами сверкая. – Того, Кто путь нам указал, Того, Кто руку над нами простер!
– Славься, славься, Иисусе! – грянуло со всех сторон. – Славься, Господь наш! Стяг Иисусов! Стяг Иисусов!
Похолодел я даже от этого крика. Уж больно серьезно прозвучало – без всяких шуток.
А шкипер башкой мотнул, в руль ручищами вцепился, завел тяжелым басом:
Иисусе, бремя сними с души! Иисусе, от мерзости разреши! Подхватили, запели в дюжину голосов: Под сень десницы меня прими! Скверну мирскую с меня сними. Иисусе, страждет моя душа. Иисусе, дай дожить, не греша! В ноги пав, я молю, стеня: Грех мой великий сними с меня! Ты, Кто разбойника смог спасти, В землю Свою грешных нас пусти!И сам не заметил, как подпевать начал. А ведь и слов даже не знаю – сами собой вроде как рождаются.
И все-таки не прорвались мы!
Сразу я понял, как только Вальманрике, поселок рыбацкий, слева по борту остался. Поглядел я вперед.
Эх!…
Вроде бы как в кости играешь. Кинул – выпало, снова кинул – и опять повезло. Знаешь, что везение вот-вот лопнет, а все одно – ставки удваиваешь. Так я Куло своего, паршивца, у Пепе Одноглазого выиграл. Так то Куло, дурь ушастая!
А я и сам вроде Куло-Задницы. Потому как понимал – не башкой даже, печенкой своей чувствительной – не выпустят. И Супрема не отступится, и дон Фонсека не забудет. Несколько раз порывался шкипера попросить, чтобы к берегу свернул. Хоть бы у Альгабы или возле Кастеляра. Опасно, конечно, но не так все же. Стража королевская там редко бывает, а по суше до Бонанцы добраться можно, там у Косты гнездо прочное, помогут.
Хотел – да так и промолчал. На удачу понадеялся. А зря, выходит!
…Не одна галера, не две – пять! Огромные, черные, смотреть страшно. Грамотно стоят: две у берега, слева и справа, еще две – возле бурунов, где отмель, а одна, большая самая, – посередине, где проход.
Не уйдешь! Слыхал я, находились смельчаки, что по отмели на плоскодонках от стражи уходили. Так ведь на каравелле не прорвешься, да и не подойдешь даже. Ждут!
Поглядел я на рыцаря моего – усмехнулся Дон Саладо:
– Ничего, Начо! Разве не сильнее всего в мире доблесть рыцарская да вера наша христианская?
Не стал я отвечать – на галеру, ту, что на проходе самом стоит, взглянул. Ох, и чудище! Весел по три десятка на каждом борту, мачты в небо упираются, бомбарды рыла свои гадкие на нас уставили…
– Та-а! Вижу! – бодро откликнулся шкипер. – Это не есть гууде. Это есть королевский галер «Санта-Клара»…
Санта-Клара!
Закрыл я глаза. Судьба, Начо! Сказано ведь – от святой Клары смерть мне приключится. И сон был – с кораблем под флагом кастильским. От Супремы ушел, от Эрмандады ушел – а от этого не уйти.
Поздно.
И нечего глаза закрывать!
Грохнула бомбарда, окутался густым дымом черный борт, заплескались над мачтами флажки цветные.
– Нет-нет! – воскликнул ван дер Грааф. – Мы не будем есть стоять на место, мы будем идти вперьед! Та-а!
– Вперед! – крикнул Дон Саладо, кинжал-страдиот из-за пояса выхватывая. – Вперед!
Ударил ветер в паруса, зашумел, стяг с именем Иисусовым развернул.
– Все будет хорошо, Игнасио, – тихо-тихо проговорила Инесса.
…Не своим голосом словно – Ее голосом, Той, что меня не оставить обещала. Или снова чудится мне?
Улыбнулся я, на лобастую поглядел. Ничего, Начо, ничего, Белый Идальго! И хуже умирают!
А черная галера все ближе, ветер флаг королевский колышет, а у борта шлемы блещут, острия пик сверкают. Да только не понадобятся им пики. Вон, бомбарды наводят, фитилями дымят…
Посмотрел я Смерти прямо в рожу, в черные жерла-глаза…
…И словно иные глаза увидел. Глядела мне в лицо Тень Ночная – фра Томазо Торквемада кривил белые губы.
Не уйдешь, Гевара!
И другие глаза – совиные, круглые. Качал головой дон Хуан де Фонсека, о своем лучшем шпионе сожалея.
Не уйдешь, Начо!
И адским пламенем горел взгляд его сиятельства Федерико де Кордова. Горел-смеялся хохотом бесовским. Или ты от С-силы Букв уйти думал, Игнас-сио?
Не уйдешь, не спас-сешься! И других не с-спас-сешь! Ты – Ола! Вс-сесожжение, горелые кос-сти на углях, кровь на алтаре…
Ола! Ола! Ола!
Не уйдешь, Начо. Не уйдешь!!!
– Отчего же идем мы столь медленно, сеньоры? – вопросил Дон Саладо. – Что мешает нам? Что не пускает?
– О, та-а! – подхватил шкипер. – Идем мы медленно, потому как велик груз. Очень велик есть! Та-а!
Хоть и не до того мне было, а все же удивился. Какой еще груз? И куда идти быстрее? Под ядра?
А сам прямо смотрю – на «Санта-Клару», на смерть мою. Уже прицелились канониры – ждут. Чтобы наверняка, чтобы сразу – в щепки, в кровавые клочья!
…ОЛА!!!
– Но что это за груз такой? – недоуменно покрутил головою рыцарь. – Не вижу я…
– А я вижу, сеньоры! – внезапно проговорила Инесса Новерадо. – Наши грехи! Они вниз тянут. А потому пред ликом Господа и Девы Пресвятой каюсь – грешна. И да простится мне!
– Грешен я, Господи! – подхватил Дон Саладо, руку вверх поднимая. – Прости меня, недостойного!
– Грешен! – проревел ван дер Грааф. – Грешен я, майне Гот, майне либер Гот! Прости меня, та-а!
– Грешен! Грешен! Грешен! Грешен! – прокатилось по кораблю.
А у меня губы льдом подернуло. Как сказать? Всех прочих я грешнее, и не семь узлов на платке шелковом тому виной, а я сам, крови чужой не боявшийся, трусивший, предававший…
И ненавидевший! Ненавидевший, смерти другим желавший. Врагам, убийцам, людоедам – но желавший. Мне тоже нужна была Ола – кровь на алтаре, плоть на красных углях…
Не желай смерти, Начо!
НЕ ВОЗЖЕЛАЙ ОЛЫ!
Сжала рука Инессы мои пальцы – и словно отпустило что-то.
– Грешен я, Господи, – прошептал. – Прости, если сможешь…
И ударили бомбарды – прямо в лицо, прямо в глаза!
– Отчего же так море далеко, Дон Саладо?
– Оттого, что летим мы, Начо. Ибо сброшен груз, свободны мы отныне от грехов, и пустил Господь нас в небо Свое!
– Но ведь мы живы?
Улыбается рыцарь, улыбается Инесса, смеется ван дер Грааф, старый волк морской, весело скалятся матросы. Конечно, живы, а как же иначе?
Потер я лицо, за волосы свои белые дернул. Никак и вправду – жив?
Поглядел я на Инессу – усмехнулась мне лобастая. Вперед посмотрел…
– А что там вдали, сеньоры? Никак земля? Переглянулись идальго со шкипером, переглянулись, кивнули.
– Это она, Терра Граале, Начо! – молвил Алонсо Торибио-и-Ампуэро-и-Кихада. – Земля Чаши Святой. Взгляни внимательнее, увидишь!
Протер я глаза, всмотрелся…
…И она была прекрасна!
4 января – 14 февраля 2000 г.
День святого Валентина
ИСТОЧНИКИ, ИНТЕРВЬЮ, ОТКЛИКИ
Х.А.Льоренте ИСТОРИЯ ИСПАНСКОЙ ИНКВИЗИЦИИ (фрагменты)
Книга Льоренте давно уже считается классикой – и одновременно важнейшим источником по истории испанской инквизиции. Она ценна тем, что автор не только современник, но и участник событий. Вначале – деятельный сотрудник Супремы, а позже – приговоренный к тюремному заключению инквизиционным трибуналом, он после освобождения сумел собрать уникальный исторический материал и издать его в короткий период относительной свободы, наступивший в ходе Испанской революции. Печальный парадокс истории в том, что Льоренте был уверен: инквизиция – это уже прошлое. Но восстановленная в начале 1820-х годов Супрема продолжала сжигать еретиков и после смерти автора. Последний костер погас только в 1826 году.
Глава V. УЧРЕЖДЕНИЕ ТЕПЕРЕШНЕЙ ИНКВИЗИЦИИ В ИСПАНИИ
Статья первая. ПОЛОЖЕНИЕ ЕВРЕЕВ В НАЧАЛЕ ЦАРСТВОВАНИЯ ФЕРДИНАНДА V И ИЗАБЕЛЛЫ
I. В главе III мы видели, каково было положение инквизиции в королевстве Арагонском, когда эта страна была соединена с Кастилией через брак Фердинанда с Изабеллой, по смерти Энрико IV. Трибунал инквизиции был тогда введен в эту монархию, подвергшись предварительно реформе посредством статутов и регламентов столь суровых, что арагонцы сильно воспротивились новому ярму, которое хотели на них наложить, хотя они давно привыкли переносить старое иго.
II. Это была та самая инквизиция, которая господствовала в Испании с 1481 года до нашего века; та самая, уничтожение которой во удовлетворение всей Европы мы видели; та самая, наконец, которая только что восстановлена, к великому сожалению всех испанцев, друзей просвещения, и историю которой я предпринял писать на основании документов, доставленных мне ее собственными архивами и переданными в мое распоряжение правительственным приказом.
III. Война с альбигойцами была предлогом, послужившим папам для учреждения прежней инквизиции. Что касается теперешней, то для введения ее послужила якобы необходимость наказать отступничество новообращенных испанских евреев.
IV. Важно заметить, что огромная торговля, которую вели испанские евреи, передала в течение XIV века в их руки наибольшую часть богатств полуострова и что они приобрели благодаря этому большую сипу и влияние на управление в Кастилии в царствование Альфонса XI [291], Педро I [292] и Генриха II [293] и в Арагоне при Педро II [294] и Хуане I [295].
V. Христиане, которые не могли с ними соперничать в промышленности, почти все стали их должниками, и зависть не замедлила сделать их врагами своих заимодавцев. Такое настроение было подстрекаемо и старательно поддерживаемо людьми, проникнутыми плохими, своекорыстными намерениями; в результате часто происходили ожесточенные споры, перебранки и народные волнения почти во всех городах двух королевств вплоть до Наварры.
VI. В 1391 году народная ярость умертвила в городах более пяти тысяч евреев. Было известно, что некоторые из них избегли смерти, сделавшись христианами. Другие в большом количестве искали спасения, подражая им, и церкви наполнились евреями обоего пола, всякого возраста и положения, которые спешили принять крещение. В короткое время более ста тысяч семейств, то есть, быть может, миллион человек, отказались от закона Моисеева, чтобы принять веру Иисуса Христа.
VII. Число обращений значительно возросло в течение первого десятилетия XV века благодаря рвению св. Висенте Ферреры и некоторых других миссионеров, которые в момент вышеупомянутого возмущения начали произносить проповеди против иудейского закона, чтобы побудить следовавших ему оставить его.
VIII. Им помогли происходившие в 1413 году знаменитые диспуты между некоторыми раввинами и обращенным евреем Иеронимо де Санта-Фе [296], врачом антипапы Педро де Луны, называвшего себя Бенедиктом XIII, в присутствии этого первосвященника, приехавшего в Тортосу.
IX. Все эти новообращенные евреи обозначались названием новых христиан, или новохристиан, потому что они лишь недавно приняли христианство. Народ звал их также обращенными, как переменивших веру, и исповедниками, потому что, делаясь христианами, они исповедали упразднение закона Моисеева.
X. Евреи между собою как бранное слово употребляли еврейское выражение мараны (marranos), происходящее от искажения слов маран-афа (maran-atha), что значит Господь наш пришел [297]. Вследствие этого не новохристиане (коренные христиане) из презрения называли новых христиан поколением маранов или проклятой расой.
XI. Наконец, им давали также имя евреев, потому что их смешивали еще с теми, которые не переставали быть евреями, и это обыкновение сделалось тем более всеобщим, чем число крещеных евреев, возвращавшихся к иудаизму, было более значительным.
XII. Ввиду того, что страх смерти являлся более побудительной причиной обращения этих новохристиан, чем истинное убеждение, а надежда разделить с христианами общественные места и должности также привела большое число их к просьбе о крещении, многие из них раскаялись в отречении от прежней веры и вернулись к иудаизму тайно, сообразуя тем не менее свое внешнее поведение с поведением остальных христиан.
XIII. Принуждение, которому их заставляли подчиняться, было для них слишком тягостно. Многие из них были опознаны; это послужило мотивом, по видимости религиозным, который побудил Фердинанда V приказать учредить трибунал, дававший ему возможность конфисковать многие имущества. Сикст IV не мог его не одобрить, потому что введение его должно было увеличить влияние ультрамонтанских принципов, то есть власти святого престола. Этому двойному замыслу, скрытому под видимостью рвения к защите веры, испанская инквизиция обязана своим происхождением.
XIV. Вопреки мнению некоторых историков, достоверно известно, что ни кардиналы Хименес де Сиснерос [298] и Мендоса [299], ни даже сам Томас Торквемада [300] (ставший впоследствии столь знаменитым как великий инквизитор) не принимали участия в этом предприятии, и римская курия и Фердинанд V воспользовались для этого некоторыми другими учениками св. Доминика.
Статья четвертая. ПЕРВЫЕ КАЗНИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ
I. Средства, столь пригодные для умножения числа жертв, не могли не произвести ожидаемого от них эффекта. Поэтому трибунал начал вскоре свои жестокие экзекуции. 6 января 1481 года он приказал сжечь шесть осужденных, 26 марта того же года семнадцать, а месяцем позже еще большее число. 4 ноября того же года двести девяносто восемь новохристиан уже подверглись казни сожжения, семьдесят девять обвиняемых были ввергнуты в ужасы пожизненного заключения, и все это произошло в одном городе Севилье, на жителей которой пали первые удары кровавого трибунала. В других частях провинции и в епархии Кадикса, по сообщению Марионы, две тысячи этих несчастных были преданы огню в 1481 году; другие в большом числе, за отсутствием их, были казнены фигурально [322], и семнадцать тысяч подверглись различным каноническим карам {Мариона. История Испании. Кн. 24. Гл. 17.}. Среди тех, кто погиб в пламени, мы встречаем значительных людей и много богачей, состояние коих стало добычей казны.
II. Большое количество осужденных, подвергавшихся сожжению, вынудило префекта Севильи построить на поле, называемом Таблада [323], постоянный каменный эшафот, который сохранился до наших дней под именем Кемадеро [324] и на котором воздвигались четыре большие каменные статуи четырех пророков. Новохристиане, отпавшие от веры и закоренелые в отступничестве, замуровывались в этих изображениях заживо и там погибали, поджариваясь от пламени общего костра {После опубликования этого тома меня уверяли, что лица, присужденные к сожжению, только привязывались к статуям четырех пророков, а не замуровывались внутри их. Андрее Бернальдес, современный писатель и очевидец, от которого я почерпнул этот факт, не выражается достаточно ясно, чтобы рассеять все наши сомнения. Однако я очень охотно допускаю новое сообщенное мне мнение как менее противоречащее законам гуманности.}, постепенно нагревавшего каменные изваяния пророков.
Кто из людей осмелится объявить, что это наказание, наложенное за простое заблуждение разума, соответствовало духу Евангелия?
III. Страх, внушаемый подобными казнями новохристианам, заставил бесчисленное множество их эмигрировать во Францию, в Португалию и даже в Африку. Многие, осужденные заочно, спаслись в Рим и там просили у папы правосудия против своих судей. Верховный первосвященник писал об этом 29 января Фердинанду и Изабелле. Он жаловался на то, что два инквизитора, Мигуэль Морильо и Хуан де Сан-Мартино, не следуют правилам закона, объявляя еретиками тех, кто ими не был. Его святейшество прибавлял, что он отрешил бы их от должности, если бы не имел уважения к королевскому декрету, который их поставил на место; тем не менее он отменяет данное им полномочие на назначение других лиц, за исключением того случая, когда найдутся люди, способные к этим обязанностям, среди назначенных генералом и провинциалом доминиканцев, которым одним принадлежит эта привилегия; привилегия, посланная королю и королеве, относилась лишь к отправлявшим ее лицам {Писатель, скопировавший эту буллу из сборника, составленного в 1566 году Франциском Гонсалесом де Лумбрерасом, ошибся насчет даты этого бреве, проставив 1481 год – время менее всего верное, потому что приводимые в нем факты не могли иметь место с тех пор, как инквизиторы вступили в должность. Эти ошибки в дате иногда зависят от способа исчисления годов понтификата, которые начинались с самого дня избрания пап. Бреве, о котором идет речь, было отправлено на одиннадцатом году папства Сикста IV, которое началось 9 августа 1471 года, и, следовательно, истинную дату этого документа надлежит отнести к 29 января 1482 года. Та же двусмысленность наблюдается во многих других бреве, которые я буду иметь случай цитировать; я предупреждаю об этом читателя, чтобы он не удивлялся разнице, которую заметит между датами этой Истории и датами собрания Лумбрераса, которым я пользовался.}.
IV. Поразительно, как Фердинанд и Изабелла могли стерпеть оскорбление, сделанное им римской курией, решение которой, вопреки их власти, благоприятствовало генералу и провинциалу доминиканцев. Как ни был этот поступок возмутителен, папа пошел еще дальше. 11 февраля следующего года он отправил новое бреве, в котором, не упоминая о первом бреве, он говорил, что так как генерал доминиканцев Альфонсо де Сан-Себриано доказал ему необходимость увеличить число инквизиторов, он счел необходимым призвать к этим обязанностям самого дона Альфонсо и других монахов его ордена, Педро де Оканью, Педро Марильо, Хуана де Сан-Доминго, Хуана де Сан-Эспириту, Родриго де Сегарру, Томаса Торквемаду и Бернардо де Санта-Мариа, и что он отправил этим монахам мандаты, чтобы они немедленно вступили в исполнение своих обязанностей вместе с епархиальными епископами [325] при соблюдении процедуры согласно с другим специально на этот предмет данным бреве.
V. Я не мог найти этого другого документа; но вероятно, что он был подписан, как и первый, 17 апреля и послан в одно и то же время инквизиторам Арагона. Эта процедура нарушала так открыто законы уголовного права, что тотчас же дала повод к бесконечному количеству жалоб. Король счел себя даже вынужденным написать об этом папе. Ответ папы гласил, что булла была послана на основании мнений нескольких кардиналов, которые из страха чумы принуждены были уехать из Рима; что дело будет передано им для пересмотра после их возвращения и что пока он разрешает приостановить исполнение бреве от 17 апреля, лишь бы инквизиторы сообразовались при исполнении своей должности с уголовным правом и апостолическими буллами, в согласии с епархиальным епископом.
VI. В это именно время королева Изабелла просила папу дать новому трибуналу устойчивую форму, способную удовлетворить всех. Она просила, чтобы судебные решения, вынесенные в Испании, были окончательными и не допускали апелляции в Рим; в то же время она жаловалась, что многие усиленно распространяют про нее слух, будто все сделанное ею для трибунала имело в виду лишь овладение имуществом осужденных.
VII. Когда Сикст IV получил письмо Изабеллы, он узнал, что буллы, посланные им в Сицилию по делам инквизиции, встретили там сопротивление со стороны вице-короля и высших должностных лиц королевства. Папа сумел ловко извлечь выгоду для обеспечения своей власти в Сицилии из просьбы Изабеллы, с которой она только что обратилась. 23 февраля 1483 года он ответил королеве. Он похвалил ее рвение к инквизиции и утишил угрызения ее совести по вопросу о конфискациях. Он уверял ее, что исполнил бы все, о чем она его просила, если бы кардинал и мудрые люди, управляющие делами, не находили для этого непреодолимых препятствий. Папа умолял королеву продолжать поддерживать инквизицию в своих владениях и в особенности сделать нужные распоряжения для принятия и исполнения апостолических булл в Сицилии.
VIII. Среди параграфов этого письма особенно замечателен тот, где папа заявляет, что он сильно желает видеть учреждение инквизиции в Кастильском королевстве. Такое желание папы не вызывает удивления, когда изучаешь в истории церкви обычную систему римской курии. Но важно знать, что Сикст IV делает в этом признание, потому что оно подтверждает сказанное нами о старании апостолического легата Никколо Франко покровительствовать, как он делал это пять лет тому назад, учреждению этого трибунала в Кастилии.
IX. Папа, верный обещанию, данному им Изабелле, передал предложение этой государыни на рассмотрение многих важных особ Испании, которые были тогда в Риме, и особенно кардинала Родриго де Борхи (который был потом папой под именем Александра VI Борджиа); [326] кардинала церкви Св. Пракседы [327] дома Хуана де Мельи (брата еретика Альфонсо де Мельи, о котором мы говорили и который был сожжен в изображении после того, как убежал в Гранаду к маврам); кардинала дома Ауксиаса Деспуига из Майорки, архиепископа Монреаля в Сицилии; кардинала дома Рафаэле Галеото-и-Риарио, племянника папы и епископа Осмы, в Испании; епископа Хероны дома Хуана де Молеса Маргарита (который потом был кардиналом) и Гонсало де Вильядиего, испанского капеллана [328] папы, а позднее епископа Овиедо.
X. Все эти советники одобрили создание должности апостолического апелляционного судьи для Испании, которому будет поручено выносить решения на все апелляции против судебных приговоров, сделанных инквизицией. Одновременно они постановили не допускать в среду судей и к делам святого трибунала ни одного епископа, ни наместника или генерального викария, происходящих от евреев, все равно по мужской или по женской линии, и, наконец, при помощи разных форменных бреве установить другие пункты, относящиеся к тому же делу.
XI. Первое из этих бреве было адресовано Фердинанду и Изабелле. Папа говорил, что вопрос этот был зрело обсужден им самим и его советниками, что он решил назначить дома Иньиго Манрике, архиепископа Севильи, единственным апелляционным судьей по делам веры, и он дал повеления, позволяющие ему надеяться, что поведение инквизиции не даст более повода ни к какой жалобе. Он убедительно просил обоих государей продолжать с рвением начатое ими дело, напоминая им, что Иисус Христос укрепил свое царство на земле разрушением идолопоклонства, и уверял их, что победа, одержанная ими над маврами, являлась наградою за их любовь к чистоте веры и что в настоящих условиях им предстоят не менее славные успехи. Папа прибавлял, что дурное поведение Кристовала Гальвеса, инквизитора Валенсии, известно всем, что его бесстыдство и его нечестие заслуживают примерного наказания; однако он удовольствовался лишением его должности, поручая Фердинанду и Изабелле назначить ему преемника, которому он с момента его назначения дарует юрисдикцию и необходимые полномочия.
XII. Что касается инквизитора Гальвеса, то Сурита рассказывает в своей Летописи Арагона, что Фердинанд написал уже папе 20 мая того же года через своего посла в Риме дона Гонсало Бетета на него жалобу и просьбу о лишении его должности. Таким образом оба государя были осведомлены в то же время о намерениях папы по отношению к инквизитору. Что думать о таком человеке, как Гальвес, когда видишь, что его называют нечестивым те самые лица, которые одобряют жестокость порученной ему обязанности?
XIII. Второе папское бреве датировано 25 мая. Оно было адресовано архиепископу Севильи Манрике, которого Его Святейшество назначил апелляционным судьей по делам испанской инквизиции. Это бреве предлагало ему просить Фердинанда и Изабеллу одобрить отставку Гальвеса. Это доказывает старание Сикста IV щадить расположение обоих государей. В этой политике папы нет ничего такого, что могло бы нас поразить. Ввиду того, что он был заинтересован в удаче дела инквизиции в Испании и Сицилии и предвидел не без основания, что оно явится для него обильным источником богатств, он и применял крайнюю осторожность по отношению к королю и королеве, чтобы сохранить свой авторитет.
XIV. Третьим бреве, адресованным дому Альфонсо де Фонсеке, архиепископу Сант-Яго, папа указывал этому прелату, что в интересах успешной деятельности инквизиции и во избежание всякого рода жалоб следовало бы всякому епископу, происходящему от предков евреев, воздерживаться от обязанностей судьи в процессах, касающихся веры, которые будут предприняты в его епархии, и назначать епархиальным инквизитором своего главного официального наместника и генерального викария, если они сами не подлежат вышеуказанному отводу. В противном случае его выбор должен пасть на другое духовное лицо, против которого не существует никакого повода для подобного отвода. Затем папа поручал архиепископу сообщить это решение всем епископам церковной провинции Кампостело, чтобы они с этим сообразовались в своих епархиях. Если же кто-нибудь воспротивится этой мере, папа уполномочивает его самого назначить епархиального инквизитора, которому он своим бреве давал необходимые полномочия, чтобы епископ не мог воспользоваться своею властью назначить другое лицо.
XV. Папа направил кардиналу архиепископу Толедо дому Педро Гонсалесу де Мендосе четвертое бреве, предписывающее ему держаться того же поведения, как с епископами, и относительно высших духовных лиц Толедо и Сарагосы. Можно думать, что подобные же бреве были разосланы архиепископам Севильи и Таррагоны, хотя история и не говорит ничего определенного об этом. Быть может, покажется странным, что это поручение в части, касающейся епархии Сарагосы, было дано кардиналу Мендосе; но надо знать, что архиепископством этого города обладал тогда под названием пожизненного администратора четырнадцатилетний мальчик дон Альфонсо Арагонский, внебрачный сын Фердинанда.
XVI. Назначение дома Иньиго Манрике, архиепископа Севильи, на должность апелляционного судьи казалось полезным, потому что оно препятствовало жителям и деньгам Испании утекать из королевства. Поэтому римская курия вскоре собралась сделать его недействительным. Она продолжала принимать апелляции, с которыми к ней обращалось множество испанцев, как будто булла, поставившая Манрике на должность, была уже объявлена потерявшей силу.
XVII. 2 августа этого года папа отправил другое послание, по собственному побуждению для постоянного напоминания (motu proprio ad perpetuam rei memoriam), которое доказывает одновременно несправедливость, с какой велись дела инквизиции, а также и то, как мало можно было доверять заявлениям римской курии. Ибо мы видим, что в течение двух месяцев, прошедших между обнародованием этих двух документов, в апостолическом секретариате были приняты все испрашиваемые апелляции, как будто буллы от 25 мая, запрещавшей их, не существовало. Его Святейшество говорил в этом новом послании, что он принял многих севильских испанцев, которые доложили ему, что не могут предстать перед апелляционным судьей, который не преминул бы поступить с ними еще суровее, чем сам закон, и что они не осмеливаются вернуться в Севилью из опасения, что их арестуют и посадят в тюрьму. Папа писал далее, что некоторые из них получили отпущение в апостолическом пенитенциарном суде, а другие были готовы его получить; что он осведомлен, что милости, дарованные недавно святым престолом, были сочтены в Севилье недействительными и что там продолжают процессы некоторых из этих испанцев, тогда как другие уже сожжены фигурально и были бы сожжены живьем, если бы вернулись в Испанию. Принимая все происшедшее во внимание, он поручил аудиторам апостолического дворца обсудить апелляции обвиняемых, невзирая на право, предоставленное архиепископу Севильи, и сверх того приказал, чтобы данные пенитенциарным судом отпущения имели силу наравне с выданными им мандатами. Папа объявлял, что начатые против этих лиц процессы должны считаться законченными, и повелевал архиепископу Севильи и другим прелатам Испании и тем испанским прелатам, которые жили в Риме, допустить к частному примирению с Церковью (наложив тайную епитимью) всех, кто его будет испрашивать, хотя бы они были обесчещены, преданы суду, уличены и присуждены окончательно к сожжению. Они должны были также оправдать виновных, которые явятся с мандатами на этот предмет, смотреть как на оправданных на всех, уже получивших отпущение от апостолического пенитенциарного суда, и охранять их от всех властей, которые стали бы их преследовать. Папа говорил Фердинанду и Изабелле, что сострадание к виновным более приятно Богу, чем строгость, которую хотели к ним применить, как это доказывает пример доброго пастыря в Евангелии, который бежит искать заблудшую овцу. Вследствие этого он обязывает их обращаться благосклонно с теми из их подданных, которые сделали бы добровольные признания, позволяя им оставаться в Севилье или в других местах их владений и пользоваться там всем своим имуществом, как если бы они никогда не впадали в ересь.
XVIII. Последняя булла, очевидно, противоречила всему тому, что папа установил, по совету кардиналов, буллой от 25 мая. Однако подобное соображение не могло удержать римскую курию. Обстоятельства жизни позволяли все более обогащаться через новохристиан Испании, и эта выгода казалась папе слишком ценной, чтобы продолжать держаться своих собственных декретов. Тем не менее, не будучи в состоянии скрыть от себя дурное впечатление, которое произвела эта булла, и предвидя, что Фердинанд не преминет на нее пожаловаться, он написал ему 13 августа, что, признав отправку буллы слишком поспешной, он счел уместным ее взять обратно. Но при каких обстоятельствах папа принял это решение? Когда несчастные новохристиане, ограбленные и обманутые римской курией, безуспешно требовали возврата стоимости тех отпущений, которые им были ею дарованы.
XIX. Хуан из Севильи, один из тех, кто содействовал получению этой буллы, представил ее 7 января 1484 года дому Гарсии де Менесесу, архиепископу Эворы [329] в Португалии, прося, чтобы, согласно находящейся в ней статье, с нее была бы снята заверенная копия, которая могла бы служить оригиналом для всех тех, кто хотел бы заставить признать ее силу перед судьями инквизиции в Севилье или в других городах королевства. Архиепископ поручил Нуньо Льоренте, священнику Эворы, нотариусу своей епархии, предоставлять заверенные копии с этой буллы всем, кто будет их спрашивать, признавая их имеющими силу, удостоверив, что в подлиннике нет никакой ошибки и никакого указания, которое могло бы заставить считать его фальшивым или поддельным.
XX. Этот поступок архиепископа оказался бесполезным. Хуан из Севильи и другие осужденные заочно были вынуждены явиться к апелляционному судье дому Иньиго Манрике и подверглись роковой судьбе, которую легко было предвидеть на основании царившего тогда духа. Фердинанд был очень доволен при виде упрочения системы конфискаций, а инквизиторы, со своей стороны, были слишком заинтересованы, чтобы их способ судопроизводства не казался неправильным. Один папа мог исправить это столь великое дело, подтвердив распоряжения последней буллы; но он боялся не угодить Фердинанду в таком щекотливом деле, хотя и признал несколько раз несправедливость и жестокость инквизиторов. Он подумал лишь о том, чтобы дать испанской инквизиции устойчивую форму, и достиг этого в том же году, как мы вскоре увидим.
Глава VIII. ИЗГНАНИЕ ЕВРЕЕВ. ПРОЦЕССЫ, ВОЗБУЖДЕННЫЕ ПРОТИВ ЕПИСКОПОВ. СТОЛКНОВЕНИЕ ЮРИСДИКЦИИ. СМЕРТЬ ТОРКВЕМАДЫ; ИСЧИСЛЕНИЕ ЕГО ЖЕРТВ. ЕГО ХАРАКТЕР, ВЛИЯНИЕ ЕГО НА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЛА ИНКВИЗИЦИИ
Статья первая. ИЗГНАНИЕ ЕВРЕЕВ
I. В 1492 году Фердинанд и Изабелла завоевали королевство Гранада. Это событие доставило новые жертвы инквизиции: огромное множество мавров приняло христианскую веру притворно или совершенно поверхностно; в основе их обращения в новую религию лежало желание снискать уважение победителей; крестившись, они вновь стали исповедовать магометанство.
II. Джованни де Наваджьеро, посол Венецианской республики [371] при Карле V, говорит в своем Путешествии по Испании, будто Фердинанд и Изабелла обещали, что в течение сорока лет инквизиция не будет вмешиваться в дела морисков, то есть новохристиан, покинувших магометанство. Однако инквизиция все-таки была учреждена в Гранаде под тем предлогом, что туда скрылось много прежних евреев, подозреваемых в отступничестве. Джованни де Наваджьеро неточно передает обстоятельства дела. Известно, что Фердинанд и Изабелла обещали только не преследовать новохристиан морисков, за исключением серьезных случаев. И действительно, преследование не носило постоянного характера, так что у морисков не было основания напоминать о данном обещании преследовать их лишь в исключительных случаях. Главный инквизитор не осмеливался ни оспаривать, ни обходить королевский указ, запрещавший инквизиторам Кордовы расширять их юрисдикцию в королевстве Гранада, и указ этот исполнялся до 1526 года, когда трибунал инквизиции появился и в этой области по мотивам, о которых я вскоре расскажу.
III. В 1492 году некрещеные евреи были изгнаны из Испанского королевства. Участие в этом деле Торквемады и других инквизиторов обязывает меня войти в некоторые подробности. Евреев обвиняли в подстрекательстве к вероотступничеству тех, кто стал христианином; им приписывали много преступлений, совершенных не только против христиан, но и против религии и спокойствия государства. Вспоминали закон из так называемого Свода частей [372], изданный в 1255 году Альфонсом X, в котором говорится об обычае евреев похищать христианских детей и распинать их в Великую пятницу для осмеяния воспоминаний о Спасителе мира. Рассказывали историю св. Доминика де Валя, ребенка из Сарагосы, который был распят в 1250 году [373]. Толковали о краже священной гостии в Сеговии в 1406 году и об издевательствах евреев над ней.
Говорили о заговоре, организованном в Толедо в 1445 году, причем должны были последовать пороховые взрывы на улицах города во время процессии в праздник Святого таинства; [374] о заговоре в Таваре, местечке между Саморой и Бенавенте [375], где видели, как евреи разбрасывали железные капканы [376] по улицам, по которым жители должны были бежать без обуви среди пожара, охватившего их дома. Вспоминали мученическую смерть других детей, похищенных и умерщвленных ими подобно Сыну Божию: в 1452 году в Вальядолиде; в 1454 году на земле маркиза д'Альмарса близ Саморы; в 1468 году в Сепульведе, в епархии Сеговии. Припоминали издевательства над крестом в 1488 году на поле Убежище лани (Puerto del gamo), между местечками Касар и Гранадипья, в епархии Корин; [377] похищение ребенка из города Ла-Гуардия [378], в провинции Ла-Манча [379], в 1489 году и его распятие в 1490 году; попытку подобного же преступления в Валенсии, которому помешало совершиться правосудие. К этим обвинениям прибавляли еще другие в том же роде. Обвиняли врачей, хирургов и аптекарей из евреев в злоупотреблении профессией для причинения смерти множеству христиан; между прочим, смерть короля Энрике III приписывали его врачу Маиру.
IV. Я не знаю, какого доверия заслуживают приводившиеся доказательства этих преступлений. Но если даже допустить, что имелись основания считать их истинными, то отсюда никоим образом не вытекала необходимость изгнания всех евреев из королевства. Религия и политика обязывали обращаться с ними с кротостью и отдавать их хорошему поведению уважение, в котором не отказывали христианам, и карать лишь тех, кто был виновен в каком-нибудь преступлении, как в таком случае поступили бы с испанцами, изобличенными в убийстве или каком-либо другом преступлении. Презрение и дурное обращение христиан естественно вызывали чувство мести со стороны евреев и заставляли их проникаться страшной ненавистью к гонителям. Если бы Испания проводила в отношении евреев иную политику, она превратила бы их в новых людей, похожих на тех потомков испанских евреев, которые, поселившись в разных европейских странах, считаются ныне там полезными, хорошими и спокойными гражданами, потому что их там не унижают и никто их оттуда не изгоняет.
V. Испанские евреи знали об угрожавшей им опасности. Будучи убеждены, что для предотвращения ее достаточно предложить Фердинанду деньги, они обязались доставить тридцать тысяч дукатов на издержки по войне с Гранадой, которая как раз в это время была предпринята Испанией; кроме того, евреи взяли на себя обязанность не давать никакого повода к тревоге правительства и сообразоваться с предписаниями закона о них, жить в отдельных от христиан кварталах, возвращаться до ночи в свои дома и воздерживаться от некоторых профессий, предоставленных только христианам. Фердинанд и Изабелла готовы были отнестись благожелательно к этим предложениям, но Торквемада был извещен обо всем. Этот фанатик имел дерзость явиться с распятием в руке к государям и сказать им: «Иуда первый продал своего Господа за тридцать сребреников; Ваши Высочества думают продать его вторично за тридцать тысяч монет. Вот он, возьмите его и поторопитесь продать». Фанатизм доминиканца произвел внезапный поворот в душе Фердинанда и Изабеллы. 31 марта 1492 года они издали декрет, которым все евреи, мужского и женского пола, обязывались покинуть Испанию до 31 июля того же года под угрозой смерти и потери имущества. Декрет запрещал христианам укрывать кого-либо в своих домах после этого срока под угрозой тех же наказаний. Евреям было разрешено продавать свои земельные угодья, брать с собой движимое имущество и другие вещи, кроме золота и серебра, вместо которых они должны были получать векселя или незапрещенные товары {Сборник булл и законов, напечатанный в Толедо в 1550 году. Закон 3-й.}.
VI. Торквемада поручил проповедникам увещевать евреев принимать крещение и не покидать королевства; он опубликовал даже эдикт для побуждения их к этому. Меньшинство дало себя убедить и приняло христианство. Другие продавали свое имущество и отдавали его по такой низкой цене, что Андрее Бернальдес, священник из Лос-
Паласиоса, деревни, соседней с Севильей, передает в своей Истории католических королей, что евреи отдавали дом за осла и виноградник за малое количество сукна и полотна. Этому нечего удивляться, если принять в соображение данный им короткий срок для оставления королевства.
VII. Эта мера, внушенная жестокостью, а не усердием к религии, заставила покинуть Испанию до восьмисот тысяч евреев, по подсчету Марионы {Мариона. История Испании. Кн. 26. Гл. I.}. Если сюда присоединить выселение мавров из Гранады в Африку и эмиграцию множества христиан Испании в Новый Свет, мы найдем, что Фердинанд и Изабелла потеряли два миллиона подданных и что для теперешнего народонаселения Испании это равняется потере по крайней мере шести миллионов людей.
VIII. Бернальдес уверяет, что, несмотря на запрещение, евреи унесли с собой большое количество золота, запрятанного во вьюках, седлах и других потайных местах, даже в собственных кишках. Это было засвидетельствовано при вскрытии трупов некоторых евреев, которые, превратив в порошок золотые монеты, известные под именем дукатов и крестовиков (cruzados), проглотили их, чтобы получить их обратно по ту сторону границы.
IX. Несколько судов, перевозивших евреев в Африку, были захвачены бурей и принуждены были причалить у Картахены. Полтораста изгнанников высадились здесь и решили принять крещение. Когда же эти корабли пришли в Малагу [380], четыреста евреев там приняли христианство. Прибыв в порт Арсилья в Африке, подвластный Португалии, многие из изгнанных евреев просили и получили крещение. Некоторые вернулись в Андалусию и здесь проявили тоже желание стать христианами. Историк Бернальдес крестил сотню их. Они вернулись из королевства Фец [381], где мавры отняли у них вещи и деньги, даже убивали женщин, так как думали найти в их внутренностях золото.
X. Эти ужасные покушения на божественный закон и последовавшие несчастья могут быть приписаны только фанатизму Торквемады, жадности и суеверию Фердинанда, ложным идеям и неразумному усердию, внушенным Изабелле, которой история не может отказать в душевной мягкости и просвещенном уме.
XI. Другие европейские дворы сумели воспротивиться фанатизму и не придали никакого значения булле от 3 апреля 1487 года, испрошенной у Иннокентия VIII Фердинандом и Изабеллой. Этой буллой приказывалось правительствам арестовать, по простому указанию Торквемады, всех беглецов, обозначенных им, и отослать их к инквизиторам, под угрозой верховного отлучения ослушников; только государь не подвергался анафеме. Кто дерзнет дать имя ревности по вере преследованию, отыскивающему свои жертвы на далеком расстоянии среди людей, подвергшихся путем изгнания столь жестокой каре, какой является отказ от надежды когда-либо вернуться на родину? Подобные меры могла диктовать только жестокость.
XII. Это видно из обхождения Фердинанда с двенадцатью евреями, найденными в Малаге, когда этот город был отнят у мавров 18 августа 1487 года. Государь приказал их забить до смерти заостренными палками. Мавры подвергали этому наказанию виновных в оскорблении величества, как самому ужасному по медленности, с которой умирали обреченные. Некоторые из этих несчастных были сожжены {Лаленья. История Малаги. Т. III, беседа 26; Сурита. Летопись Арагона. Кн. 20. Гл. 71.}.
Статья четвертая. ПОДСЧЕТ ЖЕРТВ ТОРКВЕМАДЫ
{Окончательный подсчет жертв находится в главе XLVI 2-го тома. Я предпочитаю тот подсчет этому только потому, что он умереннее, но я не могу утверждать, что он более точен.}
I. Томас де Торквемада, первый главный инквизитор Испании, умер 16 сентября 1498 года. Его злоупотребление своими безмерными полномочиями должно было бы заставить отказаться от мысли дать ему преемника и даже уничтожить кровавый трибунал, столь несовместимый с евангельской кротостью. Надо согласиться, что число жертв за восемнадцать лет с его утверждения достаточно оправдывало эту меру. Я думаю, что не выйду из границ намеченной цели, установив здесь их подсчет.
II. Образ действий некоторых инквизиций, в частности толедской и сарагосской, и предположение, что точно так же дело происходило и в других местах, приводит к мысли, что каждый трибунал должен был справлять ежегодно по крайней мере четыре аутодафе, чтобы уменьшить расходы по содержанию неимущих узников. Однако эти данные недостаточны для точного определения числа несчастных, которых погубил Торквемада. Надо прибегнуть к методу приближения.
III. Хуан де Мариона утверждает на основании старинных рукописей, что в первый год инквизиции в Севилье сожгли две тысячи человек, что такое же число было сожжено фигурально и что семнадцать тысяч человек подверглись публичному покаянию. Я мог бы говорить без боязни преувеличения, что другие трибуналы осудили столько же лиц в первый год своего учреждения; но я уменьшу это число в десять раз, потому что доносы свирепствовали в Севилье сильнее, чем в других местах.
IV. Андрее Бернальдес, историк этой эпохи, говорит, что с начала 1482 года включительно по 1489 год в Севилье было сожжено семьсот человек и более пяти тысяч подверглись епитимьям, не считая фигуральных сожжений. Я предположу, что число последних равнялось половине сожженных живьем, хотя иногда оно бывало значительно больше.
V. По этому предположению в каждый год отмеченного периода восемьдесят восемь человек осуждалось на сожжение живьем, сорок четыре сжигалось фигурально и шестьсот двадцать пять подвергалось публичному покаянию в одном только городе Севилье. Этот расчет доводит итог жертв инквизиции до семисот пятидесяти семи человек.
VI. Я думаю, что такое число их было и во второй и в последующие годы во всех других инквизициях. Я основываю свое мнение на том, что не встречаю ничего противоречащего этому утверждению. Во всяком случае, я уменьшу число наполовину.
VII. В 1524 году на здании севильской инквизиции поместили надпись, из которой явствует, что со времени изгнания евреев, происшедшего в 1492 году, до этого года было сожжено около тысячи человек и более двадцати тысяч было присуждено к епитимьям. Вот текст этой надписи:
«Anno Domini millessimo quadringentessimo octogessimo primo, Sixto IVpontifice maximo, Ferdinando V et Elisabeth, Hispaniarum et utriusque Siciliae regibus catholicis, Sacrum Inquisitionis Officium contra haereticos judaizantes ad fidei ex-altationem hie exordium sumpsit. Ubi post Judaeorum et Saracenorum expulsionem ad annum usque millessimum quingentessimum vigessimum quartum, divo Carolo Romanorum imperatore ex materna hereditate corumdem regum catholicorum succeessore tune regnante, ac reverendissimo domino Alfonso Manrico archiepiscopo Hispalensi; fidei officio praefecto, viginti millia hereticorum et ULTRA nefandum haerescos crimen abjurarunt; nee non hominum FERE MILLIA in suis haeresibus obstinatorum postea jure praevio ignibus tradita sunt et combusta, Innocentio VIII, Alexandra VI, Pio III, Julio II, Leone X, Adriano VI (qui etiam dum cardinalis Hispaniarum gubernator ac generalis inquisitor esset, in summum pontificatum assumptus est) et Clemente VII annuentibus et faventibus. Domini nostri imperatoris jussu et impensis, licenciatus de la Cueva poni jussit, dictante Domino Didaco a Carthagena archidiacono Hispalensi, anno Domini millessimo quingentessimo vigessimo quarto».
Это значит: «В 1481 году, при папе Сиксте IV, в царствование Фердинанда V и Изабеллы, католических королей Испании и Обеих Сицилии, здесь получил начало священный трибунал инквизиции против иудействующих еретиков для возвышения веры. Со времени изгнания евреев и сарацин до 1524 года, в царствование Карла, римского императора, наследника по матери этих двух католических королей, и в правление этим трибуналом веры преподобнейшего господина Альфонсо Манрике, архиепископа Севильского, двадцать тысяч еретиков и более отреклись от гнусного преступления ереси, и почти тысяча человек, упорных в своей ереси, после предварительного суда были преданы пламени и сожжены, с согласия и одобрения Иннокентия VIII, Александра VI, Пия III [393], Юлия II [394], Льва X [395], Адриана VI [396] (который получил верховное первосвященничество, будучи кардиналом, правителем Испании и главным инквизитором) и Климента VII [397].
По повелению и на счет нашего владыки императора [эта надпись] поставлена здесь по приказанию лиценциата де ла Куэвы под руководством Диего из Картахены, архидиакона Севильи, в 1524 году».
VIII. Я ограничусь предположением, что только одна тысяча осужденных была сожжена живьем, что только пятьсот были сожжены фигурально. Этот расчет даст на каждый год тридцать два человека сожженных живьем, шестнадцать сожженных фигурально и шестьсот двадцать пять приговоренных к публичному покаянию; в целом это составит итог жертв инквизиции в шестьсот семьдесят три человека. Я наполовину уменьшаю это число для каждой из других инквизиций, чтобы не оспаривали моих выводов, несмотря на имеющиеся у меня причины полагать, что число жертв, за исключением небольшой разницы, было так же велико, как в самой Севилье.
IX. Для трех лет, 1490, 1491 и 1492, протекших между повествованием Бернальдеса и севильской надписью, можно установить тот же порядок, что и для восьми лет этого историка. Во всяком случае, для доказательства, что я не стремлюсь к преувеличениям, я буду придерживаться числа, выставленного надписью, как более умеренного. По этим данным я представляю подсчет жертв, умерщвленных Торквемадой, первым главным инквизитором, за восемнадцать лет его кровавой администрации.
X. В 1481 году инквизицией Севильи были сожжены живьем две тысячи человек, две тысячи сожжены фигурально и семнадцать тысяч подвергнуты различным карам, что в итоге составляет цифру в двадцать одну тысячу осужденных. За этот год я не стану подсчитывать жертв в других провинциях, потому что, хотя вероятно, что были казни в Арагонском королевстве, они не касаются нового учреждения, которое существовало только в Севилье и Кадисе.
XI. В 1482 году в Севилье были сожжены живьем восемьдесят восемь человек, сожжены фигурально сорок четыре и приговорены к другим наказаниям шестьсот двадцать пять, что в итоге за этот год дает цифру семьсот пятьдесят семь человек. Я не говорю о других инквизициях, которые еще не были организованы.
XII. 1483 год представляет подобное же число жертв в Севилье, по скромному расчету, положенному мною в основание. В эту эпоху приступили к отправлению своих обязанностей инквизиционные трибуналы Кордовы, Хаэна и Толедо, учрежденные тогда в Сьюдад-Реале. Согласно принятому предположению мы имеем для каждого из этих трибуналов двести человек сожженных живьем, двести сожженных фигурально и тысячу семьсот подвергшихся публичному покаянию, что доводит число всех осужденных до двух тысяч ста человек. Для трех трибуналов число это будет равняться шести тысячам тремстам. Прибавим сюда число осужденных в Севилье, получим: шестьсот восемьдесят восемь сожженных живьем, шестьсот сорок четыре сожженных фигурально как осужденные заочно или умершие раньше и пять тысяч семьсот двадцать пять понесших другие кары, а всего в общем семь тысяч пятьдесят семь человек, присужденных к различным наказаниям.
XIII. В 1484 году в Севилье все происходило по-прежнему. В Кордове, Хаэне и Толедо мы насчитываем сорок четыре жертвы, сожженные живьем, двадцать две – фигурально и триста двенадцать, подвергшихся другим наказаниям; всего двести двадцать жертв первого разряда, сто десять второго и тысячу пятьсот шестьдесят одну третьего, в итоге: тысячу восемьсот девяносто одну жертву.
XIV. В 1485 году образ действий инквизиторов Севильи, Кордовы, Хаэна и Толедо был одинаков. Трибуналы, учрежденные в этом году в Эстремадуре, Вальядолиде, Калаоре, Мурсии, Куэнсе, Сарагосе и Валенсии, представляют нам каждый двести осужденных первого разряда, двести – второго и тысячу семьсот – третьего, в итоге тысячу шестьсот двадцать – первого разряда, тысячу пятьсот десять – второго и тринадцать тысяч четыреста шестьдесят одного – третьего, всего шестнадцать тысяч пятьсот девяносто одного человека.
XV. Для 1486 года тот же результат получается в Севилье, Кордове, Хаэне и Толедо. Шесть других трибуналов дают нам, из расчета сорока четырех человек первого разряда, двадцати двух – второго и трехсот двенадцати – третьего, итог в пятьсот двадцать восемь человек, сожженных живьем, в двести шестьдесят четыре, сожженных фигурально, и в три тысячи семьсот сорок пять, подвергшихся другим карам; общий итог равняется четырем тысячам пятистам тридцати семи осужденным.
XVI. В 1487 году одиннадцать уже существовавших инквизиций осудили то же количество людей, что и в предыдущем году. Инквизиции Барселоны и Майорки, начавшие свою деятельность в этом году, сожгли живьем двести человек, фигурально – двести и присудили к другим карам одну тысячу семьсот человек. Все тринадцать инквизиций осудили в этот год восемь тысяч семьсот тридцать семь человек, из них к первому разряду принадлежали девятьсот двадцать восемь, ко второму – шестьсот шестьдесят четыре и к третьему – семь тысяч сто пятьдесят пять человек.
XVII. В 1488 году одиннадцать старейших инквизиций действовали по-прежнему; в счет инквизиций Барселоны и Майорки мы ставим сорок четыре жертвы первого разряда, двадцать две – второго и триста двенадцать – третьего. В общем для тринадцати трибуналов мы насчитываем шестьсот шестнадцать жертв первого разряда, триста восемь – второго, четыре тысячи триста шестьдесят девять – третьего, а в итоге пять тысяч двести девяносто три человека.
XVIII. Тот же результат для следующего 1489 года дают тринадцать трибуналов, и здесь кончаются вычисления, которые я счел возможным установить на основании свидетельств Марионы и Бернальдеса.
XIX. С 1490 года мы начинаем пользоваться для продолжения нашего подсчета севильской надписью, помещенной в замке Триана. В этом году в Севилье было сожжено тридцать два человека живьем, шестнадцать фигурально и шестьсот двадцать пять присуждено к различным наказаниям, что в общем равняется шестистам семидесяти трем осужденным. В каждом из двенадцати других городов было осуждено половинное число. Итог тринадцати трибуналов даст нам триста двадцать четыре человека осужденных первого разряда, сто двенадцать – второго и четыре тысячи триста шестьдесят девять – третьего, а всего четыре тысячи восемьсот пять приговоренных.
XX. В 1491 и в последующие годы до 1498 года включительно мы считаем то же число жертв для каждого года и находим в итоге: в первом разряде две тысячи пятьсот девяносто две жертвы, во втором – восемьсот девяносто шесть и в третьем – тридцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят две. Все вместе это составляет тридцать восемь тысяч четыреста сорок человек, которые в эти восемь лет были судимы и присуждены инквизицией к сожжению живьем или фигурально или к другим наказаниям, каковы: пожизненное тюремное заключение, конфискация имущества, опозорение и прочее.
XXI. Отсюда следует, что Торквемада за восемнадцать лет, которые продолжалась его инквизиционная служба, десять тысяч двести двадцать жертв сжег живьем, шесть тысяч восемьсот шестьдесят сжег фигурально после их смерти или по случаю их отсутствия и девяносто семь тысяч триста двадцать одного человека подверг опозоренью, конфискации имущества, пожизненному тюремному заключению и исключению из службы на общественных и почетных должностях. Общий итог этих варварских казней доводит число навсегда погибших семейств до ста четырнадцати тысяч четырехсот одного. Сюда не включены те лица, которые по своим связям с осужденными разделяли более или менее их несчастие и горевали, как друзья или родственники, о строгостях, постигших несчастные жертвы.
XXII. Если сделанный мною подсчет покажется преувеличенным, пусть составят новый по числу жертв, отмеченному на некоторых аутодафе толедской инквизиции за
1485, 1486, 1487, 1488, 1490, 1492 и 1494 годы. Увидят, что за это время толедской инквизицией был осужден шесть тысяч триста сорок один человек, кроме тех, число коих не определено в годы, не занесенные в эту серию. В среднем число это представляет семьсот девяносто два человека в год. Пусть умножат это число на тринадцать по количеству инквизиционных трибуналов; тогда получат для каждого года десять тысяч двести девяносто шесть осужденных, то есть за восемнадцать лет – сто восемьдесят пять тысяч триста двадцать восемь жертв.
XXIII. Если бы число жертв в каждом из других инквизиционных трибуналов я сравнял с числом жертв в трибунале Севильи, то получил бы четыреста с лишним тысяч человек, потерпевших кары от святого трибунала за такой короткий срок.
XXIV. Я не принял в расчет лиц, осужденных в Сардинии, чтобы меня не обвинили в преувеличении. Однако известно, что деятельность Торквемады там тоже вызвала немало жертв и что его примеру подражали впоследствии, осуждая бесчисленное множество людей.
XXV. Я не упоминал об инквизиции в Галисии (где инквизиции тогда еще не существовало), о трибуналах на Канарских островах [398] и в Новом Свете, ни даже о трибунале Сицилии, где продолжала существовать прежняя система, несмотря на усилия ввести новую. Это очевидно доказывает, что суровость новой системы внушала опасения и что труднее было от нее найти защиту. Если мы будем считать жертвами Торквемады всех тех, кто был судим после смерти в трибуналах, основанных его преемниками, – кто может счесть их число?
РОМАНСЬЕРО
Читатели справедливо отметили, что стихи в романе, стилизованные под испанские романсьеро, слишком уж «просты» – так, что их не всегда можно даже назвать стихами. Вина в этом не только автора. Настоящие романсьеро, еще не попавшие в руки профессиональных поэтов, были первоначально незамысловатыми песенками с обязательным «жестоким» сюжетом – не только без всякой рифмы, но и с явно «хромающим» размером. Песни эти не столько запоминались, сколько импровизировались заново на знакомый сюжет. Ниже приводится в качестве примера один из таких романсьеро из цикла о Сиде (перевод В. Левика).
КАК ПЛАКАЛИ КАСТИЛЬЯНЦЫ
Спит король, король дон Санчо, Уложил его Вельидо, Крепким дротиком ударил, Пригвоздил к земле холодной. Плачет рядом с ним священство, Плачут все владыки церкви, Все кастильские дворяне, Все большое войско плачет. Пуще всех скорбит, страдает Над убитым Сид могучий: «Ах, король, король дон Санчо, Будь он проклят, день недобрый, День, в который мне не внял ты И повел войска к Саморе. В тот недобрый день свершилось Твоего отца проклятье». Встал Диего де Ордоньес (Он рыдал у ног дон Санчо), Был он цветом рода Лара, Был он гордостью Кастильи. «Все мы ждем, что выйдет рыцарь, До захода солнца выйдет, Чтоб Саморе вызов бросить, Наказать ее злодейство». Все сказали: «Прав Ордоньес!» Но никто вперед не вышел. Молча смотрят все на Сида, Молча ждут, а вдруг он выйдет. Но поняв без слов их мысли, Твердо Сид им отвечает: «Воевать Самору шел я, Ибо так хотел дон Санчо, Но когда король мой умер, Я клянусь ее не трогать, Ибо я должник инфанты И не властен долг нарушить». И Диего де Ордоньес Злобно прошипел скволь зубы: «Зря поклялся ты, Родриго, В том, в чем клясться бы не должен».ПРЕКРАСНАЯ МАРГАРЕТ, или Иллюзии Генри Райдера ХАГГАРДА
Автор знаменитого романа «Прекрасная Маргарет» очень точно описал испанские реалии. Вместе с тем оба упоминаемых в отрывке эпизода – побег приговоренного к сожжению и прорыв через бар у Вальманрике – едва ли могли происходить в действительности и могут считаться совершенной фантастикой.
В конце концов, как раз когда часы на соборе пробили восемь, «триумфальное» шествие, как оно именовалось, вступило на набережную. Первым появился отряд солдат, вооруженных копьями, затем распятие, задрапированное черным крепом, которое нес священник, за ним следовали другие служители церкви, в белоснежных одеждах, символизировавших чистоту. Затем появились люди, тащившие деревянные или сделанные из кожи изображения каких-то мужчин и женщин, которые благодаря бегству в другие страны или в царство смерти избежали лап инквизиции. Следом за ними несли гробы, по четыре человека каждый, – в этих гробах были тела или кости умерших еретиков, которые ввиду смерти тех, кому они принадлежали, должны были быть тоже сожжены в знак того, что сделала бы с ними инквизиция, если бы могла, – это давало ей право конфисковать оставшееся от человека имущество.
Затем шли раскаявшиеся. Головы их были обриты, ноги босы, одни были одеты в темные одежды, другие – в желтые балахоны с красным крестом, называемые санбенито. После них появилась группа еретиков, осужденных на сожжение. Они были облачены в замарры из овечьих шкур, разрисованные дьявольскими рожами, их собственными портретами, окруженными пламенем. На этих несчастных были также высокие, похожие на епископские митры шапки, так называемые «короза», разрисованные изображениями пламени. Рты у них были заткнуты кусками дерева, иначе они могли бы осквернять и заражать окружающих еретическими речами, в руках они несли свечки, которые сопровождающие их монахи время от времени зажигали, если те гасли.
Сердца Питера и Маргарет дрогнули, когда в конце этой ужасной процессии появился человек верхом на осле, одетый в замарру и корозу, но с петлей на шее. Отец Энрике сказал правду – это, без сомнения, был Джон Кастелл. Как во сне, смотрели Питер и Маргарет на его позорный наряд.
Следом за ним шли роскошно одетые чиновники, инквизиторы, знатные люди, члены Совета инквизиции; впереди них развевалось знамя, именуемое Святым знаменем веры.
«Маргарет» как раз поравнялась со знаменитой Золотой башней, и вдруг по ним выстрелила пушка, но ядро пролетело далеко от судна.
– Смотрите! – воскликнула Маргарет, указывая на всадников, скачущих на юг вдоль берега реки.
– Они хотят предупредить форты, – отозвался Питер. – Бог послал нам этот ветер, мы должны успеть прорваться к морю.
Ветер крепчал, он дул с севера, но какой это был длинный и тяжелый день! Час за часом плыли они вниз по реке, которая становилась все шире. Они плыли то мимо деревень, где кучки людей, завидев их, размахивали оружием, то мимо пустынных болот и равнин, покрытых соснами.
Когда они были уже у Бонанцы, солнце стояло довольно низко, а когда миновали Сан-Лукар, оно уже садилось. В широком устье реки, где белые волны бились об узкий мол, к ним спешили на веслах две большие галеры, чтобы захватить их. Галеры были очень ходкими, и спастись, казалось, не было никакой возможности.
Маргарет и Кастелла отправили вниз, матросы заняли свои места. Питер решительно направился на корму, где упорный капитан Смит стоял у штурвала, не разрешая никому дотронуться до него. Смит посмотрел на небо, на берег и на спасительное открытое море впереди. Затем он приказал поднять все паруса и мрачно посмотрел на галеры, подстерегавшие их, подобно борзым, у выхода в море. Галеры держались на веслах посередине канала. По обе стороны кипели буруны, через которые не мог пройти ни один корабль.
– Что вы хотите делать? – спросил Питер.
– Мастер Питер, – сквозь зубы процедил Смит, – когда вы вчера дрались с испанцем, я не спрашивал вас, что вы собираетесь делать. Придержите ваш язык и предоставьте все мне.
«Маргарет» была быстроходным судном, но никогда еще она не развивала такой скорости. Позади нее свистел ветер. Ее крепкие мачты согнулись, как удочки, а снасти скрипели и стонали под тяжестью наполненных ветром парусов, ее левый борт лежал почти на уровне воды, так что Питер должен был лежать на палубе – стоять было невозможно – и видел, как вода бежала в трех футах от него.
Галеры выстроились, преграждая путь «Маргарет». В полумиле от нее они встали нос к носу, отлично зная, что никакое судно не может проскользнуть по пенящемуся мелководью. Они ждали, что «Маргарет» должна будет замедлить ход – это было неизбежно, – и тогда они возьмут ее на абордаж и перебьют малочисленную команду. Смит что-то приказал помощнику, и неожиданно в лучах заходящего солнца на грот-мачте взвился английский флаг, при виде которого матросы разразились восторженными криками. Смит отдал новый приказ, и был поднят последний кливер. Теперь время от времени левый борт погружался в воду, и Питер чувствовал, как соленая вода обжигает его израненную спину.
Испанские капитаны держали галеры на прежнем месте. Они не могли понять, что этот иностранец – сумасшедший или не знает речного фарватера? Ведь он пойдет ко дну со всеми, кто у него на борту. Они стояли, ожидая, когда этот леопардовый флаг и надувшиеся паруса будут спущены, но «Маргарет» прямо, словно бык, мчалась на них. Она была на расстоянии не более четверти мили и шла прямо по курсу, когда наконец на галерах поняли, что она пойдет ко дну не одна.
На испанских судах началось смятение, заливались свистки, кричали люди, надсмотрщики бросились вниз подстегивать рабов, поднятые весла казались красными в свете заходящего солнца, когда они с силой били по воде. Бушприты галер стали раздвигаться – пять футов, десять футов, может быть, двенадцать футов. И прямо в эту полоску открытой воды, словно камень, пущенный из пращи, словно стрела из лука, ринулась несущаяся по ветру «Маргарет».
Что же случилось? Спросите об этом у рыбаков Сан-Лукара и у пиратов Бонанцы, где история эта передается из поколения в поколение. Огромные весла треснули, как тростник, верхняя палуба левой галеры была разорвана, словно бумага, крепкими реями летящей «Маргарет», борт правой галеры завернулся, как стружка под рубанком, и «Маргарет» прорвалась.
Капитан Смит оглянулся – два больших испанских судна тонули. Словно раненые лебеди, они кружились и трепетали у пенящегося мола. Затем он повернул судно на другой галс, крикнул плотника и спросил у него, дал ли корабль течь.
– Никакой, сэр, – ответил тот, – но его потребуется заново смолить. Это был дуб против яичной скорлупы, и у нас была скорость!
– Хорошо, – сказал Смит. – С двух сторон находились мели, выбор оставался один – жизнь или смерть, но я был уверен, что они дадут нам пройти. Пришлите сюда помощника взять штурвал. Я должен поспать.
Солнце опустилось в бурлящее море, и ускользнувшая от власти Испании «Маргарет» повернула свой разбитый бушприт к Уэссану, к Англии.
«ОЛА» В «ПАУТИНЕ»
Обсуждение книги в Сети всегда более живое и яркое, чем на бумажных страницах. Тем оно и интересно. К сожалению, имена или псевдонимы высказавшихся удается установить не всегда.
– «Ола» кажется на первый взгляд ниеннообразным продолжением «Дон Кихота».
– Тогда уж скорее не «продолжением», а «предысторией» – у Валентинова по времени действие раньше, чем у Сервантеса происходит. И вообще, с «Дон Кихотом» там общего… ну куда меньше, чем у помады с зубной пастой…
– Заметил одну странную вещь – Валентинов описывает изнасилование почти каждой женщины, играющей в его книгах хоть сколько-нибудь важную роль. А уж главные героини просто обязаны: Велга в «Ории», Амикла в «Диомеде», Валенсийка и мисс Новерадо в «Оле»…
– Да, извелись нынче положительные герои! Конану все женщины сами на шею бросались, Джон Картер был весьма благочестив благодаря викторианскому воспитанию, Тарзан – благодаря благородным генам, у Толкина даже закоренелые бандиты, захватившие Хоббитанию, ведут себя в этом отношении прилично, герои Олдей – и те, не будучи особо щепетильными, женщин уважают, а Валентинов с ними не церемонится, как Джон Норман какой-нибудь. Хорошо хоть женщины у Валентинова живые, не картонные.
– На то, что это не продолжение, а предыстория «Дон Кихота», могу возразить, что ведь и Ниенна – в какой-то мере предыстория Толкина.
– Надежды на то, что и «Ола» окажется качественной книгой, полностью оправдались, и я советую ее всем думающим. Это действительно взгляд с другой стороны, а Валентинов, как историк, свое дело знает. В общем, у нас есть теперь свой Дюма, автор, умеющий найти бурные страсти в пыли исторических книг.
– Из-под испанской шляпы выглядывают уши современных проблем. Скажем, у Муркока земляне режут друг друга во внезапной вспышке эпидемии национализма. Болезнь пробирается даже на последний космический корабль, запущенный в космос с членами одной семьи на борту – командир убивает их одного за другим, потому что обнаруживает у каждого признаки нечистой крови, и остается один. Здесь то же самое – последний рыцарь (настоящий, которого даже королева Изабелла признает, а не как у Сервантеса) и последний пикаро (т.е. благородный, но без звания, поместья и вообще без ничего, кроме родовитости) живут идеалами уходящего прошлого, которое у каждого свое, а вокруг – инквизиция, разжигающая ненависть к евреям и к представителям тогдашних… ну, тоталитарных сект, в общем. Да еще – шпионские страсти, не достигающие, правда, еськовского накала, но тоже весьма опасные для жизни того, кто слишком много знает. Плюс – магия, основанная на каббалистике – по системе похожая на ту, что описана в «Рубеже» (вот, теперь и еще одни торчащие уши обнаружились). Так что вот. Тоже можно посоветовать. Но уже – не начинающим, а, скорее, пресытившимся.
– Книга на любителя. Уж больно много и обширно выплеснута на читателя негативная сторона человеческой натуры. Как будто в реале этого добра мало…
– Ну, это с какой стороны посмотреть. Мрака, грязи и крови там хватает. Но при всем при том, книга, как ни странно, получилась достаточно светлая. По крайней мере, по моим личным ощущениям.
– Я же тоже о субъективном говорю. Впрочем, наверное это от того, что просто надоела мне эта самая негативная сторона человеческой натуры. Надо будет как-нибудь настроить себя на жизнеутверждающее мировоззрение, а потом перечитать по новой…
– Как уважаемые собеседники поняли финал книги? Мне так показалось, что померли они там все…
– Вообще-то, да. Их корабль расстреляли и потопили, «в общем, все умерли…» © Но при этом остались живы, как ни парадоксально это звучит. Причем, похоже, даже телесно. Просто перешли в некий иной (лучший, но не райский!) план бытия, в иную (альтернативную? более «тонкую»?) реальность и вместе со своим Проводником (благодаря ему) добрались-таки до «земли обетованной», т. е. открыли Америку без всякого корабля. Так что концовка двойственная. В том мире герои погибли – но при этом перенеслись в мир куда лучший, причем отнюдь не в виде бесплотных духов. По крайней мере, так я это прочла. Так что концовка трагическая, но достаточно светлая.
– У Олди в «Я возьму сам» в концовке что-то подобное мелькнуло. «Мертвых не существует. Совсем».
– У Валентинова в «Оле» они, похоже, существуют – но главные герои к ним, к счастью, не относятся.
– Америка в качестве земли обетованной?
– Для главных героев – да. Сказочная земля мечты. США там еще не было. Согласен, концовка не оставляет мрачного впечатления, но… Увы, в нашем мире герои погибли, и даже если после смерти в нашем мире герои попали в мир гораздо лучший, то в наш мир они уже не вернутся.
– Для нас – увы, а для них?
– Это как Косухин и Арцеулов в «Оке силы». Их убили, но благодаря излучению «Стража раны» они до конца не умерли и спокойно себе попали на Тускулу. Но с Земли-то они исчезли окончательно, что в общем можно считать равносильным смерти.
– Твоя точка зрения – с героями произошло нечто, неотличимое в нашем мире от смерти, но там, за порогом, они сохранили личностное самоосознание, способность действовать, а потом попали в какое-то очень хорошее место.
– Моя точка зрения – с героями произошло нечто, неотличимое в нашем мире от смерти, а что там с ними случилось дальше – несущественно. Расхождений нет!
– Кстати, что-то подобное произошло и с Адамом Гуаирой из «Небеса ликуют»…
– Толковать финал той же «Олы» (и не только «Олы») можно по-разному, но все же автор дает нам некие намеки, некую надежду, некий «парус на горизонте» – и это хорошо!
ИНТЕРНЕТ, ДХАРЫ И СНОВА ЧЕРНЫЙ ФРЕНЧ
(Отрывки из интервью)
– Расскажите, какие чувства у вас возникли при первом общении с компьютером и Интернетом? Когда это впервые произошло?
– Компьютер, именовавшийся тогда ЭВМ, увидел впервые лет тридцать тому. Никаких особых чувств не возникло, даже удивления, поскольку слыхать и читать о подобном уже приходилось. Воспринимал, как гипертрофированный арифмометр системы «Железный Феликс». И сейчас так воспринимаю.
Интернет понадобился года три назад. Чувств опять-таки никаких не было, хотелось быстрее освоить, чтобы не обращать внимания на технические мелочи.
– Вы считаете, что нынешняя доступность Сети широкому кругу пользователей принесет благо или зло цивилизации?
– Особого зла не будет, пользы явно больше. Процесс, аналогичный появлению книгопечатания.
– Молодежь, воспитанная на интернет-культуре, будет, по-вашему, сильно отличаться от предыдущего поколения?
– Поколения и так отличаются, поэтому изменения будут в пределах обычной нормы. Тем более особой интернет-культуры, мне кажется, нет – и не предвидится. Речь идет об ином способе приобщения к культуре. Умным будет легче, дуракам – сложнее. Это отрадно.
– Пытались ли вы когда-нибудь написать что-нибудь в стиль киберпанка?
– Читайте «Сферу».
– He предлагали ли вам сделать игру по сценарию одной из ваших книг. По-моему, ваши романы идеально бы подошли под хороший квест?
– Предлагали. Однако многие из нынешних кибер-прожектеров необыкновенно ленивы и необязательны.
– Сами-то вы играете в компьютерные игры? Если да, то в какие.
– Раскладываю пасьянс «Косынка».
– Вообще как вы используете свой компьютер помимо работы?
– Никак. Разве что фильмы смотрю и письма пишу-получаю. Иное дело «работа» – понятие очень широкое, поэтому компьютером пользуюсь постоянно.
– Считаете ли вы, что компьютер сильно облегчил писательский труд? Смог бы, по-вашему, Лев Толстой или Достоевский написать гораздо больше, имея в своем распоряжении даже самый простенький компьютер?
– Компьютер, конечно же, писательский труд облегчил, прежде всего улучшил качество текстов, которые теперь легче приводить в порядок.
Толстой написал очень много, и компьютер не понадобился. Достоевский – пожалуй, но не слишком, он и так писал быстро. Количественного скачка не было бы. Впрочем, тема неплохая, можно написать рассказик в духе наивных 60-х годов.
– Как вы считаете, возможно ли написание совместного романа по Интернету. Даже если люди никогда друг друга не видели?
– Такое случается, значит, возможно.
– Часто вам приходится отвечать на вопросы читателей по Интернету?
– Где-то раз-два в месяц.
– С появлением в вашей жизни Интернета читатель стал для вас ближе или ничего в связке читатель-писатель для вас не изменилось?
– Не изменилось. Читателям (некоторым) стало легче посылать мне письма, а мне – отвечать. Но это изменение количественное, но не качественное.
– Вы стараетесь отвечать на все письма читателей, пришедшие по Интернету, или некоторые из них игнорируете?
– Обычно отвечаю.
– Как вы реагируете на критические и даже гневные послания, приходящие на ваш электронный адрес?
– Читаю с интересом, чаще всего отвечаю. Гневающийся – раскрывается, и такое самоанатомирование подчас любопытно.
– Как вы относитесь к аудиокнигам? Считаете ли вы это полезным изобретением?
– «Аудиокниги» в варианте радиопостановок существуют уже не одно десятилетие. Полезно ли это? Как и прочие проявления культуры. Важна не только форма, важно и содержание.
– Сейчас активно развивается такой феномен, как сетевой писатель, который нашел свою аудиторию исключительно в Интернете. Как вам кажется, если ли у чисто сетевых писателей реальный шанс стать знаменитыми на уровне обычных писателей?
– Нет, конечно. «Сетература» – аналог всегда существовавшему рукописному «самиздату». Маленький мирок, там свои идолы, свои отношения. Но с Книгой пока тягаться рано.
– Что бы вы пожелали молодым людям, увлекающимся компьютерными играми и Интернетом?
– Увлекаться и дальше.
– Откуда в ваших произведениях появились дхары – и куда исчезли? Ведь раньше они действовали практически во всех эпохах…
– Дхары появились при работе над «Оком Силы». Они – «потомки ангелов», представители нечеловеческой и дочеловеческой цивилизации. О существовании таких цивилизаций я упоминал неоднократно, поэтому мои любимые дхары появлялись на страницах многих моих книг. Настолько часто, что мне стали советовать вызывать дхаров пореже. Но, думаю, как только появится повод, они вновь будут тут как тут.
– Вы 25 лет работаете в университете и уходить оттуда не собираетесь. Что вас там держит – научная работа или общение со студентами?
– Прежде всего, конечно, общение со студентами и коллегами. Научной работой можно заниматься и дома. А вот без общения не просто закиснешь, но и станешь деквалифицироваться.
– Вы неоднократно заявляли, что мир с каждым годом и столетием становится хуже. Преподавательский опыт утверждает вас в этой мысли?
– Вероятно, я не очень точно выразился – или меня не совсем поняли. Мир не становится хуже «вообще». Он меняется, поэтому людям, привыкшим к данности, начинает казаться, что все плохо, то есть непривычно. Человек тоже меняется мало, иное дело, что он, человек, «злая бесхвостая обезьяна», сам по себе не очень симпатичен. Преподавательский же опыт убедил меня лишь в том, что с каждым годом наша средняя (очень средняя!) школа работает все хуже. Детей грабят – забирают у них то, что они просто обязаны получить. А потом мои бывшие студенты идут в школу учителями… Но это отдельный и очень грустный разговор.
– Увеличение количества книг вы считаете признаком децивилизации, начало книгопечатания – злом. Кажется ли вам пагубным для культуры увеличение количества писателей?
– На фоне того, что творится сейчас, это не беда. Пусть себе! Мое мнение ничего не может изменить. И не только мое мнение. То, что происходит, – глубоко объективный процесс, изменить который невозможно даже с помощью Машины Времени. Люди свернули «не туда» даже не при Гутенберге, а несколько тысяч лет назад, в ходе Неолитической революции. Избранная меньшинством модель развития (земледелие, города, государство) была навязана всем остальным. А ведь возможны были куда более обещающие и интересные пути.
Что касаемо книгопечатания, то об этом лучше всего написал Виктор Гюго в «Соборе Парижской Богоматери». Спрячусь за классика.
– Если бы книги по-прежнему переписывались от руки – какая из ваших, вы считаете, получила бы шанс попасть в руки максимального числа читателей? За какую лично вы «болели» бы?
– «Болел» бы я за все свои книги. Иное дело, от книг в допечатное время ждали немного другого, чем сейчас. Но, уверен, некоторые книги охотно бы переписывали. Так и представляю студентов университета, гусиными перьями переписывающих, скажем, «Око Силы». Разделили текст на двадцать частей, прикупили чернил…
– Герои ваших книг, написанных от первого лица, вполне симпатичны – как и положено таким героям. Адам де Гуаира, Начо Бланко, Франсуа Ксавье дю Люсон – все они люди, которым легко сопереживать. Бесплотный и безликий «голос за кадром» из «Спартака» мудр и доброжелателен. И лишь харьковский археолог Андрей, с которым легче всего проассоциировать автора, – желчен, скептичен и вообще неприятен. На творческих встречах вы объявляете себя «злым Валентиновым» – и ведете себя соответственно. При личном же разговоре вы не производите впечатления злого – да и, похоже, не стремитесь. Почему же вы стараетесь создать такой публичный имидж? Чтобы избежать «десакрализации» себя как писателя, отделиться от толпы? Чтобы получить возможность высказывать самые непонятные окружающим взгляды, не доказывая каждый раз, что это не сиюминутный эпатаж, а продуманная позиция? Или просто не хотите, чтобы лезли в душу, – все-таки писатель постоянно на виду и мало ли кто полезет?…
– Сначала об имидже. Как я стал «злым Валентиновым», сам не помню. Вероятно, тут была доля шутки, но истина в том, что ее, истину, я стараюсь защищать всеми силами. Когда при мне, скажем, начинают ругать или хоронить фантастику, сдержаться трудно. Вот тогда я и становлюсь злым, причем без всяких кавычек. Как писал замечательный киевский писатель Борис Штерн: «Козлов много!» Так лучше в такой козлиной компании я буду волком в черном френче.
Что касаемо героев книг, то их часто отождествляют с автором, особенно если рассказ ведется от первого лица. Конечно, автор очень много «дарит» своим героям, но все же не становится ими.
Герой «Созвездья…» – типичный археолог. И не просто археолог, а археолог в экспедиции. Экспедиция же – фронт, к счастью, бескровный. Солдат красивым не бывает, командир не бывает добрым. Вернувшись домой, мой герой, конечно же, изменится и станет совсем другим. Но на войне – как на войне.
– Касательно романа о Харьковском университете: когда, хотя бы примерно, можно надеяться его прочитать? Вы говорили, что ваши студенты раскопали уже минус три этажа из семи – следует ли ожидать окончания археологических изысканий? И что они там накопали – если, конечно, это можно хоть немножко рассекретить?
– Рассекречивать рано. Работа этих смелых людей достаточно опасна – и не только из-за подземных вод. Люди бросили вызов Тайне, которую хотят сохранить уже больше полувека. Поэтому не станем спешить. Роман будет, обещаю.
– Если можно, несколько слов о вашем новом романе «Сфера».
– Это не криптоистория, а чистая научная фантастика. Все действие происходит во сне. Люди уже освоили Землю и Космос, отчего бы им не освоить мир снов, Гипносферу? Об этом и роман.
Андрей Валентинов «ОЛА». (Рецензия)
Историко-фантастические романы удаются немногим. Легче перечислить неудачи в этом жанре, чем явные победы. Но это не касается творчества Андрея Валентинова. Его историко-фантастические романы всегда интересны. И это трудно объяснить, поскольку скучных и бессмысленных среди них ровно столько же, сколько в наследии любого другого коммерческого фантаста того же уровня.
Вот и свежий опус под необычным названием «Ола» завораживает с первых страниц. Храбрый пикаро Начо, загадочная дама в маске, сумасшедший идальго Дон Саладо дружно нагружают читателя своими приключениями и безумствами. Несомненная корреляция романа с классическим произведением увечного испанского солдата Сервантеса добавляет опусу шарма и прижимает к страницам окончательно. Первая половина романа читается буквально на одном дыхании, вторая по инерции, что тоже неплохо. Не может испортить впечатление от романа даже обилие безвкусных стихов, которыми автор насытил свое произведение. Их просто перестаешь замечать, пропуская или читая по диагонали. Иногда, правда, эти стихи важны для сюжета, тогда приходится себя насиловать, стараться воспринимать их как прозу, игнорируя кривоватые рифмы.
Роман привлекает в первую очередь изощренным сюжетом. Здесь есть полный набор любителя авантюрных приключений – разбойники, рыцари, таинственные замки, прекрасные дамы. Персонажи непрерывно взаимодействуют и создают приятное ощущение бурлящей действительности. Не надо только глубоко задумываться о смысле всей этой свистопляски. Если он и есть, то скорее всего понятен лишь автору. Описание насаженных на крюки голов удалось ему значительно лучше, чем пояснение несведующему в теологии читателю, что же такое Ола и почему главный герой так против нее.
К концу романа автор позволяет себе запутаться в интригах, которые плетут его персонажи. Мертвецы появляются вновь, живые секретничают о совершенно очевидных вещах, и над всем начинает маячить фигура Торквемады. Однако ничто уже не может остановить любознательного читателя. Автор мастерски держит его за горло, нагнетая ощущение скорой развязки. Развязка действительно наступает, предсказуемая где-то с середины романа. Данный факт добавляет роману шарма. Читатель ломает голову над тем, как же автор выкрутится, чтоб загрузить всех по полной, развязать клубок интриг изящным движением пера. В результате гордиев узел развязывается с помощью топора. Мы пол-романа видели этот топор, но не ожидали, что автор решит его вдруг опустить в финале. Думали, соригинальничает, как в сценах с неоднократным освобождением героя из застенков инквизиции. Ничего подобного. Топор и только топор.
В общем, роман во многом приятственен именно неожиданностями. Про сюжетные уже сказано, стоит вспомнить и языковые. Для придания роману испанского колорита автор усердно использует слова типа фра, олья, Каса, дага. Список можно продолжать, в любом случае, объем проделанной автором работы при изучении эпохи Изабеллы и Фердинанда впечатляет. Недурственное обозначение жителей Севильи как «севильянцы» тоже радует, хотя «севильячи» или «севильячане», на наш взгляд, было бы прикольнее. Несомненный интерес вызывают подстрочные комментарии, объясняющие, что сомбреро – это вовсе не сомбреро, а шляпа. В общем, автор постарался, информативная книга.
Итак, очередное творение Валентинова увидело свет и выглядит в нем очень достойно. Нельзя сказать, что это его самый удачный роман, читали мы у него и более выдающиеся вещи, но провалом «Ола» точно не назовешь. Главное, что должно быть в историко-фантастическом произведении, здесь есть – интересный сюжет, помноженный на достоверную историческую эпоху. Остальное приложится, если книгу чуть быстрее листать или дать разыграться собственной фантазии.
Sveneld
МИРОЗДАНИЕ ПО ВАЛЕНТИНОВУ
Легко выделить авторскую теорию происхождения и развития нашего Мира, а именно теорию Номосов. Номос – это ограниченная территория, объединенная единой социально-культурной и физической общностью. Это понятие во многом совпадает с классическим определением цивилизации. Различие в том, что Номосы бывают двух типов – открытый и закрытый. Открытые Номосы – это и есть цивилизации в общепринятом смысле.
…Простое и элегантное объяснение получает тот факт, что человек долгое время считал мир, в котором он живет, плоским. Он действительно был ПЛОСКИМ!!! Ведь посмотрим на описываемую в романе «Вернусь не я» Элладу времен Троянской войны. На западе непреодолимый Океан. На юг и на север хода нет. На востоке Граница проходит где-то по территории современного Ирана. На этих трех направлениях даже нет возможности добраться до Океана, Граница заходит на территорию суши. Получается плоский прямоугольник и вокруг Океан. Любители истории также могут посмотреть древнегреческие карты. Вот нормально мыслящий грек и делает совершенно логичный вывод: мир плоский и со всех сторон окружен Океаном, т.е Границей. Причем мир, привычный для наших предков, был плоским вплоть до открытия Колумба. Именно так. Только после 1492 года стали возможны кругосветные путешествия.
Об этом, и не только, роман Валентинова – «Ола». Это роман о похождениях Дон Кихота, в романе он выведен под именем Дон Саладо. Здесь можно заметить несколько идей, развивающих теорию Номосов.
Во-первых, Кебальо – Проводник Господний. Только конкретный человек – Кебальо, может открыть дорогу в закрытый Номос. В самом деле, еще Тур Хейердал на папирусной ладье доплыл до Америки, доказав тем самым, что египтяне могли переплыть на своих кораблях Атлантический океан, но почему-то не переплывали. Никто сейчас не удивится, если какой-нибудь смельчак пересечет океан на обычном бревне. И если Новый Свет долгое время был неизвестен в Европе, виной тому не примитивная конструкция кораблей древних. Конечно, у ученых найдется немало научных объяснений этому факту, но господи, как же они скучны! Всё и проще и сложнее, человечеству нужно было дождаться рождения Колумба, чтобы увидеть Америку. Только Колумб мог открыть Америку, а не какой-нибудь Аменхотеп, Петров или Сидоров. Любой другой мореплаватель, не отмеченный знаком свыше, или сгинул бы бесследно, или вернулся бы несолоно хлебавши.
Во-вторых, множественность возможных соединений Номосов. Ведь главный герой, Дон Саладо, уходит, вместе с кораблем, совсем в другой Номос – Землю Чаши Господней. В который нам пути нет. Если бы именно Дон Саладо поплыл во главе трех каравелл, он открыл бы не Америку, а совсем другие земли, населенные совсем другими народами. Не было бы США, и мы изучали бы другую Новую историю. А возможно, между Европой и Азией лежал бы чистый океан, и корабли плавали из Англии в Японию строго по прямой линии. Итак, наш Мир был плоский, стал круглый, а завтра, может быть, приобретет форму ленты Мебиуса. Вокруг нас существуют закрытые Номосы, может быть – Подземный, Подводный, Космос или другие, совершенно недоступные человеческой фантазии. Таким образом, Мироздание представляет собой ячеистую структуру. Мы живем в одной из ячеек, время от времени несколько ячеек схлопываются, образуя один Мир, или наоборот, ячейка (мир) делится на несколько ячеек (миров). Сейчас вроде бы нет ничего похожего на описанный в романе «Вернусь не я», Океан с его чудовищами и заколдованными городами. Однако вспомним Бермудский треугольник, район, где пропадают люди и происходят необъяснимые явления со временем. Эта аномальная зона очень похожа на Границу, прикрывающую вход в закрытый Номос. Может быть, уже родился человек – Кебальо, который откроет нам дорогу в другой Мир (например, Космос), а мы будем удивляться, почему же ничего не замечали раньше.
Игорь
(Материал взят с интернет-форума, посвященного творчеству А. Валентинова)
[1] Пикаро – особое сословие в средневековой Кастилии, напоминающее воровской «закон». В числе пикаро были не только преступники, но и бродяги, искатели приключений, даже студенты и монахи.
(обратно)[2] Эскудеро – дословно «щитоносец», оруженосец при рыцаре. Далее – игра слов: на золотых монетах был изображен щит (escudo) с королевским гербом.
(обратно)[3] Лисенсиат – выпускник университета.
(обратно)[4] Лоа – песня, исполнявшаяся перед представлением.
(обратно)[5] Хорнада (la Jornada) – по-испански означает путь, проходимый в течение дня, и акт в пьесе.
(обратно)[6] Эскудо – золотая монета. В одном эскудо было тринадцать реалов, в одном реале – тридцать четыре мараведи, в одном мараведи – два бланко. Средний ежедневный заработок ремесленника – тридцать мараведи.
(обратно)[7] Олья – национальное испанское блюдо, нечто вроде подогретого винегрета.
(обратно)[8] Дорожная маска – суконная маска с отверстиями для глаз, служившая для защиты от холода и пыли во время путешествия. Такие маски носили только знатные лица.
(обратно)[9] Места – сообщество скотоводов Кастилии, фактически – мафия. Имела свои вооруженные отряды.
(обратно)[10] Коста – от слова «берег» (costa – ucn.). Сообщество кастильских и арагонских контрабандистов.
(обратно)[11] Сухопутная лига – 4,83 км, морская – 5,6 км.
(обратно)[12] Асумбре – чуть меньше литра.
(обратно)[13] Бланко – белый, бланкито – беленький.
(обратно)[14] Кастилия – в описываемое время единой Испании не существовало. Кастилией правила королева Изабелла, которая была замужем за Фердинандом, королем Арагона.
(обратно)[15] Поэлья – блюдо, напоминающее олью, но с добавлением сыра.
(обратно)[16] Бабьека – любимый конь Сида Компеадора(XII век).
(обратно)[17] Брас – 1,57 м.
(обратно)[18] В данном случае «сомбреро» (sombrero – исп.) – не сомбреро, а просто шляпа.
(обратно)[19] Алькальд – глава городского управления и одновременно – судья.
(обратно)[20] Святая Эрмандада – первоначально муниципальная милиция, подчинялась лично королеве, затем – нечто вроде спецназа. В описываемое время Эрмандада выполняла также поручения Святейшей Инквизиции.
(обратно)[21] Мориски – крещеные мавры.
(обратно)[22] Аделантадо – губернатор.
(обратно)[23] «Начо» – сокращенная форма имени «Игнасио».
(обратно)[24] Мудэхары – кастильские мавры, эльчи – арагонские.
(обратно)[25] В Саламанке находился знаменитый университет, в описываемое время – единственный в Испании.
(обратно)[26] Супрема – трибунал Святейшей Инквизиции.
(обратно)[27] Зелененькие – служители инквизиции носили зеленые одеяния.
(обратно)[28] Фратина – от латинского «frater» («брат»). Слово имело пренебрежительный оттенок, звучало как «брателло».
(обратно)[29] Марран – крещеный еврей.
(обратно)[30] Сицилия в описываемое время находилась под властью короля Арагона. Инквизиция в Кастилии была создана при помощи сицилийских инквизиторов.
(обратно)[31] Лаписьеро – карандаш.
(обратно)[32] Альгвазил – полицейский, стражник.
(обратно)[33] Коррехидор – королевский судья.
(обратно)[34] Севилью отобрал у мавров король Фердинанд III Кастильский, но в народной памяти эту заслугу приписывали его предшественнику Альфонсо.
(обратно)[35] Море-океан – Атлантический океан.
(обратно)[36] Имеется в виду морская лига. Тысяча лиг – 5600 км.
(обратно)[37] Высочество – титул королей Кастилии, Арагона и Португалии до начала XVII века.
(обратно)[38] Фра – от латинского «брат» (frater). Употреблялось только вместе с именем. В противном случае к монаху обращались просто «брат» («hermano» – исп.).
(обратно)[39] Ночная стража имела обязанность сообщать жителям о том, какая погода на дворе. «Сиренас» – «ясно». Из-за этого стражников иногда называли «сиренасами».
(обратно)[40] Эстрадо – возвышение, устланное покрывалом или ковром.
(обратно)[41] Эспингарда – длинная пищаль.
(обратно)[42] Ампольеты – песочные часы.
(обратно)[43] Испанские дворяне плохо владели грамотой.
(обратно)[44] Апарисиево масло – оливковое масло с примесью разных лекарств. Лекарство это было настолько дорогостоящим, что вошло в поговорку: «Дорого, как апарисиево масло».
(обратно)[45] Агвардиенте – водка.
(обратно)[46] Ассистент – глава городского управления в крупных городах, назначаемый королем.
(обратно)[47] Корчете («крючок» – исп.) – сыщик.
(обратно)[48] Мачо – парень (с оттенком «крутой»).
(обратно)[49] Гато («кот» – исп.) – на наречии пикаро означало «вор».
(обратно)[50] Пио – презрительная кличка проституток.
(обратно)[51] Коммуньерос – сторонники коммуны, органа местного самоуправления.
(обратно)[52] Homo fuge! – Человек, беги! (лат.)
(обратно)[53] Клеймо, состоявшее из буквы S («эсе»), перечеркнутой гвоздем («клаво»), означало «эсклаво» (по-испански – «раб»).
(обратно)[54] Браво – наемный убийца, киллер.
(обратно)[55] Арроба – 11,5 кг.
(обратно)[56] Бар – отмель.
(обратно)[57] Маэсе – мастер.
(обратно)[58] Селда – тюремная камера.
(обратно)[59] Пословица. На Мартинов день (11 ноября) было принято закалывать свиней.
(обратно)[60] Виуэла, псалтерий – струнные музыкальные инструменты.
(обратно)[61] Цехин – венецианская золотая монета.
(обратно)[62] Кастильские дворяне имели привилегию содержать голубятни. Работать же они не могли, одно из немногих занятий, им дозволенных, – изготовление зубочисток.
(обратно)[63] Наказание стеной – предателей замуровывали живьем в стену.
(обратно)[64] 7 декабря 1492 года король Фердинанд Арагонский, муж Изабеллы, был тяжело ранен в результате покушения, в котором обвинили марранов. В ответ был издан указ о полном изгнании иудеев из Арагона и Кастилии. Казни марранов и еретиков продолжались до XIX века. Последняя казнь на костре состоялась в 1826 году.
(обратно)[65] Тольдилья – надстройка на корме, где находились каюты.
(обратно)[66] Трео – квадратный парус, который на кораблях, вооруженных косыми (латинскими) парусами, ставился на корне под ветер, дующий в лоб или в скулу. Бонеты – добавочные паруса.
(обратно)

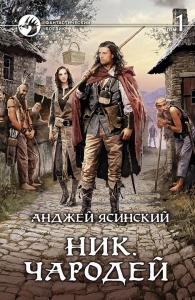



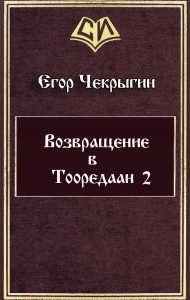
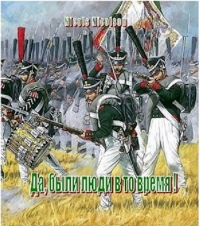
Комментарии к книге «Ола», Андрей Валентинов
Всего 0 комментариев