«Что мы с тобой творим, Арик?.. Ведь это то же самое, что сесть за руль автомобиля посреди оживленной улицы без знания правил и навыков… Давай остановимся. Плюнь. Зарабатываешь ты «санрайдером», а я никайоном-уборкой. Нам пока хватает. От добра добра не ищут…» «А по-моему, ничего страшного мне не грозит. Яодет по рекомендации работника театрального музея. Говорю в принципе на том же языке, что мы читаем у Пушкина и Гоголя, разве что с акцентом. Так ведь каких только акцентов не было в многонациональной империи тех времен! Ты сама говорила, что нереализуемый талант сжигает. Если мое открытие никому не нужно, пусть оно приносит доход хоть моей семье. А риск? Любое новшество кто-то когда-то все равно должен испытать первым. Почему не рисковать самому изобретателю? И, наконец, мы уже приехали, специально прилетели в Санкт… как его там — Ленинград, квартиру эту сняли, потратили кучу денег. Что же, возвращаться в Израиль? И испытывать там, ни слова не зная по-турецки?»
«А вдруг в этой комнате, откуда ты сейчас… ну, конверсируешься, кто-то окажется? Дом наверняка перестраивался за 175 лет много раз и имеет другую планировку. На том месте, где ты стоишь как раз могла быть стена. Арик, ты же можешь тут же просто погибнуть…»
«Вот тут ты права, Жанна, — сказал Арон. — Конверсироваться надо на заведомо пустом пространстве тех времен. И ночью, чтобы никого там не испугать. Пожалуй, лучше всего подходит бывшая площадь Мира. Мы станем за автовокзалом. Там в наши с тобой времена никогда не было ночью прохожих… В прошлом же на Сенной был базар. Ночью, тем более в будни, он должен быть пуст… Я где-нибудь отсижусь до утра, а потом пройдусь по лавкам и попробую обменять эти часы, авторучки и плееры на золото… А золото — здесь или у нас на доллары. Рискнем?»
* * *
«Действительно темно и ни души… Знаешь, на этой… Сенной площади конца 20 века ночью появляться не менее опасно, чем конверсироваться… В отличие от Израиля, тут, говорят, ходить ночью не рекомендуется.» «А жить с таким изобретением и без лишних денег рекомендуется?» «Арик, я с тобой. Я тоже хочу увидеть живого Пушкина…» «Мне не до Пушкина, Жанночка. Меня интересуют только деньги из моих мозгов. И при этом не рисковать, по крайней мере, тобой.» «Ага, значит, риск все-таки есть?» «Конечно. В нормальном обществе к подобной экспедиции вместо такого дилетанта годами готовили бы профессионального разведчика. С легендой, каким-то достоверным диалектом той эпохи, документами, наконец…» «Вот. А у тебя, кроме типично еврейской физиономии и твоего прекрасного роста, ничего нет. Тебя могут повязать попросту за то, что ты проник в столицу без разрешения — из-за черты оседлости…» «А я снова сбегу обратно. Пусть ловят…» «Я тут с ума сойду от страха в ожидании твоего возвращения… Будь осторожен, Арончик!.. И чуть что — немедленно обратно в наше измерение…» «Без золота?.. Вот что, ты подожди меня здесь час, замри на этой скамейке и не высовывайся. А потом спокойно иди спать. Если я сразу не вернулся, значит все в порядке, я сублимировался. Вернусь не позже, чем завтра вечером.» «А если ты вообще никогда?..» «А вот тогда ты и поплачешь. Пока же оснований нет никаких.»
* * *
«Ну, что? — кинулась Жанна к внезапно возникшей из подворотни родной долговязой фигуре в театральном наряде российского мастерового.
Арон затравленно оглянулся и кинулся к баулу с обычной одеждой. Говорить он не мог, беспомощно открывая рот и икая. Он стал лихорадочно, прямо на скамейке переодеваться. — Господи, что с тобой? У тебя же получилось, раз тебя не было сорок минут! Говори же!..» «Я… ничего не понимаю, — произнес он, наконец. — Но боюсь, что мы напрасно потратили деньги и время на поездку в этот Санкт…» «Тебе не удалось попасть в прошлое?» «Нет. Я незаметно сублимировался на этой же площади, рядом с сенным базаром. Полно телег, лавки… Как ни странно, довольно людно. Поэтому я сразу спрятался в эту подворотню. Все в… подобной, вот этой одежде… Всадники проскакали в трех метрах от меня — прямо Пушкин или там Дан тес…» «Ну?» «Знаешь, я не решился выйти…» «Но ты же сам сказал, что, по теории вероятности, это путешествие не в наше прошлое, а в одно из тысяч измерений, а потому нашему миру твое вторжение ничем не грозит, так?» «А если грозит?.. Если в результате я вернусь сюда, а тут, скажем, ни одного живого еврея, включая всю мою семью, так как я что-то нарушил, и Гитлер победил? Короче говоря… Бог с ними, с деньгами. Заработаю, как и прежде намоем «санрайдере»…»
«Так где же ты тогда был почти сорок минут?» «Не знаю, Жанночка… И даже вообразить не могу… Понимаешь, все в этом, ну, «пушкинском» мире было как-то неясно, словно сквозь плохую оптику. Но когда я принял еще одну таблетку…» «Ну? Что потом?» «Все вдруг как-то прояснилось, словно навели на резкость. Свет… Не эти огни и не газовые фонари Санкт-Петербурга прошлого века, а никогда и нигде мною до сих пор не виданное сияние от словно светящихся изнутри верхних этажей зданий, от соборов, даже от деревьев… Вместо рынка — роскошный сквер, полный гуляющей публики. Никаких трамвайных путей. Впрочем, вот эта церковь-автовокзал стояла, причем удивительно нарядная… А напротив, там, где сейчас метро, — удивительной красоты собор. Здания вроде похожие, ленинградские, но такие нарядные, ухоженные. Все вокруг словно празднично сверкает!.. И полно чуть ли не поголовно высоких и красивых людей в абсолютно не знакомой, но очень привлекательной одежде. А машины!! А женщины… Боже мой, какие женщины, Жанночка!.. Какие у них наряды…»
«А ты?» «Меня приняли за нищего, сунули… вот эту купюру…» «Я ничего не вижу. Подожди… Давай-ка вот сюда, к витрине. Мамочка моя!! Смотри, что тут написано! Но ведь… такого быть не может, Арончик!.. Ты — гений! Смотри, куда ты попал…» «Ну-ка? Сначала дата. Так, 1998 год. Уже легче, не прошлое… Не навреди, как говаривал кто-то из врачей… Что?! Государственный банк Соединенныхъ Штатовъ России… Смотри, с буквой «ять»…» «А там можно что-то обменять на золото?» «Н-не думаю… Боюсь, что по сравнению с нами будущее — они. Но там, по-моему, безопаснее, чем здесь. Так что уезжай-ка ты домой, в Израиль одна, а я поброжу по этим… СШР…» «Где так много красивых женщин?» «Жанночка, у всех этих женщин есть там не менее красивые мужчины. Я им не конкурент…»
Глава 1
1.
«Представляю, что вам стоила эта работа! Еврей, вчерашний коммунист, нынешний сионист пишет портрет главного русского нациста! И вынужден часами вглядываться в ненавистное лицо. Неужели только ради выгоды, а?» «Сенатор, я достаточно богат, чтобы браться только за то, что мне не претит.» «Тем более нелогично! Ведь ни о какой бескорыстной симпатии ко мне не может быть и речи. Услужить же нам для вас, господин Лейканд, противоестественно и совершенно бесполезно. В нашем движении давным-давно нет места не только евреям, но и их отдаленным потомкам. Это один из главных пунктов нашей программы, которую мы не скрываем.» «Эка вы произносите слово «еврей», словно кирпичом по морде… Только ни ваша политическая деятельность, ни ваша программа меня нисколько не интересуют.» «Почему?» «Да потому, что вы в современном мире, как все, что базируется на разрушении и зле, а не на созидании и добре. Если вы хоть немного приблизитесь к власти, на вас просто спустят коммунистов. А без противодействия правящей коалиции они вас запросто слопают.»
«Подавятся, господин… сионист. И вы подавитесь вместе с ними, куда бы вы ни перебежали в следующий раз… Впрочем, вы не ответили на мой вопрос — зачем «русскому Рембрандту» писать портрет главного национал-социалиста России? Я, конечно должен быть польщен, но вы-то…» «Вы ведь тоже художник, господин Матвеев. Давайте закончим это полотно. И посмотрим вместе, что меня привлекло в вашем, так сказать, образе. Тем более, что вы назвали меня именно «русским» Рембрандтом.» «А каким же еще, не еврейским же! Сто лет тщетных усилий после наивного демарша венского мечтателя Герцля и его настырных последователей давно убедили евреев всего мира, что мировое сообщество никогда не позволит вам воссоздать империю Соломона в Палестине. Ни одна политическая сила в мире так и не поддержала усилия сионистов — ни юдофилы, ни юдофобы. Как бы вы нам всем за эти сто лет ни надоели, в своей стране вы принесете народам мира еще больше вреда! Но вернемся к полотну. Берегитесь, если вы этим портретом задумали что-то против меня или моей партии. Мы не коммунисты — в порошок сотру…»
«Сенатор, я не служу ни нацистам, ни коммунистам. Я служу одному богу — русскому искусству. Давайте на время сеансов не будем говорить о политике. Оставайтесь самим собой, моим терпеливым натурщиком. А я — самим собой — объективным художником. Я не скажу вам ничего нового, если повторю, что ненавижу вас, может быть, еще больше, чем вы меня, но сегодня мы вместе создаем то, что останется русскому народу и будет останавливать толпы в Русском музее. Сегодня, на грани веков и тысячелетий, поверьте, трудно поразить воображение пресыщенных поклонников живописи. А мы поразим.» «И портрет останется русской нации!» «Русскому искусству. Для нации, в вашем понимании, я бы палец о палец не ударил…»
2.
Князь Андрей Владимирович Мухин, член правления Путиловского исследовательского центра, равнодушно скользил глазами по залитому фиолетовой табачной дымкой залу ресторана «Север». Алая подсветка эстрады словно на весу держала оркестр, исполняющий модное в этом сезоне «танго начала века». Затянутая в пурпурное блестящее платье гибкая певица дарила лучистой улыбкой каждого посетителя ресторана.
Назаров стремительно и бесшумно причалил, поблескивая значком со свастикой на лакейском фраке, принял заказ и словно растворился на фоне бархатной бордовой портьеры.
Мухин ослабил голубой шейный бант, откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза, надеясь расслабиться в своей ложе и что его не заметят многочисленные знакомые. Но за горящими на столах в крохотных букетиках свечами уже искательно поблескивали знакомые глаза «русского Рембрандта» под рыжей шевелюрой. Оставалось только приветливо улыбнуться. Лейканд тут же поднялся из-за стола и направлялся в сторону ложи бывшего однокурсника.
Как обычно, он был со своей очередной натурщицей. На этот раз рядом с ним словно плавно скользила над полом высокая стройная брюнетка с большими серыми глазами под своеобразным, но почему-то очень знакомым Мухину разлетом бровей.
«Сейчас я тебя познакомлю, Марина, с князем Мухиным, — говорил между тем художник. — Не бойся, я вовсе не собираюсь делиться тобой с собратом по кисти. Андрей Владимирович не художник, а морской архитектор. Как раз к 2000 году от Рождества Христова граф Василий Путилов подписал к исполнению его очередной «проект века». А три предыдущих уже принесли князю огромное даже по путиловским понятиям состояние и мировую известность. Меня тоже судьба не обошла славой, — хохотнул он, — но князь, к тому же, отличается не доступной мне и столь любезной националистам славянской красотой. Рад видеть тебя, Андрюша…»
Мухин поморщился. Творчество Лейканда отличало удивительное сочетание добра и зла, он считался непревзойденным мастером контраста. То же самое бросалось в глаза и в облике самого мастера. Искательная и одновременно нагловатая улыбка на несимметричном тяжелом лице великого художника современности всегда удивляла и раздражала Мухина в друге студенческой юности.
Поднявшись в ложу князя, тот сначала сел сам, а затем небрежно кивнул на свободное кресло девушке, не представляя ее. Андрей Владимирович, напротив, встал, коснулся губами протянутой узкой холодноватой руки, и неожиданно для себя вздрогнул, встретив ее изумленный взгляд. Где я ее видел, знакомое же лицо, подумал он и уже не мог ни на чем больше сосредоточиться.
Назаров бесшумно пертёк с заказанными блюдами от портьеры к столу, сузил свои и без того небольшие татарские глаза, на вскидку оценивая происхождение Марины с точки зрения члена «Союза русского народа».
Хорошо знакомый ему Лейканд привычно привередничал, намеренно ронял рюмки, называя Назарова «братец», отменял только что одобренные блюда, не спрашивая при этом мнения своей подруги. Да, у нас не Монмартр, думал князь, с партнершами по искусству не церемонятся…
Черносотенец профессионально терпел, повторяя: «слушаю-с, барин» и «будет исполнено, как же-с…»
Девушка, заметно избегая смотреть на князя, молча следила за танцующими. Ее глаза словно светились изнутри в тени нависающих над чистым лбом густых волос. Чуть приподнятые природной полуулыбкой уголки ее нервного рта мило и беззащитно вздрагивали невпопад, когда друзья при разговоре вроде бы обращались к ней, хотя она не только не произнесла ни слова, но даже не прислушивалась. Наивное обаяние ее молодости стирала едва заметная черточка над переносицей, след недавнего глубокого страдания. Каждое ее движение выражало аристократичность, хотя, при всей своей подчеркнутой красоте и грации, она была явно не из света.
По своему неприятному обыкновению, Лейканд вдруг прервал разговор на полуслове, замахал кому-то, небрежно извинился и выпорхнул в зал, неся над столами свою огненную гриву на откинутой назад голове. Навстречу ему шумно ринулись поклонники и поклонницы.
«Вы давно знакомы с Вячеславом Абрамовичем?» — осторожно спросил Мухин, наклоняясь к розовой щеке своей соседки. «Знакома? Вы же видите, что я просто его натурщица. Он мне платит.» «Это честь, — мягко сказал князь. — Лейканд — великий художник.» «Еще бы! Портрет Матвеева прославит его еще больше. И такой славы потомки ему вряд ли простят!..»
Нежное лицо собеседницы вдруг побледнело и пошло пятнами, возникшими даже на шее и плечах. Видя его удивление, она отчаянно пыталась справиться с настроением, не меняя позы и выражения лица. «Вы… коммунистка?» «Уже нет.» «Почему же вас шокирует деятельность Матвеева?» «А вас нет?»
Он пожал плечами: «В академии мы вместе с Лейкандом читали Ленина и много спорили о том, что произошло в июле 1917, - помимо своей воли привычно угадал Мухин неожиданные для него мысли девушки. — Можно только гадать, что было бы сегодня, к концу века, если бы коммунисты тогда пришли к власти, оправившись после разгрома их штаба и убийства Ленина.» «Вас это тоже беспокоило? — ноздри ее точенного носа вздрогнули. Она даже потеряла дыхание и закашлялась. — Простите… я думала, что сразу после школы все забывают об этой истории.» «В конце концов, — охотно продолжал Мухин так явно интересующую его собеседницу тему, — та роковая казачья сотня оказалось на июльском митинге совершенно случайно, чуть ли не из-за черной кошки поперек проспекта… Но, в конце концов, что такое сотня, хотя бы и казачья, если под Петроградом был пятитысячный корпус генерала Корнилова!»
«Знаете, — она неожиданно положила на его руку на столе дрожащую холодную ладонь, подняла, наконец, на князя глаза и странно смешалась от встречи с его взглядом, — в последнее время я только об этом и думаю! Легенда о черной кошке всегда казалась мне выдумкой. А теперь меня без конца тянет к памятнику ей на Петербургской стороне. Если бы не она и не суеверие, казаки не оказались бы у особняка Матильды Кшесинской. Ведь они и не подозревали о штабе большевиков вблизи их пути. И вот судьба страны поворачивает политически нейтральную сотню к митингу. И, надо же, ее останавливает именно тот самый матрос, что накануне убил их любимого есаула!..»
Она сказала это так серьезно и с таким волнением, словно трагедия у особняка балерины случилась вчера. Странно, подумал Мухин, таких натурщиц у Лейканда никогда не было! И почему этот прекрасный разлет бровей мне так знаком?
Черная кошка, казачья сотня… Вроде бы обычная в тогдашнем революционном Петрограде потасовка, впервые всерьез подумал об этом хрестоматийном эпизоде истории Мухин, а ведь, похоже, действительно изменила весь ход истории крупнейшей страны земного шара. Да и всего человечества.
«Современные аналитики-коммунисты, — заметил он, удивляясь самой теме своего разговора с незнакомой юной натурщицей, — на компьютере вычислили, что вероятность подобного развития событий вообще была почти нулевой. Впрочем, что могли противопоставить солдаты-резервисты и вся эта застоявшаяся в кубриках балтийская шпана профессионалам-казакам с их трехлетним фронтовым опытом?»
«Вот-вот, — горько усмехнулась Марина. — Сейчас нам с вами самое время посмеяться над неким большевиком-грузином со звучной фамилией Сталин, которого зашибла насмерть копытом прямо в клозете казацкая лошадь, ошалевшая от грохота стрельбы, когда тот пытался приоткрыть дверь на шум… И заодно поиздеваться над «оратором и философом, не то журналистом, не то несостоявшимся присяжным поверенным» Владимиром Лениным, которого доблестный насадил на пику прямо на балконе. Но вы даже отдаленно не представляете, насколько все это НЕ СМЕШНО…»
Она вдруг мило сузила глаза, в которых промелькнуло напряжение, даже ужас, которых она явно стеснялась. Андрею Владимировичу стало не по себе. Психопатка? Коммунистка-фанатичка? Не похоже. И почему она так явно втягивает меня в этот более чем странный разговор?
«Вы считаете, что именно те несколько июльских часов изменили весь казалось бы необратимый ход истории? Оказались роковыми для России?» «Напротив, — побледнев, неожиданно резко сказала она. — Было остановлено катастрофическое развитие событий, когда бесы были перебиты на Петербургской, а потом начисто сметены подоспевшими с фронта частями.» «Интересно… А как же последующая бесчеловечная ссылка за границу арестованного царя с семьей?» «Вы даже не представляете, насколько человечной была эта акция революционного правительства! И как повезло семье государя…» «С ссылкой? И без тени претензий на трон?» «Но еще больше повезло всем нам, — торопилась высказаться она, лихорадочно блестя нервно сужающимися глазами глазами, — когда Антанта в тридцатые годы направила в Германию экспедиционные корпуса.» «Позвольте, Марина, — горячо возразил князь. — Все современные историки считают, что это была наглая интервенция победителей в поверженную и беззащитную страну! Германские национал-социалисты пришли к власти демократическим путем. Их выбрал народ вместо социал-демократов и коммунистов. Наступив на горло воле германского народа, Антанта совершила международный разбой. Реанимацию в тридцатых годах прогнившего Веймарского режима никто не оправдывает к концу века. Любая иностранная интервенция — произвол! Как и разбойное нападение на политических противников со зверским убийством вождей, как это было у нас в 1917. И что же? Зажигательные идеи «национальной революции», которой не дали реализоваться и дискредитировать себя естественным путем, оказались до сих пор такими же живучими, как и идеи революции социальной. Никто не знает, правы ли фашисты и коммунисты исторически и на что способны на практике их идеи. Им просто насильно не дали проявить себя. А потому…»
Все это так, с изумление слышал Мухин свой взволнованный голос, но, воля ваша, не смешно ли вообще обсуждать всю эту полузабытую давнюю историю с какой-то натурщицей только потому, что ее почему-то беспокоит этот чисто хрестоматийный миф о черной кошке? Почему она-то так оскорблена внезапным ренегатством бывшего активного коммуниста, а теперь не менее ярого сиониста Лейканда? Классовая ненависть? Но даже среди старых коммунистов, давно ставших довольно рутинной безыдейной партией, ничего подобного не наблюдается. Что могло ее так сильно взволновать? В России давно конфронтация стала цивилизованной. Лидеры разных партий, дружат семьями. Сплошные условности, а обострение отношений происходит только раз в пять лет — на очередных выборах. И опять же не на этом уровне. Классовый и социальный мир — реальность российского общества уже лет пятьдесят. И какая нам-то сегодня разница между красным флагом с серпом и молотом над штабом коммунистов в Смольном и красным же флагом с белым кругом, в котором двуглавый орел держит в когтях свастику, над штабом фашистов в Кикиных палатах? Ни там, ни тут давно не строят никаких планов реставрации потерянного в июле 1917 года рая для трудящихся всех стран или освобождения от еврейства по планам Гитлера… И там и здесь изредка бушуют внутрипартийные страсти или идет борьба за соответствующего избирателя. И тут и там силы самообороны на вертолетах и бронетранспортерах, тайные партийные суды и полиции, до которых большинству россиян нет никакого дела. Вместе с нацистами коммунисты срывают на выборах не более двадцати процентов голосов. Даже обсуждать все это — моветон!
«Вас смущает мое поведение? — прервала она его молчание. — Если хотите, спрашивайте. Не сидеть же молча. Вячеслав Абрамович обожает славу. Он там надолго.» «Как ваше имя?» «Действительно, я и забыла, что я не из тех, кого в вашем обществе представляют друг другу. Я — Марина. А вы — князь Андрей, как мне сказал Лейканд, когда увидел вас. Вы действительно князь?»
«Из новых. Как бы второго сорта князь. Не из Голициных.» «Вы даете мне понять, что и вы не из лучшего общества, так?» «А я вообще не знаю, из какого общества вы.» «И не интересуетесь?» «Потому, что вы натурщица? Пожалуй, нет. Натурщица у Лейканда — это честь.» «Бросьте, какая честь! Я пошла к Лейканду, естественно, ради денег, а не затем, чтобы стать Саскией двадцатого века на полотнах очередного Рембрандта. Да у меня и не было особого выбора. Что бы я ни перепробовала, все упиралось в эксплуатацию моей наготы. Лейканд — не исключение. Так что я скорее тело, чем личность. Не понимаете? О, да! Мы живем в богатейшей в мире великой свободной стране. Россия диктует свою просвященную волю всему человечеству. И — мне, среди сорока миллионов безработных, нищих и прочих, обойденных ее величием. Понимаете, не тем, о ком вам кричат сытыми голосами ваши демократические газеты, а мне лично. Впрочем, вам-то какое до всего этого дело!..» — она судорожно сглотнула слюну и скомкала салфетку.
Волна острой жалости и нежности к этому великолепному беззащитному существу вдруг поднялась в Мухине. Он положил руку на ее холодный кулачок: «Мне интересно все, что касается вас, Марина. Сам не знаю почему. Я давно никому ничего подобного не говорил. Если я вас не совсем раздражаю, расскажите мне о себе. Вы учились?» «Училась? После гимназии я провела два года в Бестужевке, пока не убили отца. А потом… Потом и мама умерла. Я не из вашего круга, князь. Скорее наоборот.» «Мне это все равно,» — быстро сказал Андрей Владимирович.
Марина расцвела какой-то неожиданной для такой напряженной девушки застенчивой улыбкой. Ему остро, до головокружения, захотелось прикоснуться к ней. Он встал и поклонился, приглашая на танец. Лейканд издали поощрительно кивнул Марине, делая губами поцелуй. Лицо Марины исказила гримаса. Она резко отвернулась и положила руки на плечи Мухина. В центре зала было светлее, исчезло обаяние розового полумрака ложи, но девушка казалась такой же юной и привлекательной. От ее спины в ладони Андрея Владимировича струился совершенно ему не знакомый ошеломляющий ток. Он испытывал сжимающий сердце страх, не имеющий ничего общего с привычной страстью от прикосновения к нежной женской коже. Глаза их встретились, и оба вздрогнули так, что испугали друг друга. Ее сияющие под челкой бездонные глаза внезапно сузились словно от боли, одновременно увеличились и без того большие в темноте зрачки. Мухин невольно ослабил свои руки на ее спине.
«Это не вы, — сморгнула она. — Это мои мысли…»
«Не выйти ли нам?»
Судорожно кивнув, Марина ловко выскользнула из его рук и устремилась к выходу. Мухин догнал ее уже на лестнице, взял ее под руку. Гардеробщик молча подал ее шубку. В ней Марина показалась еще выше и стройнее. В жизни не видел ничего подобного, радостно прокричало в мозгу у князя. Это же какая-то запредельная красота!..
3.
На Невском сквозь густой рой снежинок сияли сотни реклам. Главный проспект необъятной страны, раскинувшейся по трем частям света от выкупленной Аляски до присоединенной двадцать лет назад Сербии, встречал новое тысячелетие христианской эры. На фоне Гостиного Двора искрились в ряд рождественские елки. Рекламы всего мира были здесь принципиально только на русском языке.
На Садовой тихо кружила метель. Бездомные грелись на вентиляционных решетках метро у Летнего Сада. «Неизбежные издержки цивилизации,» — кивнул на них Мухин, пытаясь вернуться к теме разговора, которая ее так остро интересовала. «Вашей…Я хотела сказать, этой цивилизации.». «Другой не придумано, Марина.» «Не придумано? Совсем недавно я была уверена, что давно придумана, что ей просто не дали состояться — насадили на казацкую пику много лет назад. Совсем недавно я была уверена, что могла быть совсем другая Россия. Для всех, а не только для богатых. Дом всех народов, а не их тюрьма немногим лучше царской. А сегодня мои политические склонности не имеют ничего общего с этой идеологией, и, боюсь, не имеют вообще отношения к реальности…» Она произнесла это как-то злорадно-обличающе и поморщилась от собственной фразы, как от приступа зубной боли.
«Что же изменило ваши такие логические предположения? — осторожно нащупывал разговор князь Андрей. — Коммунистическая утопия не хуже любой другой, не так ли?.. Что же касается нашей сложившейся страны, вы не совсем справедливы. В царской России каждые пять лет были засухи и голод, бесконечные эпидемии, поголовная неграмотность, погромы и продажная бюрократия. В благополучной стране не случаются революций, разве что только Вавиловская тридцатых годов. В результате ее победы мы не зависим от погоды, снимаем самые большие в мире урожаи с гектара. Голода в стране нет. Крестьянство наследственно владеет землей и поголовно зажиточное. И вот это уже не утопия. Какая же это тюрьма народов? Общество не виновато, что десятки миллионов хотят жить в городах, особенно в столицах. Согласитесь, трудно при нашем уровне автоматизации и компьютеризации производства найти рабочие места для двадцати миллионов петроградцев…»
«Князь, вам действительно интересно беседовать со мной на эту тему?» «Вы правы, с вами я бы охотнее поговорил о чем-нибудь другом, хоть о погоде. Но вам, я чувствую, надо именно со мной выговориться и именно на эту тему, не так ли, Марина?»
«Да! Необходимо. Именно с вами, и вы даже не представляете, как я вам благодарна за предоставление мне здесь и сейчас такой возможности!..» «А мне приятно беседовать с вами на любую тему.» «Тем более, — продолжала она свою мысль, — что любая другая тема разговора между нами неизбежно приведет к привычной претензии на… не так ли? И тогда нам немедленно придется расстаться. Я действительно торгую своей наготой, князь. Но не торгую своим телом. Я не проститутка. Я выстроила свою жизнь так, что лучше любая боль, чем унижение близостью без любви.»
«У меня… есть наивная надежда на сочетание того и другого.» «Во-от как!.. На каких же это условиях?» «На условиях взаимного уважения свободы выбора. Вы не обольщаете меня ради моего положения, используя свою красоту и обаяние. А я не пользуюсь своим положением для привлечения вашего расположения. Вас устраивает такое равновесие сил?» «Ну… пожалуй. Итак, на чем мы остановились?» «На потерянном рае для всех вместо обретенного после черной кошки рая для изначально благополучных, так?» «Вы полагаете, что это было невозможно? Что труды Ленина — просто разновидность одной из утопий? Если да, то что им можно возразить, кроме казацкой шашки и нагайки?» «Откровенно говоря, возразить нечего. Без того эпизода Ленин и его сплошь интеллектуальное окружение просто подобрали бы валявщуюся власть, которой никто долго так и не сумел воспользоваться. Это была единственная сильная, организованная и энергичная партия. Она и сейчас в России не из худших. Поэтому я, пожалуй, скорее сочувствую коммунистам. Особенно в их противостоянии фашистам. Даже как-то довольно активно поучаствовал в одной демонстрации?» — он, смеясь, коснулся едва заметного шрама на лбу. «Вы?.. Интересно! Никогда бы не подумала…»
За Марсовым Полем начиналась Нева. Некогда именно здесь пролегал Троицкий мост. По нему и должна была тогда мирно проследовать на Балтийский вокзал и далее — на фронт, под германские пулеметы, та роковая казачья сотня. Чтобы Ленин и его большевики осуществили провозглашенную в апреле 1917 года социалистическую революцию, сначала в России, потом во всем мире. «Чтобы никогда больше на земле не было бедных, безработных, бездомных, голодных.» Теперь вместо моста, как и вместо всех прочих мостов над Большой Невой, были очерченные ростральными колоннами и решетками балконы. Поток машин исчезал в просторном туннеле на Петербургскую сторону. Полвека назад судоходные компании построили эти туннели, а разводные мосты остались на прочих протоках великой реки-пролива. Были построены десятки новых мостов через Невку, Малую Неву, Мойку и Фонтанку, но Большая Нева стала свободной для круглосуточного судоходства.
За рекой в морозном мареве громоздились облакоподобные небоскребы гигантского делового центра, русского делового центра, предтечи парижского Дефанса.
Между этим центром из стекла и бетона на Выборгской стороне пролегал новый монументальный респектабельный Петроград с особняками и доходными домами. Он был похож на старый город, с теми же орлами, атлантами и сфинксами, но на три-четыре этажа выше. Здесь Россия демонстрировала незыблемость своего политического выбора — власти золотого рубля над всем миром хищников послабее…
«На той стороне моя гимназия,» — вдруг тихо сказала Марина. «Кто ваши родители? — осторожно спросил Мухин. — Простите, я хотел спросить, кем они были?» «Мой отец — Владлен Сикорский…»
Так вот почему ее лицо сразу показалось ему таким знакомым! Портреты лидера коммунистов неизменно тиражировали десяток лет все газеты. Он не исчезал и с экранов телевидения.
«Тот самый!..» — выдохнул князь. «Вот именно. Когда его убили… Ну, вы помните, чем это все кончилось…» «И пока он был жив, вы учились в престижной гимназии и даже в Бестужевке, а потом партия бросила дочь своего погибшего вождя, заставила зарабатывать… наготой? Это совершенно не в традициях любой партии, тем более коммунистов! Почему?»
«У меня… У меня была одна фантастическая встреча, совершенно изменившая мое мировоззрение. И я выступила на историческом диспуте в Бестужевке с антикоммунистических позиций. Меня тотчас же отлучили. Это у нас просто…» «Вы полюбили антикоммуниста?» «Полюбила? Не думаю, он старше даже моего отца. И он вовсе не антикоммунист. Очень интересный человек, но дело совершенно не в этом. Из-за него и Лейканд ушел от коммунистов. Ну, в общем, этот человек сначала Лейканду, а потом и мне такое показал и рассказал!.. Нечто невообразимо страшное. Я так и не смогла потом переосмыслить все это. И вот сейчас, с вами, пытаюсь встать на привычные позиции. И — не могу…» «Да кто же это был? И что такое кто угодно мог рассказать девочке, выросшей в доме Владлена Сикорского, которого даже фашисты называли совестью России?!»
«Он — сионист, но суть не в этом… Совсем не в этом…» «Вы — еврейка?» «По маме. Это у нас в партии прямо традиция что ли…» «Знаю. И что же? Вы теперь за создание еврейского очага в Палестине? Но сионистская утопия еще слабее коммунистической, Марина. Вы знаете, что все президенты Соединенных Штатов России всегда пресекали в зародыше эту идею. Евреям, по-моему, в России гораздо лучше, чем даже в Северо-Американских соединенных штатах. Почти вся эмиграция начала века вернулась домой. Не вина России, что евреи кучкуются в местечках и в этой ужасной Еврейской слободе Петрограда. Я совсем не юдофоб, терпеть не могу Матвеева и его ублюдков, но считаю, что сионизм совершенно бесперспективен. Он никогда и ни при каком раскладе не мог бы осуществиться на этой планете. Евреям генетически чуждо чувство Родины. Любой. Тем более своей.»
«Не надо мне об этом, — неожиданно мягко сказала Марина, коснувшись его руки. — Я совсем не сионистка. И то, что он мне рассказал и, главное, показал… не имеет никакого отношения к сионизму, хотя главный кошмар касается все-таки несчастных евреев. Речь идет о России, о коммунизме, о социалистической революции. О ее последствиях для нашей страны. Когда я ему поверила, я сначала хотела просто принять яд.»
«Поверила? Дочь Сикорского? Марина, познакомьте меня с этим человеком.» «Это довольно опасно, князь. Он скрывается от фашистов и коммунистов.» «И фашисты, и коммунисты охотятся за одним и тем же человеком!? Но это невозможно. Да кто же он?»
«Кто он? Лучше скажите, кем вы будете считать меня, если услышите, что он родился в Ленинграде, учился в Москве — столице Союза Советских Социалистических Республик, а сюда попал из Израиля — мощного независимого еврейского государства в Палестине?»
«Н-ну, если так, то… Послушайте, вы так дрожите!.. Давайте-ка поедем ко мне, выпьем по чашечке кофе. А потом я вас отвезу домой, идет? А то от таких странностей мы сейчас оба настолько обалдеем, что нас просто свезут в Гатчину, к последователям доктора Кащенко…» «Я так и знала. Никто подобное не может сначала воспринять как-то иначе.» «Просто вам… знаете ли, в таком… состоянии негоже быть одной.» «Я так и знала. — грустно и тихо повторила она, безнадежно опустив руки и сгорбившись. — Мне не следовало вообще пускаться с вами в откровения… Простите меня и считайте, что я просто пошутила. А теперь нам лучше расстаться. Я прекрасно доберусь к себе на метро. Что с вами? — Выражение лица этого респектабельного чужого красавца поразило ее. Она впервые в жизни была в подобном обществе и могла ожидать чего угодно, но не такого искреннего ужаса в глазах. — Андрей Владимирович! Вам нехорошо?»
«Нет, просто я вдруг убедился, как просто и быстро я могу вас потерять навсегда. А мне этого ни в коем случае не хотелось бы. Я не знаю, что на меня вдруг нашло, но ваше безумие оказалось заразительным. Мне почему-то страстно захотелось немедленно узнать все подробности о каком-то Союзе и о могучем Израиле. Не уходите, Мариночка…» «Хорошо,» — ответила она с облегчением.
4.
На набережной Фонтанки напротив Летнего Сада сверкало мрамором и зеркальными стеклами здание Путиловского Центра. По сигналу Мухина мальчик подогнал из гаража белоснежный «путятин» последней модели с золотым гербом князей Мухиных.
Марина погрузилась в бархатные белые подушки рядом с Мухиным, который быстро настроил путевой компютер и нажал кнопку с синей подсветкой в розовом теплом сумраке кабины. Машина стремительно понеслась по улицам столицы, почти не нуждаясь в водителе. Старый город выставлял напоказ убегающие назад ухоженные проспекты. От петербургских домов здесь остались только фасады или их копии. Все остальное было давным-давно в современном духе. Поэтому город выглядел как только что выстроенный — чистый, выметенный чуть ли не досуха после каждого снегопада шустрыми бесшумными роботами-дворниками.
На Владимирском мелькнула витрина магазина мехов.
«В подобном магазине на Невском я продаю свою наготу, — вдруг сказала Марина. «Это было неизбежно?» — Мухин вспомнил этих живых голых манекенщиц, смущавших публику и богобоязненную прессу.
«До этого я была уборщицей в пирожковой, три рубля в неделю. Вам не приходилось жить на такой доход, князь? Полтора рубля за квартирку в мансарде, пятьдесят копеек на метро, остальное… И тут объявление: в магазин мехов Гоги Шелкадзе требуется манекенщица в витрину — сорок рублей в неделю, представляете?» «Конкуренция?» «Еще бы!» «Пришли десятка два красоток со всего Петрограда?» «Около того. Холод собачий, ветер, снег с дождем, погода не для моей синтетики. Какой-то тип приглашает нас в пустынный склад, такой же холодный как двор и устраивает себе стриптиз… И когда отсеял всех, кроме пятерых, то говорит, что ему нужна только одна манекенщица… Понимаете, только одна… Рабочий наряд — «в соответствии с режиссурой рекламы». Сами понимаете, каково в таком «наряде» перед ним стоять — и морально и физически…»
Мухин представил свою новую знакомую в одних туфлях и едва не потерял сознания от мелькнувшего образа.
«Тут он снимает с плечиков первую шубку, — между тем весело рассказывала она сейчас, поблескивая глазами, — накидывает ее поверх своего костюма. Не застегиваясь, повертелся у зеркала, потом перед витриной, корча кокетливо недовольные гримасы. Снял первую шубу, примерил другую — богатая модница делает смотр своего гардероба после ванной. Ясно? — говорит. — Тогда пробуйте. И — не жалейте улыбок всем, кто остановится у витрины. Наша реклама — контраст дорогого меха с гладким человеческим телом. Но и улыбка.!»
«Вы, конечно, привыкли к подобной рекламе, князь, — лучились в зеркальце расширенные словно от ужаса глаза Марины. — Я и сама проходила спокойно, не думая, каково тем, кто выставляет себя перед всеми!.. Так что улыбка мне не удавалась, как и взгляд в глаза тем, кто оглядывался на меня с тротуара.»
= = =
«Где ты раскопал такую скелетину, Юра?» — спросил кто-то за ее спиной. А как иначе могла выглядеть даже и самая привлекательная девушка, если она месяца два жила впроголодь…»Не нравится?» «Была бы суперлюкс, если бы не ребра.» «Откормим». Действительно, принесли кофе, бутерброды, появился парикмахер, гример. И снова за невидимым подогретым стеклом в полуметре от нее шли одетые в пальто и шубы люди, катили на санках закутанных детей. Священник в рясе с мокрым подолом ниже длинного пальто воровато оглянулся на витрину и замедлил шаги, увидев вдруг живую модель в упор и перекрестился.
= = =
«Я как раз очередную шубу сняла, а этот Юра, как назло, смотрит, как я себя буду вести перед попом, — хохотала Марина. — А тот резко отвернулся, ускорил шаги и, представляете, тут же идет обратно, снова крестится и снова идет мимо, понравилась я ему… Потом какой-то парень в высокой шапке подозвал другого, оба стали делать мне непристойные жесты. Подошел городовой, что-то сказал им, подмигнул мне и лихо так шевельнул усом. Ему я и подарила свою первую улыбку. И продолжала РАБОТАТЬ. Согрелась в своих шубах, начала импровизировать. К концу дня с непривычки совершенно обессилела и стала садиться на поданный для этого стул. Зато аванс оказался целым состоянием — десять рублей! Немедленно покинула свою мансарду и сняла относительно приличную квартирку, купила кое-что из одежды, а главное — позволила себе пообедать в нормальном ресторанчике.»
= = =
Марина расслабилась в неожиданном уюте нового жилья и набрала номер единственной и любимой школьной подруги, которой давно не звонила. «Вас слушают,» — раздался знакомый голос, но тут же возникла на экране горничная: «Сожалею, сударыня, но барышни нет дома.» «Настя, это я, Марина.» «Барышни нет. «Так быстро узнали о витрине? Или это еще с тех пор, как убили отца? Ведь его нашли около только что ограбленного банка…
= = =
«Лидер коммунистов — гангстер?» — вспомнил Мухин загадочные заголовки газет. — Я помню, как все это обыгрывалось. А потом сообщили злорадно, что один из первых политиков страны поразительным даже для его имиджа образом не оставил своей семье практически ничего. И что его дочь получила вполне сносную партийную пенсию. Это не так?»
«Получала. До того как ко мне как-то подошел в Летнем Саду Лейканд, бывший сподвижник отца. В то время много писали, что «русский Рембрандт» недавно резко порвал с коммунистами и примкнул к относительно мало заметным на политической карте России сионистам. На этой встрече он еще не предложил мне стать его натурщицей. Это произошло позже, когда он долго стоял в своей богатой шубе, опираясь на палку, и рассматривал меня уже в витрине. А в Летнем Саду он на правах старого знакомого представил меня своему более чем странному спутнику. Такой высокий напряженный пожилой господин — словно из прошлого. В очках.»
«Не может быть! Уже лет тридцать, если не больше, никто очков не носит после изобретения лазерной коррекции зрения.»
«Мало того, у него были стальные зубы в глубине рта и стальные же крючочки для зубного протеза впереди.»
«Действительно, человек из прошлого, — откликнулся Мухин. — Во всем мире давным-давно научились отращивать здоровые новые зубы взамен потерянных. И как он был одет?»
«Жутковато… В каком-то странном камзоле с узким галстуком вместо привычного мужского шейного банта. На нем были старомодные нелепые прямые брюки до земли вместо удобных и привычных мужских панталон. «Меня зовут Фридман, — говорит он. — И я попросил Вячеслава Абрамовича представить меня вам… Вас показывали в хронике о похоронах Владлена Сикорского.» У него был какой-то совершенно дикий акцент и ни на что не похожие интонации. «Мне надо именно с вами побеседовать…» «Да о чем?» «Вы дочь одного из главных коммунистов страны. И вы пользуетесь огромным авторитетом у комсомольцев. Вам необходимо знать. Уверяю вас, это будет вам очень интересно… Я вовсе не собирался попадать в ваш Петроград. Я математик, автор открытия в области топологии и конверсии в параллельных измерениях. Я хотел на этом заработать самым тривиальным образом: переместиться в Санкт-Петербург тридцатых годов прошлого века и там обменять магнитофоны с записями классической музыки на золото, а заодно, если повезет, увидеть живого Пушкина. Но в последний момент испугался, что попал случайно именно в свое и без того не очень удачливое измерение и могу в нем сильно навредить для будущего. Просто не застать, вернувшись, мою семью… Хотел было тотчас вернуться, но уж больно интересно было хоть одним глазком взглянуть на все эти конные экипажи, всадников в нарядах пушкинской эпохи. Но нормальной конверсии в прошлое все равно не получалось. Что-то не срабатывало. А когда я увеличил мощность, то неожиданно оказался вот прямо здесь, совсем не в прошлом, а в своем же времени. Но только в вашем непостижимом для меня измерении, которого и быть-то не могло… Именно поэтому вам полезно посмотреть кое-что из нашего варианта развития России…» И вот в своем подвале он настроил нам какой-то допотопный видеомагнитофон и стал один за другим демонстрировать такие фильмы!.. «Надеюсь, вам интересно все, что я вам рассказал и показал?» — спросил он, наконец, а я не могу произнести ни слова! Вы бы посмотрели… такой ужас!»
«Мне тоже интересно было бы все это посмотреть!» «А мне еще «интереснее» было потом, на юбилейном Июльском диспуте в Бестужевке, когда я вдруг попросила слова. На этих дискуссиях неизменно муссировалась мысль о России, которую мы потеряли, когда казаки убили наших вождей. Каждый готовил реферат, фантазировал в меру своей эрудиции и фантазии. И тут ведущий сказал: «А сейчас наша Марина поделится своими мыслями о вероятных путях развития России.» Тишина настала полнейшая. Ведь я до этого ни разу не выступала, как ни просили комсомольцы. А тут вдруг выхожу и громко говорю, едва живая от волнения: «Мне стали знакомы некоторые факты, которые вообще исключают мое дальнейшее пребывание в коммунистическом движении… Если бы Ленин выжил и мы победили бы в 1917, то…» После этого я наговорила такое, чего не позволяли себе самые оголтелые антикоммунисты. И кому наговорила! И с какой уверенностью и ненавистью к родному движению всех присутствующих, их родителей и дедов!.. Естественно, меня в ту же минуту отлучили от всего, что связано с партийной кассой: от образования, от отцовской квартиры, от пенсии. Никто и не подумал ознакомиться с этими видеокассетами. Я потеряла все. Взамен остался нищий и нелепый новый знакомый, этот Фридман. С его ужасной информацией об истории параллельного мира, разрушившей мой собственный мир, такой понятный до рокового знакомства. Надо сказать, что его в нашем мире все только восхищало. Даже самые очевидные мерзости СШР не производили на моего странного спутника никакого впечатления. Например, он как-то попросил меня провести его в самый лучший книжный магазин в столице — Дом русской книги. Я там часто бывала с папой. Нам всегда помогали найти все, что нам надо. Но тут такой обычно любезный толстомясый приказчик со значком-свастикой на лацкане фрака посмотрел пристально на этого Фридмана, потом, как на незнакомую, посмотрел на меня и пригласил нас к выходу. А там плакат, которого я до того и не замечала: «Армяшек, татарву, хохлов и прочую жидову просят не беспокоиться. Наш магазин — для русских. Магазин для прочих — на Кирочной. Спасибо.» Фридман только пожал плечами под своим нелепым плащом. Вам и это интересно?…»
«Еще бы! Я и сам могу вам кое-что рассказать об этом же Доме русской книги. И меня всегда принимали там с особым почетом. Но как-то я привел туда коллегу-негра из Северо-американских Соединенных Штатов. Приказчик вежливо попросил чернокожего профессора удалиться. Мол, расисты есть и в Америке, а в Петрограде полно книжных магазинов для терпимых покупателей. «Поймите, — говорит он иностранцу, — у нас тут своя клиентура, исключительно чистая публика. Приход сюда чернокожего она может воспринять только как провокацию. А мы против всяких скандалов, мистер, нам репутация дороже. Поэтому вам лучше бы на Кирочную. Там ваши любезные жиды ничуть не хуже магазин держат.» «Надеюсь, вы понимаете, — говорю я вызванному хозяину, что и я у вас больше ничего не куплю?» «Что делать, князь? У нас свободная страна, а жиды торгуют книгами без всяких ограничений…» Спустя несколько дней проезжаю я по Литейному и вижу у магазина пикет коммунистов. Ну и, к их изумлению, становлюсь с ними в ряд. «Почему пикетируем?» «У них презентация книги Гитлера. Ждут автора.» «Вы с ума сошли! Он что, еще жив?» «Нет, конечно. Книгу презентует как бы его соавтор. Новая версия: «Майн Камф — в России». «Ага, тогда стоит его не пустить. И в магазин, и, главное, в Россию.» «Вот именно…» Тут подъезжает бесконечный кортеж, на проспект высыпают фашисты и, без предисловий и претензий, стали дубинками нас оттеснять. Впрочем, и коммунисты, тоже без единого выкрика тотчас включились в привычное действо, для того и пришли… Началась общая свалка, кругом телекамеры. Ну, мой образ жизни редко позволяет оттянуться по-мужски, колочу по всему, к чему прицеплена свастика. Пожилой геноссе-автор терпеливо ждет вдалеке окончания этого русского безобразия, покуривая сигару, полиция воет сиренами. Все было более-менее пристойно, пока вдруг не раздался выстрел. Тут из-за крыш появился и завис над свалкой полицейский вертолет, поливая нас всех слезоточивым газом, стрижом промчался вертолет коммунистических сил самообороны с пулеметами, а в дымное облако влетели бронетранспортеры нацистов. Пожарные машины смели нас всех к стене Дома русской книги, прямо под ноги респектабельных постоянных клиентов, что пробирались прочь из магазина гуськом за спинами полицейских. Конечно, тут общее изумление: среди окровавленных расхристанных коммунистов, подумайте только, князь Андрэ из Путиловского Центра!.. Шарман… Очнулся я в госпитале с забинтованной головой. Выяснилось, что стреляли анархисты, что они задержаны, что убитых, к счастью, нет. Правые и левые, возбужденно хохоча, дружно пьют в общей палате водку. «Не барское это дело, — говорит мне шустрый, похожий на еврея, парень со свастикой на рукаве. — Теперь вот вас запросто со службы попрут. Неужели вам лакеев мало, некому, кроме как нам, морду бить…» Но обошлось. Путиловское «Слово» в интервью с графом Василием подчеркнуло свободу нравов руководителей концерна, американцы восхищались русским князем, вставшим на защиту негров. Владлен Сикорский в интервью «Правде» осторожно похвалил смелость представителя аристократии, одного из ближайших советников классового противника, выразив уверенность, что все честные люди России…»
Андрей Владимирович перевел дух. Думал ли он тогда, что ему через какой-то год так понравится дочь покойного коммунистического бонзы?
А ее словно подменили. Пока он все это рассказывал, на выразительном нервном лице Марины отражались все ньюансы его настроения — от возмущения нацистским приказчиком до восхищения возможностью «оттянуться». При упоминании «князя Андрэ» глаза ее восхищенно загорелись, а сцена в больнице произвела целую бурю — от беспокойства за его здоровье до заразительного хохота при резонном замечании, что респектабельный Андрэ не тем морду бил.
Внезапное сильное чувство к Марине все росло по мере наблюдения за этой пантомимой и уже не вязалось ни с какой политикой.
Впервые за долгие годы он не знал, как себя вести. И не мог поверить, что он везет ее домой. Как любой холостяк, он, естественно, всегда имел какую-то милую особу для утех. Это были не содержанки, а просто скучающие дамы его круга и возраста. Для этого снималась квартира в Девятой линии на Васильевском. Дома же он принимал только самых близких людей. Если там и бывали девицы на ведании, то с родителями или братьями. Поговаривали о его возможном браке с крошкой Лизи — Елизаветой Баратынской, из семьи старых аристократов, князей, жалованных титулом не Думой и Сенатом, а самим самодержцем…
И вот вдруг взять и жениться на этой юной прекрасной особе? Ого, что поднялось бы в свете! «Знаете, князь Андрэ…» «На Лизи?» «Если бы… Представляете, какой-то еврейский огрызок из секс-витрины.» «Что вы хотите? После той уличной драки от него всего можно ожидать…»
Между тем, они обогнули Нарвские ворота. За огнями Путиловских заводов начинались жилые районы организованных коммунистами рабочих — небоскребы «красного пояса Петрограда». Позади и справа до горизонта лежали двухмиллионные петроградские трущобы с их кабаками, лабазами, синагогами, мечетями — татарской, китайской, еврейской слобод.
Эстакада взлетела над Заливом, огибая Кронштадт с вмерзшими в лед кораблями. Лет тридцать назад по проекту еще не князя Владимира Мухина, отца Андрея, здесь возвели свайное сооружение, не мешающее движению вод с надувными элементами, прикрывающими Петроград от наводнений. Проект с трудом победил идиотскую идею дамбы, которая могла погубить залив. Когда это осознали, Сенат пожаловал Мухиным княжеский титул. Андрей и провез Марину по эстакаде только ради того, чтобы рассказать об этом.
Но он заметил, что девушку очень мало интересовала биография его семьи. Как, впрочем, и его непостижимым образом перестало вдруг занимать все, что касалось ее прошлого. Приближаясь к Рощино, оба все более удивлялись своей общей беспричинной и нарастающей веселости. Началось это, когда он стал смеяться невпопад ее в общем-то невеселому рассказу о витрине, особенно с появлением священника, потом она — его рассказу об уличной потасовке. И кончилось тем, что стоило их глазам встретиться хоть в зеркальце, как оба вдруг начинали неудержимо улыбаться. Когда шоссе перебежал заяц, Марина назвала его пьяным. «Пьяный? Почему?» — зараннее скисал Андрей. «Так ведь косой…» И он вдруг стал так хохотать, что был вынужден припарковать машину, чтобы вытереть слезы. От каждого его взгляда лицо девушки мгновенно освещалась застенчивой ослепительной улыбкой, при которой она как-то странно и мило суживала огромные глаза.
5.
Зачем я везу ее? — пытался князь вернуться к действительности, цепляясь за новые возражения. — Из семьи видных коммунистов… психопатка, с этим своим, как его, Советским Союзом и Израилем…
Пальцеграфия! — вдруг вспомнил он. — Самое время попробовать…
Давным-давно, когда Андрею было лет шесть, нянька-китаец начал учить его редкому даже в Китае искусству по конфигурации и поведению пальцев читать характер и мысли людей. Длительная тренировка может приучить человека следить за выражением своего лица, даже глаз, но его всегда выдадут пальцы. Их неуловимые для неискушенного человека едва заметные и непроизвольные движения говорили Мухину больше, чем говорит собаке запах, непостижимый для человеческого существа. По форме и движениям пальцев он мог определить не только нравственный уровень и умственные способности, но и намерения человека, что очень помогало ему в бизнесе. Солидные партнеры любили иметь дело именно с ним, так как никакие эмоции, гневные взгляды и пятна на лице, не говоря о словах, которые в их кругу вообще крайне редко были лишними, не могли сбить с толку князя Мухина. Но — и наоборот. Никакие ухищрения и сладкие речи, никакая пьяная слеза не могли его обмануть в человеческом коварстве. Он слыл в путиловских кругах незаменимым экспертом.
Он бросил взгляд на нежные тонкие пальцы Марины на ее коленях, и пришел в смятение — ничего подобного ему не встречалось за всю жизнь, кроме… пожалуй, собственных рук. Единство душ, характеров, будущего угадывалось даже и без обычного анализа. МЫСЛИ ЕЕ, ЕСТЕСТВЕННО, СВЕРКАЛИ ВОКРУГ ЕГО БОГАТСТВА И ВОКРУГ ИХ ВОЗМОЖНОГО БРАЧНОГО СОЮЗА, НО В НИХ ПРЕОБЛАДАЛ ИНТЕРЕС К НЕМУ ЛИЧНО, А НЕ НАОБОРОТ.
Более естественным было бы прямо противоположное отношение, думал он, проникаясь к своей спутнице не только все большей нежностью, но и уважением. Ибо не было и тени классовой зависти и злобы, что, кстати его и не очень удивило бы дочери вождя.
Тот же незванный веселый русский чертик «а, будь что будет, лишь бы хорошо и интересно», что однажды послал его в тот нелепый пикет, нагло впрыгнул в его сознание. «Я женюсь на ней, — решил он. — Немедленно делаю предложение, она, безусловно соглашается, а там — по волнам единой судьбы Марины для Андрея и Андрея для Марины! Пусть говорят что хотят. Кстати, старый серцеед князь Владимир безусловно одобрит его выбор именно такой красавицы, кем бы она ни оказалась на самом деле. Русские женщины давно считались в мире эталоном красоты, десятки лет побеждали на конкурсах, но эта девушка уже казалась ему непревзойденной. Не зря эстет Лейканд именно ее выбрал для «полотна века». А всякие там политические психозы… Исправим, вылечим, перевоспитаем, облагородим…»
Что же это со мной? — думала и Марина, не менее его удивляясь своему поведению. — Так гордилась своей сдержанностью и благоразумием и вот еду так сразу к совершенно незнакомому мужчине… И, кажется, уже готова на все!..
Впрочем, у нее было больше оснований для эйфории. В последнее время, после внезапного перехода от нищенского существования к жизни среднего класса, она почувствовала, что уже хочет ИМЕТЬ ВСЕ! Возвращаясь домой после своей неестественной работы среди вечно мокрого снега в воздухе, на земле и на стенах, спеша по полутемной лестнице к скрежещущим поездам необъятной петроградской подземки с ее полутора тысячами станций и сотнями линий, она представляла, как она вылетит из туннеля на Невский в двухместном кабриолете-«путятине» или «линкольне», но не к Гостиному двору, где она покупает сегодня, а к Пассажу напротив, где покупают ОНИ. И как все, ну решительно все, увидев ее развевающиеся волосы и шарф, остановятся со словами: «какая она все-таки красавица!..» Как на плечах ее вспыхнет меховое манто, которого и не видели в магазине милейшего Гоги Шелкадзе, и она, примерив его не нагая на витрине, а перед восхищенными приказчиками, небрежно бросит через плечо: «пришлите», не оставляя адреса, который, конечно же, известен всем…
Ее зарплата, как и любая другая, не оставляла ни малейшей надежды на такие мечты. И вот ее везет куда-то замечательный парень, который совершенно явно в нее влюблен, а не намерен только развлечься. Ею искренне восхищается красавец-аристократ с милыми мальчишеским огоньками в глазах, неожиданной на культивированном лице англомана глупейшей радостной русской улыбкой.
Теперь же, когда она поняла, Куда он ее действительное везет, все мечты ожили и заполыхали в мозгу ничем не ограниченными надеждами.
Ибо за эстакадой начинались лесопарки Рощина. После аннексии перешейка у Финляндии все местные деревушки были снесены и вместо них здесь поселилась знать. За монументальными изящными изгородями из красного кирпича, чугуна, бронзы и бетона жили те полторы тысячи семей, которые и управляли СШР, созданными «волею Спасителя народом для народа отныне и присно во веки веков», как сказано в Конституции. Отсюда русский капитал и аристократия — наследники несметных богатств самодержавия и огромных репараций после победы в Мировой войне — правили половиной мира и держали в повиновении вторую его половину.
Не в Думе или Сенате, а именно «в Рощино» зарождались финансовые операции и карательные экспедиции, проектировались боевые космические корабли и обитаемые орбитальные станции вокруг Земли и Марса. Отсюда направлялись колониальная бронепехота, атомные авианосцы и подводные лодки.
Они свернули под бесшумно поднявшиеся тяжелые ворота. Машина прошуршала по гравийной липовой аллее к бронзовым скульптурам у подъезда. Навстречу бесшумно и стремительно, чем славился российский сервис, вылетел слуга-татарин, открывая дверцы «путятина» для барина и его гостьи.
Мухин ревниво следил за пальцами Мустафы и довольно улыбнулся — восторгу сдержанного вышколенного мусульманина не было границ. Он даже позволил себе закатить глаза, пряча лицо. Вслед за слугой из дверей, извиваясь и свистя в воздухе плетью хвоста, вылетел черный паукообразный дог, последнее достижение российских генетиков-кинологов. Пес кинулся к Марине, лизнул ей руку, и только потом бросился к ногам хозяина — джентльмен во всех поколениях.
В застекленной конюшне радостно заржала лошадь, звеня поводом. Все это замыкал за дальними массивными заснеженными елями небольшого поместья серебристый стабилизатор личной сверхзвуковой авиетки для деловых поездок по всему миру.
«Позвольте предложить вам руку,» — неожиданно для себя произнес Мухин, протягивая Марине ладонь, хотя это полагалось делать молча.
«И сердце? — еще более неожиданно для себя выдала Марина бушующие в сознании безумные мечты. — Простите, ради Бога, — спохватилась она. — Я больше не буду шутить так глупо.»
«И сердце, и все, чем я владею! — вдруг горячо и торжественно произнес Мухин официальную формулу брачного предложения и привлек девушку к себе. — Вы угадали…»
«Не надо и вам шутить так глупо… — задыхаясь после ответного поцелуя произнесла она. — Так, на улице, брачные предложения не делаются, князь… Тем более незнакомым коммунисткам-психопаткам. Вы рискуете — а что, если она согласна?.. Больная же, не ведает, что творит…»
Мухин обалдел: она что, тоже читает мысли? Этого не хватало! ТАКОЙ монополии он никому уступать не собирался.
«Ладно, будем считать, что мы оба проговорились, — улыбнулся он и взял ее под руку. — Хотя, — добавил он поспешно, — я и не собирался шутить, Марина.»
«Я тоже… Андрей,» — еще быстрее сказала она и сама потянулась губами к его лицу.»
Они оба забыли и о мечущимся вокруг доге и о скромно исчезнувшем татарине, слившись в одном желании не расставаться больше ни на миг и ни на дюйм…
Глава 2
1.
Сенатор Матвеев напряженно вглядывался в почти готовый протрет своей неповторимой персоны. Лейканд в своем неизменном полтораста лет рабочем наряде переводил неприятно прищуренный глаз с оригинала на копию и улыбался половиной рта. Именно в таком кривом виде изображали коллеги не без ехидства самого Вячеслава Абрамовича.
В просторной студии было тихо. От стен, с потолка, даже откуда-то из-под пола лился мягкий свет. За невидимой стеклянной стеной-окном, словно наметенный на паркет, лежал нетронутый бело-голубой пушистый снег, в котором тонули ели со снежными шапками на каждой просторной лапе. Сенатор окаменело сидел в кресле напротив картины.
Портрет его восхищал, но мучила мысль, что еврей все-таки что-то задумал. Как заметить это самому, пока на это что-то не указала пресса? Практический острый ум наследственного кулака подсказывал Матвееву, что он получил сейчас нечто невообразимо значительное. Все его политические и художественные победы ничто по сравнению с бессмертием, недостижимым ни при каком личном успехе, которое в лице на этом полотне приобретает его в общем-то заурядная семья.
Сам будучи неплохим живописцем с дипломом Академии художеств, он мог оценить работу профессионально. Но еврей просто не мог не заложить в портрет злейшего врага его народа хоть какого-то подвоха, не мог! Где же он?
Лейканду, со своей стороны, нравились динамичные картины Матвеева — борьба быка с волками, травля волками зайца, борьба сильного и слабого, пусть хитрого, но обреченного в конце концов покориться силе. Здесь было не только мировоззрение фашиста, но мастерство изображения порыва. Все двигалось, содрогалось, боролось за свою жизнь или чужую смерть.
Особую известность принесла Матвееву картина, изображавшая один из эпизодов драмы в особняке балерины и фаворитки Кшесинской летом 1917 года, когда казаки прямо верхом ворвались в холл и устроили погром штаба большевиков, изменив тем самым, как полагали многие, сам ход истории России и мира. Картина изображала грузина, почему-то отмеченного Лениным словом «чудесный» в тот момент, когда он приоткрыл дверь клозета, а обезумевшая от грохота выстрелов и взрывов ручных бомб в закрытом помещении казацкая лошадь взбрыкнула на скрип петель и ударила его в лоб. Ракурс был выбран с поразительной точностью — как бы из-под брюха коня: на переднем плане — стремя, за ним — мохнатая, стремительно сужающаяся к копыту лошадиная нога, а за ней — отлетающий к неочищенному унитазу «чудесный грузин» с кровавым следом подковы на низком лбу. На заднем плане проступали грязь, мазки и похабные рисунки на стенах туалета после визитов «братишек». Картину автор назвал «Очищение России», она вошла в учебники истории.
«Мне нравится НАШ портрет, — наконец встал Матвеев. — В нем есть все, что я вижу в самом себе, хотя я убежден, что эти же черты вас глубоко оскорбляют и как художника и как еврея, не имеющего, в отличие от нас, русских, Родины. Что поделаешь? Россия у нас одна, и делиться ею с евреями мы не собираемся и — не позволим. Но за портрет вам огромное русское спасибо» — и он неожиданно в пояс поклонился Лейканду.
«Я с вами совершенно согласен, — неожиданно горячо проговорил Лейканд.
— Евреи не смеют претендовать ни на одну страну мира, кроме своей. Если мы настолько слабы и ленивы, трусливы и хитры, что предпочитаем галут, то не заслуживаем в России никого, кроме матвеевых. На вас вся надежда нашего маленького несчастного народа. Не на демократов, не на юдофилов, не на друзей — на врагов. Только враги способны научить нас сионизму, как единственному пути к независимости от других народов. Только сильный независимый Израиль, вооруженный лучшими в мире еврейскими мозгами способен если не образумить вас, то стереть навсегда с лица планеты. В том, что к концу второго тысячелетия христианской веры вы и вам подобные еще существуют у власти во всех цивилизованных странах — и наша вина. Нам следовало проснуться раньше…»
«Вячеслав Абрамович, то же самое вы недавно говорили, но с коммунистических позиций,» — снисходительно улыбнулся звероподобный интеллектуал.
«Теперь я ЗНАЮ НАВЕРНЯКА, милейший Иван Викулович, что и та и другая постановки вопроса были верными.» «И что большевики могли чуть ли не в одиночку сокрушить победивший во всей Европе немецкий фашизм? Полно, Лейканд, сейчас вы мне еще станете доказывать что кто-то из большевиков, чуть ли не мой несостоявшийся «чудесный грузин» мог победить несостоявшегося, к сожалению, действительно великого потенциального диктатора и спасителя человечества от еврейства Адольфа Гитлера, которого довели до самоубийства на французской каторге…»
«КАК НИ ПАРАДОКСАЛЬНО, НО ТУТ ВЫ СОВЕРШЕННО СЛУЧАЙНО ПОПАЛИ ПРЯМО В ЯБЛОЧКО, МАТВЕЕВ. Именно Джугашвили-Сталин, скорее злой гений, чем ничтожество, и гробанул бы вашего Адольфа как раз в зените славы последнего после завоевания половины мира, включая, кстати, пол-России.»
«Ври да знай меру, Вячеслав, — вдруг фамильярно захохотал сенатор, дружески хлопая художника по плечу, — Я тоже не пальцем деланный. Я биографию этого большевика изучил прежде, чем его изобразить. Сначала он был обычным кавказским бандитом, а к 1917 стал безобидным бюрократом. Совсем не главарь-оратор, как ваши жидки вроде Троцкого. Говно, прости, а не большевик. Троцкий бы сожрал Ленина и отдал Россию жидам на разграбление, а Гитлер бы ее прибрал к рукам в этом жалком виде. А потом «русского» маршала Троцкого повесил бы на Бранденбургских воротах. Вот и вся наша история без черной кошки поперек проспекта. А ваш «чудесный грузин», в лучшем случае, подавал бы Троцкому калоши. Но что мне в тебе нравится, как там тебя для мамы, Слава?.. И чего это вас, евреев так тянет на истинно русские имена? Был бы ты Сруль или какой-то Мордехай, я бы тебя уважал больше. Так вот, теперь, в твоем посткоммунистическом виде, ты мне нравишься больше. Я бы вообще к евреям ничего не имел бы, если бы у нас была возможность их всех взять и переселить в Палестину. В конце концов, именно им Палестина дарована самим Богом… Кому же еще ее отдать, как не избранному народу? И что еще могут сделать русские, чтобы вы слезли, наконец, с нашей шеи?..»
«Я не склонен нарушать наш договор художников, Иван Викулович — никакой политики.»
«Так ведь портрет закончен. Почему бы и не сцепиться? Я люблю подраться, я не еврей.» «Вы правы… Как ни жаль, драться мы действительно не любим. Впрочем… Впрочем, относительно насильственного переселения нас в Палестину, господин нацист, то это вы действительно, дай вам власть, сможете, пожалуй, организовать… Только эшелоны с миллионами евреев всех возрастов до Палестины не дойдут, Они будут останавливаться на нескольких никому не известных станциях в лесу. Там будет только два строения. В первом из них сотни мужчин, женщин и детей будут раздеваться вроде бы для санобработки; только вместо душа, вместо воды с потолка будет поступать в закрытое помещение с сотнями людей ядовитый газ «циклон». В специальное окошко за агонией несчастных будут бесстрастно наблюдать операторы этого технологического процесса, чтобы во-время начать перемещение трупов на вагонетках во второе строение, к газовым или микроволновым печам. Здесь люди будут превращены в черный дым из трубы круглосуточно работающего крематория, а зола с костями будет вывозиться на удобрение полей для арийцев. Еще вы будете делать абажуры из еврейской кожи и «чисто еврейское мыло» из нашего жира… Вы будете сепарировать в этих толпах наиболее привлекательных наших молодых женщин, чтобы их насиловать и расстреливать после глумления. Вы будете делать медицинские эксперименты над нашими молодыми сильными мужчинами. А к лагерям уничтожения, к этим издали заметным черным дымом вроде бы заводским трубам в глухих углах будут идти и идти со всей Европы эшелоны с миллионами обреченных на смерть людей. Все они, еще вчера строившие планы на отпуск, на счастливый брак, на учебу, на научные открытия… все они будут удивлены и обижены в этих эшелонах пока только вашей русской неблагодарностью. Они будут страстно обсуждать между собой, за что это их насильно высылают из любимой родины в чуждую им Палестину. Вот сценарий «окончательного решения еврейского вопроса» нацистами… Таковы, сенатор, тайные замыслы вашего движения. Не в этом ли ваш единственный «русский национальный» противовес мифическим Протоколам сионских мудрецов?»
На Матвеева было страшно смотреть. Красный вспотевший Лейканд во время своего ужасающего монолога бегал по студии, яростно жестикулируя, пока сенатор стоял неподвижно, бледный до синевы, сжав кулаки, с дрожащим подбородком и слезами ярости на глазах.
«Простите, Иван Викулович, — опомнился, наконец, художник. — Я при случае докажу вам…»
«Мне говорили, — глухо сказал Матвеев, — что в Петрограде недавно появился какой-то еврей из Палестины с какими-то фантастическими фильмами, клеветнически порочащими заодно и нашу, и коммунистическую идеи. Рано или поздно наша политическая полиция до него доберется, чтобы допросить с пристрастием, зачем он все это делает. Но чтобы этот идиот так повлиял на одного из величайших умов современности!.. Неужели вы сами, Вячеслав Абрамович, не осознаете, что все, что вы мне тут наговорили — несусветная чушь! Даже если бы кто-то, ну хоть тот же Гитлер, о котором мы с вами недавно говорили, посмел начать подобный процесс, то скрыть его от партии, от германской или мировой общественности было бы невозможно. Его бы тут же остановили сами товарищи по партии, не говоря о самом культурном в мире германском народе. Тем более ему бы и начать массовое уничтожение людей не позволили бы мы, русские, как и другие народы! Ваши жуткие станции просто разбомбила бы авиация Антанты. Наша непримиримая конфронтация с еврейством проходит на политическом, идеологическом, культурном, религиозном, экономическом, наконец, уровне, но никак не на военном. Никогда никто из нас и не заикался о физическом уничтожении не то что всего еврейства, но и наиболее одиозных его представителей, по которым давно плачет веревка в России, гильотина во Франции и электрический стул в Америке! Но — на общем, законном, судебном основании. Никто в истории, кроме диких турок, не уничтожал людей миллионами только за принадлежность к иной нации. Да, были еврейские погромы в средневековой Европе, в Малороссии, даже у нас, в России. Да, евреев изгоняли, но кто же заикался об их поголовном уничтожении миллионами! Бред какой-то… Даже в Испании всем евреям предоставили право креститься и остаться в своей стране, что многие и сделали. Гитлеровские же труды по борьбе с мировым еврейством — не более, чем политический ход предвыборной компании. Ни один разумный германец не воспринимал их буквально! Удивительно, что тогдашний наш президент и прочие руководители Антанты не поняли фюрера в свое время и так странно отреагировали на эти теории. И именно они-то как раз физически уничтожили и Адольфа Гитлера, и его сподвижников. И за что? За безобидное философское течение, ничуть не более опасное, чем социальные теории Маркса и Ленина. Придя к власти, нацисты тут же свернули бы свою антисемитскую программу. Впрочем, и Ленин с Троцким никогда не посмели бы осуществить людоедские марксистские программы. Все партии идут к власти с одними лозунгами, а управляют с другими… И вот к концу века стало модно всем кому не лень придумывать без малейших исторических оснований, что бы натворили германские нацисты, или там русские коммунисты, если бы их допустили к власти. Мы только смеемся над этой нелепой фантастикой. Но того, что наговорили мне тут вы, я не читал в самых злобных антифашистских утопиях! Вы, милейший, просто сошли с ума, вам… лечиться надо!»
«Вы сами предложили подраться, Иван Викулович?» «Это не драка! Это горшком с говном прямо в морду!» «Действительно меня несколько занесло… Приношу извинения и прошу забыть обо всех нелепостях, что я вам тут наговорил… В качестве компенсации я готов показать вам мою новую работу. Прошу вас в другую студию. И вы, уверен, сразу забудете все, что я вдруг вообразил.»
«Уж не портрет ли этой очаровательной дочери Сикорского вы имеете в виду? То-то я ее тут постоянно встречаю. Тоже, небось, знакома с вашим психопатом, раз на меня таким волчонком смотрит. А ведь мы с ее папой почти дружили. А мой сын в нее до сих пор безнадежно влюблен. Ну-ка, посмотрим, на что еще способен еврейский гений на службе русскому искусству?»
2.
Они перешли в другую студию, и Матвеев остолбенел. На мольберте был почти законченный портрет юной нагой женщины в полный рост, стоящей у мраморной колонны, опершись на нее локтем поднятой руки. В духе раннего Лейканда была солнечная улыбка обнаженного тела, которое жило на полотне собственной жизнью, волшебной силой передачи мерного движения и безмятежной улыбки, какой обладает уверенная в своей грозной непобедимости красота. Уверенная торжественность, гимн абсолютной силе человека настолько же были в духе Матвеева — художника и политика, — насколько противоречили самой манере Лейканда, певца недосказанности, парадоксов и неразрешимости. Стилю Лейканда противоречила и подчеркнуто классицистическая форма портрета вместо противопоставления контраста четкой логике композиции. Поэтизация человеческого тела сочеталась с подавляющим совершенством его законов и форм на фоне слабого человеческого воображения и восприятия.
«Я покорен…Воистину еврейский гений не знает границ, — произнес, наконец, сенатор. — Это лучшее из всего, что было создано вами… Боюсь, что это лучшее из всего, что было создано в тысячелетней истории живописи! Но… на этом полотне нет и тени знакомого публике Лейканда, его сомнений, борьбы, противоречий, наслаждения противоречиями, наконец! Это женское тело убеждает, побеждает. Это шедевр уверенности, силы и бескомпромиссности. Плотная весомая форма, фиксация контуров, все в добротном академическом духе. И, в то же время, такая невероятная передача движения… Позвольте… позвольте, Вячеслав Абрамович, она же… она же у вас дышит… у нее вздымается грудь! Боже, это даже не полотно, это революция в живописи! Но, воля ваша, раздражающего меня Лейканда здесь нет!..»
«Я и не предполагал в вас такой чувственной натуры, Иван Викулович. Вы покорены женскими формами и забыли, что у женщины есть лицо, глаза, душа, наконец. Присмотритесь, и вы найдете здесь меня в наилучшем виде…»
Сенатор уселся в кресло напротив портрета, положив ногу на ногу и стал рассматривать изображенную в натуральную величину девушку.
Она была в одних серебристых туфлях с небрежно наброшенными на щиколотки голубыми лентами, выступающими контрастом багровому фону портрета. Точенные длинные ноги с сильными, словно светящимися изнутри бедрами переходили в округлые формы таза, резко сходящиеся к тонкой гибкой талии, за которой словно в воздухе впереди нежного торса парили изумительной формы неожиданно обширные для такой талии полушария бюста, мягко связанные в единое чуть выпуклое основание, плавно восходящее к едва очерченным ключицам. Над округлыми пологими плечами покоилась удивительной формы длинная гибкая шея.
Работая неестественно быстро, Лейканд, в то же время, умудрялся подчеркивать мельчайшие детали. Вот и здесь поэтизация женского образа наслаивалась на откровенную эротику. Была выписана каждая морщинка, каждый завиток волос, шрамик, родинка, даже едва заметный розоватый след на нежнейшей коже от только что снятого девушкой белья для сеанса. Все было изображено так, что просто невозможно вообразить натуру более живой, чем эта совершенная копия. Матвеев действительно намеренно дал себе налюбоваться именно телом, чтобы обратить внимание на лицо девушки под челкой густых темных волос. Полные чувственные губы несколько великоватого рта кокетливо загибались в полуулыбке в уголках. Типично славянские высокие скулы контрастировали с еврейским разрезом по-северному светло-серых глаз под характерным разлетом бровей.
Заглянув в них, сенатор вздрогнул снова. Если тело словно дышало, глаза словно смотрели, смотрели прямо ему в душу с невероятной для такого праздника молодости и красоты мукой, стыдом, самоунижением, самопрезрением, напряженной работой воли. Это трагическое выражение огромных влажных блестящих глаз подчеркивалось страдальческим изломом смелых бровей.
Да, это и был лейкановский контраст, и какой!.. Это не был праздник совершенства, это было насилие, вернее, самонасилие. Она подчинила свою душу своей воле, чтобы заработать. Эта мысль была ясна, именно для этого и было так тщательно выписано тело, выставленное словно на поругание чужому мужчине — богатому художнику — юной нагой натурщицей, вынужденной задушить свою природную стыдливость… Победоносная торжествующая улыбка тела, гимн силы и непобедимости и такое подавление души, выраженное в глазах…
«И как вы намерены назвать портрет? — спросил наконец Матвеев. — Основную мысль я, кажется, понял. Что это с вами, Вячеслав Абрамович? Вы смотрите на меня и портрет так, словно хотите перенести меня на полотно.»
«Вы удивительно тонкий человек, Иван Викулович, для вашей звероподобной внешности, — с трудом ответил Лейканд. — А как бы вы назвали этот портрет?» «Я? Пожалуй… пожалуй я лучше попробую угадать, как его назвали вы.» «Очень интересно! И как же по-вашему?» «Свобода выбора», так?»
«Да… вас, пожалуй, недооценивают, сенатор. Вас явно недооценивают. А зря. Такой умный человек да с вашими взглядами — страшная опасность…»
«А что вас так поразило, пока я разглядывал портрет? Хотите тоже угадаю?» «А вот этого вам, пожалуй, не удастся.» «Попробовать?» «Валяйте, вы сегодня в ударе.» «Вы придумали перенести меня на полотно, вот так же сидящим в кресле напротив этой же прекрасной нагой девушки. Но убрать всю трагику с ее лица. Напротив, осветить его осознанием власти своей юной красоты над зрелым сильным мужчиной. Я бы заказал вам такую картину при условии, что вы измените ей цвет волос и разрез глаз. Она у вас явно полуеврейка, а я бы хотел видеть чисто русскую красавицу. Я бы назвал картину «Возрождение России». Но на этот компромисс вы уж точно не согласитесь, не так ли?»
«Не соглашусь, вы правы. Тем более, что вы не угадали мою мысль. И, простите, но я вам ее не открою.»
«Даже под пыткой? — вдруг прищурился Матвеев. — Ну-ну, я шучу… Мы в демократической стране, не психи, и я сегодня вами не просто доволен, восхищен.»
Лейканд сглотнул слюну, едва переводя дух.
Матвеев поудобнее уселся в кресле: «Я еще полюбуюсь вашей евреечкой, если вы не возражаете, Вячеслав Абрамович. А заодно попробую все-таки угадать, что именно так поразило вас, даже что именно вы задумали, на этот раз уж точно против меня, когда увидели. как я ею любуюсь. Знаете, а ведь я бы, ради нее, даже и не возражал бы выступить в вашей любой картине вторым натурщиком. Тем более, что меня-то раздевать вы не собираетесь, не так ли? А поскольку я уже почти у цели, так не проще ли…»
3.
Его прервал лакей, появившийся со словами: «Барон Шустер! Прикажете принять?» В век мобильных видеотелефонов проще всего было бы просто вызвать Лейканда на экран, но в богатых домах предпочитали хранить аристократические традиции. «Проси,» — недовольно сказал Лейканд.
В России не было принято сводить вместе политических противников, а Валерий Лазаревич Шустер был активный антифашист мирового масштаба. Но он был знаком с Матвеевым и как с художником, так как готовил полотна к международным выставкам. Шустер вошел быстро, вздрогнул, натолкнувшись взглядом на портрет, ему очень знакомый. Он без особой на то необходимости часто торчал на сеансах, мотивируя это тем, что именно он, как постоянный менеджер Лейканда, занимался представлением картины на Парижскую выставку «Живопись ХХ века».
Неожиданно встретив здесь Матвеева, он поморщился, небрежно и молча поклонился ему. Тот ответил едва заметным поклоном. «Нам надо срочно поговорить, — произнес Шустер по-французски. — Я буду бы рад, если ты избавишь меня от этого человека.»
Матвеев, темнея лицом, вслушивался в незнакомую речь «доморощенных аристократов». В его кругах «выходцев из народа» презирали дореволюционную манеру говорить не по-русски. Тем более среди жидов. Барон, ишь ты. Да еще французский барон. Деду Шустера пожаловали титул за изобретение компьютера в двадцатые еще годы. Но сейчас-то посмотрите-ка, люди добрые, на этих шепчущихся явных жидов. Вот бы их изобразить на картине «Гордость русской нации», сколько вони испустили бы их газеты! А что, хорошая мысль: я натурщик у Лейканда, а он у меня, почему бы и нет, господа хорошие?…
Он решительно встал, не в силах отвести глаза от портрета, сухо поклонился в сторону: «До свиданья, господин Лейканд!» и стремительно вышел. Взревел мотор его звероподобной германской машины.
«Все пропало, — начал Шустер, сильно волнуясь. — Ведь ты не сможешь закончить портрет без этой… этой натурщицы.» «Закончить? — счастливо засмеялся Лейканд. — Напротив, мы с ней только начнем. Новую картину, а то и серию картин. И уж кому это все понравится, так это тебе, Женя! Это будет картина с участием Матвеева, представляешь? Без его спроса. Я словно увидел ее сейчас, пока он любовался девушкой. Завтра же начну. А эту можешь считать законченной. Два-три сеанса и вези ее в Париж. Кстати, а где Марина? Уехала вчера с Мухиным и еще не звонила. Будет так себя вести, я ей так же и заплачу! Думает, что если я ней так деликатничал по старой дружбе с ее покойным папашей, то можно мне садиться на голову!»
«В том-то и дело, Слава, что ничего-то ты ей больше не заплатишь… И картину придется заканчивать без нее.»
«Умерла что ли? — насторожился Лейканда. — Этого не хватало…» «Для нас — умерла. Более того, боюсь, что и картина умерла для Парижа.» «Ну уж это дудки. Я же сказал, закончу без нее. Да что случилось-то?»
«Сегодня утром они обвенчались в Исаакивском соборе. Теперь эта красавица — княгиня Марина Владленовна Мухина, законная супруга твоего друга Андрея Владимировича. Вот и подумай, захочет ли князь выставлять свою княгиню нагой в Париже. Тем более рухнули твои планы о картине ее с Матвеевым.» Лейканд помертвел. Вчерашняя сцена в ресторане вспомнилась во всех подробностях. Ну, одолжил другу свою натурщицу на ночь, почему бы не поделиться добром? Все художники это делают. Но — жениться на ней, причем прямо наутро! И — на ком? Вместо Лизаньки Баратынской, с которой Мухин чуть ли не помолвлен, что всем известно? Скандал… Газеты тут же раскопают, чем зарабатывала на жизнь новая княгиня. Это же почти проституция…
«Оставь меня, Женя, — слабо попросил Лейканд. — Ты просто убил…» «Позволь, ты же сказал только что…» Я хочу остаться один,» — повторил художник.
Остаться… с ней, подумал он про себя. Шустер сухо поклонился и вышел. Лейканд сел на место Матвеева и поднял глаза на портрет.
На месте Мухина мог быть я, лихорадочно думал он. Естественно, я бы и не подумал жениться на ней и разводиться для этого с моей Фаиной, но я мог просто предложить ей быть содержанкой, хорошо платил бы. Если она пошла на витрину, ей нужны деньги. Я бы платил вдвое-втрое больше… Теперь все потеряно. Проклятые доморощенные аристократы… Князь! Какой из него князь? И что за фамилия для князя — Мухин, смешно, Достоевский придумал князя Мышкина, и то лучше, Мухин!.. Впрочем, надо бы позвонить, поздравить… Друг все-таки.
Лейканд нажал клавишу видеотелефона. На экране тотчас появилась Марина, в домашнем халате, какая-то совершенно другая. Ее природная полуулыбка уже не казалась трагически неестественной, как на портрете, а, напротив, была счастливым продолжением сияющих счастьем серых глаз. Мухин держал жену на коленях, а Марина показывала ему со смехом на свой портрет. Тот кивал с совершенно ему не свойственным выражением блаженного безоглядного счастья.
«Вы, мои дорогие, меня без ножа зарезали, — начал Лейканд, невольно поддаваясь их безудержному веселью. — Мне надо везти портрет в Париж, а натурщица вдруг становится княгиней и…»
«И что же? — хохотала Марина. — В каком учебнике написано, что позировать великому художнику должна только бедная девушка. Чем княгиня хуже, а, Андрей?» «Эта? — Мухин поцеловал жену в розовое ушко. — Эта княгиня лучше любой бедной девушки.» «А потому — вези, Слава, княгиню в Париж. Пусть французы завидуют русским князьям, это вам не Марианна во фригийском колпаке, правда, Слава?» — Марина явно наслаждалась словами «Слава» и «княгиня».
«А то, что княгиня, мягко говоря, несколько фривольно… так сказать одета?..» — веселился уже и Лейканд. «Так ей же это идет! — хохотал басом Мухин. — И как идет! Пусть весь свет увидит на какой красавице женился князь Мухин! В бальном наряде все аристократки выглядят достаточно привлекательно, а вот в банном — одна из тысяч! Верно, господин знаток женских прелестей?»
«Так, может быть, вы, Марина, согласитесь на еще пару сеансов?» «Согласимся, Андрюша? Понял, Славик, но только в его присутствии, а то ты так на меня все эти сеансы смотрел, что я тебя весь этот месяц боялась. Как сейчас, думаю, кинется!..»
«Я тут задумал…» «И это обсудим, — многозначительно и странно посмотрев в глаза Лейканду, кивнула Марина, — но не сейчас. Пока нам с князем не до тебя. Будь здоров, Слава…»
Лейканд вытер со лба пот. Он ожидал чего угодно, но не такого быстрого согласия, тем более с подчеркнутой семейной фамильярностью со стороны такой скованной девушки. Весь портрет, утратив трагический фон задуманного, как-то сразу потерял смысл. Не выставлять? Как это объяснить Шустеру и как тот обоснует отказ устроителям выставки? Позиция Мухина казалась совершенно непостижимой. Не ведает что творит? А, собственно, что?.. Еще в середине прошлого века было принято шокировать публику изображением на полотнах обнаженными известных в свете особ. В конце концов, хозяин — барин. Мне-то что? Не до меня им, ишь ты, а до кого тогда?
4.
«Вот это и есть тот самый господин, — сказала Марина, когда глаза Мухина привыкли к полумраку подвального этажа, где они оба оказались. Им навстречу поднялся высокий господин, одетый уже по-человечески, но все еще в очках, со своими чудовищными зубами и соответствующим запахом изо рта.
«Фридман, — представился он, подавая князю руку. — Рад вас видеть. Читал о вас. И не только о вашей недавней свадьбе, но и о свободных политических нравах.»
«Вы зациклены на политике, господин Фридман? Кстати, а как вас все-таки величать, по имени-отчеству?» «Я Арон. Арон Ефимович, в Израиле — Хаймович, если вам угодно. Политика для меня дело десятое. Я математик-тополог и сделал открытие в области… Вы знаете, что такое тессеракт? Это геометрическая фигура, следующая за квадратом и кубом в пространстве. Если у квадрата все грани — линии на плоскости, у куба все грани — квадраты в пространстве., то у тессеракта — все грани — кубы. Вообразить себе тессеракт можно только перейдя из трехмерного пространства в четырехмерное, но такой переход возможен только при соответствующем состоянии разума, а он достигается после приема определенного препарата, изобретенного мною тоже в Израиле — на базе известных лекарственных средств. Через четырехмерное пространство можно проникнуть в несчетное количество параллельных трехмерных измерений, минуя и так и не осознав измерение четырехмерное, слишком сложное для нашего трехмерного разума…»
«Ты хоть что-нибудь понимаешь, Марина? — рассмеялся Мухин. — Я лично от всех этих терминов уже обалдел. Нельзя ли ближе к сути дела?» «Естественно… Для перевода же в другое измерение предметов нужен прибор, позволяющий использовать необычайную после приема препарата энергию человеческого мозга. Действие прибора возможно пока в радиусе до ста метров. То есть вот этот доходный дом я мог бы перенести в Ленинград вместе с вами и всеми обитателями. Я знал, что после перехода в иное измерение все привычные представления о времени и пространстве кардинально меняются. Но о вашем измерении я и не подозревал. Я хотел попасть в прошлое, причем с очень приземленной целью — обменять кое-какие плоды нашей цивилизации на золото и разбогатеть. И совершенно случайно оказался не в Санкт-Петербурге пушкинских времен, а в вашем совершенно непредставимом для меня мире, которого… И тут я невольно заинтересовался политикой и кое-какими сопоставлениями для возможного предупреждения пережитых нами катастроф у вас. Кроме того, я, как патриот Израиля, очень заинтересовался вашими техническими достижениями, особенно в военной области. Мы окружены набирающими мощь врагами, и ваши потрясающие самовзлетающие самолеты, как и все прочее, нам бы очень пригодились. Но при условии, что их можно показать, а не рассказывать о них. Рассказам наши военные изначально не верят. Я уже как-то встречался с ними после возвращения от вас, показывал фотографии, видеофильмы. Бесполезно! Привычный скепсис. Это, мол, коллаж и компьютерная графика… Ваши подобные материалы, к сожалению, у нас продемонстрировать невозможно — у нас совершенно иная система видео и телекоммуникаций, абсолютно другая компьютерная сеть. У вас бионика, а у нас электронника.» «У нас тоже была электронника, Арон…» «Зовите меня просто Арон и на «ты». У нас в Израиле не приняты отчества, а на «ты» обращается даже солдат к генералу.»
«Позвольте… Мариночка, прости меня, но у меня такое чувство пока, что я — жертва грубой мистификации…Еврейский генерал!? О чем вы вообще мне рассказываете? Кто вы? Вы — русский? Я имею в виду — русский еврей? Где и когда вы родились?»
«Я привез с собой наш видеомагнитофон. Причем вместе с аккумулятором и преобразователем, так как у вас совершенно другой даже ток.» «У нас вообще видеосистемы давным-давно обходятся без электричества. И видео есть в каждом доме, все шестьсот миллионов российских граждан и жители всех наших колоний, даже в некогда диком Туркестане…»
«По… позвольте, сколько вы сказали русских в Соединенных Штатах России?» «Около шестисот миллионов. Вы же математик. Вот и примените формулу сложного процента. В 1917 году нас было около ста миллионов. Средний и, кстати, довольно умеренный естественный годовой прирост был около двух процентов. Вот и все. Что вас так поразило? На вас лица нет!»
«Андрей… в нашем мире сегодня от силы сто пятьдесят миллионов русских, из которых около ста двадцати живет в России… Ага, теперь челюсть отвисла у вас? Наберитесь терпения и посмотрите кассеты, которые уже видела ваша… жена. Кстати, я совсем забыл вас поздравить. У вас не просто изумительной красоты жена… Меня вообще теперь трудно удивить женской красотой, я насмотреться не могу на петроградок, после наших-то несчастных ленинградок… Но Мариночка, к тому же, удивительная умница у вас. Впрочем, наберитесь терпения. И — мужества. То, что вы увидите, покажется вам пострашнее любого триллера, адони…» «Не понял…» «Простите, это иврит.» «Иврит? Что это значит?» «Древнееврейский язык. Язык моей страны. Но — о моей стране потом. Пока о ВАШЕЙ. О вашей стране без черной кошки поперек пути той казачьей сотни…»
5.
«Кто еще видел ваши кассеты? — с трудом спросил Мухин, когда погас наконец экран допотопного телевизора. — Лейканд?» «Слава был моим первым знакомым в вашем мире. Я попал сюда впервые в прошлом мае, как раз к военному параду в честь годовщины победы Антанты над Осью в 1918 году. И был ошеломлен боевой мощью СШР. Особенно меня поразила ваша бронетанковая пехота — шагающие машины, напоминающие циклопических черных тараканов. Они так маршировали по Марсовому полю, что заглушали барабаны огромного оркестра. Я тогда подумал — нам бы против арабов такие танки… А потом я увидел ваши самолеты, что поднимались бесшумно прямо с поля вверх и на высоте нескольких километров переходили на такой стремительный горизонтальный полет, что мгновенно исчезали с неба. А ваши совершенно непонятные мне какие-то спирали, вылетавшие из того, что у наших танков называется дулом! Бесшумно и сокрушительно… Тут ко мне вдруг подошел незнакомый человек. Он представился художником Лейкандом и сказал, что заинтригован непривычным на рутинных торжествах конца века выражением моего лица… Андрей, мы находимся в жесткой конфронтации со всеми нашими арабскими соседями. Проигранная война для нас означает очередную Катастрофу. Вы уже знаете, что я имею в виду… Помогите нам. Я помогу вам посетить Израиль, сведу с нашими генералами. Если вы покажете им ваши видеокассеты, как я вам прокрутил наши или, еще лучше, продемонстрируете им ваши спирали в варианте хотя бы стрелкового оружия, то нам удастся их убедить. Останется только заключить между нашими странами договор… получить хоть что-то из вашей технологии! Мы заплатим золотом, оно всегда в цене, не так ли?»
«Андрей, ради меня…» — прошептала Марина.
«Мне бы больше импонировало помочь вашей России…»
«Тессеракт пока только в моих руках, — помрачнел Фридман. — Ни в СШР, ни в нашей России, ни даже в Израиле никто о нем и не подозревает. А вы уже поняли, какое это страшное оружие само по себе. Ведь если существуют наши миры, то есть и другие, по сравнению с которыми СШР отнюдь не всесильный гигант. Рано или поздно возможна схватка измерений… Так вот, если вы не поможете Израилю, я палец о палец не ударю для вашей страны, которой рано или поздно потребуется моя помощь. У меня пока нет оснований помогать нашей России, которая скорее расположена… не к нам…»
«Боюсь, Арон, что и СШР не станет помогать Израилю. Особенно постараются фашистские депутаты. Охотнее они помогли бы вашим врагам. Чтобы избежать такого риска, ни о каком договоре между СТРАНАМИ не будем и говорить. Подождите вы так расстраиваться. Попробуйте-ка убедить меня. Если вам это удастся, Я САМ куплю пару тараканов, как вы их назвали. Не в России — сегодня они есть у всех. Если вы затем беретесь переместить их в ваше измерение, то в тот же день они будут на фронте… Проблема не в этом, а в том, что я вам пока все-таки, воля ваша, не верю… Как поверить в ТАКОЕ? В уничтожение трех четвертей моего народа!.. Короче говоря, я должен сам побывать в Израиле. Тем более, что вы настаиваете на том, чтобы я сам убеждал ваших генералов в возможностях располагаемой нашим миром техники… Пока я лично не поверю во все, что тут мы обсуждаем, все разговоры о практических шагах не имеют ни малейшего смысла, как вас там… адони…»
«Я совершенно согласен. Идеальный вариант, но для этого нам нужно добраться до вашей Британской Палестины, а я не умею пока перемещаться в пространстве, и у меня, простите… совершенно нет денег… Ни своих, ни, тем более, ваших. Реализовать в нашем измерении ваши товары не пока не удалось. Я, знаете ли, зарабатываю на жизнь маркетингом, но, тем не менее, коммерсант из меня никакой. То же, что мне дал Слава, ушло на съем этой квартирки, а потому…
«Да, Слава много не даст… — засмеялся Мухин. — Это одна из причин, по которой я, совсем, кстати, не антисемит, не верю принципиально в саму возможность существования где бы то ни было и когда бы то ни было какого бы то ни было Израиля. Деньги не проблема. Но надо продумать, как себя вести в Палестине с британской колониальной администрацией, надо подготовить для вас документы… Погодите… А переместите-ка вы сначала меня в гораздо более мне интересный ваш, как его, Ленинград…» «После свержения власти коммунистов он у них снова называется Санкт-Петербургом.» «Странно… Город переименовали в Петроград не большевики, а патриоты 1914 года. Назвать столицу России Петербургом можно только при условии, что Франция переименует свою столицу в Парижск. Впрочем, неважно. Если я увижу, что какой-то другой Петроград действительно существует, то там и об Израиле поговорим, идет?»
«Андрей, — нахмурилась Марина. — А я? Почему ты говоришь о своей экспедиции, если я твоя жена?» «Арон, для Марины это безопасно?» «Сама конверсия пока только улучшала мое здоровье. Даже ангина как-то прошла от смены измерений. Ну, а там… Риск, конечно, есть. И вообще надо приготовиться. Надо сначала мне самому на полчасика прямо сейчас купить вам с Мариной одежду. В таких нарядах вас тотчас отвезут в Гатчину — кКащенко. Я куплю что-нибудь простенькое, чтобы не выделяться из толпы. На это у меня тамошних денег, пожалуй, хватит.»
«Но нам для такой экскурсии надо наверное взять с собой золото, — сказал князь. — Или еще что-то, что можно в Питере обменять на тамошние рубли.» «Лучше на доллары.» «Доллары? Вы хотите сказать, что в вашем мире северо-американский доллар дороже рубля?» «Раз в тридцать.» «С ума сойти…» «И нужно какое-то оружие. Питер называют криминальной столицей Российской Федерации, хотя я лично никаких бандитов там не встречал.»
«Идите… или как там… за одеждой, я займусь золотом и оружием, — поднялся Андрей. — Встречаемся тут же через час.»
Глава 3
1.
«Я совсем недавно открыл свое заведение, и это вся моя наличность, хотя за такую же брошь вам, пожалуй, отвалят у Финляндского вокзала втрое-вчетверо больше того, что дал вам я. Но если вы рискнете там показать золото… Они не только способны все отнять, но и… убить. Или, — кутающийся в меховую безрукавку пожилой продавец не сводил глаз с Марины, — или что-то много хуже, когда, как говорится, живые завидуют мертвым… Яне спрашиваю у вас, откуда вы приехали, но могу определенно сказать только одно — за все мои пятьдесят лет (А на вид все семьдесят, подумал Мухин) я не встречал женщины красивее вас. Как вас зовут? Прекрасное имя. Так вот, вам, товарищи, с Мариной появляться среди той публики просто опасно. Вы сказали, что вам нужны деньги на пару дней? Так вот моих рублей и долларов вам всем троим хватит на неделю, без, конечно, обедов где-нибудь в «Астории». Кстати, тут за углом, на Каменногорском проспекте есть довольно приличная пирожковая…»
«Я помню ее, — оживился Фридман. — На Кировском проспекте всегда были такие фантастически воздушные и душистые пирожки с мясом, а к ним подавался в чашечках такой бульон!..» «Я вижу, вы бывший ленинградец, — взгляд продавца наконец переместился с Марины на Фридмана. — И вообще сразу видно, что вы все все-таки иностранцы, хоть и одеты небогато, и говорите по-русски. И не из бедных, особенно вы двое. Так вот, прежнего Ленинграда нет, товарищи. Есть не очень благополучный и довольно опасный город, в котором я вам советую быть поосторожнее. И не показывать ваше золото, как вы сразу выложили тут мне. Господи, что это со мной, я ни на кого не могу смотреть, кроме как на вас, Мариночка…»
«И смотрите на здоровье, — рассмеялась она, счастливо прижимаясь к Мухину. — Мне даже приятно.» «Так ведь и другие вас заметят! — отчаянно крикнул продавец. — Уезжайте поскорее. Что такого важного можно сегодня искать в Ленинграде… с такой женщиной! Здесь слишком много бандитов. Если мне с первых дней предлагают крышу…» «Что-что предлагают?» «Платную защиту одних бандитов от других… Так вот, я очень боюсь, что вас они не упустят… А за Мариновкой могут устроить настоящую охоту.» «Охоту? — смеялась юная княгиня, прижимаясь к своему надежному могучему мужу. — Зачем?» «Чтобы похитить!» «Но для чего? Для выкупа? Как кавказскую пленницу?» «Если бы!..»
2.
«Хорошо, что я хоть одел нас всех не очень богато, — говорил Фридман, пока они быстро шагали по мессиву из снега, соли и песка по тротуарам, осторожно обходя коварные глубокие лужи. — Старик, конечно преувеличивает, но…»
«Хорошо, что вы надоумили нас вооружить, Арон, — добавил Мухин. — Боюсь, что он знает, что говорит!.»
«Какие они все маленькие, — шепнула Марина своим спутникам. — Мы, все трое, уже потому обращаем на себя внимание, что нормального роста. И какие серые у всех лица. Даже в наших петроградских трущобах народ куда приличнее… И этот грязный снег, и этот воздух… Как могла уцелеть хоть четверть русских в таком воздухе!»
«А я надышаться не могу, — возразил Арон. — Это воздух моей юности. Вон там, в сквере у домика Петра я когда-то всю белую ночь целовался с изумительной блондинкой, когда развели мосты и отрезали нас обоих от дома…»
Слишком высокий Фридман был одного роста с великолепной четой Мухиных. Неизгладимый советский налет с него почти сошел за много лет в Израиле. Но на него никто не обращал внимания, в то время как на Марину и Андрея без конца оборачивались, а это действительно настораживало. При том, что им встретилось немало явных иностранцев, которые громко и непринужденно говорили по-английски и по-немецки. «Они-то ничего не боятся, — заметил Андрей. — И нам следует забыть обо всем. Тем более мы все трое при спиралях.» «А ты заметил, что и иностранцы здесь тоже другие?.. — заметил Фридман. — На них тоже наша революция наложила печать. Даже и они как бы второго сорта по сравнению с петроградцами…»
«Я тут просто умру с голода, — смеялась Марина, когда они шли по проспекту от пирожковой к Неве. — Уж как я скудно питалась недавно, даже в секс-витрину едва взяли за худобу, но такой дряни не ела никогда в жизни.» «А по-моему могло быть хуже, — весело возражал Фридман. — Конечно, это совсем не тот вкус, что был тогда, но я отношу это на мой возраст. И небо было другим.» «Вот как раз неба тут вообще нет. И это единственное, что роднит ваш Ленинград с нашим Петроградом, — отметил Мухин, напряженно глядя по сторонам. — Надо же, в принципе тот же проспект, но словно пародия… А там впереди что? Неужели Троицкий мост?» «В мои времена он назывался Кировским. Сейчас, скорее всего снова Троицкий.»
«Ага, значит вот в этом здании и произошло то, что разделило нашу страну на два измерения. Ведь это — особняк балерины-фаворитки Кшесинской?» «Точно. При мне там был Музей революции. Я много раз бывал и в особняке и даже на балконе, с которого некогда выступал Ленин.» «Все-таки мне непонятно…» — задумчиво сказал Мухин, глядя на балкон и представляя на нем великого оратора, поднятого из вон той двери на пику и брошенного прямо на головы экзальтированной наэлектризованной лозунгами толпы.
Потом был шквальный огонь двух своих и четырех трофейных пулеметов из всех окон по цвету большевистской революции, собравшемуся здесь послушать Ильича. Казакам терять было нечего. Прояви они малейшее колебание — и их самих тут же подняли бы на тысячи штыков. Пулеметы раскалялись так, что мокрые тряпки, непрерывно-лихрадочно подаваемые ошалевшим пулеметчикам, начинали дымиться на грохочущих стволах. Но уже через десять минут живых в поле зрения почти не было. Штыки валялись рядом с серыми шинелями резервистов и черными бушлатами «братишек» по всему скверу.
«Что непонятно? — спросил Фридман. — К казакам присоединились остатки гвардейских полков, уцелевшие в Мазурских болотах, подошли корниловцыи…» «Это-то я знаю, — поморщился Мухин. — Непостижимо другое: ЗАЧЕМ, как, каким механизмом можно было уничтожить не сотни, тысячи, даже, страшно произнести, миллионы русских, НО ТРИ ЧЕТВЕРТИ народа? Это же надо было стрелять даже и не каждого второго. Даже в этом вашем «Чекисте» показано, как это вообще очень трудно, чисто технологически, убивать даже сотни людей. Газы что ли они применили?» «Нет, до этого не дошло… Вы знаете, что такое ГУЛАГ?» «На каком это языке?» «Увы, на нашем с вами русском. Главное управление лагерей.» «Не понимаю. Военных лагерей?» «Концентрационных.» «Для военнопленных?» «Да, если считать пленными десятки миллионов обреченных на смерть от голода и холода истинных и минимых политических врагов. Это были лагеря намеренного массового уничтожения.» «Д-десятков миллионов собственных граждан?!» «Плюс коллективизация для уничтожения зажиточного крестьянства как класс…»
«Чушь какая-то, — задохнулся Мухин. — Никогда никто в истории не уничтожал крестьян. Кто же общество кормить-то будет?» «Именно потому сразу был голод с людоедством… А потом начались чистки — уничтожение массами палачами народа и друг друга, включая сторонников режима. А нелепо подготовленная и едва не проигранная война! Тридцать миллионов убитых. Только в блокаде Ленинграда погибло от голода и холода около двух миллионов горожан… Послевоенная разруха сопровождалась не только скудным питанием, но и новыми волнами репрессий. В лагеря угодили бывшие военнопленные, которых немцы брали в начале войны миллионами… Я уж не говорю о чуть ли не поголовном пьянстве, о неустроенности быта, при которой заводить детей и вырастить полноценных граждан могла далеко не каждая семья. Под занавес трагедии коммунистического режима произошла катастрофическая авария на атомной электростанции из-за поголовного головотяпства. После свержения советской власти был установлен демократический режим, но экономика стала еще слабее из-за массы политических несуразиц, которые я, находясь уже вне России, не пытался и анализировать. Так или иначе, Россия в вашем с Мариной понимании, сузилась до размеров Российской Федерации без Украины…» «А это еще что такое?» «Это — Малороссия, — поспешно пояснила Марина. — Она, как и Белоруссия, Средняя Азия и Закавказье отделились от России…»
«Этого не может быть! — даже остановился Мухин. — Россия — без Малороссии! А к кому же она тогда отошла?» «Стала самостоятельной державой, как и прочие окраины.» «Вы шутите! Если Россия — туловище, то Мало-и Белороссии — ее две руки! А юг — наши ноги. Конечности не могут жить отдельно от туловища! Так по столице какого же обрубка мы шагаем?» «Во-первых, столица России с ленинских еще времен — не Ленинград, а Москва…» «Москва!? Да Москва никак не может быть административной столицей, — не унимался князь. — Москва была и есть — столица духовная! В ней тысячи памятников старины, наша история, а административная столица должна застраиваться присутсвенными зданиями, магистралями. В Москве это невозможно без разрушения ее сути…» «Что и было сделано, — грустно сказал Фридман. — Большевики снесли даже Храм Христа-Спасителя и…»
«Арон, — побелел Мухин, — да вы просто врете! Это же… Зачем? Что можно построить взамен Храма? Бордель?» «Почти. Там вырыли яму и заполнили теплой водой. Общедоступный плавательный бассейн. Я сам там в студенческие времена как-то в феврале в оледенелой резиновой шапочке баловался с очень милой Светочкой… Я не вру, Андрей, — грустно добавил он. — Хотя мне, как иудею, и не понять всей вашей боли. Но меня мучает и чисто национальный стыд — ведь в этой реконструкции Москвы активнейшее участие принимал единственный еврей в правительстве Сталина — Лазарь Каганович. Впрочем, именно он построил в столице первое в России метро… Так или иначе, возвращаясь к демографии, все эти фокусы, в конечном итоге — геноцид через несостоявшиеся браки, неродившихся детей без их браков и детей, национальное вырождение… Вот вам и четверть русских вместо ваших ста процентов при благополучном развитии истории. Заметьте еще массовую эмиграцию наиболее продуктивной части бывшего царского общества и ее деградацию на чужбине, когда князья шли в таксисты, а княжны — на парижскую или стамбульскую панель. Прибавьте безоглядное «преобразование природы», гибель Арала и приволжских земельных угодий…» «Откуда же рыба без Арала и откуда хлеб без Поволжья?» — всплеснул руками князь Андрей. «Самое ужасное, — продолжал Фридман, — что большевики были искренне уверены, что их революция, лагеряи преобразования осуществляются для блага народа. Всегда хотели как лучше, а вот получалось…» «Можете не продолжать. Нация, позволившая соорудить плавательный бассейн на месте Храма!..» «Арон, расскажите князю все-таки об этих ваших… лагерях?.. — шепнула Марина. — А ты, Андрей, не смей больше говорить, что он врет.»
3.
«Вот только теперь… — признался Мухин, когда Фридман закончил свой экскурс в историю своей бывшей родины. — Вот теперь мне стало по-настоящему интересно задержаться здесь чуть больше. Хотя ни в чем меня больше убеждать не нужно. Коммунистов действительно надо держать под особым присмотром, как опасных сумасшедших! Для остановки здесь на пару дней нам нужны доллары, чтобы не питаться в таких пирожковых. А деньги меняют у Финляндского вокзала. Насколько я помню историю, именно там Ленин провозгласил курс на коммунизм в России.» «В Петрограде там тоже стоит памятник Ленину?» «У нас там сквер — ни вокзала, ни памятников.» «Вокзал снесли из-за Ленина?» «Отнюдь. О нем к тому времени все забыли. Все городские вокзалы стали не нужны после постройки подземки и надземки. А этот не представлял архитектурной ценности, в отличие от других, где разместили филиалы Эрмитажа. Кстати, Арон, что-то я не вижу подземки в Ленинграде. Столько идем и — ни одной станции. Только трамваи.» «А мне они нравятся, — впервые подала голос Марина, совершенно было пришибленная пояснениями Фридмана. — Они не такие переполненные, как наши поезда метро. Андрей просто ими не пользуется. И из трамвая все видно.» «Так подъедем до вокзала на трамвае? — предложил Фридман. — Я тоже устал идти по снегу. Я в Израиле вообще уже много лет снега в глаза не видел.»
«Так как все-таки насчет метро? — напомнил Мухин. — В Москве ваш зловещий иудей его построил, а в Питере?..» «Во-первых, Каганович к моменту своего всемогущества уже был нормальным бесом, а не иудеем. Они все были бесами-атеистами. А в Ленинграде метро построили еще в пятидесятые годы. И довольно приличное, во всяком случае, гораздо уютнее, чем у вас, в Петрограде. Но станции расставлены втрое-вчетверо реже, каждая оформлена как подземный дворец зачем-то, сплошной мрамор и бронза. Впрочем, как раз у Финляндского вокзала и станция метро. Можно спуститься и поехать куда угодно. Например, к Казанскому собору. Там недалеко был когда-то рынок — съем квартир…»
«А я вообще уже хочу домой, — затравленно оглянулась Марина на троих подозрительного вида мужчин, которые шли навстречу, остановились и пошли следом. — Они явно что-то задумали. И вон те пялятся на меня из своей заляпанной машины! Я не для того только что стала княгиней, чтобы за мной тут охотились. Я вообще, как-то в принципе, против, чтобы отлавливали именно меня. И вообще мне тут ужасно не нравится… Смотрите, они так и идут за нами…» «Дорогая, один-два дня… Снимем квартирку с телевизором, а выходить будем крайне редко, идет?» «Все равно я хочу домой…»
«Да вот, кстати, и Финляндский вокзал, — Фридман показал на кирпичное приземистое здание с пристройками. На одной из них сохранилась рекордная по идиотизму надпись: «Ленинградский ордена Ленина метрополитен имени Ленина. Станция Площадь Ленина.» Сам Ленин был изображен в виде чудовищного черного монстра на броневике с простертой к Неве рукой и с неизменной на всех коммунистических плакатах кепкой.
У вокзала толпа загустилась, еще более посерела и поблекла. Но среди бесчисленных нагруженных кошелками и мешками стариков и старух, спешащих к поездам, выделялись решительные модно одетые молодые люди, с которыми тут же заговорили подозрительные преследователи, указывая на Марину.
Один из них, скользя по снегу блестящими сапожками на высоком каблуке, устремился к Мухину: «Мужик, доллары нужны?» «Нужны», — осторожно ответил Мухин, взводя курок спирали под галстуком на случай, если схватят за руки. Скосив глаза на своих спутников, он увидел, что то же сделали Марина и Арон… «На рубли меняешь?» «На золото.» «Уже теплее, — обрадовался парень.
— Покажи. Не фальшивое?» Мухин открыл на ладони золотой медальон. «Ого, может еще что есть? А то я все куплю.» «А сколько дашь за медальон?»
«Андрей!» — истерически вскрикнула Марина. Он едва успел оглянуться, как его локти сзади схватили двое. Еще двое вынырнули из толпы, чтобы обездвижить Фридмана, а около Марины возникла улыбающаяся золотой фиксой рожа: «Вот это киса! — заорал прямо ей в лицо молодой, но почему-то жутко морщинистый парень с пепельно серым лицом. Из его рта вместе с паром вырывался удивительно мерзкий смрад. — Кончай с ними, а девку берем с собой, сроду таких не видел!»
«Понял, амбал, твою девушку мы возьмем с собой, — сказал кто-то за ухом Мухина. — Запредельная же телка, с такой грех не поиграть, всем понравится. А тебе и твоему жиду лучше отдать нам все золото, тогда отпустим.» «Отдайте сами, — сказал серолицый, — а то сядете тут же на снег и больше не встанете.» Мимо, поспешно отводя глаза и ускоряя шаг, спешили к поездам и обратно привыкшие к разборкам здесь прохожие.
Ни слова не говоря, Мухин осторожно повернул галстук к бандиту, стоящему около Марины, словно нервно поводя головой под его презрительной улыбкой с блеском фиксы и чуть прогнулся. Спираль, соединенная с датчиком, следящим за его взглядом, полыхнула фиолетовой молнией.
От головы бандита осталась обугленная шея над дымящейся кожаной курткой. Держащие Мухина руки тотчас разжались. Безразличная только что толпа бросилась врассыпную разразившись истерическими женскими воплями и криками ужаса, — даже в «бандитском Петербурге» такого еще не видели.
Понимая, что в них тоже сейчас начнут стрелять, Фридман и Марина прогнулись, включая свои спирали. Фиолетовые молнии пронзили толпу, настигая скользящих в лихорадочном беге по снегу любителей чужого добра и превращая их в жуткие обугленные обрубки. Запели со всех сторон «запоздалые» трели милицейских свистков.
«Таблетки!!» — заорал Фридман. Давясь, все трое проглотили по таблетке. Мир тут же стал таять у них в глазах и сублимировался в виде тихого сквера, разбитого некогда на месте вокзала. Пушистый чистый снег сверкал на ненадолго выглянувшем из-за туч низком петроградском солнце. Снежные шапки тихо лежали на елях и скамейках. Друзья с трудом перевели дух, ошалело оглядываясь в поисках уцелевших бандитов. Но вокруг были только их собственные следы. По-видимому, они несколько секунд, до того как осознали конверсию измерения, бессмысленно бегали по аллее.
4.
«Андрей… ни в какой Израиль я не поеду и тебя не пущу,» — рыдала Марина, на плече мужа, дрожа всем телом, когда они уже переоделись в петроградское, вышли на набережную Невы и остановились у ростральной колонны балкона над Литейным туннелем.
«Господи, прости нас!..Какой кошмар, — повторяла она. — Мы убивали людей! Я убивала!..» «Попробовали бы мы не убивать, — тоже весь дрожал Арон.
— Или позволить тебя похитить…» «Даже вообразить невозможно, — схватила себя за виски Марина, — что бы они со мной сделали, если бы сразу вас обоих сразу убили… Вот уж точно, я бы позавидовала мертвым…»
Фридман дико взглянул на нее и тут же попытался успокоить: «Что бы они могли сделать? Тебя даже за руки не держали. — он криво улыбался дрожащими губами и машинально тер руками онемевший подбородок. — Стреляла бы в упор, пока они не остались бы без голов. Ты же тоже вооружена. И таблетка была наготове.» «Какое стреляла бы? — уже улыбалась сквозь слезы княгиня. — Меня сковал такой ужас… И вообще кошмар — это ваше революционное измерение!.. По-моему его большевики зарядили навеки чем-то ужасным… У нас в Петрограде тоже мафия на мафии, но чтобы вот так, при всех, среди бела дня… На глазах у полиции! Андрей, я тебя в это дело втравила, а теперь беру свои слова обратно. Поиграли и хватит! Я не хочу, чтобы меня насиловала всякая шваль. Господи, какая рожа! А вонь изо рта… Никогда и никуда. На нас и в Израиле тут же нападут…» «Успокойся, дорогая, — целовал Мухин покрасневшее от слез и еще более похорошевшее от пережитого волнения лицо жены. — В конце концов, жизнь всегда интереснее с приключениями. Иначе, что вспоминать к старости?. Я вот люблю охотиться в джунглях Индии. Тигры, знаете, тоже без сентиментов. Кроме того, как подумаю, что мы зато избавились от необходимости знать, что пишут о нашем браке в газетах, что говорят в свете, то готов хоть снова в Ленинград. Для меня эти сплетни — не менее сильные ощущения, но еще более противные, чем вонь изо рта твоего недавнего визави… Короче, я лично — за поездку. Интересно, как постреволюционные евреи обустроили свое отечество. Как им распорядились русские, мы уже видели… Тем более, что пока я не увижу Израиль собственными глазами, я в такое невероятное словосочетание — еврейское отечество — вообще ни за что не поверю. Уже два тысячелетия не было Израиля на свете! Арон, у вас тоже придется отжигать по пол бандита каждым лучом спирали?»
«У нас, конечно, есть бандиты, и мафий полно, и арабы иногда взрывают автобусы и кафе, но в целом мы — одно из самых спокойных обществ в мире в криминальном отношении. Я думаю, что вам там ничего не грозит. Ну, и моя просьба остается в силе.» «Собственно, он рисковал в своем родном Ленинграде не меньше нас, — добавил князь уже кивающей сквозь слезы Марине. — И туда он тоже бы ни за что не вернулся, так Арон?» «Я провел в Санкт-Петербурге месяцы и ни разу до этого случая не подвергался нападению. Это чистая случайность. Старик был прав — вы слишком заметные. У нас же вам непременно понравится, — уже спокойно улыбался израильтянин. — Я вас на пляж повезу, купаться будем в декабре в Средиземном море…»
«А, княгиня? — все целовал и целовал Марину Мухин. — А то тронемся хоть сейчас… Интересно-то как! В один день столько перемещений в пространстве и измерениях… Знаешь, Арон, я уж и не мечтал, что найду более сильные ощущения, чем рутинные уже сафари и гималайские восхождения. Сейчас я чувствую себя Гленарваном, только что спустившимся с Анд, и готового к новым опасным приключениям в поисках капитана Гранта. Неужели нам упустить такой медовый месяц, Мариночка?» «Только больше никаких насильников и отожженных голов…»
Мухин нажал кнопку на мобильном видеотелефоне. На набережной почти тотчас появился среди потока машин алый лимузин на воздушной подушке. Таксист услужливо приподнял крышу застекленной машины и радостно закивал, услышав: «В Рощино.»
Глава 4
1.
В усадьбе Мухина все было по-старому, словно хозяин и новая хозяйка и не подвергались сегодня утром смертельной опасности. Тот же мечущийся от радости черный дог, тот же бесшумный кланяющийся татарин. Наскоро перекусив «человеческой пищей», Мухины приказали собрать в баулы с ленинградской одеждой немного еды, с содроганием вспоминая пирожковую на Петроградской стороне. «Напрасно, — улыбался Фридман. — В Израиле вам пища очень понравится.»
По скрипучему снегу они вышли на взлетно-посадочную площадку. Внешне авиетка напоминала застекленный четырехместный автомобиль с короткими стреловидными крыльями. На серебристом стабилизаторе были двуглавый орел и герб князей Мухиных — чайка над волной.
Где тут может поместиться хоть какой-нибудь авиадвигатель и запас топлива? — недоумевал Фридман, когда-то принимавший участие в расчетах истребителей.
Как только опустились двери, в салоне настала такая тишина, что стало ясно — это отнюдь не окна автомобиля. Мухин включил компьютер, поиграл на клавиатуре, и — бегающий вокруг дог как-то сразу превратился в крохотного черного паучка около спичечного коробка-усадьбы, улетающей вниз и назад. А затем и весь чудовищно огромный Петроград превратился в серое пятнышко среди белых снегов и черных лесов. Серое небо стремительно заголубело и заискрилось низким солнцем, а потом стало иссиня-черным. Только здесь салон многослойно поддался назад, гася чудовищное ускорение.
«Меня эти самолеты поразили еще на параде, — сказал Фридман. — Как они поднимаются без разбега и как они двигаются с такой чудовищной скоростью — без места для какого-либо реактивного двигателя и запаса топлива к нему?» «Все очень просто, — ответил Андрей, — если учесть, что у нас под днищем находится левитационный блок с диафрагмой, регулирующей изоляцию от земного притяжения. Потребляет массу энергии, саккумулированной в конденсаторе. Его заряжают от сети не менее часа для каждого взлета. Зато потом один из одноразовых ракетных ускорителей включается уже почти в космосе и разгоняет самолет практически без сопротивления среды до пяти-десяти скоростей звука, в зависимости от расстояния перелета. В принципе, я могу достичь Австралии за то же время, что и вашей Палестины.»
Уже через четверть часа засияло на солнце голубым простором Черное море, потянулись заснеженные вершины Анатолии и снова появилось море с полоской земли вдоль него. Теперь их чуть качнуло вперед. Компьютер вывел авиетку на британскую военную базу, которая приближалась снизу так стремительно, что Арон и Марина невольно вжались в кресла. Но что-то бесшумно и мягко сработало, авиетка без толчка опустилась на землю. Вокруг простирались желтые холмы, какие-то невысокие постройки, а к ним мчался джип с британскими офицерами.
2.
«Вы даже представить себе не можете, князь, как мы польщены вашим визитом, — сиял глава британской колониальной администрации, губернатор Палестины генерал Артур Джефферсон, как он не замедлил представиться, прикладывая ладонь к высокой круглой зеленой фуражке. — Я специально приехал на базу, чтобы вас встретить. О вас сейчас столько говорят, — неожиданно поклонился он именно Марине, как-то смущенно и странно на нее посматривая. На этой, так называемой, святой, но на самом деле Богом забытой земле вообще увидеть новое человеческое лицо — подарок судьбы. Тем более, людей, о которых сегодня говорит весь мир. Не откажите отобедать. Моя супруга прямо с ума сошла, когда узнала, что сейчас вас увидит, — снова почему-то обратился он именно к Марине. — Мы живем в самом центре довольно приличного жидовского Тель-Авива. Там много спокойнее, чем среди этих непредсказуемых мусульман.»
«А что, евреи вам разве не досаждают?» — осторожно спросил Фридман. «Евреи? — генерал пристально посмотрел на Арона. — Пожалуй, не очень. Если они кому и досаждают, то друг другу и арабам. Вечные перестрелки. Причем не так арабов с евреями, как красных евреев с бело-голубыми.» «Не понял, — удивился Мухин. — Евреи-то что между собой не поделили?» «Вы, князь, видно с евреями никогда дела не имели, — губернатор опять мельком взглянул на Фридмана. — Это такая нация… С одной стороны вроде друг за друга держатся, а с другой — вечно один другого в ложке воды утопить готов. То есть свою веру, свое еврейство, свой избранный народ, в целом, абстрактно, они все искренне любят, но отдельного, конкретного еврея, любого, кроме себя самого, терпеть не могут. А арабы, хоть вроде бы и дурные, а этим ой как пользоваться научились. Дело в том, что, в свое время тут оказались иммигранты из вашей России, зараженные тогда большевизмом. Хоть она так и не состоялась, эти евреи считали и, пожалуй, до сих пор считают Ленина и других вождей русской социалистической революции своими учителями и кумирами. Не будет преувеличением сказать, что наши палестинские евреи, во всяком случае большая их часть, еще больше большевики, чем ваши коммунисты. Как, кстати, и наши арабы, обласканные в свое время германским нацистом Гитлером, здесь и сегодня больше фашисты, чем ваш Матвеев. Евреи, как всем известно, вообще склонны к социализму. И если сама Россия с той же большевистской заразой почти сразу справилась, то тут выросло уже черт-те сколько поколений оголтелых социалистов. Поэтому большинство из них — совершенно большевистского склада. В то же время, есть у нас немало и достойных евреев — иммигрантов последующих лет. Эти просто хотят жить в Палестине, отлично умеют выращивать апельсины и цветы, делать лучшие в мире вина и разводить самых дойных на планете коров. Но эти евреи склонны к независимости Палестины и в этом смысле для нас в какой-то мере опасны. Поскольку они вывешивают над своими сторожевыми башнями бело-голубой флаг с шестиконечной звездой, то мы их и называем бело-голубыми. А вот наши евреи-социалисты не столько за независимость (они вообще строят из себя радетелей мировой справедливости, на своих сборищах вывешивают красный флаг и поют на иврите «Интернационал»), сколько за чуть ли не тяжелую индустрию под их управлением в Палестине. Они жить не могут без угнетенного пролетариата и управления им, спекулируют на необходимости «власти рабочих». На деле-то, конечно, внутри их ишува есть только власть партийных бюрократов, но евреи ей верят. Это все — красные евреи. С ними, собственно, у нас забот меньше. А вот бело-голубые — это похуже. Тут уже из-за арабов, которые, в отличие от евреев, вообще работать не хотят, на одном месте не живут. То переселяются в нашу Палестину из Французской Сирии ради заработков у тех же бело-голубых евреев (красные их на работу не берут), то торопятся слинять обратно. Но перед уходом непременно своих же работодателей-благодетелей без конца режут, поджигают и убегают в пустыню. Мы посылаем за ними солдат и, как правило, настигаем и уничтожаем.
«А сколько тут живет сегодня арабов и евреев? — спросил тот же Фридман.
— И кто из них активнее претендует на святую землю?» «Претендует? — генерал от удивления даже остановил машину и вынул из рта сигару. Джип уже въезжал в нарядный зеленый Тель-Авив, выглядевший внезапно возникшим оазисом после бесконечной желтой пустыни с черными козами и бредущими среди них пастухами-арабами. — Позвольте, вы… наверное, из русских сионистов, мистер Фридман? Хорошо, что вы тут с князем, иначе мы бы вас бы тотчас вернули в Россию — стройте себе любое еврейское государство, но где-нибудь на вашей Аляске… У нас в империи, как и в вашей, кстати, уже лет тридцать никто и ни на что не претендует. Немногочисленные эксперименты двадцатых годов показали цивилизованным нациям, что нет для населения любой из колоний большего зла, чем независимость и безраздельная власть местного диктатора с его непременно бандитским окружением над собственным нищим и темным народом. Поэтому здесь и миллиону евреев, и примерно стольким же арабам мы раз и навсегда дали понять, что это имперская земля. На нее может претендовать только британская королевская колониальная администрация, которую и представляет ваш покорный слуга… Вот мы и приехали.»
Декабрьские улицы Тель-Авива были чистыми и тенистыми. Все утопало в зелени и цветах, залитых почти летним солнцем. Поместье губернатора было выстроено в центре регулярного английского парка, разбитого на берегу моря — ярко-зеленые лужайки, павильоны, скульптуры среди огромных деревьев. Но гуляющие тут павлины и мартышки на лианах среди ветвей показывали, что это обычная британская колония в субтропиках. За огромными деревьями нестерпимо сияло на солнце голубизной и бликами бескрайнее Средиземное море до синевы ровной линии горизонта. Подъезд был украшен колоннами темного мрамора, которые отражались в изумрудном бассейне под белой колоннадой просторной веранды.
Миссис Джефферсон оказалась красивой рыжей шотландкой, одетой неожиданно фривольно, даже с учетом жаркого приафриканского климата: в шортах, открывающих стройные загорелые ноги, в открытой кофточке, намеренно расстегнутой для обозрения ее контрастно белой груди ниже темного загара. Генерал был так шокирован этой выходкой колониальной львицы, находящейся в каком-то лихорадочном возбуждении, что его веснушчатое лицо побагровело. Он скомкал сигару, которую собирался закурить и многозначительно закашлялся. Когда же к гостям выпорхнула миловидная дочь генерала, смущение губернатора перешло в смятение. Девочка лет шестнадцати была в монокини под прозрачной туникой, Несчастный англичанин крякнул и демонстративно ушел к себе под звонкий хохот супруги и дочери, к которому охотно присоединилась и Марина.
«Это был сюрприз для генерала, но это ничто по сравнению с сюрпризом для вас, ваша светлость, — все еще смеясь сказала миссис Джефферсон Марине, увлекая ее в дом. И одно связано с другим, как вы сейчас поймете… Вы не возражаете, если я буду называть вас просто Марина. Аменя зовите просто Джекки. А дочь моя — просто Мэгги. Ну, не ожидали?!»
Марина обалдело смотрела на стену, где, в раме! висел ее портрет, для которого она позировала Лейканду. В натуральную величину. «Откуда он у вас? — пораженно спросила Марина, заливаясь краской. — Он еще и не закончен, насколько я знаю… и вообще…»
«Закончен! — радостно кричала Мэгги. Это копия, ваша светлость, из Лувра по интернету. Отличить от оригинала может только специалист. Неужели вы не знаете, что картина вчера получила первую премию на Парижской выставке «Живопись ХХ века», куплена Лувром и тотчас появилась в интернете? И вот сегодня мы узнаем, что вы здесь! Мы с мамой не сразу поверили такому счастью! Тотчас же заказали у жида раму и сделали вам сюрприз, как мы, а?» «Отлично…» «А картина, изображающая нагую русскую княгиню, так поразила европейское общество, — тараторила Мэгги, — что чуть ли не все аристократки кинулись заказывать свои подобные портреты. Вчера была передача из Лондона — в общественном бассейне все дамы были ню! Представляете, что вы с Лейкандом натворили, это же революция, это — новый век! Вот и мы умоляем вас сделать папке сюрприз (как он вчера плевался!) и искупаться с нами ню!!» Мухин и Фридман растерянно переглядывались. Фридман то смущенно отводил глаза от портрета, то снова прикипал к нему взглядом.
«Вы поразительно хороши, Марина, — хрипло сказал он. — Поразительно…»
«Еще бы! — прыгала вокруг Мэгги. — Вы знаете, что, по представлению менеджера Лейканда барона Шустера, княгиня Марина Мухин единогласно признана ЖЕНЩИНОЙ ВЕКА! Миссис Мухин, ну что вам стоит, вы же натурщица, вы же секс-витрина, все уже об этом знают, в интернете десяток ваших фотографий, ну же, добьем папку!»
«Андрей? — неуверенно обратилась Марина к мужу. — Как вам с Ароном массовое ню для вас в Палестине? Княгиня, юная девушка и генеральша-губернаторша в придачу?..» «Что уж теперь, — рассмеялся Андрей. — Ню так ню! Только одно условие: на нас с Ароном этот психоз Европы и Ближнего Востока не распространяется. Мы раздеваться не будем ни за что. Ваше превосходительство, прошу к нам, дамы вступают в новый век и тысячелетие, и вступают в самом красивом их наряде, где всякая подделка исключена.»
«За всеобщий дамский ню, — генерал, уже сильно под-шафе, появился с подносом (слуг заранее удалили) с бутылками и бокалами. Женщины радостно забрались в бассейн и плескались, мужчины не менее радостно напивались.
Когда Мухин почти перестал соображать, где он, с кем и на каком языке следует общаться, губернатор, осушивший вторую бутылку виски, вдруг наклонился к нему и тихо спросил трезвым голосом: «Так что вас привело в Палестину, князь? Только не говорите, что интерес к святым местам. Я тут двенадцатый год и мне сразу ясно, что русский князь, неестественно склонный к коммунизму, зря с явным сионистом в нашу Палестину не приедет. Итак? Что вы тут забыли?»
«Вы напрасно так волнуетесь, мой генерал, — не сразу взял себя в руки Андрей Владимирович. — Мне лично наплевать и на евреев, а на сионистов — тем более. Это ваши с ними дела. У нас в России никакого национализма, кроме русского, не просматривается — все прочие мы в зародыше задавили, как и вы в ваших индиях-египтах. И не нам учить вас, как поступать с евреями, арабами или зулусами. У нас своих чеченцев и прочих абреков хватает. Не зря мы на каждого из них поселили по всему Кавказу по два казака.»
«Я бы и не заподозрил вас ни в чем, князь, да больно мне ваш спутник не нравится. Вот уж кто в вашей милой компании явно лишний. У меня на сионистов нюх, почище, чем у моих дам на разные европейские ню. Этот парень — сионист, это написано их голубыми буквами на его еврейской роже. Ему явно здесь что-то надо.» «Начнем с того, что мистер Фридман — русский гражданин, документы в порядке, вы сами проверяли. Живет в Петрограде, дружен с Лейкандом, и Британской Палестиной отнюдь не бредит. Здесь мы с ним в связи с моим последним проектом…» «Знаю, наводил в интернете справки, когда узнал, что вы запросили посадку в Лоде. Но ваш проект касается трансамериканского транзита контейнеров из Японии в Европу, минуя Суэцкий и Панамский каналы. Нельзя сказать, что Лондон в восторге от этого поворота потоков, но это меня прямо не касается…» «Теперь коснется, генерал. Я намерен проложить такую же линию через Палестину, параллельно Суэцкому каналу, из Хайфы в Эйлат. По своему каналу вы увеличите поток танкеров, а контейнеры пойдут через вашу территорию и дадут британской казне огромные деньги.» «Через мою Палестину? Суэцкий поток! Да это же…» «Вот именно. А вы меня чуть в русские шпионы не записали. Мистер Фридман, кстати, — известный математик. Он мне делает все расчеты по новой линии. И мы намерены все посмотреть на месте. Надеюсь, теперь вы не возражаете?» «Простите, князь… Сами понимаете, у меня свои заботы.» «Теперь их будет много больше, генерал. Поезда, порты с тысячетонными кранами. Ну, вы читали же об американском транзите. То же самое. Масса рабочих мест. Еврейская иммиграция. Но, повторяю, это все ваши проблемы. Я инженер, а не политик… Как там, кстати, наши милые дамы? Как бы Марина не сгорела на вашем солнце с непривычки.» «Не бойтесь, ей дали крем от загара. Ей вообще, по-моему идет быть белой…»
Женщины полулежали в шезлонгах у бассейна под вороватыми взглядами расположившегося на верхней веранде Фридмана. На них были очки-наушники, сочетавшие защиту от солнца с просмотром стереоскопических стереофонических телевизионных программ. Мэгги, по всей вероятности смотрела и слушала что-то музыкальное, ее ноги дергались в ритме танца.
Марина же, не зная радоваться или стыдиться, просматривала и прослушивала все, что было связано с разразившимися вокруг нее событиями в Петрограде и в Париже. Что смотрела в этот момент Джекки, осталось тайной. Не исключено, что то же самое — в ее провинциальной колониальной жизни неожиданный визит главной героини мирового светского скандала был, пожалуй, не менее важным, в своем духе, чем для самой Марины.
3.
«Я дам вам машину с верным мне арабом. Он отлично говорит по-английски и провезет вас куда прикажете, все покажет и со всеми, кто вам нужен, сведет, — сказал генерал. — Не подумайте, Бога ради, что я приставляю к вам шпиона…» «Дело не в этом, ваше превосходительство, — нахмурился Мухин. — Ваш араб будет нас демаскировать, а у нас свои конспиративные дела, нам ни к чему подставляться конкурентам. Американцы и французы спят и видят, как бы залезть в Палестину с подобным проектом раньше русских. Нет уж, мы возьмем такси и доберемся до Хайфы сами, с вашего позволения.»
Генерал задумался, пристально глядя то на Мухина, то на дам, то, еще пристальнее, на все еще подозрительного ему Фридмане. «Ладно, мистер Мухин. В конце концов, я подробно опишу нашу встречу в докладе на имя Министра колоний. Если вы что-то задумали, вам и расхлебывать после ссоры наших правительств. Вы достаточно известный в России и в мире человек.» «Но чтобы в докладе — никаких ню, — ударил его по коленке Мухин и налил обоим по бокалу. — Все ню будут нашим маленьким русско-английским заговором против наших правительств. Ваше здоровье, генерал,» — по-русски добавил он. «Ле бриют, ле хаим, — хохотнул генерал, — как говорят ваши любимые евреи, князь. Не хотите ли взглянуть на их Тель-Авив? Мистер Фридман, как насчет экскурсии с британским генералом, пока нашим дамам не до нас?..»
«Ровер» губернатора в сопровождении бронетранспортера с томми катил по тихим ухоженным улицам с табличками и вывесками на английском и иврите. Как и в любой колонии, этот город был слепок со старой доброй Англии. Дома с выходом из квартир прямо на улицу, скверики напротив каждой квартиры, омнибус на главной улице имени какого-то короля. «Словно и не было декларации Бальфура, — заметил вдруг Фридман. — Хоть это и еврейский ишув, но независимостью тут и не пахнет.» «И не запахнет, — ощерил генерал крупные зубы под жесткими рыжими усами. — Во всяком случае, пока вы, князь, не дадите независимость вашему Азербайджану и не уступите тамошним суверенным мусульманам их нефть. А, между нами говоря, мистер Фридман, что дала бы независимость вашим евреям, кроме бесконечных войн с соседними арабами? Согласитесь, дать евреям свое государство по Бальфуру нельзя, не дав такие же независимые образования Египту, Персии, Месопотамии. Но если евреи смогут худо-бедно наладить здесь экономику и дать своим гражданам сносную жизнь, то правители независимых арабских стран могут дать своим подданным только нищету и произвол. А чтобы оправдать разницу в уровне жизни между смежными народами, тут же пояснят, что во всем виноваты жиды. Мои мусульмане по природе вроде ваших абреков, князь. Им привычнее отнять, чем произвести или купить. Им только намекни, что кто-то рядом не защищен… Вот вам и война, в которой Европа, не говоря о России, будет отнюдь не на стороне ваших евреев. Вот вам и конец ишуву, если не физический конец всем этим достаточно счастливым в империи людям, — он указал стеком на многочисленных мужчин и женщин, сидящих под тентами в кафе на уютной узкой набережной Тель-Авива, и на резвящихся на ярко-зеленых газонах у самого песка пляжа детей. — Без нас тут вместо всей этой пасторали будут взрывы, пожары и поножовщина. Более подходящего объекта для резни, чем евреи, мировая история не изобрела. Я лучше вас, господин сионист, знаю, с кем имею дело… Так что не вы, а я их благодетель. Не я, а вы со своими бредовыми идеями ацмаута — независимости — их злейший враг. Смотрите, какой прекрасный город у наших палестинских евреев. А потом я повезу вас в не менее прекрасный город Яффо — для наших же палестинских арабов.»
Набережная действительно вся сияла чистотой и богатством, зеркальными витринами магазинов, бесчисленных аптек — признака почему-то любого еврейского города в Англии ли, в России или в Америке. Через каждый квартал сияла золотыми буквами на белом мраморе синагога. Около синагог оживленно переговаривались одетые в черное мужчины и нарядные, по моде начала 20 века, женщины в кокетливых шляпках. Тут же играли бесчисленные дети с пейсами и в разноцветных кипах. Евреи оглядывались на «ровер» и почтительно кланялись генералу, который едва наклонял голову в ответ.
«А почему вы не можете вообразить, мистер Джеферсон, — продолжил Фридман, что евреи сами могут обеспечить себе в своем Тель-Авиве, но без вас, такое же благополучие и безопасность?» «Евреи? Сами, без английских колониальных сил? Не смешите меня, мистер Фридман. ДА КТО ИМ ЭТО ПОЗВОЛИТ на этой земле? Я же вам только что сказал, что арабы тут же всех вас… простите, их и вырежут.» «А почему вы не допускаете, что евреи сами не позволят арабам себя вырезать?» «Вы слишком плохого мнения о своем народе, мистер Фридман, — генерал явно наслаждался своей лекцией и знанием вопроса.
— Неужели вы не знаете, что еврей даже курицу зарезать не может, специального резника нанимает, что еврей соблюдает заповедь «не убий», как никто другой. Если и найдется здесь с десяток достойных солдат вроде, как мне кажется, вас, то их сами же евреи и осудят. А то и каменьями побьют… А мы против исламских погромщиков всегда выставляли в городских воротах заряженные картечью пушки, чтобы их достойно встретить. Это вам не проповеди ваших гуманистов — действует безотказно. Ничему арабы так свято не верят, как пушкам. В последнее время мы их изредка доучиваем спиралями. Еще убедительней. Но и безмозглых еврейских экстремистов из бело-голубых, мы тоже изредка вешаем. Сами же красные нам их и сдают. Даром, серебрянников даже не просят. Вот и вас… окажись вы моим подданым и замахнись на корону в пользу ацмаута, я бы повесил — во спасение всех этих детишек. Нет опаснее идеи евреям, чем сионизм. Даже фашизм, который мы с вами тоже задавили в зародыше, даже большевизм, который задавили в зародыше вы!..»
В поместье их уже ждали. Прилично одетые милые дамы чинно пили чай по-английски за белым столиком на веранде. Марина расцеловалась с Джекки и Мэгги, веселый таксист-араб проводил искателей приключений в свой «мерседес».
На прощанье генерал вдруг многозначительно сказал Фридману, крепко пожимая ему руку: «Знаете, мистер Фридман, если бы все евреи были бы похожи на вас, я бы, пожалуй, рекомендовал палате лордов отдать вам Палестину. Лучше союзника для короны в этом нефтяном углу и быть не могло бы. Но они на вас не похожи. И сами таких как вы тут не потерпят. Так что оставьте сионизм грядущим поколениям. Поверьте прожженному колонизатору. Я живу с евреями дружно, но я их не уважаю. Пустая нация. Как женщина для всеобщего потребления. Для себя вы никогда не сделаете того, что без конца созидаете для всех нас — презренных гоев…»
«Таксист, скорее всего, агент губернатора, — шепнул Фридман Мухину. — Проще было согласиться всюду ездить с его человеком, хоть явно было бы. А там как-нибудь улизнули бы. Зато теперь вся его агентура будет нас вести по Хайфе до самой конверсии.»
«Меня больше беспокоят ваши, — сказал Мухин. — Ведь у нас с Мариной никаких документов, даже таких фальшивых, что подготовил я для нашего милейшего хозяина-губернатора.» «Я говорил о вашем возможном появлении в нашем измерении. И сразу же позвоню знакомому генералу. Если поверит, будем разговаривать без документов. А если нет — по таблетке — и к родному Джефферсону…»
Такси мчало их на север по извилистой горной дороге. Под ними была заболоченная приморская равнина с редкими деревнями, киббуцами и поселками. Вдоль дороги пасли все тех же черных коз, но попадались довольно обширные и приличные еврейские поселения с неизменной башней с вооруженным пулеметом охранником посредине. «Хома-у-мигдаль» — сказал Фридман. — Стена и башня. Иначе англичане не регистрируют поселение. И иначе арабы всех вырежут при первом же набеге.» «А нас арабы не вырежут, надеюсь? — тревожно оглянулась Марина по сторонам. — А то с меня хватает вашего Ленинграда…» «Нас? Не исключено, хотя я надеюсь, что при ТАКОМ губернаторе бандитов тут немного. С другой стороны, здесь даже опаснее, чем в Ленинграде… У них тоже спирали имеются. Впрочем, я почти уверен, что наш водитель — шпион генерала все-таки… А раз так, он знает куда тут можно, а куда нельзя ездить. И кому.» «Андрей, я, конечно понимаю, что ты чувствуешь себя сейчас Гленарваном в поисках капитана Гранта, но мне страшно. И я все-таки опять хочу домой…» «Мы почти у цели, дорогая, хотя так медленно ездить я просто не умею.»
«Хайфа», — водитель показал пальцем на белую ветряную мельницу на склоне горы, за которой появился серый Кармелитский монастырь. По железной дороге двигался битком набитый разношерстной публикой расхристанный поезд с примитивным тепловозом. Под пустырем за рельсами шумел прибой. Вдоль дороги и моря были видны несколько двухэтажных строений мавританского вида с пальмами вокруг и обширными жилыми крышами. Христианская церковь возвещала о себе слабым звоном единственного небольшого колокола. По шоссе промчался в пыли допотопный переполненный автобус. Люди сидели прямо в проемах его дверей и громоздились на заднем бампере. Автомобили двигались по двум полосам рывками, беспрерывно сигналя друг другу. Сам город отсюда едва угадывался немногочисленными строениями вдоль моря и по склону горы. В основном это были одно-двухэтажные виллы среди зелени густых садов и вееров бесчисленных пальм.
«Вот мы и проверим, шпион ли он…» — Фридман обратился к водителю на иврите. Тот послушно свернул с дороги к морю и, перевалив через едва заметные в грязи рельсы, остановился над морем у откоса на пустынном берегу. Получив русские рубли, он почтительно поклонился и исчез в облаке собственного сизого дыма.
«Ну вот! Оказался обыкновенным таксистом, — весело сказал Арон, все сильнее волнуясь. — Переодевайтесь, друзья, принимайте таблетки. Мы переходим снова в наше измерение. И — добро пожаловать в Израиль!» «Что-то мне боязно, — сказала Марина, глядя то на таблетку, то на мужчин. — А вдруг опять какой-нибудь с золотой фиксой пристанет… И евреев после всего, что порассказал губернатор, я боюсь.»
«По коням, — усмехнулся Мухин и принял таблетку. — Ого! Такого… Арон, простите, где мы, в нашем измерении или в вашем? ЭТО ТА ЖЕ САМАЯ ПАЛЕСТИНА?!» «Это не Палестина, — со слезами гордости на глазах ответил Фридман. — ЭТО ИЗРАИЛЬ! СУВЕРЕННОЕ ЕВРЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО…»
4.
Все трое ошеломленно стояли на том же пустыре, прижатом к морю узким асфальтовым шоссе. По железной дороге промчался, сверкая на ярком солнце зеркальными стеклами, такой поезд, которому позавидовал бы и ухтинский Петроград. За огражденным изящными решетками полотном простиралась широкая автострада, по которой неслись сотни современных машин. За тем же монастырем на горе раскинулся огромный сияющий город. То же море плескалось у их ног, но тут был совершенно иной, словно напоенный радостью воздух. Скорее всего, им просто передалось настроение совершенно счастливого возвращением НА РОДИНУ Арона.
«Вы бы еще увидели НАШ Тель-Авив, — восторженно сказал он. — А теперь прошу вас ко мне в гости. Я живу совсем рядом. Пройдемся по набережной. Нам повезло — конверсия произошла незаметно. Теперь надо обращать на себя поменьше внимания. Хотя с вами это вряд ли удастся…»
Он оказался прав. Как только они вышли на оживленную набережную, заполненную нарядной толпой с детишками, велосипедистами, собаками, роликобежцами, на Марину немедленно стали оглядываться практически все мужчины — от подростков до степенных стариков, сидящих на многочисленных скамейках со своими ухоженными, совсем не ленинградскими старушками. Но внимание было ненавязчивое и крайне благожелательное. Со всех сторон сияли белозубые улыбки красивых загорелых парней.
«Господи, Арончик, — впервые обратилась так к Фридману Марина и даже прижалась к нему, — неужели все это ЕВРЕИ? Какой красивый народ!» «Ну… я бы не сказал. Но то, что добрый и уж, во всяком случае, не агрессивный — ручаюсь.» Море ласково накатывалось на черные скалы, окаймлявшие чистую ухоженную набережную с пустыми кафе и стоящими на улице столиками. «Не Ницца, конечно, но и не палестинская Хайфа… — тихо произнес Мухин. На него, кстати, тоже оборачивались женщины всех возрастов, провожая взглядами статную пару иностранцев с каким-то оле. — Вот бы, Арон, сюда этого генерал-губернатора, а? Да, таким евреям и я бы доверил любую нашу колонию…»
«Вот и спаси нас, Андрей, — помрачнел Фридман. — Джефферсон был прав: все это великолепие — предмет звериной зависти соседей, еще более нищих, чем те, что мы только что видели в его Палестине. Мой народ выстрадал эту страну. Но ей угрожает смертельная опасность, Андрюша…»
Марина не могла поверить своим глазам. «Когда-то я с отцом часто бывала в разных петроградских гетто, включая еврейское, — сказала она. — Те евреи были российские граждане, но они в России как бы в гостях, а эти — у себя дома, как французы в Париже!.. Вечные бродяги, вечные нежелательные иностранцы, даже великий Лейканд всегда о себе именно так выражался, тут свои среди своих! У себя на родине, не пархатые жиды, а свободные евреи в независимой еврейской стране… Вот бы моей интернациональной мамочке все это показать!» «И плевать им, — смеялся Фридман, — даже и на таких роскошных иностранцев, как вы.»
На тенистой улице, украшенной бесчисленными яркими короткими пальмами среди лужайки и богатыми домами, элегантные израильские полицейские самозабвенно ругались НА ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ на всю улицу с пожилым нарушителем в шортах на волосатых ногах. Марина знала по посещениям гетто эти еврейские интонации, которых так стеснялись люди из круга Лейканда. Тут же не стеснялись национальных жестов. Эти были дома…
«А Арону, по-моему, за них стыдно, — шепотом сказала вдруг Марине муж, привычно угадав ее мысли. — Смотри, какое у него лицо… Он же их просто ненавидит… Так Матвеев на Фридмана смотрел бы…» «Не выдумывай! — начала было княгиня. — Кто же тогда патриот еврейства, если не доктор Фридман!..»
Но взгляд Мухина уже привычно остановился на беззащитно обнаженных пальцах (и мыслях) нового друга. Н-да, с неприязнью подумал князь, а уже не прав ли генерал-губернатор: все они искренне обожают свое еврейство, в данном случае, свой Израиль, но патологически ненавидят в себе и в других реального еврея…
5.
В просторной уютно обставленной квартире Фридмана с окнами на сверкающее белыми барашками море гостей встретили почти со страхом. Миловидная Жанна и светловолосая изящная дочь Кира, только что вернувшаяся с суточного дежурства в госпитале, прямо метались, приготавливая обед. Конечно, отец, которого обе они заслуженно считали гением, неоднократно отлучался в другое измерение, много им рассказывал, показывал удивительные вещи, фотографии и видеофильмы, но они и представить не могли такого доказательства существования ТОГО МИРА!..
Киру смущало, что она чуть не по плечо великолепной Марине, что она никогда не видела такого чистого и свежего лица, как у этой юной женщины ОТТУДА. Тем более она не могла не задерживать взгляда на белокуром синеглазом великане Андрее. Но еще более ее поразил сам факт присутствия не на экране сериала из жизни прошлого века, а наяву, да еще в их современной квартире человека, который представился небрежно: «Князь Андрей Мухин. Княгиня Марина Мухина. Прошу любить и жаловать.» И — руку поцеловал, сначала матери, потом ей, Кире. Живой князь…
Обед оказался на редкость вкусным. Арон иронически спросил насчет заготовленных впрок в Рощине продуктов на случай несъедобной пищи в Израиле. Марина только замахала руками с набитым ртом. Она едва успевала спрашивать у Жанны: «А это что? Я хочу. А это? Я это хочу…» Понравились гостям и израильские вина, еще лучше «всемирно признанных жидовских напитков», которыми так гордился их предыдущий радушный хозяин — генерал-губернатор подмандатной Палестины. Жанна и Кира слушали о нем с замиранием сердца. «Папа, а ты их сюда случайно не впустишь? С их спиралями?..» «Пока спирали нам пригодились в другом месте,» — ответил Арон и рассказал жене и дочери об их приключениях в Ленинграде — Санкт-Петербурге.
«Ужас-то какой! — воскликнула Кира. — Даже представить страшно, что бы они с вами сделали, Мариночка, с такой… По российским программам без конца такие жестокости показывают! Господи, чего вы избежали… Если бы только насиловали или убили, а то ведь…» «Кира, — остановил ее отец. — Хватит. Давайте-ка посмотрим новости из России, хотите?» «А можно? — обрадовалась Марина. — С удовольствием.»
Они расселись у телевизора в затененном салоне. Какой-то государственный муж современной демократической постбольшевистской России хрипло и агрессивно говорил менторским тоном такую откровенную чушь, и такая у него при этом была дегенеративная и явно еврейская рожа, что Мухин пришел еще в больший ужас, чем при виде ленинградцев.
«Страна навеки искалечена, — тихо сказал, заметив его состояние, Арон.
— Ей помогать уже бесполезно. ЭТИ еще хуже откровенных коммунистов. Стоп, да ведь это… это как раз про нас! Смотрите!»
«Сенсация дня, — сказал взволнованный диктор, которого в СШР и близко с такой физиономией к экрану не подпустили бы. — Инопланетяне в Петербурге. Побоище у Финляндского вокзала. Репортаж нашей съемочной группы, случайно оказавшейся как раз на месте происшествия. И события совершенно ошеломляющего. Впрочем, смотрите сами. Сегодня утром группа криминальных элементов попыталась ограбить троих иностранцев, среди которых была женщина удивительной красоты.»
На экране крупным планом было искаженное ужасом бледное до синевы лицо Марины с судорожно суживающимися огромными глазами, устремленными в серое морщинистое ухмыляющееся лицо фиксатого главаря, впившегося нежадным шарящим взглядом. Ничего себе, красавица, могла себе позволить подумать СЕЙЧАС Марина.
«Нашим операторам удалось отснять уникальные кадры. Я бы сказал, кадры сенсации века!.. Как вы видите, бандиты профессионально лишают иностранцев-мужчин всякой возможности защитить свою женщину, которой явно грозит похищение с самыми непредсказуемыми последствиями. Видите, они уже подгоняют микроавтобус. И тут, внимание! Из-под галстука одного из мужчин вылетает фиолетовое пламя, напоминающее оружие из голливудской фантастики, мгновенно сжигающее голову бандита… Наш корреспондент вынужден был упасть на землю, прямо в снег, чтобы избежать случайной пули или этого жуткого луча, а потому мы не покажем вам, как неизвестные — оба мужчины и женщина — сожгли остальных, всех шестерых. Вот как выглядели трупы после применения фиолетового луча, а это все, что осталось от автобуса. Но главная сенсация впереди. Смотрите, смотрите! Они что-то лихорадочно глотают и исчезают — растворяются в воздухе!! Это не коллаж, это хроникальные съемки! Впервые вы видели посланцев других миров! Иного объяснения просто и быть не может! И теперь мы знаем, на что они способны. Прокомментировать события у Финляндского вокзала мы попросили известного уфолога…»
«Больше ты туда не поедешь! — закричала Жанна, едва живая от ужаса, обнимая и целуя мужа. — Хватит! Они же вас чуть не убили. Секунда — и пуля в живот…» «Папка, ты не просто гений, ты герой! — восторженно кричала Кира, обнимая Арона с другой стороны. Ты же по ним тоже стрелял?» «А что оставалось делать? У них у всех наверняка были пистолеты!» «А я? — обиделась Марина. — Я тоже стреляла. Жаль только, что этого фиксатого убил Андрей, а не я! Даже не передать, что у него было в глазах… Вы не представляете, что за взгляд!.. А какая вонь из пасти! Всю жизнь будет мне сниться. Ну и подонок! А полиция! Я сама видела, как полицейский, улыбаясь, пропустил этот микроавтобус, который шел явно за мной, даже прохожим приказывал посторониться…»
6.
Дело плохо, — говорил Арон Андрею, когда они шли по вечерней Набережной, наслаждаясь шумом черного в ночи прибоя. — Теперь нас легко опознать. Одна надежда — израильтяне русские программы не смотрят, а уж с олим мы общий язык найдем, если кто-то пристанет…» «Израильтяне? Олим? — удивился Мухин. — Я так понимал, что вы все тут один народ — израильтяне? Выходит наши жиды и в Израиле — жиды?» «Почти, но другой родины у нас нет. Нашу прежнюю страну ты уже видел. Ты бы предпочел ее Израилю? Вот видишь. Тем более, что это деление — только на эмоциональном уровне. Мы фактически — равноправные русскоязычные израильтяне.»
«Вот и я только что об этом спрашивала у Жанночки и Кирочки… — сказала догнавшая их с женщинами Марина. — Господи, как мне нравится, что вы тут все на «ты», по именам и имена произносите так ласково… Так вот я услышала последнюю твою фразу, Арон-чик, о русскоязычных. Такое впечатление, во всяком случае, здесь на Набережной, что русских чуть не половина. Сплошной русский говор. Откуда они все здесь?» «Сейчас я вам все расскажу, Мариночка, — заторопилась Кира. — А мужчины пусть следят, чтобы вас никто не опознал после передачи. Конечно, вам в Израиле похищение не грозит, но лучше без приключений. Завтра на пляж поедем, это и будут сильные ощущения — купание в море в декабре, как вам такой парадокс? Так вот. Мы все родились в Ленинграде и жили там до…»
«А как же ты представишь меня своим высоким израильским военным?» — продолжал между тем Мухин. «Так и представлю. Я вчера ухитрился записать этот эпизод у Финляндского вокзала на видео. Открою все карты, иначе вообще говорить не будут.» «А нам с Мариной не грозит, скажем, интернирование и так далее?..» «Таблетка всегда при вас. Кроме того, я вам дал по капсуле. Достаточно ее раскусить — и вы у генерала Джефферсона. То-то он обрадуется, небось уже обыскался, бедняга,» — захохотал Арон.
На них даже не оглянулись. Тут все вели себя так раскованно, как Мухин не видел никогда и нигде, даже в Северо-американских штатах, где публика удивительно напоминала израильскую. Им всем больше бы пристало общаться по-английски, подумал он, чем по-русски или на этом, как его, иврите. Он давно не получал такого удовольствия от прогулки по заграничному городу.
Глава 5
Лейканд избегал давать интервью, что было совершенно на него не похоже. Успех был ошеломляющим даже для «русского Рембрандта». Обе представленные им на всемирную выставку «Живопись века. Париж 1999» разделили первое-второе место.
Если картина, названная «Свобода выбора» привела к тому, что изображенная на ней нагой юная княгиня Мухина тотчас была коронована «женщиной века», то название другого портрета «Свобода зла» вызвала у Матвеева-натурщика такое бешенство, что полиция предложила Вячеславу Абрамовичу телохранителей. Заказы сыпались со всех сторон. Барон Шустер не успевал отбиваться от предложений титулированных особ женского пола позировать нагими великому Лейканду. В Европе начался какой-то психоз. Нудисты объявили, что их идеология — судьба наступающего века. Прошло сразу несколько нудистских свадеб, прошли даже нудистские похороны… Все это смаковалось бесчисленными «лейкандоведами», но ничто не интересовало живого классика.
Он весь был под гипнозом задуманной тогда в студии картины. Бесчисленные варианты, эскизы, которые он никому не показывал, потрясающие находки в деталях буквально сводили его с ума.
Шустер продал Лувру «Свободу выбора» за десять миллионов золотых рублей, а Русскому музею «Свободу зла.» за два миллиона. Коммунисты объявили Лейканда вечным почетным членом антифашистского комитета их партии.
А он думал только о том, каким бы чудом можно было вернуть Марину в свою студию и сделать соисполнительницей его замыслов, тайных пока даже для барона.
«Найди себе другую натурщицу, Славуле, — говорила ему на идиш по видеотелефону любимая бабушка из Житомира, единственный в мире человек, с которым Лейканд был совершенно откровенен и всегда делился замыслами. — Зачем тебе эта полугойка из пасмурного Петрограда. Приезжай сюда на твою прекрасную родину, в нашу еврейскую солнечную Малороссию. Проедь по городам и местечкам, где живут десять миллионов евреев. И ты найдешь для своих нечестивых замыслов такую белую и пышную ашейне мейделе, что твоя северная красавица просто умрет от зависти к ней прямо перед твоей картиной…»
Но не помогала и бабушка. Не привлекала поездка в миллионный Житомир и двухмиллионный Гомель в поисках красавицы-натурщицы, согласной на все ради появления на полотне Лейканда. Он отказался даже от презентации картин, проводил время в винных подвалах Парижа. И вино тоже не помогало.
Зачем, на кой дьявол вообще надо было ему ее знакомить с Мухиным!?
Он без конца прокручивал в мозгу сцену в ресторане и воображал, как Марина могла стать его содержанкой, рабыней, готовой позировать в любой картине, лишь бы он платил ей хоть чуть больше, чем Гоги Шелкадзе. Теперь она — княгиня, совладелица мухинских трех миллиардов золотых рублей. Что он, во всем своем блеске всемирной славы, по сравнению с богачом и красавцем Мухиным!
Тем более, что молодожены вообще вдруг куда-то исчезли из Петрограда.
«Их просто НЕТ НИ НА ЗЕМЛЕ, НИ В ОБИТАЕМОМ КОСМОСЕ», — растерянно развел руками смущенный чиновник вездесущего Интерпола, загоревшийся найти Мухиных за обещание представить его ЖЕНЩИНЕ ВЕКА.
«Как это? — испугался Вячеслав Абрамович. — Умерли? Оба?» «Умерли? Не думаю. Мухину еще в детстве вживлен индикатор, по которому его можно было бы разыскать даже и под землей, в могиле. Но и там… и там его нет… Первый случай в моей двадцатилетней практике, месье… Сожалею и стыжусь…»
Фридман, понял художник. Их увез к себе в Израиль этот странный дылда. Сейчас Марина и князь у него в гостях…
Глава 6
1.
«Он действительно ГЕНЕРАЛ? — вдруг громко и вызывающе по-русски спросил Мухин сидящего в полном отчаянии, руки между коленями, Фридмана. — ЕВРЕЙСКИЙ, ИЗРАИЛЬСКИЙ ГЕНЕРАЛ?!» «Конечно, — вскинул на него воспаленные глаза Фридман. — Генерал Бени Шайзер. У нас полно молодых и демократичных генералов.» «Я не об этом, Арон… А вы помолчите, «генерал Шайссе» — с величайшим презрением одернул он по-английски вздрогнувшего от последнего слова коренастого парня в зеленой солдатской форме. — Вы обратитесь ко мне не раннее, чем я вам это позволю.» «Ничего себе, — подскочил Бени. — Вы, между прочим, в моей стране и…»
«Я — в Его стране, — крикнул князь. — Так как он, а не вы, беспокоится о ее безопасности и самой жизни. Хотя вы, а не он, как ни странно, получаете вместо него за это жалование от еврейского государства. Как вы смеете в таком тоне разговаривать с человеком, который в моем мире вас бы и в лакеи не принял! Арон, — продолжил он по-русски. — Я ему сейчас все объясню, а ты не перебивай.» «Но мы ему третий час объясняем. Всю вашу политическую систему изобразили, все продемонстрировали. И главное — он же поверил, но… Но пойми, как военный он не может тебе прямо сказать, что проводит линию близкой ему по духу левой партии, которая за любой компромисс с арабами, хотя, как генерал, прекрасно понимает, что последние обстрелы Хисбаллой наших северных городов и поселений, откровенная сирийская военная поддержка террористов не может…» «Теперь я попрошу помолчать и тебя… А вы послушайте меня, генерал. Вы теперь верите, что я из параллельной могучей и богатой России? Отлично. Вы верите, что я готов способствовать довооружению вашей страны, причем даже за свой счет? Верите. Вы понимаете, что доктор Фридман может обидеться за тон, которым у нас разговаривают с евреями только матвеевские фашисты? И что я могу представить его Матвееву, а тот — вашим арабам? — он внимательно следил за пальцами генерала на скатерти. — Вы видели на видеокассете, что мы с семьей доктора можем исчезнуть в любой момент и вам поздно будет нас искать? Теперь я вижу, что вы-таки начинаете меня понимать. И что вы осознаете, что я могу и вам отжечь вашу спесивую башку, если вы задумаете коварство. Верно? Так вот — вы немедленно организуете нам с доктором доклад в генштабе. Попробуйте их не убедить со всеми моими кассетами. Я полюбил СТРАНУ МОЕГО ДРУГА ФРИДМАНА, в которой вы и жить-то не достойны. И я не дам ее уничтожить.» «Уничтожить?.. — генерал поднял на Мухина воспаленные глаза. — О каком уничтожении вы говорите, князь? Мы — единственная в регионе ядерная держава, которая и без вас с Фридманом способна приструнить не только Хисбаллу, но и Сирию, если она рискнет открыто поддержать террористов.» «И — Египет, перевооруженный американцами, если и он выступит всей своей мощью на стороне Сирии?» — крикнул Фридман. «С Египтом у нас мир.» «Мир, при котором нищая страна содержит миллионную армию? Кто ее потенциальный противник, кроме ЦАХАЛа?», — настаивал тополог.
«Боже меня упаси, — сказал Мухин, — навязывать вам политическое или военное решение. Я настаиваю только на своем праве подтвердить мои гарантии помощи стране моего друга Арона Фридмана перед вашим высшим военным органом. Если же генеральный штаб разделяет вашу точку зрения, генерал, и Израилю ничего не угрожает, то будем считать мой визит частным. И я принесу вам свои извинения. А пока я настаиваю на своем праве быть услышанным.»
Генерал кивнул, молча поднялся и направился к выходу.
Марина, которая в течение всего разговора только подавала кофе в своем слишком коротком и узком в груди чужом халатике, приводящем его в трепет, ласково, за плечи, проводила генерала до двери, шепнув душистым дыханием в горящую от непривычных оскорблений, словно исхлестанную щеку невысокого рядом с ней Шайзера: «Будьте осторожны. Князь — не шутит…»
Побледнев, генерал кивнул и, съежившись, не решаясь поднять глаза, вернулся. Он молча пожал руку Фридману. Мухин отвернулся.
«Региональная сверхдержава, — тихо говорил Арон. — Годами подлизывается к террористам… И теперь надеется отбить атаку ценой больших потерь и без решающих результатов. Чтобы снова и снова им уступать… А со мной он разговаривает таким тоном только потому, что не считает меня вправе на равных отвечать за судьбу страны, куда мы, по ее приглашению, переселились, оборвав все корни, и привезли своих детей! Словно террор различает людей по стране исхода или стажу пребывания в Израиле…»
«Он сделает все, — уверенно сказал князь. — Во всяком случае, все, что он может.»
2.
Генерал сделал все. Генштаб слушал Мухина в полной тишине. Согласился на все его предложения. Высшему военному органу особенно понравилось, что не предполагалось затрат никаких: князь Андрей сам приобретет два «таракана» для психологической атаки с демонстрацией силы в Ливане. Купит во Франции для вроде бы Аргентины. Контейнеры с бронепехотой доставят в Хайфу. Сделка будет оформлена по интернету, как только Мухин с Фридманом на несколько минут сублимируются в Британской Палестине и воспользуются портативным компьютером князя. Уже завтра вечером сверхскоростное судно станет у причала в Хайфе. Город и порт будут погружены во тьму — с имитацией аварии на силовых сетях. Военные тягачи на спаренных транспортерах по заранее освобожденным трассам доставят к рассвету «тараканов» на фронт. Туда, где именно на четыре часа ночи намечена крупномасштабная провокация Хисбаллы с возможным широким участием сирийских войск и одновременной активизацией арабского спецназа, именуемого палестинской полицией.
В Генштабе впервые видели и слушали именитого богатого иностранца, который был целиком на стороне Израиля. Несчастных израильских генералов уже приучили к тому, что весь мир обращается с ними, как с опасными сумасшедшими, урезонивает, уговаривает не обижать ни в чем не повинных арабов и настаивает, причем отнюдь не бескорыстно, на уступках и без того крохотных израильских территорий бесчисленным врагам на «наилучших для Израиля условиях»…
Все было сделано немедленно. Мухин и Фридман вышли в море на скоростном военном катере, встретили французское судно ночью вблизи Хайфы, для чего сначала сублимировался в другое измерение катер, а потом оба судна вернулись в измерение Израиля — наблюдавший эти манипуляции из космоса британский оператор слег с нервным стрессом.
Французский экипаж авантюристов, привыкших к всевозможным тайным операциям с незаконной продажей оружия третьим странам, даже не удивился входу в совершенно темный порт вблизи невидимого во тьме большого города и выгрузке в свете судовых прожекторов огромных контейнеров. За тайный рейс было щедро заплачено самой надежной в мире Мухина валютой — золотыми рублями.
Уже через полчаса судно, сопровождаемое тем же катером, было на обратном пути в Марсель. Потом наступило какое-то помрачение звезд и луны, и катер исчез. Капитан только чертыхнулся и раскурил погасшую отчего-то трубку.
Мощные транспортеры на предельной для них скорости устремились на север. У самой границы тайный груз распаковали. В свете звезд и луны, без единого огонька, израильтяне впервые увидели невообразимые черные чудовища.
Любое насекомое хотя бы и вдвое больше обычного вызывает у человека дрожь. Фридман как-то рассказывал Мухину, какое мерзкое впечатление произвел на него израильский таракан, который всего вчетверо больше привычного российского. Тут же, пока на поджатых ногах, появились тараканы величиной с воинский грузовик. Когда же пожилой смешливый французский профессионал-наемник поднял одного из них на пятиметровых черных блестящих в свете луны суставчатых ногах, видавшие виды израильские десантники попятились с криками «ДЖУК! ДЖУК!» и едва на обратились в паническое бегство, хотя знали, что это уже их, ЕВРЕЙСКИЙ МОНСТР.
Рейнджер, искренне изумляясь, что он представляет свое оружие еврейским военным (как жаль, что по контракту ему категорически запрещено об этом говорить, старина Поль умер бы от смеха!), шустро пояснял умным еврейским парням в давно забытых в его мире тонких очках, как управлять компьютером. Те мгновенно освоили нехитрую, «в расчете на дурака», схему и тут же на плоских ночных холмах стали гонять на тараканах по бездорожью со скоростью птиц. Один из танков попытался было за ними угнаться, но тотчас вернулся с позором обратно.
«На пути к их базе все тщательно заминировано, — сказал полковник-десантник наемнику, когда коммандос были уже внутри машины. — Не стал бы твой таракан нашей братской могилой.» «Мины! — захохотал француз, широко разевая рот. — Грош была бы цена моей машине, если бы она боялась мин. Она и создана-то потому, что вытаптывает один процент своей тени против сорока процентов колесной или гусеничной бронетехники. Ваши арабы минируют дороги, а я бегаю не по дорогам.» «А если это мина с дистанционным управлением? — не унимался полковник. — Или противотанковая бронебойная ракета? Наши арабы отнюдь не пальцем деланные, месье.» «А я тоже не жидовским поцем, — нашелся рейнджер. — Не дрейфь, месье, ты же, хоть и еврей, но все-таки военный…»
3.
Изготовившиеся к атаке террористы уткнулись головами в свои коврики задницей к небу в последней молитве о ниспослании рая в случае гибели в священном джихаде. На позициях Хисбаллы тоже действовал приказ о затемнении. Яхудам готовился достойный их привычного коварства сюрприз. Арабы не скрывали, что всему учатся у непобедимых пока евреев. К границе «зоны безопасности» были подтянуты не «катюши» на частных машинах, а недавно купленные Сирией в России и замаскированные под трейлеры установки ГРАД. Они должны были впервые показать яхудам истинную мощь воинов Аллаха. Помимо того, каждый боевик имел по наплечной ракетной установке для стрельбы по израильским вертолетам или танкам, как только те предпримут ответную атаку.
Спящий в бомбоубежищах многострадальный городок Кирьят Шмона должен быть сегодня ночью сметен с лица земли. После отступления Израиля из Галилеи в результате сегодняшней победы арабского оружия яхудам не понадобится разрушать самим этот город, как когда-то на Синае они при отступлении из Египта снесли свой город Ямит… В час икс Сирия поднимет в воздух свою авиацию, а Арафат задействует свои силы для предотвращения мобилизации еврейских резервистов. Перерезав основные магистрали, его легкая пехота должна парализовать сионистского врага.
До первого выстрела, сразу со всех установок ГРАД, оставалось семь минут, когда в пустыне раздался стремительно нарастающий дробный топот. Такой звук производил бы кавалерийский полк в атаке лавой, но этот топот был чудовищно сильным: под арабами задрожала земля. Вытянув шеи и сжимая автоматы и гранатометы, бесстрашные воины Аллаха со страхом вглядывались в холмы, за которыми происходило что-то совершенно непривычное. Этот топот в ночи наводил на них такой же мистический ужас, как галоп собаки Баскервилей, в ожидании появления которой Шерлок Холмс и доктор Ватсон с тревогой вглядывались в девонширский туман. Но те, в конце концов, увидели хоть и необычную, светящуюся, но все-таки всего лишь собаку, а эти увидели нечто совершенно невообразимое.
На холмы стремительно вылетели на фоне лунного неба два черных чудовищно огромных таракана.
«ЦАРЦУР, ЦАР-ЦУР!!!» — в ужасе заорали ко всему готовые фанатики, кто падая ниц, кто кидаясь прочь, бросая оружие. Чудовища, замерли на мгновение, поводя блестящим в свете луны суставчатыми семиметровыми черными усами, а потом стремительно понеслись с топотом в сторону базы. Две-три мины, растоптанные их неуязвимыми огромными подошвами, своими вспышками и грохотом напоминали как бы искры из-под копыт. Несколько особо стойких стражей Аллаха все-таки посмели открыть огонь по монстрам. Две ультрасовременные и сверх бронебойные российские противотанковые ракеты попали прямо в брюхо набегающего чудовища, но оно только подскочило на своих упругих ногах, рявкнуло и принялось носиться по позициям врага с неслыханной скоростью и маневренностью, вытаптывая установки ГРАД, беспощадно давило террористов как тараканов. Одновременно оно полыхало из извивающихся усов по базе фиолетовыми спиралями, то скручивающимися в нестерпимо яркую точку, заставляющую камни пылать как солома, то расходящимися на сотни метров. Через несколько минут после начала атаки от базы Хисбаллы остался единый дымящийся блин с бездонными оплавленными колодцами на месте подземных бункеров, а тараканы унеслись в сторону сирийских позиций, распуская из устремленных ввысь усов яркие спирали, от которых фейерверком исчезали в небе идущие в атаку сирийские самолеты…
* * *
«Аналитики, однако, исключают, — взволнованно продолжал диктор СNN, — участие в израильской атаке в Ливане тараканов-мутантов, непостижимым генетическим образом полученных и к тому же отдрессированных. Поэтому призыв их немедленно уничтожить, пока они не расплодились, нельзя принимать всерьез. То, что мы вам только что показали, скорее всего — кинотрюки а-ля Давид Копперфильд, чтобы деморализовать арабов. Судя по их поспешным заявлениям, это удалось… Арукат же, как всегда, отделался легким испугом. Узнав о чудовищной атаке мистических животных, уничтожении ливанских террористов и сирийских авангардов, он тут же отменил свою операцию поддержки извне и позвонил израильскому премьеру с уверениями в абсолютной лояльности…»
«По оценкам ведущих специалистов, не существует и не может существовать в природе никакого способа вырастить подобных мутантов и тем более отдрессировать их, — торопился российский комментатор. — Все, что вы увидели в репортаже из Южного Ливана, скорее всего, бутафория, искусные трюки. Не так ли?» «Это не живые существа, — заторопился биолог. — Искусная имитация, но…» «Но это не могут быть и шагающие машины, — возразил третий участник круглого стола. — Сегодня ни одно механическое средство не обладает такой скоростью и маневренностью. Я сомневаюсь, что российская или американская военная промышленность будут в состоянии построить таких «тараканов» в ближайшие десятилетия, тем более — вооружить их этими спиралями…» «Для экзотики, — тонко улыбнулся ведущий, — послушайте еще одно мнение.»
«Я полагаю, — уфолог был привычно волосат и взбудоражен, — что кто-то из израильских ученых, скорее всего из тех, кого потеряла Россия и не принял Израиль, вошел в контакт с инопланетянами, которые и одолжили израильтянам «тараканов» для демонстрации силы.» «Вопреки политике правительства, идущего курсом мира?» — усомнился комментатор. «Я не политик, — выставил перед собой ладони уфолог, — но…»
«А что думает представитель трезвой науки?» «Я уверен, — веско сказал элегантный профессор, — что в самое ближайшее время феномену «Пятиминутной войны» будет найдено такое же простое и вполне материальное объяснение, какое всегда появляется после первой реакции на так называемые паранормальные явления. Вместо вздорных предположений о вторжении инопланетян, почему-то вставших на сторону евреев.»
Глава 7
Пьяный Лейканд не сразу после вызова поднес к глазам экран мобильного видеотелефона и вздрогнул, опрокинув бокал на деревянный стол парижского винного подвала. На экране ему ласково улыбалась Марина.
«А я по вас соскучилась, Вячеслав Абрамович, — мило и звонко смеялась она. — Как вы там, где? Я уже знаю, что наша картина оправдала ваши ожидания. Да и мне кое-что досталось… Вы даже не представляете, как вы нам с князем Андреем дороги, милый вы наш…»
Тотчас появился Мухин. Оба они были на фоне какого-то нелепого пустыря и хилых пальм.
«Где вы, куда исчезли, подлецы? — радостно орал Лейканд, будя бесчисленных собутыльников в штольнях. — Когда я вас увижу? Вас этот Фридман чертов хоть когда-нибудь выпустит их своего дурацкого Израиля?» «Ты и представить не можешь, как тут интересно, я тебе такое расскажу! — Мухин задыхался от волнения. — Ты даже не представляешь, что такое евреи, если им дать ацмаут…» «Что, что дать? — хохотал счастливый Лейканд. — Вы на какой язык перешли, идиоты?» «Как на какой? — Марина просто скисала от смеха. — На наш, еврейский, на иврит! А ты, гой, помалкивай, если не знаешь, как по-нашему будет независимость…» «Я теперь буду вам, сионистам, активно помогать и в Петрограде, — торопливо говорил князь Андрей. — Британская Палестина — позор по сравнению со свободным Израилем. Фридман обещал и тебе показать все.» «Когда вы вернетесь домой?» «А что мы там забыли? — Марина своим милым движением провела тонкими пальцами по глазам. — Мы тут купаемся в море, у нас полно новых друзей, мы теперь просто национальные герои Израиля. Завтра у князя встреча с премьер-министром.» «А где это вы сейчас?» «Около Иерусалима. Нам дали довольно допотопный, но по их понятиям наилучший лимузин, покатаемся по городу, проведем шабат в святом городе, а там видно будет, что дальше.» «Что-то пейзаж непривлекательный.» «Так это мы для беседы с тобой на несколько минут сублимировались в Палестину. Поговорим и вернемся в Израиль. Ты бы посмотрел, какие у них тут города!»
«Я безумно рад, что вы нашлись. Я просто чувствую себя обезглавленным — такую натурщицу увели!..» «Еще не вечер, — покраснев тихо сказала Марина. — Если князь позволит, я могу и позировать.» «А что теперь-то терять? — резонно заметил Мухин. — Лувр десятки тысяч ежедневно посещают, не говоря об интернете. Мы в первый же час в Палестине напоролись на этот же портрет в доме губернатора. Так что князь разрешает. Но, естественно, никаких альковных отношений. Я человек теперь южный, горячий. Убью и не замечу даже.»
Изображение друзей исчезло. На фоне выгоревшей редкой травы паслись черные козы — любимое арабское домашнее животное, способное удивительно ловко выискивать и пожирать все зеленые побеги, оставляя пустыню пустыней…
Глава 8
1.
Счастливые и влюбленные Мухины катили по притихшей в ожидании субботы роскошной столице Израиля. Марина назло зимнему сезону одела открытую кофточку — ну и пусть, что декабрь, что мы, не в Африке что ли! Перебивая друг друга, они ехидничали по поводу освещения газетами последних событий.
Левые, естественно всю победу и заключенные мирные договоры с соседями приписали начатому их покойным кумиром мирному процессу. Правые, в свою очередь, считали, что только их многолетняя неуступчивость сломила арабский экстремизм. Народ все заслуги в достижении победы над агрессорами приписал славному ЦАХАЛу, неподражаемой израильской военной науке и промышленности, создавшим такие шагающие боевые машины. Естественно, ни о Фридмане, ни, тем более, о Мухине, в газетах не было и речи. В главных героях ходил тот самый генерал Бени Шайзер, которого едва не пришиб у Фридманов князь Андрей. Сам Мухин нисколько не обижался — дело сделано, полюбившаяся ему страна и ее такой славный и добрый народ спасены. Мир установлен надолго: кто же посмеет обидеть хозяина таких несекомых!
По дороге к Стене плача Мухин, сверяясь с картой, чуть заблудился. «По-моему, — сказал он, — вот этот путь самый короткий.» «А там есть проезд? — засомневалась Марина. — Смотри, полицейские какое-то заграждение тащат.» «Так ведь пока-то заслона нету.» И он нажал на газ, убедившись по табличке на английском, что шоссе Бар-Илан — кратчайший путь к цели.
Неожиданно, сразу с трех сторон к их машине высыпали странные личности в длинных черных плащах и шляпах, поперек дороги упал деревянный столб, а сгущающаяся черная толпа, яростно тряся в окна пейсами и скаля зубы, что-то злобно кричала, повторяя с визгом слово «Шабес!»
Мухин приоткрыл окно, пытаясь объясниться по-английски, но слова были бесполезны: вокруг орали. Кто-то сунул неправдоподобно бледную, но удивительно цепкую руку в щель окна, схватив князя за волосы. Андрей ударил по этой бесплотной руке, она выскользнула, щель удалось закрыть, но по крыше уже колотили чем-то тяжелым. На ветровое стекло сыпали какой-то мусор, вокруг было столько ярости и лихорадочного возбуждения, что прижавшаяся к Мухину Марина прошептала: «Они сейчас просто растерзают нас… Как плотоядно этот святоша смотрит на мою грудь, прямо как тот бандит в Ленинграде… У тебя спираль наготове?»
«С ума ты сошла! Это же те самые евреи, ради которых я потратил двести миллионов… Надо объяснить… это же набожные люди… Кто-то из них должен понимать по-английски!..»
Но никто и не собирался их выслушивать. Они не понимали ни на одном человеческом языке. Никто ни о чем и не собирался спрашивать. Им и так с Мухиными было все ясно… Едет в шабат, да еще с какой-то полуголой гойкой по нашему кварталу, бей! Типичная психология погромщика… Машину начали раскачивать все сильнее, пытаясь опрокинуть. Марина ударилась лбом о зеркало.
Кровь на лице юной прекрасной жены убедила Мухина мгновенно. Он приоткрыл окно, вмазал пудовым кулаком между яростно качающимися пейсами. Хилый ортодокс упал на руки толпы и мгновенно испустил свой высокий дух. Тотчас по стеклам и крыше загрохотали камни, внутрь салона посыпались стекла. По открытой руке Марины потекла струйка крови. Отбросив последние сомнения, Мухин нажал курок спирали…
2.
«Господи, да как же вы попали в Иерусалим? И кто на вас напал? — причитала миссис Джефферсон, пока генерал по телефону распекал свою службу безопасности, а Мэгги квалифицированно накладывала пластырь на лоб и руку Марины. — Говорил же вам сэр Артур, что эти арабы очень опасны.»
«Да все обошлось, — криво улыбалась украшенная шишкой и ссадиной на лбу Марина. — Просто князь жить не может без острых ощущений…» «Позвольте, — бушевал генерал. — Вы должны подробно рассказать об этом нападении. Вы запомнили хоть одного араба?» «Почему вы решили, что это были арабы, — так же криво улыбнулся Мухин с вырванным надо лбом клоком волос. И неосторожно добавил: — А если это были евреи?»
«Что?! — побагровел губернатор. — Ж-жиды? Быть того не может! Вы слышали когда-нибудь в России, чтобы жиды хоть на кого-нибудь нападали? Впрочем… Позвольте, позвольте, ваша светлость, а где ваш сионист, этот странный облезлый субъект в идиотских очках? Да уж не он ли на вас своих бело-голубых жидов натравил?..» «Ну, что вы, — испугалась Марина. — Он сам едва унес ноги. Мы даже не знаем, где он теперь.» «Я узнаю, — зловеще произнес сэр Джеферсон. — Уж его-то я точно найду. И он мне расскажет все… Если это евреи, то это были его люди. Националисты. Вы же помните, он мне с самого начала не понравился!»
«Ваше превосходительство, — тихо сказал Мухин. — Успокойтесь. Мистер Фридман ни в чем не виноват. А я нипочем не отличу вашего еврея от вашего араба. Вот вы можете отличить чеченца от осетина? Даже я не могу, хотя и тот и другой — жители Кавказа. И с любым из них лучше в этом русском вроде бы краю не встречаться на узкой горной тропе. А вам за все спасибо. Дела мои в Палестине закончены. Найдете доктора Фридмана — помогите добраться до Петрограда. Позвольте ручку, миссис Джеферсон. И вы мисс. Честь имею, генерал.» «Нет уж, нет. Никаких такси больше. Я сам отвезу вас на базу, — генерал поправил жесткие рыжие усы и добавил: — Прошу, господа, в мою машину.»
Мухин закрыл окна авиетки, морщась и крутя головой, отгоняя недобрые воспоминания, постучал по клавишам и откинулся на сидение рядом с вжавшейся в его плечо Мариной. «Прости меня, дорогая. Наш медовый месяц мы продолжим только в цивилизованных странах, обещаю…» Она молча крепко поцеловала мужа. Авиетка, оставив на земле стремительно уменьшающегося генерала, потом Тель-Авив, потом Палестину, вышла в космос и понеслась на север.
3.
Через час, приняв ванну, Мухины вкусно обедали у камина. За окнами кружила балтийская сырая декабрьская метель. Сияла огнями рождественская елка. «По-моему, — тихо сказала мужу в ухо Марина, — нам как раз пора во-он туда,»- она показала на спальню и медленно, как шубу на витрине, сняла купальный халат…
«Что это ты без конца смеешься? — спросил он, когда они в очередной раз обессиленно откинулись на подушки. — Заметно нарушение прически?» «Да нет, просто как раз в самый интересный момент ты вдруг мне то лоб, то руку заденешь, я, естественно, дергаюсь, а ты так неправильно мило это воспринимаешь, что мне жаль, что на мне только две ранки.»
«Это поправимо, — серьезно сказал Мухин. — Знаешь, в начале века был такой остроумный журнал «Сатирикон.» И вот начинающая поэтесса пишет туда стихи: «Я хочу мучений беспощадных, я хочу… каких-то там побоев, я хочу когтей на теле жадных…» «Напечатали?» «Нет, но зато пригласили: приходите в редакцию — что сможем — сделаем!..» Марина звонко хохотала прямо ему в лицо, перебирая волосы около вырванной пряди.
Потом лицо ее как-то сразу, что всегда неприятно удивляло Мухина, помрачнело: «Андрей, а что теперь они сделают с Ароном?» «Он-то при чем, он был в Хайфе, пока мы отбивались от погромщиков в Иерусалиме. И мы поступили правильно! Весь цивилизованный всегда мир физически уничтожал погромщиков. Иного пути их обуздания нет. И наша русская полиция после революции перевоспитывала наследственных погромщиков в Малороссии именно пулеметами. Да у нас и не было выбора. Не мог же я отдать тебя им на растерзание и самому отдаться на их волю! Хорошо хоть, что они сразу отпрянули от нас, и я задел спиралью одного-двух, что были с поднятыми камнями, а не десяток, как в Ленинграде.»
«Я вообще ничего до сих пор понять не могу. Ну, нарушили мы какие-то границы и обычаи. Объясните. Оштрафуйте, наконец. Мы же не дикари. Извинились бы, заплатили и уехали. А нас за это едва не убили. И кто — религиозные евреи! Да их у нас в петроградском еврейском квартале тысяч двести. Мы с папой к ним дважды ездили. Такие, знаешь, интересные люди. Ученые, сдержанные, умные, вполне достойные.»
«Я дважды был в музее Пикассо в Париже, — заметил Мухин. — А жил маэстро в еврейском квартале. Та же нелепая черная одежда у всех не улицах, те же пейсы, но тамошних жителей и вообразить невозможно в роли погромщиков. Бред какой-то — пришлось убивать тех, кого я приехал защищать…»
«И, главное, защитил, — поцеловала его Марина и снова захохотала: — А теперь, защищайтесь вы, сударь. Да, где, кстати, ваша шпага?.. Что-то я ее давно не видела и в руках не держала. Уж не струсили ли вы? Кто вам дал команду «шпагу в ножны»? Во всяком случае, не я! От меня вы такого не дождетесь! Поединок продолжается. Сегодня я определяю, когда и кому быть поверженным, сударь!» «Охотно принимаю ваш вызов, сударыня. Залогом является моя обнаженная шпага.» «Я в восторге, князь. Ваша шпага вам к лицу, я ее просто обожаю… твою эту… шпагу, дорогой…»
4.
«Какой ужас!! — повторяла Жанна, сжав виски. — Арон, нас теперь арестуют?»
На экране без конца повторяли сцены странного эпизода на шоссе Бар-Илан. О Мухине не было сказано ни слова. Упирали на идентичность ситуаций в Иерусалиме и в Санкт-Петербурге: какие-то не то иностранцы, не то вообще инопланетяне применили какие-то спирали против хулиганов, защищая свою жизнь. Акцента на сходство внешности инопланетян не было. Израильские СМИ почти откровенно злорадствовали. Полиция сбилась с ног, разыскивая тех, кто сидел в разбитой ортодоксами машине и искалечил пятерых фанатиков. Газеты высказывали опасения, что стрелявшие были убиты, а их трупы спрятаны. Ведь чтобы уйти после такого живыми надо было перебить чуть не весь квартал! Свидетели же в черных шляпах растерянно уверяли, что преступники (иначе они Мухиных и не называли) словно растворились в воздухе внутри машины.
Как хорошо, что я снабдил их капсулой, думал Фридман с тревогой ожидая звонка от следователей. Вместо этого у них появился тот же молодой генерал Бени. Он был гораздо больше доволен вторым боем Мухина на святой земле, чем первым. И просил Фридманов не беспокоиться. Все улажено, пейсатые получили по заслугам. Улица Бар-Илан отныне открыта для круглосуточного и круглогодичного движения, кроме Йом Кипур — Судного дня.
«Вот вам чек, доктор Фридман, — важно сказал генерал, — чтобы вы с семьей поскорее посетили Мухина в Петрограде и извинились от имени Правительства Израиля. Вы сможете немедленно вылететь в Санкт-Петербург?» «Нет! — в один голос крикнули Арон и Жанна. — Только не через Петербург!» «Тогда летите до Парижа.»
Фридманы тут же согласились. Лейкандом охотно взялся через барона Шустера подготовить все необходимые документы. «Остановитесь у меня, — любезно предложил художник. — Я сам с вами отправлюсь в Петроград. Вы даже не представляете, какие важные дела меня там ждут… Я задумал такую картину, что все мои прежние полотна покажутся скромными набросками недавнего дилетанта.»
Глава 9
1.
Эйфелева башня на фоне ночного неба казалась раскаленной добела. Эффект достигался умелой подсветкой и металлическим характером удивительного символа Франции.
Жанна и Кира стояли на фоне башни, позируя Арону, который приседал на снег с видеокамерой, чтобы вошла вся башня. За спинами израильтянок искрилась Сена, по которой спешил ослепительно освещенный речной туристический теплоход. Третий день они до полного изнеможения ходили по великому городу, не торопясь в ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ Париж, настолько невообразимо хорош был для них этот город.
После Хайфы и Израиля в целом Париж и Франция были как бы возвращением в милый Ленинград их молодости, до всех этих застоев, прозрений, перестроек, гласностей и свободы зла, вытолкнувшей их с родины в эмиграцию. Здесь, как когда-то в Москве, все чувствовали себя дома. Предстоящей встречи с Мухиными Фридманы побаивались после гнусной сцены погрома, в которой их благородные друзья чуть не погибли. Причем от рук евреев… Арон оттягивал как мог звонок Андрею и Марине. Кто знает, как они восприняли такое предательство? Как можно в принципе им объяснить, что фанатизм не имеет национальности, что дикие аятоллы Ирана — двойники израильских мракобесов от религии: дай последним волю — будут забивать камнями влюбленных, в строгом соответствии со своими догмами…
Лучше ни о чем не думать. Париж прямо создан для этого. Тут не вспоминается никакая родина — он просто не терпит конкуренции. Любовь Парижа ко всем его посетителями без взаимности просто немыслима. Каждая улица, площадь, сквер, собор, парк, набережная, мост заставляли замирать всех троих от восторга. Но надо было произвести конверсию в ТОТ Париж, звонить Лейканду. Надо было отвечать за мерзости своих соплеменников, чем всю свою историю вынуждены были заниматься лучшие из евреев…
2.
Вячеслав Абрамович встретил их у точно такой же Мулен Руж, от которой они несколько минут назад поднялись по узким улицам к безлюдным зарослям у фуникулера для незаметной конверсии и к которой еще через несколько минут тем же путем спустились с Монмартра.
Художник вез их по СВОЕМУ Парижу, еще более прекрасному, но как-то совсем не такому родному, как только что оставленный. И здесь были Нотр Дам и Эйфелева башня, Елисейские поля с арками у входа и выхода, но исчез какой-то шарм. И на Киру, таявшую от всеобщего внимания молодых парижан до сублимации, здесь решительно никто не обращал внимания. И Лейканд Жанне ужасно не понравился. «Совершеннейший жид», — шепнула она мужу, когда художник принимал их с присущей ему оскорбительной небрежностью в своем небольшом старинном замке. На Киру он вообще едва взглянул, Жанне поцеловал руку почти брезгливо, обед велел подать в комнаты, которые выделил Фридманам, пока сам весело и шумно обедал со СВОИМИ ГОСТЯМИ в просторной гостиной. Разговаривал он с израильтянами как-то вполоборота, старясь не смотреть на них и не приближаться к их, по его мнению, смрадному дыханию.
«А что если и Мухины так нас встретят? — шепнула Арону на ухо пораженная Жанна. — У него теперь больше оснований нас не любить…»
Впрочем, откровенное хамство не помешало Лейканду искренне удивиться, что гости наотрез отказались задержаться в его Париже и попросили как можно быстрее выполнить необходимые формальности, как он обещал, для их легализации в новом мире. Лейканд холодно кивнул, тотчас вызвал барона Шустера. Так же брезгливо морщась, тот вручил Фридманам их фальшивые российские паспорта («Лучше настоящих» — успокоил он Жанну) и тут же повез Лейканда и израильтян на один из бесчисленных парижских аэровокзалов. Здесь они, проведя карточкой у входа, просто сели в кресла в просторном «вагоне», как назвала его Жанна.
Но это все-таки был самолет, потому что он стремительно вертикально поднялся, как давешняя авиетка, чуть ли не в космос, ускорился, замедлился, пробыв в полете минут двадцать, чтобы так же стремительно и плавно опуститься во дворе Адмиралтейства.
3,
Около Медного всадник Кира обалдело смотрела на удивительным образом подсвеченный Исаакиевский собор, когда на нее жарко налетела Марина, одетая в роскошное меховое манто, сползающее от волнения с ее обнаженных плеч. Обдавая всех троих своим душистым дыханием и заливаясь счастливыми слезами, она обнимала и целовала их.
Андрей целовал руки дам элегантно, как истиный князь, а Фридмана даже троекратно по-русски расцеловал. И только после этого чета Мухиных обратилась к побелевшему от гнева Лейканду, лицо которого мгновенно приобрело цвет его шевелюры, когда Марина удостоила и его поцелуя в щеку. Художник категорически отказался ехать в Рощино и тут же укатил на поданном к его приезду «бюике» с совершенно надутой физиономией.
Петроград заиграл за окнами «путятина» своими уносящимися назад прямыми строгими проспектами и улицами, поражая гостей чистотой и ухоженностью, которой мог позавидовать даже и только что оставленный «второй» респектабельный Париж. Фридманы и узнавали не узнавали родной город. Было удивительно много явно старинных, но им совершенно не знакомых соборов и церквей, появились совершенно им неведомые огромные парки и просторные площади. Не было общественного транспорта, всех этих просторных и длинных ленинградских трамваев и синих спаренных троллейбусов. Было непривычно мало людей на улицах. Машина нырнула в туннель под Большой Невой вместо проезда по мосту, который они знали под именем революционного лейтенанта, пронеслась через Малую Неву над темной с паром водой и совершенно ленинградскими уточками, но по незнакомому им широкому мосту с золотыми конями на черного мрамора колоннадах входа и выхода. Потом потянулись ярко освещенные бесконечные туннели под линиями Васильевского острова, за которыми сразу возникла многоярусная эстакада над лесами вдоль залива и, наконец, машина прошуршала по гравиевой дорожке к изящному, в английском духе, дому в усадьбе Мухина.
Дог испугал Киру до смерти, она никогда не видела таких животных и не сразу поняла, что это вообще собака, а не циклопический паук. Но дог ухитрился так ласково облизать всех троих, что сомнений в его собачьей душе больше не было. Мухин, обняв за талии, повел Киру и Жанну в гостиную, пока Марина, прижимаясь к Арону, вела его под руку туда же. Здесь уже был накрыт стол с разнообразными яствами.
«Арончик может не беспокоится, — продолжала смущать и его и Жанну Марина не так своими белыми округлыми плечами, как подчеркнуто по-женски ласковым отношением к Фридману. — Наш повар специально консультировался насчет этого обеда с раввином Петроградской хоральной синагоги: все блюда — кошер, лучше, чем в Иерусалиме, который нам так и не удалось повидать, черт бы побрал ваших фанатиков…»
«За избавление! — поднял первый тост князь Андрей. — Я имею в виду, прежде всего, ваше избавление. Вы не представляете, как мы тут переволновались за вас, пока Арон нам не позвонил. Предполагали все, что угодно: арест, суд… Ведь это вы привезли в Израиль эту бандитку. Если бы не она, я бы вряд ли решился стрелять. Как я понял, нас всех простили? Спустили инцидент на тормозах?»«Нас выручил молодой генерал, которого ты перевоспитывал. Он прямо крутился как уж, но нас не подставил.»
«Боится, — хохотала Марина. — Это я ему тогда сказала, — она перешла на бас: — Предупреждаю, генерал, князь — не шутит!» «Да нет, — резонно заметил Арон. — Сами посудите, зачем им раскрывать свои контакты с таким могучим миром до поры до времени. И так в военных кругах всего мира до сих пор шок. Пентагон прямо в истерике: какие, мол, вы, к чертям, стратегические союзники, если столько лет скрывали разработки этих тараканов? А российская дума вообще требует приравнять спирали к оружию массового уничтожения и создать международный суд над Израилем за его применение против арабов. Причем, они уверяют, что и в Ленинграде и в Иерусалиме действовал Мосад.»
«Кто? — переспросил Мухин. — Известный гангстер?» «В какой-то мере, — смеялась расслабленная после первой рюмки Кира. — О-очень интеллигентный гангстер.»
Ничего не понявшая Марина на всякий случай звонко захохотала. Ее, как всегда, не разбирая причин, басом поддержал Мухин, без конца вытирая слезы. Все приняли по второй. Эпизод в Иерусалиме преподносился теперь, под винными парами и в отличном настроении, как забавное происшествие, хотя едва заметный шрам на чистом белом лбу княгини был не следствием каких-то милых шуток… И искалеченным несчастным наивным ортодоксам было сейчас не до шуток. Но кто же просил этих бледных хилых очкариков реагировать так неадекватно на безобидное нарушение правил уличного движения дружественными иностранцами? И вести себя в конце двадцатого века как погромщики конца девятнадцатого?..
Совершенно захмелевшая Кира вдруг решила наябедничать на Лейканда за унизительный прием, оказанный им в Париже.
«Да он же вообще хам, — весело рассмеялась Марина. — Вроде вашего Мосада, только неинтеллигентный, к тому же. А как он со мной обращался, когда я была его натурщицей! Разве что только не лапал. И то я думаю просто не успел, князь меня у него из-под носа увел. А Шустер вообще таращился на меня в течение всех сеансов, ходил вокруг в полуметре, чуть не принюхивался, хотя ему там нечего было делать. Лейканд для меня какой-то мерзкий сюжет задумал, только не успел начать уговаривать… У него же все прямо на его кривой гениальной физиономии было написано. Я подозреваю…»
«Но нарисовал-то он тебя на славу. В полном смысле слова, — поторопился перебить тему Мухин. — Десять миллионов франков, — пояснил он. — Гонорар ЖЕНЩИНЕ ВЕКА. Так что Марина сегодня у нас теперь и миллионерша, ко всем ее прочим достоинствам.»
«Да я на него и не обижаюсь, — заело Марину на этой теме. — Он нам с Андрюшей такой сюжет наших отношений под…»
«Марина! — закричал Мухин, вставая за столом во весь свой прекрасный рост. — Мы не одни! И Фридманам это вовсе не интересно. Так что изволь закусывать. И начни со своего пьяненького язычка.» «А еще князь, — показывая на него пальцем, притворно хныкала Марина-Смотри, Жанночка, аристократ во втором поколении, а не стесняется юной княгине, при гостях, предложить заткнуться.» «А мне-то ты наедине расскажешь об идее, подсказанной Лейкандом? — обнимала Марину Кира. — Тип он конечно противный, но — талант же! Наверняка что-то путное придумал. А то у меня с моим другом…» — начала она, икая и тараща глаза. «Кира! — заорали в один голос Арон и Жанна. — Выпила, так молчи. Держи себя в руках…» «А шепотом можно?» «На ухо Марине. А она тебе, но не вслух же обо всем…»
«Завтра идем в Мариинский театр вечером, — объявил Мухин. — А днем — по музеям. Посмотрите в Эрмитаже выставку русских художников-экспрессионистов тридцатых годов. Золотой век мировой живописи. А в Русском музее я вам покажу, кстати, картину одного их руководителей русского фашизма, но талантливого художника из народа Ивана Матвеева «Очищение России». Впрочем, Арон-то уже видел. В свете политической биографии вашей родины, это более, чем интересно для вас — как одним ударом копыта можно спасти сотни миллионов жизней…»
4.
Всю последующую неделю Марина возила гостей по Петрограду, показывая его музеи и его трущобы, магазин мехов Гоги Шелкадзе, где демонстрировала шубы уже другая обаятельная бедолага, штабы большевиков и нацистов, памятник черной кошке, сохранившей Россию не искалеченной.
Кошка оказалась довольно симпатичной, даже как бы лукавой. Она стелилась поперек проспекта на специально выделенном скверике посредине проезжей части, как обычная кошка, перебегающая дорогу и знающая, что это кому-то очень не нравится. Но при этом весело косила глазом на подвешенное в нерешительности над ней лошадиное копыто с казацкой подковой. Она словно подзадоривала: слабо, мол, после меня продолжить путь?..
Была оттепель. С богатых петроградских карнизов свисали и сочились чистыми каплями блестящие полупрозрачные голубоватые сосульки. Низкое солнце отражалось розовыми пятнами на тающих сугробах Летнего сада среди изящных цилиндрических подогретых, а потому совершенно прозрачных футляров, в которые были упакованы на зиму античные скульптуры.
«А помнишь, какие футляры были У НАС? — спрашивала Жанна, счастливо прижимаясь к Арону и в тысячный раз повторяя это «У НАС», — словно некрашеные деревянные гробы для бездомных…»
«Ну, — привычно защищал Арон советскую власть, — положим, о таких гробах тебе вообще посчастливилось только читать у Достоевского. Много ты видела в Ленинграде бездомных?» «Мы сами были бездомными, побирались на Валковом рынке пока не купили однокомнатную кооперативную квартиру. И никто не хотел нам сдавать комнату потому, что мы были с Бирочкой на руках. Забыл? А я все помню. Жить мы вообще начали только в Израиле… Ты забыл, как мы снимали на Биржевом халупу с печкой в нашу сторону, а топкой — в сторону незнакомых нам соседей? А те вдруг уехали на дачу, прямо среди зимы. И даже не постучали, хотя знали, что за тонкой перегородкой — живые люди… Забыл? Это и был великий советский народ — строитель коммунизма, светлого будущего всего человечества.»
«Положим, в твоем Израиле мы тоже снимали и снимали, пока не влезли в эту кабалу с акантовой, которую и наши внуки не выплатят. Погоди, а это что?
В очередной раз остановились они напротив нарядной прекрасной церкви, о которой понятия не имели. — Смотри, построено в 1743 году от Рождества Христова. Господи, и эту красоту…» «Снесли просто так твои любимые большевики. И еще десятки, если не сотни соборов в обеих столицах.»
5.
«Арон, попытайся меня понять и простить, — князь Андрей держал руку друга в своих огромных ладонях, сидя в кресле напротив. — Ты же все время об этом думаешь, а я, как ты догадался, умею читать чужие мысли. Иногда и сам не хочу и не интересуюсь, но читаю. Итак, ты мечтаешь об Израиле в нашем измерении вместо той жалкой подмандатной Палестины, где нас так приветливо принял сэр Джефферсон и его милое семейство…»
«Вас. Вас с Мариной, а не меня. Ладно. И что же ты еще вычитал у меня в мозгу?» «Ты бы напрочь переселиться с семьей в такой Израиль из своего. Во всяком случае, ты полагаешь, что в обоих мирах евреи имеют право на свою историческую родину, так?» «Примерно так…»
«Так вот… Я рассказал о тебе вчера Президенту Соединенных Штатов России Юрию Михайловичу Соловьеву. Он ждет нас сегодня в шесть вечера у себя дома. Это тут же, в Рощино, мы к нему прогуляемся на финских санках. Сегодня это самый влиятельный человек в мире. Если ты убедишь его купить у Британской империи Палестину, он купит. А если докажешь, что России выгодно ее подарить евреям — подарит. Он может все. Господин Соловьев — человек высокого благородства и порядочности. Если он пообещает сохранить ваш разговор в тайне, то можно не сомневаться — сохранит. Мы договорились, что это будет пока сугубо частная беседа. У меня с ним давняя дружба. Пару раз он просил графа Путилова командировать меня с ним на встречи в верхах, в частности с китайцами.» «Чтобы ты угадывал тайные замыслы вероломных азиатов?» «Точно! — совсем как Марина взорвался искренним смехом Мухин. — Знаешь, сначала они никак не могли понять, откуда у нашей делегации такая проницательность, но потом стали просто все держать руки за спиной, мы долго смеялись — было-то уже поздно! Так мы присоединили к нам Маньжурию, а я получил орден Андрея Первозванного. В свете долго иронизировали — князь Андрей с Андреем на шее. Кстати, в Харбине мне поставили памятник.»
«Погоди… а сколько тебе лет, Андрей? Я с русскими этого измерения совсем теряюсь. По нашим понятиям, ты выглядишь едва ли на тридцать.» «Увы, на самом деле мне чуть за сорок. Просто у меня благополучная биография.» «А Марина?» «О, Мариночка действительно очень молода. Ей нет и двадцати. Ты шокирован?» «Отнюдь, — с удовольствием ввернул Арон полузабытое в его мире русское слово. — Вы прекрасно смотритесь, как ровесники.» «И — не врет! — снова захохотал князь, мельком взглянув на пальцы Арона. — Ты даже не представляешь, как я тебя люблю, Арончик!..»
6.
«У меня есть встречное предложение, милейший Арон Ефимович… — задумчиво сказал Президент, глядя на огонь в камине. — Или, простите, Арон Хаймович, если вам угодно? Так вот, я пытаюсь понять, что ВЫ ЛИЧНО забыли и в вашем Израиле и, тем более, в еврейской Палестине под дружественным русским протекторатом. Я вас внимательно выслушал. И, поскольку я в какой-то мере ученик князя, понял, что вы совершенно искренни в вашем желании дать евреям национальный очаг на их исторической родине. Вы отнюдь не первый сионист, которого я принимаю, но вы первый, кто более чем убедительно доказал мне, что это возможно. Я действительно могу убедить короля Джорджа уступить евреям Палестину. Но… гораздо труднее мне было бы убедить наших евреев ее взять. Более того, я совершенно уверен, что мне их не убедить. Вы не бывали в Гомеле? В Одессе? В фешенебельных еврейских кварталах обеих наших столиц? Мы приняли у русского царя страну с четырех миллионным еврейским населением, расселенным, как правило, внутри черты оседлости. Февраль дал евреям все права, больше прав, чем многим другим народам России, но не ломал их уклада. Напротив, мы всячески культивировали культурно-национальную автономию еврейского населения в черте его традиционного проживания. В результате, в Мало-и Белороссии существуют еврейские анклавы, а в СШР сегодня более двадцати миллионов евреев. Они дают чуть ли не пятую часть лучшей в мире продукции нашей легкой промышленности. А ведь ее невозможно регулировать на государственном уровне. Евреи живут там много лучше, чем большинство их соплеменников, переселившихся, скажем, в Петербург. Вас ведь княгиня Марина возила в гетто? Неприглядная картина, не правда ли? Но я вам не завидую, если вы именно эту публику, электорат, кстати, коммунистов, а отнюдь не сионистов, переселите в Палестину и попробуете заставите их там осваивать пустыню и осушать болота. Иное дело наши евреи из бывшей черты оседлости. Они действительно способны на многое, но какое им дело до ваших болот?.. Надо вам сказать, что в нашем искусстве, литературе, особенно в музыке и театре евреи занимают заметное место. Я, знаете ли, по специальности историк… Поэтому вы для меня — прямо подарок судьбы! Но именно поэтому я, просто как патриот России, никогда не способствовал бы исходу евреев из моей страны. История учит, что любая страна, вынудившая евреев на массовую эмиграцию, обречена на бедствие. Чему вы улыбаетесь, Арон Хаймович?»
«Я, к сожалению, не имел чести быть в учениках у моего друга Андрея, но мне все время кажется, Юрий Михайлович, что вы с трудом заставляете себя произносить слово «еврей» вместо слова «жид». В этом-то и вся разница. Я — свободный еврей из свободной и независимой еврейской страны. А самые свободные из ваших евреев, тот же Лейканд, эта гордость и надежда СШР, все-таки жид. Даже для вас. Я прав?»
«В известной мере… — президент смущенно переглянулся с улыбающимся князем. — Тем не менее, я бы перешел к моему встречному предложению. Когда вы будете его анализировать, не забывайте, КТО ИМЕННО ВАМ ЕГО СДЕЛАЛ. Так вот, я предлагаю вам, Арону Хаймовичу Фридману и вашей семье гражданство СШР. Я буду ходатайствовать перед Сенатом, чтобы вам был пожалован баронский титул для вашей фамилии, если вы предоставите России исключительные права использования ваших сделанных и грядущих открытий. Кроме того, Российская Академия наук, по моему представлению, будет ходатайствовать перед Нобелевским комитетом о выдвижении вас на премию в области физики, коль скоро математики от нобелевского процесса отлучены самим Альфредом Нобелем. По нашему с князем мнению, вы заслужили такой почет, как единственный в мире человек, свободно путешествующий по измерениям. Естественно, вам будет предоставлена соответствующая кафедра в Российском Государственном Университете в Петрограде с достойным содержанием: вам будет выделен миллион золотых рублей на семейное обзаведение и миллиард рублей на развитие вашего научного направления в РГУ и в Российской Академии наук с правом создавать научные школы и лаборатории, с дальнейшим неограниченным кредитом. Ваше открытие, которое вы так блестяще продемонстрировали самому доверенному из моих советников…» — он поклонился в сторону Мухина.
Тот следил за происходящим в страшном волнении, с пятнами на лице и лихорадочно пляшущими забытыми пальцами, на которые с едва заметной иронией искоса поглядывал его высокопоставленный ученик.
«Условие у меня только одно, — голос Президента стал жестким, а лицо приняло то самое выражение, которое с некоторым страхом воспринимал Фридман на портретах главы СШР. — Вы обязуетесь все свои знания и опыт, равно как и все ваши дальнейшие открытия и проекты, предоставлять в распоряжение России и только России, без какого-либо приоритета интересам евреев как таковых или Израиля в вашем измерении. Естественно, как богатый человек и как еврей вы вольны помогать своему народу, но лишь как меценат, в меру ваших личных возможностей. В рамках нашей демократии, вы вольны примкнуть к сионистам и бороться за право евреев на национальный очаг в Палестине нашего измерения. Но все контакты с вашим миром, как и с мирами, с которыми нас, возможно, столкнут ваши дальнейшие открытия, могут быть только с санкции Президента и парламента России. Второе. Если же вы откажетесь от моего предложения, вы и ваша семья немедленно объявляетесь здесь персонами нон-грата. Мы попросим князя Мухина сохранить ваше имя и само ваше пребывание в Петрограде в тайне. Вы будете с комфортом депортированы в любую страну без права возвращения к нам когда-либо даже в качестве туристов. Там, в любой другой стране, вы без всякого препятствия со стороны тайных служб нашего Департамента федеральной безопасности, даже под их защитой, сможете встречаться с князем и княгиней, которым я безраздельно доверяю. Там и только там вы можете беспрепятственно действовать на благо вашего Израиля, но упаси вас Бог посметь смущать наших евреев. Поймите меня правильно. Для меня важнее всего то отечество, которое мне доверили Спаситель и народ. И не вам диктовать мне свою волю. Подумайте, барон, как вас будут именовать, если вы согласитесь. Ведь вы родились и выросли на русской земле. Вы гораздо больше русский по своей сути, чем еврей. Древнееврейский язык вы так и не освоили, еврейским обществом вы так и не были востребованы, насколько я знаю. К еврейской науке в вашем Израиле вас даже близко не подпустили. Ваша жена, потенциальная русская баронесса Фридман, зарабатывает на жизнь унизительным трудом, ваша дочь, наследственная баронесса в нашем измерении, в вашем мире работает врачом на подхвате, поскольку престижные места в госпиталях поделены навсегда между совсем другими евреями. В «вашей» стране одному из гениальнейших людей в истории человечества не нашлось иного применения, как продавать псевдокитайские продукты… как они там?»
«Санрайдер,» — выдавил ошеломленный всем происходящим несчастный Арон. «Единственное преимущество вашего бытия в вашем мире — осознание того, что вы живете в свободной и независимой еврейской стране. Но к вам это едва ли относится. Тут вас шокирует, что у всех на уме слово «жид» вместо еврей, а там у всех даже и на языке слово «русский» вместо израильтянин. Евреем отлично можно быть в свободной России. Вы были в нашей новой Хоральной синагоге?» «На углу Офицерской и?..» «Нет, нет, на Поклонной Горе. Я сомневаюсь, что в вашем Израиле есть такие богатые культовые сооружения. Вы войдете в круг богатых и уважаемых евреев Петрограда, в их свет, ничуть не хуже нашего, русского, в который входим мы с князем.» «Я бы предпочел…» «Так в чем же дело? Забудьте ваше еврейство, примите православие, молитесь на родном языке и…» «И быть вечным ренегатом-выкрестом в глазах вашего света, Юрий Михайлович? И ждать, когда Матвеев или Седой придут к власти и начнут очередное решение еврейского вопроса, а я не смогу даже достойно, с оружием в руках, умереть за свою семью?»
«Матвеев? Седой? — искренне удивился Соловьев. — Вы просто находитесь под гнетом неестественного опыта своего измерения, милейший барон. Коммунистов — членов партии сегодня от силы миллионов десять, примерно столько же фашистов. А нас, православных демократов, социал-демократов и членов прочих партий нашей коалиции — более ста миллионов. Соответственно и места в парламенте. О какой власти может мечтать партия с одним-двумя мандатами?» «Это зависит от обстоятельств. Большевиков, в нашем измерении, без черной кошки, было к моменту переворота всего пара сотен тысяч, а…»
«Милый Арон Хаймович, да неужели вы у нас заметили хоть гран революционной ситуации!.. Меня, как историка, остро интересует все, что касается последствий октябрьского переворота в другом измерении, и я охотно побеседую с вам об этом, но — в другой раз. Время позднее, господа. Предложение мною сделано, на раздумье вам дается один день. После этого мне остается либо только радоваться вместе с вами, либо сожалеть о вашей недальновидности. Вы сейчас движетесь по Троицкому проспекту, дорогой господин Фридман. Поперек вашего пути бежит кошка, очень черная кошка ваших заблуждений. Обойдите проспект, сверните в боковую улицу. И вы не искалечите судьбу вашей семьи…»
«У меня встречное условие, господин Президент, — вдруг твердо сказал Фридман. — Либо я отказываюсь от вашего предложения немедленно, либо я беру не день, а неделю на размышление. И размышлять я буду не здесь, а в Израиле. Петроград же я покину завтра же.»
«Согласен, — Президент горячо пожал Арону руку. — Я отлично вас понимаю. Вы попытаетесь получить то же, что предложил вам я, но в Израиле, который вы, вопреки всему, сегодня считаете своим отечеством. Трудно передать, как я уважаю ваши убеждения.» «С вами просто страшно разговаривать,» — засмеялся Фридман во весь свой стальной рот.
* * *
«Какой человек! — повторял он, скользя рядом с Мухиным по чистой снежной аллее Рощина на легких финских санках среди бесчисленных саночников навстречу, впереди и сзади. — Ну почему в МОЕЙ России вечно у власти совсем другие люди?..» «Да нельзя пересекать определенную черту, — смеялся рядом Мухин. Подтаявший на дневном солнце снег к ночи подмерз и тонко хрустел под полозьями, сверкая в свете фонарей. В центре окаймленной монументальными елями широкой улицы-аллеи прогуливались семьями десятки саночников. — Нельзя перебить лучших людей и удивляться, что от прочих рождаются не лучшие. И забудь ты о ТВОЕЙ России, она давным-давно не твоя. Ты о ней и не вспоминал, кстати, все эти годы в Израиле. Теперь забудешь и об Израиле. Хотя, кто же тебе помешает туда приезжать? После того, как ты отрастишь здоровые зубы и волосы, избавишься от этих позорных очков, станешь питаться истинными продуктами вместо твоего фальшивого «санрайдера», тебя никто в Израиле и не узнает.»
«А меня там почти никто и не знал-то… Кстати, с чего это ты так представил Президенту «санрайдер»: фальшивый и тому подобное. Между прочим, отличный продукт, если….» «Верю, верю. Но все-таки Президент прав — тебе и вам всем и терять-то особенно нечего…»
7.
«И ты еще сказал, что подумаешь?! Господи, о чем еще можно и думать-то! — истерически кричала Жанна. Лицо ее, искаженное нестерпимой обидой за своего вечного дурака-мужа стало сразу старым, красным, отвратительно дрожащим. — Ты — идиот! Тебе в Израиле за твоих «тараканов» и спасибо премьер не сказал, даже познакомиться побрезговал, а ты за эту шваль цепляешься! Деньги они ему на поездку дали, большое им спасибо, благодетелям! Как будто ты твоим неестественным бизнесом не заработал бы на полет в Париж и обратно. Да я одна на своем никайо не на это скопила бы… Немедленно проси Андрея сказать Президенту, что ты согласен, немедленно! Да я и видеть твой фальшивый Израиль больше не хочу. Посмотри, какие здесь красивые люди, после всех этих спесивых, наглых перекошенных рож, после моих патологически жадных теток и твоих траханных дистрибюторов и супервайзеров, чтоб им всем сдохнуть! Кой веки его, наконец, оценили — и как! А он кочевряжится. Ради чего? Кирочка, объясни своему идиоту-папаше, что он ИДИОТ!! Нашел нам еврейскую страну на нашу голову! Да где ты там евреев-то нашел? Жиды одни подлые и трусливые, друг друга продают и страну свою торопятся всучить арабам. Евреи! Да лучше вообще креститься и забыть…»
«И это мне Президент предложил, — уныло сказал Арон, глядя через огромное окно их апартаментов на втором этаже мухинской усадьбы на темный, весь в синеватом отсвете луны на сугробах лес с темными тенями на снегу от черных пирамидальных елей. — Спасибо им большое… Уважили…»
«Господи, его жене предлагают быть баронессой вместо уборки вонючих тряпок за всяким говном, а он говорит: я подумаю… — рыдала Жанна, почти уже в полной прострации. — Связалась с идиотом, на всю жизнь… Да я тут лучше к Мухиным в уборщицы наймусь, но с тобой в твой проклятый Израиль ни за что не вернусь…»«И тем не менее, я выясню, что мне теперь светит в Израиле. Я привык к этой стране, даже к своему образу жизни…»
«И даже к моему образу жизни, — рыдала Жанна. — К моему рабству, спасибо тебе большое! К чужому рабству так легко привыкнуть! Не зря ты каждое утро произносишь молитву тому, кто не сотворил тебя рабом. Меня он тоже не сотворил рабыней, меня ею сделала твоя хваленая еврейская страна, чтоб ей пусто было…» «Хорошо. Я тебе обещаю, что если наше положение кардинально не изменится после нашего возвращения…» «Никаких возвращений, я — не вернусь. И Киру с тобой не пущу! Звони своему сраному генералу. Увидишь, как он с тобой будет разговаривать.»
«Но мы в другом измерении, не забудь, заметил Арон. — Чтобы позвонить «моему генералу», надо переместиться в Ленинград, то есть в наш Санкт-Петербург. А у нас даже нет тамошних русских денег, а доллары лучше не показывать…»
«Да я вообще тебя в Ленинград больше ни за что не отпущу, — испугалась Жанна, забыв, что минуту назад собиралась вообще расстаться со своим «идиотом». — Еще одного приключения захотелось?»
«Тогда вот что. Я возвращаюсь в Париж, там звоню и тотчас обратно.» «Я с тобой, Арик! Без меня ты и туда не поедешь. А Киру оставим тут заложницей у Мухиных, чтобы ты при самом благожелательном ответе все-таки вернулся в Петроград.»
«Интересное кино получается, — подала, наконец, голос Кира. — Моего мнения здесь почему-то не спрашивают. А может быть я с папкой согласна, а не с тобой, мама? Кстати, не ты ли в последнее время, когда папа достиг третьего уровня и мы все стали прилично зарабатывать, говорила все время, что нам хорошо, вот, мол какую квартиру, какую машину имеем, живем на берегу теплого моря, зимы в вообще нет, вокруг никаких бандитов, только безобидные евреи. Это твои слова, мамочка. Да, я пока не имею квиюта, но я на пути к нему. Да, профессора мною помыкают, но таковы профессора во всем мире, во всяком случае, в медицине. Нам действительно хорошо было в последние годы в Израиле. Я очень люблю эту страну. А ты пашешь у своих теток на износ от чистого фанатизма и желания зарабатывать не меньше нас с папой, хотя ты вполне могла бы их всех бросить, сидеть на балконе и рисовать море. Да ты и сама и дня без купания в море прожить не можешь! У нас так все было, наконец, хорошо, все работали, съездили в Италию, в Грецию. Всю зиму даже окна не закрывали, пока тут все за двойными рамами от метели и промозглой сырости прячутся. Как хотите, но я папу поддерживаю. Вы уже увезли меня десять лет назад из Союза, обрекли на унижения эмиграции. Думаете здесь будет иначе? Все эти «красивые люди» станут для нас родными? Диплома врача для СШР у меня нет, медицины ЭТОЙ России я не знаю. Да у них тут вообще генная инженерия вместо медицины, а фармакология такая, о которой я и понятия не имею. Да я и читать-то с этими «ять» и твердым знаком не смогу, не то что свободно писать. Я тут буду такая же безграмотная как была в Израиле без иврита. А израильскую медицину я наконец-то такой кровью освоила…»
«Кирочка, да мы же просто были нищими! А здесь папе сразу…» «Там тоже обещали, помнишь Репу и компанию, когда мы ехали в Израиль? А что потом?» «Но папе не проходимец какой-то обещает, а сам Президент СШР!»
«Короче говоря, Я ЕЩЕ НЕ РЕШИЛА. Я взрослая. Теперь вы меня насильно не увезете. В крайнем случае, вы будете жить здесь, а я в нашей квартире в Израиле. И буду кататься без очереди в вашей машине.»
«Вы оба сошли с ума,» — уже тихо плакала ставшая совсем старой от огорчения Жанна. Арон без конца молча целовал ее сразу как-то проступившие по всему лицу морщины. «Я тебе обещаю, — повторял он. — Малейшее проявление неуважения ко мне или отказ от немедленного признания моего права работать в израильской науке — и мы возвращаемся сюда.»
«Я вам этого не обещала, — снова возникла Кира. — При любых обстоятельствах мне хорошо там, а не здесь! Я не хочу быть фальшивой безработной баронессой. Да и какой, к черту, из папки барон, — она вдруг захохотала. — Еврейский барон… Уж лучше цыганский барон, с крыш пугаю ворон, а цыганка моя с крыш пугает меня… Погуляйте по Парижу, особенно по НАШЕМУ, лейкандовский мне не понравился, съездите на юг Франции, деньги пока есть, еврейские, кстати деньги папе в награду.»
8.
Прямо у аэровокзала на площади Согласия Фридманы зашли за живую изгородь, консервировались, переоделись, после чего Арон, весь дрожа, набрал по мобильному телефону номер генерала Бени Шайзера. Голос израильтянина был простуженным и недовольным. Жанна возбужденно дышал в ухо мужа, напряженно слушая ответ с исторической родины.
«А что должно было измениться? — раздраженно говорил Бени. — Вам заплатили за посредничество с Мухиным, а остальное — заслуга князя. Как он там, кстати, не очень на нас обижается?»
«Это мой муж, доктор Фридман на вас обижается, — не выдержала Жанна. — О каком посредничестве вы болтаете, генерал? Как Мухин, не говоря о «тараканах», вообще попал бы в Израиль без Арона?!»
«А кто его об этом просил, вашего Арона? На черта нам вообще был нужен этот бой и гибель сотен, а то и тысяч ни в чем не повинных арабов? Мы вели с ними мирный процесс, мы были накануне мирного договора с Сирией в обмен на Голанские высоты. И тут этот Мухин… Да, теперь арабы запуганы и подписали все на условиях наших правых экстремистов. Но история наших отношений на этом не кончилась. Какая гарантия, что они и сами, без вашего умника Арона, не попадут в измерение Мухина и не приобретут нечто против нас? Много ли нам надо для поражения, с нашими-то размерами и численностью населения?. Нам нужен был мир, а не военная победа и капитуляция противников. И кто вообще уполномочил вашего мужа, геверет, влезать в наши государственные дела? Вечно этим «русским» больше всех надо! Словно до вас никто у нас не знал, что нам делать с арабами, словно это вы нашу страну строили и защищали…» «Шайзер, это ваше личное антисемитское мнение или позиция премьер-министра Израиля? — задыхаясь от обиды, прошипел Фридман. — Что вообще думает премьер о моем дальнейшем положении в стране? Я — вообще нужен Израилю с моими убедительнейшим образом продемонстрированными возможностями?..»
«Если вас интересует мое личное мнение, то от вас, доктор, Израилю один вред. Что касается премьера, то он вообще был взбешен, когда узнал о вашей деятельности, а потом хотел отдать вас под суд за подстрекательство к убийству уже не арабов, а верующих евреев — после нападения вашего Мухина на ортодоксов на шоссе Бар-Илан. Именно» антисемиты» из лагеря мира спасли вас от тюрьмы. Ваше дальнейшее положение? Думаю, что судебного преследования вас мы не допустим. Но, естественно, на государственную службу вас никто не пригласит. Вам еще предстоит после возвращения встреча кое-с-кем. И вам придется подписать обязательство не предпринимать впредь ничего от имени Израиля. Для этого есть государственные служащие. Вот и все, что я могу вам обещать. А заодно и кое-что посоветовать. Вы достигли третьего уровня в бизнесе, у вас хорошие перспективы, достаток. Чего вам неймется? Успокойте вашу жену и возвращайтесь к нормальной жизни. Со своей стороны, я обещаю вам защиту со стороны моей партии за то, что ваши друзья так славно проучили религиозных мракобесов. Коль тув, хаверим.»
9.
Вокруг сиял тысячами огней нарядный Париж, спешили прохожие, суетились на чистом асфальте голуби. Фридманы молча сидели на уютной скамейке, смотрели на украшенный иероглифами египетский обелиск из Луксора, на статуи-символы городов Франции. Здесь оборвались под ножом гильотины надежды и амбиции знаменитых французов — от непутевого Людовика Шестнадцатого до, к счастью, недосостоявшегося тирана Робеспьера.
Теперь тут сидели пришибленные пожилые евреи — победительница и побежденный, оба поверженные хамством и пришедшие к Согласию, которое только что навязала им судьба, стремительная и неумолимая, как скользящий вниз нож гильотины…
«Давай, Арик, просто погуляем. Красота-то какая! — тихо сказала похорошевшая от пережитого волнения и легкого мороза Жанна. — Мы давно не гуляли просто так, без спутников и всяких дел. Ведь это сад Тюильри, помнишь? А там видна арка Карусель, так?»
«Так-то так, но что теперь делать? Ведь Кира права, нам было так хорошо, пока я не вообразил тессеракт. Можно вернуться и обо всем забыть, жить как жили с маленькими олимовскими радостями.» «Я согласна, — грустно сказала Жанна. — Тетки мои меня заждались. Буду с утра убегать на автобус, потом возвращаться и ложиться без сил, потом будем гулять к морю, а в шабат буду печь пироги, пить коньяк после зимнего купания. Съездим к крокодилий питомник, а то и в Эйлат среди кораллов поплавать. Кира права… Ну какая их меня баронесса после многолетнего общения со смартутом — тряпкой.»
«Я бы выпил кофе,» — сказал Арон, увидев столики на тротуаре. Гарсон подал им крошечные словно пылающие чашечки. И бутылочки минеральной. Когда кофе был выпит, Арон незаметно подложил в белый невесомый стаканчик Жанны с минеральной водой таблетку, потом в свой стаканчик, оставил на столике стопку франков-монет…
10.
Гарсон протер глаза и побледнел — двое русских вдруг исчезли со своих решетчатых стульчиков. «Инопланетяне, — перекрестился он. — Могли голову отжечь, как в Петербурге, спаси меня святая дева…» А Жанна и Арон валялись на свежевыпавшем снегу. «Вам плохо, мадам и месье? — участливо спросил совершенно иначе одетый француз, помогая Жанне встать. — Я могу вызвать врача.» «Не беспокойтесь, месье, — по-английски сказал Арон. — Мы просто поскользнулись.» Француз удалился, несколько раз удивленно оглядываясь на пожилую пару в странных нарядах.
Мужчина и женщина отряхивали друг друга от снега. Других прохожих не было. «Это и есть НАШЕ решение? — сияла глазами Жанна. — Мы не возвращаемся в Израиль?»
«Мы будем туда просто ездить отдыхать, если соскучимся, — твердо ответил Арон, открывая неизменный баул со сменной одеждой. — Но надеюсь, что скучать нам не придется.» Он достал видеотелефон и вызвал Мухиных.
На экране появилось милое заспанное лицо Марины. «Добрый вечер, — обрадовалась она. — Андрей! Скорее сюда!» «Насколько удобно дать ответ Президенту немедленно?» — спросил Фридман, весь дрожа. «Какой ответ? — осторожно спросил князь Мухин. — положительный? Вы остаетесь с нами? Что это с вами? Почему вы оба такие мокрые?»
«Мы просто поскользнулись и упали в снег…» «Это очень полезно, — появилась на экране Марина. — Я обожаю купаться в снегу.» «Так что сказать Юрию Михайловичу? — напряженно переспросил Андрей. — Ты соглашаешься на его условия?» «Да, но… но ведь я неделю просил, а только что…»
«Ну и что? Погодите… Марина, поговори, пока я…»
«Когда вас ждать обратно? У вас там, надеюсь, новых приключений не было?» — ласково смотрела на растерянных Фридманов Марина своими мило сужающимися от волнения огромными глазами.
«Он все подтверждает, — возникло лицо Мухина. — Возвращайтесь немедленно. Завтра в полдень — официальная аудиенция в Президентском дворце…»
Глава 10
1.
«Кто тебе позволил говорить от моего имени! — задыхаясь от бешенства орал премьер-министр Израиля прямо в посеревшее от страха загорелое лицо генерала Бени, говорившего вчера почти то же самое Фридману. — Кто ты вообще такой, что решаешь, кто нам нужен, а кто нет, кому и сколько платить? Ты хоть приблизительно понимаешь, что ты натворил, оскорбив его русско-общинные чувства? Ведь он к нам не вернется никогда! Ага, теперь ты киваешь, умник… А ты лучше подумай, как ты, тупица, сможешь его теперь разыскать для наших запоздалых извинений за твою наглость.»
«Но, Худи, о чем ты говоришь? Как же я его разыщу? Я генерал-танкист, а не математик-тополог. Что я понимаю в их конверсиях?..»
«А если ты генерал, то расскажи-ка мне, как ты собираешься защищать Израиль, если обиженный Фридман предоставит свое открытие этой параллельной, неслыханно богатой и могучей России, в которой его, скорее всего, оценили. Иначе бы его жена не говорила с тобой таким тоном. И вообще, если бы они умели оценивать людей так, как мы с тобой, были бы они вроде России нашего измерения, а не СШР со своей Аляской и Афганистаном, империей от Канады до Адриатики и от Индии до полюса. Когда мне принесли эту запись твоего идиотского разговора с Парижем, я сразу понял, что произошла катастрофа. Что если завтра их антисемиты подарят с десяток «тараканов» той же Сирии? Ты танковый генерал, Бени? Отлично, поясни мне, как двое наших обуздают десяток арабских шагающих боевых бронемашин?.. Надеюсь, ты не рассчитываешь хоть на день задержаться в армии? Ну, спасибо, хоть на это у тебя ума хватило. Он поучает оле, как следует любить Израиль! Да он все любят нашу страну в сто раз больше чем мы с тобой, причем, как правило, без взаимности. Я молю Бога, чтобы доктор Фридман оказался из числа таких дураков и все-таки возник в поле зрения хоть в одной стране нашего измерения. Весь Мосад будет поставлен на ноги, чтобы его не упустить. Я уволю любого из твоих никчемных высоколобых товарищей по разуму, если Фридман согласится занять его место. Ты выставил меня перед параллельным миром таким идиотом, что оттуда теперь появятся люди где угодно, но не в еврейской стране. Спасибо тебе… А теперь уходи. В твоем мисраде готовы документы на твое увольнение. И запомни, единственный шанс тебе вернуться в ЦАХАЛ — это разыскать кого-то, кто знает, как найти Фридмана. Мы ему дадим любую должность и любые деньги, чтобы он хотя бы не отдал свою голову другим… Потерять такого экономического и военного партнера, как СШР! Да над нами весь мир смеяться будет, если узнает! Уходи…»
2.
«Ты хоть приблизительно представляешь, кто бы это мог быть с такими глобальными предложениями? — тревожно спрашивал шустрый элегантный молодой эксперт крупнейшей нефтяной компании Российской Федерации у своего такого же ушлого коллеги. — Во всяком случае, с нами давно никто так уважительно не разговаривал.» «Но удивительно слабый английский, я уж не говорю о явно русском акценте. Похоже на рога и копыта, а?» «Мне велено пока ничего не обещать, хотя мы тщательно проверили их финансовые возможности. В иностранных банках на их счета недавно положены сотни миллиардов долларов!»
«Я угадаю, кто бы это мог быть, как только они произнесут первые фразы, — вмешался третий, которого все называли не иначе как «маэстро». — Я за минуту определяю, who is who, на каком бы языке они ни говорили… Так или иначе, никто из русских такие суммы положить на счета не мог, это точно. Значит, иностранцы, А потому скорее всего, не рога и копыта…»
3.
Фридман наблюдал за молодыми людьми, спешащими по тропинкам к его временной резиденции. В окно веранды был виден голубой залив с едва заметной зеленой полоской противоположного берега.
Между заливом и особняком простирался широкий песчаный пляж, на котором когда-то, в аспирантские еще времена Арон неизменно проводил свои выходные с молодой и эффектной Жанной. Здесь был тогда особняк его научного руководителя — профессора Драгомилова. Отношения с сановным стариканом не ладились, как и диссертация в целом. Именно это и обсуждали молодые супруги как-то на пляже, едва выплыв из крутых желтых волн, когда Жанна обратила внимание Арона на странную пару в прибое. Древние старичок и старушка, крепко держась друг за друга мужественно сопротивлялись волнам и все-таки успешно вышли на сушу. «Да это же мой Драгомилов… — поразился Арон. — Мне говорили, что он живет летом как раз здесь.» «Подойди хоть, поздоровайся…» «Ты что! Он такой подозрительный, высокомерный; решит, что я его тут подкарауливаю… Я тебе только что говорил: встречи назначает редко, минут на пятнадцать. И вообще он мной не доволен и собирается выгонять…» «А ты подойди все-таки.»
Драгомилов действительно удивился. Он упорно принимал под свое крыло «еврейских аспирантов», но едва переносил их за врожденную бестактность. Вот и этот, надо же, лезет в плавках к неодетому академику. Уже привычно собираясь поставить наглеца на место, академик вдруг заметил взволнованную Жанну.
Она стояла на фоне золотистых в закатном солнце стволов высоких стройных сосен и тоже была золотисто-загорелая, полногрудая, статная с удивительно стройными ногами и густыми каштановыми волосами. Драгомилов мгновенно преобразился, выпрямился, выпятил грудь, втянул животик и кашлянул. Поклонившись издали Жанне, он сварливо сказал под добрым понимающим взглядом своей обаятельной крохотной супруги: «В приличном обществе, молодой человек, принято представлять свою даму знакомым людям.»
Жанна разговаривала сдержанно, но непринужденно, впопад смеялась, проявляя определенный аристократизм, чем совершенно поразила восьмидесятилетнего серцеееда. Он пригласил их на свою дачу, показавшуюся им дворцом в сосновой роще, демонстрировал свои розы, угощал вином и обедом, даже читал по-французски стихи, в которых Фридманы не поняли, естественно, ни слова. Милейшая Антонина Кирилловна вспоминала, как она в начале века познакомилась со студентом-математиком как-то на балу в Институте благородных девиц: «Все, представьте себе, Жанна Борисовна, танцевали только с гусарскими и драгунскими офицерами, а я, урожденная шведская графиня — со студентом!»
«Ну, положим твой студент тоже оказался из старинной княжеской фамилии, Тоня. Вы об этом не подозревали, Аркадий Ефимович? Сами знаете, какие до Двадцатого съезда были нравы. Приходилось всю жизнь скрывать…»
Фридманы зачастили к старикам Драгомиловым. Они преподали бедным евреям уроки хороших манер самим своим поведением за столом, в саду, на аллее, даже на лестнице. К тому же, академик по-стариковски влюбился в красивую Жанну, дарил ей букеты из своего розария, рассказывал истории из дореволюционных студенческих времен и пел песни про то, как Исаакий бражничет со студентами.
Научные дела Арона немедленно пошли на поправку, а вот Драгомиловы вскоре умерли, один за другим… И пляж после постройки дамбы тоже умер. Залив подернулся сине-зеленой ряской, с него тянуло такой вонью, что бывшие сановные дачники потянулись отсюда к озерам.
4.
В заброшенной теперь даче Драгомилова, которую они недавно посетили с Жанной просто, чтобы вспомнить молодость, Фридман и решил разместить сейчас свой «штаб». Снять дачу не составило никакого труда: все кругом были полуразграбленными. Бедствующие наследники академика прямо уцепились за возможность заработать.
«Штаб» был призван оценить торговые возможности параллельной России для СШР. Дом пришлось срочно переобрудовать, не меняя его внешнего неприглядного вида. Окна загерметизировали, внутри дома установили кондиционеры, чтобы воздух с моря не перетравил всю группу, второй месяц сидящую у посткоммунистического интернета.
Гости же, элегантные и тоже молодые референты крупнейших федеральных компаний, приглашенные на первую деловую встречу, мерзкого запаха словно и не замечали, гуляли себе в заброшенном саду и даже приехали со стороны моря. Они с удивлением осматривались в гостиной, где был накрыт стол с напитками и закусками, а обстановка не позволяла предположить даже ушлому «маэстро», кто его нынешние визави.
«На каком языке будем говорить? — бодро и привычно начал он по-английски. — Вы, как я понял, европейцы. Я имею в виду американцев, израильтян, но не, скажем, японцев.»
«Говорить мы будем по-русски, — ответил Фридман. — И начнем, с вашего позволения, сразу с дела. Наши активы уже в европейских и прочих банках. И у вас было время все это проверить. Так что вы оценили нашу кредитоспособность. Не так ли?»
Федералы, как их заочно называли в группе Фридмана, степенно кивнули, несколько ошеломленно вглядываясь в собеседников. Если Фридман, почти до неузнаваемости изменившийся после полугодичной интенсивной терапии, обновления зубов и корней волос, все-таки отдаленно напоминал им не то американца, не то израильтянина, короче, явно бывшего русского еврея, то остальные трое, не говоря об удивительно профессиональной охране снаружи, вообще ни на кого похожи не были. А уж «федералы»-референты были ребята тертые, весь мир у них давно как на ладони…
«Что вас интересует прежде всего? — спросил представитель нефтяных королей. — Нефть или газ?» «И то, и другое, — впервые подал голос Миша из команды Арона, и референты тут же вздрогнули от его голоса и акцента. — Мы хотели бы немедленно перекупить все энергоносители, которые ваши концерны продают сегодня на Запад.» «Повторяю, все — до последнего кубометра, — добавил Фридман жестко. — И по максимально долгосрочному контракту.»
«П-позвольте… — удивился референт. — Но у нас и так довольно долгосрочные международные контракты. Мы не можем их так просто разорвать.»
«Мы оплатим все, — сказал Миша. — Вы получите вдвое больше того, что потеряете в виде неустойки. В любой валюте. И цену за нефть и газ мы предлагаем вдвое больше той, что сегодня.»
«А куда, простите, вам ее транспортировать? Ведь у нас трубопроводы…» «Никуда, — совершенно огорошил их Миша. — Мы из-под земли подсоединяем нашу трубу к истоку вашего трубопровода, сразу за первым турбонасосом, а дальше не ваша забота.» «То есть… Я все-таки пытаюсь понять… Нефть уйдет обратно в недра, откуда ее только что выкачали?!» «Если вы находите облегчение в таком объяснении, — с наслаждением обнажил в улыбке Арон свои новые ровные юношеские зубы, то считайте, что в недра. Вам-то что? Ведь вам платят до тех пор, пока вы не перекрыли кран. И платят так, как вам никогда не платили и платить не собирались.»
«Но… как же наши партнеры на Западе? — вступил в разговор «маэстро».
— Если мы нагло перекроем краны на всех трубопроводах, в Европе наступит энергетический кризис! Они перестанут продавать нам продукты питания и…» «Мы продадим вам все, что вы покупали на Западе, гораздо лучшего качества, втрое дешевле и в неограниченном количестве.» «Тот же вопрос — откуда вывозить продукты?» «Тот же ответ — ниоткуда. Наша забота заполнять выделяемые для этого ваши склады. В любой точке Федерации. А вы из них развозите куда хотите. Не исключен бартер, но проще — расчет через ваши или иностранные банки.» «Но… это же триллионы долларов! Россия вдруг выпадает из мировой экономической системы и…»
«А вам там больно уютно? — снова рассмеялся Фридман. — Вот именно. Жили они без вас до перестройки, проживут и далее. Это их проблемы, не так ли?» «А этикетки на продуктах на каком языке? — подбирался к тайне еврей-«федерал», самый хитрый из референтов. — Нельзя ли попробовать ваши продукты на вкус?» «Да вы их-то и едите за этим столом. Не вкусно?» «Удивительно вкусно, но… П-позвольте, но тут же все написано по-русски, только… только, Боже!.. с дореволюционным правописанием. Да откуда же вы, господа?!»
«Я могу дать вам только одно объяснение, а уж ваше дело, верить ему или нет, — ответил Фридман. — Мы представляем, скажем, некую богатую зарубежную русско-эмигрантскую масонскую ложу, оскорбленную отношением мирового сообщества к своей бывшей Родине. И одержимы желанием сохранить для грядущих поколений сокровища наших недр. Но я полагаю, что вам это не так уж и важно. А важно то, что, как вы уже убедились, мы вам друзья. Я прав?» «Безусловно…» «Тогда сообщите тем, кого вы представляете, что мы готовы подписать все контракты по мере их готовности на оговоренных сегодня условиях: мы покупаем все энергоносители по цене вдвое больше, чем платит вам Запад, а продаем вам все, что вы покупали до сих пор там, но втрое дешевле. О чем еще можно думать, господа?»
Глава 11
«Это — Фридман, — обессиленно откинулся в кресле премьер-министр Израиля, узнав ошеломляющие новости о выходе России из мирового экономического сообщества, куда, впрочем, ее если и едва впустили, то на правах приживалки. — Он мог быть нашим, а теперь он русский… Убить мало этого идиота Бени…»
И тут ему доложили, что генерал в отставке Бени Шайзер в приемной и просит немедленной встречи. Премьер сам бросился в приемную: «Ну!.. Что? Он позвонил? Откуда?»
«Он позвонил мне час назад, Худи… Я «заработал» тысячу шекелей на штрафах, пока спешил к тебе из Тель-Авива… Он успокоил нас, что условием его контракта с Президентом СШР было полное невмешательство этой страны в наши дела. Те же пункты включены самим Фридманом в контракт между СШР и РФ. Мало того, СШР обязались не иметь военных контактов с Федерацией вообще. Если верить доктору Фридману, наша Россия вообще пока не представляет, с кем имеет дело. Их убедили, что Фридман представляет некую неслыханно богатую «Русскую масонскую ложу», оскорбленную унижением России в последние годы. Фридман передал тебе привет и извинения от князя Мухина за его контр-атаку против ортодоксов. Он просит выплатить крупную сумму денег семьям пострадавших с его счета в Швейцарском банке. Ты доволен? Тогда верни меня, Худи… Я буду очень осторожен, обещаю.»
«Разговор передан правильно, — возник голос из динамика на телефоне Премьера. — Звонили из Санкт-Петербурга. Из телефона-автомата в Озерках. Ищем Фридмана. Если он подписывает с русскими какие-то контракты, то он бывает в нашем измерении. Мы пытаемся что-то делать, но наши операции кто-то удивительно умело блокирует… Какие будут указания?»
«Потом поговорим, — поморщился Премьер. — А ты, Бени, иди в мисрад. Я распоряжусь…» «Он сказал еще кое-то,» — продолжил голос из динамика. «Что?» «Ну, — замялся реанимированный и сияющий молодой генерал Шайзер. — Это касалось его реакции… на мой тон… в разговоре с ним, ну, тогда, когда он мне звонил из Парижа…» «Я надеюсь, что ты извинился за твое хамство и передал ему мои предложения?» «Он отказался принять и извинения, и предложения, Худи…» «И что же все-таки он тебе сказал?» «Он сказал, что сожалеет, что пока не может вернуть всех наших олим в СШР.» «Пока? Что же ему мешает? Он, насколько я понял, в большом фаворе у Президента?» «Еще в каком! Он теперь русский барон и кандидат в Нобелевские лауреаты. Ну, там, профессор и прочее. Но он не собирается отнять у нас алию по простой причине: в его России все-таки тоже слишком много пока антисемитов…» «И за то спасибо… Иди. Все. Видеть тебя не могу… Дожили! В России тоже полно антисемитов, не только в Израиле… И только поэтому нельзя вернуть евреев из Израиля в Россию! Спасибо тебе, хавер… Спасибо за все. И как мы еще существуем на свете с такими как ты?..»


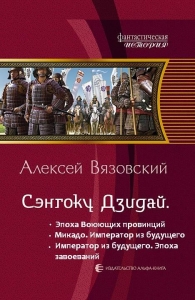






Комментарии к книге «В обход черной кошки », wotti
Всего 0 комментариев