Александр Михайловский, Юлия Маркова Никто кроме нас Том 6 Великий канцлер
Часть 21. Экстренная терапия
[1 августа 1904 года, 10:05. Санкт-Петербург, Зимний дворец, кабинет Канцлера Российской Империи Канцлер Империи Павел Павлович Одинцов.]
Первое, что мне пришло на ум после ознакомления с текущими делами – это аллегорический образ Империи, которая еще хорохорится и принаряжается, но при этом внутри нее уже таится смертельная болезнь, которая и приведет ее к гибели в феврале и погребению в октябре семнадцатого года… Но мы-то не могильщики, а реаниматоры – поэтому сложившаяся ситуация нам активно не нравится. Собственно, дело не в том, кто виновен в таком положении дел. Прошлый и позапрошлый императоры своими действиями и бездействием доведшие Россию до нижней точки, находятся вне критики. О бывших правящих особах, живых или мертвых, следует говорить либо хорошо, либо никак. Вот мы и будем никак. Пинать предшественников – последнее дело. Уже давно подмечено, что частенько за этим занятием скрывается полная деловая импотенция ругающих, в народе просто и незамысловато называемая жопорукостью. Сделай лучше их – но не для того, чтобы похвастаться, какой ты хороший, а потому что ты просто по-другому не умеешь и на любой работе рвешь жилы будто в последний раз. Вот именно из-за таких убеждений меня и держали подальше от Кремля и поближе к оборонке. Но вот, поди ж ты, как все обернулось…
И вот теперь я понимаю Геракла, в задумчивости застывшего перед утопающими в дерьме авгиевыми конюшнями. Такое же чувство было и у меня после того, как мы проехали на поезде всю необъятную страну по диагонали – от Читинской губернии до Санкт-Петербурга. Вопиющая нищета, соседствующая с блеском показной роскоши, особенно неприглядна. В наше время, когда важные люди подобно мне летают из Москвы и Петербурга во Владивосток и Хабаровск самолетами, многое остается скрытым от их глаз в сизой дымке под крылом самолета, мчащего к пункту назначения на заоблачных высотах. Оттуда не видно ни пришедших в негодность аварийных домов, ни обветшавших районных больниц, ни людей, выживающих от одной нищенской зарплаты до другой и при малейших задержках вынужденных обращаться к ростовщикам, модно называемым микрофинансовыми организациями.
Здесь все гораздо страшнее, чем даже в нашем достославном девяносто девятом году, когда мы, тогда еще молодые и решительные, взялись разгребать завалы на излете правления Ельцина. Тогда он, безвольный и бессильный, полностью устранился от дел, позволив команде своего «преемника» латать и смазывать разваливающуюся на ходу государственную машину, лишь бы не услышать роковые слова «караул устал». Так что опыт ремонта государства «на ходу», без разрушения всего до основания, у меня, позволю себе заметить, есть. Но тут, в начале двадцатого века, работать будет гораздо тяжелее, чем тогда, сто лет тому спустя. В первую очередь, здесь нет осознания глубины унизительного падения государства с позиции второй мировой сверхдержавы до статуса заштатного третьеразрядного государства, с мнением которого больше никто не считается, а также понимания опасности приближения к той роковой черте, за которой только русский бунт – бессмысленный и беспощадный. В местных властных и околовластных кругах господствует мнение, что все у нас хорошо, война выиграна, армия победоносна, флот могуч, а голодающие людишки по деревням как-нибудь перетерпят; а не перетерпят и помрут – так невелика беда…
Одним из сторонников такой точки зрения является наш новый соратник адмирал Дубасов. И ведь вроде умный человек, патриот и государственник: его активное содействие помогло нам в кратчайшие сроки и почти без крови победить заговор Владимировичей. Единственное, что помешало ему отшатнуться от нашей компании, было заявление Ольги, что отнимать и делить она не будет ни при каком раскладе. И это действительно так. Не наш это метод, тем более что ничего хорошего из этого не выйдет. Если разделить богатства тончайшего слоя нуворишей на сто сорок миллионов нищего населения, то получится меньше чем ничего. Мы поступим умнее. Вместо всеобщей дележки мы сделаем следующее. Во-первых, примем меры для обеспечения быстрого роста российской экономики, доходы от которой будут распределяться более справедливым образом. А во-вторых – проведем программу переселения нескольких миллионов крестьянских семей, перебросив излишки населения из Центральной губерний России на земли Сибири и Дальнего Востока, и упорядочим землепользование, что позволит решить проблему постоянных недородов – сиречь голода, который своей костлявой рукой регулярно вторгается в российскую действительность. Вот уж этот враг будет посерьезнее всех японцев вместе взятых…
Но было в этих объяснениях маленькое лукавство. И для создания промышленности, и для того, чтобы ее изделия стала покупать наибеднейшая масса, и даже на программу переселения нужны деньги… Часть из них необходимо вложить в качестве инвестиций в создание заводов и фабрик, а также в обучение персонала, ибо от неграмотных и необученных крестьян-лапотников, поставляемых на рынок труда нищей российской деревней, прок для производства отсутствует напрочь. Другую часть нужно дать потенциальным покупателям, восемьдесят процентов которые сейчас, как в каменном веке, живут натуральным хозяйством, поскольку деньги из деревни мощнейшим насосом вытягивают различные подати, в том числе и выкупные платежи. Нет платежеспособного спроса – а значит, и незачем строить в России заводы и фабрики для производства товаров народного потребления. Те небольшие количества изделий, что востребованы сравнительно узкими обеспеченными слоями населения, без всяких проблем можно ввозить и из-за границы, способствуя развитию французской, британской или германской промышленности. Деньги необходимы и для того, чтобы осуществлять переселенческую программу и ликвидацию безграмотности и создавать государственную систему медицинского обеспечения. Конечно, впоследствии все это принесет прямую и непосредственную отдачу, но где взять первоначальный капитал в стране, бюджет которой в значительной степени формируется за счет выкупных платежей и доходов от винной монополии…
Поэтому для того, чтобы совершить искомый прорыв, нам требовалось кого-нибудь ограбить… Грабить крестьян сейчас просто невозможно – по крайней мере, пока, так как они уже до костей ограблены до нас. Прежде чем этот ресурс снова станет доступным, мужика надо подкормить и дать ему время нагулять жирок. Грабить рабочих бессмысленно по той же самой причине. Там и без нас хозяева изгаляются по полной программе, и с этими изуверами тоже надо что-то делать. И, кроме того, с рабочих особо много не награбишь, а неприятностей можно огрести по самое не могу. Остается грабить тех, у кого есть деньги – то есть буржуазию и высшую аристократию; но делать это следует осторожно, потому что эти люди чувствуют тут себя властью и весьма болезненно отнесутся к изъятию части своего богатства.
Однако есть во всем этом один светлый момент. И аристократы, и местные бизнесмены не отличаются праведностью – и напропалую нарушают законы либо же напрямую запускают лапу в государственный карман, а то и просто путают личную шерсть с государственной (подобно хитроумному красавчику Сандро, он же Великий князь Александр Михайлович). И вот, поскольку ни одному преступнику нельзя позволять пользоваться плодами его преступления, мы с императрицей придумали следующую комбинацию. В мягком варианте высокопоставленному гешефтмахеру будет указано, во что именно он должен вложить свои незаконно нажитые миллионы, а если этот тип не пожелает выполнить указания милостивой императрицы, то получит срок на каторге где-нибудь на Сахалине и банальную конфискацию имущества и всех денежных средств. Чтобы совершить прорыв и поднять с колен российскую экономику, нам необходимы точки роста – и таким путем мы сможем получить их, почти не залезая в государственный бюджет.
Первой нашей добычей стало имущество участников мятежа Владимировичей. Тут по указаниям императрицы военно-полевые суды штамповали приговоры один за другим, передавая конфискованное в Особый Инвестиционный фонд. Но, несмотря ни на что, денег в нем оказалось крайне недостаточно, ибо основное богатство мятежников-аристократов больше заключается в землях, дворцах и предметах роскоши, нежели в денежных средствах. Что-то требует для своего перевода в денежную форму дополнительного времени, а что-то и вовсе продать невозможно или просто нецелесообразно (как, например, картины из частных коллекций). К тому же некоторые бунтовщики за душой имели больше карточных долгов, чем наличного имущества, и на преступление пошли исключительно из желания поправить свое материальное положение.
Но были в России очень богатые люди, несомненно, сочувствовавшие мятежу и имевшие непосредственное отношение к его организаторам. Сами они с револьверами по улицам не бегали и солдатам команды не отдавали, но были так же виновны в случившемся, как и семейство Владимировичей с князем Васильчиковым. Я имею в виду так называемую группировку франкобанкиров, главой которой почти единогласно считался пресловутый Сергей Юльевич Витте, до последнего исполнявший должность председателя Кабинета Министров. Должность эта была абсолютно пустая, не наполненная никаким реальным содержанием, но неформальное влияние и на бывшего царя, и на окружающий его аристократический бомонд у Сергея Юльевича было велико. Одно только портило жизнь верховного гешефтмахера Российской Империи. Его супругу, крещеную еврейку Марию Ивановну Витте (по первому мужу Лисаневич, в девическом прошлом Матильду Исааковну Нурок), единственную из всех жен министров категорически не принимали ко двору. Еврейка, да еще и разведенка – фи, что за моветон… Впрочем, это никак не мешало Витте проводить нужную франкобанкирам политику. Одних его клан убеждал сладкими речами, других подкупал подарками, третьи были должны его «друзьям» крупные суммы. Короче, рыло у этого человека было в пуху по самые уши, но СИБ до поры до времени его не трогала, а только ходила вокруг да около, пытаясь распутать гадючий клубок связей, туго закрученный вокруг этого человека.
И вот, через два дня после воцарения Ольги, этот тип попытался нагло сбежать от нас за границу. То ли у него не выдержали нервы, то ли он просто понял, что в новой конструкции власти после краха мятежа остался не у дел – одним словом, Витте вместе с супругой уже сел бвыло поезд на Финляндском вокзале… Сумей он укатить в Великое княжество Финляндское – и выколупать его оттуда уже не было бы никакой возможности даже у всемогущей СИБ. Такая уж она – эта нынешняя финляндская автономия, в которой свои законы, своя полиция и свое представление о том, кто является преступником, а кто нет. Безусловно, существование такого псевдогосударственного образования, не подчиняющегося общеимперским законам, смертельно опасно для российского государства. Так что чуть позже, когда мы укрепим свои позиции на прочих фронтах, будет необходимо раз и навсегда ликвидировать финскую художественную самодеятельность… Ликвидировали же в свое время Царство Польское, превратив его в Привисленские губернии – и ничего страшного от этого не произошло.
В этом же ряду находится и убийство Финляндского генерал-губернатора Бобрикова финским националистом Эйгеном Шауманом, случившееся строго по расписанию два месяца назад. Поскольку убийца тут же покончил с собой, серьезного следствия по этому делу не производилось, а император Николай Второй, охваченный дембельским синдромом, как и в остальных делах, просто перекинул финский вопрос на свою тогда еще предполагаемую преемницу Ольгу, дежурно назначив князя Оболенского исполняющим должность финляндского генерал-губернатора… Управленец из князя откровенно никакой; занимать должность он, конечно, может, а вот исполнять соответствующие этой должности обязанности – уже нет. Ничего, мы подберем такую кандидатуру на эту должность – молодую, злую и правильно ориентированную – что финны, вспоминая доброго графа Бобрикова, еще взвоют у нас дурными голосами от осознания своей непоправимой глупости. По подвигу будет им и награда, по мощам и елей…
Впрочем, вернемся к господину Витте и его супруге. Наш неутомимый капитан Мартынов, как всегда, поспел вовремя. Он лично снял их с поезда на последней российской станции в Сестрорецке и водворил сладкую парочку в лучшие одиночные камеры Петропавловки. А нехрен бегать из-под следствия, когда наши охочие до истины товарищи еще не разобрались в подоплеке и закулисных механизмах событий. Не то чтобы Витте мне был очень нужен, но побеседовать с этим человеком, прежде чем его оформят на каторгу или виселицу, было бы не лишним. В нашем деле нельзя пренебрегать никакими источниками информации, даже если этот источник – потерпевший поражение враг. И если в Петропавловке Витте подробно допросили по поводу соучастия в финансировании заговорщиков и связей с французскими Ротшильдами, то меня больше интересовала чисто экономическая составляющая дел этого человека. Ну и еще хотелось спросить, как он дошел до жизни такой. Начал господин Витте как перспективный государственный деятель, пользующийся доверием Александра Третьего и Николая Второго, дипломат и гений логистики, способный распутать самый сложный транспортный узел, а закончил как проводник влияния международного банковского капитала и фактически один из могильщиков Российской империи, тип мелочный, нудный и чертовски самолюбивый…
Кстати, поскольку человек я чрезвычайно занятой, конвой доставил господина Витте прямо в мой кабинет в Зимнем Дворце. Признаюсь, было в этом деле немного показного триумфа – для того, чтобы сразу расставить по своим местам все точки и запятые. Мы, победители – в Зимнем дворце; он, побежденный – в Петропавловской крепости… И разговаривать тут больше не о чем-с. Точка.
[тогда же и там же Бывший председатель Кабинета Министров, бывший действительный тайный советник, а ныне подозреваемый в государственном преступлении Сергей Юльевич Витте.]
Последние четыре месяца слились для меня в один сплошной кошмар. Повсюду, в том числе и в России, происходили непонятные и просто ужасные события, привычный и удобный мир рушился, а вместо него из небытия появлялось что-то странное и непонятное. Надо начать с того, что я был против всей этой Порт-Артурской авантюры нашего государя. Японцы уже считали этот порт своим, и в этот самый момент Россия предъявила на него свои требования и забрала честно завоеванное, как будто у нее было мало собственных территорий. Но поскольку этот вопрос был решен против моей воли и вопреки всем протестам, я решил присоединиться к тому, что нельзя победить, ибо противоречить монаршей воле себе дороже – и на карте Ляодунского полуострова вместе с военно-морской базой Порт-Артур и Южно-Маньчжурской железной дорогой появился город Дальний.
По моему первоначальному замыслу, порт Дальнего призван был служить воротами для ввоза в Российскую империю колониальных товаров из Французского Индокитая, Филиппин и Голландской Ост-Индии. Но ожидаемого мною наплыва грузовых пароходов, везущих к нам каучук, чай, кофе и пряности, не случилось… Вместо того меня теперь обвиняют в том, что мой порт, на строительство которого ушло тридцать миллионов золотых рублей[1], оказался полностью бесполезен для России, и на девять десятых его использовали именно японские пароходы. Кроме того, меня обвиняют не только в том, что я впустую истратил огромные государственные деньги, но и в том, что если бы наши дела в войне против Японии пошли неблагоприятным образом, Дальний был бы захвачен японской армией. В таком случае у врага образовалась бы прекрасная база с доками, мастерскими, причалами и складами, которая была бы пригодна ни для стоянки боевых кораблей, ни для разгрузки тяжелого вооружения. Ну совершенная же глупость – что я специально задумал этот порт таким образом, чтобы потрафить врагу….
Хотя, наедине с самим собой, должен признаться, что раз уж эта война началась, я предпочел бы, чтобы Россия ее не выиграла, а проиграла. Такой исход этой никому не нужной войны повлек бы за собой умаление почвеннических настроений в нашем российском обществе и скорейшее копирование удачных буржуазных европейских образцов государственного устройства. Не дворяне и помещики должны стать главным господствующим классом, а банкиры, промышленники и предприниматели. Ведь любому мало-мальски грамотному человеку понятно, что ход общественного прогресса нельзя ни остановить, ни замедлить, и наступление капитализма в России так же неизбежно, как приход лета после весны. А если дворянство хочет сохранить свои привилегированные позиции, то, кроме земледелия, ему следует заняться еще торговой и промышленной деятельностью.
И эти устремления – не только мои, но еще и большого количества моих единомышленников, владеющих более чем значительной долей российского и мирового богатства. Нам известно, что побежденная страна скорее копирует у соседей прогрессивное политическое устройство, чем победившая, в которой от осознания своего величия усиливаются охранительные силы, препятствующие всяческим реформам. Их лозунг – «держать и не пущать», их методы – аресты и виселицы, их идеал – абсолютное самодержавие, феодализм, в котором они хотят произвести только косметические изменения, чтобы заменить кремниевые мушкеты и единороги на трехлинейки Мосина и трехдюймовые полевые пушки.
К тому же сила, которая ворвалась в наш мир в минуты боя под Порт-Артуром, с первой минуты оказалась враждебной всем моим устремлениям. В громе артиллерийских залпов и оглушительном грохоте взрывающихся самоходных мин она утверждала первенство хорошо отточенной стали над мягкой силой злата, и таким образом ставила крест на наших надеждах ускоренного капиталистического развития России. О каком смягчении нравов, каком парламентаризме и конституционной монархии можно говорить, если вместо осознания своей слабости Россия почувствовала свою силу и опьянение патриотическим угаром, что сделало невозможным любые положительные изменения.
Смерть государыни-императрицы Александры Федоровны я воспринял как шанс восстановить свое влияние на государя-императора Николая Александровича и повернуть все на круги своя… но этим надеждам не суждено было сбыться. Меня просто не допустили в Царское Село, где государь якобы предавался горестным размышлениям, скорбя по безвременно усопшей супруге. И в то же время, как мне прекрасно было известно, у него там гостили двое или трое представителей той самой силы, что нарушила мои планы и планы моих единомышленников, вмешавшись в войну между Россией и Японией. Мне даже удалось узнать их имена. Знающие люди говорили, что господин Иванов, госпожа Лисовая и господин Мартынов только притворяются обычными людьми, а на самом деле ведут себя с государем так, будто и вправду являются Господними Посланцами на нашей грешной земле. И если до сражения под Тюренченом у меня были надежды, что все образуется естественным, так сказать, путем, то после разгрома японской армии и перехода русских войск в наступление пришла ясность, что, к величайшему несчастью, руками Посланцев Россия почти неизбежно выигрывает эту дурацкую войну.
И в то же время до меня дошло, что находящийся в трауре по смерти супруги император Николай планирует оставить свой пост, передав бразды правления своему брату Михаилу. Для моих замыслов это была настоящая катастрофа. Михаил, непосредственно замешанный в победе под Тюренченом, став царем, поставил бы крест на наших надеждах и стремлениях. После долгих и осторожных переговоров с единомышленниками мы решили, что должны деньгами и своим политическим влиянием поддержать притязания на престол Российской империи со стороны великого князя Кирилла Владимировича. Слабый царь, подверженный пороку пьянства и безудержного распутства, наилучшим образом соответствовал нашим целям и задачам. Тогда мне казалось, что это удачный ход и что наше богатство и многолетний опыт политической интриги дают нам возможность на равных потягаться даже с Господними посланцами. В тот момент мне следовало бы обернуться по сторонам и понять, что даже Британия в отчаянии отступилась от этих людей (если, конечно, их можно назвать людьми). Но я был слеп, и потому ступил на тот путь, который позже и привел меня на Голгофу…
Наш заговор не удался. Главный из Посланцев, господин Одинцов, оказался более опытен в интригах, чем все мы вместе взятые, покушение на царя Николая было обезврежено, а преображенцы, восставшие против тирании, потерпели поражение, поскольку враг был настолько жесток, что был готов расстреливать их из пушек. И самое главное. Преемником Николая оказался не Михаил, который так и остался наследником престола, а их с Николаем сестрица Ольга… Причем Михаил сразу после отречения Николая сам выкрикнул ее на трон и первый принес ей присягу. Это была катастрофа. Трезвомыслящие люди вроде меня были побеждены и гонимы, а вместо них торжествовали самые низкие и подлые патриотические силы. Аресты, аресты, аресты… СИБ хватала разбегающихся во все стороны оппозиционеров, как курица, склевывающая насекомых, и я начал беспокоиться о своей безопасности. Рано или поздно недреманое государево око оборотится в мою сторону – и тогда злой конец для меня и всего моего семейства неизбежен.
Впрочем, у меня сложилось впечатление, что наши враги все прекрасно рассчитали – и мой побег обратился своей противоположностью. Вместо каюты первого класса на пароходе, следующем по маршруту Хельсинки-Стокгольм-Копенгаген-Нью-Йорк, мы с супругой очутились в одиночных камерах Петропавловской крепости. А оттуда, говорят, кричи-не кричи – уже не помогает… И вот после изнуряющих допросов в самой Петропавловке меня зачем-то доставили в Зимний дворец. Сначала я думал, что мою персону желает увидеть новая императрица, которая раскаялась в содеянном и хочет простить и отпустить верного слугу престола. Но, как оказалось, даже мне свойственно ошибаться. Вместо императорского кабинета меня привели к дверям, за которыми сидел господин Одинцов – главный из тех, кого я называл Господними Посланцами. Как только я в сопровождении стражников зашел в его кабинет, он поднял на меня свой леденящий ненавидящий взгляд – и у меня, даже несмотря на жаркий день, по коже прошел морозный озноб.
– Ну что же, господин Витте, – сказал он глухим голосом после того как отпустил стражу, – вот мы и встретились. Честное слово, напрасно вы впутались в заговор Владимировичей. Я-то думал, что вы окажетесь умнее и будете держаться в стороне от этого гадюшника – и в таком случае были бы возможны весьма благоприятные для вас варианты, ибо умные люди всегда нам нужны. Но раз вы сами выбрали свою судьбу, то извиняйте, если что не так. Теперь, если доктор сказал – в морг, то значит, идите в морг…
Сказать честно, эти слова прозвучали для меня как погребальный колокольный звон по еще живому, но уже отпетому покойнику. Но страшно мне было не за себя. Я свое отбоялся еще с той поры, как мне предъявили обвинение в совершении государственного преступления. Страшно было за страну, которая в таком случае попадала в руки жесточайшей реакции. Да уж, лучше бы власть и в самом деле досталась адмиралу Дубасову – человеку честному, но, безусловно, недалекому, а не этому монстру и гению интриги, который рассматривает меня сейчас так, как ученый-энтомолог через лупу взирает на какого-нибудь редкостного ядовитого жука. Я всю жизнь потратил на то, чтобы, поднимаясь со ступеньки на ступеньку, достигнуть высшего поста в Империи и, находясь подле трона, подавать государю советы, способствующие смягчению нравов и укреплению в России капитализма. Правда, достиг я только должности министра финансов, на которой сумел воплотить немало своих идей, но однажды моя персона надоела государю-императору – и он сместил меня на должность председателя Кабинета Министров, которая ровным счетом ничего не значила, потому что Империей Николай Романов предпочитал руководить собственноручно.
Зато сидящий сейчас передо мной человек, появившись из небытия, одним великанским шагом вознесся до поста Канцлера Империи – то есть должности первого класса согласно «Табели о рангах»; сам я о таком не смел и мечтать. Таковых канцлеров в Российской империи не бывало уже больше двадцати лет – с того момента, когда во времена моей молодости подал в отставку и вскоре помер Александр Михайлович Горчаков. Ведь канцлер – это не просто высшая должность в Петровской «Табели о рангах», но еще и лицо, к которому монарх испытывает высочайшее доверие, почти как к самому себе. И это доверие правящей монархини господин Одинцов будет использовать, чтобы разрушить все, что я создавал годами непосильных трудов. Несомненно, слабая и неопытная девушка наивно доверилась этому чудовищу, которое теперь вьет из нее веревки. И даже жених императрицы, наш будущий князь-консорт, происходит из той же породы – волевой, жестокой, не терпящей компромиссов. Спасенья для бедной Ольги нет; наверняка ее принудили силой или обаяли при помощи модного сейчас магнетизма… Наверняка этот Одинцов сильный магнетизер: когда он на меня смотрит, у меня волосы на голове шевелиться начинают. Неужели теперь повторится история с декабристами, и отчаянное выступление молодых офицеров-преображенцев станет прологом для наступления жесточайшей реакции, а передо мной сидит новый Аракчеев?
Ошарашенный столь горестной переменой в своей судьбе, низвергшей меня с высот власти до положения живого мертвеца, я так и не решил, что ответить на слова главы посланцев… Но вдруг позади меня почти бесшумно распахнулась дверь и раздалось цоканье каблучков.
– Павел Павлович, – услышал я звонкий голос Ольги Александровны, прежде Великой княгини, а нынче императрицы, – вы знаете, а ведь мне тоже хотелось бы выслушать объяснения господина Витте. Мой отец и брат пригрели эту гадину у себя на груди, и я желала бы знать, как этот человек мог отплатить им такой черной неблагодарностью и принять участие в антигосударственном заговоре. Кроме того, у меня есть вопросы и относительно его деятельности на посту министра финансов, поскольку не все его решения приносили пользу Российской империи, а некоторые так прямо шли ей во вред…
Обернувшись, я увидел государыню-императрицу. Несомненно, это была действительно Ольга Александровна, но Боже, какой у нее был вид! Она была облачена в узкое черное платье, стягивающее фигуру до самого горла, и дополняли этот наряд такие же перчатки, шляпка и вуаль. Говорят, что императрица носит траур по всем невинно убиенным за время подавления мятежа, не деля их на сторонников, противников и праздношатающуюся публику. Все они, мол, российские подданные – и поэтому императрица скорбит обо всех. Одни погибли, исполняя свой верноподданнический долг. Другие достойны сожаления за свои заблуждения, за которые им пришлось заплатить жизнью. Третьи стали невинными жертвами сложившихся обстоятельств. Но это платье, создающее впечатление торжественной простоты, только подчеркивало прямоту осанки, уверенный поворот головы и мрачно-суровое выражение лица. Куда делась та дурнушка, которая ни ступить, ни молвить не умела? Сейчас с императрицы смело можно было ваять статую разъяренной Немезиды… Чуть позади и левее императрицы стояла еще одна незнакомая мне молодая женщина, одетая в такое же платье и с таким же суровым выражением лица. Скорее всего, это была статс-дама и одновременно сердечная подруга новой императрицы, ибо она была немного старше Ольги и держалась с воистину независимым достоинством (что невозможно для простых смертных в присутствии царственных особ).
Какой там магнетизм-сомнамбулизм; сейчас мне видно, что мои надежды развеять морок, окутавший молодую императрицу, были напрасны. Она совершенно осознанно действует заодно с этим Одинцовым, считая меня одним из главных виновников бедственного положения Российской империи в экономике, а также тех трудностей[2], что постигли наши армию и флот в начале этой злосчастной японской войны. Господи, прости меня и помилуй! Такая фурия не только на каторгу меня закатает, как грозился господин Мартынов, но и придумает такую ужасную казнь, которая заставит желать смерти будто избавления…
– Помилуй, государыня-императрица! – хлопнулся я на колени, – не виноват я, это само все так получилось…
– И не подумаю миловать! – жестко ответила мне императрица, гладя сверху вниз злобно прищуренными глазами. – Умел грешить, пес смердящий, умей и ответ держать! Никакой милости к тебе у меня нет и быть не может! Наше монаршее прощение, милейший Сергей Юльевич, тебе еще требуется заслужить самым усердным трудом на благо Отечества.
– Заслужить?! – с удивлением и надеждой в голосе переспросил я. – Но как я могу это сделать, государыня-матушка, если за прошлые дела меня грозятся то ли закатать на каторгу лет на двадцать, то ли вовсе отправить на виселицу как опасного государственного преступника?!
– Да уж всяко не катая тачку на Сахалине, – с иронией ответила мне чуть смягчившаяся императрица, – в самые кратчайшие сроки нам предстоит исправить то, что было тобою наворочено в бытность министром финансов, и твоя помощь тут будет нелишней. Сделаешь все хорошо – получишь мое прощение, а если ничего полезного из тебя не получится, то пеняй на себя, тогда уж точно без каторги не обойтись.
– Это называется «шарашка», – пояснил Одинцов, – тихая благоустроенная камера с толстыми стенами в Петропавловке, обеды из ресторана, умные и исполнительные помощники, схватывающие на лету каждое слово, а также вежливая охрана. И все! А самое главное – вместе с тобой будет содержаться госпожа Витте, которая хоть в заговоре и не участвовала, но за льстивое (то есть притворное) крещение вполне может получить восемь лет каторжных работ.
– Хорошо, – сказал я, поднимаясь на ноги, – я признаю, что согрешил, поддержав притязания Кирилла Владимировича на царский престол, но я не понимаю, какие мои действия в бытность мою министром финансов Российской империи могли вызвать ваши нарекания?
– Грешит муж, гуляя к любовнице от своей благоверной, – хмыкнула Ольга, – а поддержавший заговор против законной власти совершает государственное преступление, за которое нет и не может быть прощения. Остальное тебе пояснит господин канцлер…
– Во-первых, – строго сказал Одинцов, – тяжелейшие последствия для российских финансов имело введение вами так называемого золотого стандарта. Я уж молчу по поводу того, что после совершения этого весьма неумного шага государственный долг Империи разом увеличился в полтора раза. По сравнению с другими последствиями это просто мелочь. Так как добыча золота в Империи совершенно недостаточна для поддержания денежного оборота в звонкой монете, Россия вынуждена постоянно брать у Ротшитльдов обеспечивающие кредиты в золоте. Поступив в оборот, эти деньги совершают один почетный круг по Империи и снова утекают за рубеж, ибо большая часть товаров, потребляемых обеспеченными слоями населения, импортируется именно оттуда. Этот перекос в денежном обороте достиг таких масштабов, что Российская Империя стала испытывать дефицит наличных денежных средств, то ведет к задержкам разного рода выплат и еще больше усугубляет поразивший страну экономический кризис. Тут можно сделать двоякий вывод. Если вы, вводя такую систему, не предусмотрели и не просчитали всех ее последствий, то тогда вы, Сергей Юльевич, банальный дурак; а если вы все предвидели, но пошли на это из соображений, далеких от государственных интересов и исполнения ваших непосредственных обязанностей, то вы подлец и предатель.
– Золотой стандарт, господин Одинцов, – поднял я вверх палец, – был введен мною исключительно из соображения ускоренного развития в России капиталистических отношений…
– Министр финансов империи, – строго сказала императрица, – должен был заботиться исключительно о благополучии этих самых финансов, а не о каких-то там капиталистических отношениях, потому что это еще бабушка надвое сказала – нужны нам эти отношения или нет. То, что вы сделали, пошло на пользу кому угодно, но только не русским людям и российской казне – а это преступление куда более серьезное, чем участие в каком-то там заговоре.
– Именно так, ваше императорское величество, – подтвердил Одинцов, – интересы службы должны быть у чиновника впереди всего, а иначе получается не служба, а сплошная измена и подрыв государственных основ.
– Одним словом, господин Витте, – завершила разговор императрица, – сумеете исправить то, что наворотили – награды не обещаю, но старые грехи забуду. А сейчас ступайте. Мне с господином канцлером по другим делам перемолвиться надобно. Эй, охрана! – кликнула она, – верните господина Витте в Петропавловку и передайте своему начальству, что я велела пускать к нему для лекций по экономике госпожу Лисовую, а то мне некогда объяснять этому человеку во всех подробностях, что именно он натворил и как это требуется исправить…
Вот так закончился мой краткий визит к господину Одинцову, который, как я понимаю, был затеян только ради того, чтобы победители могли насладиться триумфом над побежденными. А еще я увидел нашу новую императрицу и получил от этого незабываемые впечатления. С такими замашками никакой либерализации, смягчения нравов или парламентаризма ждать не следует, напротив, в ближайшее время в России последует еще одно закручивание гаек и усиление монархического гнета.
[пять минут спустя, там же Канцлер Империи Павел Павлович Одинцов.]
Едва Витте вывели за дверь, Ольга, кивнув мне, уселась в кресло, которое стояло у стены для особо важных посетителей, а Дарья, послав мне одну из своих чарующих улыбок, заняла свое место за плечом подруги-повелительницы. Подготовка «девяткой» фрейлин-телохранительниц для юной императрицы была в самом начале (подходящих девушек еще только набирали), и поэтому Дарье пока приходилось отдуваться одной, сопровождая Ольгу везде и всюду в те моменты, когда эту обязанность не мог взять на себя ее жених полковник Новиков.
– Вот так, Павел Павлович, – сказала моя порфирородная[3] ученица, легкомысленно обмахиваясь веером, – повесить этого слизняка любой дурак сможет, а вот заставить его исправить содеянное будет гораздо сложнее…
В ответ я пожал плечами и сказал:
– Честно говоря, сомневаюсь, что из этой затеи выйдет что-нибудь умное. Господин Витте на протяжении всей своей карьеры ни разу не работал на производстве, только на железной дороге и по финансовой части. Ему и прежде, в молодые годы, было все равно, что он возит и где эти грузы произведены, а уж после – и подавно. Компрадорская буржуазия, представителем которой является этот человек, предпочитает экспортировать в развитые страны необработанное сырье, а взамен ввозить из-за границы готовые товары, вместо того чтобы возиться с налаживанием их производства в России. И бесполезно говорить им о крайней нужде, постигшей российский народ, и слабости нашей промышленной базы. Они подобной ерундой не занимаются. Видал я таких, как этот Витте, во всех видах видал; и на что они способны, когда их образу жизни грозит опасность, я тоже знаю. Сопротивляться тому, что мы запланировали сделать для России, они будут бешено. И этот Витте один из них. Уж он нам наработает, поверь мне… Мой прежний, гм, шеф, тоже хотел заставить таких, как Витте, работать на благо России – и получалось это откровенно плохо, а в некоторых случаях и вообще не получалось. Над каждым министром надсмотрщика с наганом не поставишь, да и неприлично это.
– Павел Павлович, – удивилась Ольга, – так почему вы тогда не сообщили мне об этом сразу, а говорите только сейчас?
– А потому, – ответил я, – что никто из посторонних не должен видеть наших разногласий. Наедине или в кругу доверенных, которые никому ничего не скажут, мы можем спорить, соглашаться или не соглашаться друг с другом, и даже ругаться; но в остальных случаях мы должны демонстрировать единодушие. Пусть даже этим посторонним окажется такое редкостное ничтожество, как Витте. Пусть он думает, что мы специально разыграли перед ним эту сцену. Понятно, твое Императорское Величество?
– Понятно, Павел Павлович, – с серьезным видом кивнула Ольга, – на будущее я учту, что если у меня появилась какая-нибудь гениальная мысль, ее сначала требуется обговорить среди своих, и только потом высказывать на людях.
– Совершенно верно, – подтвердил я, никаких импульсивных экспромтов в нашем государственном деле быть не должно. Какой бы сладкий пирожок тебе ни предложили, всегда бери время на обдумывание – а вдруг там отрава. Наши с тобой противники горазды на подобные штучки; да и мы не лыком шиты. А с Витте мы что-нибудь придумаем, ведь работать он будет под контролем СИБ, а там капитан Мартынов найдет способ, как при помощи этой работы до конца и без остатка вскрыть его деловые и политические связи с российским и зарубежным капиталом. Наихудшим вариантом сейчас как раз-таки было бы отправить Витте на виселицу, а дело в архив – и забыть об этом. Нет, все еще только начинается.
– Хорошо, учитель, как скажешь, – Ольга потупила глаза в стол, – я к тебе вот зачем пришла. Тут ко мне на аудиенцию рвется французский посол месье Бомпар, а я даже не знаю, о чем с ним говорить.
– Вопрос франко-русских отношений, – сказал я, – штука очень запутанная и не может рассматриваться в отрыве от англо-французских связей и франко-германского конфликта из-за Эльзаса, а на самом деле из-за вопроса доминирования в континентальной Европе. В самом начале русско-японской войны, еще до нашего пришествия, французы очень подло кинули Российскую империю, отказав ей в союзнической поддержке, и теперь месье Бомпар боится последствий такого решения. Точнее, французское правительство боится того, что твое императорское величество политически отдалится от Ла Белле Франсе или вообще разорвет русско-французский союз, который в связи с враждебными действиями Франции к настоящему времени стал для России чистой обузой. Ведь речь в таком случае пойдет не просто об отсутствии возможности отвоевания у Германской империи Эльзаса и Лотарингии, но и о самом существовании Франции, которая может не пережить еще одного визита в Париж германских гренадер.
– Погоди, Павел Павлович, – сказала Ольга, потирая лоб, – я тут чего-то не понимаю. А кто вообще сказал французам, что русские солдаты будут воевать с германцами за Эльзас и Лотарингию, ведь подписанный между Россией и Францией договор носит чисто оборонительное свойство?
– А вот тут, – сказал я, – надо посмотреть на вторую часть головоломки. Денежная система золотого стандарта имени господина Витте, установившаяся в России с тысяча восемьсот девяносто седьмого года, для своего наполнения требовала огромного количества золота. Собственной золотодобычи на обеспечение оборота покрытой золотом валюты в России категорически не хватает. По этой причине она вынуждена постоянно брать стабилизационные кредиты в звонкой монете. Даже деньги, выпущенные для покрытия потребностей внутреннего оборота, должны иметь стопроцентное золотое обеспечение. То есть по факту они должны обеспечиваться дважды: один раз выпущенными в России товарами, другой раз золотом, взятым займы у французских банкиров. Так, например, с начала обращения количество золота в обороте увеличилось в двадцать раз, а количество бумажных денег сократилось вдвое; но, несмотря на столь значительный рост золотых денег, они составляют лишь пятую часть всей денежной массы, которая также сжалась почти в два раза и сейчас вся вместе – и золотая монета, и обеспеченные золотом кредитные билеты – составляет сумму в десять рублей на одного вашего подданного. А если учесть, что у кого-то этих рублей на сумму с шестью нулями, то на долю двух третей населения приходится меньше чем по рублю на человека. Эта же ситуация делает невозможным сколь-нибудь серьезный экономический рост, основанный на платежеспособном спросе. Ведь мало выпустить дополнительный объем товаров для удовлетворения потребностей населения, этот дополнительный товар должен быть обеспечен вброшенной в оборот денежной массой, которая в свою очередь должна быть покрыта золотом. В противном случае вместо экономического роста мы будем иметь только кризис перепроизводства и разорение производителей.
– Ну и что из этого следует? – нетерпеливо спросила Ольга. – Я пока не понимаю, как золотой рубль может влиять на наши отношения с Францией и ее предполагаемую войну с Германией за возвращение Эльзаса и Лотарингии…
– Все очень просто, Ольга, – сказал я, – по схеме милейшего господина Витте – чем больше будет расти российская экономика, тем больше обеспечительных кредитов в звонкой монете мы должны будем брать у французских банкиров. Именно французские Ротшильды готовы давать нам в долг эти деньги под союзный договор. И вернуть эти кредиты мы не сможем, поскольку полученное по ним золото либо непосредственно вовлечено в оборот в виде монет, либо служит обеспечением бумажных кредитных билетов. Кроме того, имеется такое явление, как отток капитала, во-первых – за счет импорта европейских товаров, во-вторых – за счет репатриации прибыли зарубежными владельцами российских предприятий. Да-да, экономический рост за счет иностранных инвестиций имеет оборотную сторону в виде последующего вывоза заработанных денег на родину инвестора. Да и стабилизационные кредиты у Ротшильдов тоже не беспроцентные, по ним также надо платить. И вот в недалеком будущем наступит момент, когда окажется, что Россия не в состоянии обслуживать взятую на себя долговую нагрузку. И тогда нам придется расплачиваться чем-то большим, чем банальный желтый металл… Как несостоятельным должникам, на придется платить политическими уступками, льготным таможенным режимом для французских товаров (что убьет зачатки нашей собственной промышленности), а еще кровью русских солдат, пролитой на совсем ненужной для России войне. А потом, черт его знает – может, и тем, на что французы с англичанами разводили милейшего главноуговаривающего господина Керенского – то есть разделом России на зоны влияния: юг – французам, север – англичанам, Дальний Восток и Сибирь – американцам и японцам. Возможно, сам Витте и не заглядывал так далеко, но его европейские партнеры наверняка просчитывают и столь отдаленные перспективы, а иначе бы они не дали России такого количества в принципе невозвратных кредитов.
После того как я замолчал, ошарашенная Ольга еще пару минут сидела молча, переваривая полученную информацию, потом громко и с расстановкой выговорила несколько матерных фраз, в превосходных степенях характеризующих как личность господина Витте, так и его морально-деловые качества. При этом она использовала обсценную лексику сразу двух эпох, из-за чего Дарья пустила в кулак смешок, а я покраснел самым неприкрытым образом.
Впрочем, выругавшись, императрица, как ни в чем не бывало, тряхнула головой и сказала, что, мол, между своими можно. Зато теперь, высказав то, что накипело на душе, она вполне может обсуждать ситуацию в деловом ключе. И тут есть два вопроса. Во-первых – как исправлять ситуацию с золотым стандартом? Во-вторых – что говорить французскому послу?
– Главное, – сказал я, – никакой паники и резких движений. По первому вопросу нам необходим такой министр финансов, который, особо это не афишируя, доведет денежную массу до такого объема, что золото будет обеспечивать только внешнеторговый оборот, а деньги, необходимые для внутренней торговли, будут обеспечены товарами, выпускаемыми в России для внутреннего употребления. Если два мужика на рынке меняют воз картошки на откормленного хряка, то парижским банкирам до этой бартерной торговой операции нет никакого дела. Так почему они должны иметь какой-то интерес с того, когда эти же мужики за свои российские рубли покупают жатку или сеялку, произведенные на российском заводе, российскими рабочими из российского металла? Или, например, российского ситца женам на платья, детишкам на рубашки. Только в этом вопросе важно не перебрать и сгоряча, покрывая государственные нужды, не выпустить денег больше чем надо, потому что тогда вместо сжатия денежной массы и кризиса неплатежей начнется галопирующая инфляция, что тоже скверно. Также в соответствии с интересами российской экономики необходимо отрегулировать импортные и экспортные таможенные тарифы. Например, на ввоз машин и оборудования, не производящихся в Российской Империи, тариф стоит обнулить, а на товары, конкурирующие с продукцией российских предприятий, напротив, поднять до запретительного. То же и с экспортом. То, чего у нас излишек, можно разрешать вывозить по фискальному тарифу, а на то, чего самим не хватает, пошлину поднять так, чтобы никто и ничего вывезти не смог. Одним словом, нужен человек, который четко понимает, сколько вешать в граммах и какой объем эмиссии и тарифы мы сможем себе позволить в каждый конкретный момент времени. Кстати, в наши времена этот прием вброса в экономику дополнительных денег с целью оживления деловой активности очень распространен и называется «количественное смягчение». Вопрос только в грамотном распределении вброшенных сумм, а иначе они быстро осядут в банковских хранилищах и снова выпадут из оборота. Тот же самый рецепт я хочу предложить и в разговоре с французским послом. Никаких резких движений и угроз разорвать союзный договор. Эту возможность мы должны иметь в виду, да и только. Следует попенять месье Бомпару на недружественные шаги его правительства в отношении Российской империи, в том числе и на их шашни с англичанами, и попросить, убедительных разъяснений столь недружественной политики. Сейчас мы французам нужны больше, чем они нам. Пусть побегают. А не то мы спустим с цепи злого добермана Вильгельма, и он их покусает. Быть может, даже насмерть.
– Очень хорошо, Павел Павлович, – сказала Ольга, вставая с кресла, – так и поступим. Министра финансов вы приищите сами, или будем обращаться к мерзавцу Витте?
– Думаю, – ответил я, – что надо обратиться к Менделееву. Нам нужен человек с математическим образованием, способный точно рассчитать необходимый объем денежной массы. И в то же время он должен быть далек от политики, а также не подвержен влиянию сильных мира сего. Этот человек должен исполнять только нашу с вами программу, и больше ничью. Вот тогда у нас есть шанс сделать все, что необходимо, да еще и в самые сжатые сроки.
– Отлично, – сказала Ольга, – думаю, что лучше всего пригласить Дмитрия Ивановича на чай, и в неформальной, как у вас говорят, обстановке обговорить с ним все вопросы. Надеюсь, вы тоже не откажетесь присутствовать. И на встречу с французским послом мы также пойдем вместе. Ваша помощь мне будет нелишней. Вы будете говорить, а я поддержу вас своим официальным видом. А сейчас извините, мне надо идти. Меня ждет Александр Владимирович, который наконец-то смог найти немного времени, чтобы уделить его своей несчастной невесте.
[2 (15) августа 1904 года, полдень. Санкт-Петербург, Зимний дворец, Готическая библиотека Посол Третьей Республики (Франции) в Российской Империи месье Луи Морис Бомпар.]
Я долго добивался аудиенции у старого царя Николая, а затем и у новой императрицы Ольги, и все никак не мог добиться, так что уже пришел в отчаяние. События в мире грохотали ревущим горным потоком, меняющим мировой политический ландшафт; с набережной Ка де Орсе министр иностранных дел Теофиль Делькассе бомбардировал меня телеграммами, требующими неотложного решения важнейших вопросов, а русский царь был недоступен в своем Царском селе, как Диоген, спрятавшийся в бочку[4]. Причиной такой добровольной самоизоляции называли траурные настроения, охватившие русского монарха после смерти супруги. Хотя я подозреваю, что дело в обиде Николая на действия нашего правительства, ради примирения с Великобританией отказавшегося поддержать Россию в ее войне с Японией. Прямо мне этого не говорили, но я же видел, что с того дня как было заявлено, что наш союзный договор распространяется только на Европу, отношение в местном обществе к Третьей Республике стали более прохладными.
И продолжался этот императорский траур почти четыре месяца, пока в начале августа не случился неожиданный государственный переворот и на трон при поддержке военных моряков не взошла младшая сестра предыдущего царя принцесса Ольга. Дела там крутились такие запутанные, кто против кого строил козни, что, как говорят русские, без полштофа[5] не разобраться. А это значит, что нормальному европейцу этого никогда не понять, потому что после такого количества русской водки любой из нас упадет без сознания и будет видеть пьяные сны, в то время как русские только-только начинают по-настоящему входить во вкус своей обычной безудержной пьянки. Впрочем, старого царя Николая, вопреки тому, как это обычно водится у дикарей, не убили, а оставили жить с семьей частной жизнью. Правда, сразу после мятежа русская секретная служба арестовала множество дружественных Франции сановников (в том числе и бывшего министра финансов Витте), и это не могло не вызвать у меня тревоги. Впрочем, новая императрица поначалу тоже была недоступна (наверное, устраивалась на новом месте), а потом, так же неожиданно, как случился переворот, меня пригласили в Зимний дворец на аудиенцию, хотя я уже перестал на нее напрашиваться.
Приглашение пришло заблаговременно, так что у меня было чуть больше суток. И вот я уже в Зимнем дворце, на том самом месте, где русская императрица назначила мне аудиенцию. Интересное дело – это оказалась Готическая библиотека, скопление редких книг, обитель тишины и покоя. Не лучшее место для дипломатического приема, но я подумал, что буду стараться выполнить порученное мне задание и любой ценой удержать русско-французский договор от распада.
И снова меня ждали неожиданности. Во-первых – императрица пришла не одна, а со своим государственным канцлером мсье Одинцовым. Этот самый Одинцов, глава пришельцев из иных времен, держался с императрицей независимо и в то же время уважительно. Во-вторых – не дав мне раскрыть рта, мадмуазель Ольга предъявила Франции претензии – по поводу, как она выразилась, нашего закулисного марьяжа с британцами; а отказ в помощи России в войне с Японской империей возмутил ее до глубины души. По крайней мере, она так сказала. И хоть тон ее речи был не очень свиреп и его можно было счесть дружеской выволочкой, но все же последствия, какие ждали ля Бель Франс в случае неблагоприятного исхода событий, могли быть тяжелыми. Эту юную девушку, туго затянутую в черное траурное платье, можно было счесть воплощенной во плоти богиней судьбы, которая грозилась обрезать жизненную нить Французской Республики.
– Милейший месье Бомпар, – говорила она, – после всего, что произошло, после отказа французского государства поддержать подвергшуюся вероломному нападению Российскую империю, после ваших тайных переговоров с враждебным нам британским правительством мы более не можем рассчитывать на французскую дружбу, ибо опасаемся еще одного предательства. Мое величество находится в сомнении, стоит ли русским солдатам вступаться за такого союзника, который и сам по-настоящему не ценит этот союз. Вы сейчас можете уверять нас в своей верности союзным обязательствам и в добром отношении к русскому народу, а завтра в вашей Франции пройдут выборы, сменится правительство, и на вашем месте и месте вашего министра окажутся совсем другие люди. И эти люди будут отрицать ваши слова. Мы уже знаем, что они скажут: что этот договор Франции не выгоден и что Россия должна сделать Франции дополнительные политические уступки, чтобы иметь честь защищать колыбель европейской цивилизации от диких, но технизированных германских варваров… Скажите, зачем нам нужна такая головная боль, за которую нас же подвергают упрекам и бомбардируют требованиями изменить наше законодательство?
Такая перспектива, честно сказать, приводила меня в ужас. В молодые годы я пережил одну франко-прусскую войну, после которой наша семья была вынуждена уехать из родного Меца, – и воочию представил повторение того кошмара, тем более что сейчас соотношение сил изменилось и стало еще более неблагоприятным для французской республики. Проклятые боши размножаются как кролики, и такими же темпами растет их промышленность, поэтому без открытия второго фронта на восточных рубежах Германской империи французская армия не продержится и двух недель. Второго Седана милая Франция не перенесет.
В этот момент канцлер Одинцов, до того молча с мрачным видом стоявший возле императрицы, сказал своей государыне несколько слов на русском языке, которого я, к сожалению, не знаю.
– И вот еще что, месье Бомпар, – немного помолчав, добавила императрица. – Сложилась такая ситуация, что для исполнения своих союзных обязательств наше правительство вынуждено брать во Франции кредиты, чтобы на эти деньги строить железные дороги, избыточные для обычных хозяйственных потребностей Российской империи… Эти дороги, рельсы на которых в мирное время от безделья покрывают ржой, необходимы только для того, чтобы в решающий момент протолкнуть к нашей западной границе большие массы русских войск, которые должны будут спасти Париж от нашествия германских гренадер. Получается, что, исполняя союзный договор с Французской Республикой, мы еще оказываемся должны ей изрядные деньги, и мзду за эти долги с нас могут потребовать сторицей. Например, ваше правительство может пожелать дополнительных политических уступок с нашей стороны, смягчения ввозных тарифов по отношению к французским товарам, или, наоборот, ужесточения позиции по отношению к германскому капиталу, который кое-где у нас пока еще присутствует… Мой рыцарственный брат мог не замечать таких низменных мелочей, но у меня, женщины приземленной и практичной, крайне негативное отношение к подобным финансовым выкрутасам. Хотите нужных вам железных дорог – тогда платите за них сами, а то у меня государство небогатое и после прошедшей войны мы и сами едва сводим концы с концами. А если не хотите платить, то и нам такой договор без особой надобности.
Я попробовал было возразить и сказать, что и в русских интересах не дать германцам хозяйничать в Европе как у себя дома, и вообще, что умные люди всегда могут договориться ко взаимному удовольствию…
– За удовольствиями, – отрезала императрица, – это вам не ко мне, а в «Веселый дом». Я же понимаю только то, что выгодно или невыгодно вверенному мне Господом российскому государству. Несмотря на то, что отчасти вы правы и Германскую Империю тоже надо сдерживать, есть мнение, что слишком тесная дружба с Францией дороговато нам обходится, в силу чего необходимо понизить градус нашего союза. Внезапного нашествия германских гренадер на Париж не будет – и это все, что мы можем обещать Французской Республике. В остальном Российская империя считает свои руки развязанными, а если вы попробуете довести до реализации запланированное вашим правительством «сердечное» соглашение с Британией, то вы лишитесь и этих последних остатков защиты. Идите и передайте это вашему правительству. А еще скажите, что благодаря их неуклюжим маневрам дружбу России им теперь придется завоевывать заново. А я вам не маман, ушибленная датско-прусской войной: на голые антигерманские лозунги не поддамся, мне нужны аргументы повесомее…
И вот на этой оптимистической ноте я был отпущен из Зимнего дворца восвояси. Голова моя гудела и мысли в ней метались испуганными птицами. Если русская императрица осуществит все свои угрозы, то нас, французов, ждет просто ужасное будущее. При этом у меня сложилось впечатление, что, хоть канцлер Одинцов не промолвил за все время и нескольких слов, эта встреча была срежиссирована им заранее, а императрица Ольга только исполнила свою арию как хорошая оперная прима. Мне кажется, что на самом деле именно этот опасный человек ведет Россию по новому курсу, и если мы не найдем с ним общий язык и не заключим соглашение, то это грозит нашей милой Франции очередной военной катастрофой…
[2 августа 1904 года, 17:05. Санкт-Петербург. Зимний дворец. Малахитовая гостиная Профессор Санкт-Петербургского университета Дмитрий Иванович Менделеев.]
Приглашение на чай в Зимний дворец не то что было особо невероятным, но тем не менее удивляло. Прежде Дмитрий Иванович был обычно вхож только во дворец Великого князя Александра Михайловича на Миллионной, где хозяйкой являлась меценатствующая старшая сестра нынешней императрицы Великая княгиня Ксения. Что касается Ольги, то прежде она не проявляла интереса к науке и ученым. Тихая некрасивая девочка, неудачно пытавшаяся устроить свою личную жизнь и оттого сильно страдавшая. Чтобы забыться, она уехала вместе с братом и мужем сестры на японскую войну, и там каким-то образом оборотилась в свою полную противоположность.
Благодаря вхожести во дворец на Миллионной Дмитрий Иванович в общих чертах из первых рук (то есть из писем и телеграмм Великого князя Александра Михайловича) был осведомлен о ходе той войны. Но он и представить себе не мог, что однажды настанет день, когда скромная девочка Ольга примет корону из рук своего уставшего и разочаровавшегося брата и взойдет на престол Российской империи, на котором в последний раз лица женского пола сидели более века назад.
Опять же, будучи вхож в дом на Миллионной, Дмитрий Иванович свел знакомство и со своими коллегами из будущего: господином Тимохиным и господином Шкловским. Да, далеко шагнула наука за сотню лет, и как сказал господин Тимохин, его любимая «молекулярная механика» в начале двадцать первого века передала свои полномочия совсем другим дисциплинам и имеет лишь историческое значение. Одно лишь знание о строении ядра атома, о протонах, нейтронах и вращающихся вокруг ядра электронах, в том числе и о том, что у некоторых элементов ядра делятся, а у других сливаются, стоило того, чтобы снова и снова приходить в дом на Миллионной.
Познакомился Дмитрий Иванович и с госпожой Лисовой, в Санкт-Петербургских и вообще российских деловых кругах уже заработавшей себе прозвище Рыжая Акула. Хотя она давно уже не рыжая, а пепельно-русая, прозвище прилипло так, что не отдерешь. От смертельной деловой хватки этой моложавой и вроде бы миловидной дамочки горючими слезами плачут матерые купцы-старообрядцы; а уж казалось, больших выжиг в природе и не бывает. И вроде бы она – коллега господина Тимохина, в одном с ним научном звании и при одной специализации, а разница как между небом и землей. Господин Тимохин – непрактичный, как все ученые, рассеянный и ошарашенный свалившимися на него переменами. «Я теперь, Дмитрий Иванович, – говорил он мне, – только чистый теоретик, могу лишь витийствовать в эмпиреях, не имея ни малейшей возможности доказать свою правоту экспериментальным путем-с…». И прямо противоположный взгляд госпожи Лисовой: что если сейчас взяться за развитие науки, в том числе и с материальной стороны, то уже нынешние студенты, став маститыми мэтрами, смогут и повторить, и воспроизвести, и пойти дальше. Только вот другой вопрос: стоит ли играть с такими силами, которые рвут границы между мирами с легкостью, будто кисейные занавески…
Но одно дело ученые, доктора и кандидаты (даже такие специфические, как госпожа Лисовая), и совсем другое – люди, которые вращаются вокруг императоров и императриц. Не то чтобы Дмитрий Иванович робел перед сильными мира сего… но за руководством пришельцев из будущего закрепилась репутация жестоких ретроградов-консерваторов, напрочь не воспринимающих никаких либеральных идей. После рассказов своих коллег из будущего профессор Менделеев воспринимал Одинцова как некую инкарнацию Держиморды, смесь Малюты Скуратова и князя-кесаря Ромодановского, с небольшой примесью немного прогрессивного князя Потемкина-Таврического. В силу возраста и некоторой интеллигентской политической наивности профессор почитал либерализм единственным прогрессивным учением, а его противников, как небезызвестного господина Победоносцева – чуть ли не исчадиями ада. Где же ему знать, что консерватор консерватору рознь: один консервирует все подряд – и хорошее и плохое, а другой охраняет от разрушения только скрепы и основы общества…
Собственно, визит в Зимний дворец оказался не столь страшен. Едва профессор предъявил часовому на входе пропуск-приглашение, как появился дежурный лакей, который со всей возможной вежливостью сопроводил Дмитрия Ивановича в Малахитовую гостиную. На тот момент там находились только жених императрицы полковник морской пехоты Новиков и ее брат Великий князь Михаил Александрович. И как раз сейчас эти два достойных друг друга героя сражения под Тюренченом оживленно обсуждали животрепещущий вопрос о том, как вернуть императорской гвардии звание самого боеспособного соединения русской армии. Впрочем, как только в гостиную вошел Менделеев, гвардия была забыта и все внимание присутствующих обратилось на светило русской науки. У Менделеева даже возникло ощущение, что его, по всем правилам военной науки, окружают, отрезая от возможности организованного отступления.
Впрочем, поскольку времени было без одной минуты пять, практически сразу в гостиной появилась императрица Ольга в сопровождении канцлера Империи господина Одинцова и своей первой статс-дамы, которую она называла Дарьей Михайловной. Все трое были одеты в черное, и их вид создавал у Менделеева впечатление некоей форменной одежды. Следом вошли двое слуг в красных русских рубахах с вышивкой и в скрипящих сапогах – они внесли огромный пышущий жаром самовар, который тут же водрузили на самую середину стола, уже накрытого для чаепития на шесть персон. Справившись с этим нелегким делом, лакеи степенно поклонились своей повелительнице и вышли вон, а вместо них в Малахитовую гостиную впорхнули три раскосые девушки и принялись с поклонами и улыбками рассаживать гостей и наливать им чай. Нетрудно было догадаться, что эту прислугу императрица привезла с собою с японской войны. Девушки были одеты ярко и необычно. Впрочем, если присмотреться, то ничего особо экзотического в корейском ханбоке не было. Сарафан и сарафан. Разница только в том, что русские девушки надевают кофточку под сарафан, а кореянки носят ее сверху. Самое главное, что руки у служанок ловкие и нежные, а чай – крепкий и ароматный. В конце концов, в ритуале русского чаепития главное – это общение, остальное же просто антураж.
С первой же минуты Менделеев понял, что главный человек, ради которого затеяно все мероприятие – это он. Императрица не стала тратить время на вступления и реверансы и, слегка отхлебнув чаю, сразу взяла быка за рога.
– Дмитрий Иванович, – сказала она, – человек вы разносторонних интересов и, помимо химии, разбираетесь во многих других вещах. Сейчас наше величество острее всего интересует экономическое развитие вверенной нам Богом державы, потому что, как нам кажется, в этом вопросе не все ладно…
– Да, Ваше Императорское Величество, – согласился Менделеев, – экономическими вопросами мне тоже доводилось заниматься… Я, знаете ли, сторонник развития в русском народе общинного и артельного духа, чтобы в каждом селе или деревне была своя фабрика, организованная на артельных началах, и чтобы летом мужики работали на полях, а зимой на своих фабриках. Богатство и капитал равно труду, опыту, бережливости, равно началу нравственному, а не чисто экономическому. Состояние без труда может быть нравственно, если только получено по наследству. Истинным капиталом является только та часть богатства, что обращена на производство, но не на спекуляцию и перепродажу. Богатство же, обращенное на ростовщичество и спекуляцию, является паразитирующим на производстве, и избежать его влияния можно путем развития в русском народе общинных начал, а также повсеместного распространения артелей и кооперативов.
– Павел Павлович, – спросила обеспокоенная императрица, оборачиваясь к канцлеру, – вы можете что-нибудь сказать по этому поводу? а то я ничего не поняла…
– Китайская модель, ваше Императорское Величество, – ответил Одинцов. – В конце двадцатого века в условиях, схожих с нынешними российскими реалиями, такая система способствовала скорейшей индустриализации до того бедной и крайне отсталой аграрной страны. Чего-чего, а артельного начала и кооперативного духа у китайского крестьянина в разы больше, чем у русского мужика. Правда, у этого пути развития есть несколько побочных эффектов. Во-первых – качество товаров, выпускаемых на таких деревенских мини-фабриках, обычно крайне низкое, так что реноме марки «Сделано в Китае» было надолго испорчено. Единственным положительным свойством китайских товаров считалась их крайняя дешевизна. Изделия для небогатых и непритязательных потребителей – в случае поломки их было проще выкинуть, чем ремонтировать. Во-вторых – такой дешевый и массовый товар должен иметь сбыт. При ограниченной емкости внутреннего рынка необходимо экспортировать готовые изделия за пределы богоспасаемого отечества. А раз единственным преимуществом таких товаров с невысоким качеством является их низкая цена, то стоит сделать вывод, что любой таможенный тариф – хоть экспортный в России, хоть импортный в стране назначения – убьет идею экспорта таких товаров напрочь. Качество их будет хуже местных, а цена из-за высоких тарифов – выше. Следовательно, экспортировать такое возможно в те страны, с которыми у России имеется таможенное соглашение о том, что данная группа товаров не облагается пошлинами. В ответ с нашей стороны не будут облагаться пошлинами какие-то товары их производства. В-третьих – не все отрасли подходят для такого типа хозяйствования. Так, например, в металлургии или тяжелом машиностроении мелкие артельные фабрики не произведут ничего, кроме порчи материала. Был в нашем прошлом эксперимент в том же Китае, когда их коммунистический вождь-император Мао-Цзедун бросил клич, что Китай по выплавке стали и чугуна должен догнать и перегнать Великобританию…
– И что, – с интересом спросил Великий князь Михаил, – перегнали?
– Разумеется, перегнали, – кивнул Одинцов, – настроили в каждом городском дворе и в каждой деревне по маленькой доменной печи – и перегнали. Но в итоге результат трудового энтузязизьма был печален: все выплавленное самодеятельными металлургами годилось только в брак и не могло быть использовано никаким способом. Это, Дмитрий Иванович, касается и вашей идеи свободного соревнования мелких и средних металлургических заводчиков с крупными, высказанными после вашей Уральской экспедиции пять лет назад. Плавка металла, как и некоторые другие виды производств, характеризуемых выпуском больших количеств однородного и единообразного товара, должны производиться исключительно на крупных предприятиях, имеющих самое лучшее, мощное и современное оборудование, а также подготовленный и опытный инженерно-технический и производственный персонал.
– Да уж, господин Одинцов, уели вы меня, уели! – мелко засмеялся Менделеев, – а говорили, что в экономических процессах совсем не разбираетесь…
– Ну не так уж совсем, Дмитрий Иванович, – усмехнулся Одинцов, – просто помню из школьного курса истории пару скользких мест, на которых может разбить себе нос неопытный реформатор. А в остальном мне с вами не тягаться, да и не моя это работа, в конце концов. Мое дело – найти подходящих специалистов на должности министра финансов и министра экономического развития, и объяснить им, какие приемы в моем прошлом (а их будущем) были успешными, какие не очень, а какие откровенно провальными. После этого я должен буду сдать дела с рук на руки найденным специалистам и снова переключиться исключительно на стратегические вопросы внутренней и внешней политики, при этом поглядывая на экономику и финансы одним глазом.
– А от меня вы что хотите, господин Одинцов? – проворчал Менделеев. – Стар я уже для министерских должностей, да и такого сильного желания заниматься финансовым делом не испытываю…
– А я вас в министры и не уговариваю, – кивнул Одинцов, – вы мне нужны как научный консультант, которому я передал бы всю начальную информацию, а также пожелания, в каком направлении должны развиваться наши промышленность и торговля, после чего мое дело – только контролировать, чтобы все развивалось в правильном направлении и с правильной скоростью. Помнится, Дмитрий Иванович, лет пятнадцать тому назад вы вместе с господином Витте участвовали в разработке таможенного тарифа?
– Да-с, – ответил Менделеев, – участвовал под руководством тогдашнего министра финансов господина Вышнеградского. Светлого ума был человек, да только жаль, съели его наши чинуши своими интригами самым бессовестным образом, и упомянутый вами господин Витте был среди них главным.
– Так вот, Дмитрий Иванович, – сказал Одинцов, – нам нужен новый Вышнеградский – то есть человек честный, умный, с математическим складом ума, под руководством которого мы не только смогли бы создать новый научно обоснованный импортно-экспортный тариф, но и сбалансировать зажатую золотым стандартом Витте финансовую систему, что сейчас задыхается от общего недостатка денег. Чтобы Россия развивалась с максимальной скоростью, необходимо вернуться к частичному золотому покрытию рубля. Та часть денежной массы, что участвует в импортно-экспортных операциях и репатриации иностранного капитала, должна быть обеспечена золотом. А та часть, что задействована исключительно во внутреннем обороте и служит для оплаты товаров или услуг, произведенных внутри России, из российского сырья и российскими рабочими, должна быть покрыта исключительно затраченным на внутреннее производство трудом. Все дело в том, что при запланированном нами росте экономики количество золота в подвалах госбанка не сможет расти с той же скоростью, с какой может расти товарная масса, а это будет грозить российской экономике кризисом неплатежей и всеобщим коллапсом. Впрочем, обратная картина, когда денег выпускается больше, чем под них имеется товаров, тоже грозит бедой, поскольку в этом случае начинается неудержимая инфляция. Не стоит забывать и про транспортные тарифы, разумно соединяющие места производства товаров и места их потребления. Вот это – первое, второе и третье, увязанное в единую систему и дополненное правильными законами о труде – и станет правильной финансово-экономической политикой, которая обеспечит максимальную скорость развития российской промышленности. При этом за тем, чтобы этой политике не чинилось никаких препятствий, буду следить как я лично, так и служба имперской безопасности, которая в бараний рог свернет любого интригана вне зависимости от его титула, подданства, а также общественного и служебного положения… Кстати, господин Витте за свои премногие грехи уже в Петропавловке, и вряд ли оттуда выйдет в обозримый период.
– Интересно, интересно, господин Одинцов… – сказал Менделеев, внимательно вглядываясь в своего собеседника, – между прочим, для создания такой объединенной системы необходимо организовать целое новое министерство, которое будет заниматься одними подсчетами…
– Если потребуется, – сказал Одинцов, – то мы, не моргнув глазом, вдобавок к министерству государственного контроля создадим и министерство государственного планирования и наполним эти названия новым содержанием. С вас, Дмитрий Иванович, как человека безусловно опытного и честного – кандидатуры будущих министров, с нас – их проверка и, если все нормально, то назначение на должность…
– Весьма неожиданное предложение, господин Одинцов… – пробормотал Менделеев, по ходу разговора не забывавший отхлебывать горячий ароматный напиток, – если можно, я бы хотел немного подумать, чтобы потом дать свои предложения в письменном виде…
– Разумеется, подумайте, Дмитрий Иванович, – вместо Одинцова ответила императрица Ольга, – спешка хороша только при ловле известных всем зловредных насекомых. А сейчас, если уж выдалась такая возможность, давайте насладимся отличным цейлонским чаем и высоким искусством императорских кондитеров.
Остаток чаепития прошел в ничего не значащей светской беседе. В конце концов, не каждый же день присутствующим, будь они хоть августейших достоинств, удается погонять чаи с самим профессором Менделеевым.
[3 августа 1904 года, 20:15. Царское Село, Александровский дворец Коммерческий директор АОЗТ «Белый Медведь» д.т.н. Лисовая Алла Викторовна.]
За эту неделю мы с Николаем сильно сблизились. Дело было даже не в том, что мы много разговаривали и обсуждали нашу будущую семейную жизнь. Скорее, мы учились быть рядом. Чувствовать настроение друг друга, читать по глазам, по жестам… Улавливать разные тонкости, которые прежде были неважны… Мы могли говорить о вещах, не относящихся к нам напрямую, но и это давало нам необходимую информацию друг о друге.
Николай уже чувствовал себя вполне здоровым. Но доктор Боткин все же не советовал ему раньше времени приниматься за дела, а рекомендовал больше отдыхать, так как организм после болезни был еще ослаблен. Ха-ха, в моем времени люди, которым нужно работать, чтобы зарабатывать, обычно плюют на подобные рекомендации… Едва почувствовав себя сносно, они мчатся на работу. Я и сама такая, но, к счастью, ЗДЕСЬ мне болеть еще не приходилось. Впрочем, не знаю, как бы я повела себя теперь, случись мне простудиться. Некоторые обстоятельства и планы способствуют тому, чтобы я внимательней относилась к своему здоровью…
Николай же слушал советы врача, как если бы это были Божьи откровения, и следовал им неукоснительно. Разумеется, я была этому рада. Какая-то своеобразная прелесть была в том, что мой любимый мужчина болеет, а я за ним ухаживаю… Что тот, кто совсем недавно, венценосный и блистательный, стоял во главе Российской Империи – теперь, кроткий и тихий, находится в моем полном распоряжении… причем на правах моего жениха.
Кроме того, что за эту неделю мы еще сильней сблизились душевно, между нам стала проскакивать отчетливая искра эротизма… Раньше я предпочитала не думать о наших отношениях в таком ключе. Я старалась, чтоб мои мысли, так же, как и поведение, были вполне благопристойны. То, что я ощущала влечение, было для меня вполне достаточно. Но сейчас… Сейчас мои мысли частенько заходили весьма далеко… так далеко, что мне приходилось краснеть и одергивать себя. Но, черт возьми, есть что-то безгранично эротичное в том, что твой мужчина лежит в постели – все еще бледный, чуть осунувшийся, и в глазах его поволока легкой грусти…
Надо сказать, что у нас с Николаем до сих пор не было интимной близости. Он относился ко мне слишком трепетно, словно боялся оскорбить малейшим неловким движением. Конечно, из наших бесед ему было известно, что в моем мире нравы не блюдутся столь строго, как ЗДЕСЬ. Тем не менее он не делал никаких «неприличных» поползновений в мою сторону. И я в душе невольно восхищалась этим мужчиной – ведь было вполне очевидно, что он испытывает ко мне сильнейшую страсть… И он умел это показать – но так, что внешне все было благопристойно и невинно. Взгляд, мимолетное прикосновение, рассказанная к месту притча или процитированное высказывание… Иногда в ход шли даже стихи. О, он обольщал меня со всем искусством ловеласа! Не торопясь и, очевидно, смакуя каждый момент нашего общения… Но при этом он не был ловеласом. Может быть, он был им со своими прошлыми «увлечениями», но не со мной. Я знала это точно… Со мной он был как раз тем, кем и желал быть – романтическим рыцарем… Именно так я и его и воспринимала – вероятно, это и была его истинная суть. Ему было интересно покорять меня – вот так, открывая какие-то неизвестные грани своей души, поражая и влюбляя в себя еще сильней…
И вот оттого, что он за мной так тонко и изящно ухаживал, не торопя события и не делая никаких откровенных намеков, мне начинал казаться убогим образ мыслей моих современников там, в двадцать первом веке – когда понятие «любовь» извратилось и обеднело. Сама себе я казалась словно бы обворованной – там, в моем мире; и вот теперь, здесь, все утраченное возвращалось ко мне. Я начинала понимать, что все должно было быть совсем не так, как я привыкла… И новое, неизведанное проникало вглубь моей души, как луч солнца проникает в темную комнату – и приступы невыразимой нежности заставляли замирать мое сердце, и отворачиваться вдруг, и впадать в задумчивость… И я ждала, с трепетной радостью ждала того момента, когда можно будет открыться полностью и дать свободу своим чувствам. Я полюбила впервые… Только сейчас я поняла, как можно узнать настоящую любовь, чтобы не спутать ее ни с чем другим: ты словно идешь по воздуху и смотришь на действительность с некоторой высоты. Все как-то легко и ясно, и в то же время ново и заманчиво… И при этом ты уверена и внутренне спокойна. И не надо притворяться, играть чужую роль; нужно лишь довериться судьбе и той силе, что поддерживает тебя на весу…
Николай сегодня был более оживлен, чем обычно. Он много шутил, и в глазах его горел молодой задорный огонек. Но иногда взгляд его подергивался поволокой; он замолкал и смотрел на меня так, что внутри меня словно бы что-то загоралось. И тогда я принималась смущенно покашливать и нарочито веселым голосом говорить какие-то ничего не значащие слова – все это были призвано скрыть мое волнение. А волнение это возникало оттого, что я вдруг отчетливо поняла: ЭТО произойдет сегодня.
Я хлопотала, заваривала чай, наводила порядок… который, впрочем, и без того всегда сохранялся в этой комнате усилиями прислуги, что приходила в дневное время. И от того, что я перекладывала книги с одной полки на другую, слегка сдвигала шторы или меняла местами предметы на прикроватном столике, в комнате ничего не менялось… Но эти действия помогали мне обуздать свою нервозность.
Отпылал за окнами закат. Над горизонтом растянулась алая полоска, которая медленно меркла. Я отошла от окна и присела на краешек кровати. Протянула руку, чтобы зажечь светильник.
– Не надо… – остановил меня Николай, прикоснувшись к моей руке. – Позвольте мне насладиться цветом закатного неба, Алла…
Голос его был глух. В полумраке поблескивали его глаза, в которых отражалась вечерняя зарница.
– Восхитительное зрелище, не правда ли… – едва слышно произнес он.
– Да… – так же тихо ответила я.
Его рука легла на мою руку. От нее исходило тепло.
Воцарилось молчание; несколько напряженное, так как оба мы знали, что сегодня должно произойти, оба желали этого, но не представляли, как перейти последнюю грань.
– Можно, я прилягу с вами рядышком, Николай Александрович? – шепотом спросила я.
Он подвинулся и я устроилась под его боком. Сладко было лежать, чувствуя его своим телом. Это были мгновения, когда тела наши привыкали к близости друг друга. Этот человек рядом был родным и бесконечно дорогим мне…
Медленно гасла полоса над горизонтом, небо темнело, за окном сгущалась вечерняя мгла. И мы наслаждались этим мгновением, зная, что больше оно уже никогда не повторится…
– А знаете, Алла Викторовна… – тихо произнес он; при этом его губы коснулись моего уха, – а ведь я отрекся только от престола Российской Империи. А вот корона Великого княжества Финляндского все же ненароком осталась на моей голове. Честное слово, это получилось не специально… Температура, когда я подписывал ту бумагу, у меня была под сорок, и я не проверил текст Манифеста, который мне дали на подпись. Уж очень мне тогда было плохо. Так вот: Великого княжества Финляндского там не оказалось – и теперь, наверное, будет уже поздно что-нибудь менять. Разумеется, я принесу сестрице Ольге положенную в таких случаях вассальную присягу и буду до конца жизни хранить ей верность, но все равно теперь я все же могу предложить вам разделить со мной если не полцарства, то хотя бы кое-что…
Эта новость, услышанная в такой интимный момент, заставила меня замереть на несколько мгновений. Я пыталась вникнуть в сказанное, а вникнув, вдруг осознала, что для меня абсолютно неважно, какое «приданое» у моего жениха. Но его маленький «сюрприз» был, безусловно, приятен. Честно сказать, ничего подобного я не ожидала. Впрочем, все это еще требовало отдельного осмысления, но этим я займусь гораздо, гораздо позже…
– Что ж, я буду доброй королевой для своих подданных, если они сами будут ко мне добры; а если нет, то их можно только пожалеть… Не зря же меня прозвали Рыжею Акулой, – ответила я, и мы оба тихонько рассмеялись.
– Но вы, Алла Викторовна, теперь совсем не рыжая, – тихо сказал мне Николай, – впрочем, для меня это не имеет никакого значения.
А потом я ощутила поцелуй на своем плече… Я обвила руками его шею и стала целовать. Не нужно было больше никаких слов и объяснений. Мы унеслись в благословенную страну, где нет ни времени, ни мыслей, ни бренных забот… Мы отдавались своей любви – неистово и страстно, и нам не было никакого дела до всего остального…
[4 августа 1904 года, 14:15. Санкт-Петербург, Зимний дворец, кабинет Канцлера Российской Империи Предприниматель, меценат и благотворитель, сочувствующий большевикам, потомственный почетный гражданин, мануфактур-советник[6] Савва Тимофеевич Морозов.]
Правительственная телеграмма с надпечаткой «Мануфактур-советнику С.Т. Морозову лично в руки», доставленная в особняк на Спиридоновке, разделила жизнь семьи Саввы Морозова на «до» и «после». С треском разорвав заклейку, владелец одного из самых крупных состояний в Империи, а по совместительству театральный меценат и спонсор партии большевиков, раскрыл сложенную пополам картонку – и понял, почему почтовый служащий, доставивший это послание, едва отдав адресату телеграмму, шарахнулся от его дома как от зачумленного. Текст, напечатанный на бумажной ленте неровным шрифтом аппарата Бодо, был до неприличия короток: «Срочно приезжайте, надо поговорить. Телеграмму предъявите в Зимнем как пропуск. П.П. Одинцов.»
Положив телеграмму на столик, Савва задумался. Какое дело, точнее какой разговор, мог появиться у господина Одинцова к купцу и промышленнику старообрядческого вероисповедания? Кто же не знает канцлера Российской империи, которого некоторые (в том числе и начетчики[7] старообрядцев) называли воплощенным Антихристом, зато другие почитали чуть ли не воплощением апостола Петра. Еще полгода назад о Павле Павловиче Одинцове и других его товарищах не знал никто, а сейчас, пожалуй, его имя известно всем. Правая рука новой государыни, глава правительства, жестокий государственник и фанатик национальных интересов. И такой человек пишет «надо поговорить»… Не то чтобы Савва Морозов чего-то боялся. Нет, не боялся. Чего ему бояться? Но опаска и непонимание истинного смысла этого послания имелись. Но также было и понимание того, что пожелай господин Одинцов причинить вред Савве Морозову и его семье – в особняк на Спиридоновке уже врывалась бы штурмовая группа СИБ… Нет, тут что-то другое. Он нужен этому Одинцову, причем нужен срочно и по важному делу, потому что иначе все было бы устроено совсем не так…
Поэтому, решил Савва, ехать надо непременно. Сначала следует выслушать, что ему будет предлагать этот представитель Антихриста, а уж потом думать, соглашаться на эти предложения или нет.
Нараспев, в голос, как по покойнику, зарыдала супруга Саввы Тимофеевича, Зинаида Григорьевна Морозова, в девичестве Зимина, тоже происходящая из купеческой старообрядческой семьи. А как же не рыдать? Супруг-то, считай, лезет прямо в глотку рыкающего льва и не желает слушать доводов разума, то есть собственной жены, которая ему дурного не присоветует.
– Цыц, муха! – рявкнул на супружницу Савва. – Наслушалась от теток глупостей про Антихриста! Вот увидишь, ничего плохого этот Одинцов мне не сделает. Наоборот, чует мое сердце, что для нашей семьи из этого приглашения может еще проистечь много хорошего. К императорскому двору попадешь, дура!
Сказал – как отрезал. И, собравшись, уехал в личном экипаже на Николаевский вокзал. А Зинаида Григорьевна осталась. Дурой в свои тридцать шесть лет она не была, поэтому, как только муж вышел из дому, перестала голосить. Ибо незачем. И останавливать всерьез супруга она не собиралась. Показала, как за него переживает – и ладно. Слишком большой он человек и слишком сильно уважаем в российском купечестве, чтобы хоть кто-нибудь мог причинить ему зло без особой нужды. Даже такой непонятный человек как правая рука новой императрицы, канцлер империи Павел Одинцов.
А еще Зинаида Григорьевна невероятно тщеславна и избалована, поэтому быть представленной к императорскому двору – мечта всей ее жизни. Ей нравится «выходить в свет», участвовать в пышных балах, приемах, концертах и театральных премьерах. Причём желание госпожи Морозовой во всем быть первой уже не раз ставило её мужа в неловкое положение. Так, восемь лет назад, во время Нижегородской Всероссийской выставки, которую посетили император Николай с супругой, шлейф Зинаиды Григорьевны оказался длиннее, чем у царствующей императрицы, что являлось серьезным нарушением этикета. Ей хотелось привлекать к себе всеобщее внимание и, чтобы хоть как-то достичь своей цели, супруга Саввы Морозова всей душой отдается общественной деятельности, устраивая благотворительные концерты, приёмы, вербные базары, участвуя в деятельности различных благотворительных комитетов. И совершенно непонятно, что эта женщина будет делать, если правящая монархиня вместо пышной роскоши и блеска начнет подавать подданным примеры суровой простоты и аскетизма, пусть даже не как монашка, а как предводительница военного отряда, в который в ближайшем будущем должна обратиться вся Российская Империя. Впрочем, это уже совсем другая история…
Благополучно добраться к поезду на Николаевском вокзале еще не значит, что удастся спокойно уехать. На перроне собрался целый комитет провожающих, которых добрый почтмейстер оповестил о полученной Саввой Морозовым телеграмме. Тут и представители купеческого сословия, и театральные деятели, художники, писатели и артисты, для которых Савва Морозов тоже был не чужим человеком; а также некоторые московские аристократы, вхожие в салон его супруги Зинаиды, которых писатель Чехов советовал гнать палкой[8]. И лица у всех при этом такие сочувственные-сочувственные, что дальше некуда. Мол, идет Савва Тимофеевич – то ли на Голгофу, то ли в пещь огненную; так что вряд ли мы его когда-нибудь увидим.
Впрочем, наш герой не стал говорить никаких прощальных речей, просто плюнул на чисто выметенный перрон, выругался тихим незлым словом и залез в свой мягкий вагон, где у него было выкуплено целое купе, ибо господин Морозов не любил ездить с попутчиками. Обрыдло ему все это до самых печенок, а больше всего надоели представители своего купеческого сословия, жадные и алчные будто волки, да и о прочих представителях так называемой «чистой публики» тоже слова доброго сказать нельзя было. Хорош был лишь народ; но тот терпеливо тянул свою лямку и, как это сказано у Пушкина, безмолвствовал. Савва и хотел бы помочь простым людям, да только не знал чем. Ведь благотворительность – это не помощь, а подачка. Взятка, данная для того, чтобы перед Богом и людьми замазать природный грех ненасытной алчности и лжи. Со своими работниками он был честен и справедлив, но в общей массе они только капля в море. Именно поэтому Савва спонсировал большевиков, давал деньги на издание газеты «Искра», а в минуты общих гонений укрывал у себя то Красина, то Баумана.
Впрочем, никто из «провожающих» за Саввой Морозовым в вагон не полез; а вскоре гугукнул паровоз, поезд-экспресс тронулся и отправился в путешествие до Северной Пальмиры. В начале двадцатого века это почти сутки пути… Так они прошли – под стук колес, раскачивание вагона и гудки паровоза. И без каких-либо особенных приключений. На Николаевском вокзале Санкт-Петербурга, куда поезд прибыл утром, Савва Морозов взял лихача, загрузил в него свой багаж, и приказал ехать в отель «Европа», расположенный минутах в двадцати неспешной прогулки от Зимнего дворца. Там Савва привел себя в порядок, переоделся, и при полном параде пешком направился в сторону Дворцовой площади, подсознательно стараясь отдалить предстоящую встречу с канцлером Одинцовым.
Но все когда-нибудь кончается; и вот он уже стоит у бокового входа Зимнего Дворца и показывает часовому в непривычной полуморской-полуармейской форме правительственную телеграмму с приглашением… Солдат снимает трубку висящего здесь же, на посту, телефона и докладывает кому-то о мануфактур-советнике Морозове, явившемся по приглашению господина канцлера. Минуту спустя прибывает дежурный слуга – он и сопровождает Савву Морозова по длинным коридорам и переходам Зимнего дворца к двери, за которой находится рабочий кабинет канцлера Империи. Распахнув дверь, слуга громко рапортует: «Ваше высокопревосходительство, господин государственный канцлер, мануфактур-советник Савва Морозов прибыл по вашему приказанию!», после чего делает шаг в сторону, давая гостю пройти внутрь и осмотреться.
Внешне кабинет выглядит как обычное присутственное место, и даже портрет новой государыни (правда, не в полный рост, а лишь голова и верхняя часть плеч) висит на стене на положенном месте. Но гость, вообще-то не робкого десятка, вдруг застывает в оцепенении, и только усилием воли заставляет себя войти. Человек, который сидит за письменным столом и тяжелым пристальным взглядом смотрит на одного из богатейших людей Российской империи, способен как низвергнуть его в прах, так и исполнить самые невероятные мечты… Дело в том, что при всем своем богатстве, уме и авторитете Савва Морозов оказался не в состоянии устроить дела так, как хочется (то есть по справедливости) даже на своих собственных фабриках, а не то что по всей России.
Именно это чувство социального бессилия человека, который для себя лично способен добиться почти всего, и станет в будущем источником его тоски и причиной психиатрического диагноза, а также, возможно, приведет к его безвременной смерти. Уже сейчас он чувствовал признаки неудовлетворенности жизнью и бесцельности своего существования, ибо процесс построения бизнес-империи ему наскучил, а социальная роль не предлагала ничего иного. Хоть ты из шкуры лезь – купчиной был, купчиной и останешься. Но, возможно, хозяин этого кабинета предложит своему гостю нечто такое, что вернет тому жажду деятельности и вкус к жизни. А Антихрист он или нет – это не важно. Если предложение будет из разряда тех, от которых нельзя отказаться, то Савва Морозов простит ему все: и хвост, и рога, и копыта, и даже запах серы, которого, между прочим, в кабинете совсем не ощущается…
– Ну что же, здравствуй, Савва Тимофеевич, – сказал хозяин кабинета, когда слуга закрыл за собой дверь с обратной стороны. – Очень рад, что ты приехал сюда, ко мне, а не кинулся, к примеру, в бега. А то, знаешь ли, были прецеденты… Да ты не стесняйся, садись. Только вон туда, потому что на этом кресле будет сидеть государыня-императрица, ежели ей вздумается поучаствовать в нашем разговоре…
– И вам тоже здравствовать, Павел Павлович, – степенно ответил Савва Морозов, опускаясь на предложенный ему стул, – вы написали, что у вас есть ко мне какой-то определенный разговор, а иначе вызывать меня сюда из Москвы не было бы смысла.
– Разговор есть, – подтвердил Одинцов, – скажи мне, Савва Тимофеевич, как ты оцениваешь общее положение Российской Империи?
– Ну, – замялся Савва, – насколько я понимаю, положение Российской империи вполне устойчиво. Война выиграна, в Европах нас уважают и побаиваются, золотой рубль стоит крепко, и только последние неустройства слегка поколебали уверенность деловых людей в безоблачной будущем. Уж больно матушка императрица и вы, ее верные слуги, суровы и беспощадны. Если уж ближайшего сродственника царской семьи с чадами и домочадцами отправляют в пыльную киргизскую Тьмутаракань, то что же будет тогда с нами, простыми смертными?
– А что их, прощать, что ли, следовало? – хмыкнул Одинцов. – Участие семейки Владимировичей в антигосударственном заговоре практически не оставляло государыне возможностей для какого-либо помилования. Тем более что этих Владимировичей один раз все-таки простили и предупредили, что если они продолжат интриговать, то пощады им уже не будет. Итак, выбор у нас был только между плахой и ссылкой, и государыня Ольга была достаточно милосердна, чтобы не поотрубать им всем глупые головы. Так что, если те, кого ты, Савва Тимофеевич, назвал простыми смертными, не будут нарушать законов империи и участвовать во всяких подленьких делишках, им не будет грозить никаких наказаний. Но если кто попадется на горячем, то не обессудьте. Расправа над Владимировичами нужна была еще и для того, чтобы показать народу, что неприкосновенных в Российской империи более не существует. Теперь каждый виновный в государственных преступлениях, вне зависимости от титула и размеров состояния, получит десять лет каторги и конфискацию всех денежных капиталов, доходных бумаг, а также движимого и недвижимого имущества…
«Ну что же, – с холодком внизу живота подумал Савва Морозов, – вот и поговорили. Если материальную поддержку большевиков-революционеров и либералов-конституционалистов (а он подкармливал и тех и других) посчитать государственным преступлением – то все, дорогой Савва, песенка твоя спета. Загонят на каторгу и конфискуют все до последней копейки, не пожалев жену и мать. Этот Одинцов такой – настоящий Антихрист. Но тогда зачем он вызвал меня сюда, к себе, а не арестовал прямо в Москве? Непонятно. Или все же данный разговор о каторге, ссылке и конфискации был лишь прелюдией к такому предложению, от которого Савва Тимофеевич Морозов вовсе не сможет отказаться? Ведь я – не какой-нибудь Великий князь, потерявший голову от ощущения собственной безнаказанности, и последние предупреждения понимаю хорошо… Интересно, что ему нужно – миллион наличностью или мое участие капиталами в каком-нибудь государственном предприятии?»
Пока Савва размышлял над своей незадачливой судьбой, канцлер Одинцов хмыкнул и неожиданно изменил направление разговора.
– А теперь, – сказал он, – давайте поговорим об экономическом положении, которое вы сочли устойчивым. На самом деле не все так радужно, можно даже сказать, дела обстоят наоборот. Российское экономическое положение крайне плохое и, в силу беспрестанно увеличивающегося отставания от развитых стран, оно продолжает усугубляться. Какое, собственно, экономическое развитие в стране может быть, если две трети ее населения живут натуральным хозяйством, как во времена Владимира Красное Солнышко? Вот где прячется настоящий Антихрист, а не там, где ваши начетчики его непрерывно ищут. Из-за этого наше правительство не в силах что-нибудь изменить! Бесполезно давать деньги на развитие промышленности, если у большей части населения нет ни копейки, чтобы купить хоть какие-то товары. У рабочих, за которых вы, Савва Тимофеевич, радеете, положение, конечно, получше, чем у мужиков, но ненамного; да и их численность несравненно меньше крестьянского населения, и погоды в общей сумме платежеспособного спроса особо не делает. Еще хуже ведет себя так называемая «чистая публика», пробавляющаяся в основном импортными товарами. Таким образом, если мы хотим сделать Россию по-настоящему сильным государством, а русский народ счастливым и богатым, нам надо менять в корне все и сразу.
– Хорошо, Павел Павлович, – сказал осмелевший Савва Морозов, поняв, что прямо сейчас ему никто связями с большевиками в лицо тыкать не будет. – Я совершенно с вами согласен, что народная бедность и, прямо-таки сказать, нищета являются препятствием для увеличения российской промышленной мощи. Но при этом я не понимаю, какое это отношение имеет ко мне, ведь, несмотря на все свои богатства, я все же не Иисус Христос и не смогу накормить пятью хлебами всех голодающих мужиков.
– Отношение, Савва Тимофеевич, – хмыкнул Одинцов, – самое прямое, потому что мы с государыней императрицей намерены предложить вам новосозданный пост министра экономического развития Российской Империи. На данный момент вы – один из лучших российских управленцев, сочетающих эффективный контроль за производственными процессами с человеческим отношением к людям. Если вы примете мое предложение, то именно вашей заботой будет объединение всех государственных усилий на главной задаче экономического и промышленного усиления Российской Империи. Ведь это позор, что в государстве, считающем себя одной из мировых держав, до сих пор не производятся ни оптические стекла, ни приборы точной механики, ни даже двигатели внутреннего сгорания, необходимые для строительства бурно развивающихся автомобилей и аэропланов.
Вот тут-то Савве Морозову и поплохело по-настоящему. Непрерывно критиковать все подряд, не имея ни к чему конкретного отношения – это одно, и совсем другое – самому взяться за такое дело, от сложности которого кружится голова. Иной бы обрадовался этому приглашению как возможности набить мошну за государственный счет, но Савва Тимофеевич был не таков. Во-первых – он был честен, а во-вторых – даже для нечестного персонажа, имея дело с Одинцовым, набить мошну окажется невозможным. Скорее, выйдет наоборот – и тот, кто решил обогатиться за государственный счет, сам окажется выстрижен на половину головы и отправится по этапу в Сибирь работать с кайлом в руках. Нет, для Саввы Морозова такое не подходит, ему придется впрячься в лямку и тащить в полную силу, как тащат этот груз Одинцов и остальные его товарищи. Но, черт возьми, вот оно! Вот оно – то грандиозное дело, которого он как манны небесной ждал в своей уже изрядно наскучившей жизни. Возможность создать что-то великое и сказать сыновьям: «Гордитесь, это сделал ваш отец…»
– Да, господин Одинцов, – решительно сказал он, – я согласен с вашим предложением. А теперь объясните мне: как вы все это видите и с чего я должен начать?
– Начать, Савва Тимофеевич, – сказал Одинцов, – следует с начала. В вашем распоряжении окажутся не только государственные, то есть казенные предприятия, но и все рычаги воздействия на частных промышленников. Задача, которую мы с государыней ставим перед вами, будет заключаться в том, что за десять последующих лет общий объем российской экономики, совокупно промышленности сельского хозяйства, должен вырасти вдвое. Но это еще не все. Помимо этого, в России должны появиться предприятия пока отсутствующих в нашем отечестве отраслей. Необходимо развить производство оптического стекла и оптических приборов, точной механической аппаратуры, то есть часов и хронометров, а также будущего главного оружия империи, металлического алюминия и синтетической аммиачной селитры…
В ответ на непонимающий взгляд своего гостя Одинцов пояснил, что у тех, кто внезапно появился в Порт-Артуре пять месяцев назад, есть методы относительно дешевого производства и того и другого. Но это секрет государства Российского, и будет таковым оставаться еще десять-пятнадцать лет. Как применить к делу алюминий, Савва Морозов пока не знал, но вот про аммиачную селитру все понимал достаточно хорошо. Искусственное ее производство из дешевого и доступного сырья, да еще и в больших количествах – это же все равно что получать золото из свинца. Богатство неимоверное… Но и это было еще не все. В следующий момент канцлер империи продолжил свои речи, после чего выяснилось, что и о поддержке Саввой разных оппозиционеров, вроде большевиков и либералов-конституциалистов, ему тоже хорошо известно.
– С одной стороны, – сказал Одинцов, – с вами и вашим ведомством будут сотрудничать министр земледелия господин Столыпин и пока еще не определенный новый министр финансов (несколько подходящих имен господин Менделеев должен назвать чуть позже). Министр земледелия, помимо всего прочего, будет руководить большой переселенческой программой, призванной перебросить на слабозаселенные земли Сибири и Дальнего Востока за те же десять лет примерно двадцать миллионов крестьянских душ. С другой стороны, с вами должен взаимодействовать министр труда, с которым пока есть определенные проблемы. Вообще-то мы планировали назначить господина Ульянова, главного редактора нелегальной большевистской газеты «Искра», финансируемой одним российским предпринимателем, неким Саввой Морозовым. Разумеется, это назначение может состояться только в том случае, если господин Ульянов сумеет отрешиться от своей догмы об обязательном низвержении самодержавия и сосредоточится исключительно на борьбе за права рабочего класса. Задача этой борьбы архинужная и архиважная. Деньги, эта кровь экономики, не должны оседать в кубышках толстосумов и банковских хранилищах, а, пройдя через руки предпринимателей, должны снова поступать в оборот – либо в виде жалования рабочим, либо в виде налогов государству, либо в виде затрат на расширение производства. Но вернемся к господину Ульянову. Разумеется, это сложный человек, но, как нам сообщили, у вас есть на него влияние, не может не быть. Скажите, Савва Тимофеевич, это действительно так?
Получив вопрос в лоб, Савва не знал, что и сказать. Соврать явно не получится, ведь господину канцлеру уже известно, что он финансирует большевиков, а говорить правду было боязно…
– Ладно, – махнул рукой Одинцов, правильно поняв эту заминку, – можете не отвечать, нам и так все известно. Ведь, наряду с вашими коммерческими и организационными талантами, ваш статус сочувствующего в партии большевиков имел немаловажное значение при приглашении вас на должность министра экономики. На этом месте нам не нужен такой деятель, который за денежными потоками, миллионами пудов железной руды и каменного угля, объемами выплавляемой стали и прочими экономическими показателями не увидит живых людей, без которых все это пустой звук.
Вздохнув, канцлер империи вытащил из ящика стола сложенный вчетверо лист бумаги и передал его Савве Морозову.
– Вот вам список персон, – сказал он, – с которыми желательно наладить сотрудничество. Там и упоминавшийся уже господин Ульянов, и ваш сотрудник господин Красин, а также другие господа, с которыми вы пока не встречались. Считайте это вашим первым заданием на государственной службе. Часть из них мы определим в министерство Труда, часть распределим по другим ведомствам, а господина Красина, к примеру, вы можете забрать к себе в министерство Экономики. Приступайте к работе поскорее, потому что время не ждет. В случае хотя бы минимального успеха могу гарантировать вам чин третьего класса табели о рангах, а также графский титул для вас и ваших детей. И, ради Бога, Савва Тимофеевич, прекратите играть с господами либеральными контитуционалистами. Честное слово, лучше вляпаться в дерьмо, чем в эту липкую и противную субстанцию. Сколько бы времени ни прошло, а слово «либерал» будет звучать как самое грязное ругательство. Надеюсь, вы меня поняли…
Полчаса спустя Савва Морозов вышел из Зимнего дворца и надел на голову шляпу. От пережитых неожиданных впечатлений голова у предпринимателя и мецената гудела как колокол, поэтому, немного пошатываясь и опираясь на трость, он направился в сторону гостиницы. Первым делом теперь ему нужно было вернуться в Москву и там встретиться с товарищем Красиным. Начиналась новая жизнь, и пока было непонятно, во что все это может вылиться.
[5 августа 1904 года, 17:45. Санкт-Петербург, Зимний дворец, Готическая библиотека.]
Это был первый визит экс-императора Николая в Зимний дворец за последние пять месяцев. Все это время, начиная с момента кончины императрицы Александры Федоровны, русский монарх провел в добровольной самоизоляции, подальше от шума буйной столицы, не желая и носа казать в Зимний дворец, где они с Аликс, как ему хотелось думать, счастливо прожили десять лет своего супружества. Да и сейчас явился экс-император в Зимний дворец инкогнито, потому что в противном случае версия с тяжелым ранением во время покушения рушилась как карточный домик. Вместе с Николаем для сверки часов из Царского села прибыли каперанг Иванов и госпожа Лисовая. Им было о чем попросить государыню, и было в чем повиниться.
В первую очередь, двоим из них предстояло объясниться перед императрицей из-за Великого Княжества Финляндского, по чьему-то недосмотру не попавшего в Манифест об отречении от престола. Или не совсем по недосмотру? Вот в этом еще предстояло разобраться отдельно.
– Ваше Императорское Величество, – в ответ на прямой вопрос склонил перед императрицей голову капитан первого ранга Иванов, – прошу меня простить, но это моя вина. По линии Службы Имперской Безопасности была получена информация о том, что одновременно с мятежом Владимировичей наши заклятые друзья англичане готовятся инспирировать волнения в Великом Княжестве Финляндском с целью отторжения этого территориального образования от Российской империи. Убийство графа Бобрикова случилось совсем недавно, и, так как за него никто не понес ответственности, у господ финских националистов могло от безнаказанности снести крышу. В момент присяги Вашему Императорскому Величеству был вполне возможен отказ от нее финского чиновничества с последующим призывом к общему неповиновению и даже вооруженному мятежу. Князь Оболенский, сменивший покойного графа Бобрикова на должности исполняющего обязанности финляндского генерал-губернатора, в деле противостояния смуте – это даже меньше чем ничто, и потому мы с капитаном Мартыновым пришли к выводу, что отречение по Великому княжеству Финляндскому было бы неплохо немного задержать. Случилось это уже после того, как вы все покинули Цусиму, а следовательно, оказались вне пределов надежной шифрованной связи, так что без разглашения сути вопроса на весь свет не было никакой возможности поставить в известность о таком ходе вас с Павлом Павловичем. Тогда я подумал, что если это будет необходимо, отречение от трона Великого Княжества Финляндского можно произвести и позже, в любое удобное для вас время… И наоборот – если в случает отречения Николая Александровича от трона в Великом Княжестве начнутся волнения, а сенат и секретариат (парламент и правительство) откажутся присягать вам – например, на том основании, что вы женщина, – то отменить Манифест об отречении будет уже невозможно, да и бесполезно. Результат оказался налицо: никаких волнений в Гельсингфорсе при вашем воцарении не произошло, ибо для того не было удобного момента…
В полной тишине императрица выслушала покаянную речь капитана первого ранга Иванова, потом внимательным взглядом посмотрела сначала на него, потом на своего брата.
– Павел Павлович, – спросила она у своего канцлера, – а у вас какое мнение по данному вопросу?
– С этим несуразным полунезависимым государством, – ответил Одинцов, – все равно требовалось что-нибудь сделать: или отпустить совсем, или непосредственно присоединить к территории Российской Империи. Отпускать – это значит разбрасываться Кемскими волостями, что совершенно неприемлемо. В то же время попытка присоединения может вызвать возмущение у местной элиты и вспышку насилия со стороны финских националистов, которые пока находятся за кадром местной политики. Для открытого возмущения им нужен только повод. Насколько я понимаю, действия каперанга Иванова дезориентировали этих людей, которые не могут теперь привязать свое выступление к смене верховной власти. В нашем будущем времени, несмотря на так расхваливаемую либералами представительную демократию (а может, и благодаря ей), нередки мятежи, приуроченные к моменту смены власти, когда уходящий президент или премьер уже превращается в отработанный материал, а идущий ему на смену еще не принял на себя все полномочия. Будьте уверены, что вероятность мятежа в случае отречения Николая Александровича от короны Великого Княжества Финляндского так же высока, как и десять дней назад. Лидеры сепаратистов в любом случае сделают все, чтобы сорвать процесс передачи власти и учинить мятеж…
– Так, значит, – спросила Ольга, – вы, Павел Павлович, одобряете то, что сделал господин Иванов?
– Я не то чтобы одобряю, – честно ответил Одинцов, – я просто не вижу иного выхода, если, конечно, сразу после завершения русско-японской войны мы не хотим устроить еще и русско-финскую, то есть подавление националистического мятежа, с кровавым исходом…
– Очень хорошо, Павел Павлович, – сказала Ольга, – по правде говоря, все это весьма и весьма кстати. Мы давно думали о том, что наш брат, по доброй воле оставивший нам престол, нуждается в каком-нибудь удельном столе для кормления. Бывший Всероссийский Император ни в коем случае не должен превращаться в обычного обывателя. Это совершенно исключено. Думаю, что мы вполне можем сохранить за нашим братом должность и титул Великого Князя Финляндского с тем, чтобы после его смерти финский престол перешел к его старшей дочери – при условии, что после вступления в брачный возраст девушка выйдет замуж за подданного Российской Империи. Брат, готов ли ты принести мне, то есть нам, вассальную присягу за себя и свое потомство?
– Да, сестра, – произнес экс-император Николай, подходя к императрице и вставая перед ней на одно колено, – за себя и своих детей я клянусь, что буду служить тебе верой и правдой.
– Встань, брат, – сказала Ольга, беря руки экс-императора в свои ладони, – я принимаю твою клятву. Господин Иванов, проявив такую предусмотрительность, вы поступили совершенно правильно, поэтому мне не за что вас прощать. Надеюсь, что вы и дальше будете состоять при особе моего брата, чтобы подавать ему верные и своевременные советы. Пусть Великое Княжество Финляндское по размеру значительно меньше, чем Российская Империя, но я думаю, что править им будет даже сложнее…
– Сестра, – неожиданно сказал Николай, который выглядел несколько смущенным, – у меня есть к тебе одна просьба…
– Я догадываюсь, – кивнула Ольга, улыбнувшись одними глазами. – Ты хочешь, чтобы я разрешила твой брак с госпожой Лисовой?
– Да, – подтвердил экс-император, – хочу! Алла Викторовна – добрая, красивая, добропорядочная женщина, которая сможет стать для меня достойной спутницей жизни, а моим дочерям второй матерью. Она уже подружилась с моими девочками, и теперь они в ней просто души не чают. Конечно, ее происхождение не совсем соответствует остальным ее достоинствам, но я надеюсь, что ты будешь выше этого. В конце концов, я теперь уже не император Российской империи, а она – ученая, доктор технических наук, а не актриса и не приказчица в дамском магазине[9]…
– Происхождение ничто, – хмыкнула Ольга, – зато душа все! За заслуги перед Империей в деле продвижения новых технологий и пополнения казны я жалую госпожу Лисовую графским титулом и даю вам разрешение на брак. Dixi! Желаю тебе, Ники, счастья в личной жизни, любви и благополучия, а твоей будущей супруге стойкости и мужества.
Императрица усмехнулась и добавила:
– Знаешь, Ники, я знакома с Аллой Викторовной гораздо дольше, чем ты, и уверена, что лучшей жены тебе не найти. С нею ты всегда будешь любим и обихожен, что бы ни происходило; и именно она, а не ты, будет той каменной стеной, которая отделяет вашу семью от жизненных невзгод. Но это еще далеко не все. Также я уверена, что пройдет совсем немного времени – и несчастные чухонцы будут скрестись у меня под дверью, умоляя, чтобы я взяла Финляндию под свое прямое покровительство и избавила их от Рыжей Акулы. Но я этого никогда не сделаю, в том числе и потому, что Алла Викторовна – это их Божье наказание, которое им следует перетерпеть. В противном случае, если у тебя, твоей жены или у твоих девочек с головы упадет хоть один волос – я обещаю, что положу это землю пусту, а всех чухонцев переселю в самую глубокую Сибирь к их дальним родичам остякам и вогулам. Пусть ведут себя прилично и трепещут. Я настолько свирепа, что иногда сама себя боюсь. Ну а если серьезно, то больше доверяй своей супруге. По большей части она знает, что делает и все, за что она берется, получается очень хорошо. Также слушай советов господина Иванова – он поможет тебе там, где окажется бессильно женская хитрость и изощренный ум твоей жены. Великое княжество Финляндское – это очень тяжелый участок работы, но думаю, что втроем вы с ним справитесь.
[Тогда же и там же. Коммерческий директор АОЗТ «Белый Медведь» д.т.н. Лисовая Алла Викторовна.]
Итак, я теперь графиня. Вот так просто, по велению императрицы Ольги, пожелавшей наградить меня за успехи, я приобрела графский титул – то есть выбралась из простолюдинок в аристократки… Странно мне как-то и неуютно быть в этом титуле, хотя это, наверное, только с непривычки. Или нет… Если задуматься с высоты самосознания человека третьего тысячелетия, так получается, что все эти титулы – вздор. Любому моему современнику ясно, что именно разделения людей на сорта создает и поддерживает неравенство, то есть несправедливость. Получается, что я как простой человек не имею такой ценности, как человек с титулом, несмотря на все мои качества и заслуги… Да, неправильно это. Но невозможно не признать, что здесь, в начале двадцатого века, без этого никак не обойтись. ПОКА не обойтись. А потом… потом, мне кажется, в этом плане что-нибудь изменится. Потому что мои современники, среди которых и Одинцов, и Иванов, и прочие – воспитаны в тех же традициях, что и я, и мыслят теми же категориями. А пока буду повторять себе, что я отныне «графиня Лисовая», преодолевая неприятие и желание расхохотаться. Но местные все эти игры воспринимают всерьез, и это надо учитывать.
Вообще сегодняшняя встреча с императрицей оставила во мне сильные впечатления. Я смотрела на Ольгу – и не узнавала ее. Куда девалась та робкая девочка, с которой мне довелось общаться на Элиотах? Тогда она была такой удивленной, растерянной, старательно ищущей себя на руинах прежней жизни… Сегодня нас встретила уверенная в себе молодая женщина – саркастичная, здравомыслящая, отважная и решительная. Одним словом, второе издание императрицы Екатерины Великой. Изменилось в ней все: осанка, поворот головы, жесты рук, выражение глаз. Удивительно преобразилось ее лицо. Теперь оно выражало поистине царское достоинство и властность, мудрость и авторитет. При взгляде на нее становилось понятно, что теперь Российская Империя в надежных руках. А уж Канцлер Одинцов не даст свернуть с намеченного курса… Я знаю Павла Павловича уже давно, наверное, лет пять – и убеждена, что он с легкостью справится со своей канцлерской работой. Он как будто нашел свое место, специально устроенное прямо для него, чтобы собрать вокруг себя единомышленников (Ольгу, Михаила, полковника Новикова и других) и возглавить их для того, чтобы хоть в этом мире Россия стала воистину великой мировой державой.
Впрочем, и я скоро тоже стану уже Великой княгиней Финляндской – а это покруче, чем графиня, так-то… Я стану кем-то вроде королевы, наполовину самовластной государыней. Буду управлять целой страной… Вместе с мужем, разумеется; ну да Николай не особо-то увлекается процессом правления, так что весь груз ответственности ляжет на мои хрупкие плечи… Впрочем, это я ерничаю. Плечи у меня отнюдь не слабые, я как раз как та русская баба, которая свернет горы, остановит на скаку слона и оторвет ему хобот. Не зря же за остроту и быстроту мышления, а также за решительность действий меня прозвали Рыжей Акулой. Собственно, в рисующейся перспективе меня больше всего смущают титулы… Что же касается моей будущей «королевской» должности, то тут я в себе уверена. Хотя Ольга, уже неплохо освоившая «нашу» терминологию, сказала, что Финляндия – это «очень сложный участок работы», я думаю, что эта задача мне по плечу. С директорским постом справилась – ну и это мне под силу. Думаю, что смогу найти ту грань, что отделяет жесткость и справедливость от деспотичности. Правда, каждого об этих понятиях свое представление, но я уверена, что сумею не перегнуть палку… Тем более что мне в помощь будет и авторитет Николая, и стоящая за его спиной огромная Российская Империя, и вся наша рать пришельцев из будущего, которая, несомненно, придет на помощь, если вдруг дела наши станут складываться не лучшим образом.
Ну а вообще, если мысленно проследить весь тот путь, что я прошла с момента попадания в этот мир, то от такой головокружительной «карьеры» просто приходишь в шок. Нет, конечно же, все логично и правильно, но поражает то, кем я была ТАМ, и кем стала ЗДЕСЬ… Я не о титулах. Я о внутреннем преображении – а все остальное именно из этого и проистекает. Алла Лисовая пять месяцев назад и она же сейчас – это две разные женщины, и с этим приходится смириться. И вообще, даже страшно подумать, кем я стану через два-три года, или, к примеру, лет через десять. Быть может, тогда меня перестанут смущать мои дурацкие титулы – как те, которые я заработала лично, так и те, что мне принесет замужество за Николаем. Ведь, выходя «в город», ношу же я местные ужасно неудобные дамские одежды, несмотря на то, что прежде при одном виде этой архаики меня разбирал смех. Вот так и с титулами. Как говорили древние: если собрался поехать в Рим, то веди себя как римлянин.
Ну а еще я по-сумасшедшему счастлива, и с трудом это скрываю. Правда, сегодня мне показалось, что Ольга догадывается о том, что произошло между мной и Николаем… Ну да это ничего. Одно я знаю точно – «неудобных» вопросов мне никто задавать не будет. Здесь это не принято; а еще мы с Николаем взрослые люди, которым не нужно читать нотации о нравственности. Правда, еще остается его мамаша Вдовствующая императрица Мария Федоровна – а это еще та мегера, репутация у которой ничуть не лучше моей. В местном обществе ее за глаза зовут Гневной, а это значит, что однажды мы схлестнемся как бы в борьбе за ее сына. Она меня старательно не замечает, а я избегаю таких мест, где могу столкнуться с этой женщиной. Мне очень хорошо, и не стоит портить это бескрайнее счастье какими-нибудь скандалами и конфликтами.
Правда, эйфории я предаюсь лишь в те редкие моменты, когда меня никто не видит. Только тогда я могу позволить себе глупо и мечтательно улыбаться… Потому что ничто не сравнится с тем ощущением, когда ты нашла «своего» мужчину. И совершенно неважно, кто он – князь, император, художник или водопроводчик, беден он или богат, знатен или безроден. Любовь! Если она настоящая, она не смотрит на такие мелочи…
[7 августа 1904 года, 12:15. Санкт-Петербург, Зимний дворец, кабинет Канцлера Российской Империи Директор департамента окладных сборов Министерства Финансов Николай Николаевич Кутлер[10].]
После случившегося недавно дворцового переворота жить в Петербурге для интеллигентного человека становилось просто страшно. Гильотины на площадях еще не стояли и фонарные столбы использовались только по прямому назначению, но аресты непосредственных участников гвардейского мятежа и всех причастных к заговору Владимировичей шли полным ходом. Одетые в черные мундиры сотрудники госбезопасности заходили в дома или хватали людей прямо на улицах, после чего черные кареты отвозили тех в Петропавловскую крепость – надо полагать, для пыток и последующих казней. Особенно страшные слухи ходили о торчавшей над крепостными стенами дымовой трубе, время от времени принимавшейся извергать из себя жирный черный дым. Говорили, что гвардейцы, вышедшие к Николаевскому вокзалу, восстали как раз против тирании имперской безопасности, арестовывавшей людей по малейшему подозрению в причастности к финансированию террористической деятельности.
Николай Николаевич Кутлер был как раз человеком прогрессивных либеральных взглядов и категорически не одобрял любой диктатуры, с какой бы стороны она ни исходила. И вдруг этим утром через фельдкурьера он получает оформленное по всем правилам вызов-приглашение в Зимний дворец на аудиенцию к канцлеру Одинцову. По правде говоря, новоявленного диктатора, стоявшего за троном неопытной молоденькой девчонки-императрицы, Николай Николаевич еще ни разу лично не видел, но воображал себе самое страшное. Говорят, иные и вовсе обмирали под взглядом этого человека, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Впрочем, никакой вины перед Государем, или, точнее, Государыней и Отечеством господин Кутлер не чувствовал, а потому шел на эту встречу без особого мандража. Да и идти-то там было примерно полторы версты или треть часа неспешным шагом. Сначала следовало выйти из Николаевского дворца (в котором и располагался Департамент Окладных Сборов) на Галерную улицу, потом, свернув к Неве по Замятину переулку, выйти на набережную и пройти мимо Сенатской площади и Адмиралтейства к Зимнему дворцу. А потом – всего-то делов – показываешь часовому на входе приглашение как пропуск, и дальше местные дворцовые аборигены доведут тебя до места.
Вроде бы просто, но для некоторых дорога к канцлеру может быть равна пути на Голгофу. Вот так пару дней назад сходил в Зимний дворец господин Коковцов; после разговора с канцлером он не отправился обратно на службу (главное здание Министерства Финансов располагалось там же, на Дворцовой площади) и не пошел домой, на квартиру, а в черной арестантской карете был доставлен в Петропавловскую крепость. А там, понятно что – «оставь надежды всяк сюда входящий». Войти внутрь легко, а вот выйти обратно куда тяжелее. Впрочем, кому, как не непосредственному подчиненному министра финансов, было не знать, в чем и насколько грешны как господин Витте (который первым очутился в Петропавловских казематах), так и его товарищ (заместитель) и последующий преемник господин Коковцов…
У Николая Николаевича почему-то была уверенность, что с ним самим во время визита к канцлеру ничего страшного не произойдет. У него-то в Департаменте окладных сборов полный порядок, да и не будет целый канцлер вызывать столь мелкого чиновника для разноса, ибо для этих целей существует министр. И неважно, что эта должность пока вакантна. Вот как назначат нового министра финансов – так тот и начнет все переставлять по своему вкусу; и хорошо, если перемены коснутся только мебели в министерском кабинете…
Так и вышло. Часовой, едва увидев карточку-приглашение, скользнул взглядом по какому-то списку, и после этого вызвал по телефону дежурного слугу, который и сопроводил господина Кутлера к двери канцлерского кабинета. Ждать под дверью тоже не пришлось. Николаю Николаевичу почему-то вспомнилось, что пресловутый Аракчеев тоже был сволочь и гад, только люди у него аудиенции не ждали. Не имел он такой привычки – морить посетителей в приемной только ради своего самоудовлетворения. Вот господин Одинцов тоже велел пропустить его, Кутлера, немедля, а не помариновал пару часиков в коридоре под стенкой…
Вот за слугой с обратной стороны закрывается дверь, а канцлер Одинцов внимательно смотрит на визитера.
– Здравствуйте Ваше Высокопревосходительство, – с замиранием в голосе говорит Кутлер, – вот, прибыл согласно вашему распоряжению.
– Здравствуйте, Николай Николаевич, – отвечает ему канцлер, – очень рад вас видеть. Дмитрий Иванович, я имею в виду Менделеев, очень хорошо об вас отзывался, как об исполнительном, аккуратном и честном чиновнике по финансовой части… И не он один. А еще один наш общий знакомец отрекомендовал вас как человека, который при любом государе будет служить только России, и больше никому. И именно это свойство, вкупе с прочими качествами вашей личности, делает вас незаменимым человеком для решения важнейшей задачи государственного масштаба.
В ответ – изумленная пауза длиною в несколько секунд, и наконец господин Кутлер, растерянно моргая, пробормотал:
– Ваше Высокопревосходительство, к чему вы это говорите, я вас не понимаю…
– Да вы расслабьтесь, Николай Николаевич, и садитесь вон на тот стул, – сказал Одинцов. – Дело в том, что Российской Империи необходим новый министр финансов вместо господина Коковцова, который оказался замешан во многих нехороших делах. И даже если ему удастся выпутаться из предъявленных обвинений, мы все равно не сможем доверять этому человеку, так как расходимся с ним по фундаментальному вопросу: Россия должна служить капиталу или капитал России. Мы придерживаемся мнения, что именно капитал должен служить развитию нашей страны, а господин Коковцов исповедует противоположную точку зрения – и этот факт делает его кандидатуру неприемлемой для занятия одной из важнейших правительственных должностей.
– Ваше Высокопревосходительство… – тихо произнес Кутлер, неловко садясь на указанное место; от волнения он даже вспотел. – Так вы, значит… если я правильно понял… хотите назначить министром финансов именно меня?
– Да, именно Вас, Николай Николаевич, – ответил канцлер, – и перестаньте называть меня Высокопревосходительством. У меня, в конце концов, есть имя-отчество, и не притворяйтесь, что вы их запамятовали.
– Хорошо, Павел Павлович, – сказал Кутлер утирая лоб большим клетчатым платком, извлеченным из кармана, – я вас понял. И все равно это для меня слишком уж неожиданно. Ведь я всего лишь директор департамента в означенном Министерстве Финансов, и даже еще ни разу не занимал должность министра…
– Сейчас, Николай Николаевич, – сказал Одинцов, – когда Российская Империя ждет от вас самоотверженной и тщательной работы, совсем не время отсиживаться на тихой и спокойной должности. Справитесь с поставленной задачей – и ваше будущее на многие годы вперед, а может быть, и до самой смерти, станет ясным и безоблачным. Не справитесь – ничего страшного, не все сразу; мы понимаем, что у вас нет опыта для работы на министерском посту. И только одного мы можем не простить – предательства Отечества или прямого обмана. Ну что, Николай Николаевич, надеюсь, вы согласны?
– Да, Павел Павлович, – произнес Кутлер, решительно кивая и выпрямляя спину, – я почти согласен. Но сперва расскажите подробнее – в чем именно вы не сошлись с господином Коковцовым и что я должен исправить? А то ведь вы можете не сойтись мнениями уже со мной, ведь вместе с означенным господином я работаю в министерстве финансов уже десть лет…
– В первую очередь, – сказал Одинцов, – мы не сошлись с господином Коковцовым и его предшественником и начальником Витте в оценке роли золотого стандарта в развитии экономики России. Мы считаем, что обязательное стопроцентное покрытие рубля золотом тормозит развитие российской промышленности и торговли, а господин Коковцов считает, что, наоборот, ускоряет.
– Ну, как бы вам сказать, Павел Павлович… – задумчиво ответил Кутлер. – Я, как и господин Коковцов, тоже считаю, что возможность разменивать российские рубли на золото в неограниченном количестве ускоряет промышленное развитие России, ибо позволяет зарубежным промышленникам и предпринимателям вкладываться в наши предприятия, а также облегчает международную торговлю…
– Это только с одной стороны, – возразил Одинцов, – а с другой стороны, требование стопроцентного золотого покрытия валюты сжимает денежную массу, из-за нехватки денег затрудняет расчеты внутри страны и ограничивает рост части экономики, рассчитанной на внутреннее потребление. Золотой рубль выгоден тем предпринимателям, которые вывозят из России хлеб и необработанное сырье, ввозят готовые товары, а также иностранным инвесторам, устроившим тут заводы с целью воспользоваться дешевой рабочей силой и желающим по мере получения прибыли репатриировать ее по месту своего постоянного проживания. Зато промышленникам, нацеленным на внутренний рынок, и государству золотой рубль невыгоден. Дело в том, что совокупная сумма производимых для внутреннего потребления товаров и оказываемых услуг, разделенная на среднегодовую оборачиваемость рубля, тоже является средством для обеспечения денежной массы, из чего следует, что каждый золотой рубль, оборачивающийся внутри страны, имеет двойное, а быть может, даже и тройное обеспечение. Один раз он обеспечен золотом, и еще один или два раза – товарами и услугами. Цель нашего правительства – быстрый промышленный и сельскохозяйственный рост, но количество золота в обороте просто невозможно увеличивать теми же темпами, какими может расти количество выпускаемых товаров. Простейшая же задачка. Если количество денег в экономической системе остается неизменным, а количество товаров быстро растет, то без резкого увеличения скорости денежного оборота мы будем наблюдать дефляцию, то есть падение цен на выпускаемые товары, что вызовет убытки производителей, приводящие к их разорению. Обойти это условие можно только в том случае, если годовое положительное сальдо внешней торговли будет превосходить годовой же прирост внутреннего потребления. – Одинцов сделал паузу и, внимательно глядя на глубоко задумавшегося собеседника, спросил: – Ну как, Николай Николаевич, возможна такая ситуация в нашей экономике в обозримом будущем или нет?
Кутлер встрепенулся и отрицательно покачал головой.
– Пожалуй, нет, Павел Павлович, – сказал он, разводя руками. – Сальдо внешней торговли, насколько я понимаю, у нас пока отрицательное… Вывозятся дешевые хлеб, необработанный лес и немного пушнина, не имеющая решающего значения, а ввозятся дорогие товары машинной выделки и станки, в которых имеется большая потребность. Откуда же при таких условиях взяться положительному сальдо? И так уже некоторые кричат, имея в виду хлеб: «недоедим, но вывезем». Как будто это им придется недоедать – при том, что то тут, то там мужики и так уже голодают…
Одинцов кивнул.
– Вот именно, Николай Николаевич, – сказал он, – из-за отрицательного сальдо внешней торговли, которое невозможно исправить по указанной мною выше причине, министерство финансов вынуждено либо сокращать денежную массу на объем утекшего за рубеж золота, либо брать в том же золоте стабилизационные кредиты. В одном случае это грозит кризисом неплатежей, в другом – кабалой у международных банковских домов, в частности Ротшильдов, ибо эти кредиты невозвратные. Сначала господине Витте, а потом господин Коковцов набрали во Франции кредитов, и собирались брать еще, если бы за эти свои деяния не очутились в Петропавловке. Теперь перед новым министром финансов – то есть перед вами – стоит задача так отладить эмиссию рублевой массы, чтобы импортно-экспортные операции покрывались золотом, а внутренняя торговля – оборачиваемыми товарами отечественного производства. Над тем, чтобы эти товары в обороте имелись, будет работать наверняка уже известный вам Савва Морозов, недавно назначенный руководить новосозданным Министерством Экономического Развития. Необходимо так сбалансировать эмиссионную политику, акцизы, транспортные и таможенные тарифы, чтобы производить товары внутри России было выгодно, и чтобы наши местные промышленники были защищены от неоправданной конкуренции своих европейских коллег. Необходимо добиться максимальной скорости роста русской экономики, при этом сумев выпутать государство из тех долгов, в которые его втравили Витте и Коковцов. Задача понятна?
Кутлер кивнул.
– Не скажу, что это будет просто, – ответил он, – но я приложу для того все усилия. Сказать честно, к такому взгляду на золотой стандарт из нас никто еще не приходил…
– А то как же, Николай Николаевич, – сказал Одинцов, – при переходе от феодализма к капитализму во всем мире происходил переход от звонкой монеты к частично обеспеченным или совсем не обеспеченным золотом и серебром бумажным деньгам. Тут главное – не перегнуть палку и не вызвать перепроизводства бумажных денег, сиречь гиперинфляции… Ну вы меня поняли. Сейчас идите в свой департамент, сдавайте дела своему вице-директору, а завтра с утра отправляйтесь в министерство и приступайте к работе. Время не ждет.
[9 августа 1904 года, 12:15. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость Подполковник СИБ Евгений Петрович Мартынов и товарищ Коба.]
Увидев Кобу, неловко вылезающего из тюремной кареты, подполковник Мартынов подумал, что в неделю времени, взятого для предварительного разбирательства с революционерами, как он сгоряча обещал императрице Ольге, ему уложиться не удалось. Нет, предварительный доклад в письменном виде он составил уже на следующий день и, согласовав его с канцлером Одинцовым, подал на высочайшее рассмотрение. Доклад вернулся уже на следующий день с императорским вердиктом: «Быть посему, Ольга». И тогда Мартынов, не имея возможности кинуться в этот вояж самолично, снарядил на Кавказ особый литерный поезд с охотничьей командой. У старшего команды имелся приказ без особого шума изъять Кобу, где бы он ни находился, после чего со всей возможной вежливостью доставить в Петербургскую штаб-квартиру СИБ.
Но в Батуме, где Коба должен был под чужим именем чалиться в тюрьме за организацию стачки на нефтеперегонном заводе Ротшильда, его не оказалось. Успели выпустить за малозначительностью деяния. Тогда команда посетила Тифлис, где людям Мартынова все же улыбнулась удача. Иосиф Джугашвили был стопроцентно идентифицирован, после чего поздно вечером захвачен прямо на улице, усажен в закрытый экипаж и доставлен к поезду на вокзал. При этом спецкоманда СИБ не выдала местным жандармам тайную Авлабарскую типографию большевиков, знание местоположения которой и помогло госбезопасникам выйти на будущего Отца Народов. Да и не до этого им было. Едва господин Джугашвили оказался в предназначенном для него вагоне, к литерному поезду подали паровоз – и короткий эшелон из пяти вагонов отбыл на Баку.
В дороге с Кобой, когда он пришел в себя, никто не разговаривал. Оперативники охотничьей команды, все как один в масках, только кормили своего подопечного и водили его в сортир, соблюдая при этом правила вежливости. Все объяснения – уже в пункте назначения. Любой нормальный человек в таких условиях озвереет от неизвестности, но у Кобы нервы были как стальные канаты. На Николаевском вокзале северной столицы литерный поезд загнали на запасные пути, где крайне важного пассажира со всей предосторожностью пересадили в черную тюремную карету с маленькими зарешеченными окошечками. Коба принял эту операцию без единого стона, и вскорости уже был доставлен в Петропавловскую крепость. Выгрузившись из экипажа, он огляделся; и первое, что бросилось ему в глаза – это вздымающийся к небесам шпиль Петропавловского Собора… Только потом он увидел встречающих его офицеров в черных мундирах новой Тайной Канцелярии. Все, приехали. Из этого места скорби с безжалостными палачами выход возможен только ногами вперед. В этот момент Коба почувствовал себя трагическим героем, эдаким прикованным к скале Прометеем, которого сейчас должны схватить злые силы, чтобы подвергнуть ужасным пыткам.
Но никто никого не схватил и ничему не подверг. Один из офицеров, совсем еще молодой, но уже в подполковничьих погонах, подошел к Кобе и отрекомендовался:
– Подполковник службы имперской безопасности Евгений Петрович Мартынов, заместитель начальника сего богоугодного заведения. Приветствую вас, товарищ Коба, на земле нашей центральной штаб-квартиры.
Наверное, Коба счел это заявление особо утонченным издевательством – и потому ничего не ответил кровавому царскому сатрапу, имя которого на тот момент знала уже вся страна. Но кровавый сатрап на Кобу не обиделся. Он, собственно, заранее знал, что его будущий клиент с характером.
– Товарищ Коба, – сказал он, – у нас к вам есть очень важный разговор…
– Я об этом догадываюсь, господин Мартынов, – с сильным кавказским акцентом ответил Коба, – иначе зачем ваши держиморды меня сюда везли. Ну что же, ведите меня в свои пыточные, но сразу говорю, что я вам все равно ничего не скажу.
Выслушав это заявление, Мартынов разразился чистым, ничем не замутненным смехом.
– Ну и чего вы так смеетесь, господин Мартынов? – недоуменно спросил Коба, – неужели я сказал что-то смешное?
– Как вам сказать, товарищ Коба… – ответил Мартынов, – комики в варьете тут бывают гораздо смешнее. Пристрастился, знаете ли, посещать их выступления в свободное от душения свободы время, прошу прощения за каламбур. Дело в том, что никто не собирается вас не только пытать, но и даже просто допрашивать. Нам это неинтересно, ибо знаем мы о партии большевиков даже немного побольше вашего. Так уж, простите, сложились обстоятельства.
– А чего тогда вы хотите, господин Мартынов? – недоуменно спросил Коба и добавил: – и перестаньте называть меня товарищем Кобой, ибо жандарм, как вы, настоящему большевику не товарищ…
– Ладно, Иосиф, – погасив улыбку, ответил Мартынов, – поговорим серьезно. Вы не поверите, но мы хотим именно этого – то есть просто поговорить с вами, после чего возможны самые благоприятные варианты – как для вас лично, так и для вашей партии.
– Господин Мартынов, – ответил хмурый Коба, – я вас не понимаю. Если вы хотите сделать из меня провокатора, то напрасно стараетесь. Я никогда не пойду на сотрудничество с душителями свободы.
– И опять вы не угадали, – ответил Мартынов, – провокатора мы из вас делать не собираемся. Если вы об этом не забыли, нам и так ведомы все тайны вашей партии. Впрочем, что мы тут стоим и разговариваем на ногах, как два коня, которые все делают стоя. Думаю, что у меня в кабинете за брусничным чаем с баранками и без посторонних ушей беседовать будет не в пример удобнее.
В ответ Коба только равнодушно пожал плечами, как бы показывая, что он в этом месте не хозяин и не ему решать, где и как будет проходить дальнейшая беседа.
[Четверть часа спустя. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, кабинет замначальника СИБ Подполковник СИБ Евгений Петрович Мартынов и товарищ Коба.]
– И все-таки, господин Мартынов, – спросил Коба, войдя в кабинет, – если вы не собираетесь делать из меня провокатора, то зачем я здесь? Зачем был нужен весь этот спектакль с моим похищением и срочной доставкой в Петербург?
– Вы не поверите, Иосиф, – немного насмешливо улыбаясь, ответил Мартынов, – но мы хотим заключить союз – с партией большевиков вообще и с вами лично в частности.
– Господин Мартынов, – воскликнул Коба, – а вы часом не сошли с ума? Как это мы, большевики, будем заключать союз с жандармами и душителями свободы? Нет, это совершенно неприемлемо. Мы не будем предавать своих товарищей, изо всех сил борющихся с проклятым самодержавием!
– Иосиф Виссарионович, – покачал головой Мартынов, – быть может, вы перестанете говорить лозунгами, ведь мы с вами не на митинге. И прекратите обзывать меня господином и жандармом, ведь я никогда не был ни тем, ни другим. Если вы не хотите называть меня товарищем, то обращайтесь ко мне, пожалуйста, по имени. Если вы запамятовали, то я напомню, что зовут меня Евгений.
– Хорошо, Евгений, – сказал немного успокоившийся Коба, – возможно, я немного погорячился. Мы действительно не на митинге, а вы не мой товарищ. Вот только объясните, почему я не должен считать вас господином и жандармом?
– Это достаточно долгий разговор и вести его на ногах неприлично, – ответил Мартынов, – поэтому, Иосиф, садитесь на вон тот стул, а я сяду на свое рабочее место. Сейчас, как я и обещал, нам принесут чаю с баранками, после чего мы с вами и поговорим…
– Не нужен мне ваш чай, Евгений! – резко ответил Коба, присев на указанный стул. – Вы что, думаете подкупить меня таким дешевым приемом? Жандарм вы там или нет, я не знаю, но категорически отказываюсь идти у вас на поводу. Вы слышали? Категорически!
– Вы, Иосиф, – хмыкнул Мартынов, – опять поспешили со своими выводами. Никто и не собирается вас подкупать. Очень нам это надо. Мы всего лишь хотели предложить вам сотрудничество в тех областях российской жизни, где наши интересы совпадают. Мы тоже считаем, что права рабочего класса должны быть защищены, в трудовом законодательстве должен быть наведен порядок, а продажные инспектора фабричных инспекций должны быть заменены честными и мотивированными людьми.
По мере того как подполковник Мартынов говорил, лицо у Кобы складывалось в маску недоверчивого изумления.
– Мне удивительно слышать такие речи от человека, поставленного охранять существующий порядок, – с недоверием произнес он. – И вообще, Евгений, кто это такие «мы», и с какой целью вы стараетесь притвориться друзьями народа?
– Во-первых, – сказал Мартынов, – «мы» – это ваш покорный слуга, потом государыня-императрица Ольга Александровна и канцлер Империи Павел Павлович Одинцов, а также оба героя Тюренченского сражения: наш будущий князь-консорт Александр Владимирович Новиков и Великий князь Михаил Александрович. И это я вам назвал только лиц, непосредственно приближенных к трону и представляющих собой саму квинтэссенцию власти. Кроме того, на пост министра экономики канцлером уже назначен сочувствующий большевистским идеям фабрикант Савва Морозов, а министром финансов назначен честный спец господин Кутлер. В экономическом блоке вакантно пока только место министра труда. Господин Ульянов, он же товарищ Ленин, которого планируется назначить на эту должность – человек сложный, и его еще на это придется уговаривать, как какую-нибудь барышню-гимназистку на первое свидание…
– Но постойте, Евгений! – нетерпеливо воскликнул Коба, – и ответьте мне на один вопрос. Скажите, а с чего это вы вдруг неожиданно стали переживать за угнетенный рабочий класс, в то время как прежде вам и дела до этого не было?
– А прежде, – просто ответил Мартынов, – в этом мире не было и нас самих. Я, канцлер Одинцов, полковник Новиков и другие наши товарищи появились в этом мире только первого марта, возникнув на своих кораблях прямо посреди Тихого океана. Одним словом, люди мы тут не местные, а пришедшие из далекого две тысячи семнадцатого года…
– Я вам не вэрю, Евгений, – с сильным акцентом сказал Коба, – вы все врете. Такого не может быть, потому что такого не может быть никогда.
– Хотите доказательств? Будут вам доказательства! – произнес Мартынов, открывая ящик стола и доставая оттуда фотографию. – Вот, держите и смотрите. Скажите, Иосиф, вам знаком этот человек?
С некоторым недоверием Коба разглядывал врученное ему цветное фото и ничего не понимал. Седоволосый, усатый мужчина в генеральском мундире был ему чем-то смутно знаком… Таким бы, наверное, сейчас мог бы быть его отец, если бы родился в семье князя, а не нищего крестьянина. Вот только почему у этого генерала такие странные погоны, а на груди, там, где должны быть ордена, непонятная золотая пятиконечная звезда на красной колодке?
– Смотрите внимательно, Иосиф, – со странной интонацией в голосе сказал Мартынов, – этот человек должен быть вам очень хорошо знаком…
– Я вас не понимаю, Евгений, – сказал Коба, откладывая фотографию на стол, – я никогда не видел этого человека, хотя должен признать, что он мне кого-то напоминает…
– Ну конечно же, напоминает, – хмыкнул Мартынов, – этого человека ты видишь каждый раз, когда смотришься в зеркало. Это ты сам, но только сорок или пятьдесят лет спустя – в ореоле правителя-победителя, построившего первую в мире социалистическую державу и выигравшего тяжелейшую войну. Все считали невозможным практическое построение социализма в отдельно взятой стране, а ты взялся за это и довел дело до конца.
– Погодите, Евгений… – растерянно сказал Коба, – но как так может быть? Вы, наверное, взяли этого человека и специально загримировали и одели его для этой мистификации…
– Никакой мистификации тут нет, – решительно ответил Мартынов, – это именно вы – отец народов, вождь и учитель, генералиссимус и лучший друг советских физкультурников – стоите гордый, как Сизиф, все-таки вкативший на гору свой камень. И откуда же вам было знать, что еще сорок лет спустя после вашей смерти все построенное вами рухнет, а ваши идейные наследники сначала интеллектуально выродятся, а потом растащат страну на отдельные части…
– Но как такое вообще могло случиться? – недоуменно спросил Коба, – что вы попали оттуда сюда к нам?
– В подробности той истории я вас посвящать не буду, вы уж извините, – пожал плечами Мартынов, – потому что одни назовут ее стечением случайных обстоятельств, другие – последствиями технических недоработок и недостаточной испытанности новой техники, а третьи – проявлением Божьей воли… Другое дело, что, оказавшись в этом мире, мы как лососи на нерест, устремились на грохот залпов разгорающейся русско-японской войны. Результат известен всему миру. Японский флот на дне, армия разгромлена, а император страны восходящего солнца согласился признать свое поражение. Потом, победив внешних врагов, мы занялись внутренними неустройствами, и помощниками нам стали младшие брат и сестра бывшего императора, которые оказались людьми, не лишенными совести… Мы использовали эти их устремления, присоединив к ним свою осведомленность о подспудном смысле событий и умение вести политику в значительно более жестких условиях, чем имеются сейчас. Наша цель – империя с человеческим лицом, в которой не будет нищих и голодных, босоногих и ободранных.
– Ну хорошо, Евгений, – сказал Коба, снова опустившись на свой стул, – я вам почти поверил. Имея знания о будущем, вы вполне могли очаровать и взять под свой контроль двух младших детей позапрошлого императора Александра. Но только скажите – какой вам был прок вступаться за угнетенных трудящихся? Ведь вы же по самому своему положению оказались у самой верхушки класса эксплуататоров?
– Опять же это была совесть, – ответил Мартынов. – Совесть, мой дорогой Иосиф, это такая штука, что если она есть, то против нее не попрешь… Да и государственные интересы тоже требуют, чтобы основная народная масса не прозябала в нищете, а по результатам своего труда могла бы жить сытой, счастливой жизнью. Иначе ни нормальную промышленность не развить, ни лояльную армию не создать, ибо солдаты, происходящие из нищего и голодного народа, в конце концов, не будут со всей отдачей сражаться за веру, царя и отечество, а станут искать способ, как бы перевести войну империалистическую в войну гражданскую. Нам известны общие закономерности развития общества, а также большинство тех ошибок, которые вы сделали, когда были первопроходцем. Мы хотим соединить абсолютную монархию во главе с правильной императрицей и стремление нашего народа к справедливости. При этом мы совсем не хотим разрушать страну, какие бы благие побуждения за этим ни стояли, потому что в прошлый раз две революции, буржуазная и социалистическая, а также громыхнувшая после них гражданская война стоили России задержки развития в пятнадцать лет. Вы думаете, в условиях разрухи и бандитского беспредела, появившегося после падения Российской империи, пролетариат и беднейшее крестьянство оказались счастливы? Да черта с два! В кровавой кутерьме сгинули двадцать миллионов человек, а остальные вдосталь нахлебались голода и разрухи. Мы против такой цены за воплощение вековой мечты человечества о построении справедливого государства, а потому, как сказал ваш Ильич, пойдем другим путем. У нормальных специалистов дела так не делаются. Революция сверху – это тоже революция, даже если она ставит своей целью улучшение и усиление существующего государства, а не его уничтожение. Наша цель – сделать Российскую империю богатым, сильным и процветающим государством, но это невозможно, если мы не сумеем добиться установления всеобщей социальной справедливости – и именно для достижения этой цели мы и предлагаем союз партии большевиков. Мы знаем, что и как нужно делать, на что обращать внимание в первую очередь, а на что потом, а у вас есть мотивированные люди, которые сделали борьбу за идеалы справедливости смыслом своей жизни. Кроме того, у нас есть власть и влияние, и всю их мощь мы сможем обрушить на тех, кто будет сопротивляться построению справедливого общества. А таких будет немало даже среди революционеров, ибо борцов за справедливость и народное счастье в рядах революционных партий чуть ли не столько же, сколько желающих насладиться разрушением государства и созданием всеобщего хаоса. И таковые есть даже среди большевиков, хотя вашу партию можно назвать наименее приверженной этому безумию.
– Да уж… – сказал Коба, – наговорили вы, Евгений, столько, что голова кругом идет. Я не знаю, на что вы рассчитываете, но вряд ли у вас что-нибудь получится, ведь ниспровержение самодержавия – это краеугольный камень нашей большевистской программы…
– А вот тогда, – с серьезным видом произнес полковник Мартынов, – между нами вспыхнет война, ибо мы безжалостны и несентиментальны, и никакого ниспровержения самодержавия допускать не собираемся. А на войне как на войне – пули и бомбы обычно летают в обе стороны, и те ваши товарищи, которые поставят себе цель уничтожить нас, в свою очередь будут уничтожены сами. Но вам, Иосиф, мы дадим возможность подумать. Сейчас вас отведут в уютную одиночную камеру, где вас уже ждет горячий обед, а также книги, которые должны вызвать у вас немалое любопытство. На чтение и обдумывание моего предложения у вас будут ровно сутки, после чего вас ждет встреча с канцлером Одинцовым.
[10 августа 1904 года, 12:15. Санкт-Петербург, Зимний дворец, кабинет Канцлера Российской Империи Канцлер Империи Павел Павлович Одинцов и Иосиф Виссарионович Джугашвили, он же товарищ Коба.]
Последние сутки пролетели для товарища Кобы как одна минута. И хоть его одиночная камера больше напоминала номер в недорогой гостинице (правда без вшей и клопов), а обед, ужин и завтрак были сытными и достаточно вкусными, будущий отец народов не обратил на эти обстоятельства ни малейшего внимания. Главным, что его заинтересовало, была стопка книг, возвышающаяся на прикроватной тумбочке. Другому человеку этого чтения хватило бы и на неделю, но Коба был не таков. На первом этапе он должен получить хотя бы общее представление об их содержимом, потому что иначе он будет бессилен во время беседы с канцлером Одинцовым, который представлялся ему версией господина Мартынова, только более старшей, более опытной и жесткой.
Этот офицер, несмотря на молодость, дослужившийся уже до чина подполковника, представлялся Кобе отлитым из цельного куска стали и до звона закаленным в каком-то адском горниле. Воистину он безжалостен и несентиментален, и без малейшей умственной судороги уничтожит любого, кто рискнет встать у него на пути. Но если таков молодой представитель ТОЙ РОССИИ, то каков же должен быть его начальник – человек еще более опытный, более жесткий и дальновидный, который и толкает сейчас Россию по какому-то новому, еще неведомому никому пути? Поэтому, готовясь к встрече, Коба и припал к лежащему перед ним роднику мудрости будущего, вода которого была отравлена ядом сомнения. Ведь ему со слов Мартынова было известно, что однажды он уже прошел этот путь, создал на месте Российской Империи государство рабочих и крестьян, а потом, после его смерти, оно с грохотом рухнуло и социализм, построенный по заветам Маркса и Энгельса, снова обратился в свою капиталистическую противоположность…
Еще одним достоинством этой одиночной камеры повышенной комфортности была мощная электрическая лампа, которая позволяла читать, не напрягая глаз. Вот Коба и читал, мечась от «Истории КПСС» к «Истории СССР» и «Истории России». Потом он хватался за «Битву за хлеб» Елены Прудниковой, или за «Первое поражение Сталина», авторства некоего Юрия Жукова, а после листал страницы книги Бушкова «Сталин. Красный Монарх» и снова возвращался к «Истории КПСС». Ведь это он был центральным героем этих книг – тем самым Сизифом, вкатившим свой камень на вершину Голгофы, где его потом, после смерти, и распяли неблагодарные последователи-эпигоны, решившие, что, пиная мертвого льва, они хоть немного приподнимут свой авторитет. Час проходил за часом, за зарешеченным окном камеры сгустилась ночная тьма, а молодой Коба продолжал чтение и, вживаясь в образ, по очереди примерял то серый китель без знаков различия, то тяжелую, как отравленные Нессовы одежды, шинель советского генералиссимуса. Уже когда на дворе была глубокая ночь, он набрался наглости и, постучав в «кормушку», потребовал себе крепкого черного чаю и папирос, чтобы прогнать сон. К его удивлению, просимое было почти сразу же предоставлено, как будто он был не обычным заключенным, а важным гостем, неким графом Монте-Кристо. Очевидно, что полковник Мартынов не ограничился одними уверениями в его особом статусе, а отдал своим сатрапам особые указания…
К утру в голове у Кобы сложилась более-менее внятная непротиворечивая картина того, к чему привела прошлая история, будучи пущенной на самотек. Проклятый царизм они со Стариком (Лениным) все-таки победили; точнее, он сам себя победил, буржуазную революцию превратили в социалистическую… и тут же заполучили затяжную и катастрофическую гражданскую войну. И именно тогда он, Коба-Сталин, действительно потерпел свое первое поражение – и не от каких-нибудь пережитков отжившего прошлого, а от самого Старика, разделившего единую изначально Советскую Республику на множество национальных уделов. Дальнейшие события – и про коллективизацию, и про индустриализацию, и про Великую Войну – Коба просматривал только с беглой конспективностью. Последствия ошибок и уступок оппонентам, сделанных на начальном этапе формирования партии, накапливались, накручиваясь как снежный ком, и, пройдя высшую точку своей траектории году так в семидесятом, первое социалистическое государство стремительно заскользило вниз, к воронке девяносто первого года. Семьдесят лет движения к светлому будущему в России, конечно, не сравнить с семьюдесятью днями Парижской Коммуны, но в какой-то мере это явления одного порядка.
Неверно взятый прицел, недостаточный начальный импульс или слишком сильное сопротивление среды – и вместо самоподдерживающейся и саморазвивающейся системы, способной выйти на политическую орбиту и существовать там длительное время (в быту именуемое вечностью) получается пологая баллистическая кривая переменной кривизны, которая рано или поздно вернет первое государство рабочих и крестьян к исходной капиталистической формации. А остальное – и троцкизм, и неистовство репрессий, и издержки, с которыми удалось победить в Великой Войне, и беснование соратников после его смерти, и трухлявая изнанка «развитого социализма» – это всего лишь последствия первоначальных ошибок, влияющие на результат процесса в самой минимальной степени.
Конечно, эти, да и другие, книги, которые могли бы предоставить подполковник Мартынов и его товарищи, следовало читать не торопясь, тщательно, с карандашом в руках, а быть может, и с составлением конспекта – но на это мало одних суток. Для такой титанической работы требуются недели или даже месяцы. Но и того минимума, который Коба успел узнать, вполне хватало на то, чтобы встретиться с главным пришельцем из будущего и выслушать его предложения. И тогда (и только тогда) придет время соглашаться или не соглашаться, строить планы и добиваться их исполнения. Одним словом, к тому моменту, когда Кобу извлекли из камеры, он уже, что называется, «дозревал». Впрочем, к канцлеру Одинцову молодой революционер попал не сразу – прежде ему пришлось посетить местного цирюльника и сменить свой пролетарский прикид на приличный деловой костюм-тройку светлого цвета, вполне пригодный для визита в Зимний Дворец. И выглядел он теперь не как беглый революционер, пролетарий и потрясатель основ, а как состоятельный господин, похожий на путешествующего инкогнито кавказского князя.
Привезли Кобу на аудиенцию в Зимний дворец не в тюремной карете (еще чего не хватало), а в отрытом господском экипаже, который никому не бросался в глаза, и ввели в здание через боковой ход. Сопровождающие недобровольного гостя так же были одеты в штатское, и поэтому эти трое господ, что вошли в здание мимо козырнувшего часового, не привлекли ничьего внимания. Еще несколько минут – и вот Коба уже стоит в кабинете канцлера Империи, и они смотрят друг на друга глаза в глаза. – Ну, здравствуйте, товарищ Сталин, – медленно говорит хозяин кабинета, – садитесь, давайте поговорим.
– Здравствуйте, господин Одинцов, – настороженно ответил Коба, усаживаясь на предложенный стул, – но только вы ошибаетесь. Я пока еще не товарищ Сталин, а только учусь им быть.
– Я тоже только учусь быть канцлером Империи, – ответил Одинцов, – а следовательно, у нас с вами одинаковые проблемы.
Коба немного поерзал на своем стуле.
– Господин канцлер, – сказал он, – вы приказали своим держимордам похитить меня в Тифлисе и втайне от всех привезти в Петербург. Зачем все это? Неужели только ради того, чтобы, как сказал господин Мартынов, предложить мне – то есть нам, большевикам – некий союз ради народного счастья?
Одинцов на какое-то время задумался, вертя в руках карандаш, а потом произнес:
– Знаете, Сосо, ходит такая легенда: когда ваш большевистский вождь Владимир Ульянов (он же товарищ Ленин, Старик и прочее) в шестнадцать лет узнал о казни старшего брата Александра, замешанного в подготовку народовольцами покушения на царя, то он при матери произнес историческую фразу: «Мы пойдем другим путем…».
– Возможно, – кивнул Коба, чуть поморщившись, когда канцлер назвал его Сосо, – ведь он и в самом деле пошел другим путем, чем его брат-народоволец, и является последовательным противником индивидуального террора.
– Зато, – пожал плечами канцлер, – он вполне одобряет террор массовый; ну или будет одобрять, когда дорвется до власти. Это сейчас вы, революционеры, милые и пушистые, а стоит вам создать свое государство – в народ из винтовок вы будете стрелять ничуть не хуже царских сатрапов.
– Господин канцлер, – резко ответил Коба, – в условиях, когда капиталисты лишают трудовой народ всех возможностей мирной легальной борьбы, запрещая протестные демонстрации и стачки, у нас, революционеров, нет другого выхода, кроме как взяться за оружие и драться, невзирая на жертвы с обеих сторон. И если нам удастся совершить революцию и отстранить от власти правящую камарилью, то, я почти уверен, наши враги, капиталисты и помещики, силой попытаются вернуть все на круги своя, и нам придется с ними бороться силой оружия. И именно это доказала ваша история, в которой после пролетарской социалистической революции случилась Гражданская война.
– Окститесь, Сосо, – вздохнул канцлер Одинцов, – сколько в России тех самых капиталистов и помещиков – один или два процента от всего населения. Такое ничтожное меньшинство, если за ним не стоит государственный репрессивный аппарат, становится бессильным в своем ничтожестве. Против вас же в той Гражданской войне, сражались широчайшие круги населения. И победили вы ваших врагов только потому, что хотели построить новый мир, а ваши противники желали вернуть старые порядки, что невозможно так же, как оживить покойника. Но суть даже не в том, что вы хотели сделать, а в том, какую цену пришлось за это заплатить и какие люди использовались в той революционной борьбе. Ваша революция окончилась неудачей еще и потому, что в основе всего лежала человеческая кровь, и она потом дала о себе знать. Почти бескровный октябрьский переворот в Петрограде и миллионные жертвы последовавшей за ним Гражданской войны. При этом погибшие непосредственно в боях составляли абсолютное меньшинство. Холод, голод, тиф, бессудные убийства революционными чекистами и контрреволюционными контрразведчиками. Потом десятки и сотни тысяч жертв репрессий, когда в середине тридцатых ваше государство с ужасными издержками боролось с пережитками гражданской войны, и последовавшая за этим Великая Отечественная Война, в которой жертвы исчислялись уже миллионами… В том числе это были и жертвы действий тех героев Гражданской войны, которые революционное правосознание и пролетарскую сознательность ставили выше умения вести войну настоящим образом. Если посчитать, сколько мы, то есть Россия, потеряли сил во время любой из ключевых фаз, то хватило бы пару раз догнать и перегнать Америку.
– Я еще слабо разобрался в этом вопросе, – пожал плечами Коба, – но, возможно, вы и правы. Если бы сразу после пролетарской революции не случилось гражданской войны, мы почти сразу могли перейти к социалистическому строительству, а следовательно, в годы Великой войны проблема вражеского перевеса в силах на начальном этапе не стояла бы так остро…
– Ну да, – хмыкнул Одинцов, – если бы не было Гражданской войны с ее красным и белым террором, разказачиванием, окраинным националистическим сепаратизмом, вооруженными интервенциями почти всех соседних держав, двадцатью миллионами погибших и двумя миллионами эмигрантов, то все пошло бы совсем по-иному. Но самое главное последствие Гражданской войны – в том ужасе, который стало внушать всем соседним народам слово «большевизм». Не будь этого страха – и сопротивление социалистическим революциям в Венгрии и Германии было бы на порядок слабее, и соцлагерь образовался бы на двадцать лет раньше. Люди, которых позже назовут троцкистами, не сумели бы захватить ключевые посты с Советской Республике – а значит, отпала бы необходимость в репрессиях, да и сама Великая Отечественная Война тоже оказалась бы под вопросом, ибо нападение на союз социалистических стран, где главными членами были Советская Германия и Советская Россия, казался бы англо-французской коалиции форменным самоубийством. Такими темпами, возможно, к концу двадцатого века наши сограждане и в самом деле жили бы если не при коммунизме, то при социализме настолько развитом, что от коммунизма почти не отличается…
– Возможно, это и так, господин канцлер, – кивнул Коба, – я, собственно, даже не понял, с чего все началось. Вроде бы все было тихо-мирно, новая власть при минимуме насилия овладевала умами людей – и вдруг все заполыхало так, что сразу и не потушишь.
Одинцов покачал головой.
– Этой гражданской войны, – сказал он, – хотели многие – как среди революционеров, планировавших подняться наверх на ее кровавой пене, так и в противоположном лагере. А этот лагерь был широк – так, что шире не бывает: от представителей «чистой публики», недовольной тем, что народ (в их интерпретации быдло), взял власть в свои руки, до лидеров зарубежных держав, планировавших расчленить ослабленную Гражданской войной Россию. Ослабить у них получилось, а вот расчленить нет…
– Господин канцлер, – настойчиво произнес Коба, – скажите же наконец, что вы предлагаете. Только не говорите, что надо оставить все так, как есть, ибо жить простому народу при существующих порядках становится уже невозможно.
– Нет, – ответил Одинцов, – оставлять все как есть или отделываться чисто косметическим ремонтом (вроде отмены выкупных платежей) для России прямо противопоказано. Вы правильно сказали, что жить так дальше нельзя. Когда мы ехали сюда, в Санкт-Петербург, с Дальнего Востока, от всего увиденного у меня и моих товарищей сжимались кулаки. В отдельно избранных местах хотелось остановить эшелоны, высадить сопровождающую нас бригаду морской пехоты и перевешать все местное начальство и скотов-промышленников на фонарных столбах и деревьях. Кричащая роскошь одних и вопиющая нищета других приводят в ярость. У нас ТАМ тоже не все ладно, но ТАКОГО не видали уже лет девяносто. Авгиевы конюшни и то, наверное, смердели не так сильно. Мы готовы подписаться под всеми пунктами большевистской программы, кроме одного. Свергать императрицу Ольгу и разрушать государство мы вам не позволим, а в остальном для нас нет ничего невозможного. Сотрудничает же ваша партия с фабрикантом Саввой Морозовым. А мы способны дать вам значительно больше, чем две тысячи рублей в месяц на издание вашей «Искры». Государыня уполномочила меня предложить вам заменить требование низвержения самодержавия и диктатуры пролетариата на поэтапную социалистическую эволюцию, при которой опорным классом для государства будет не только рабочий класс и беднейшее крестьянство, но и прочие слои населения, занятые общественно полезным, созидательным трудом, в том числе и умственным.
– Это очень интересно… – медленно сказал Коба, – но заставляет задуматься, нет ли тут какого-нибудь обмана. С социалистами-революционерами вы, например, расправляетесь очень жестоко, несмотря на то, что они тоже хотят установить справедливость. Не получится ли так, что мы поверим в ваши обещания, раскроемся, а потом вы нас за одну ночь цап-царап – и дело в шляпе?
– Не получится, – хмуро ответил Одинцов, – с эсерами мы воюем насмерть, потому что их цель – именно разрушение государства и ниспровержение всего и вся, а программа у них только для отвода глаз. Будете более внимательно изучать семнадцатый год нашей истории, обратите внимание, что, дорвавшись до власти в феврале семнадцатого, эти сверхпопулярные у крестьянства деятели так и не выполнили ни одного пункта из своей программы, зато сумели довести государство до состояния полураспада, а выполнили их программу большевики, когда захватили власть в октябре.
– Я обратил на это внимание, – с легкой улыбкой сказал Коба, – но кроме эсеров, у нас еще имеются меньшевики. Почему вы не обратитесь за помощью к ним?
– А потому, – ответил Одинцов, – что эти люди в тяжелой форме страдают политической импотенцией, и никакой помощи, даже если они согласятся ее оказать, от них не дождешься. Господин Плеханов – это не больше чем пустышка, яркая обертка, внутри которой нет конфеты, и разговаривать с ним бессмысленно. Заболтают любой вопрос. Убивать как эсеров их, конечно, не за что, но единственная работа, которую можно доверить меньшевикам – это стоять пугалом на огороде и наводить ужас на ворон.
– Суровый вы человек, господин канцлер, – усмехнулся Коба, – и ведь не возразишь – именно поэтому мы с ними и размежевались, что от нас наша совесть требует действий, а они умеют только болтать. Что же касается вашего предложения, то я тут ничем помочь не могу. Мне самому кажется, что в нем есть рациональное зерно, и этот путь можно хотя бы попробовать; но принять его может даже не Старик или ЦК своим решением, а как минимум съезд партии, на который припрутся и меньшевики, и Бунд, и польско-литовские социал-демократы, которые у нас пока еще отдельное явление. Есть мнение, что ваше предложение будет провалено, причем все переругаются между собой до хрипоты.
– Ну, Сосо, – усмехнулся Одинцов, – если Стариком вы называете товарища Ленина, то, как вы говорите, есть мнение, что если он чего-то пожелает, то сможет увлечь за собой хотя бы фракцию большевиков. И этого будет достаточно. В противном случае нужных людей из этой партии придется выдергивать по одному, а всех остальных отправить в топку…
– Господин канцлер, – немного резко произнес Коба, – вы действительно готовы объявить войну большевикам то за то, что они откажутся от вашего предложения?
– А мы и так с вами воюем, – хмыкнул Одинцов, – потому что вы хотите низвергнуть самодержавие и разрушить государство, а мы все это защищаем. Протянутая мною рука с предложением мира и союза ничуть не отменяет того факта. А воевать мы умеем – можете спросить хотя бы у эсеров, заговорщиков и казнокрадов. Еще чего не хватало: деньги с народа по копеечке на государственные нужды собирали, а они их красть будут. Да черта с два!
– Хорошо, господин канцлер, – кивнул Коба, – я напишу письмо товарищу Ленину с изложением вашей позиции. А пока позвольте узнать – какое положение будет у меня самого? Ведь пока я вроде как арестант…
– Вам, Сосо, – сказал Одинцов, – как по похожему поводу в нашем мире сказал товарищ Ленин, требуется учиться, учиться и еще раз учиться. И учиться не только марксизму и истории нашего прошлого, но и прочим наукам. Для того, что вам предстоит в итоге, вы должны стать высокообразованным человеком с широким кругозором, ведь знания – это тоже сила и оружие.
– А что мне предстоит, господин Одинцов? – с интересом спросил Коба.
– Сначала, – ответил тот, – к примеру, вы будете редактором легальной и нелегальной большевистских газет. Причем нелегальная газета будет таковой чисто формально, потому что никто всерьез не будет разыскивать ее типографию и редакцию. А потом, лет через двадцать, в один прекрасный день вы займете мое место и поведете страну дальше, курсом к империалистическому социализму, или социалистическому империализму. Это будет видно позже, когда обозначатся общие контуры. Главное – это интересы России, а остальное побоку. А сейчас ступайте; я дам распоряжение Евгению Петровичу, чтобы вас из состояния почетного пленника перевели на положение дорогого гостя и предоставили вам доступ ко всей необходимой при вашей работе литературе. Желаю вам в этом деле всяческих успехов…
Часть 22. Дела местного значения
[12 августа 1904 года, полдень. Санкт-Петербург, Зимний дворец, кабинет Канцлера Российской Империи. Канцлер Империи Павел Павлович Одинцов.]
Ну вот, фигуры первого ранга расставлены на своих местах и отчасти приступили к работе; пришло время браться за второй эшелон, то есть за вакантные должности, не имеющие ранг министра, но тем не менее напрямую подчиненные канцлеру, то есть мне. Одна из первых задач, стоящих перед нашим правительством – это навести порядок с хлебной торговлей. Стопроцентную хлебную монополию на внутреннем рынке, при трезвом взгляде на положение вещей, мы вводить все же не стали, потому что так можно полностью прекратить снабжение продовольствием промышленных центров и вызвать для себя ненужные проблемы. Ведь свою государственную организацию, необходимую для обеспечения поставок зерна, нам еще только предстоит создать. По предварительным наметкам, это будет акционерная корпорация «Россзерно» со смешанным частно-государственным капиталом – одна из многих, предназначенных для решения стратегических задач.
Не менее пятидесяти процентов плюс один голос должны принадлежать государству, и лишь остальные пятьдесят – частным инвесторам. Государственную долю императрица Ольга распорядилась внести из специально созданного Инвестиционного Фонда, куда стекались капиталы, конфискованные у участников заговора Владимировичей, а также деньги деятелей, схваченных за руку на казнокрадстве и на прочих неблаговидных делах. Коллизия российского законодательства была такова, что члены правящей семьи – то есть Великие князья и Великие княгини – что бы они ни натворили, подлежат исключительно суду правящего монарха. Но если Николай своих родичей прощал всех подряд, даже не снисходя до разбирательств, то Ольгу еще приходится сдерживать, а иначе она загнала бы в Пишпек с конфискацией имущества большую часть правящей фамилии, представлявшую собой свору зажравшихся дармоедов. Никто так много и со вкусом не торгует Родиной, как Великие князья; и только единицы из них полезны государству.
Так, например, помимо Владимировичей, раскассированных в пух и прах, арест уже был наложен на имущество и денежные средства бывшего генерал-адмирала Алексея Александровича. «Дядя Леша», первостатейный казнокрад и широкая душа, в настоящее время пребывал в Париже, где отдыхал от трудов праведных в объятиях очередной пассии. Похоже, что, почуяв запах паленого, этот человек решил переждать бурю подальше от ее эпицентра, но не учел, что его могут взять не только по политическим мотивам, но и за банальное воровство. Отставка со всех постов, арест имущества и капиталов, а также объявление в розыск стало для него громом средь ясного неба. И все это – при самом широком опубликовании в печати, в знак того, что неприкосновенных больше нет. Личный суд императрицы над членами фамилии Романовых, оказался даже суровее и беспристрастнее, чем Суд Присяжных. Тех можно хотя бы попытаться разжалобить или подкупить, но Ольга была суровой как утес в Северном море. Она говорит, что в такие моменты вызывает в памяти образы голодных детей, просящих милостыню на железнодорожных станциях.
Алексей Александрович, как и многие другие его собратья по сонмищу Великих князей, является одним из самых ненавидимых людей в Российской империи, и больше всего недоброжелателей у него как раз на курируемом им флоте, чрезвычайно страдающем от дурного управления и воровства. К тому же у Мартынова в казематах Трубецкого бастиона Петропавловки в полном составе сидят подельники Александра Михайловича, члены Безобразовской шайки, своей жадностью и беспринципностью спровоцировавшие русско-японскую войну. Эти шакалы не великокняжеских кровей, поэтому их судьба – стать подсудимыми на открытом процессе; и доят их на адреса, пароли, явки в Петропавловке не по-детски. Чем больше гешефтмахеров удастся захватить бреднем в первом заходе, тем лучше мы вычистим авгиевы конюшни. Сказать честно, заговор Владимировичей – это такое приятное дело, что я их уже почти люблю, особенно глупую тетку Михень. По подозрению в причастности к ее затее можно хватать почти любого из элиты, потому что замазаны все. Теперь у Мартынова на очереди генерал-фельдцейхмейстер Великой князь Сергей Михайлович, второй любовничек Матильды Кшесинской, рыло у которого в пуху до самых пяток.
Одним словом, мы вскрыли назревший нарыв, и оттуда жирной струей потек зловонный гной. Хоть делается это не ради дешевой популярности, авторитет юной императрицы медленно, но верно ползет вверх. Люди видят, что каким-то чудом пришедшая к власти молодая девчонка, затянутая в черное платье, выполняет их самые затаенные желания по очистке страны от коррупционной скверны. На этом фоне теряются вопросы о том, что за люди окружают юную императрицу и подставляют ей свое плечо. Последние десять лет, после кровавой давки на Ходынке, вся страна жила с ощущением, что так дальше нельзя, и ожидая перемен. Не только так называемой прогрессивной интеллигенции, но и людям вполне консервативных убеждений царствование Николая Второго представлялось затхлым застоем, знаменательным смердящей коррупцией и некомпетентностью высших чинов. Все ждали ветров перемен, которые разгонят зловонные миазмы и дадут дышать полной грудью. Поэтому, когда императрица, практически не задумываясь, загнала Владимировичей в глухую Тьмутаракань, даже левые газеты на некоторое время поумерили лай в адрес власти, а взамен взахлеб залились криками: «Ату! Ату! Куси, его куси!». Ведь это так сладко – чувствовать себя членом стаи, травящей крупную добычу. Правда, потом у некоторых это неумеренный восторг сменился скулящим опасением за собственную шкуру, но это уже совсем другая история.
Кроме всего прочего, для финансирования разных неотложных задач императрица Ольга во всеуслышание объявила о резком урезании всех расходов императорской фамилии. Никаких празднеств, увеселений, покупок предметов роскоши, бриллиантов, яиц фаберже и прочей дребедени. Пока народ голодает и живет в нищете, она, императрица, отказывается от излишеств, а тех, кто не захочет последовать ее примеру принудит к этому силой. В том числе и тех Великих князей, до которых руки пока еще не дошли для того, чтобы закатать их по глухим углам Российской империи – ежегодные выплаты им следует сократить с двухсот до ста тысяч рублей. При этом в течение года те Великие князья, что до сей поры не были заняты никакой полезной деятельностью, должны найти себе применение, а иначе они прекратят получать и эти выплаты. Кроме того, приданое, выдаваемое великим княжнам и княжнам императорской крови при вступлении в брак, сокращается с миллиона до двухсот тысяч. Единственная статья, расходы по которой останутся неизменными – это содержание Императорских театров, которые производят годовой убыток на сумму в два миллиона в год. Общим счетом, по предварительным прикидкам, из двадцати миллионов золотых рублей (около пятидесяти миллиардов на наши деньги) удавалось сэкономить восемь (то есть сорок процентов), и эти деньги тоже будут поступать в Инвестиционный Фонд. Дальнейший прогресс в этой сфере может случиться в том случае, если удастся ликвидировать (то есть продать) какое-то количество принадлежащих императорской семье малых летних резиденций и дач (излишних с практической точки зрения), в числе которых находится и Ливадийский дворец неподалеку от Ялты. Впрочем, как раз его планируется сохранить для использования в представительских целях. Да и не хочет Ольга продавать то место, где испустил последний вздох ее любимый отец.
Казалось бы, в условиях такого невиданного притеснения и поношения местных элит можно ожидать их консолидации и попытку еще одного переворота в стиле заговора Владимировичей – на этот раз, к примеру, под знаменем Великого князя Николая Николаевича младшего. Но у наших оппонентов кишка на такие действия оказалась тонка. Во-первых – в Петербурге вовсю свирепствует Служба Имперской Безопасности, куда набрали самых отъявленных монархистов и сторонников сильной руки, которая всех скрутит в бараний рог, невзирая на лица. Во-вторых – Зимний Дворец охраняют не преображенцы, запятнавшие себя изменой, а подразделения из бригады морской пехоты полковника Новикова. Эти головорезы готовы за своего командира и в огонь и в воду, как за родного отца, а императрица для них – добрая матушка. Когда эти солдаты пришли в новиковскую бригаду на островах Элиота, к ним впервые отнеслись не как к нижним чинам (которым вместо голов было бы достаточно органчиков), а как к людям – таким же, как господа офицеры. Пожалуй, нечто подобное было только у Петра Первого в виде Семеновского и Преображенского полков. Личная гвардия безоговорочной преданности. Кроме морских пехотинцев, стопроцентно лояльны императрице моряки, синие кирасиры и ахтырские гусары. Дополнительно, для усиления безопасности, в Санкт-Петербург с Дальнего Востока перебрасываются части, участвовавшие в знаменитом Тюренченском сражении и прославившие русское оружие под командой Великого князя Михаила и полковника Новикова. Командует сводным корпусом безумно храбрый и честный генерал Келлер. Возможно, из этого получится Новая Гвардия; хотя и старую, петровскую Гвардию сбрасывать со счетов преждевременно.
Но вернемся к корпорации «Росзерно». И сама императрица, и Великий князь Михаил, и даже экс-император Николай, кроме Государственного взноса из Инвестиционного фонда, сделали взносы в капитал как частные лица, благо все трое были люди небедные. В случае с Николаем – это, скорее всего, благотворное влияние любезной Аллы Викторовны. Бывший русский император – в умственном плане человек чрезвычайно пластичный и подверженный женскому влиянию. Недаром же говорили, что мнение Александры Федоровны для Николая важнее, чем все рекомендации его министров и советников. Следом за Николаем и госпожа Лисовая сделала взнос от лица нашей корпорации попаданцев. Консолидировано «своих» частных взносов набралось еще процентов на двадцать, поэтому на оставшиеся тридцать процентов капиталов требовалось найти дополнительных частных инвесторов, после чего прицепить к этому поезду паровоз, то есть подобрать кадры, которые и потянут весь этот воз.
И такие кадры в стране имеются. На этот раз это не один, а целых два человека, которых канцлер Одинцов вызвал к себе одновременно. Из Нижнего Новгорода был приглашен шестидесятисемилетний купец-старообрядец Николай Бугров. Колоритнейший, надо сказать, персонаж. Зимой и летом ходит в кафтане, рубахе-косоворотке, козловых сапогах и картузе, окладистая седая борода «лопатой» при этом аккуратно подстрижена и не выглядит растрепанным веником. Помимо внешней примечательности, этот человек знаменит тем, что принадлежит к числу богатейших и успешнейших нижегородских купцов-хлебопромышленников. В собственности у Бугрова находятся: целый флот пароходов и барж для перевозки зерна и муки по Волге, зернохранилища и целая сеть вполне технически прогрессивных мельниц. У конкурентов мельницы водяные, зависящие от времени года и погодных условий, а у Бугрова – паровые (которым безразлично, на какой высоте стоит вода в местных речках), да еще и размалывающие зерно прогрессивным вальцовым способом, а потому особо производительные. Кроме всего прочего, Бугров входит в число купцов, которым дозволено поставлять муку и фуражное зерно для снабжения армейских частей (а такая честь выпадает далеко не каждому). Вот тебе и бородатый мужик-старообрядец…
При этом Бугров не является типичным выжигой, сдирающим с ближнего по семь шкур. Штат у него небольшой, но высокооплачиваемый, а прибыли он делит в следующем соотношении: сорок пять процентов – на развитие производства, столько же – на нужды родного ему Нижнего Новгорода и благотворительность, и только десять процентов – на себя лично. Да ему много и не надо. Наряд у него самый простой, стены в доме оклеены дешевыми обоями, а питается он не разносолами, а исключительно щами и кашами. Зато на его деньги в конце девятнадцатого века в Нижнем Новгороде была устроена первая центральная канализация, перекладывать которую понадобилось только через сто лет. Сравните с миллиардерами-олигархами из родного двадцать первого века, коим это человек равен по масштабам – и поймете, как за это время измельчали души и испортились нравы.
Бугрова Одинцов планировал привлечь из-за его талантов, без которых не представлялось возможным построить монструозную хлебопромышленную корпорацию, раскинувшуюся на всю территорию Российской империи и по масштабам кроющую конкурентов как Ахиллес черепаху. Монополия на экспорт, промышленные элеваторы для хранения больших резервов зерна, необходимых для борьбы с голодом в случае неурожаев, льготные железнодорожные тарифы и внеочередной пропуск грузов по магистралям с использованием системы ВОСО[11] поставит «Росзерно» в преимущественное положение перед конкурентами, которые частью разорятся, частью будут вынуждены слиться с частно-государственным монополистом. Хлеб и вообще продовольственная безопасность – это слишком серьезный вопрос для того, чтобы отдать его на откуп разным случайностям.
Второй человек в тандеме, которому предстояло управлять зарождающимся монстром – это сорокапятилетний статский советник Алексей Владимирович Коншин, один из директоров Госбанка. На вид это худощавый интеллигент в очках, ходячий арифмометр, битком набитый цифрами. Всю свою жизнь господин Коншин плавно и неостановимо двигался вверх по карьерной лестнице, неотрывно придерживаясь стези финансиста. Статский советник, если перевести гражданские чины на военные – это нечто среднее между полковником и генерал-майором; в армии и на флоте чинов пятого класса попросту не существует и за шестым следует сразу четвертый. Если купец Бугров – мастер организации дела, то господин Коншин назубок знает финансовую сторону вопроса. Деньжищи корпорации выделены просто огромные, и они должны находиться в опытных руках.
– Итак, господа, – сурово говорит Одинцов, когда эти двое оказываются в его кабинете и измеряют друг друга недоверчивыми взглядами, – государыня императрица изволит поручить вам двоим дело государственной важности. В хлебной торговле у нас творится сущий беспорядок, а главное, при совершении сделок не соблюдается государственный интерес. В связи с этим с начала следующего месяца вводится государственная монополия на хлебный экспорт – для его реализации создается частно-государственная акционерная компания «Росзерно». И это – предложение, от которого нельзя отказываться. Половина капитала компании будет за государством, еще пятая часть – за членами императорской фамилии (включая императрицу) как за частными лицами, остальных инвесторов еще предстоит подобрать. Помимо экспортной монополии, у компании будет преимущественное право внеочередного провоза своих грузов по железной дороге по сниженным тарифам, а контроль над движением ее эшелонов будет осуществлять ВОСО. Любой железнодорожный начальник, который засунет эшелон с зерном в тупиковый путь, об этом потом жестоко пожалеет. На базе капитала компании, помимо всего прочего, будет необходимо развить систему элеваторов и ссыпных пунктов, которые не только хранили бы зерно, предназначенное на экспорт, но и держали бы необходимый государству неприкосновенный резерв на случай частичного или полного неурожая. Также в связи с осуществлением переселенческой программы компания «Росзерно» заблаговременно начнет свою деятельность в новых хлебородных губерниях, чтобы выращенные на новом месте урожаи не пропали втуне. Основной задачей, которая будет решать компания, должна быть скупка, хранение, переработка и доставка хлеба либо на экспорт, либо для потребления в нехлебородных губерниях… Господина Коншина планируется назначить финансовым директором новой компании, а господина Бугрова, соответственно, ее исполнительным директором. Финансовый директор работает с деньгами, отвечает за постройку элеваторов, мельниц и ссыпных пунктов, а исполнительный директор в рамках своего бюджета организует процесс скупки, транспортировки и переработки зерна.
– Господин Одинцов, – протирая очки платком, говорит ошарашенный Коншин, – а позвольте полюбопытствовать, какой стартовый капитал выделен для создания обозначенной вами компании?
– Уставной капитал, – ответил Одинцов, – определен в сто двадцать миллионов рублей золотом. Из них казна внесла шестьдесят миллионов, еще двенадцать с небольшим миллионов внесли члены императорской семьи, включая императрицу, а также лица, особо приближенные к трону. Остальные деньги, долю будущих частных инвесторов, еще предстоит найти. При этом государственный банк готов под залог торговых операций на некоторое время выдать суммы, впятеро превышающие стартовый капитал…
Глаза будущего финансового директора немного округляются. Сумма более чем солидная – в нашем прошлом именно в такую сумму обошлась постройка четырех дредноутов типа «Севастополь», а вся Русско-японская война нашей реальности обошлась в два с половиной миллиарда рублей, профинансированных за счет увеличения государственного долга. Тут за счет своевременного вмешательства война вышла скоротечной, а значит, значительно более дешевой, поэтому кое-что остается и на развитие…
Господин Бугров хмыкает и, выкатив вперед бороду, заявляет:
– А я, господин Одинцов, что бы вы там ни говорили, отказываюсь принимать участие в вашей сатанинской затее. Ишь чего удумали со своей императрицей – частную торговлю задушить! Делайте что хотите, но только без меня! Прощевайте…
После этого купчина встает со стула, гордо разворачивается и выходит из кабинета. Купцы-старообрядцы – они такие, по упрямству способны дать любому барану сто очков вперед. Господин Коншин остается сидеть на месте. Больше чиновник, чем предприниматель, он ждет, как на этот демарш отреагирует канцлер Одинцов. А тот особо никак не реагирует. Пожимает плечами и говорит Коншину:
– Вот, и на старуху бывает проруха. Ошиблись, значит, в человеке. Ну что же, мы это исправим… Надеюсь, вы, Алексей Владимирович, не сбежите от меня, как господин Бугров?
– Да нет, Павел Павлович, – отвечает тот, – я, пожалуй, останусь. Думаю, что с организационной частью вашего предприятия при помощи нескольких клерков я смогу справиться не хуже господина Бугрова. Он, конечно, в этом деле гений, наслышаны, знаете ли, но незаменимым его не назовешь.
– Ну, тогда все хорошо, – говорит Одинцов, – можете считать себя принятым в компанию «Росзерно» на должность генерального директора. Выше вас буду только я, а надо мной – лишь государыня императрица. Она же будет сидеть у вас в Наблюдательном совете и в Правлении как самый крупный акционер. Время не ждет, так что поскорее сдавайте дела у себя в госбанке и приступайте к обязанностям генерального директора, а пока изучите документы…
С этими словами канцлер протянул новоявленному генеральному директору плотную папку с бумагами. Еще одно дело было сделано. Если в нашем прошлом главными спонсорами государственного бюджета были государственные железные дороги и винная монополия, то теперь к ним добавятся доходы от монополии на экспорт хлеба.
[14 августа 1904 года, утро. Владимирская губерния, село Никольское (ныне г. Орехово-Зуево) Морозовская мануфактура, контора, кабинет директора-распорядителя. Мануфактур-советник Савва Тимофеевич Морозов и товарищ Красин.]
Никольская мануфактура располагалась между рекой Клязьма и железнодорожными путями и представляла собой комплекс немного вычурных, но величественных зданий красного кирпича в два-три этажа. Чувствовалась во всем этом такая завуалированная претензия на подражание московскому Кремлю, разве что стены не имели зубцов. Среди этих зданий, в заводоуправлении, в кабинете директора-распорядителя фабрики… Тут надо сделать одно замечание. Официально эту должность занимала матушка означенного Саввы Морозова, Мария Федоровна, которая позволяла строптивому, но талантливому сыну выполнять делегированные ему директорские обязанности. И вот теперь, в связи с назначением на должность министра экономики, Савве Тимофеевичу пришлось изрядно поломать голову, пытаясь сообразить, кого бы назначить директором вместо себя, чтобы при этом не развалить производство. К вопросу требовался серьезный подход. Как бы еще кандидат не оказался бесстыжим выжигой, который будет драть с рабочих по семь шкур. Забывают некоторые управляющие-директора, что персонал на заводах-фабриках – это не двуногий скот, а тоже русские люди.
Одним словом, непросто это! Пока найдешь хорошего во всех смыслах управляющего, семь потов может сойти. А рабочих на Морозовской мануфактуре в селе Никольском ни много ни мало пятнадцать тысяч душ – притом что общее население множества состоящих при мануфактурах рабочих казарм, разбитых на три с половиной тысячи каморок, вдвое больше. На одного проживающего в этих каморках приходится по два с небольшим кубических аршина (1,11 м3) пространства. Если посмотреть с высоты птичьего полета, окажется, что село Никольское только и состоит что из самой фабрики и таких вот казарм. Десять лет назад в тех местах побывал Владимир Ульянов (Ленин) и оставил такие воспоминания: «{Чрезвычайно оригинальны эти места, часто встречаемые в центральном промышленном районе: чисто фабричный городок, с десятками тысяч жителей, только и живущий фабрикой. Фабричная администрация – единственное начальство. „Управляет“ городом фабричная контора. Раскол народа на рабочих и буржуа – самый резкий}». И при этом местные рабочие считают Савву Морозова добрым и справедливым хозяином, поскольку в других аналогичных местах жизнь еще хуже.
Определенные проблемы в связи с новым назначением возникли у Саввы Морозова и в семейной жизни. Если супруга Зинаида только обрадовалась предстоящим переменам, возмечтав о том, как она будет блистать в свете, то матушка Саввы (полная тезка вдовствующей императрицы) поначалу уперлась в вопрос рогом. Новая власть, мол, поставлена самим Сатаной (об этом на каждом углу кричали начетчики старообрядцев), и потому служить ей Савве не можно. Впрочем, эти люди со времен учинившего раскол патриарха Никона считали сатанинской любую светскую власть, так как та поддержала исправление богослужебных книг – а посему Савва не обратил на эти крики особого внимания. Мол, он сам, своими глазами, видел господина имперского канцлера Одинцова, и на посланца Антихриста тот похож не более чем охраняющий дом Трезор на зверя крокодила из Московского Зоосада. Но повоевать сорокадвухлетнему сыну против семидесятичетырехлетней матери пришлось все равно неслабо. Не женщина – кремень. Впрочем, он знал, как добиться своего, ведь шестнадцать лет назад, когда Савва женился на разведенной бесприданнице, его мать тоже была против – да как это так, чтобы ее способный, но непокорный сын женился на бывшей любовнице и «безродной разводке». Но тогда как и сейчас, ему все же удалось продавить свою точку зрения и сделать все так, как ему хотелось. Вот и сейчас, убедившись, что своевольный сын не изменит своего решения, мать отступилась от него. Мол, пусть делает что душе угодно.
Закончив со всеми прочими заботами, директор-распорядитель, прежде чем окончательно сложить с себя полномочия, вызвал в свой кабинет инженера Леонида Красина. Этого человека Савве Морозову сосватал приятельствующий с ним Максим Горький, порекомендовав того как хорошего технического специалиста для монтажа и наладки закупленной в Германии электростанции. А что – Леонид Красин отличный профессионал, и вместе с тем видный большевик, через которого можно передавать суммы на финансирование деятельности большевистской партии и, в частности, издания газеты «Искра». Но сегодня Красин был вызван не для того, чтобы обсудить вопросы монтажа электротехнического оборудования производства фирмы «Сименс». Тема разговора касалась совсем иных дел – политических.
Услышав о том, что канцлер Одинцов предложил большевикам сотрудничать с новым правительством, Леонид Красин заметался по начальственному кабинету как тигр по клетке.
– Савва Тимофеевич, – остановившись, патетически воскликнул он, – ну как так можно было – выдать этому господину Одинцову сразу все и вся?
– Не выдавал я ничего, Леонид Борисович, – глухо ответил Савва Морозов, – ведь господину канцлеру Империи и так все известно о нас, грешных: кто чем дышит и даже какой смертью умрет. – Он усмехнулся, внимательно глядя на своего собеседника. – Им, пришельцам из будущего, все ведомо: кто есть стоящий человек для их дела, а кому и руку потом подать будет стыдно.
Красин усмехнулся и покачал головой.
– И вы, Савва Тимофеевич, – поморщился он, – верите в эту антинаучную ерунду, как какой-нибудь последователь мадам Блаватской? Вы же образованный человек – как и я, инженер, закончили Московский университет…
Он снова принялся ходить туда-сюда.
– Я не то чтобы верю, – ответил Савва Морозов со спокойной уверенностью, – я знаю. Знаю, что господин Одинцов не является продуктом нашего времени. Чужой он тут – и все. Я человек тоже не пальцем деланый, видавший разных людей и в разных видах; могу сказать, что на обыкновенного российского сановника он совсем не похож, как, впрочем, и на успешного промышленника, ухватившего Бога за бороду, а тем более не похож он на мужика. Более всего господин Одинцов смахивает на одного из древнеримских сенаторов, истово верующих, что для существования Римской республики необходимо дотла разрушить Карфаген. В данном случае под Римом имеется в виду Российская империя, а под Карфагеном – прогнившие и заплывшие от лени жиром наши верхи, не понимающие и не желающие понимать, что есть для России польза, а что вред. Ты представляешь, Леонид Борисыч – этот человек за пять минут на пальцах мне растолковал, почему государству выгодно, чтобы рабочие и мужики не были нищими, считающими последнюю копейку, а имели бы в своей самой многочисленной массе достаток зажиточных людей. Но при этом канцлер Одинцов не только верит в необходимость сокрушить безграмотность, нищету и бесправие русского народа, но и всеми силами добивается этого, используя данные ему влияние и власть.
– Не верю я в это, – хмуро сказал Красин, остановившись посреди кабинета и качая головой; его взгляд был направлен куда-то в притолоку. – Не может статься, чтобы кто-то из тех, кому удалось прорваться на самую вершину власти, вдруг воспылал любовью к народу… Вздор! А уж в то, что этому чувству поддался кто-то из Романовых, не верю вдвойне. Тут же нам говорят, что новая императрица вместе со своим братом (я имею в виду Михаила) вдруг возлюбила простых людей…
Савва Морозов хмыкнул.
– Вы, Леонид Борисович, – сказал он, – в высоких сферах у нас не вращались и знакомств среди аристократов не имели, а вот мне довелось, знаете ли… Одним словом, еще до войны и появления господина Одинцова о Великой княгине Ольге Александровне поговаривали, что она немного, не в себе – с «краснинкой», мол; а на самом деле, как и я, сочувствует вашему делу. Я специально подзадержался в Санкт-Петербурге, чтобы навести дополнительные справки относительно того, во что собираюсь втравить вашу партию. Так вот: господин Новиков, наш будущий князь-консорт и соотечественник господина Одинцова, имеет среди господ офицеров и простых солдат репутацию честного, справедливого ко всем человека. Офицеры его уважают и считают военным гением, а солдаты любят и боготворят, так как он в них видит таких же людей, как и он сам. Также я узнал примечательный факт, который много говорит о том мире, откуда пришли к нам господа Новиков и Одинцов. Солдаты подразделения, проникшего вместе с ними в наш мир, не только все обучены грамоте, но и имеют образовательный уровень, примерно равный полному курсу реального училища. И ты знаешь, Леонид Борисович – господа Новиков и Одинцов не успокоились, пока не добились, чтобы всем им, согласно закону, были присвоены звания прапорщиков и подпоручиков военного времени.
– Ну, – махнул рукой Красин, – забота о своих земляках – не показатель. На это чувство способен любой дикий горский вождь, потому что кто как не соплеменники в тяжелый момент прикроет спину и подставят плечо.
– А ты знаешь, – тихо сказал Савва Морозов, – что подобным образом полковник Новиков относится не только к своим землякам, но и вообще ко всем нижним чинам в бригаде. Там у него строжайше запрещен мордобой, и офицер, поднявший руку на солдата, может быть немедленно отчислен; а кроме того, при бригаде работает вечерняя школа, ведь полковник Новиков хочет, чтобы подчиненные ему солдаты поголовно были грамотны, умели читать и писать. Что же касается Великого князя Михаила, то он считает господина Новикова своим другом и учителем, и во всех делах смотрит ему в рот.
Красин прекратил свою нервную трусцу по кабинету, и, остановившись, потер подбородок.
– Ну, коли так… – с сомнением протянул он, и, помолчав несколько мгновений, вдруг спросил: – Скажи, Савва Тимофеевич – если эти господа такие хорошие, как ты говоришь, то почему бы им не проделать все свои реформы и без нашей помощи? А то боязно мне что-то…
– Ну, так бы и сразу сказал, – ответил Морозов, – только вот опасаешься ты зря. Относительно тебя господин Одинцов сказал, что знает о твоем пребывании на моей фабрике с самого начала, и, если бы хотели плохого, ты бы сейчас не со мной разговаривал, а беседовал бы в Петропавловке с охочими до истины подчиненными господина Мартынова. Арестовать тебя они могут в любое время, и браунинг, который лежит в твоем кармане, ничем тебе не поможет. К тому же без нас они не могут. Не каждое дело можно поручить жандармскому или даже армейскому офицеру. Иногда – как, например, в случае с фабричными инспекторами – необходимы товарищи, которые действовали бы не только в силу начальственных инструкций, но еще и исходя из своих внутренних убеждений. Министра труда это требование касается в энной степени. Обычный чиновник на этом посту будет бесполезен и даже вреден.
– Хорошо, Савва Тимофеевич, – пожал плечами Красин, – можешь считать, что ты меня убедил. Но вот убедить Старика (товарища Ленина) тебе будет гораздо сложнее. В первую очередь потому, что тебе самому придется лично ехать в Женеву и разговаривать с ним с глазу на глаз. По-другому нельзя, потому что иначе он мне просто не поверит.
– Ладно, Леонид Борисович, – с благодушием сказал Савва Морозов, – я поеду, но только вместе с тобой – ведь я должен буду показать, что ты жив, здоров и находишься на свободе. Договорились?
– Договорились, Савва Тимофеевич, – кивнул Красин, – когда выезжаем?
– Сегодня, – ответил Савва Морозов, – то есть прямо сейчас. Время, как говорит господин Одинцов, не ждет. Я и так уже изрядно подзадержался с этим делом.
[14 августа 1904 года, поздний вечер. Москва, Брестский (ныне Белорусский) вокзал. Мануфактур-советник Савва Тимофеевич Морозов и товарищ Красин.]
Закончив разговор, Савва Морозов и Леонид Красин немедля отправились в путь. (Профессиональный бизнесмен, как и профессиональный революционер должен быть готов отправиться в путь в любой момент, едва возникнет необходимость, иначе могут выйти неприятности.) А дальше последовал квест в стиле романа Жюль Верна «Вокруг света за восемьдесят дней»…
Первый отрезок пути в двадцать пять верст, до станции Павловский Посад, они проделали в экипаже, принадлежавшем семье Морозовых. Там в час дня они сели на проходящий мимо дневной поезд Нижний Новгород-Москва и, проехав около восьмидесяти верст, к четырем часам вечера были на Курском вокзале столицы. Оттуда лихач домчал их в роскошный универсальный магазин «Мюр и Мерелиз», после пожара 1900 года ютившийся в трехэтажном здании доходного дома Хомякова на пересечении Петровки и улицы Кузнецкий мост. Там путешественники могли купить себе все, что необходимо в дороге. Брали самое лучшее. При этом за обоих платил Савва Морозов, ибо это была его миссия, а Красин был всего лишь его помощником. К Брестскому вокзалу столицы они добрались заблаговременно, на часах было около восьми часов вечера. Курьерский поезд Москва – Варшава – Калиш (граница с Германской Империей) отправлялся с Брестского вокзала без десяти минут полночь.
Так уж в Российской империи было заведено, что утром и днем с вокзалов отправлялись поезда для простонародья, в составе которых были зеленые и серые вагоны третьего и четвертого классов – они останавливались на каждой станции, а то и на полустанке; и только иногда к ним прицепляли по одному желтому вагону второго класса – для не очень важных господ, у кого фабрика, лавка или поместье расположены в окрестностях какой-нибудь малозначащей станции, где скорые и курьерские поезда не останавливаются. Зато по вечерам в путь с московских, санкт-петербургских, киевских и иных важных вокзалов империи отправлялись курьерские и скорые поезда, укомплектованные исключительно синими и желтыми вагонами первого и второго классов. И только к скорому поезду Москва-Кишинев с 1896 года прицеплялся вагон третьего класса.
Но к нашему повествованию этот маленький факт не имеет отношения, потому что Савва Морозов и Леонид Красин ехали отнюдь не в Кишинев. В Калише, на границе с Германской империей, им предстояло пересесть в стыковочный поезд и через Прагу и Мюнхен добраться до Цюриха, где на данный момент обитал будущий вождь мирового пролетариата. Предварительная продажа билетов тогда существовала только на Кавказском направлении, а о том, что такое визы, богатые и состоятельные господа и вовсе не подозревали, поэтому Савва Морозов без всяких проблем всего за пятьдесят рублей купил в кассе билеты[12] в купейный вагон первого класса для себя и своего спутника. Одно купе на двоих – что может быть лучше для партнеров по дальней деловой поездке. Во втором классе, к примеру, купе четырехместные, и у путешественников непременно были бы ненужные попутчики.
Приобретя билеты, путешественники с аппетитом отужинали в вокзальном ресторане. Времени до отправления было еще более чем достаточно, поэтому, оказавшись на Брестском вокзале, эти двое больше никуда не спешили; после посещения ресторана они принялись степенно прогуливаться по перрону под застекленным дебаркадером. При этом они, не привлекая внимания расставленных вдоль перрона городовых, а также наблюдающих за пассажирами жандармов железнодорожного линейного отдела, продолжали вполголоса общаться между собой. Эта малозаметность Саввы Морозова и товарища Красина объяснялась тем, что служители порядка обычно не обращают внимания на хорошо одетых состоятельных господ, которые никуда не торопятся и не проявляют признаков нервозности. Вот появился бы на перроне какой-нибудь юноша со взором горящим – и не миновать ему как минимум внимания городового, а есть ли у молодого человека вообще при себе билет. Но такового юноши, как и прочих потенциальных нарушителей порядка, поблизости не наблюдалось, поэтому городовым оставалось только скучать, разглядывая фланирующую по перрону чистую публику, количество которой по мере приближения посадки увеличивалось.
Тем временем обмен мнениями на тему, согласится ли Старик (то есть Ленин) с предложением канцлера Одинцова, не привел к конкретному результату. Владимир Ильич даже в столь молодые годы уже был известен как мастер тактического маневра и одновременно как непримиримый противник существующего царского режима, так что аргументы «про» и «контра» уравновешивали друг друга. Не придя к конкретному выводу из-за наличия слишком большого числа неизвестных переменных, а также чтобы не привлекать к себе ненужного внимания, путешественники прекратили разговоры, договорившись не поднимать этот вопрос до прибытия в Женеву. В конце концов, пойдет ли Старик на сотрудничество с русскими властями, решать только самому Старику. Для себя же лично Савва счел подобный путь выхода из терзавших его нравственных противоречий вполне приемлемым, а Красин, в то время считавшийся примиренцем, не испытывая к этой идее сильного отторжения, продолжал испытывать сомнения… Одним словом, думал он, как Старик скажет, так и будет. Он умный, пусть думает.
К тому моменту маневровый паровоз уже затолкал, или, как говорят железнодорожники, «осадил» на первый путь состав курьерского поезда. В голове состава – непременные багажный и почтовый вагоны, за ними – синий вагон первого класса, потом вагон-ресторан, и уже за ним в хвосте – пять желтых вагонов второго класса. Так как багажа, в общепринятом понимании, у Саввы Морозова и товарища Красина не имелось, а было лишь по маленькому чемоданчику-саквояжу, то они сразу направились к своему синему вагону. Дальше все было как обычно в таких случаях. Показав билеты кондуктору на входе в вагон, они прошли в свое купе (первое со стороны головы поезда), где по позднему, почти полуночному, времени проводники уже застелили постели. День у путешественников был тяжелый – и поэтому они разделись, Леонид Красин прикрутил горелку газового светильника, и они, вытянувшись на мягких постелях, провалились в сон как в какой-то черный подвал, успев лишь услышать протяжный гудок паровоза и почувствовать плавный толчок. Стало быть, поехали…
[15 августа 1904 года, утро. Курьерский поезд Москва – Варшава – Калиш, где-то между Минском и Барановичами. Мануфактур-советник Савва Тимофеевич Морозов и товарищ Красин.]
Проснувшись не самым ранним утром (все-таки сильно устали накануне), Савва Морозов и Красин оделись и направились в вагон-ресторан – морить утреннего червячка. Ни один, ни другой не собирались терпеть чувства голода, если его можно утолить немедленно. Благо идти-то всего ничего.
И вот там, в вагоне-ресторане, их ожидал сюрприз; а вот приятный или нет, это как сказать… Не успели они расположиться за столиком в почти пустом зале (время завтрака миновало, а обеда еще не наступило), как к ним подсел коротко стриженный подтянутый мужчина неопределенного возраста, с холодными серыми глазами. Его напарник, такой же подтянутый и стриженый, но совсем молодой (по возрасту нечто среднее между вьюношем и молодым мужчиной), остался стоять в стороне, внимательным взглядом контролируя происходящее.
– Разрешите представиться, товарищи… – вполголоса говорит старший; и Савва удивляется, насколько просто (можно сказать, дежурно) тот произнес слово «товарищи». – Полковник службы имперской безопасности Баев Игорь Михайлович, департамент внешней разведки. Вам, Савва Тимофеевич, привет от Павла Павловича Одинцова, а вам, товарищ Красин – от вашего старого знакомца по бакинским делам товарища Кобы… Он сейчас жив, здоров и весел, и вам того же желает.
С этими словами визитер лезет во внутренний карман, достает оттуда конверт и толкает его по столу в сторону Саввы Морозова. Тот открывает конверт и достает записку с текстом: «Все, что делает этот человек, делается по моему поручению. П.П. Одинцов.» Прочитав послание, Савва Морозов вздыхает, снова укладывает его в конверт и возвращает полковнику Баеву.
– Хорошо, Игорь Михайлович, – растерянно говорит он, – я понял, что у вас есть определенные полномочия. Теперь хотелось бы знать, каким образом это касается нас с Леонидом Борисовичем. Ведь мы делаем как раз то, чего от нас хотел господин Одинцов…
– Все в порядке, Савва Тимофеевич, – кивнул полковник Баев, – в общих чертах вы все делаете правильно. Просто обстоятельства сложились так, что в ваш план необходимо внести некоторые изменения. А все из-за того, что, как говорил генералиссимус Суворов, каждый солдат должен знать свой маневр. А иначе могут выйти накладки и неприятности. Впрочем, этот вопрос мы с вами обговорим получасом позже в вашем купе, а сейчас не смею мешать вашему завтраку… Честь имею.
Затем он поднялся из-за стола и вместе со своим спутником вышел из вагона-ресторана. И как только они удалились, рядом с Саввой Морозовым и товарищем Красиным, как джин из лампы, материализовался лощеный официант в отглаженном фраке и накрахмаленной до скрипа сорочке. Савва снова вздохнул и взялся за книжку-меню. Аппетит пропал, но позавтракать все-таки надо – и в первую очередь для того, чтобы взять паузу и привести мысли в порядок после этой неожиданной встречи… Этот самый Баев упал прямо на голову – неожиданно, как большой ком июльского снега; и потому следовало обменяться мнениями и продумать предстоящий разговор.
[Полчаса спустя. Курьерский поезд Москва – Варшава – Калиш, где-то между Минском и Барановичами, купе мануфактур-советника Савва Морозова и товарища Красина.]
Когда путешественники снова оказались в купе, Савва Морозов первым делом запер дверь и, обернувшись к Красину, спросил:
– Леонид Борисович, скажите, а что это за товарищ Коба, привет от которого передавал вам господин Баев? Сказать честно, я впервые слышу это имя…
– Ну, как вам сказать, Савва Тимофеевич, – пожав плечами, ответил Красин, – есть у нас такой молодой грузинский товарищ, и мы действительно в прошлом году по партийным делам пересекались с ним в Баку… Только должен сказать, что Коба – это не имя, а партийный псевдоним; и вообще, я не понимаю, каким образом он оказался связан с этими господами из будущего…
– Знаете, Леонид Борисович, – задумчиво произнес Савва Морозов, – когда этот полковник Баев давеча приветствовал нас в ресторане, слово «товарищи» выскочило из него легко и свободно, как родное. Зато во время встречи с господином Одинцовым мне показалось, что, обращаясь ко мне «господин», он говорил как бы через силу, на мгновенье запинаясь и задумываясь…
– Да что же, Савва Тимофеевич, – с интересом спросил Красин, – вы думаете, что все они там «товарищи»?
На этот вопрос тот ответить не успел, так как в дверь купе постучали… Это и был полковник Баев со своим молодым спутником, который, правда, не вошел вместе со своим начальником, а остался в коридоре.
– Итак, товарищи, – сказал полковник, когда дверь за ним закрылась, – давайте расставим все точки над «И». Товарищ Одинцов считает, что в связи с некоторой переменой обстановки нам следует раскрыть перед вами пока еще потайную подоплеку происходящих событий. Дело в том, что вопрос, какую сторону баррикад – с нами или против нас – выберет товарищ Ленин, возможно, коренным образом повлияет на ход дальнейшей истории…
– Погодите, господин Баев, – выдвинулся вперед Красин, – скажите нам сначала – кто это такие «ВЫ», какова ваша программа и каково ваше отношение к партии большевиков? И, кстати, какое отношение вы имеете к премного известному душителю свободы, господину Мартынову? Ведь если мне не изменяет память, служит он в той же Имперской Безопасности, что и вы…
– МЫ, – ответил полковник, – это русские офицеры из будущего, которым обидно за униженную и оскорбленную державу, а также государыня Ольга Александровна и ее брат Великий князь Михаил Александрович. Императрица Мария Федоровна при этом для нас является попутчиком, а экс-император Николай Александрович – персонажем, который уже сыграл свою роль и теперь должен быть доставлен в счастливое будущее в качестве пассажира. Помимо этого, вокруг нас формируется организация единомышленников, нечто вроде рыцарского ордена, и людям из этого круга предстоит еще свершить многое. Теперь по поводу программы. Мы не хотим, чтобы огромное большинство русского народа прозябало в нищете, в то время как ничтожное меньшинство будет утопать в роскоши. Это положение надо изменить быстро и радикально. И в тоже время мы не хотим, чтобы этот «мир насилья», как поется в вашей песне, был разрушен «до основанья». Если это допустить, то степень применения этого самого насилия вырастет многократно и кровь потечет рекой. Вы даже не представляете, какого количества людских жертв будет стоить так желаемое вами низвержение самодержавия и последовавший за ним хаос Гражданской войны…
– Господин полковник, – резко возразил Красин, – низвержение самодержавия и последующая социалистическая революция являются краеугольными пунктами большевистской программы. Если мы силой не отберем власть у буржуазии и помещиков, то эти угнетатели трудового народа, рабочего класса и крестьянства ни за что не отдадут нам ее по доброй воле. Если для того, чтобы построить общество всеобщей справедливости, необходимо пролить кровь, то мы, не колеблясь, ее прольем.
– В таком случае, – невозмутимо усмехнулся полковник Баев, – мы, не колеблясь, без всяких сантиментов, перестреляем всех вас как бешеных собак. Там, в нашем прошлом, этот ваш эксперимент уже один раз состоялся, и итог его оказался весьма сомнительным. Во имя исполнения этих самых ваших краеугольных пунктов программы было разрушено государство, пролита кровь, погибли двадцать миллионов русских людей, большая часть из которых была никакими не угнетателями, а обычными рабочими и крестьянами, а страна в своем развитии оказалась отброшена на десятки лет назад. И каков же оказался конечный результат революционных преобразований? Государственная система, выстроенная вашими товарищами на месте разрушенной Российской империи, несмотря на всю свою социалистичность и прогрессивные стремления, до боли напоминала свою предшественницу и имела точно такой же ключевой недостаток – итог ее деятельности по большей части зависел от личности того, кто окажется на самом верху командной пирамиды…
– Такого не могло быть, – возразил Красин, – у нас, большевиков, нет никакой командной пирамиды, поскольку мы являемся сторонниками демократического централизма и вместо вождя или императора деятельностью нашей партии руководит группа опытных и ответственных товарищей, именуемая Центральным комитетом…
– Комитет, даже Центральный, – назидательно сказал полковник Баев, вызвав усмешку у Саввы Морозова, – это такая форма жизни – с множеством ног и с полным отсутствием мозга. Вспомните совет пятисот на излете великой Французской Революции. Когда Наполеон выкидывал этих балаболов из Тюильри, ему не потребовалось даже стрелять из пушек и ружей – чтобы освободить помещение, хватило и барабанного боя. А ведь как все красиво начиналось! Свобода, Равенство. Братство. Гром пушек при штурме Бастилии и прочее бла-бла-бла. Но если подойти к вопросу серьезно, то становится понятно, что в любом комитете всегда должен быть лидер, модератор, который улаживает споры, разруливает ситуации лебедя, рака и щуки, управляя процессом принятия решений, а также руководит их претворением в жизнь. Без такого человека комитет превращается в аморфное болото, не способное решить даже самого мелкого вопроса. Но если при монархии вопрос, плохим или хорошим окажется наследник престола, зависит от случайных процессов в момент зачатия, то партийное руководство обнаружило неистребимую тягу к последовательному ухудшению своего качества. Путь от такого гения как товарищи Ленин до полных ничтожеств последних дней, деятельность которых и привела к реставрации в нашей России капитализма, занял в истории всего семьдесят лет, и в итоге страну постигла вторая величайшая геополитическая катастрофа за столетие. Первая, если вы не поняли – это когда вам и либералам совместными усилиями все же удалось разломать Российскую Империю…
– Ладно, возможно, это и так, – угрюмо набычился Красин, – но я не понимаю, как и в силу каких объективных факторов вообще могло произойти такое ухудшение качества руководства нашей партии.
Полковник Баев пожал плечами:
– Процесс этот, судя по всему, объективный. Партийные лидеры, не уверенные в своем праве на власть в силу закона и традиций, стараются подбирать себе в помощники людей, которые из-за своей ограниченности не сумеют поколебать их положения. Ну и, соответственно, после смерти большевистского богдыхана его преемника выбирают из его же ближайшего окружения, после чего новый руководитель партии еще на одну ступень опускает качество своего окружения. Результат налицо. Вековая мечта человечества мало того что выродилась и заглохла, но и сделала почти ругательными такие слова как социализм, коммунизм и большевизм…
Красин опустился на сиденье дивана и в отчаянии обхватил голову руками. Он не был таким уж фанатиком, чтобы не понимать, что полковник Баев говорит правду, правду и одну только правду. Ведь правильно в самом начале сказал Савва Морозов – что их пытаются переубедить – вместо того, чтобы перестрелять всех, как они уже почти перестреляли эсеров, с которыми никто в переговоры не вступал. На террор новая власть ответила террором, убивая эсеровских боевиков по суду или без суда. С большевиками же пытаются разговаривать и переубеждать, чтобы переманить их на свою сторону…
– Допустим, – глухо сказал Красин, не поднимая головы, – что Старик, то есть товарищ Ленин, согласился принять ваше предложение. Что в таком случае вы собираетесь делать?
Полковник Баев хмыкнул.
– В первую очередь, надо сказать, – ответил он, – что вопрос о власти нами решен, потому что члены нашей команды уже заняли в государстве высшие руководящие посты и имеют в распоряжении лично преданные им воинские части. Действуя изнутри и двигаясь маленькими шагами к великой цели, наше руководство за десять последующих лет планирует полностью сменить старую управленческую пирамиду. Тут главное – не спешить и быть последовательным. Без смут и потрясений, шаг за шагом… В этом смысле нам существенно помогли заговор Владимировичей и покушение на бывшего царя Николая. Торопливые неумелые действия британцев, пытавшихся парировать усиление нашего влияния, позволили нам подчистую вырубить самую гнилую часть российской элиты и развязать террор против мздоимцев и казнокрадов…
– Помимо этого, – возразил Красин, – вы создали в России атмосферу страха, вы закрываете газеты и сажаете в тюрьму журналистов и прочих представителей интеллигенции. Ваш господин Мартынов щеголяет в своем черном мундире как порождение самого Сатаны, а его люди хватают людей прямо на улицах – только затем, чтобы отправить их на каторгу по обвинению в поддержке террористической деятельности и одобрении насильственного изменения государственного строя…
– Ну кто же доктор вашим интеллигентам, – пожал плечами полковник, – если они и в самом деле виновны в том, в чем их обвиняют. Закон суров, но это закон. Публичная поддержка террористических актов и призывы к насилию будут караться со всей возможной жесткостью, потому что мы знаем, чем может обернуться попустительство. Кстати, когда там, в нашем мире, вы, большевики, дорвались до власти, то первым делом вы к чертовой матери перестреляли всю эту либеральную братию. Мало кто тогда уцелел. Так что мы еще гуманны, ибо не выносим смертных приговоров. Да и зачем? Когда эти люди пройдут курс трудотерапии, большую их часть еще будет возможно применить с пользой для страны. Что же касается изменений в государственном устройстве, то все они будут происходить в соответствии с нашими планами и без всяких попыток внешнего насилия. Шантаж государства насильственными действиями недопустим и будет караться при помощи самых суровых мер. Эсеры – это только начало. У нас есть собственная социальная программа, предусматривающая радикальное, но поэтапное улучшение благосостояния широких народных масс. Мы будем сражаться не за то, чтобы уничтожить всех богатых, а за то, чтобы в России больше никогда не было нищих и голодных. Российская империя – это совсем не бедная страна, просто она чрезвычайно дурно управляется…
– Понятно, – кивнул Красин, – вы рассчитываете, что будете управлять лучше, добиваясь благосостояния не только для себя лично, но и для всего народа. Это, разумеется, весьма похвально, но ведь не одним лишь хлебом насущным жив человек. Кроме самых обычных жизненных благ, людям необходимо знание того, что они сами могут решать свою судьбу, а не являются рабами их правителей. Планируете ли вы вводить в России политические права и свободы, гарантирующие людям право на собрания, митинги и забастовки, свободу прессы и книгопечатания, а также демократическую парламентскую систему, позволяющую народу Российской империи выбирать своих представителей во власти?
Полковник Баев пожал плечами.
– Если ввести эти свободы все и сразу, – сказал он, – то страна утонет в митинговом хаосе, а в представительные органы власти будут избраны отнюдь не большевики, а наиболее пронырливые и отвратительные представители буржуазии и буржуазной интеллигенции. Вы уж поверьте, что ничего хорошего из этого не получится. Между прочим, там, в нашем прошлом, при вашей большевистской власти эти права только декларировались, но отнюдь не реализовывались. Хлебнув в самом начале такой вот митинговой стихии, ваши вожди почти сразу закрутили гайки. Мы же планируем вводить реальные гражданские права, но только по мере роста грамотности населения и улучшения условий его жизни, что уменьшит и радикализацию общества. Первыми правами, которые мы собираемся ввести, станут право на начальное, а по мере развития и на среднее образование, право на медицинское обеспечение, а также право на землю для крестьян и хорошо оплачиваемый труд для рабочих. И только потом, когда эти первичные права укоренятся в обществе, которое забудет, что такое голод и нищета, можно будет вводить и остальные политические права. Иначе нельзя, потому что в противном случае страну захватит голодная митинговая стихия. Это мы тоже у себя проходили. Вместо вашей социалистической революции снизу, которая должна за один день дать народу все долгожданные свободы (а на самом деле окунуть страну в пучину смуты), мы запланировали социальную революцию сверху – чтобы без крови и жертв, постепенно, но неумолимо низвести вчерашние господствующие классы до положения статистов и выдвинуть вместо них новых людей, способных руководить страной в общенародных интересах. И вы, большевики, вместе со своими идеями, сможете войти в состав этой новой элиты – если, конечно, примете наше предложение. В противном случае мы будем вынуждены действовать сами, без вашей помощи, чисто административными методами товарища Зубатова – и тогда что выйдет, то выйдет, потому что никакой чиновник не заменит пламенного большевика там, где последний может быть применен с наибольшей пользой.
– Звучит весьма неплохо, господин Баев, – хмыкнул Красин, – если не считать того, что, оставляя за собой главные руководящие посты в государстве, вы в любой момент сможете аннулировать наше соглашение, уничтожив партию большевиков, которая окажется полностью беззащитной перед вашим коварством. Это я говорю к тому, что человек, к которому мы едем, будет рассуждать именно таким образом и не поверит вам ни на йоту. До вашего появления мы уже обсуждали этот вопрос с Саввой Тимофеевичем, но так и не пришли к определенному выводу. Аргументы «за» и «против» уравновешивают друг друга, и совсем не исключено, что мы услышим от него категорический отказ и проклятия в адрес изменников делу борьбы за свободу рабочего класса. Что вы будете делать в таком случае?
– В таком случае, – ответил полковник Баев, – мы объявим господину Владимиру Ульянову войну на уничтожение и выиграем ее в два хода. Это мы умеем. Как я уже говорил, мы все равно намерены добиться своего – с вашей партией или без нее; просто правильно мотивированные и идейно подкованные люди в борьбе с угнетателями рабочего класса будут нам совсем не лишними. Но я не думаю, что Ильич ответит нам категорическим отказом. Как гласит наша история, он только кажется несгибаемым бойцом за свои идеалы, а на самом деле, имея дело с превосходящей силой, он становится весьма склонен к компромиссам и тактическим маневрам. Нас устроит даже его нейтралитет и разрешение членам вашей партии занимать государственные посты и участвовать в проведении нашей социальной политики. Были, знаете ли, прецеденты[13]. В таком случае министром труда вместо господина Ульянова можете стать именно вы, господин Красин, замена почти равноценная. Если мы с вами договоримся, то первое, что сделает наша государыня – это объявит амнистию членам вашей партии, причем всем и сразу… И тем более мы никогда и ни у кого из вас не будем требовать выдачи ваших бывших товарищей. Это исключено. Отлов непримиримых и их истребление будет происходить, так сказать, классическими средствами, а не путем предательства их товарищей.
– Хорошо, товарищ Баев, – впервые за все это время улыбнулся Красин, – меня вы уже почти уговорили. Но только проясните один маленький вопрос. К чему вы в самом начале разговора упомянули товарища Кобу и передали мне от него привет? Неужели и он тоже согласился с вами сотрудничать? Насколько я его знаю, он как раз и относится к той твердолобой породе, которую нельзя убедить никакими угрозами и никакой превосходящей силой.
– А мы, товарищ Красин, – ответил повеселевший полковник Баев, – убедили его не силой и не угрозами, а совсем другими аргументами. Узнав об историческом процессе столько, сколько знаем мы сами, он согласился с нами сотрудничать абсолютно добровольно и без малейшего принуждения. Вы зря недооцениваете этого молодого человека, ибо изнутри он во много раз больше, чем кажется снаружи… В нашем мире именно он принял вашу партию и новосозданную страну из рук умирающего Ленина и сумел добиться того, что ваш эксперимент не угас естественным путем через три-пять лет, растворившись в частнособственнических инстинктах, а продержался почти семьдесят лет, за время которых бывшая Российская империя – нищее и аграрное государство – превратилась в одну из двух сущих мировых сверхдержав. Для нас товарищ Коба будет поценнее всех остальных ваших партийцев вместе взятых, не исключая и присутствующих здесь. Просто этот человек пока еще очень молод, но этот недостаток легко исправить… Впрочем, на эту тему мы с вами еще поговорим, ибо мы с моим молодым спутником так же направляемся на встречу с товарищем Лениным, имея в качестве рекомендательного письма послание товарища Кобы. Именно его согласие на сотрудничество заставило меня бросить все и по приказу начальства присоединиться к вашей поездке в Швейцарию. Я думаю, что, имея это письмо и вашу поддержку, нам удастся уговорить Владимира Ильича не делать глупостей и согласиться на наше взаимовыгодное соглашение. Собственно, когда ваш Старик узнает, к чему привел его эксперимент, он наверняка ужасно расстроится, ибо гордится там нечем. Но это уже совсем другой разговор, а на сем разрешите откланяться.
Уже на пороге, стоя у открытой двери, полковник Баев обернулся и произнес:
– Кстати, мы со Станиславом обитаем в соседнем купе. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, то будем рады вас видеть. Честь имею.
После этого дверь закрылась и недоуменно переглядывающиеся Савва Морозов и товарищ Красин остались в купе вдвоем. Савва прежде с выходцами из будущего уже встречался, а вот Красин находился от этого визита в состоянии тихого обалдения. Только сейчас до него дошло, что партии большевиков, ценой отказа от некоторых догм, предложили возможность попытаться без крови и смут, при поддержке мощнейшей силы, осуществить ключевые государственные преобразования, при этом как с эталоном сверяясь с уже проделанным историческим путем.
[18 августа 1904 года, утро. Санкт-Петербург, Зимний дворец, личные апартаменты правящей императрицы. Её Императорское Величество Ольга Александровна Романова.]
Я сижу перед зеркалом в банном халате, гляжу в свое отражение, а мои служанки Ася и У Тян хлопочут надо мной, делая мне «прическу». Хотя не знаю, что там можно сделать из жалкой пары дюймов… Впрочем, сейчас я уже не боюсь смотреть на себя без парика. Волосы на моей голове есть, они активно растут – и это главное. И, по правде говоря, эти два дюйма меня несказанно радуют. Когда я наедине с собой, я часто перебираю их пятерней, вытягиваю вверх, пытаясь прикинуть, за какое время они отрастут настолько, что мой выход без парика не шокирует окружающих. В парике ужасно душно и неудобно…
Для начала Ася своими нежными пальчиками массажирует мою голову – так, что я ощущаю сильное тепло и лицо мое покрывается легким румянцем. Ася говорит, что это хорошо. Потом она берет волосы небольшими прядями и начинает поглаживать их, чуть вытягивая, и при этом с выражением бормочет: «Расти, коса, до пояса, не вырони ни волоса, расти, косонька, до пят, все волосоньки в ряд…» Она так делает всякий раз, занимаясь моей головой. Она утверждает, что это такой заговор, чтобы шевелюра быстрей росла, которому ее научила одна крестьянка, и она сама всегда им пользуется, когда расчёсывается. Да уж, Асе можно верить: у нее у самой – роскошная коса, обернутая вокруг головы два раза…
Вообще мои волосы принялись отрастать еще во время моего пребывания на островах Элиота – сначала кое-где появились небольшие кустики нежного пушка, а потом они полезли дружно и весело, будто травка по весне. Ведь именно тогда моя нервная система, подорванная тем гадким замужеством, стала восстанавливаться. Уже к моменту отъезда с Цусимы мои горничные, обученные Дарьей, сооружали мне на голове короткую молодежную прическу из будущих времен. Сначала я чрезвычайно смущалась своих коротких волос и боялась показаться в таком виде перед моим Сашкой, но однажды все-таки получилось так, что он нечаянно застал меня без парика… после чего рассыпался в комплиментах. Мой жених сказал, что с короткими волосами я выгляжу очень мило и задорно, и что дурацкая накладка из чужих волос нисколько мне не идет, добавляя возраста и искажая овал лица. После этого мы договорились, что «дома», среди своих, я буду ходить вот так, как ходят в будущем, а шиньон под шляпку буду надевать только для официальных выходов.
А официальных событий в моей жизни в ближайшее время предстоит немало. Самое главное, через четыре дня в Большой церкви Зимнего дворца состоится обряд двойного венчания, который будет проводить митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний (Вадковский). В этот воскресный день я стану супругой Великого князя Цусимского Александра Новикова, а моя первая статс-дама и лучшая подруга Дарья Михайловна Спиридонова выйдет замуж за канцлера империи Павла Павловича Одинцова. Церемония пройдет скромно, почти по-домашнему, в присутствии только моих ближайших родственников и друзей. Сейчас, когда в моей стране от голода и болезней умирают тысячи крестьянских детей, я просто не имею права устраивать пышные празднества. Когда я сообщила об этом моему Александру Владимировичу, он согласился со мной и сказал, что не является сторонником пускания пыли в глаза. Единственными людьми, которые получат от нас памятные подарки, будут солдаты и офицеры бригады морской пехоты, которой командует мой будущий муж. Это наша своего рода внутренняя лейб-гвардия, почти члены семьи, и было бы неприлично обойти их вниманием. Солдаты получат серебряные портсигары с моей монограммой и монограммой Александра Владимировича, а офицеры – именные швейцарские карманные часы. При этом некоторые из достойных и преданных получат в качестве поздравления очередные воинские звания.
Российскому крестьянству я собираюсь даровать то, что так и не решился дать Ники – то есть освобождение от выкупных платежей и недоимок. Кроме того, теперь все повинности и подати будут взыматься с них не в денежном виде, а в натуральной форме, в конторах, ссыпных пунктах и на элеваторах «Росзерна». Павел Павлович сказал, что мужики от этих изменений будут иметь прямую выгоду, поскольку сразу после уборки урожая, когда требуется платить подати, цены на зерно самые минимальные, и мужики вынуждены продавать выращенную их потом пшеничку за бесценок. Выгоду от податей имеют только представители сельской буржуазии, скупающие зерно у крестьян и перепродающие его представителям крупных зерноторговцев. Поэтому параллельно с отменой выкупных платежей будет введена государственная монополия на экспорт хлеба, и единственным владельцем экспортной лицензии окажется все та же частно-государственная корпорация «Росзерно».
Хлебная торговля приносит зерноторговцам огромные барыши и оставляет нищими тех, кто это хлеб вырастил, а также не приносит никакой пользы государству. Именно это положение я собираюсь изменить. Основные прибыли от зерноторговли должны быть направлены в государственную казну, а мужики должны получать достойное вознаграждение за свой нелегкий труд. Кроме того, преимущества для корпорации «Росзерно» будут созданы и на внутреннем рынке – сначала в виде расширенного кредитования госбанком, упрощения перевозок за счет сниженных тарифов и контроля за движением эшелонов со стороны офицеров ВОСО, а потом и постройкой сети элеваторов для хранения неприкосновенного запаса хлеба. Прибыли, которые будет получать госкорпорация, помимо прямых перечислений в казну, будут направляться на строительство этих самых элеваторов, осуществление переселенческой программы и общее улучшение нашего сельского хозяйства. Я не успокоюсь, пока проблемы нищеты и невежества нашего крестьянства не будут решены и оно не достигнет уровня какой-нибудь Франции или Германии, потому что не дворянство сейчас является опорой трона, а как раз эти нищие и забитые мужики, которые и вырабатывают тот прибавочный продукт, с которого мы все жируем.
Кстати, о дворянстве. Павел Павлович настаивает на отмене указа о его вольности, потому что эта самая вольность разрушает краеугольные скрепы и опоры российской государственности. Дворянство было создано как служилое сословие в те времена, когда государство могло платить за службу только землями и привилегиями, но не в денежном виде. Теперь, когда значительная часть дворянства вообще даже не помышляет о службе, сохранив при этом свои земли и привилегии, эти люди превратились в паразитическую прослойку, обременяющую государство необходимостью постоянных финансовых вливаний в капитал Дворянского банка, поддерживающего их никчемное существование. Против привилегированного положения дворянства выступал и небезызвестный господин Витте – правда, он исходит из совершенно неверных посылок. Он считает, что дворянство должно обуржуазиться и помимо земледелия заняться другими отраслями хозяйства, забывая, что дворянство в первую очередь служилое сословие, а уже потом помещики… Испомещали предков этих людей исключительно за службу государю, и право владеть поместьем требовалось постоянно подтверждать, участвуя в сражениях или корпя в приказах. Тут уж, надо сказать, следует дать дворянам выбор: или служба и дворянские привилегии, или превращение в сельскую буржуазию и лишение дворянского статуса. Этот указ сейчас прорабатывается, но что-то говорит о том, что вводить такой порядок вещей прямо сейчас – преждевременно. Сначала необходимо укрепить наше положение и привлечь на свою сторону ту самую служилую часть дворянства; и уж точно этот указ не стоит приурочивать ко дню нашей с Сашкой свадьбы.
Кроме всего прочего, это событие оказалось немного омрачено смертью моего бывшего, с позволения сказать, мужа. Узнав о том, что я стала императрицей (чего никто не ожидал) Петр Ольденбургский покинул Ниццу (где прозябал после того как господин Мартынов по приказу Ники выставил его вон из России) и направился в Санкт-Петербург. Уж не знаю, чего он хотел – шантажировать меня, чтобы я не выходила замуж за Сашку, или умолять о прощении, но в Имперской Безопасности приняли меры – и мой незадачливый бывший так и не доехал до Санкт-Петербурга. Впрочем, быть может, дело обошлось и без господина Мартынова. Поскольку я и не подумала отменять указ Ники о запрете въезда этого человека на территорию Российской империи, он попробовал воспользоваться услугами проводника-контрабандиста, который и убил моего незадачливого бывшего мужа при попытке перехода границы. Если верить бумагам, которые я получила, Петр Ольденбургский был убит с целью ограбления из-за сущей мелочи: золотого портсигара, карманных часов и небольшой карманной суммы денег. Я знаю, что бывшая свекровь до сих пор обвиняет меня в смерти ее сына, но вольно же ей было вырастить из своего мальчика настоящее чудовище, отягощенное противоестественными наклонностями. Он и в Петербург, наверное, бросился только потому, что опять наделал карточных долгов и решил за мой счет поправить материальное положение…
И кстати, о материальном. Мой управляющий сказал, что в его канцелярию поступило несколько телеграмм от морганатической вдовы моего деда императора Александра Второго. Княгиня Долгорукова, которой еще по соглашению с моим Папа надлежало жить в Ницце и не приезжать в Россию, опять прислала телеграмму с просьбой срочно выслать ей денег, хотя еще несколько лет назад Ники считал этот вопрос исчерпанным. Оказывается, что уже больше двадцати лет, прошедших с момента смерти моего деда, эта женщина и ее сынок непрерывно тянут с нашей семьи деньги. Сейчас я, честно говоря, нахожусь по этому поводу в сомнениях: то ли просто написать этой особе, что княгиня Долгорукова и «царевич» Гога не числятся среди моих родственников, то ли, во избежание дальнейших неприятностей по части престолонаследия, передать это дело в службу имперской безопасности и умыть руки, ибо эти двое вполне могут стать инструментом в руках наших врагов… Не знаю, не знаю.
Этот вопрос я и задала моей подруге Дарье, которая как ураган ворвалась в мою опочивальню. Даже человеку, мало знакомому с этой женщиной, становится понятно, что она счастлива и находится в предвкушении предстоящей свадьбы, отчего ее обуревает бьющая во все стороны энергия. Как я уже говорила у меня такого ощущения нет, просто я чувствую, что, выйдя замуж за своего Сашку, я обрету защиту на всю жизнь. Правда, маман немного ворчит, потому что не все перемены в стране и семье ей нравятся, но это ворчание вполне возможно пережить, ведь оно беззлобное. Умом-то маман понимает, что все, что мы делаем, в том числе и моя свадьба с Александром Владимировичем, необходимо для спасения России – но сердцу не прикажешь, поэтому моя родительница старается как можно меньше бывать в Зимнем дворце, предпочитая третировать Мишеля, чтобы тот срочно женился на какой-нибудь страшненькой германской принцессе…
Думаю, что результат такой деятельности может быть только прямо противоположным желаемому. Мишкин, находящийся в крайнем раздражении от этого непрерывного давления, опять выкинет какой-нибудь фортель в стиле тайной женитьбы на разведенке – и тогда вся наша с Павлом Павловичем профилактическая работа по нормализации его жизни пойдет насмарку. Да, мы, как и маман, тоже хотим, чтобы он создал нормальную семью с нормальной девушкой, которая хотя бы не была охотницей за престижными и богатыми мужьями, наплодил бы с супругой детишек и был бы счастлив. Сразу после коронации я собираюсь отменить придуманное императором Павлом Петровичем правило о том, что членам правящей семьи Романовых разрешено жениться и выходить замуж только за представителей других правящих домов. Но при этом я планирую сохранить запрет на брак с неправославными и разведенными, ибо отмена этих правил может дорого нам обойтись. Так что Мишелю стоит немного потерпеть, а маман – поуменьшить свой пыл. Пройдет еще немного времени – и этот вопрос разрешится сам собой.
Кстати, о Долгоруковой. Выслушав мой вопрос, Дарья на мгновение задумалась, а потом сказала, что резать надо не дожидаясь перитонита. Когда же я спросила, причем тут перитонит, моя подруга пояснила, что это такая поговорка, говорящая о том, что хирургическую операцию следует проводить своевременно, не доводя болезнь до фатальных последствий. И вообще, там, где задействованы государственные интересы, обычные сантименты не к месту. Госпожа Долгорукова и ее отпрыск – лишние на этом празднике жизни, и их желание пробиться в первые ряды партера только ухудшает их карму. Вели бы себя тихо, постаравшись сделаться незаметными – так и остались бы живы, но сейчас, когда Гога в любой момент может стать претендентом на престол, и при этом за его спиной будет маячить некая усредненная англо-французская спецслужба, ни о каких колебаниях или благодушии и речи быть не может.
Между тем Дарья с интересом наблюдала за тем, как мою голову пытаются привести в «приличный" вид. Между прочим, оказалось, что волосы мои выросли несколько больше, чем на два дюйма (не иначе как заговор помог). Это заметила Дарья, которая обладала идеальным глазомером; она даже сбегала и притащила линейку – мы замерили и, к моей радости, вышло чуть меньше трех дюймов. В итоге, при активном участии Дарьи, в которой вдруг проснулось творческое начало, умелых ручек моих горничных, а также при помощи большого количества шпилек, на моей голове и вправду удалось сотворить полноценную прическу. Дарья остроумно придумала: схватить пучки волос у самых корней, а потом, слегка их взбив и протянув через щипцы, распределить и скрепить таким образом, чтобы не было видно проборов. В результате произошло чудо: со стороны казалось, что у меня длинные, уложенные крупными буклями, волосы… Я была рада и изумлена до такой степени, что даже прослезилась. Я решила, что на собственной свадьбе буду именно с такой прической. Она выглядит, правда, немного необычно, но не чересчур; да и, в конце концов, почему бы мне как императрице не стать законодательницей моды? Уверена: после того как моя свадебная прическа станет достоянием общественности, многие дамы кинутся мне подражать…
[19 августа (1 сентября) 1904 года, 10:05. Женева. улица Каруж, дом 91–93, съемная квартира Владимира Ульянова и Надежды Крупской.]
В это утро будущий вождь мирового пролетариата проснулся довольно поздно и в преотвратнейшем настроении. В последнее время чтение газет вызывало у Ильича головную боль и приступы жестокой депрессии. А то как же: рухнули его надежды на то, что проклятый царизм потерпит сокрушительное поражение в войне против японской империи. Вместо разгрома и ослабления самодержавия русские флот и армия одержали сокрушительные победы и на море и на суше, что в итоге вынудило японского императора униженно признать себя побежденным. Порт-Артур, Цинампо, Тюренчен и, наконец, Цусима. Эти названия для Владимира Ульянова были пропитаны горькой желчью несбывшихся надежд. Японцы не оправдали оказанного им высокого доверия стать тем тараном, который разломает ветхое, насквозь прогнившее самодержавие; так, может быть, хоть англичане, эти просвещенные мореплаватели, окажутся на высоте?
Но и англичане не справились с задачей нанести поражение русскому самодержавию. Британская эскадра, собравшаяся атаковать секретную русскую базу на островах Элиота, была потоплена самым необъяснимым образом, при этом английские морские артиллеристы даже не увидали врага в прицелах своих орудий. Командующий же британской эскадрой адмирал Жерар Ноэль не погиб в этой бойне, а попал в русский плен, после чего вывернул перед газетчиками наизнанку все грязное белье британской политики. И снова российская деспотия укрепилась, а ее самый сильный и непримиримый враг ослаб. Европейские газеты, еще недавно злорадствовавшие по поводу неудач русских, теперь дружно, как стая псов, почуявшая подранка, переключилась на британский королевский флот, который неожиданно постигла жестокая неудача. Позор был такой, что в Британии сменилось правительство, и новый премьер полностью дистанцировался от действий предыдущего кабинета, а Первый Морской лорд просто застрелился, чтобы не попасть под парламентское расследование.
И – последняя неприятность, случившаяся совсем недавно. Замысел группы гвардейских офицеров (так сказать, новых декабристов) убить царя Николашку и совершить дворцовый переворот с треском провалился, а все участники заговора были схвачены имперской безопасностью, этой новой Тайной Канцелярией. Несомненно, провал переворота произошел из-за того, что детки аристократов и крупных капиталистов, составлявшие костяк офицерского состава Гвардии, не имели не малейшего понятия о конспирации. Поэтому люди в черных мундирах, незадолго до того разгромившие опытнейшую эсеровскую боевку, играли с ними как кошка с мышкой. И вот результат. Николашка все-таки оставил престол, но его сменила сестрица Ольга – особа решительная, волевая и невероятно жестокая, в окружении которой оказались сплошь патологические палачи и отъявленные держиморды.
Если вспомнить российскую историю, то двести лет назад вернейшими соратниками молодого царя Петра Первого, пьяницы, маньяка и сифилитика, были ушлый прохвост Алексашка Меньшиков и верный царский сатрап князь-кесарь Федор Ромодановский. Так и при новоявленной императрице оказались такие жутковатые персоны, как один из начальников имперской безопасности господин Мартынов (несомненно, создатель этой сыскной мясорубки), императорский жених, международный авантюрист и наемник господин Новиков, как писали в газетах, сам себя назначивший полковником и Великим Цусимским князем, а также некто господин Одинцов, заявивший о себе как о новом князе-кесаре. Рассказывали, что во время побоища в бухте Цинампо эти люди приказали расстреливать спасающихся вплавь японских солдат из пулеметов. Когда все кончилось и несколько часов спустя трупы всплыли, поверхность воды на месте побоища оказалась сплошь покрыта телами убиенных людей.
Кто бы мог подумать, что в ничем не примечательной юной девице и ее присных окажется столько яростной неистовой злобы? Как восемьдесят лет назад, когда провалилось восстание декабристов, следствием неудачного переворота оказалась мутная волна реакции, с головой захлестнувшая Россию, будто японское морское чудовище цунами! Людей, не согласных с режимом в том, какой в будущем должна стать Россия, хватают прямо на улицах и навешивают не три-пять лет ссылки в приятные для жизни места, а десять-пятнадцать лет каторжных работ. И пусть среди жертв развязанного террора практически нет большевиков, а сплошь члены эсеровской боевки, аристократы-заговорщики и казнокрады – но он, Владимир Ленин, предчувствует тот момент, когда, покончив с прочими врагами, имперская безопасность накинется на борцов за интересы рабочего класса.
Если дела так пойдут и дальше, то социалистической революции, которую жаждут произвести большевики, придется ждать лет сто-сто пятьдесят, потому что сейчас Российская империя стонет в жесточайших руках сатрапов самодержавия. В революционеров пока не стреляют из пулеметов, как в японских солдат, да и здесь, в Швейцарии, они недосягаемы для русских властей. (Пока недосягаемы, Владимир Ильич, пока…) Но, несмотря на это, становится очевидным, что ни о какой революционной ситуации теперь не может быть и речи, ведь для успеха революции необходимо бессилие верхов, импотенция власти – чего в случае с императрицей Ольгой нет и в помине. Да и господин Зубатов, ратующий за то, чтобы власти удовлетворили самые насущные нужды масс, снова приближен к трону и любим, так что и с низами тоже будет не все ладно. Вот и предается товарищ Ульянов неумеренной тоске после каждого чтения свежей прессы, когда чем дальше, тем страшнее. Никому он теперь в России не нужен, революция разгромлена, реакция торжествует.
Вот и в то утро обитатели трехкомнатной квартиры, кое-как проснувшись, стали собираться и прихорашиваться для похода на завтрак в ресторан «Ландольт», излюбленное место столования русских революционеров, служившее им чем-то вроде клуба. Ну что поделать, если Наденька Крупская была отвратительной хозяйкой, с презрением относясь к кухонным хлопотам. Доходило до того, что ее мужу приходилось самому делать себе чай. Что уж в таком случае говорить о приготовлении ею супа или банальной яичницы. Это было бы величайшее в мире насилие над эмансипированной личностью[14]… И вообще, у этой особы на всех фотографиях, сохранившихся до двадцать первого века, при неплохой в общем-то фактуре, одинаково брезгливо-недовольное выражение лица, с поджатыми губами, будто эту женщину только что накормили зеленым лимоном или супом ее же собственного приготовления. Интересно, какой вывих в мозгах надо иметь, чтобы жить в одном доме и ложиться в постель с женщиной, к лицу которой насмерть прилипла эдакая маска. Впрочем, на вкус и цвет товарищей нет; да и, скорее всего, это был чисто партийный брак, деловое партнерство, устраивающее обе стороны.
Когда товарищ Владимир и товарищ Наденька собирались выйти к завтраку в ресторацию «Ландольт», в дверь их квартиры позвонили. Звонок был длинный и протяжный, как сирена боевой тревоги, зовущая свистать всех наверх – и, сказать честно, революционная парочка в первый момент испугалась. Будь они в России, такой неурочный звонок мог означать, что их убежище раскрыто и к ним на огонек заглянули царские сатрапы, после чего должен был последовать обыск, помещение в Кресты или Бутырку и затем – ссылка в дальние Туруханские края. И только секунд через пять фигуранты вспомнили, что они в Швейцарии, а местная полиция не интересуется политическими эмигрантами, а если и интересуется, то только потихоньку, лишь бы те ничего не испортили в тихой и мирной альпийской республике. Вспомнив об этом примечательном факте, недоумевающий Ленин поглубже запахнул халат, и прямо как был, в домашних шлепанцах на босу ногу, отправился отпирать дверь, недоумевая, кого это могло принести в такую рань…
Компания, которую он узрел на пороге, привела Ильича в оторопь. Ну, Леонида Красина товарищ Ульянов знал лично, а Савву Морозова заочно (по фотографии), зато двое других заставляли задуматься. Тут надо сказать, что в какой-то мере вождь мировой революции был стихийным экстрасенсом – то есть не мошенником в расшитом халате, надувающим щеки и говорящим заученные слова, а проникающим в скрытую от прочих суть вещей и умеющим оказывать на нее, на эту суть, целенаправленное влияние. Отсюда у него те внешне бредовые, но неизменно срабатывающие идеи и огромная власть над массами, которые легко подпадали под его гипнотическое влияние. Такими же особенностями несколько позже будет обладать другой вождь, на этот раз германского народа… Идеи разные, а механизм их воплощения один и тот же. Впрочем, сейчас это не имело абсолютно никакого значения. Глянув на двух других визитеров, стоявших позади Красина и Морозова, Ильич подумал было, что эти двое не от мира сего… Или таков только старший – подобный архангелу Гавриилу, вздумавшему прогуляться среди обычных людей; а на молодом человеке просто лежит его отсвет, искажающий истинную сущность личности. В Доброго Боженьку и его присных товарищ Ульянов не верил, но почему-то на ум ему сейчас пришло именно такое сравнение.
Тем временем Красин, глядя на недоумевающего Ильича, прокашлялся и сказал:
– Доброе утро, товарищ Ленин, вы извините, что мы к вам без приглашения, но у нас к вам дело чрезвычайной важности.
– И эти товарищи тоже? – дал петуха Ильич, махнув реденькой бороденкой в сторону полковника Баева и его молодого спутника.
– Эти товарищи, – сказал Красин, – и есть наше дело, по крайней мере, большая его часть.
Ильич в раздумьях почесал лысину, благополучно отвоевавшую у волос уже почти полголовы.
– Ну что же, проходите, если это так срочно, – сказал он гостям и, обернувшись назад, крикнул: – Наденька, у нас гости!
– Ой, Володя! – взвизгнула та, – я же не одета!
– Ладно, товарищи, – махнул рукой Ленин, – пока Надежда Константиновна прихорашивается, пойдемте на кухню. Только сразу должен сказать, что там у нас шаром покати. Мы люди занятые и с хозяйством нам управляться некогда, поэтому питаться мы привыкли в ресторациях…
Полковник Баев скептически хмыкнул. Ну да – занятые люди, которые по большей части не знают, куда себя девать… Баре от революции. У Ленина волосенки, которые еще остались, не чесаны, бороденка растрепана, сам из себя какой-то неухоженный. Кинь таких на необитаемый остров – и они умрут голодной смертью посреди нетронутого тропического изобилия. Если в повести Салтыкова-Щедрина про мужика и двух генералов заменить генералов на Ленина с Крупской, а мужика на Наденькину маменьку, то все выйдет один в один. Впрочем, о данных особенностях этой революционной семейки Баев с напарником были осведомлены заранее, а потому не видели в этом большой проблемы.
– Не беда, товарищ Ленин, – махнул он рукой, – мы все свое носим с собой, так что товарищ Стах сейчас организует нам все, что положено в таких случаях…
Прошло не более получаса – и вот на ловко разожженном примусе весело пыхтит чайник, а на застеленном простенькой скатеркой столе стоят тарелки, наполненные бутербродами с сыром, колбасой нескольких сортов, ветчиной, икрой черной, икрой красной, а также прочие деликатесы, извлеченные из объемистого саквояжа. У гостей нашлось и еще кое-что: отличная заварка и сахар; и даже нож Стах использовал свой, острый как бритва – им он кромсал твердую копченую колбасу на тонкие, будто листы бумаги, ломтики. Итак, к тому моменту, когда Наденька со своим фирменным кислым выражением на лице, но при полном параде вышла на кухню, там все было готово для чаепития. Глаза ее округлились и вопросительно уставились на супруга. Тот в ответ пожал плечами и, прожевав бутерброд с черной икрой, сказал:
– Вот, товарищи приехали к нам из России по очень важному и секретному делу и попутно решили напоить нас с тобой чаем. Так что в «Ландольт» мы с тобой сейчас не идем… будем пить чай, поедать бутерброды и слушать то, о чем нам будет рассказывать товарищ Красин и его спутники. Ну-с, товарищи я вас слушаю…
– Да-да, товарищи, – сказала Наденька, настроение которой сразу улучшилось при виде украшающих стол деликатесов, – МЫ вас слушаем…
– Для начала, товарищ Ленин, – сухо сказал полковник Баев, еще не раскрывавший своего инкогнито, – ознакомьтесь вот с этим…
Он открыл свой маленький чемоданчик и передал Ильичу толстенькую книжку в потертой, но все еще яркой глянцевой обложке. На обложке, по износу которой было видно, что книгой активно пользовались, был изображен Большой Кремлевский дворец за кремлевской же стеной и написано «А.С. Барсенков. А.И. Вдовин. История России 1917–2009»
С совершенно округлившимися глазами Ленин взял книгу, машинально открыл обложку, глянул на титульный лист и, тихо сходя с ума, прочитал: «Издание третье, расширенное и переработанное. Рекомендовано УМС по истории и искусствоведению, УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений обучающихся по специальности История. АСПЕКТ-ПРЕСС, Москва 2010».
– Так вы… – придушенно произнес он, глядя на своего нежданного гостя.
– Да, вы правы, – добродушно ответил тот, – разрешите представиться: полковник службы имперской безопасности Баев Игорь Михайлович, имею к вам особое поручение от канцлера Российской Империи Павла Павловича Одинцова и письмо от вашего товарища Кобы, в миру называемого Иосифом Виссарионовичем Джугашвили. Да вы не бойтесь, Владимир Ильич, мы пришли не за вами, а к вам; и вообще, как и многие в нашем времени, я – человек, сочувствующий вашим идеям. В общем. И Павел Павлович тоже. Разногласия начинаются в деталях. Но прежде чем я изложу вам предложение товарища Одинцова, вы должны хотя бы бегло ознакомиться с этой книжкой, чтобы, пусть даже в общих чертах, понимать цену вопроса… А мы подождем, пока вы закончите.
Ой! Услышав роковые слова «служба имперской безопасности», Наденька тихо прикрыла рукой рот. Хорошо, что хоть бутерброд с ветчиной оказался полностью прожеван и проглочен. А то бы наверняка подавилась. Между прочим, ужасами этой самой «имперской безопасности» газеты уже три месяца кряду запугивают европейских обывателей, так что Наденькино изумление вполне объяснимо. Вздохнув и бросив укоризненный взгляд на супругу, Ильич погрузился в чтение, быстро-быстро переворачивая страницы…
Так продолжалось час, два, три… Время от времени Ильич делал перерыв, не чувствуя вкуса, проглатывал пару бутербродов, запивая их чаем, и снова погружался в чтение. Он поверил – поверил сразу, потому что все произошедшее за последние полгода можно было объяснить либо вмешательство пришельцев из будущего, либо происками доброго боженьки, по-другому никак. Боженьку он ненавидел с самого детства, с гимназических уроков Закона Божьего, так что пришельцы из будущего выглядели в его глазах гораздо предпочтительней.
Когда «беглое усвоение» было закончено, Ленин отложил книгу и одним глотком допил холодный чай. Главное, что он извлек для себя из этого чтения, была принципиальная возможность пролетарской революции и построения социализма. Правда, потом все рухнуло – причем так, чтобы больше не подняться; и, как он понял, никто даже и не пытался объяснить то, что произошло, все ограничивались простой констатацией фактов. Это был вызов – в первую очередь его самолюбию, и он во чтобы то ни стало должен разгадать эту загадку. Но сначала следует обратиться к этим людям и спросить, что они для него хотят…
– Ну-с, товарищи… или же все-таки господа… – произнес Ильич, глядя на полковника Баева, – рассказывайте, что вам велел ваш начальник, и какое предложение он просил вас передать…
– Предложение простое, – ответил полковник Баев, – присоединиться к нашей команде и продолжить борьбу за социальную справедливость на должности министра труда. Как вы понимаете, в противном случае судьба ваша будет печальна: отказ от политической деятельности или смерть; ибо ставить над страной эксперименты ценой в двадцать миллионов жизней мы вам не позволим.
После этих слов Наденька чуть было еще раз не подавилась бутербродом. Сам Ленин был значительно сдержаннее.
– А почему бы, – сказал он, пожав плечами, – вам не подыскать на эту должность какого-нибудь нормального чиновника? А я умою руки. Уж больно хлопотную должность вы мне предлагаете.
– Это недопустимо, – ответил полковник, – потому что нормальный чиновник, скорее всего, запорет порученное ему дело. Тут нужен человек, который бы буквально горел на службе и для которого права рабочих и социальная справедливость не были бы пустым звуком. И подчиненные ему фабричные инспектора (я имею в виду ваших товарищей большевиков) должны быть под стать своему министру, чтобы буржуи – такие как присутствующий здесь Савва Морозов – ходили по ниточке и строго исполняли нормы законов.
– А без буржуев обойтись никак нельзя? – с некоторым раздражением спросил Ленин, – Почему вы, наконец, не хотите национализировать средства производства-с и избавиться от этих паразитов? Поймите, существование буржуазии и социальная справедливость несовместимы.
– Тут, товарищ Ленин, – со вздохом ответил полковник Баев, – необходимо смотреть на проблему шире. Во-первых – мы не в состоянии организовать массовую национализацию промышленности, потому что такое явление способно разом обрушить всю экономику. Во-вторых – защищать права трудящихся требуется не только на частных, но и на национализированных предприятиях, ибо администрация предприятий в погоне за прибылью учиняет нарушения закона вне зависимости от формы собственности. В-третьих – у нас есть огромные сомнения в целесообразности национализации мелких предприятий. В тот раз такой максимализм тотальной национализации дорого обошелся первому в мире государству рабочих и крестьян. Целесообразно национализировать крупные заводы и фабрики, электростанции, рудники, шахты и нефтепромыслы, которые достаточно просто заставить работать при помощи централизованного управления. Миллионы пудов руды, каменного угля, нефти, чугуна, стали и алюминия крайне легко поддаются учету и планированию. Но вот национализация мелких фабрик и полукустарных мастерских, выпускающих товары, непосредственно потребляемые народом, приводит к тому, что, загнанные в централизованную систему, эти предприятия становятся неэффективными. Из-за централизованной системы управления, замедляющей ответную реакцию на изменения спроса, и своей глубокой вторичности для государства по сравнению с так называемыми флагманами индустрии эти заводы и фабрики начинают выпускать ненужные товары, спрос на которые уже удовлетворен, а нужных товаров выпускают совершенно недостаточное количество. Из-за этого получается такой парадокс: с одной стороны, склады завалены качественными, но ненужными товарами, с другой стороны, нужного покупателям здесь и сейчас в продаже нет или оно имеется в недостаточном количестве, а когда нужный товар все-таки появляется в продаже, то это вызывает ажиотажный спрос, и его скупают не потому, что эта штука людям нужна прямо сейчас, а про запас. Это явление, свойственное чисто социалистической экономике, называется «дефицит» и как раз оно и привело к ее краху. Если люди, несмотря на всю социальную справедливость, за свои честно заработанные деньги не в состоянии купить нужных им вещей, и даже продукты распределяются по карточкам, как во время войны или тяжелого бедствия – значит, экономическая система показала свою неработоспособность.
Ленин опять растерянно поскреб пятерней свою лысину. Он-то думал, что если, строго по Марксу, провести тотальную национализацию индустрии, отдать весь созданный рабочими прибавочный продукт на общенациональные цели, то сразу наступит социалистическое благоденствие. Оказалось, что это не так, что в этом деле есть свои тонкости, и прежде чем браться за построение чисто социалистического общества, необходимо решить несколько важнейших теоретических вопросов… Иначе построенный социализм в капиталистическом окружении неизменно будет ожидать крах – в полном соответствии с паскудной человеческой природой.
Впрочем, о каком социализме он сейчас рассуждает? Социализм по Марксу ему строить точно не дадут. Вслух ничего подобного не говорилось, но стоит ему продолжить свою деятельность на низвержение самодержавия – и с ним поступят так же, как и с несчастными деятелями эсеровской боевки. Если они приехали сюда для того, чтобы поговорить, то что им помешает сделать то же самое, чтобы убить? Конечно, полковник Баев не будет заниматься этим грязным делом собственными руками, а поручит кому-нибудь вроде этого товарища Стаха – человеку с твердой рукой и железным сердцем, которому все равно, что резать своим ножом – копченую колбасу или революционеров-неудачников.
Нет, жить он еще хочет, и жить хорошо. Сейчас ему платят за то, что он является знаменем для своих достаточно многочисленных сторонников, но что будет потом, когда он отойдет от дел? Скорее всего, голод и нищета, ибо он умеет только быть профессиональным революционером и борцом против самодержавия. Единственный достойный выход – принять предложение сменить флаг, не меняя своих убеждений. И жить тогда тоже можно будет неплохо, ибо министрам в Российской империи довольно недурно платят. Конечно, ему хотелось бы отомстить семейке Романовых за брата Александра, казненного за подготовку покушения на императора Александра Третьего, папеньку нынешней императрицы и ее брата-предшественника, но эти мечты не имеют ни малейшего шанса на осуществление, а следовательно, о них пока следует забыть. Сейчас важнее узнать, какие, собственно, политические и экономические воззрения имеются у пришельцев из будущего и может ли он совместить их со своими убеждениями?
– Товарищ Баев, – сказал Ильич, внимательно посмотрев на своего собеседника, – изложите мне, пожалуйста, свое политическое и экономическое кредо.
– В политике, – сказал полковник Баев, – наше кредо – это самодержавие и народность. В низах власть выборная, но верховный владыка Божьей Милостью только один. При этом высшая власть не только властвует над народом, но и несет перед ним всю полноту ответственности. Империя Николая Второго оттого и рухнула, что нарушила негласный социальный договор между властью и народом, по которому император является добрым и любящим отцом для своих подданных, а не его злобным угнетателем. Матушка-императрица Ольга не такая. Она любит все сто сорок миллионов своих детей – неважно, послушные они или нет. Что касается экономики, то там мы сделали ставку на смешанную структуру, когда тяжелая индустрия находится в общенародной собственности, а легкая промышленность и сельское хозяйство, в различных пропорциях – в совместном частно-государственном владении. Чем важнее предприятие или отрасль для государственных или общественных интересов, тем больше будет доля государственного участия… И над всем этим два министерства. Министерство экономического развития, заведовать которым уже назначен присутствующий здесь Савва Морозов, и министерство труда, на которое государыня и канцлер планируют поставить вас. Если не вы, то кто же сможет сделать адски трудное дело и заставить нашу буржуазию наконец увидеть в своих работниках таких же людей – соотечественников и сограждан? А если у вас что-то не получится, то тогда за вашим плечом встанем мы, бойцы невидимого фронта имперской безопасности, ибо любая несправедливость угрожает этой безопасности самым непосредственным образом.
– Вот видишь, Наденька, как оно все повернулось, – вздохнул Ильич, – соблазн, конечно, ужасный… Только вот, товарищ Баев, а что будет с моими товарищами, которые сейчас томятся по царским тюрьмам и каторгам? Нехорошо получится, если я стану министром, а они продолжат страдать в заключении…
– Если вы примете наше предложение, – ответил полковник Баев, – то и ваши товарищи получат свободу. Широчайшая амнистия не будет касаться только уголовников, казнокрадов, иностранных шпионов, заговорщиков и террористов. Разумеется, тем, кто захочет получить свободу, придется подписать обязательство об отказе от насильственного свержения существующего строя, потому что только в таком случае мы можем отпустить их на волю. С теми же, кто нарушит клятву, разговор будет суровый – их просто уничтожат.
– Ну что же, звучит красиво, – Ильич потер руки, – а сейчас, товарищи, давайте выпьем еще чаю, отметим, так сказать, наше соглашение… Да-да, Наденька, я согласен, а куда мне деваться при таких условиях. С другой стороны, суровость и решительность наших новых товарищей внушают надежду, что они добьются своей цели и все-таки построят свой имперский социализм…
[20 августа 1904 года, 12:05. Санкт-Петербург, Зимний Дворец, Малахитовая гостиная.
Полковник морской пехоты Александр Владимирович Новиков.]
Сегодня, за два дня до свадьбы, со мной захотела встретиться будущая теща, вдовствующая императрица Мария Федоровна. Несмотря на то, что мы здесь уже почти месяц, до сей поры она не находила времени для задушевной беседы, а сам я не смел навязываться, поскольку у меня и без того забот хватает. Оля говорила мне, что ее маман не очень-то рада предстоящему браку младшей дочери, но не считает для себя возможным еще раз вмешиваться в ее личную жизнь. Предыдущий брак с мужеложцем, заключенный как раз по настоянию Марии Федоровны и брата Николая, стал для Ольги настоящим адом, и теперь даже такая властная мать, как вдовствующая императрица, признает право дочери выбрать себе мужа по собственному вкусу. Интересно, что теперь сподвигло ее на эту встречу? Быть может, причиной была смерть Петра Ольденбургского, которого застрелили контрабандисты при попытке вместе с ними нелегально перейти границу? Я тут узнавал у Мартынова – он клянется, что его служба не имеет к этому делу никакого отношения. Если бы этот поц благополучно перешел границу, то при обнаружении был бы задержан, после чего выдворен обратно за рубежи нашего богоспасаемого отечества. И все. Ольга не желала смерти этого человека, а просто хотела, чтобы он не надоедал ей и не мозолил глаза, а мне его существование и вовсе было параллельно. Я ведь знаю, как Оля относится ко мне и как относилась к нему, а все остальное мне по барабану.
Вдовствующая Императрица ворвалась в гостиную как вихрь. Огляделась, увидела меня и, жестом отослав оставшихся в коридоре сопровождающих, быстро закрыла дверь. Интересно, откуда и куда она так торопилась – неужели на встречу со мной, назначенную ровно на полдень? Тем временем Мария Федоровна сделала навстречу несколько шагов и оглядела меня с ног до головы.
– Хорош зятек! – сказала она, склонив голову набок. – Да, Ольга была права. Никакого сравнения с Петром. Мой Сашка тоже был силен, но он больше походил на неуклюжего медведя; а ты не медведь, нет, – ты тигр, ловкий, стремительный и беспощадный.
– Ваше императорское величество, – сказал я, – неуклюжесть медведя – только кажущаяся; когда ему это надо, он тоже может быть ловким и стремительным. Его, как и Россию, нелегко разозлить, но когда это случится, его нападение будет исполнено самой сокрушительной силы…
– Ладно, – махнула рукой вдовствующая императрица, – я знаю, что ты не только молод, силен и неотразим по мужской части, но еще и достаточно умен, чтобы понравиться Ольге, а также ловок на язык. Сейчас я вижу, что моя дочь не ошиблась. Она будет сидеть на троне во всем императорском великолепии, а ты, в интересах России, будешь править у нее из-за спины.
– Ваше императорское величество, – сказал я, – после того как мы с Ольгой поженимся, ваша дочь по-прежнему останется самодержавной императрицей, вольной в своих решениях. Но, как я уже говорил епископу Евсевию, архипастырю Владивостокскому и Камчатскому, в ее распоряжении всегда будет все, чем я владею, а также мои кулаки, мой пистолет, преданность верных мне людей и мой талант командира. И горе тем людям и целым государствам, которые посмеют обидеть или оскорбить мою жену в частности или Россию в целом. Они об этом жестоко пожалеют, как уже пожалели о своей наглости японцы и отчасти англичане. Это я могу вам обещать сразу. А во всем остальном, Ваше императорское величество, я обещаю быть обычным мужем и разделять с женой все, что бы ни послала нам судьба: и горе, и радость, и все заботы… Что же касается вашего младшего сына, которого вы наверняка хотели бы видеть на месте Ольги, то он мой друг, и я хочу ему только добра. Надеюсь, что и он думает обо мне так же.
– Да, думает, – подтвердила Мария Федоровна, – он и прожужжал мне все уши о том, что я должна с тобой встретиться и расставить все точки над «И». Знаешь, до этого я думала, что такой жених моей младшей дочери, Великий князь сомнительного происхождения в первом поколении, головорез и карбонарий, смущающий неокрепшие умы панибратским отношением к нижним чинам – это такое неизбежное зло, своего рода плата за спасение Империи и династии, но теперь вижу, что я ошибалась. Но все же мне кажется, что лучше бы случилось так, что трон занял бы Михаил, в жены которому следовало подыскать особу, равную ему по положению и происхождению… Это было бы более естественно, что ли. Но, к сожалению, он шарахается от трона, будто тот раскален докрасна, и поэтому мне не из чего было выбирать: или императрица Ольга или крах всего, что было создано за триста лет правления династии Романовых…
– Ваше императорское величество, – сказал я, – там, на вокзале, когда мы узнали об отречении от престола вашего старшего сына, мы с Ольгой еще раз предлагали Михаилу принять на себя всю полноту власти. Но он не только отказался от такой чести и сразу переотрекся в пользу своей сестры, но еще и первый принес ей присягу на верность. И это решило все. Медлить и затевать споры в ситуации, когда в столице полыхает мятеж и на счету каждая минута, было смерти подобно.
– Я об этом знаю и не удивлена, – кивнула Мария Федоровна. – Когда стало ясно, что Николай не имеет необходимых государю качеств, что вызвало разговоры о необходимости заменить его на более приемлемую фигуру, мой младший сын принялся демонстрировать нежелание занимать престол после брата. Был бы здоров Георгий, в этом не было бы ничего особо страшного, – но туберкулез был неумолим. Мы не могли дать стране государя, который может умереть в любую минуту, а переубедить Михаила не было возможности, и потому Николай, несмотря на свои недостатки, продолжал занимать трон, приближая нас всех к неминуемой погибели. На его фоне моя дочь Ольга – уж точно не худший вариант правительницы и Матери Отечества…
Что-то моя будущая теща разоткровенничалась. Она то ли оправдывается, то ли жалуется на жизнь. Пожалуй, я тоже могу ответить ей откровенностью.
– Ваше императорское величество, – сказал я, – ваша дочь Ольга – это не просто не худший, а лучший вариант из всех возможных. У нее ваши ум и характер, а еще широкая русская душа ее отца. Она с легкостью встанет впереди России и поведет ее за собой, а мы, близкие ей люди и друзья, будем поддерживать ее и помогать на каждом шагу. Это я говорю вам как человек, который знает, что было и что будет. А что касается Михаила, то все дело в том, что ваш младший сын насмотрелся, как его старшим братом манипулировали его дядья, и боится, что после того как он взойдет на трон, им тоже станут манипулировать. Нет, в отличие от государя Николая Александровича, у него хватило бы духа и характера, чтобы «послать» подальше Великих князей Алексея Александровича и Владимира Александровича; но есть один человек, манипулятивному влиянию которого он противостоять не в силах, и этот человек – вы, ваше императорское величество. Даже сейчас ваше неистовое желание женить его на какой-нибудь третьеразрядной принцессе приводит моего друга в панику. Мы с Ольгой не единожды обсуждали эту ситуацию, и весьма встревожены развитием событий. Придя в отчаяние от столь неприкрытого давления, Михаил способен выкинуть нечто подобное тому фортелю, который он выкинул в нашей истории, когда женился на разведенной и весьма ловкой охотнице за статусными женихами. И эту дамочку, между прочим, ваш сын отбил у собственного подчиненного. Сам он на эту тему со мной пока не говорил, но опасность такого исхода достаточно велика.
Вдовствующая императрица посмотрела на меня с таким удивлением, будто я сообщил ей, что Волга впадает в Черное море. Неужели за все это время никто из наших не догадался проинформировать ее о том, что учудил ее младший сын, спасаясь от избыточной материнской опеки? Не хватило такта сказать мягко или запамятовали за остальными делами; а может, просто посчитали данный факт малозначащим. Зря. В политике, как и на войне, не бывает малозначащих фактов.
– Так значит, вот оно как все было… – тихо проговорила Мария Федоровна, – а я думала, что от меня скрывали…
– Скорее, не скрывали, – сказал я, – а не знали, как сообщить столь пикантные подробности, и надеялись, что все само рассосется – ведь и сам Михаил уже далеко не тот, что в прошлой истории. Но тем не менее риск такого развития событий сохраняется, ведь все ваши попытки окрутить его с первой попавшейся кандидаткой Михаил воспринимает как подготовку к очередной рокировке, чего он категорически не хочет. Кроме того, вашего сына напугало первое замужество Ольги. Вы отдали свою дочь такому человеку, которому он не доверил бы и бродячей собаки – ведь Божья же тварь, жалко. Вот и Михаил боялся, что с ним будет то же самое – всучите вы ему из династических интересов в жены безмозглую сушеную воблу и скажете: «А теперь живи, сынок, как знаешь…»
– Господин Новиков, – встопорщилась вдовствующая императрица, – у моего младшего сына жена должна быть из подобающей его положению семьи. Кроме всего прочего, родители всегда лучше знают, что нужно их детям. Вот мой старший сын женился по любви, вытянув из нас с супругом все жилы, – и вы же сами признаете, что из этого не получилось ничего хорошего.
Я пожал плечами:
– Сейчас наступает такое время, что из династического брака в принципе не может получиться ничего хорошего. Старые европейские династии, оставшиеся с позднего средневековья, вырождаются и вымирают, а новые на их месте не образуются, ибо в большинстве стран политическое развитие идет по республиканскому пути. И даже там, где еще сохранились короны, они по большей части играют только декоративную роль и не свидетельствуют ни о жизненной силе, ни об уме и талантах своих обладателей. Дело, видите ли, в том, что есть такой закон природы, что любое человеческое сообщество, замкнутое в ограниченной экологической нише и насчитывающее меньше восьми тысяч особей, без притока свежей крови неизбежно начинает вырождаться, и чем меньше число его членов, тем быстрее идет процесс вырождения. Чтобы избежать этой ловушки, сообщество должно вырваться из своей экологической ниши и начать распространяться по земле, непрерывно увеличивая число своих членов. Если не верите мне, спросите у профессора Шкловского, он даже может объяснить вам причины такого явления.
Немного помолчав, я добавил:
– Брачная дипломатия к началу двадцатого века тоже уже отошла в сторону, враждебные или дружественные отношения между государствами определяются исходя из меркантильных соображений выгоды и жажды чужих территорий, а отнюдь не из родственных связей между монархами. Тем более что рулят в политике совсем не цари, короли или богдыханы, а демократически избранные парламентарии, назначающие министерства. Истинным назначением жены такого человека как ваш сын Михаил, должно быть рождение сильных, здоровых и умных детей, которые смогут продолжить дело отца, и создание своему супругу такой обстановки, когда он чувствовал за спиной крепкий семейный тыл и тепло домашнего очага. Семья вашего сына должна быть такой же крепкой и дружной, как и ваша семья с государем Александром Александровичем.
– Вот уж в этом вы совершенно правы, – вздохнула Мария Федоровна, – как, возможно, правы и во всем остальном. Чувствуется в последнее время нечто такое в Европе, тлетворное… Но все равно мне бы не хотелось, чтобы мой сын женился на какой-нибудь приказчице, актриске, или, не дай Бог, падшей женщине…
– Ну, ваше императорское величество, – с улыбкой сказал я, – государь Иоанн Васильевич, когда ему вздумывалось жениться, устраивал смотры девицам всех сословий. Вот и мы можем вспомнить хорошо забытое старое. Разведенок и неправославных отсекать надо сразу, также отсечь следует девиц, не получивших гимназического образования, а также тех, чьи отцы не имеют особых заслуг перед Россией, то есть не выслужили чина гарантирующего потомственное дворянство. А остальное – на вкус вашего сына. Если у него есть какая-нибудь пассия, подпадающая под эти условия, пусть участвует – и тогда она сможет выиграть свой самый ценный приз. И вообще, поговорите на эту тему со своей дочерью и моей будущей женой, она сейчас как раз ломает голову над новым Учреждением об императорской фамилии, ибо сейчас не времена Павла Первого, условия в мире изменились, да и Дом Романовых разросся в нечто бесформенное и безобразное.
– Хорошо, я поговорю с Ольгой, – кивнула Императрица, – но представляю себе, если ваше предложение будет осуществлено, какая свора девиц и их мамаш понаедет в Санкт-Петербург в надежде пробиться в царскую родню, и какой крик и гвалт поднимет это собрание, толкаясь локтями в нашей приемной…
– Тоже своего рода приключение, – пожал я плечами, – к тому же умение спокойно вести себя при самых нервных ситуациях тоже может быть одним из пунктов отбора, на этот раз негласным. Если девица или ее родители суетятся, кричат, толкаются локтями, вырывают друг другу кудри и выцарапывают зенки – то пусть езжают обратно в свои Тьмутаракани, так как в царскую родню они не годны. С другой стороны, обещаю вам, что по-дружески переговорю с вашим сыном и объясню ему, что как у члена дома Романовых у него есть не только права, но и обязанности, в первую очередь – вести себя образцовым образом, чтобы быть примером для всех российских подданных, и ни в коем случае не устраивать скандалов.
– Это, – сказала повеселевшая вдовствующая императрица, – действительно, в первую очередь. А теперь, мой дорогой зятек, позволь тебя оставить, ибо у меня еще куча дел. Но должна тебе заметить, что эта встреча изрядно улучшила мое мнение о твоей особе. Возможно, ты и прав, и в наши древние жилы пора понемногу вливать свежую кровь.
С этими словами Мария Федоровна развернулась и, шурша длинным платьем, вышла; я же остался стоять в раздумьях, не наговорил ли я чего лишнего. Ну не мое это – общаться с царственными особами. Ольгу и Михаила я еще переношу, а остальных – увольте. Пусть с ними Павел Павлович возится.
[21 августа 1904 года, 10:35. Восточная часть Финского залива, 10 миль западнее Кронштадта, Борт атомного подводного крейсера К-419 «Кузбасс», положение надводное, крейсерский ход 12 узлов. Командир АПЛ капитан 1-го ранга Александр Степанов, 40 лет.]
Мы почти у цели. Через час «Кузбасс» и «Иркутск» ошвартуются у причалов Кронштадта, а пока передним мателотом[15] строя идет наш старый, во всех смыслах, знакомый крейсер «Аврора». Густо дымят все три трубы, острый шпирон[16] ножом режет воду, а чайки с криком мечутся над кильватерным следом, выхватывая из взбаламученной воды контуженую винтами мелкую рыбку. Лепота… Посмотрите налево: там, в туманной синеватой дымке, финляндский берег; посмотрите направо: там (значительно ближе) Петроградская губерния.
Позади остался переход из Тихого в Атлантический океан через Северный Полюс, а потом трехнедельная работа пугалом в европейских морях, омывающих Британские острова, Французскую республику и отчасти Германскую империю. Пока в России в основном не устаканилась власть новой императрицы, мы нарезали круги вокруг британской Метрополии, демонстрируя свое присутствие в этих водах и создавая атмосферу угрозы, чтобы ни одна тварь не отважилась предпринять против Российской империи хоть какие-то практические действия. А потом к нам неожиданно поступил приказ сворачивать эти устрашающие демонстрации и брать курс на Кронштадт. Завтра, двадцать второго августа, императрица Ольга выходит замуж. И хоть мы особо не были с ней знакомы, поскольку большую часть ее пребывания на островах Элиота болтались в Корейском проливе на траверзе залива Асо, как собаку на цепи удерживая мистера Камимуру, но она все равно о нас помнит и за стол без нас не сядет. А еще нам сказали, что она жалеет о том, что нельзя сюда на несколько часов выдернуть команды «Адмирала Трибуца», «Быстрого», «Николая Вилкова» и «Бориса Бутомы». То есть сделать такое можно было бы, да только не в этом времени…
Ну да ладно. Поскольку на момент получения этого приказа мы находились в Северном море, то нам следовало только изменить курс и взять восточнее. Датские проливы мы форсировали ночью и в подводном положении, так что никто ничего не узнал. И вообще, по части подводных лодок люди тут еще очень наивные, и шведы еще не ловят наши субмарины в своих водах сетями будто селедку. А на траверзе острова Готланд мы всплыли в надводное положение, и нас взяла на сопровождение «Аврора».
Сразу после того, как мы обменялись офицерами связи, стали известны свежие береговые сплетни, то есть новости. Первой из них было то, что русско-германские военно-морские учения уже завершились и по их итогам полетели головы и затрещали чубы. Своих постов разом лишились генерал-адмирал Алексей Александрович, морской министр Авелан, начальник Главного морского штаба контр-адмирал Рожественский, и начальник практического отряда вице-адмирал Бирилёв. Царского дядю привлекли к ответственности не только за упущения при подготовке флота к войне и походам, но и за вскрывшееся при проверке морского ведомства казнокрадство. Замены ему как генерал-адмиралу пока нет. По статуту эту должность подобало занимать одному из царских братьев или дядей, сделавших своей специализацией флот, но Великий князь Георгий, которого готовили к этой работе, умер от чахотки пять лет назад, а Великому князю Александру Михайловичу, такая должность не по чину, да и у императрицы для него есть другая работа… Говорят, вскрылись какие-то делишки, после которых ему уже нет полного доверия.
Вместо должности генерал-адмирала Ольга учредила «не царскую» должность главкома флота, на которую уже назначен вице-адмирал Макаров. Командовать Тихоокеанским флотом «до кучи» в порядке совмещения должностей поручено Наместнику на Дальнем Востоке вице-адмиралу Алексееву. Вместо Авелана морским министром назначен срочно произведенный в контр-адмиралы Григорович, начальником Главного морского штаба стал контр-адмирал Витгефт. Все «тихоокеанцы» срочно выехали в Петербург очередной «литерой». В распоряжении наместника Алексеева остались контр-адмирал Рейценштейн на отряде броненосцев, а также контр-адмирал Иессен на крейсерах.
Кроме того, наш товарищ Карпенко за многие свои подвиги наконец получил свое звание контр-адмирала. То, чего так и не смог родить Николай, Ольга выдала почти сразу. И никаких протестов со стороны замшелых ретроградов, ибо матушка-императрица так запугала местную публику, что она без особой нужды просто боится раскрыть рот. Помимо всего прочего, Сергей Сергеевич у нас числится наместником Новикова на Цусиме, так что ходу с Тихоокеанского флота ему нет. Думаю, что, поскольку Карл Петрович Иессен просится в отставку по состоянию здоровья, то командовать отрядом крейсеров выпадет именно контр-адмиралу Карпенко.
И вообще, на Дальнем Востоке, где еще два месяца назад ключом била жизнь, снова наступает сонное затишье. Главный враг в тех краях – Япония – повержен, британцы приструнены, и теперь находящиеся там силы кажутся частично излишними. По крайней мере, это касается новейших броненосцев «Ретвизан» и «Цесаревич» – их явно ждет перевод на Балтику. На месте останутся большие и малые бронепалубники, которым найдется дело и на Тихом океане, старье типа «Полтав» и «Пересветов», явно не стоящие того, чтобы их тащили на другой конец земного шара, а также такое убожество технической мысли как крейсер «Баян». Ведь, несмотря на всю новизну проекта, его лучше оставить на месте и никому не показывать.
Водоизмещение у «Баяна» всего на двадцать процентов меньше, чем у асамоподобных, машина всего на десять процентов слабее, но зато огневая мощь уступает «японцам» вдвое. Не стоит забывать, что боевой корабль любого типа – это не более чем средство доставки вооружения к месту работы… Черт с ними, с шестидюймовками, не они определяют огневую мощь броненосного крейсера, но за одноорудийные восьмидюймовые башни главного калибра я бы вставил дрозда как французам-проектировщикам, так и тем деятелям в русском флоте, которые этот проект принимали. Судя по тому, как, по словам присланного к нам мичманца, имперская безопасность с азартом принялась потрошить бывшего генерал-адмирала, морда у того оказалась в пуху по самую ширинку. Насколько я помню, по «следам» этого крайне неудачного, а к тому времени еще и устаревшего проекта уже без всякого генерал-адмирала были заказаны еще то ли два, то ли три крейсера. Так что пусть имперская безопасность копает глубже. Золота там нет, но дерьмо явно найдется.
Помимо чисто военно-морских новостей, прибывший с «Авроры» мичманец поведал много чего интересного о нынешнем российском житье-бытье. Послушать его – так сейчас на берегу вперемешку царят «слово и дело», как во времена царя Петра Алексеевича, и тридцать седьмой год товарища Сталина. Со страны с треском, вместе с клочьями шкуры, сдирают толстый слой коррупционной плесени, из-за чего в фешенебельных кварталах, где проживают банкиры, подрядчики и удачно устроившиеся чиновники, стоит зубовный скрежет и истошный вой… «А нас за что?» Ну а то как же: отнимают самое дорогое – все, что нажито непосильным трудом, после чего самих коррупционеров отправляют на каторгу, а их ближайших родственников, голых и босых, гонят в Сибирь, к местам поселений семей государственных преступников. Некоторыми моментами, как я уже сказал, происходящее до боли напоминает чистки тридцатых. Как я понимаю, дела раскручивались и аресты начинались еще в царствование царя Николая, ибо терпеть обнаглевшее ворье, присосавшееся к государственным контрактам, не было уже никакой мочи, а после перехода власти к Ольге репрессивная машина перешла в автоматический режим, потому что следователи имперской безопасности перестали оглядываться на личности подследственных.
Но, впрочем, все эти сведения являются «рассказами очевидцев», а как оно там обстоит на самом деле, мы увидим только когда дойдем до Кронштадта. Ничего, осталось совсем немного – чуть меньше часа…
[21 августа 1904 года, 11:30. Кронштадт, Зимняя пристань. Бывший начальник кораблестроительной чертёжной Морского Технического Комитета[17], а ныне заместитель начальника КБ-1 Остехбюро Иван Григорьевич Бубнов.]
Известие о том, что в Кронштадт идут два подводных крейсера из будущего, привело мою команду в шок. Точнее, не так. По-настоящему мы были шокированы неделю назад, когда нашу команду изъяли из ведения Морского технического комитета и на правах конструкторского бюро номер один включили в состав новосозданного особого технического бюро, заведовать которым, высочайшим повелением, вменялось Великому князю Александру Михайловичу. Собрав всех нас, инженеров-кораблестроителей, Великий князь с весьма строгим видом сообщил, что теперь Морской Технический комитет будет сочинять только технические задания на корабли, а непосредственно проектированием и постройкой судов будем заниматься мы, кораблестроительное конструкторское бюро…
– Но, – Великий князь поднял вверх указующий перст, – поскольку сейчас военное, да и не только военное, кораблестроение находится на пороге научно-технической революции, то и в Морском техническом комитете убеленные сединами мужи не имеют понятия о том, каким должен быть корабль, который с несколькими модернизациями мог бы прослужить в строю хотя бы лет тридцать… Например, только что построенные новенькие броненосцы типа «Бородино» уже через несколько лет потеряют значительную часть своей боевой ценности, а к началу двадцатых годов превратятся в балласт, пригодный только к списанию и разделке на иголки. Информацией о том, какие типы кораблей будут востребованы в будущем, и об особенностях их конструкции владеет весьма ограниченный круг людей, имена которых должны оставаться в тайне. А посему, господа инженеры, задания вы будете получать от меня лично, так сказать из рук в руки…
Ага, знаем мы этих тайных людей – точнее, слышали и читали в газетах об их делах во время минувшей войны. Разгром Японии на их совести. Только решительно непонятно, каким образом этого результата удалось достичь. Ну, крейсер с двадцатипятиузловым боевым ходом нам был понятен – в конце концов, старина «Аскольд» при форсировке машин мог выдавать такую же скорость, а героический «Варяг», к подъему которого со дна бухты Чемульпо уже приступили водолазные команды, делал всего на узел меньше. Понятен был и ход без дымов. Нефть при избыточном дутье сгорает вся без остатка, так что над трубами кораблей вместо дымов поднимается только колышущийся от жара раскаленный воздух. Непонятна была лишь мощь и эффективность примененного оружия – пятидюймовые снаряды с разрушительной силой восьмидюймовых, скорострельность и точность артиллерийского огня, а также скорость и разрушительная мощь самодвижущихся мин.
Меня лично больше всего заинтересовали как раз самодвижущиеся мины. Во-первых – потому что такими минами, запущенными с подводного корабля, был осуществлен погром в Токийском заливе, а во-вторых – потому что именно они являются главным оружием проектируемых нами потаенных подводных миноносцев. Но какой взрывной мощью должен обладать подводный снаряд, чтобы от его попадания вражеский броненосный крейсер сразу переломился пополам, а броненосец получил такую пробоину, что камнем пошел на дно? Такую силу подводного взрыва способен создать только букет из десятка, или более, якорных мин. Немыслимо даже подумать, что сорок или пятьдесят пудов минного пироксилина можно впихнуть в боевую часть самодвижущейся мины Уайтхеда. К тому же, какой запас сжатого воздуха необходимо иметь, чтобы мина могла пройти шестьдесят кабельтовых, какое давление должны выдерживать воздушные баллоны, и, черт возьми, как удалось добиться того, что восемью минами были поражены восемь кораблей. Мы, конечно, читали газеты (все, слава Богу, грамотные) но прочитанное ни на йоту не прибавило нам понимания. Мы же не обыватели, которые могли удовлетвориться изложенными там общими словами, а специалисты, и все наши знания вставали в нас дыбом и заставляли в голос кричать: «не верю»!
И в погром в Токийском заливе тоже «не верю», потому что, по самым грубым подсчетам, для осуществления таких разрушений потребовалось бы два-три десятка таких подводных миноносцев как наш «Дельфин» (кстати, мы его недавно утопили, почти со всем экипажем, прямо у западной стенки Балтийского завода). Из тридцати шести человек команды погибли двадцать четыре. Правда, поднять подводный миноносец удалось довольно быстро, но лишь потому, что тонул он буквально у причала. И вот мы узнаем, что в Кронштадт идут сразу два подводных корабля, совершивших переход с Тихого океана. И снова куча вопросов, ибо наши подводные миноносцы на большие расстояния требуется перевозить в разобранном виде в трюмах транспортов или по железной дороге. А эти два подводных корабля подобны вымышленному «Наутилусу» Жюля Верна, обогнувший под водою весь земной шар. Снова «не верю» – и все тут. Чтобы верить, инженеры-кораблестроители должны знать, как это можно совершить, а мы, опытнейшие в своей профессии люди, не догадывались почти ни о чем.
Но нам с начальником нашего конструкторского бюро господином Крыловым и моим помощником господином Бубновым велено присутствовать на причале Зимней пристани Кронштадта вместе с остальной почтеннейшей публикой, вот мы и присутствуем. А кроме нас, тут народу море, и самое главное – приехал не только адмирал Дубасов, Великий князь Александр Михайлович и чины поменьше. Чуть поодаль на набережной стоял в полной готовности гарнизонный духовой оркестр. В императорском разъездном катере прибыла даже сама государыня-императрица со своим женихом полковником Новиковым и братом Михаилом. Я впервые воочию увидел государыню вблизи – и удивился. Несмотря на то, что уже на завтра была назначена ее свадьба, одета она была буквально с вопиющей простотой и строгостью, во все черное. Черное платье, черная шляпка с вуалью, черные перчатки. Одни говорят, что императрица носит траур по своей покойной невестке, государыне Александре Федоровне; другие – что по всем погибшим в дни мятежа; третьи – что по бесчисленным крестьянским младенцам, которые мрут сразу после рождения из-за тяжелых условий жизни; четвертые – что по всем тем людям, которых ее верные сатрапы отправили в ссылку и на каторгу, очищая страну от террористов, мздоимцев и казнокрадов. И где тут правда, я не знаю.
Вот, подумал о сатрапах – и они тоже тут как тут. Господин Мартынов – король сыска, гроза террористов, шпионов, взяточников и воров. Рядом с женихом императрицы, полковником Новиковым, он являет определенный контраст. Неудержимая сила и свирепая безжалостность. Впрочем, говорят, что господин Новиков тоже не склонен к дешевым сантиментам. Для того, чтобы он проявил свою доброту, необходимо, чтобы враг бросил оружие и, задрав руки вверх, взмолился о пощаде. В противном случае, считает он, враг подлежит уничтожению. Встретившись, эти двое пожали друг другу руки (будто возвещая наступление новой эры, когда господа офицеры жмут руки жандармам), и тут же вслед за полковником Новиковым, руку господина Мартынову пожал Великий князь Михаил, а государыня-императрица позволила ему приложиться к своей ручке. А ведь прежде жандарм считался кем-то вроде золотаря – то есть считался существом вполне полезным, но отверженным в обществе из-за своей грязной профессии. Ну что же, заранее чувствовалось, что это царствование не будет таким как обычно, и вместе с ним наступает время великих перемен.
И вот настал момент, когда на горизонте показались дымы. Разумеется, это дымили никакие не подводные корабли, а трубы возглавляющего их караван крейсера «Авроры». Сначала я даже подумал, что для экономии ресурса машин крейсер тянет подводные корабли за собой на буксире, и только потом, когда они приблизились, стало понятно, насколько сильно я ошибался. Идущие по глади летнего Финского залива подводные корабли напоминали двух огромных черных кашалотов. Один из них был примерно тех же размерностей и водоизмещения, что и «Аврора», другой превосходил ее по водоизмещению раза в два. Какой уж тут буксир – такие монстры и сами способны тянуть «Аврору» за собой… Воистину подводные крейсера. Вот крейсер «Аврора» отвернул в сторону якорной стоянки, а пара подводных кораблей, постепенно сбавляя ход, направилась прямо в нашу сторону.
Чем ближе эти подводные корабли подходили к Зимней пристани, тем более очевидной становилась их чужеродность всему, что мы знали и умели. Огромные величавые великаны, без всяких внешних усилий плавно скользящие по глади балтийских вод, вызывали оторопь, и при их виде в голову приходило выражение «ужас глубин», читанное мной в одной из зарубежных газет. Действительно ужас – тот, от которого волосы начинают шевелиться на голове. Люди на рубках на фоне огромности этих подводных кораблей кажутся такими маленькими-маленькими, как лесные муравьи, ползающие по своей куче, являющейся их домом. Сразу поверилось и в погром вы Токийском заливе, и в подводных демонов, заставивших уцелевший японский флот попрятаться в базах…
Когда сбавляющие ход подводные корабли были уже близко, стоявший на набережной оркестр заиграл новую, недавно появившуюся мелодию, которая, кажется, называется «Прощанье славянки», а выставленные к причальным кнехтам матросы приготовились принимать брошенные швартовы. Дальше все было как-то буднично и обыкновенно, чему не помешали даже форма иного образца и оранжевые жилеты, надетые на матросах подводных крейсеров. Вслед за швартовами на пристань были спущены трапы – по ним на берег первыми сошли командиры прибывших подводных кораблей, которые тут же были допущены к ручке государыни. Выслушав рапорта командиров, императрица Ольга поздравила экипажи с завершением похода и объявила, что оба подводных корабля получают права лейб-гвардии. Дальше была суета, встречающие перемешались с прибывшими, мы почувствовали себя какими-то ненужными и уже собрались было уходить. И в этот момент, будто из-под земли, возник Великий князь Александр Михайлович и сказал, что сегодня уже не до нас: завтра будет императорская свадьба, послезавтра соответственно похмелье, а уже потом он устроит нам встречу, на которой будут раскрыты некие тайны. А сейчас, если мы посмотрели, какими могут и должны быть подводные корабли, то можем идти на все четыре стороны.
Часть 23. Революция сверху
[22 августа 1904 года, Санкт-Петербург, Зимний Дворец. Командир АПЛ К-419 «Кузбасс» контр-адмирал Александр Викторович Степанов.]
Орден Святого Георгия третьей степени, «клюкву»[18] на кортик и контр-адмиральских орлов на эполеты императрица Ольга навесила мне чуть ли не мимоходом. И то, и другое – так сказать, по совокупности. Во-первых – за Токийский погром, до икоты впечатливший ее коллегу японского императора Муцухито, во-вторых – за блокаду Камимуры в заливе Асо, и в третьих за выловленного из воды британского адмирала Ноэля. Незабываемый, надо сказать, момент моей жизни. Получили награды и повышения в званиях и мои офицеры. Даже Кот Наоборот из старшего лейтенанта стал капитаном имперской безопасности и преисполнился особой государственной важности. Орденом Святой Анны 4-й степени по совокупности «за кампанию» были награждены все члены команды «Кузбасса», а сама лодка получила Георгиевский флаг и стала гвардейской. «Иркутск» также стал гвардейским кораблем, а мой коллега командир «Иркутска» Степан Александрович Макаров, почти полный тезка местного «дедушки русского флота» вице-адмирала Степана Осиповича Макарова, получил на плечи контр-адмиральских орлов.
Впрочем, как уже стало известно, Степана Осиповича по прибытии в Петербург также ожидало повышение в звании до полного адмирала и награждение Георгием второй степени, ибо главкому флота, награждаемому по итогам выигранной войны на море, по-иному невместно. И неважно, что у него еще не было третьей степени этого ордена, императрица Ольга, как правящая монархиня, вправе нарушать установленный порядок награждения. Полного адмирала и орден Святого Владимира первой степени получил и Наместник Дальнего Востока Алексеев – в основном за свои организационные таланты, то есть за то, что умудрился ничего не запороть. Не особо сильный, но заметный крестопад пролился и на окружение Наместника. Награждали, конечно, не так густо, как это случилось бы во время предыдущего царствования, но ни одна сестра не ушла с бала без сережки.
Фельдмаршала перед отставкой и орден Святого Георгия второй степени за выигранную войну на суше получил и генерал от инфантерии Линевич. Тут дело особое. Этот седой, но бойкий дед, помнивший еще Кавказскую войну, за свои без малого пятьдесят лет службы, сражаясь на дальних рубежах империи, ни разу не ступил на петербургские паркеты – и тем не менее дослужился до высшего воинского звания в армейской иерархии. Выше только внеранговое звание генералиссимуса[19], которое ему можно было бы присвоить в 1900-м году, когда он де-факто командовал объединенной группировкой союзных войск, подавлявших восстание ихэтуаней. Разумеется, всем известно, что сражение под Тюренченом выиграли полковник Новиков, Великий князь Михаил, а также находившиеся у них на подхвате генералы Келлер и Штакельберг. Но Великий князь Михаил и полковник Новиков, как ближайшие родственники императрицы, за орденами не гнались, поскольку в их положении это невместно; Келлер же и Штакельберг получили по Георгию 3-й степени.
Кроме того, императрица назначила генерал-лейтенанта Федора Эдуардовича Келлера командиром сводного Восточно-сибирского корпуса, составленного как раз из солдат и офицеров, сражавшихся под Тюренченом. И этот корпус сейчас в экстренном порядке перебрасывается в Санкт-Петербург, чтобы в случае рецидивов аристократических заговоров потенциальные заговорщики видели перед носом большой и тяжелый кулак. Полковник Мартынов, спец по таким делам, говорит, что мятеж проще предотвратить, чем подавлять когда это уже случилось. В принципе я с ним согласен. Впрочем, есть и другое мнение. Мол, на базе этого корпуса с боевым опытом (что есть, то есть) можно развернуть учебные части для скорейшего переобучения гвардейских и гренадерских частей, а потом и остальной армии. Если первая мировая война грянет в формате «все на одного», Россия должна быть готова бить врага не числом, а умением. На этот же случай, в качестве подстраховки, существует «Иркутск» с его последним доводом королей в шахтах, полный залп «Калибров» которого может отбросить Европу если не в средневековье, но в очень к тому близкое состояние.
Но сегодня я приглашен в Зимний дворец не для того, чтобы говорить о войне. Сегодня императрица Ольга выходит замуж за полковника Новикова, а я, значит, на этом мероприятии – один из товарищей жениха. И вообще тут все скромно и по-семейному. Со стороны невесты присутствует только ее ближайшая родня: вдовствующая императрица Мария Федоровна, братья Михаил и Николай, а также сестра Ксения. Великий князь Сергей Александрович тоже был зван, но из Москвы не приехал. Обижается, наверное, за те кары, которые обрушились на двух его братьев за заговоры и казнокрадство. Дурак! Я же вижу, что полковник Мартынов уже заподозрил «дядю Сергея» в то, что его фронда не так невинна, как это может показаться, а это верный путь к тому, чтобы повторить участь Великого князя Владимира Александровича. Ну да ладно; Сергея Александровича с успехом заменяет Александр Михайлович, муж царской сестры Ксении, блестящий офицер и ближайший родственник царской семьи. На этом список приглашенных Романовых заканчивается.
Со стороны жениха присутствуют его боевые товарищи – вроде меня, командира «Иркутска» Макарова, капитана Рагуленко, штабс-капитанов Жукова и Буткова, капитана первого ранга Иванова и госпожи Лисовой, которая, с одной стороны, наш надежнейший товарищ, а с другой – активный участник местных интриг и невеста экс-императора Николая (ну что же, я ему сочувствую: быть ему до конца своих дней под каблуком у собственной жены). На особом положении Павел Павлович Одинцов и его Дарья Михайловна. Они сегодня составляют вторую брачующуюся пару – и их, так же как императрицу с Новиковым, будет венчать Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний.
Из всех генералов церкви это не только самый старый и опытный, но, возможно, один из лучших, искренний и умный – поэтому императрица Ольга поручила ему возглавить подготовку к Архирейскому собору, которому предстоит избрать нового патриарха русской православной церкви. Православная Церковь не то что отделяется от государства – скорее, тут действует принцип «Богу – богово, а кесарю – кесарево», тем более что сам митрополит Антоний является, как говорят, сторонником исключения из законодательства формулировки о господствующем положении русской-православной церкви. Господство, говорит он, это совсем не христианская идея. Кстати, мне тут рассказали его историю. Оказывается он принял монашеский постриг после того, как у него от туберкулеза умерла молодая жена, а потом двое детей. Другие после такого начинают беспробудно пить или озлобляются на весь мир; этот же человек посвятил себя Богу.
Думаю, что никому из нас не миновать с ним беседы; а пока я наблюдаю, как идет подготовка к свадьбе. Все невесты в такой день находятся немного не в себе, и императрица не исключение…
Накануне венчания, с утра, прошла церемония «{одевания невесты}». Проходила она в чисто женском обществе, куда не допускались мужчины, так что своими глазами я ее не видел. Императрица Ольга, ее маман Мария Федоровна, сестрица Ксения, первая статс-дама Дарья Михайловна, а также фрейлины, служанки, горничные и комнатные девушки, запершись в Малахитовой гостиной, предались чисто женскому священнодействию. Но туда прорвалась наглая как торпеда Алла Лисовая – она и поведала (без особых подробностей) о том, как одевали к церемонии обеих невест. Только сегодня, ради такого случая – собственной свадьбы – императрица Ольга отступила от своего обычного аскетизма, и на радостях Мария Федоровна и Ксения так увешали ее бриллиантами и жемчугами, что бедная девушка стала похожа на изукрашенную гирляндами и блестящими игрушками новогоднюю елку. Как рассказывал наш агент в тылу врага (Лисовая), для полного сходства на императрице не хватало только мигающих цветных лампочек.
Вес у всего этого наряда был, надо полагать, как у экипировки морского пехотинца при полной выкладке, а массивная золотая корона, по словам Лисовой, весила как добротный чугунный казан. Если Алла Викторовна и преувеличивает, то ненамного. Наша Дарья Михайловна выглядела значительно скромнее, и в то же время изящнее. Атласное белое платье до пола обрисовывало ее стройную длинноногую фигуру, его дополняли шлейф и фата. Никаких украшений, за исключением скромного серебряного колечка, подаренного Павлом Павловичем еще на островах Элиота. Но впечатление бедности и сиротства рядом с разукрашенной Ольгой при этом не возникло. Перед самым выходом императрица критически оглядела в зеркало себя, потом Дарью, и в категорическом тоне приказала переделать свой наряд по образцу наряда своей лучшей подруги, на что ушел еще примерно час. Полного сходства добиться не удалось, но кричащая роскошь как-то поблекла.
Женихи же оделись кто во что горазд. Полковник Новиков свой парадный мундир местного образца, как и приличествует офицеру, а Павел Павлович – в хороший костюм-тройку благородного темно-серого «грифельного» цвета с искрой. Потом началось «торжественное шествие всей императорской семьи и царской свиты» в дворцовый храм Спаса Нерукотворного. Официально эта церемония называлась «Высочайшим выходом перед свадьбой».
По вполне понятным причинам, как я уже говорил, «всей императорской семьи» собрать не получилось. Иных уж нет, а те далече, а со стороны жениха были только мы, выходцы из будущего. Брачный венец над головой невесты по очереди держали ее братья Михаил и Николай, а над головой жениха это предстоит делать мне и каперангу Иванову.
Само же венчание прошло по давно утвержденному ритуалу. Обручальные кольца новобрачных были заранее уложены на золотое блюдо, стоявшее в алтаре. Оттуда их вынес духовник императорской семьи отец Иоанн Янышев. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний, который вел службу, передал кольца на руки молодым. Подошедшая к ним вдовствующая императрица Мария Федоровна «разменяла» кольца, – и в этот самый момент орудия Петропавловской крепости принялись салютовать в честь бракосочетания русской императрицы. Всего был сделан пятьдесят один выстрел.
После двойного венчания все присутствующие, согласно обычаю, направились по коридорам дворца, где для создания аромата слуги заблаговременно разбрызгали несколько десятков флаконов дорогих духов. Шествие закончилось в Николаевском зале, где виновников торжества и гостей уже ожидали три огромных праздничных стола на две сотни персон. Все это называлось «торжественным обедом». Но было и одно отличие от предыдущих царских бракосочетаний. Вместо лиц, принадлежащих к первым трем классам Табели о рангах, из-за чего обед должен был называться трехклассным, в Николаевский зал Зимнего дворца были допущены офицеры бригады морской пехоты полковника Новикова и наших двух подводных лодок, а также отличники боевой и политической подготовки из рядового и младшего командного состава. Что тут такого: императрица пирует со своей личной дружиной… и несмотря на всю свою важность, сама она – суровая простота.
[22 августа 1904 года. Санкт-Петербург, Зимний Дворец, Николаевский зал Полковник морской пехоты Александр Владимирович Новиков.]
Обряд царского бракосочетания, хоть и был демократизирован и сокращен в масштабах, все равно вызвал у меня чувство внутреннего протеста. Я чувствовал себя участником какого-то разгула темных сил, своего рода пира во время чумы. В отличие от уходящей в прошлое элиты, не видящей в этом ничего зазорного и даже не желающей знать о бедственном положении русского народа, мы, пришельцы из будущего, сделаны из другого теста. У нас есть совесть, и веселиться в тот момент, когда где-то от голода умирают дети, мы не считаем для себя возможным. С другой стороны, мы все знаем, насколько при подготовке этого мероприятия был урезан первоначальный осетр. С точки зрения семейства Романовых, свадьба эта бедная, почти сиротская, – но Ольга была упряма, а единственный человек, у которого хватает терпения с ней спорить (то есть ее маман Мария Федоровна) махнул на младшую дочь рукой. Мол, ее папа тоже был экономен до скупости: он, когда его не видел никто из посторонних, в кругу семьи носил стоптанные сапоги и протертые штопанные мундиры. Вдобавок к урезанию бюджета мы с Ольгой по-иному подошли и к формированию списка приглашенных гостей. Если прежде на царские свадьбы, помимо других Романовых, были званы чины первых трех классов «табели о рангах» да иностранные дипломаты, то мы заявили, что это наше чисто семейное торжество, а потому его гостями станут лично близкие нам люди. Точка. И спорить бесполезно.
Если экс-император Николай, как говорят, был одержим эпохой царя Алексей Михайловича Тишайшего, то у нас получилась мизансцена, похожая на времена Киевской Руси. Столы для пира были составлены в форме буквы «П», при этом во главе стола, на возвышении, сидели виновники торжества – две пары новобрачных; там же – родня Ольги и наш старший комсостав. У нас с Ольгой был один трон на двоих, как это и полагалось в те далекие времена. Это после мероприятия она снова станет императрицей, а я – князем-консортом. Но сейчас, на этом пиру, мы – великий князь и княгиня Цусимские, которые пируют вместе со своей дружиной и семьей главного воеводы. А внизу, за двумя столами, которые составляют ножки этой буквы, сидят те, кого мы можем назвать своей верной дружиной. Жаль только, что за этим столом нет команд кораблей, которые занесли нас в этот мир и одержали первые победы; но мы не забыли и исправно подняли в их честь бокалы, а императрица осыпала их крестами и звездами (имеются в виду звезды на погоны, то есть очередные звания). Кто-то же должен присматривать за благонравием японцев, чтобы у нас на заднем дворе снова не завелась язва. К тому же Цусима – крайне важный актив и удерживать эти острова за собой необходимо в любом случае.
Да, Ольга рассказала мне свой давний сон, еще элиотских времен, который она считает пророческим. Говорит, что именно тогда она поняла, насколько сильно меня любит, и приняла решение пойти по пути, указанному Павлом Павловичем, чтобы поддержать меня лично и все наши начинания. Ведь страх потери возникает только по отношению к тому человеку, который по-настоящему дорог. У меня нет столь яркого воображения, как у моей дражайшей половины, наделенной даром художника, и мне не снятся цветные и яркие сны, но, несмотря на это, я понимаю какое сокровище мне досталось в жены, причем безотносительно ее происхождения из Романовых и титула императрицы. Если бы Михаил согласился принять трон, то мое отношение к ним обоим ничуть бы не изменилось. Ольга навсегда бы осталась моей любимой, а Михаил – другом.
Склонившись к розовому ушку, я тихонько шепчу в него, как сильно я люблю мою дорогую девочку. Ольга краснеет и прячет смущенную улыбку в кулак. Да, это так; пройдет еще немного времени, и мы с ней останемся наедине. Сейчас мы муж и жена перед Богом и людьми, но нам еще необходимо преодолеть последний барьер и стать самыми близкими людьми друг для друга. Такими близкими, чтобы, как говорят в народе, между нами и нитку нельзя было продернуть. Кстати, пьем мы с Ольгой только фруктовую сельтерскую, морсы и другие безалкогольные напитки. Прямо из этого зала, как только закончится застолье, мы удалимся для того, чтобы приступить к деланию наследника, и, судя по смущенной улыбке новобрачной, она это знает и, более того, предвкушает.
Кстати, угощали гостей и виновников торжества не только хлебом единым. Я имею в виду, что помимо яств русской кухни и заморских деликатесов, подаваемых на столы услужливыми лакеями, была еще и культурная программа. Правда, от пляшущих балеринок я отказался наотрез. Еще чего не хватало! В основном нас развлекали певцы и артисты комического разговорного жанра, но все это было, что называется, разогревом. Разогревали публику, то есть нас, для выхода Шаляпина… Да не Прохора (будь он неладен), который, позабытый всеми, остался в двадцать первом веке – а Федора! Ну ладно, нет ничего удивительного в том, что на императорскую свадьбу позвали самого Шаляпина. Ведь сейчас как раз его время, расцвет таланта и славы. Одним словом, попасть в начало двадцатого века и не послушать Шаляпина было бы нонсенсом. Удивились мы, когда он раскрыл рот и запел… Во-первых – это была уже переделанная «любэшниками» «Красная армия», в которой слово «красная» была повсюду заменена на «русская». За ней, без всяких переделок, последовал «Орел шестого легиона», потом певец спел «Священную войну» в которой слово «фашистская» было изменено на «японская», потом была обычная в его репертуаре «Дубинушка», за ней – «Офицеры» (тоже вроде бы с переделками), и в самом конце Шаляпин спел «Гимн России» нашего времени. Все, господа офицеры, занавес. Господа-товарищи офицеры повскакивали из-за столов и грохнули такими рукоплесканиями, что можно было подумать, будто прямо на голову рушится потолок.
Потом мы всей компанией в триста человек, включая Шаляпина, императорских высочеств и отставных величеств, фотографировались на широкой дворцовой лестнице… Каждый из приглашенных, в том числе и кавалеры георгиевских крестов из рядового состава, должен будет получить по две карточки. Представляю себе, как в какой-нибудь заштатной Жуковке Симбирской губернии, где отродясь перебивались с крапивы на лебеду, престарелые родители получат от своего чада фото, где тот с крестом, в одной компании с бывшим государем-императором и нынешней государыней – на ее, государыни, свадьбе… Впрочем, шокирующее письмишко своим родным может черкнуть не только отличившийся рядовой или унтер, но и любой из приглашенных на данное мероприятие младших офицеров. Ведь они тоже, по сути, большие дети, которым не солдат в штыковые атаки водить, а еще в солдатики играть…
После фотографирования я перекинулся парой слов с Шаляпиным. И вот тут выяснилось, что просто так на императорский корпоратив он и не подумал бы поехать – чай, не Николай Басков нашего времени. Но потом ему сказали, что основным контингентом среди приглашенных будут герои Тюренчена и вообще русско-японской войны – и только тогда он согласился почти с радостью. Вот так, а вы думали? Впрочем, времени на долгие разговоры с Шаляпиным у меня не оставалось, ибо гостям уже было пора расходиться по домам и казармам, а нам с Ольгой в сопровождении самых близких друзей – удаляться в опочивальню. Совершенно не понимаю людей, которые в день своей свадьбы напиваются до положения риз. Взяв Ольгу под руку, я еще раз поблагодарил свою предусмотрительность, которая позволяла мне употреблять только безалкогольные напитки.
[22 августа 1904 года. Санкт-Петербург, Зимний Дворец, личные апартаменты правящей императрицы Её Императорское Величество Ольга Александровна Романова.]
Я очень волновалась в день своего бракосочетания. Собственно, причин для волнения у меня не было, но, видимо, подобное происходит со всеми невестами, которые выходят замуж по любви. Волнение это и было вызвано чрезмерной радостию, предвкушением всей полноты будущего семейного счастья… В ТОТ РАЗ я ничего подобного не чувствовала. Да и брак оказался ненастоящим… Сейчас мне казалось, будто вся та история с герцогом Ольденбургским была не более чем дурацким сном или выдумкой бесталанного сочинителя. Даже когда я узнала о смерти Петра, меня это совсем не тронуло – ни малейших отзвуков сожаления о нем не обнаружила я в себе. Умер он так же, как и жил – самым случайным образом. Сначала я подумала, что иметь такие мысли – это плохо, не по-христиански. Но после того как я помолилась, эти мысли ушли. Ведь он и вправду был совершенно посторонним человеком для меня… Он ко мне даже ни разу не прикоснулся за время нашего «брака»! По сути, до того падения на Новикова на островах Элиота я никогда не была НАСТОЛЬКО близка с мужчиной…
Ах, как же это все-таки хорошо – любить и быть любимой! Зная при этом, что твой избранник – достойный человек, способный дать все то, что необходимо для счастья… А откуда я это знаю? Вот просто знаю – и все. Наверное, наитие… Да и Господь, как вижу, благословлял меня на этот брак с самого начала. Недаром же тогда Он бросил меня в объятия Новикова… Отец Небесный словно бы показывал: вот он, жених твой. Несомненно, это был Его знак, а вовсе не случайность – ведь именно Сашка оказался за моей спиной там, в той летящей по волнам лодке, и смог остановить мое падение, заключив в свои крепкие объятия… О, я никогда, никогда не забуду те свои ощущения… Даже когда состарюсь, они не сотрутся из моей памяти и останутся такими же яркими, как и теперь.
Глядя на Дарью, я видела, что ее обуревает такое же волнение. Об этом свидетельствовали ее горящие глаза, подрагивающие ноздри и вздымающаяся грудь. Но она, как и я, была счастлива. Настолько, что глаза ее, обычно серые, приобрели удивительный оттенок бирюзы. И когда она смотрела на своего жениха, из них лилось яркое свечение, делавшее ее лицо особенно прекрасным… Ведь она любит своего Павла Павловича, любит давно и истово, и вот он наконец стал ее второй половиной. Но им проще – они уже удовлетворяли свою страсть, пусть даже самым аморальным, греховным образом… а мне это предстоит впервые в жизни.
Но вот, наконец, все позади: подготовка, венчальный обряд и праздничный обед. Приняты поздравления, получены подарки. Гости – хмельные и довольные – разошлись. Самые близкие друзья и родственники проводили нас в наши покои. За окнами дворца уж давно сгустилась тьма… И мы с моим мужем остались одни. Тишина во дворце. И только напольные ходики вкрадчиво тикают, словно напоминая о неумолимо бегущем времени… о том, что нам следует сполна наслаждаться всем тем, чем одаривает нас жизнь своею щедрою рукою…
Я тушу газовые рожки и зажигаю свечи. Комната наполняется дрожащими тенями; сразу становится уютнее и будто бы теплее. Только сейчас мое возбуждение сегодняшним событием начинает проходить. Я сижу на диване и смотрю, как танцует пламя свечи… Я улыбаюсь – не знаю чему, просто так. А может быть, это потому, что мой любимый – наконец-то муж – сидит рядом, и я чувствую исходящий от него жар. Муж! Мой! Мой муж!
Я пытаюсь сполна прочувствовать этот факт. Хоть я не смотрю на него, я знаю, что он любуется на мой профиль в ореоле мягкого желтого света. Сейчас между нами – тот самый глубокий и прекрасный, наполненный интимностью момент, который бесконечно хрупок и бесценен. Мы оба будто бы застыли в благоговейном созерцании той сияющей вершины, до которой нам осталось совсем немного… Мы не бросаемся достичь ее сломя голову, о нет. Мы наслаждаемся предвкушением… Мы устанавливаем окончательную незримую связь…
На мне все еще свадебное платье. Правда, я уже без короны на голове (которая давила на меня весь вечер) и прочей тяжелой мишуры. Моя прическа… В ней столько искусно замаскированных шпилек, что я начинаю ощущать их. Надо избавиться от них. Я не хочу, чтобы у меня были сейчас хоть малейшие неприятные ощущения.
Я встаю, беру канделябр и направляюсь к зеркалу. Любимый следит за мной взглядом, и я отчетливо, всей кожей, ощущаю его сдерживаемый пыл. Ну ничего… Мы не станем торопиться… От всех шпилек нужно непременно избавиться, иначе чуть позже, когда голова моя будет в истоме метаться по шелковой подушке, они будут царапать меня и давить на мой череп…
Из таинственного зеркального мрака на меня смотрела какая-то чужая женщина, к которой я еще не успела как следует привыкнуть. Именно женщина – умудренная жизненным опытом и осознающая свою красоту, а вовсе не та испуганная девчонка, какой я была всего полгода назад. Вспомнились слова Павла Павловича: «общение с нами никому даром не проходит». Я с жадным интересом разглядывала свое отражение, едва не позабыв про шпильки. Неужели это я? Я – но теперь уже в ипостаси ЖЕНЫ… И то, что мы пока еще не делили ложе с моим супругом, ничего не меняло в плане того, что теперь-то мой брак был НАСТОЯЩИМ. Обеты, со всей искренностью данные сегодня перед Богом, обязывали нас заботиться друг о друге и любить друг друга… На память мне пришли строки из Священного Писания: «Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена".
И отчего-то именно в этот момент мне словно бы открылось откровение: а ведь коронация моя тоже будет подобна бракосочетанию… Я словно бы выйду замуж – но не за своего мужа, а за свое государство, и буду принадлежать не только себе, но России, как Россия будет принадлежать мне… В горе и радости, в минуты счастья и тяжелейших испытаний мы должны быть вместе. И также в эти моменты вместе с нами должна быть российская элита, все обладатели крупных капиталов и допущенные к секретам власти. В противном случае им лучше вообще не быть… И еще многое из послания апостола Петра можно было бы применить к отношениям монарха и его империи…
Я начала вытаскивать из головы шпильки, чувствуя, как жар разгорается в моей груди. Пальцы плохо слушались меня; шпильки, звеня, падали на пол… Ну вот, кажется, и все. Я прочесала пятерней свои волосы ото лба и невольно улыбнулась: я стала похожа на древнеславянское изображение солнца – чуть подкрученные короткие прядки, освободившись от сдерживающей их силы, обрамляли мою голову подобно лучам. Я слегка пригладила их на макушке, понимая, что больше ничего с ними сделать не удастся. И тут меня обняли теплые руки… Мой супруг, незаметно подойдя ко мне сзади, обхватил меня за талию и крепко прижал к себе. Столько энергии и силы было в этом объятии, что у меня захватило дух. Я замерла, прислушиваясь к тому, как внутри меня разливается горячая нега… А в этот момент он прижался губами к моей шее. Нежные, мягкие губы его целовали меня, а руки его в это время один за другим расстегивали крючки на платье. В его действиях отчетливо сквозило едва скрываемое нетерпение…
– Ольга, милая моя… – хрипло шептал он, касаясь губами моего уха, – супруга моя ненаглядная, любимая… Ты моя… моя…
Земля ушла из-под моих ног. Я плыла куда-то, качаясь на белых облаках… Внутри меня бушевали горячие волны желания. Я почувствовала, как он распустил шнуровку корсета, и дышать стало легче. Я тоже шептала что-то в ответ – такое же милое, любовное, бестолковое…
Пламя свечи трепетало, в приоткрытое окно залетал прохладный воздух, напоенный яркими, страстными ароматами умирающего лета… Руки возлюбленного гладили мое тело, не забывая избавлять его от одежды. Он осыпал поцелуями мои плечи – и всякий раз внутри меня что-то вздрагивало и разливалось по телу невозможно сладкой истомой…
И наконец платье упало на пол у моих ног. Под ним ничего не было… кроме легких трусиков и пояса с чулками. Это платье было пошито по указаниям Дарьи, и поэтому снимать его было гораздо легче, чем платья нашего времени (а то бывало такое, что какая-нибудь дама без трех горничных и не разденется). Трусики – это тоже была идея моей подруги… Отчего-то она мягко, но упорно настаивала, чтобы мое нижнее белье было подобно белью ее современниц. И в самом деле – изящно и удобно; а панталоны моих современниц – это верх нелепости, уродующий женщину.
Я смотрела на себя в зеркало, ни капельки не смущаясь. Замерев, мой любимый тоже разглядывал меня в зеркале, поглаживая мои плечи. Потом он провел руками по моим бедрам – и моя последняя защита упала на пол невесомым комочком белой кружевной ткани.
– Ты прекрасна, жена моя… о, как ты прекрасна… – восхищенно шептал Сашка.
А потом он вдруг подхватил меня на руки – легко, точно перышко – и понес на наше брачное ложе…
Это была восхитительная ночь. Все то, что происходило между нами, было так упоительно-прекрасно, что казалось чем-то немыслимым, невозможным. В нашем любовном неистовстве мы забыли обо всем на свете. Для нас не существовало ни времени, ни окружающего мира. Мы вновь и вновь с изумлением и радостью, с бесконечной нежностью и сладостным трепетом узнавали друг друга. Мы были той парой, которую воистину венчали на небесах… Теперь наша любовь стала полной, она обрела законченный смысл. Любовь открывала нам бескрайние горизонты…
Мы даже не заметили, как наступило утро. И только когда робкий розовый рассвет вполз в окно, мы, утомленные и счастливые, уснули, переплетясь руками, ногами, пальцами, своими душами и сердцами…
[23 августа 1904 года, позднее утро. Санкт-Петербург, Зимний Дворец, личные апартаменты правящей императрицы.]
Проснувшись, императрица Ольга наконец-то почувствовала себя замужней женщиной, удовлетворенной и уверенной в собственном будущем. Но свадьба была вчера, а сегодня с утра по расписанию начинаются трудовые будни, тем более что ее муж покинул супружескую постель еще до того, как она проснулась, и уже занимался со своими солдатами. Пример, достойный подражания. Накинув пушистый домашний халат и завязав пояс, Ольга позвонила в колокольчик, вызывая дежурную фрейлину.
– Пусть У Тян принесет мой утренний кофе, – строго сказала она появившейся на пороге девушке, – и вот еще что, Мария – позови ко мне Адель, пусть скорее придет сюда. Мы будем работать…
Адель – это секретарь-референт Ольги, тихая и незаметная брюнетка с узким бледным личиком. На работе она носила черные канцелярские нарукавники, и с пальцев не сходили чернильные пятна. Поселившись в Зимнем дворце, новая императрица сразу принялась подбирать свою команду вместо тех людей, которых экс-император Николай заберет с собой в Гельсингфорс. Должен же кто-то вести дела и, главное, читать огромное количество писем с просьбами, доносами, ябедами, предложениями, благодарностями и протестами, которые подданные посылают своей императрице. А ведь эти письма требуется не только прочитать, но и рассортировать – какие сразу в печку, какие передать в СИБ, чтобы там разобрались и приняли меры, а о каких и в самом деле доложить государыне. Одним словом, работы очень много – даже не для нескольких десятков опытных работников, точнее, работниц.
Задумавшись об этом, Ольга вспомнила свой разговор с Дарьей Михайловной по поводу женской эмансипации, случившийся в литерном поезде у станции Манчжурия, и решила, что первой покажет пример и возьмет к себе на работу девушку-секретаря – и, может быть, даже не одну. Много их таких, из семей небогатых дворян и интеллигентов-разночинцев, бесприданниц с полным гимназическим образованием, мается нынче по Санкт-Петербургу в поисках лучшей доли. В условиях местной российской действительности единственная «карьера», которую они могут сделать – это удачно выйти замуж. Но такое «счастье» может удаться считанным единицам, а остальные… либо они выйдут замуж неудачно, либо падут на самое дно, подобно небезызвестной Сонечке Мармеладовой.
Провести кастинг персонала для собственной Ее Императорского Величества Канцелярии было поручено имперской безопасности, и господин Мартынов справился с поручением просто безупречно. Командует этим персоналом, попутно передавая девушкам необходимые навыки, конечно же, первая из всех статс-дам – Дарья Михайловна. У Ольги даже появлялись мысли плюнуть на все условности и назначить свою подругу Министром Двора – вместо выбывающего вместе с Николаем барона Фредерикса. Она тут решает, кто достоин этой должности, а кто нет.
Вот в императорскую спальню вошла Адель, и, опустив глаза долу, остановилась перед допивающей свой кофе императрицей, ожидая распоряжений. Эта девица всегда имела чрезвычайно сосредоточенный и серьезный вид – так что создавалось впечатление, что она вечно чего-то опасается. Казалось, что ей незнакомо ни чувство юмора, ни прочие человеческие чувства – этакий сухарь, способный только безупречно выполнять свою работу. Но Ольга, неплохо умевшая разбираться в людях, догадывалась, что под этой непримечательной внешней оболочкой, спрятанная где-то очень глубоко, дремлет до поры до времени обычная женская суть – с ее страстями и порывами… Видимо, жизнь здорово потрепала эту Адель, раз она так крепко замкнулась в свою раковину. Ну да ничего… Рано или поздно это у нее пройдет – как только свежий ветер происходящих перемен проникнет и в ее сознание. Сейчас главное то, что она безупречный специалист, настоящая находка, остальное приложится.
– Иди в кабинет и приготовься к работе, – сказала императрица, стараясь не смущать девушку прямым взглядом – та и так, казалось, всегда внутренне дрожала при разговоре с государыней. – Сейчас я закончу свои дела и приду тебе диктовать…
Секретарь-референт кивнула, молча прошла в кабинет императрицы и села за рабочий стол. Не суетясь, но и не мешкая, она долила в чернильницу чернил, проверила, не требует ли замены перо и положила на стол лист орленой именной императорской бумаги. Эта работа девушке очень нравилась. Императрица была к ней добра, взяла ее на полное содержание, оплатила долги семьи, устроила младшего брата в кадетский корпус на казенный кошт, платила хорошее жалование и взамен требовала только добросовестной работы, что не составляло для Адели особого труда.
Пока У Тян и Ася помогали императрице облачиться в домашнее платье и укладывали ей волосы, та через приоткрытую дверь наблюдала за девушкой. Казалось, весь облик неприметной Адели озарился вдохновением. Спина ее выпрямилась, шея приобрела гордый изгиб… Это явно была ее стихия. «Ну чисто пианистка перед концертом!» – усмехнулась про себя Ольга.
Несколько минут спустя императрица, уже одетая в серое домашнее платье, вошла в кабинет, открыла секретер и зашуршала стопкой черновиков, исписанных ее ужасным почерком. У императрицы имелось множество достоинств, но каллиграфический почерк и правильный русский язык отнюдь не входили в их число. Самостоятельно юная матушка-государыня не взялась бы написать даже простейшую записку.
– Ну, милая, – сказала императрица, поудобнее устроившись в кресле за своим столом и взяв в руки первый черновик, – приступим…
Первым из-под пера Аделаиды появился так называемый «Крестьянский манифест»:
ВЫСОЧАЙШИЙ МАНИФЕСТ
Об улучшении благосостояния и облегчении положения крестьянского населения.
БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ
МЫ, ОЛЬГА ПЕРВАЯ,
ИМПЕРАТРИЦА И САМОДЕРЖИЦА
ВСЕРОССИЙСКАЯ
ЦАРИЦА ПОЛЬСКАЯ и прочая, и прочая, и прочая
Объявляем всем нашим верноподданным.
Объявляем всем нашим верным подданным: глубокою скорбью наполняет сердце Наше бедственное положение русского народа.
Нужды крестьянские близки сердцу нашему и не могут быть оставлены без внимания.
Поскольку Мы всегда ставили первейшею нашею заботою облегчение положения крестьянского населения.
В последнее время нами было повелено собрать и представить нам сведения о тех мерах, которые можно было бы немедленно принять на пользу улучшения положения крестьян.
По рассмотрении этого дела нами решено:
1. С первого января 1905 года вовсе прекратить выкупные платежи с крестьян, бывших помещичьих, государственных и удельных.
2. Дать Крестьянскому поземельному банку возможность успешнее помогать малоземельным крестьянам в расширении покупкою площади их землевладения, увеличив для сего средства банка и установив более льготные правила для выдачи ссуд.
3. Заменить все налоги и подати, налагаемые на крестьянство, единым продовольственным налогом, исчисляемым с десятины распаханной земли и уплачиваемым в натуральной форме, в объеме от десяти до двадцати пудов хлеба с десятины в зависимости от качества земли.
4. Для беднейших крестьянских хозяйств, не имеющих по весне хлеба даже на семена, установить государственные беспроцентные семенные ссуды из расчета двенадцати пудов на распаханную десятину.
5. Для решения вопроса крестьянского малоземелия образовать государственную программу по переселению за государственный счет бедствующих крестьянских семей из перенаселенных губерний Центральной России, Малороссии, Привисления и Прибалтики на целинные земли Сибири, Забайкалья и Дальневосточного Приморья. Норму выдачи земли на один семейный переселенческий надел установить в шестьдесят десятин.
О приведении этих мер в исполнение даны нами особые указы и распоряжения Нашему верному слуге Канцлеру Империи господину Одинцову Павлу Павловичу, а также другим нашим министрам. Пребываем в уверенности, что совместными затем трудами вашими и лучших людей земли русской, которые должны быть свободно указаны в числе других подданных наших и крестьянами, удастся достигнуть удовлетворения дальнейших насущных нужд крестьянства без всякой обиды для прочих землевладельцев.
Уповаем, что любезное сердцу нашему крестьянское население, следуя заповедям христианским добра и любви, услышит царственный призыв Наш сохранять повсюду мир и тишину и не нарушать закона и прав других лиц. Дан в Санкт-Петербурге в двадцать третий день августа в лето от Рождества Христова тысяча девятьсот четвертое, царствования же Нашего в первое.
На подлинном Собственною Ея Императорскаго Величества рукою подписано:
«Ольга»Когда просохли чернила, Ольга еще раз перечитала текст манифеста, после чего собственноручно начертала под ним свое имя и поставила на желтоватую плотную бумагу большую государственную печать из золота и хрусталя. Быть посему.
Потом Ольга продиктовала Адели несколько посланий попроще: канцлеру Одинцову, министру финансов Кутлеру, министру земледелия Столыпину и генеральному директору «Росзерна» господину Коншину, назначая на два часа пополудни совещание со своим участием по вопросу крестьянской реформы. Мало издать манифест, необходимо добиться, чтобы принятые решения исполнялись точно и быстро.
[23 августа 1904 года, 14:05. Санкт-Петербург, Зимний Дворец, рабочий кабинет правящей императрицы.]
Когда вышеозначенные персоны собрались в ее рабочем кабинете, императрица Ольга раздала им по отпечатанному на машинке «Ремингтон» экземпляру «крестьянского» манифеста. При этом один только Павел Павлович воспринял все происходящее как должное, для всех же остальных эта новость явно оказалась неожиданной. Господа Кутлер, Столыпин и Коншин были обескуражены и не знали, что им сказать.
– Следует понять, господа, – произнесла Ольга, видя смятение своих министров, – что ситуация с бедственным положением крестьянства назрела настолько, что мешкать более нельзя. Еще немного – и грянет бунт, бессмысленный и беспощадный, и, пока еще у нас есть время, следует принять все возможные меры для предотвращения катастрофы…
Столыпин привстал и хотел что-то сказать, но императрица вернула его обратно жестом руки, да так энергично, что этот неудержимый с другими человек с растерянным видом плюхнулся обратно. А может быть, дело было в стоящей за спиной Ольги Дарье Михайловне, взгляд которой навевал мысли о бренности человеческого бытия. В узких кругах столичных жителей уже было широко известно, что эта дамочка быстра и безжалостна, а ридикюль, который она сжимает в руках, скрывает внутри браунинг девятьсот третьего года.
– Мы знаем, Петр Аркадьевич, – сказала Ольга растерянному Столыпину, – что вы считаете, будто любой бунт можно подавить силой, затыкать штыками и утопить в крови. Кроме того, как Нам известно, вы сторонник скорейшего разрушения сельской общины и перехода на селе к капиталистическому способу хозяйствования, ибо очи вам застят разные латиноамериканские латифундисты, американские фермеры и германские бауэры… Ведь так? Отвечайте – «да» или «нет»?
– Да, Ваше Императорское Величество, – подтвердил Столыпин, – но…
– Без всяких «но», – оборвала его Ольга, – потому что такой образ действий – это не наш метод. Во-первых – потому что мы не хотим, чтобы в России русские убивали русских. Вот в Лондоне-то обрадуются такому подарку. Они же об этом всю жизнь мечтали… Во-вторых – потому что в России нет нехватки пригодной для обработки земли, а наоборот, имеется огромное количество плодородных земель, которые в настоящий момент лежат втуне. В третьих – потому что нищенское положение нашего крестьянства является препятствием для достижения других государственных целей, в том числе роста промышленности и торговли, увеличения военной мощи и развития науки и искусств. Павел Павлович, объясните, пожалуйста, этим господам нашу будущую политику…
Все взгляды обратились на встающего со своего места канцлера Одинцова.
– Как сказал один очень умный человек, – сказал он веско, – Россия отстает от развитых стран Европы в некоторых областях на сто лет, а в некоторых – на пятьдесят. В стране отсутствует даже начальное обязательное образование, так же как на большей части российской территории отсутствует всяческое медицинское обеспечение. Такую нищету, как у мужиков в глухих деревнях нашего богоспасаемого Отечества, можно увидать разве что только у самых диких народов Азии и Африки. Детская смертность среди крестьян такая, что только один из пяти рожденных детей доживает до семи лет, а лишь один из восьми новорожденных сумеет стать взрослым. В военном ведомстве каждый год бракуют треть призываемых рекрутов, которые по причине истощения оказываются негодны к службе, и еще треть считают годными условно, потому что после призыва, уже в армии, их приходится специально откармливать. При открытии новых заводов сразу выясняется, что даже в Петербурге невозможно найти не только инженеров и техников с высшим и средним образованием, но и квалифицированных рабочих самых востребованных специальностей и разрядов. И в то же время на рынке труда полно не умеющих ничего крестьян-отходников, пришедших в город из умирающей с голоду деревни. Предел их компетенции – таскать круглое и катать квадратное…
Немного помолчав, Одинцов добавил:
– А если каким-то чудом завод все же откроется, то тут же выяснится, что, хоть выпускаемый им товар пользуется спросом, но у двух третей потенциальных потребителей на его приобретение просто нет денег. При этом тот платежеспособный спрос, который имеет место со стороны небольшого количества более-менее состоятельных людей, не в состоянии окупить производственные издержки, что делает невыгодным развитие российской промышленности. Кризис перепроизводства, начавшийся в российской черной металлургии два года назад, случился из-за того, что государство, выполнившее план закупок металла по кораблестроительной программе и строительству Великого Сибирского пути, резко сократило свои заказы, из-за чего общий спрос на сталь и чугун упал вдвое. Следом за металлургическими заводами залихорадило и другие предприятия. В частности, большие трудности испытывает русско-балтийский вагонный завод в Риге, который в период пикового спроса вложил большие деньги в закупку нового, самого современного оборудования, а теперь оно оказывается невостребованным. И вся причина этого безобразия в том, что в России частный платежеспособный спрос генерируется крайне узкими слоями населения, а основная масса народа живет натуральным хозяйством, как тысячу или две тысячи лет назад. Деньги эти люди видят только тогда, когда продают большую часть своего урожая, чтобы уплатить государству выкупные платежи и прочие подати. До тех пор, пока мы не изменим этого положения, в России не будет ни мощной промышленности, ни сильной армии, ни тем более развитой науки.
– Что-то я вас не понимаю, Павел Павлович, – с сомнением произнес Столыпин, – к чему эти разговоры о народном благе? Вы клоните к социалистическим идеям господина Маркса?
– Марксисты, – ответил канцлер Одинцов, – хотят, чтобы в России не осталось богатых, а мы желаем, чтобы в ней не было бедных. Именно в России, а не в мире – ибо говорить за весь мир нас никто не уполномочивал. Каждый подданный Российской империи должен быть постоянно сыт, обут, одет, грамотен и обеспечен приемлемым жильем. Вслед за обязательным двухлетним образованием мы планируем вводить четырехлетнее, семилетнее и, наконец, десятилетнее…
– Да вы, Павел Павлович, тоже настоящий социалист-нигилист! – с кривой усмешкой произнес Столыпин, – я понимаю, когда вы говорите о государственных интересах, но зачем же жалеть мужицких щенков? Эти помрут, бабы новых нарожают… И уж тем более незачем учить глупых сиволапых грамоте. От этого в мужицких головах могут завестись дурные мысли[20]…
На мгновение в императорском кабинете наступила тишина. Потом глаза Ольги сузились, а пальцы скрючились так, будто она собралась вцепиться Столыпину в бесстыжие зенки. При этом канцлер Одинцов смотрел на министра земледелия почти с жалостью, а Коншин с Кутлером, как кадеты, то есть люди, настроенные на капитализм с человеческим лицом, старались делать вид, будто их тут нет. Это надо же – сказануть такую бестактность в присутствии государыни-императрицы и ее верного сатрапа…
Одинцов уже хотел достойно ответить Столыпину, но успокоившаяся императрица подняла руку.
– Погодите, Павел Павлович, я сама… – твердо произнесла Ольга и бросила на Столыпина уничтожающий взгляд. – Петр Аркадьевич у нас забыл, что он такой же мой подданный, как и самый последний мужик. А еще он забыл о том, что только Нам решать, кого Наш канцлер может жалеть, а кого нет. Сказать честно, Мы с ним думаем на эту тему почти одинаково, потому что Нашу душу ранит каждый умерший по Нашему же монаршему небрежению подданный, без различия пола, возраста и вероисповедания, хотя умершие младенцы доставляют Нам все же особую душевную боль. Приняв корону после отрекшегося брата, Мы перед Богом и людьми поклялись в том, что будем своему Отечеству доброй матерью, а не злой мачехой. Человечнее надо быть, Петр Аркадьевич, и добрее. Вам следует помнить о том, что вы русский человек и православный христианин, а не иудей Гобсек, для которого все нижестоящие значат не больше чем пыль под ногами. Вы этому мужику в ноги должны кланяться, а не пренебрежительно кривить губы, ведь все, чем вы владеете – вы и прочие дворяне – создано трудами как раз этих самых русских мужиков.
– Ваше императорское величество! – возмущенно воскликнул уязвленный Столыпин, – вы забываете, что именно дворянство является истинной опорой вашего трона…
– Это вы забываете, точнее, забываетесь, господин Столыпин! – резко ответила императрица. – Опора моего трона – это весь огромный российский народ, а не одно только дворянство, значительная часть которого сейчас прогнила и паразитирует на заслугах своих предков. Опираться на таких, Петр Аркадьевич, значит подвергнуть себя смертельной опасности. Предадут и продадут, как те господа гвардейские офицеры, которые ради ложно понятой сословной солидарности присоединились к заговору Владимировичей…
Столыпин хотел было возразить императрице, но осекся, пригвожденный к месту тяжелым взглядом канцлера Одинцова. Так смотрят не на оппонента в споре – так смотрят на вошь, которую собираются раздавить безо всякой жалости…
– Некоторые люди, вроде единомышленников почти покойного господина Витте, – сказал канцлер, – считают, что главной обязанностью дворянства является владение родовыми имениями, в которых выращивается зерно, необходимое для экспорта российского хлеба за рубежи Империи. Эти господа жестоко ошибаются: главная обязанность дворянства – это служба государю и отечеству на любом доступном для этого поприще: военном, гражданском или научном. Поместья и дворянские привилегии были даны предкам современных дворян государями от Ивана Третьего и до наших дней не за их красивые глаза и не за правильное происхождение, а за службу Отечеству – в первую очередь, на поле брани. «Жалованная Грамота Дворянству» от тысяча семьсот восемьдесят пятого года заложила под служилое сословие мину огромной разрушительной силы. Этот документ действует почти сто двадцать лет – и каков же результат? На настоящий момент в Российской империи насчитывается миллион двести тысяч потомственных дворян и шестьсот тысяч человек, находящихся в личном дворянстве. При этом на военной службе потомственных дворян по происхождению примерно половина, а на гражданской таковых менее трети. Сопоставив эти данные, можно сделать вывод, что служит только треть потомственных дворян по происхождению, остальные же две трети занимаются чем придется, но тоже пользуются привилегиями, дарованными их предкам.
– Да, это так, – поддержала императрица своего канцлера, – почти восемьсот тысяч взрослых, гм, половозрелых дворян призывного возраста по сути таковыми не являются. И поскольку мы хотим сохранить Российскую Империю во всем блеске ее величия, с этим безобразием требуется немедленно заканчивать. «Указ О Вольностях Дворянства» Петра Третьего и «Жалованная Грамота Дворянству» императрицы Екатерины Второй необходимо заменить «Законом О Дворянском Сословии» императрицы Ольги Первой. Дворянское сословие должно быть очищено от никогда не служивших своих представителей и приведено в полный порядок. Ни одно государство не может существовать без элиты; но это должна быть элита, а не разный праздношатающийся сброд. Поэтому мы поступим согласно рекомендации упомянутого Павлом Павловичем господина Витте. Он настоятельно советовал дворянству как можно скорее обуржуазиться, и мы предоставим такую возможность господам, никогда не служившим Отечеству, переведя их в мещане, со всеми вытекающими из этого факта последствиями. Дворянское сословие отнюдь не тождественно классу землевладельцев, и все должны это понять. Но хватит об этом. Сегодня Мы собрали вас тут не для того, чтобы обсудить будущность дворян (и без того не бедствующих), а исключительно ради обсуждения методов исправления ситуации с нашими земледельцами, которые, напротив, во множественном числе находятся на грани выживания в связи с множеством неустройств. Но прежде всего Мы спрашиваем у Петра Аркадьевича – готов ли он и дальше с полной отдачей работать в Нашем правительстве ради достижения поставленных Нами целей или предпочтет подать в отставку прямо здесь и сейчас?
В воздухе повисла тягостная тишина, потом Столыпин, чье лицо от волнения пошло красными пятнами, поднял взгляд на императрицу и осторожно проговорил:
– Ваше императорское Величество, прежде дозвольте вопрос?
– Дозволяю, Петр Аркадьевич, – кивнула Ольга; она уже поняла, что этот сильный и своевольный человек укрощен и теперь будет служить ей верой и правдой.
– Так значит, Ваше Императорское Величество, – медленно произнес Столыпин, – вы вовсе не хотите отбирать у помещиков их имения и уничтожать дворянское сословие?
– Нет, Петр Аркадьевич, – усмехнулась императрица, – не собираемся. Вопрос повышения благосостояния крестьянского сословия мы намерены решить отнюдь не за счет дворян и землевладельцев. Так что можете быть спокойны, никому из ваших знакомых при условии продолжения ими службы ничего не грозит. Конфискованы могут быть только те имения деклассированных в мещане бывших дворян, которые находятся в просроченном залоге у Дворянского банка. Да и то лишение дворянского статуса произойдет не сразу после вступления закона в силу, а лишь по прошествии трех лет переходного периода, которые даются на то, чтобы все дворяне, не находящиеся на государственной службе, могли исправить это положение. Иначе никак. Чтобы иметь дворянские привилегии, необходимо служить. Исключение может быть сделано только для вдов и сирот служилых дворян. Детям дворян, в том числе и сиротам, при условии получения ими высшего образования, будет дана фора до достижения двадцатипятилетнего возраста, а вдовам – до момента повторного выхода замуж или же самой смерти.
– Я вас понял, Ваше Императорское Величество, – склонил перед императрицей голову Столыпин, – и раскаиваюсь в своих необдуманных словах. По своему неразумию я подумал, что, видя бедственное положение мужицкого сословия, вы решили поддаться на крики разных политических крикунов, требующих отнять землю у помещика и поделить ее между мужиками.
– Таким дешевым приемом, – сказал Одинцов, – проблему не решить. Можно сколько угодно орать о малоземелье, но при этом забывать, что от пятой части до четверти всех пахотных земель лежат под межами, а урожайность на истощенных и засоренных крестьянских землях такая же, как двести, пятьсот и тысячу лет назад, когда сам-пять считается хорошим урожаем, а сам-десять – рекордным; в то время как у нас в двадцать первом веке хорошим урожаем считалось сам-тридцать, а рекордным – сам-шестьдесят. Таким образом, прежде чем говорить о малоземелье, необходимо провести программу переселения, освоив целинные земли и разгрузив центральные губернии от излишних людей, навести порядок с землепользованием, перестать тасовать наделы (что ведет к их ускоренному истощению), а также наладить дело с агрономией, в том числе и с агрохимией. Кроме того, необходимо решить вопросы, связанные с закупкой, хранением, перевозкой и переработкой зерна, а также отправкой его на экспорт. Но, к счастью, для решения этих вопросов у меня есть господин Коншин. Возглавляемая им корпорация «Росзерно» уже функционирует, и в ближайшее время работа в этой области будет уже налажена…
– Я тоже так думаю, – с серьезным видом кивнул Столыпин. – У Алексея Владимировича за спиной хорошая школа работы в Госбанке. Должен вам сказать, что если вы будете подбирать себе таких помощников, как господин Кутлер и господин Коншин, то вам может удаться воплощение в жизнь любой идеи – даже такой безумной, как построение царства всеобщего благоденствия, в котором и волки сыты и овцы целы.
– Вы, Петр Аркадьевич, даже себе не представляете, – отмахнулся Одинцов, – что такое по-настоящему безумная идея, которую не только исполнять, но и измысливать даже не стоит. А то, что задумано нами – не более чем компиляция из различных вариантов европейского опыта двадцатого века по созданию более-менее сбалансированного общества. Но наша задача шире. Нам требуется не только пройти между классическим капитализмом и диким первобытным коммунизмом, как Одиссей прошел между Сциллой и Харибдой, но и построить будущее общество, используя собственные внутренние возможности, вместо того чтобы черпать ресурсы из безудержного ограбления заморских колоний, которых у нас просто нет. Обычно такие модернизационные толчки проворачивают, заставив раскошелиться крестьян, но для данного случая этот метод не подходит, крестьяне и так уже ограблены до нитки. Но вы не переживайте – мы знаем, что следует делать в таком случае, и точно можем сказать, что платить за будущую стройку придется совсем не дворянам… Но об этом позже.
– Да, – сказала императрица, – об этом позже, господа. А сейчас я хотела бы раздать вам свои поручения. Вашему ведомству, Петр Аркадьевич, следует в первую очередь проработать переселенческую программу. За десять лет на земли вдоль трассы Великого Сибирского пути необходимо переселить не менее двадцати миллионов человек. При этом всех переселенцев необходимо обеспечить инвентарем, лошадьми, крупным и мелким рогатым скотом, а также лесом для постройки домов. Также неплохо было бы привлечь к делу артели плотников, которые заранее строили бы избы-пятистенки, чтобы прибывшие переселенцы, не отвлекаясь уже ни на что, сразу же взялись за распашку полей. В подготовке переселения и в ходе перевозок людей вам окажут помощь господа из имперской безопасности. В чиновные и купеческие головы потребуется палкой вколотить простую мысль, что воровать у переселенцев так нехорошо, что это чревато каторгой, а воровать у государства так плохо, что это приводит к летальному исходу.
– А как же… – начал было Столыпин, но тут же был прерван императрицей.
– Остальными вопросами земледельческих реформ, – строго сказала Ольга, – мы займемся тогда, когда большая часть назначенных к переселению уже переберется на новое место жительства и в центральных районах станет посвободнее. И забудьте, ради Бога, о разрушении сельской общины, хотя бы на первом этапе. Она ведь не только угнетает мужика и сдерживает его экономическую инициативу, но и страхует его от жизненных невзгод, придавая чувство уверенности. Кроме того, государству значительно удобнее работать не с отдельными индивидами, а с целыми коллективами, поэтому переселение тоже лучше проводить путем деления общины пополам. Ну вы меня поняли. Мир сам должен решить, исходя из спущенной разнарядки, какие семьи останутся, а какие поедут на новое место, сам должен назначить уезжающим старосту и подобрать батюшку…
– Да, Ваше Императорское Величество, – сказал Столыпин, – я вас понял. Вы хотите, чтобы переселением было легче управлять.
– Не только переселением, – возразила Ольга, – в одиночку каждый из нас (а не только мужики) – это дикий двуногий зверь, и только структурированное общество себе подобных делает из него человека. Распустить общину – это все равно что распустить гимназистов на перемену и сказать им: «господа, вы свободны, делайте все что вам угодно». Одним словом, Петр Аркадьевич, не извольте дискутировать по этому вопросу, а извольте выполнять!
Закончив со Столыпиным, Ольга перевела взгляд на генерального директора «Росзерна».
– Теперь вы, господин Коншин… – сказала она. – На вас лежит задача не только перевести денежные потоки за экспорт российской пшеницы из карманов гешефтмахеров неудобоназываемой национальности в карман государства, но и создать все необходимое для того, чтобы осуществлять сбор сельскохозяйственного налога в натуральной форме, а также выдачу семенных ссуд. В связи с последней задачей возникает мысль, не устроить ли нам при вашей корпорации специальные семенные селекционные хозяйства, чтобы улучшить качество семенного материала в мужицких, и не только мужицких, хозяйствах. Просто беднейшим мужикам вы будете давать семена в качестве посевных ссуд, а всем остальным – продавать за немалые деньги. И вообще, я на вас надеюсь. Вашей конторе предстоит возместить государству те средства, которые выпадают из-за отмены выкупных платежей. Надеюсь, вы меня поняли?
– Да, Ваше Императорское Величество, – ответил будущий главный зерновой воротила Империи, – понял и постараюсь сделать все в лучшем виде.
– Ну вот и хорошо, – вздохнула императрица. – А теперь я хочу поговорить с вами, господин Кутлер. Ваше ведомство, совместно с работниками имперской безопасности, должно провести ревизии в Крестьянском поземельном и Дворянском банках. В Крестьянском банке я хочу иметь статистику в разрезе того, какие участки приобретались в кредит и каково было благосостояние их прошлых и новых владельцев. Меня не устроит, если деньги банка тратятся на укрепление позиций сельской буржуазии, а не на приращение наделов малоземельным крестьянам… В Дворянском банке меня интересует статистика по находящимся в залоге поместьям и прочим землям с отдельным разбиением на категории служилого и неслужилого дворянства. Сроку вам всем троим – до Рождества, не более того. Все понятно, господа? Ну а раз понятно – тогда идите и работайте, время не ждет. А вы, Павел Павлович, задержитесь, есть разговор.
[десять минут спустя, там же.]
– Итак, Павел Павлович, каково ваше мнение? – спросила императрица, когда Столыпин, Кутлер и Коншин вышли.
– Как говорил один известный персонаж, – ответил Одинцов, – лед тронулся, государыня Ольга Александровна, первый выстрел сделан. До этого дня мы только ремонтировали порушенное и собирали свою команду, но сегодня Вы сделали серьезную заявку на самостоятельную политику. Манифест об улучшении положения крестьян – это еще полбеды, но вот заявка на «Закон о дворянском сословии» была сделана Вами, по моему мнению, сгоряча в пылу полемики, а следовательно, преждевременно. Но бывшее нельзя сделать не бывшим, а посему будем играть теми картами, которые имеются у нас на руках.
– Значит, я все испортила, – расстроилась Ольга, – наверное, мне не стоило так близко к сердцу принимать слова господина Столыпина…
– Ну, все не так плохо, – пожал плечами Канцлер Империи, – есть в этом деле и светлые моменты. План по приведению дворянства в дееспособное состояние был вами высказан в весьма ограниченном кругу лиц, дававших подписку о неразглашении служебной информации, а тем более – сведений, составляющих государственную тайну. К тому же, подумаешь, известие. Крику от такой новости, конечно, будет – как от полоумного петуха на заборе, не без того; но, с другой стороны, надо понимать, что основным настроением образованной публики за стенами Зимнего дворца является фраза «так дальше жить нельзя». Правда, при этом у каждого имеется свое представление о том, как жить можно и нужно, но это уже дело десятое. Наши интеллигенты только ломают дружно, а вот построить что-то новое они не в состоянии, ибо сколько их есть на свете, столько у них и мнений…
– Между прочим, – сказала Ольга, – и Столыпин, и Кутлер, и Коншин – потомственные дворяне. Столыпин – из весьма состоятельной семьи, а двое других – из небогатых. И при этом все трое находятся в гражданской службе с окончания университета. Тихие неприметные рабочие лошадки, смирно тянущие тяжелый воз российских финансов. Не думаю, что их радует наличие по соседству дворян, которые имеют такие, как и у них, дворянские привилегии, но вместо службы Государю и Отечеству проедают выкупные платежи, кредиты Дворянского банка и арендную плату с принадлежащих их земель.
– Разумеется, этот факт их не радует, – согласился канцлер Одинцов, – но в то же время из сословной солидарности им невместно произносить на эту тему хоть какие-то речи. Хотя должен заметить, что они признают ваше право навести в этой сфере идеальный порядок. Ведь и император Петр Федорович, и тем более императрица Екатерина Алексеевна по своему воспитанию являлись людьми европейского воспитания, привыкшими к давно укоренившемуся своеволию дворянства. И ведь что самое интересное – Екатерина Великая окончательно вела дворянскую вольность всего за четыре года до того, как подобная система, доведенная до крайней степени маразма, с треском лопнула Великой Французской революцией. Все правильно понял ее сын император Павел Первый, но ему банально не дали закрутить гайки. Апоплексический удар табакеркой – и дело в архив.
– Павел Павлович, – поежилась Ольга, – так, может, нас того – тоже…
– Да нет, государыня-матушка, – ответил Одинцов, – с тысяча восемьсот первого года много воды утекло. И время сейчас не то, и люди совсем другие. Система, построенная на основе не обязанного службой дворянства, теперь близка к маразму и в России. До собственной великой революции, которая должна произойти по той же причине, что и во Франции, осталось всего ничего, и земля русская полнится предчувствиями великих неустройств. Если император Павел Петрович был в своих устремлениях одинок, да и не знал точно, чего он хочет (а потому метался из стороны в сторону как тигр по клетке), то мы, во-первых, имеем четкий и конкретный план, вкупе с образом лучшего будущего; а во-вторых – у нас имеется множество добровольных помощников, которые не предадут, а пойдут вместе с нами до конца.
– Вот те, – сказала императрица, – которые пойдут с нами до конца за Россию и ее народ, и достойны в самом деле называться настоящим дворянством. Нам нужны люди, которые будут служить Нам и Государству истово и преданно, а не просто присутствовать на службе, числясь офицером или гражданским чиновником.
– Ну, хорошо, – сказал Одинцов, – давайте поговорим конкретно. Для начала – какой срок службы вы собираетесь назначать своим служилым дворянам.
– Вот, – сказала императрица, доставая из секретера исчерканный черновик, – мы тут с вашей Дарьей немного подумали, и при первой прикидке у нас получилось вот что. Во-первых: стандартный срок службы – двадцать пять лет. У армейских офицеров в мирное время год службы идет за два года, у флотских офицеров на берегу также год за два, а поход в мирное время – год за три года. В военное время в глубоком тылу все так же, как и в мирное время, а в действующей армии у гражданских чиновников – год за три, у армейских офицеров – год за пять, а у флотских – год за семь лет. Кроме того, будут применяться различные повышающие коэффициенты для службы в неприятном для европейского человека климате и удаленности от крупных городов. В итоге мы понимаем, что большое количество служивых людей, не боящихся трудностей, будут выслуживать свой пенсион задолго до наступления физической дряхлости, и поэтому готовы выплачивать им выслуженный пенсион вместе с жалованием до тех пор, пока они сами не запросятся, как у вас говорят, на заслуженный отдых.
– Для начала достаточно неплохая система, – кивнул канцлер Одинцов, – но только если вы дозволите, я хотел бы дать несколько поправок и дополнений…
– С удовольствием дозволю, Павел Павлович, – кивнула императрица, – для того я и назначила вас канцлером империи, чтобы вы всегда могли дать мне добрый совет.
– Значит, так, ваше императорское величество, – сказал Одинцов, – для начала скажу, что не все старики на службе одинаково полезны. Я понимаю, что вас несколько очаровал генерал Линевич. Умница и военный гений без формального военного образования, он и в глубокой старости имел энергии, остроты ума и понимания ситуации столько, что хватило бы и на трех молодых. Но генерал Линевич – он такой один, зато гораздо больше других, до глубокой старости засидевшихся в относительно небольших чинах. Они не только в силу своего старческого консерватизма будут тормозить неотложные государственные преобразования, но и займут места, необходимые для продвижения молодых и перспективных специалистов. Поэтому для каждой классной должности необходим свой предельный возраст нахождения в должности, после достижения которого чиновник или офицер в обязательном порядке должен уйти в отставку и освободить место для тех, кто уже дышит ему в спину. Чем выше должность, тем больше может быть возраст, но и в случае превосходительств и высокопревосходительств решающим должно быть не только желание чиновника или генерала остаться на посту после выслуги лет, но и то, насколько успешно он справляется со своими обязанностями. Продлевать службу можно только в том случае, если это действительно ценный и незаменимый специалист. В противном случае лучше отправить такого человека в запас и освободить место кому-то из способных нижестоящих, чтобы этот человек мог продвинуться по карьерной лестнице. Вы меня понимаете, Ваше Императорское Величество?
– Да, понимаю, – ответила императрица, – это все, или будут еще советы?
– Будут, – ответил канцлер Одинцов, – помимо армейских и флотских офицеров в систему табели о рангах необходимо включить врачей, инженеров, учителей и научных сотрудников. Вы можете сказать, что они и так получают ранги гражданской службы, но, в отличие от чиновников, этих людей, делающих реальное дело, необходимо вводить в личное дворянство сразу с момента заступления на первую должность по специальности после окончания университета[21]…
– Не вижу в этом ничего невозможного, – сказала императрица Ольга, – обычно выдающимся людям потомственное дворянство давалось в обход всех правил императорским указом. Но в быстро развивающейся стране, которую мы строим, такое дело следует отдавать на усмотрение закона. Пусть, помимо штатских чиновников, офицеров и придворных, будет еще «Табель о рангах» для инженерно-технических специалистов. Но я хочу поговорить еще и об ином. У нас множество союзников, сторонников и сочувствующих в российском обществе, но это, можно сказать, пока аморфная масса. Я тут, знаете ли, подумала, что преобразовывать государство, опираясь на народ, так сказать, в общем – это все равно что строить дом на песке и без фундамента. Исходя из опыта вашего времени, нам необходима организация сторонников, более широкая и более конкретная, чем ныне существующее дворянство, будь оно хоть три раза очищено от шелухи и настроено на борьбу…
– Ваше императорское величество, – усмехнулся Одинцов, – вы собрались создать под себя партию нового типа, как у товарища Ульянова, или еще одну Единую Россию?
– Господин Ульянов, – отпарировала императрица, – в настоящее время создал организацию, более всего похожую на секту религиозных фанатиков. Впрочем, таковы все революционеры, и эсдеки-большевики выглядят среди них еще наиболее человекообразно. Но это не наш путь, ибо фанатизм сверх определенной мерки вреден для дела. Я много читала по этому вопросу из вашей литературы и поняла, что только преемник господина Ульянова, господин Джугашвили, сумел переделать инструмент разрушения государства в инструмент нового государственного строительства – перековал, так сказать, мечи на орала. Но это, как любите говорить уже вы, совсем другая история. Что же касается Единой России вашего времени, то эта партия была создана с единственной целью – канализировать в парламент авторитет вашего господина Путина, для создания беспрепятственных условий нужному законотворчеству. Ни для чего иного, в силу набранного в ее ряды контингента, эта партия оказалась не приспособлена, и, получив власть большинства, самостоятельно вырабатывать политику была не в состоянии. Именно поэтому некогда быстрый социальный и экономический прогресс в последнее время у вас превратился в засасывающую все пучину застоя. Для нашей Российской Империи, избавленной от занудной заразы парламентаризма, такая партия не является предметом первой необходимости. Нам нужна такая организационная структура, которая явилась бы мощным инструментом государственного строительства, принимая людей и с правого и с левого политического флангов.
– Туше, Ваше Императорское Величество, – усмехнулся Одинцов, – хорошо вы приложили наших политических пигмеев. Но все же – какой практический вывод вы готовы сделать из вышеизложенных умозаключений?
– Сказать честно, Павел Павлович, – тихо ответила императрица, – меньше всего мне на ум приходило слово «партия». Какое-то оно испачканное, что ли. Организацию людей, готовых помогать Нам вести Российскую Империю в светлое будущее, мы видим как нечто подобное рыцарскому ордену или гвардии Петра Великого… Именно эти люди должны возглавить и структурировать очищенное от балласта служилое дворянство, стать его руководящей и направляющей силой.
– Орден, составленный из преданных и верных людей – это хорошо, – задумчиво сказал Одинцов, – но не получится ли так, что вы своими руками создадите монстра страшной силы, вторую параллельную власть, которая возжелает играть троном, как играла им петровская гвардия после смерти своего создателя? Ведь за сто лет – с тысяча семьсот двадцать четвертого года по тысяча восемьсот двадцать пятый – ни один государственный или дворцовый переворот не обходился без участия гвардейских полков, и только ваш прадед Николай Павлович картечными залпами на Сенатской площади отбил у гвардии вкус к мятежам и переворотам… Да и то, минуло еще почти сто лет – и мы увидели рецидив гвардейского самосознания, чуть было не взгромоздивший на престол постоянно пьяного императора Кирилла Первого…
Императрица Ольга задумалась, прикусив губу.
– Тогда, Павел Павлович, – спросила она, – что вы можете предложить Нам взамен?
– Я бы, – задумчиво ответил Одинцов, – не стал бы пока торопиться и впадать в неумеренный экстаз. Пока у нас и в помине нет парламента и связанных с ним процедур, юридическое оформление наших сторонников в партию власти не является для нас предметом первой необходимости. Да и мысль по поводу того, что только дворянство имеет право на патриотизм, тоже в корне не верна. Русский крестьянин может быть даже более патриотичным, чем дворянство. Нет, если создавать такую организацию, своего рода братство патриотов России – она не должна дискриминировать людей по признакам сословия, национальности, вероисповедания и пола.
– Что, – удивилась императрица, – по-вашему, Павел Павлович, и иудеи тоже могут быть патриотами?
– Могут, – подтвердил Одинцов, – так сказать, в лице отдельных своих представителей, которым не чуждо ничего человеческое, в том числе и патриотизм. Мы не должны отказывать никому, только исходя из сугубо формальных условий. Смотреть следует на саму сущность человека. Правда, тут надо суметь вовремя распознать и обезвредить желающих прорваться к власти карьеристов, которых в той среде тоже предостаточно; но это уже работа для Имперской Безопасности.
– Хорошо, Павел Павлович, – склонила голову императрица, – вы можете быть уверены в том, что ваши аргументы услышаны и будут учтены мною при вынесении окончательного решения. Я еще раз посоветуюсь по обоим этим вопросам с другими людьми, в том числе с маман, вашей Дарьей и своим Сашкой, и после чего я доведу до вас свое окончательное решение. А сейчас, Павел Павлович, я попрошу оставить Нас и удалиться, чтобы Мы в тишине и покое могли бы поразмыслить над всем вышесказанным. Кроме того, как доложил мне господин Мартынов, в самом ближайшем времени из Швейцарии в Санкт-Петербург приезжают господин Ульянов и господин Морозов – и тогда мы вместе с ними начнем решать вопрос промышленности и трудящихся на ней рабочих – точно так же, как мы совсем недавно начали решать вопрос крестьянства.
Когда Одинцов, попрощавшись, вышел, Ольга придвинула к себе лист чистой писчей бумаги и взяла в руку перо. Пока все сказанное свежо в памяти, необходимо занести на бумагу основные тезисы сегодняшнего разговора.
[25 августа 1904 года, три часа дня. Санкт-Петербург, Зимний дворец, кабинет Канцлера Российской Империи.]
Всю дорогу от Женевы до Петербурга Владимир Ульянов пребывал в несвойственном ему трансе. Он чувствовал себя как мотылек, против воли летящий на манящий огонек свечи. Нет, товарищ Баев (и ведь чувствовалось, что именно товарищ, а не господин) не применял к нему и Наденьке никаких угроз и тем более насилия, был вежлив и корректен, но все равно у будущего вождя мирового пролетариата было ощущение, что он идет навстречу смертельной опасности. Окопавшийся в самом центре Российской империи господин Одинцов представлялся ему неким подобием удава Каа из «Книги Джунглей» Киплинга, магнетически приманивающим к себе революционеров-бандерлогов. Или, быть может, все дело в полковнике Баеве. В присутствии этого человека из будущего Владимир Ульянов чувствовал себя как нерадивый гимназист перед строгим учителем, оценивающим его без всякого снисхождения. Весьма неуютное, знаете ли, ощущение.
Но дороги назад не было, ибо условия товарищ Баев поставил конкретно. Или переход на сторону правительства императрицы Ольги, или полный отказ от политической деятельности; при любом другом развитии событий гарантировался летальный исход. Будущий вождь мирового пролетариата понимал всю серьезность предупреждения, кроме того, он не был особо храбр. К тому же от попытки сдристнуть с поезда при первом удобном случае, с Наденькой или без, Ильича удерживало банальное любопытство. Ему хотелось хоть одним глазком посмотреть на человека, уже фактически захватившего в империи Романовых высшую власть и теперь поставившего себе цель осуществить социалистическую революцию сверху. Уже если полковник Баев, явный выходец из иного времени, настолько отличался от здешних людей, что вполне мог сойти за посланца боженьки или же самого Сатаны, то что можно будет сказать о том, кто сидит в середине этой паутины и дергает за нити мировой политики? Любопытство и страх – вот те две эмоции, которые испытывал Владимир Ульянов во время пятидневного путешествия по железной дороге до Санкт-Петербурга.
Но все однажды кончается; на перроне Варшавского вокзала северной Пальмиры закончился и этот путь. А на вокзале уже ждали грузовая линейка для багажа и два мягких экипажа. Со всеми удобствами гостей Северной Пальмиры доставили в отель «Европа», где для Ульяновых-Крупских и Красина уже были забронированы первоклассные номера. Оставив там багаж и Наденьку, которую в силу ее глубокой второстепенности никто никуда не звал, Савва Морозов, Красин и Владимир Ульянов в сопровождении полковника Баева отбыли в Зимний дворец. Последний отрезок пути был для будущего вождя мирового пролетариата сродни пути на Голгофу, совмещенному с триумфом. И вот последние несколько шагов; лакей распахивает дверь и громко объявляет хозяину кабинета имена и фамилии прибывших.
Ильич делает последний шаг – и видит, что канцлер Одинцов, хорошо известный ему по описаниям, в этом кабинете находится не один. Вон тот, гладко выбритый молодой полковник в черном мундире, наверняка и есть страшный начальник новосозданной Тайной Канцелярии, господин Мартынов. Его взгляд пронизывает Володю Ульянова буквально насквозь. Другой полковник – в немного ином мундире, из-под которого выглядывает морская тельняшка, постарше первого, с короткими английскими усами на лице – наверняка есть законный муж императрицы Ольги, князь-консорт полковник Новиков. А вот и сама Ольга – в сером простеньком платье, застегнутом под горлом, больше похожая на гувернантку, чем на императрицу. И все присутствующие внимательно смотрят на него, Владимира Ульянова. И Леонид Красин потерялся где-то позади, и Савва Морозов отошел в сторону… Похоже, главный человек тут именно он, и никто другой.
– Добрый день, Владимир Ильич, – выдержав паузу, говорит Одинцов, – с благополучным вас прибытием в Северную Пальмиру. Мы очень рады, что вы все-таки приняли наше предложение сотрудничать.
Некоторое время Владимир Ульянов и не знал, что ответить. Потом он собрался с мыслями и произнес:
– И вам тоже добрый день, господин Одинцов. Должен признать, что вы умеете предлагать так, что от этих предложений почти невозможно отказаться. Скажите, это правда, что если бы я, то есть мы с Наденькой, попытались продолжить прежнюю деятельность, то были бы непременно уничтожены физически, как какие-нибудь эсеровские террористы?
– Да, правда, – подтвердил канцлер Одинцов при гробовом молчании прочих присутствующих лиц, – у нас нет права подвергать ненужной опасности вверенную нашему попечению Российскую империю, ведь вы, Владимир Ульянов, очень опасный мерзавец.
– Я – мерзавец? – с удивлением переспросил ошарашенный Ильич.
– Конечно же, мерзавец, – подтвердила императрица. – Российская империя сделала вас потомственным дворянином, дала вам образование и перспективу в жизни, а вы поставили себе целью разрушить ее до основания.
– Эта ваша империя, – огрызнулся Ильич, вздергивая кверху бородку, – казнила моего брата Александра…
– Этот ваш брат, – в тон ему ответил полковник Мартынов, – тоже был мерзавец каких мало. Предположим, он был возмущен тем униженным и страдающим положением, в котором находился русский народ. Но первое, что пришло ему в голову – это не агитация, легальная или нелегальная политическая борьба, а организация убийств… Так ваш брат стал основателем террористической ячейки, планировавшей дезорганизацию российского правительства через убийство высших должностных лиц, включая государя-императора вместе с семьей. И ведь от болтовни он и его банда перешли к делу и уже купили взрывчатку для снаряжения бомбы. В то время как империя тоже дала ему все, о чем может мечтать человек в его положении; еще немного – и из него вышел бы талантливый молодой ученый, светило российской науки… но он связался с террористами и кончил на виселице.
– Мой брат, – звонко воскликнул Ильич, – боролся за народное счастье!
– За что, за что он боролся? – с насмешливой интонацией переспросил полковник Новиков, – С чего это вообще ваш брат решил, что убийство царя или кого-то из его приближенных, и даже сама дезорганизация правительства, о которой он мечтал вместе с друзьями, принесет народу хоть малейшее облегчение? Да ни в жизнь! Выиграть от такого события могли только представители крупной буржуазии и иностранные державы, а потому ваш брат получается именно их агентом, а не борцом за народное счастье.
– Между прочим, – сказал Мартынов, – случись такая коллизия во времена Чингисхана – и вся ваша семья была бы беспощадно уничтожена, как и прочие ваши родственники до седьмого колена. А во времена товарища Сталина, в которого еще переродится ваш добрейший Коба, вас – так же, как мать, братьев и сестер террориста – лишили бы всех прав и навечно сослали в весьма отдаленные места, по сравнению с которыми село Шушенское, где вы отбывали ссылку, это просто курорт.
– У вас, кстати, тоже руки по локоть в крови, – снова сказал Новиков. – Затеянная вами революция обошлась России в двадцать миллионов погибших, причем значительная их часть образовалась в результате бессудных казней, которые ваши последователи организовывали для представителей так называемых угнетающих классов. Так что вы, господин Ульянов, в итоге тоже пошли по пути террора, как ваш брат, только террор этот оказался не индивидуальным, а массовым… И вы ведь знали, на что шли, поскольку имели перед глазами пример Великой французской революции. Свобода, равенство, братство, Революционный трибунал, гильотина и то же огромное количество жертв… Любая революция, победив, сначала стоит по колено в крови своих врагов, а потом – по колено в крови своих детей. Это закон общественного развития, и не вам его менять.
– И что же, – кривя губы, сказал изрядно струхнувший Ильич, – вы позвали меня сюда для того, чтобы наговорить всех этих гадостей, а потом отправить на виселицу?
– Да нет, господин Ульянов, – ответил канцлер Одинцов, – мы-то, в отличие от вас, не мерзавцы, а потому наше первоначальное предложение остается в силе. А этот разговор потребовался для того, чтобы расставить все точки над «и» и показать, кто есть кто. И ничего больше. И вообще, один умный человек сказал, что каждый бывает незаменим, будучи употреблен на своем месте, а другой добавил, что нет отбросов, а есть кадры. Вам дается шанс ударным трудом на благо трудового народа исправить свою карму – если вы, конечно, с самого начала боролись именно за это, а не банально пытались отомстить Империи за смерть своего брата.
– Хорошо, – сказал Ильич, задумчиво нахмурившись, – допустим, я соглашусь. Но что будет потом, когда дело окажется сделанным и надобность во мне отпадет?
– Ничего особенного с вами не будет, – ответила Ольга, – вы будете трудиться, пока глаз остер и рука тверда, а потом – пенсион и смерть в своей постели от старости в окружении близких и друзей. И все потому, что мы, в отличие от вас, все же не мерзавцы…
После этих слов наступила тишина. Ленин думал, а все остальные ждали, до чего додумается Старик. Наконец он снова вскинул голову и повел плечами, будто бы стряхивая с себя остатки сомнений.
– Ладно, Ваше Величество, – сказал он и махнул рукой, – где тот договор, который я должен подписать кровью?
– Вот, подписывайте… – Одинцов толкнул бумагу по столу в сторону Ильича и, усмехнувшись, добавил: – и никакой крови, одни чернила…
[25 августа 1904 года, вечер. Санкт-Петербург, отель «Европа», номер снятый для семьи Ульяновых-Крупских.]
Вернувшись в отель после встречи в Зимнем дворце, Ильич пребывал в невероятном возбуждении и бегал по номеру как возбужденный бабуин по клетке. Эмоции требовали выхода. А то как же. Быть может, быть впервые в жизни ему прямо сказали, каким образом оценивают и его личность, и его деяния. Нет отбросов – есть кадры. У будущего вождя мирового пролетариата не было ни малейших сомнений, что, если бы им не требовался министр труда из фанатичных эсдеков, эти четверо с легкостью приговорили бы его к лютой смерти в подвалах Петропавловки. А что теперь? Теперь служи верно – и все твои дела, и прошлые и будущие, будут если не забыты, то засунуты на дальнюю полку, чтобы там покрываться пылью до первого прегрешения. А какова оказалась молодая императрица?! Бывшего царя Николашку Владимир Ульянов не уважал. Дрянь он был, а не император, и давно лелеемая Ильичом социалистическая революция выглядела при его правлении вполне вероятной. Совсем другое дело – государыня Ольга Александровна. Совсем молодая девчонка, но держится так, будто вместо позвоночника в нее вбит стальной стержень, а на руках надеты ежовые рукавицы. Какая уж тут революция. Шею свернет – и скажет, что так и было. А если у самой сил не хватит, попросит мужа. Этот подковы, может, и не разгибает (как Ольгин папенька император Александр Третий), но зато чрезвычайно быстр и свиреп; и лощеный мундир на нем так и трещит от перекатывающихся под ним тугих мышц. В присутствии князя-консорта Ильичу становилось откровенно неуютно. Такой свернет шею одним движением – и даже не поморщится.
И вообще, если оценивать картину непредвзятым взглядом, становится понятно, что люди, собравшиеся в кабинете канцлера, императрице не столько подданные, сколько товарищи-единомышленники. А где единомышленники, там и общая великая цель, которую они перед собой поставили. Не может не быть. Иначе после захвата власти им ничего и делать не требовалось, разве что за исключением продолжения борьбы с заговорщиками и террористами, как у какой-нибудь латиноамериканской диктатуры. Но нет – страницы русских газет так и пестрят сенсационными материалами об арестованных имперской безопасностью чиновниках-казнокрадах и нечистоплотных поставщиках, и слово «чистка» прочно заняло свое место в российском политическом лексиконе. «Чистильшики» в черных мундирах и тщательно отглаженных белых рубашках по ночам врываются не в нищие лачуги бедняков, а, в полном соответствии с его, Ильича, заветами и при полном одобрении общества, берут штурмом особняки богатеев и дворцы аристократов. Сначала публика считала, что вал арестов уляжется через два-три дня после перехода власти к новой императрице, и при этом самая жирная рыба так и останется невыловленной; но, судя по всему, репрессивная машина имперской безопасности, набрав ход, не желала останавливаться. Если дело дошло даже до отстранения от должностей двух Великих Князей (один из которых прежде контролировал русский военный флот, а другой – всю русскую артиллерию), то остальным сошкам размером поменьше ждать снисхождения уж точно не приходится.
И теперь Ильичу требовалось понять, какова та цель, которую поставили себе окружившие трон люди, и может ли он служить им, не поступившись своими главными принципами? Подписанный им договор сам по себе ничего не значит, без мотива делать дело настоящим образом он представляет собой всего лишь лист испачканной чернилами бумаги. При этом сказанные в узком кругу слова тоже ничего не значат. Сам Ильич в этом смысле тоже был хорош, и иногда в глаза и за глаза костерил своих оппонентов так, что эпитет «мерзавец» еще мог бы показаться комплиментом. Императрица и ее подручные просто показали, как они к нему относятся, но при этом дали понять, что, невзирая ни на что, согласны иметь с ним дело, если он будет добросовестно выполнять свои обязанности – защищать рабочих от произвола хозяев. А зачем им вообще все это – министерство Труда и прочие реверансы в сторону простонародья (вроде царского Манифеста о мерах для облегчения положения крестьянства)?
По классической схеме опорой монархических и диктаторских режимов являются армия, полиция, но самое главное – узкий слой крупной буржуазии и помещиков. А эти, продолжая опираться на армию и имперскую безопасность (их благосклонность при мирной передаче власти является делом первостатейным), пытаются перенести опору трона на широкие слои населения, заигрывая с рабочим классом и крестьянством. Или нет… не похожи эти четверо на тех людей, которые будут играть с людьми в игры – слишком уж они для этого серьезны и не похожи на европейских демократических политиков, которые привыкли обещать всем и все сразу. Да и не требовалось бы в таком случае вытаскивать из Швейцарии его, Ленина; с имитацией заботы о народе справился бы не только товарищ Красин, которого эти люди уже купили с потрохами, но и какой-нибудь заштатный чиновник минимально левых убеждений. И все. А тут все не совсем так, точнее, совсем не так… Неужели и в самом деле господин Одинцов и компания при полном одобрении правящей императрицы Ольги собрались осуществить социалистическую революцию сверху? Мысль нелепая и невероятная сама по себе, ибо ни один человек в одиночку (или с группой соратников), прорвавшись даже в самый верхний эшелон правящего класса, не будет иметь возможности сменить саму господствующую политическую формацию… Или этот Одинцов настолько безумен, что верит в такую возможность и всерьез ставит ее своей целью? Впрочем, и в его, Ленина, идею о возможности осуществления социалистической революции в России тоже не верят даже ближайшие соратники, а она, как оказалось, вполне реальна. И революцию сделали, и пролетарское государство создали, и социализм в нем построили – и неважно, с какими жертвами, ибо большие дела без жертв не делаются. Не зря же древняя мудрость гласит, что дело стоит крепко только тогда когда под ним струится кровь. Важно то, что попытка прийти к справедливому обществу, по большому счету, оказалась неудачной; большевистского запала хватило всего на семьдесят лет, после чего все шлепнулось обратно в буржуазную грязь… Нет, не может быть такого, чтобы этот Одинцов решился на то же, что и он, но только с другой стороны, потому что такого не может быть никогда…
Наденька при обдумывании этого вопроса ничем помочь не могла, а потому сидела в углу тихо и помалкивала, пока ее супруг ходил по номеру из стороны в сторону, что-то бормоча себе под нос. И вдруг в дверь номера постучали… Крупская тут же сорвалась со своего места и, подбежав к двери, срывающимся голосом спросила: «Кто там?». Но вместо «откройте полиция», или «вам телеграмма…» с той стороны двери с грузинским акцентом ответили: «Товарищ Крупская, это я, товарищ Коба. Мне необходимо срочно переговорить с товарищем Лениным…».
– Коба?! – машинально переспросил моментально остановившийся Ильич и тут же предвкушающе потер руки. – Впусти его, Наденька, он-то мне и нужен…
Это действительно оказался товарищ Коба, собственной персоной; когда Крупская на мгновение приоткрыла дверь, он ужом проскользнул внутрь. Но – ради Карла Маркса и Фридриха Энгельса – на кого он был похож! В первое мгновение Ильич его даже не узнал. На Кобе был щегольский светло-серый летний костюм, шляпа того же цвета, начищенные до блеска штиблеты, а в руке он сжимал трость полированного дерева с удобной рукоятью. И даже его вечная небритость сейчас имела вид короткой аккуратной бородки. Ну, чисто аристократ, щеголь, выбравшийся на вечернюю прогулку по Невскому проспекту…
– Добрый вечер, товарищ Ленин, – сказал он, едва увидав Ильича, – у меня к вам есть очень важный разговор.
– Разумеется, Коба, – кивнул немного ошарашенный этим явлением Ильич, – нам действительно требуется поговорить, но прежде ты должен мне многое объяснить. В первую очередь – как ты, сидящий в Петропавловке, можешь свободно разгуливать по городу, да еще и в таком виде? Ты бежал, да?! Но ведь бежать из Петропавловки невозможно… Кто тебе помог?
– Не все вопросы сразу, товарищ Ленин, – сказал Коба, – Я не бежал из Петропавловской крепости, на самом деле все значительно проще и одновременно сложнее…
– Таак… – протянул Ильич, презрительно прищуриваясь, – значит, ты, Коба, пошел на сотрудничество с этой новой охранкой и стал провокатором…
– Ни в коем случае, товарищ Ленин! – взвился Коба, глаза его возмущенно сверкнули. – Я не предавал и не буду предавать наших товарищей! И также я не изменил и не изменю нашим идеалам! Это исключено, да и такого от меня никто не требует. Я поклялся перед своей совестью бороться за общество всеобщей справедливости – и я продолжу за него бороться, так или иначе.
– И бороться за эту справедливость ты собираешься вместе с господином Одинцовым? – с оттенком ехидства спросил Ильич.
– Вместе с ТОВАРИЩЕМ Одинцовым, – поправил Ильича Коба. – И вообще, товарищ Ленин, зачем вы так ехидничаете, если сами подписали с товарищем Одинцовым соглашение о сотрудничестве в качестве министра Труда?
– Подписал, не буду врать, – пробурчал Ильич, – а вот сейчас думаю, не зря ли я это сделал, ибо мне не нравится идея укреплять царский режим, заигрывая с рабочими вместо подготовки его полного разрушения…
– Все это ерунда! – отмахнулся Коба. – Один царский режим отличается от другого так же сильно, как и многочисленные большевистские режимы пока неосуществленного будущего. Режим императора Николая Второго действительно стоило снести. Единственное, в чем я с вами бы разошелся в таком случае – это то, что я предпочел бы сохранить основу русского государства, а вы разнесли бы его вдребезги, чтобы из щебня на руинах попытаться построить что-то свое. Но, как сказал товарищ Одинцов, это занятие дурацкое, поскольку на руинах Российской империи из ее обломков ничего, кроме ее подобия, построить не получится. Моисей не зря сорок лет гонял евреев по пустыне – иначе у него не получилось бы вычеркнуть из их голов образ Египта фараонов. У нас такой возможности нет, да и не нужно это. Люди должны помнить, из какого мрака мы их вывели, чтобы направить к свету и счастливому будущему. Что же касается режима императрицы Ольги и канцлера Одинцова, то есть мнение, что его снос не приблизит, а отдалит вожделенный социализм. Тем более что снести этот режим нам, скорее всего, не дадут. Да и глупо это – все равно что ломиться в открытую дверь.
– И вы, Коба, – спросил Ильич, – верите, что товарищ Одинцов и иже с ним действительно хотят построить эдакий монархический социализм? Мне что-то сомнительно, не говоря уже о том, что такой диковинный зверь окажется полностью нежизнеспособным.
– Вы ошибаетесь, – ответил Коба, – жизнеспособность такого зверя зависит только от жизнеспособности того монарха, который поставил себе такую цель. Ольга Александровна – девушка молодая, она способна надолго пережить нас с вами; а ее команда обеспечит сохранение курса на социализм. Не забывайте, что вся нынешняя верхушка в Российской империи либо прямо происходит из мира будущего, либо находится под непосредственным влиянием этих людей. Они знают, что происходило в начале того пути к социализму, какое было в ваши времена, им известна и эпоха товарища Сталина, а также правление Хрущева, Брежнева и Горбачева (если вам знакомы такие фамилии). Они знают все допущенные нами ошибки, а также то, как их можно исправить…
– Хорошо-хорошо! – замахал руками Ильич, – допустим, что это и в самом деле так, и товарищ Одинцов и компания нам действительно товарищи, которые стремятся к построению странной формы социализма…
– Ничего странного в их идеях нет, – сказал Коба, – ведь любая действующая и дееспособная организация – это тоже своего рода маленькая монархия. Даже у нас в партии большевиков всегда должен быть кто-то, кто будет руководить и направлять Центральный комитет, чтобы тот не забрел в дебри и не наломал дров. В настоящий момент этот человек – вы, товарищ Ленин, ведь без вашего руководства партия тут же выродится в кондовый травоядный меньшевизм… Как мне сказал товарищ Одинцов, нашим меньшевикам можно поручить только одно дело – стоять на огороде и пугать своим видом ворон, ибо любой другой вопрос они тут же заболтают до смерти.
– Ну что же, – хмыкнул Ленин, – это хорошо, что товарищ Одинцов тоже не любит пустопорожних болтунов. И, кстати, товарищ Коба, какую работу он поручил вам?
– Для начала, – сказал Коба, – мне предложили наладить выпуск двух газет. Одной легальной – социал-демократического толка, и одной нелегальной – с чисто большевистской направленностью…
– Так, – удивленно произнес ошарашенный Ленин, – а нелегальная газета товарищу Одинцову еще зачем?
– Запретный плод сладок, – сказал Коба, – к тому же деятельность господина Победоносцева по зажиму цензурных гаек привела к тому, что никто не верит легальным изданиям, которые напропалую врут под давлением цензуры. А вот если газета нелегальная, то в ней непременно напишут самую настоящую правду. По мнению товарища Одинцова, легальная газета должна называться «Известия», а нелегальная – «Правда», и при этом «Правда» должна быть чуть острее «Известий», но вот именно что чуть… и если мы не будем нарушать некоторых простых правил, то типографию и редакцию нелегальной никто не будет разыскивать…
– Так уж и никто, товарищ Коба? – усомнился Ленин.
– Вам товарищ Баев американский анекдот про неуловимого ковбоя Джо рассказывал? – вопросом на вопрос ответил Коба, и Ленин кивнул. – Так вот – мы будем, как этот ковбой, делать вид, что старательно прячемся, притом что нас никто не будет искать. Товарищ Мартынов лично дал мне гарантию…
– Ну ладно, – махнул рукой Ленин, – я уже все понял, хотя идея монархического социализма не укладывается у меня в голове.
– На самом деле, – пожал плечами Коба, – социалистическая монархия по своему устройству ничуть не менее вероятна, чем социалистическая республика. Тут все зависит от личности монарха и его окружения, насколько стойко они придерживаются социалистических идеалов. Но это только в первом поколении. Во втором и последующих поколениях возникает проблема, свойственная любой монархии. Старший, или, может быть, даже единственный, наследник может оказать непригодным к управлению государством. Но это опять же проблема любой монархии. Впрочем, негодный преемник может оказаться при власти и при исполнении всех догм демократического централизма. Не знаю, насколько хорошо вы посвящены в историю будущего, но там при каждой передаче власти с каждым новым руководителем партии и правительства живые правила партийной жизни превращались в закостеневшие догмы, качество международной дипломатии постоянно падало, как и качество управления внутренними процессами, а последние финансовые резервы растрачивались на политические авантюры…
– Эту тайну, – мрачно кивнул Ленин, – передо мной раскрыли. Если бы не она, я бы еще потрепыхался, несмотря ни на какие угрозы. Но, знаете, Коба, вот смотрю я на этого человека… не хочу ему верить, а сам знаю, что он не врет. Не врет – и все, и поэтому так оно и было. Или почти так, поскольку историки тоже могли немного приврать, излагая ход событий… Но ведь страшный же соблазн – попробовать все сделать заново, лучше и точнее, когда нам открыты все карты, а штаб врага уже захвачен нашими людьми…
– Да, товарищ Ленин, – сказал Коба, – тот, кто нам раньше мешал, тот нам и поможет. Товарищ Одинцов обещает. Но сейчас главное – составить список товарищей, которые смогут помочь нам на различных государственных и общественных постах. Если из них кто-то сидит по тюрьмам, каторгам и ссылкам, то нужно обратиться к товарищу Мартынову. Он обещал помочь в максимально короткие сроки доставить всех в Петербург и освободить.
[27 августа 1904 года, полдень. Санкт-Петербург, Зимний дворец, кабинет Канцлера Российской Империи.]
Два дня спустя после разговора Одинцова с Лениным в том же кабинете собрались почти те же люди. Большевиков представляли Ленин, Коба, Красин и сочувствующий Савва Морозов, а власти Российской империи – соответственно, канцлер Одинцов и замначальника Службы Имперской Безопасности полковник Мартынов. Императрица и ее супруг на этой встрече отсутствовали. Полковник Новиков, которому вся эта политика была не по профилю, занимался боевой подготовкой со своей бригадой. В то же время императрица Ольга вместе с вдовствующей императрицей Марией Федоровной и в сопровождении статс-дамы Дарьи Михайловны Одинцовой инспектировала Смольный институт, вызывая своим прибытием приступы тихой паники у тамошнего начальства и такой же тихий восторг у девиц-пансионерок. Да, кстати, к Дарье Михайловне вдовствующая императрица отнеслась значительно теплее, чем к Новикову и Одинцову, полностью одобрив дружбу младшей дочери с этой пришелицей из будущего, имеющей несвойственный обычным дамам офицерский чин.
Итак, после того как в головах улеглись страсти и осели мысли, канцлер Одинцов еще раз официально пригласил к себе актив большевиков для откровенного разговора о том, кому на Руси жить хорошо и как дальше взаимодействовать власти и большевикам – через ведомство товарища Мартынова (вот он стоит), или напрямую. И мизансцена на этот раз в кабинете была совсем другой: туда наконец доставили длинный стол для совещаний, приставив его торцом к столу хозяина кабинета – так, что получилась буква «Т». Вдоль этого стола гости и расселись, причем полковник Мартынов в своем устрашающем черном мундире очутился по одну сторону, а большевики и сочувствующие уселись по другую, как бы непроизвольно дистанцируясь от этого палача и держиморды. Канцлер Одинцов только усмехнулся, глядя, как товарищи большевики и сочувствующие непроизвольно стараются держаться подальше от пугающего их человека в черной форме.
– Итак, – сказал он, открывая толковище, – тем, кто не знает, для начала хочу представить Евгения Петровича Мартынова, полковника имперской безопасности, который у себя на службе занят тем, что помогает разным грешникам покаяться за их прегрешения.
– Товагищ Одинцов, – картавя чуть больше обычного, заявил Ильич, – зачем тут этот человек? Неужели вы думаете, что мы не поняли всех ваших уггоз и посулов, и без пгиставленного к голове пистолета не способны пгодуктивно габотать?
– Нет, товарищ Ленин, – усмехнувшись, ответил канцлер, – я так не думаю. Евгений Петрович необходим во время этого обсуждения. Во-первых – потому, что он, так же как и я, сочувствует всем вашим устремлениям, за исключением низвержения самодержавия Романовых и полного разрушения государства. Во-вторых – из-за того, что крупная буржуазия и ее прихвостни так просто вашим инспекторам не сдадутся. Тут будут и попытки подкупа, и угрозы, и, возможно, даже убийства. Вы не хуже меня знаете, как звереет капитал, когда думает, что хоть что-то угрожает его прибылям. Так вот – поскольку это озверение несет угрозу безопасности империи, в задачу службы имперской безопасности (а если конкретно, то подчиненных господина Мартынова) входит приведение озверевших к общему знаменателю. Это когда они, несчастные, выбритые на полголовы, звеня кандалами, на десять лет отправятся в далекую страшную Сибирь, а все их имущество будет конфисковано в доход государства. Ну и ваши инспектора, конечно. О них тоже требуется позаботиться подобным образом, точнее о тех из них, которые возьмут у хозяев заводов, газет, пароходов на лапу и не доложат об этом по начальству… Думаю, что несколько подобных случаев того и другого рода, широчайшим образом распубликованные в прессе, приведут к тому, что ваша система по охране прав трудящихся заработает как швейцарские часы…
– Да… – покачал головой Ильич, – жестокий вы человек, товарищ Одинцов, а еще меня и моего брата обзывали мерзавцами. Невинных буржуа, нежных, как хорошо откормленные каплуны – и сразу на каторгу…
– «Невинный буржуа», уважаемый Владимир Ильич, – под общие смешки произнес полковник Мартынов, – это такой же оксюморон, как «жареный лед». Работая над расчисткой военных заказов от казнокрадов и коррупционеров, сколько таких «невинных» буржуа мы уже пропустили через свою мясорубку, отправив по дальнему этапу на Сахалин! И вот ведь что интересно – у каждого из этих «невинных» к рукам прилипли государственные деньги, которые по копеечке были собраны с нашего и так не богатого народа. Думаю, что и ваши клиенты так же никуда от нас не денутся. Воровать у собственных рабочих так же нехорошо, как и воровать у государства.
– Гм, товарищ Мартынов, – недоверчиво произнес Ильич, – неужели вы пойдете против представителей своего класса и будете сажать их в тюрьму только для того, чтобы защитить рабочих от разных несправедливостей?
– А почему нет? – пожал плечами Мартынов, – к моему служилому сословию – заметьте, сословию, а не классу – принадлежат только люди, которые верой и правдой служат Отечеству и Государю. Своими мы признаем тех, кто водит в атаку полки и корпит над делами в присутствиях, а также классово близких нам сельских учителей и земских врачей, которые изо всех сил бьются против опутавших Россию всяческих неустройств. С владельцами заводов, газет, пароходов у меня и моих товарищей нет ничего общего. Любой из нас, кто спутает частный интерес с государственным, немедленно будет уволен со службы, после чего на общих основаниях отдан под трибунал.
– Ладно-ладно, – замахал руками Ильич, – мы вас поняли и надеемся, что вы действительно будете так безжалостны с нашими общими врагами, как обещаете. Но я до сих пор не понимаю – ЗАЧЕМ ВАМ ВСЕ ЭТО?! Ведь вы и так достигли всего, о чем только может мечтать человек. Один из вас получил царицу в жены, другие стали подле трона так плотно, что не пробиться, третьи из нижних чинов одним махом выбились в господа офицеры… Зачем при всем этом вам еще и социалистическая революция, улучшение условий жизни рабочего класса и крестьянства и прочий социальный прогресс? И самое главное – зачем это императрице, которая в шелках родилась и в дворцах среди серебра-золота росла?
– Вас, товарищ Ленин, – хмыкнул полковник Мартынов, – мама тоже не в хлеву на соломе рожала. И присутствующий тут Савва Тимофеевич тоже не из босяков произошел. Морозовы – это, как-никак, одна из богатейших купеческих фамилий. Если у человека есть совесть, то, вне зависимости от происхождения, при виде несправедливости она гонит его на баррикады. Правда, эти люди с горящей совестью не всегда знают, что им делать, и поэтому пускаются во все тяжкие, – но это не наш случай. Мы знаем, что и как нужно делать для устранения этой несправедливости, и, кроме того, нам обидно за державу, а значит, мы не будем взрывать все до основания, чтобы потом кто-то и что-то построил на руинах, а вместо того медленно и планомерно станем прогибать этот несовершенный и неподатливый мир под себя. И матушка-императрица Ольга Александровна, и ее брат Михаил были как раз из тех, у которых совесть горит, а что в таком случае следует делать, они не знают. Мы поделились с ними своими знаниями и опытом, ну а дальнейшее вы уже знаете. И если кто-то думает, что главным было взять власть, то он жестоко ошибается. Главное у нас еще впереди…
После этих слов полковника Мартынова товарищи Коба и Красин, а также Савва Морозов, видимо, найдя в них нечто созвучное собственным мыслям, немного вразнобой кивнули, но вот Ильич не получил от этих объяснений полного удовлетворения. Пожав плечами, он снова кинулся в бой.
– И все-таки, товарищ Одинцов, – сказал он, – я совершенно не понимаю, как вам удалось уговорить императрицу Ольгу на ваш крайне безумный имперско-социалистический проект. Ее брат Николай, как и прочие члены этой семейки, был совершенно глух к народным страданиям и все на стоны умирающих от голода мужиков он обращал не больше внимания, чем на зудение лесных комаров. Посланные им люди специально гноили миллионы пудов зерна, собранных разными доброхотами из прогрессивной общественности, в то время как в голодающих от недорода губерниях мужики мерли как мухи.
На эти слова глухо, как эхо из бочки, отозвался полковник Мартынов.
– Полковник Вендрих, – сказал он, – который, как вы выразились, специально сгноил предназначенное для голодающих зерно, уже арестован нашей службой и дал признательные показания. Только судить его можно лишь за преступную халатность, а еще за врожденное слабоумие и самонадеянность, но уложение о наказаниях пока не предусматривает воздаяние за эти преступления. Единственное, что мы можем рекомендовать Ее Императорскому Величеству – это уволить этого человека со службы без мундира и пенсии, с запрещением жить в столичных и губернских городах…
– Но все же, – упрямо набычился Ильич, – вы так и не сказали, почему вы считаете, что абсолютно все ваши планы найдут поддержку у правящей царской камарильи? Ведь невозможно же представить, чтобы дочь царя-угнетателя, жестокого ретрограда и держиморды, всерьез решила установить в своей вотчине социализм…
– Был бы здесь товарищ Новиков, – вздохнул полковник Мартынов, – быть бы вам за камарилью спущенным с лестницы, после чего нам пришлось бы искать другого министра труда.
– Да, – подтвердил канцлер Одинцов, – спустил бы. Вы, товарищ Ленин, совершенно замучили нас вашим хроническим недоверием. Во-первых – Ольга Александровна в полной мере наделена человеческой христианской жалостью ко всем сирым, убогим, страдающим и мучающимся. И это уже немаловажно. Во-вторых – на принятое императрицей решение влияет то, что от нас ей уже стало известно о предстоящей лет через десять великой мировой войне… И вы, товарищи, тоже должны знать, что грядущая война охватит всю Европу, от края до края, и будет очень затяжной и кровопролитной.
– Знаю-знаю, – замахал руками Ильич, – читал в ваших книжках. Но я думал, что это был случайный исторический момент, который вполне возможно предотвратить со всеми вашими знаниями и талантами.
– Предотвратить детерминированное событие такой силы, – ответил Одинцов, – не хватит никаких знаний и талантов. Ведь вы же сами не далее трех-четырех месяцев назад писали работу, в которой с точки зрения марксизма обосновывали неизбежность мировых экономических кризисов. Но, кроме экономики, резкие и непредсказуемые флуктуации могут сотрясать и политику. В настоящий момент сложилось такое положение, что мир уже поделен – до последнего мало-мальски пригодного к жизни клочка земли. И поэтому для повышения нормы прибыли западным корпорациям необходим передел рынков сбыта и источников сырья. Неважно, где прогремят первые выстрелы и какая страна станет жертвой агрессии, потому что возникший будто на ровном месте очередной экономический кризис обернется вдруг жесточайшей войной, перед которой померкнут наполеоновские походы… Потом историки будут писать, что в какой-то момент Европу охватило какое-то безумие. И русские во всем этом непременно будут играть одну из главных ролей.
– Ах ты! – Ильич хлопнул себя ладонью по лбу. – Да как я сразу не додумался. И ведь в самом деле – если у капиталиста в погоне за прибылями заканчиваются иные аргументы, то он непременно прибегает к вооруженному насилию. Это единственный его инструмент в ситуациях, когда конкурента нельзя ни подкупить, ни разорить….
– Вот именно, товарищ Ленин, – подтвердил канцлер Одинцов, – при этом не исключено, что за нашу победу над Японией нам придется заплатить войной с общеевропейской коалицией. То есть мы должны держать в уме такой сценарий, при котором страны Европы не передерутся между собой, а, объединившись в Альянс, попрут на восток. Случится это или нет, но нам необходимо увеличивать свою военную и промышленную мощь, а наш народ в подавляющем большинстве должен жить настолько хорошо, насколько это возможно, чтобы при первом же зове военной трубы броситься к оружию, чтобы защитить все то, что дало ему наше государство. А такую военно-промышленную мощь и поддержку народа способен дать государству только социализм. И лишь социализм способен вывести Россию в число первых мировых держав. В противном случае, если мы не сумеем сделать всего задуманного, российское государство, скорее всего, навсегда прекратит свое существование.
– Да вы, батенька, фантазер, – вздохнул Ильич. – Построить социализм в отсталом государстве всего за десять лет – это какое-то прожектерство и неумная маниловщина. В России условия для перехода к социализму не созрели, и не созреют еще множество лет. Сперва социализм должен овладеть развитой в промышленном отношении Европой, и только потом она должна разнести его по всему свету.
– Нечто подобное, – сказал Одинцов, – получилось у присутствующего здесь товарища Кобы, когда он, в нашем прошлом в ипостаси товарища Сталина, взялся доделывать-переделывать начатое вами. И именно тогда он сказал фразу «или мы за десять лет сумеем проделать путь, для которого Европе потребовались сто лет, или нас сожрут». Фора оказалась немного большей – тринадцать лет, и не все удалось сделать, а то, что было сделано, не все получилось так как надо; но все же тогда мы в той войне победили и сумели отвоевать половину Европы. Теперь в случае нападения объединенных европейских армий нам будет нужна ВСЯ Европа, до самого Атлантического побережья. Во-первых – это необходимо, чтобы оттуда на русскую землю больше никогда не приходила война. Во-вторых – чтобы распространить по европейским странам нашу социалистическую идею. Но для этого все мы, а не только мужики на полях и рабочие в цехах, должны напрячь силы и навалиться на работу со всей дури, ломая сопротивление косной и отжившей свое системы. Вот и вся задача, ради которой императрица Ольга и Великий князь Михаил впрягутся в работу с такой же яростью, как и присутствующие здесь большевики.
После слов канцлера наступила тишина. Потом со своего стула встал товарищ Коба и тихо сказал:
– Я согласен, товарищ Одинцов, и вы можете располагать мною по своему усмотрению, чтобы ни говорили некоторые товарищи. Задача, которую вы поставили перед собой, достойна каждого настоящего большевика, и я надеюсь, что оправдаю оказанное вами доверие.
– Садитесь, товарищ Коба, – кивнул Одинцов, – благодарю за поддержку, хотя, сказать честно, я не ожидал от вас ничего иного. Теперь вы, товарищ Красин, скажите – вы пойдете с нами или вильнете в кусты?
– Я с вами, товарищ Одинцов, – угрюмо произнес Красин, – я считаю, что в такой ситуации глупо ломаться и строить из себя невинную гимназистку. Если ваше правительство действительно по-настоящему будет бороться за права рабочего класса, то мы, большевики, тоже не должны стоять в стороне. В противном случае зачем, простите, мы вообще нужны людям. Так что я с вами, товарищи, считайте меня своим солдатом.
– Тогда, – Одинцов перевел взгляд на Савву Морозова, – осталось узнать мнение товарища сочувствующего. Не передумал ли он и не отказался ли от должности министра экономического развития. Ведь это будет адов труд – перевести российскую экономику на рельсы непрерывного экономического развития, чтобы каждый день ставились новые рекорды: выше, дальше, быстрее; и чтобы прибыли от заводов-гигантов шли на государственное и народное благо, а не оседали в карманах заграничных толстосумов…
– Я своего мнения не изменил, – ответил Савва Морозов, – и чем тяжелее будет тот труд, тем он мне интереснее. Просто набивать мошну деньгами мне давно наскучило, теперь хочется чего-то такого эдакого, чтобы от масштабов кружилась голова и чтобы потом показать детям и с гордостью сказать, что это сделал их отец. Но только у меня одна просьба: не заставлять изменять вере отцов. Родился Савва Морозов в древлеправославной вере, таким он и помрет.
– Да Господь с вами, Савва Тимофеевич, – махнул рукой Одинцов, – то, как вы молитесь Богу, есть исключительно ваше личное дело. Вон и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний считает, что из закона следует исключить фразу о господствующей православной церкви, ибо господство – это не христианская идея. Вы только своей верой никому в нос не тыкайте, как делают это некоторые полоумные – и никто вам за нее даже и не вспомнит.
– Благодарствую, Павел Павлович, – кивнул Морозов, – в таком случае мною вы тоже можете располагать по своему усмотрению.
И вот тут со своего места вскочил Ильич…
– А почему вы, товарищ Одинцов, – картавя, выкрикнул он, фирменным жестом заложив пальцы за проймы жилета, – не задали подобного вопроса мне: хочу я с вами сотгудничать или нет? Это что, понимаешь, за дискриминация; или мое мнение для вас уже ничего не значит?!
– Никакой дискриминации, товарищ Ленин, – угрюмо ответил Одинцов, – во-первых – вы уже подписали бумагу, изъявив желание сотрудничать с нами, невзирая ни на какие обстоятельства, а во-вторых – я же вижу, что вы согласны целиком и полностью, ибо другого способа продолжить политическую деятельность у вас нет и не будет.
– Да, я согласен, – кивнул немного успокоившийся Ильич, – будет даже интересно посмотреть, как вы справитесь с эдакими Авгиевыми конюшнями. Да сама задача тоже не тривиальна; старик Маркс, услышав о таком, наверное, перевернется в гробу.
– Старик Маркс, – сказал Одинцов, – и без того от ваших с товарищем Кобой идей должен вертеться в гробу будто пропеллер. Чего стоит одна только социалистическая революция в самой слаборазвитой стране Европы (то есть России), и построение там же социализма, минуя неосуществимую стадию мировой революции. Но давайте оставим старика в покое, а мы уж тут как-нибудь сами, без него. Все равно за все хорошее и все плохое судить нас будут исключительно будущие поколения, а не те, кто уже давно лежит в земле.
– Согласен, товарищ Одинцов, – сказал Ильич садясь на свое место. – Маркс Марксом, но, в любом случае, насущные задачи решать именно нам.
– Что ж, тогда, – сказал Одинцов, доставая из стола пачку бумаг, – вот подписанные государыней указы о ваших назначениях и об амнистии для находящихся в заключении большевиков, списки которых товарищи Коба, Красин и Ленин подавали товарищу Мартынову. Итак, цели определены, задачи поставлены, а теперь нужно браться за работу. Как говорит наш друг Джек Лондон – время не ждет.
Все уже выходили из кабинета, когда полковник Мартынов чуть придержал за локоток товарища Красина.
– Леонид Борисович, – тихо сказал он, – завтра около полудня загляните к нам в Петропавловку. Есть один вопрос, который необходимо срочно решить при участии кого-нибудь из вас, высокопоставленных большевиков. Ну а поскольку товарищи Ленин и Коба в ближайшее время будут заняты, то я прошу именно вас принять в этом деле посильное участие…
– Хорошо, Евгений Петрович, – после некоторых раздумий сказал Красин, – завтра около полудня я буду в вашей юдоли скорбей. Кого мне там спросить?
– Спрашивайте меня, – ответил полковник Мартынов, – пропуск на вас мы подготовим заранее, и думаю, что много времени это дело у вас не займет.
[28 августа 1904 года, 12:05. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, кабинет замначальника СИБ Подполковник СИБ Евгений Петрович Мартынов и товарищ Красин.]
Проблем у товарища Красина при проникновении в новую Тайную Канцелярию не возникло. При входе он назвал часовому свое имя и цель визита; ему тут же выделили сопровождающего и повели в Святая Святых. Правда, никаких кругов ада по дороге он не увидел. Все было чистенько, цивильно и культурно, за исключением разве что обнаженных по пояс мускулистых солдат и унтеров, занимавшихся неким подобием смеси гимнастики и штыкового боя во дворе Алексеевского равелина. Красин знал, что эти ребята, бойцы штурмовых групп СИБ, свирепые и неудержимые, стали у почтеннейшей публики уже притчей во языцех. Не было такого кровавого дела, в котором не принимали бы участие эти головорезы.
Правда, в связи с оскудением поголовья эсеров, анархистов и прочих башибузуков от революции штурмгруппы СИБ в последнее время все больше привлекали для штурма бандитских малин и подпольных борделей, уничтожаемых в рамках зачистки столицы от организованной преступности. В таких делах штурмовикам дозволялось не церемониться и не особо заботиться о сохранности зачищаемых для дальнейшего суда. Любое, даже малейшее, сопротивление могло стать основанием для летального исхода. Трупы работников ножа и топора после таких зачисток считали десятками, а выживших и лишь покалеченных, напротив, было великое множество. Поговаривали, что это потому, что сии головорезы следовали приказу «Пленных не брать». Заметки на эту тему то и дело публиковались в разделах уголовной хроники питерских газет. Мол, банда Васьки Косого или Федьки Хромого была полностью перебита штурмовиками СИБ, привлеченными в качестве силовой поддержки к операции уголовного сыска по зачистке злачных мест – так что отныне петербургские обыватели могут спать спокойно. Никто их не зарежет, никто их не задушит, не ограбит и не изнасилует, а вскоре и вовсе в столице настанет такая тишь да гладь, да божья благодать, что девственница с мешком золота сможет обойти весь Санкт-Петербург по окраинам, и ничего с ней не случится.
Впрочем, двор Алексеевского равелина вместе с упражняющимися на нем солдатами быстро остался позади, и вскоре Красина уже вводили в дверь кабинета полковника Мартынова. Сопровождавший его унтер, откозыряв, удалился прочь, и Красин остался наедине с одним из главных держиморд Российской империи.
– Здравствуйте, Леонид Борисович, – радушно поприветствовал Красина Мартынов, – очень рад вас видеть.
– И вам тоже здравствовать, Евгений Петрович, – ответил Красин, – я с нетерпением жду, когда вы наконец расскажете о том деле, ради которого я был зван в эту юдоль скорбей.
– Знаете, Леонид Борисович, – несколько замялся Мартынов, – тут вопрос не совсем простой. Мой нынешний начальник (я имею в виду господина Зубатова) в своей прежней жизни, то есть до опалы, сделал одну большую глупость, и эту глупость зовут Георгий Гапон…
– Погодите-погодите, Евгений Петрович… – задумчиво произнес Красин, – это вы имеете в виду не петербургское собрание фабрично-заводских рабочих, организованное господином Зубатовым и врученное для управления некоему попу Гапону?
– Да, – кивнул Мартынов, – это так. Действительно, до последнего времени Георгий Гапон являлся руководителем этого рабочего собрания…
– Тогда я ничего не понимаю, – пожал плечами Красин, – а я тут причем?
– Видите ли, Леонид Борисович, – полковник Мартынов задумчиво покрутил пальцем в воздухе, – мы взяли этого персонажа, когда под корень вырубали эсеровскую боевку. Имя Пинхаса Рутенберга вам о чем-нибудь говорит? То-то же… мерзавец первостатейный. Поп Гапон сдал эсерам свою организацию так же, как сдают комнату временным жильцам, при этом оставаясь на связи с департаментом полиции. Ничтожное, самонадеянное существо, с детства мечтавшее оседлать беса и слетать на нем в Иерусалим. Вы знаете, там, у нас в будущем, имя Гапон стало синонимом Иуды. Только Иуда предал на смерть одного человека, а Гапон обрек на гибель сотни, а может быть, и тысячи доверившихся ему рабочих, подставив их под расстрел…
– Погодите, Евгений Петрович, – не понял Красин, – под какой расстрел, о чем вы говорите?
– Под простой, – хмыкнул Мартынов, – там, в нашем прошлом, девятого января следующего тысяча девятьсот пятого года, священник Георгий Гапон вывел на многотысячную манифестацию членов своего собрания под предлогом подачи царю Николаю народной петиции с экономическими и политическими требованиями, о чем изначально был предупрежден как петербургский градоначальник, так полицейские чины. По замыслу Гапона, царь самолично должен был принять петицию из его рук, при этом его друзья эсеры, намеревавшиеся сопровождать Гапона, собирались застрелить самодержца из своих браунингов. Помимо этого, петиция была составлена в таких выражениях, будто это не петиция, а ультиматум от победившего народа почти свергнутому царю, осажденному в своей последней цитадели. О первом власти были осведомлены от полицейских агентов-провокаторов, а о втором их известил сам Гапон, подав градоначальнику копию сего документа. Поэтому испугавшийся, как писали историки, царь и вовсе уехал из Петербурга, спрятавшись от неприятностей в Царском селе, а столицу наводнили выведенные на улицы войска. Командовать парадом, то есть поддерживать порядок в столице, остался Великий князь Владимир Александрович – гурман, эстет и сноб, презирающий простонародье, недостойное дышать с ним одним воздухом. В результате солдат гарнизона заранее выгнали из теплых казарм на мороз, и они там стояли, переминаясь с ноги на ногу, несколько часов, голодные и промерзшие, проклинающие проклятых мятежников. В результате, когда к вечеру к Дворцовой площади подошли манифестанты и не подчинились требованию разойтись, эти солдаты по команде офицеров без малейших раздумий открыли по народу огонь боевыми патронами. Потом этот день назовут Кровавым воскресеньем и началом первой русской революции. Впрочем, несмотря на большое количество убитых и раненых, Георгий Гапон от пули солдат ускользнул. Мавр сделал свое дело, мавр может уйти… Умер он несколькими годами позже, от рук своих друзей-эсеров, когда им пришлось заметать следы своих связей с департаментом полиции. Достоверно известно, что эсеры устраняли в основном тех высокопоставленных чиновников, которые чем-то мешали заговорщикам – например, отличаясь неумеренной личной преданностью правящему монарху…
Дослушав до этого момента, Красин сначала длинно и грязно выругался, а потом сказал:
– Действительно, если все так и было, то этот ваш Гапон – провокатор и мерзавец, каких еще свет не видывал. Но скажите – зачем все это было нужно революционерам и, самое главное, властям?
Полковник Мартынов, пожав плечами, ответил:
– Как ни странно, факт в том, что своей цели добились обе стороны. Революционерам, в основном эсерам, затеявшим эту манифестацию, нужен был кровавый повод для десакрализации царя и начала массовых революционных выступлений, а Великому князю Владимиру Александровичу требовалось припугнуть своего племянника-царя грозящим тому ужасным народным бунтом, одновременно запугав народ винтовочными залпами послушной ему гвардии. Эсеры справились с обеими своими задачами, инициировав революцию и сильно поколебав сусальный облик царя-батюшки, а вот Великий князь Владимир Александрович сумел запугать только монарха, ибо народ бушевал и сопротивлялся еще два года. Тут надо заметить, что и иудеи-эсеры (вроде того же Пинхаса Рутенберга), и великокняжеская камарилья страшно чужды русскому народу, который они обрекли на жертву, а потому не видят в нем живых людей, таких же, как и они сами. Правда, и нам тоже обе стороны одинаково мерзки. Бывшего Великого князя Владимира Александровича, как не подлежащего обычному суду, государыня-императрица самолично лишила всех прав состояния и засунула в самый дальний и пыльный угол Империи, остальные же участники той несостоявшейся в этом мире драмы находятся здесь, в соседних апартаментах Трубецкого бастиона. Бывший директор департамента полиции Лопухин попал сюда за соучастие в заговоре Владимировичей, Пинхас Рутенберг сидит у нас как видный эсер и руководитель террористической ячейки, а вот попа Гапона мои люди сцапали, можно сказать, нечаянно, как раз за связь с этими самыми эсерами. Что ж поделать, если почти все наши сотрудники являются чистыми исполнителями и не посвящены в тайны такого уровня…
– Евгений Петрович, – тихо спросил Красин, – скажите, а с какой целью вы обо всех этих тайнах рассказываете лично мне? Я, конечно, польщен, но все же нахожусь в некотором недоумении, какое отношение я имею к господину Гапону. Вы что, строите на меня в этом направлении какие-то планы?
– В некотором роде да, – ответил полковник Мартынов, – сам Гапон нам не сдался ни в каком виде, и в самое ближайшее время мы с господином Зубатовым или отправим его по этапу на стройки Сахалина, или сунем головой в крематорий, предварительно проделав в этой голове дырку. Каким будет конец этого человека, лично мне без разницы, настолько он мне противен. Но от него осталось, можно сказать, осиротевшее Собрание фабрично-заводских рабочих, и кто-то должен будет подобрать, обогреть и обиходить сироту, которая включает в себя несколько десятков тысяч человек. Так вот мы с Павлом Павловичем хотим, чтобы этим кем-то были именно вы…
– Ого, – присвистнул Красин, – масштаб, однако. Скажите, Евгений Петрович, а это обязательно должен быть я, а не кто-нибудь другой?
– А кто еще? – удивился полковник Мартынов. – Товарищу Ленину некогда, ему на пустом месте еще целое министерство организовывать. Сказать честно, это адский труд, да и уровень руководства таким вот профсоюзом он уже перерос. Товарищ Коба тоже занят – наши хотят, чтобы вдобавок к своей Семинарии он еще закончил Петербургский университет (разумеется, экстерном), и теперь ближайшие пару лет он сможет отвлекаться только на краткосрочные акции. Из известных нам деятелей вашей партии остаетесь только вы. Кроме того, Леонид Борисович, я и не знал, что у вас, большевиков, принято манкировать партийными поручениями. Мне почему-то казалось, что исполнительская дисциплина у вас все же на высоте…
– Евгений Петрович, – удивленно спросил Красин, – а с чего вы взяли, что вправе давать мне партийные поручения? На такое способен только ЦК нашей партии, или, в крайнем случае, товарищ Ленин…
– Вот оно как, – удивленно протянул Мартынов, – я с потрохами на блюдечке подношу вам организацию, в которой несколько десятков тысяч членов, а вы мне тут строите из себя гимназистку-недотрогу. Э, была не была; хотите, я сейчас свистну – и через полчаса товарища Ленина привезут прямо сюда на совещание по гапоновскому вопросу…
– А вот этого, Евгений Петрович, не надо, – мгновенно отреагировал Красин, – лучше я сам сегодня вечером зайду к товарищу Ленину в гостиницу и проведу с ним беседу в спокойной домашней обстановке. Обещаю, я выполню любое поручение, которое возложит на меня партия, поскольку исполнительская дисциплина у нас все же на высоте. Поэтому давайте встретимся завтра в то же время… а сейчас мне лучше идти, потому что я, наверное, сильно надоел вам своей настойчивостью.
– Разумеется, идите, – сказал Мартынов, берясь за колокольчик.
– Этого господина, – сказал он заглянувшему на звон служителю, – со всем возможным почтением вывести прочь с территории нашего богоугодного заведения…
[28 августа 1904 года, вечер. Санкт-Петербург, отель «Европа», номер снятый для семьи Ульяновых-Крупских.]
Семейство Ульяновых-Крупских доживало в отеле «Европа» последние дни. Для них уже подобрали соответствующую статусу пятикомнатную квартиру в доходном доме на Невском проспекте: супружеская спальня, столовая, библиотека, рабочий кабинет главы семейства и, кроме того, маленькая комнатка для прислуги. Прислугу в квартиру тоже уже нашли – ловкая и хлопотливая крестьянская девица Акулина (в противовес бледной, вечно унылой хозяйке, розовощекая и румяная) подрядилась исполнять обязанности кухарки, горничной, прачки и уборщицы. Наденька хотела пристроить на это место свою старенькую маму, но ей отчетливо дали понять, что такое было бы невместно. Чай, ее муж не мелкий чиновник, а целый министр Труда Российской Империи. Кстати, здание для Министерства Труда тоже подыскали довольно быстро. Императрица отдала под его размещение принадлежащий ей особняк Барятинских по адресу Сергиевская улица[22] 46–48 – она хотела избавиться от него, ибо он напоминал ей о жизни с чужим ей душой псевдомужем-мужеложцем Петром Ольденбургским. Примечательно, что в другом крыле того же здания планировалось разместить министерство экономического развития, в силу чего Савва Морозов с Владимиром Ильичом как бы оказывались соседями.
Когда Красин вошел в номер Ульяновых-Крупских, Ильич сосредоточенно читал какую-то толстую книгу, время от времени делая пером записи в толстой тетради. Уж где там Одинцов нашел ему оригинальный КЗОТ развитого социализма от семьдесят первого года – Бог весть; наверное, только на танкере «Борис Бутома», корабельная библиотека которого не обновлялась с момента спуска на воду и могла хранить и не такие раритеты. Одним словом, оторвать Ильича от увлекательного занятия было не проще, чем отобрать у голодного кота миску сметаны, поэтому, присев в сторонке, Красин терпеливо ждал. Но вот Ильич заполнил очередную страницу тетради своим стремительным почерком; теперь, чтобы перелистнуть ее, следовало подождать, пока высохнут чернила.
Вставив перо в письменный прибор, он поднял взгляд и наконец-то заметил Красина.
– Товарищ Красин? – удивленно спросил Ильич, – а вы ко мне какими судьбами? Я, знаете ли, занят, штудирую один прелюбопытнейший документ, трудовое законодательство развитого социализма – ну прямо бери и пользуйся, чтобы привести наших хозяев в чувство и заставить ходить по струночке.
– Товарищ Ленин, – сказал Красин, – вы помните, как вчера товарищ Мартынов попросил меня подойти к нему на службу, чтобы обсудить некий крайне важный вопрос?
– Помню-помню, – потер руки Ильич, – и вы сейчас пришли ко мне, чтобы рассказать, в чем там было дело?
– Да, товарищ Ленин, – кивнул Красин, – более того, товарищ Мартынов сам просил меня встретиться с вами в любое удобное для вас время и обсудить этот вопрос.
– Решительно интересно… – Ильич снова потер руки, – и какое же дело к вам было у этого нового Малюты Скуратова?
– Дело, товарищ Ленин, вот какое… – сказал Красин и принялся рассказывать историю попа Гапона в той и этой истории со всеми ее ответвлениями, разумеется, в меру собственного восприятия и понимания.
– Значит, так… – сказал Ленин, когда Красин выговорился и замолчал, – насколько я понял, полковник Мартынов арестовал всех участников истории с расстрелом рабочих из своего мира, а теперь не знает, что с ними делать?
– Да нет же, товарищ Ленин, – покачал головой Красин, – вы неправильно меня поняли. Специально за участниками той истории никто не охотился. Все они попали в застенки Петропавловки, с позволения сказать, совершенно естественным путем – кто за соучастие в попытке переворота, а кто и за причастность к эсеровской боевой организации. Дело не в них, а в оставшемся бесхозном санкт-петербургском собрании фабрично-заводских рабочих. Товарищ Мартынов при полном одобрении товарища Одинцова хочет, чтобы мы, партия большевиков, взяли эту рабочую организацию под свое крыло. Точная ее численность на сегодняшний момент неизвестна, но при этом ясно, что счет ее членов ведется на тысячи и десятки тысяч. Тем более, я узнавал – среди ближайших помощников попа Гапона в руководстве этого Собрания уже имеются наши товарищи…
– Так это же замечательно, товарищ Красин, – потер руки Ильич, – вы правильно сделали, что пришли с этим вопросом ко мне. Если наша партия в дальнейшем будет существовать в качестве легальной политической силы, то брать этот подарок господина Мартынова следует пренепременно.
– Товарищ Ленин, – с серьезным видом произнес Красин, – а если этот подарок как раз и задуман с той целью, чтобы принудить нас к этому самому легальному существованию? Вы знаете, как в Индии ловят обезьян на продажу англичанам без всяких капканов, на одну только жадность? Для этого индусы берут тыкву, прорезают в ней отверстие, чтобы внутрь пролезла только обезьянья ручка, и засыпают внутрь всяких вкусностей, вроде изюма, чищенных орехов, кусочков сушеных фруктов и прочего, до чего так охочи проказливые мартышки. Потом охотник оставляет эти тыквы на земле рядом с деревом, на котором живут обезьяны, и притворно удаляется прочь. Дальнейшее нетрудно предугадать. Мартышки слезают с дерева, видят тыквы, наполненные соблазнительной приманкой – и пытаются ее оттуда достать, но кулачок, в котором зажато вкусное, не желает пролезать в узкую дырку. Оно, это вкусное, рядом, но достать его нет никакой возможности. И в этот момент появляется охотник – и перед обезьянами встает выбор: то ли бросить все и спасаться бегством, то ли вцепиться насмерть в то, что они считают своим и, оскалив зубы, защищать это от наглого агрессора…
– Я вас понял, товарищ Красин, – кивнул Ильич, – вы считаете, что правительство может выдвинуть нам неприемлемые условия, а чтобы мы были послушны и пошли на соглашательство, начнет давить на ту нашу структуру, которая будет настолько громоздка, что ее никак не переведешь на нелегальное положение. Ведь так?
– Да, товарищ Ленин, – согласился Красин, – именно этого я и опасаюсь.
– Напрасно-напрасно! – хмыкнул Ильич, – если для того возникнет настоятельная необходимость, то ничего не помешает лучшей части нашей партии немедленно уйти в подполье, хотя и не уверен, что это поможет. Товарищ Мартынов весьма неплохо умеет ловить скользкую рыбу в мутной воде. Что же касается соглашательства, то мы уже на него пошли. Единственный пункт нашей программы, который их в этом смысле интересует – это отказ нашей партии от курса на низвержение самодержавия и построение государства рабочих и крестьян с его дальнейшим отмиранием…
Заложив пальцы за проймы жилета, Ильич несколько раз прошелся по комнате туда-сюда. Будущего вождя мирового пролетариата, что называется, несло.
– И вы знаете, товарищ Красин, – сказал он, – ознакомившись с историей мира, откуда произошли товарищи Одинцов, Мартынов, Новиков и прочие, я пришел к выводу, что Маркс серьезно ошибся, утверждая, что по мере приближения к коммунизму произойдет отмирание государства. Да-да, Маркс ошибся. По факту получается, что роль государства при справедливом устройстве общества, напротив, чрезвычайно возрастает, а требование к качеству будущих социалистических чиновников будут настолько высоки, что старые николаевские министры не пойдут с ними ни в какое сравнение. Идея с отмиранием государства – по сути, анархистская, мелкобуржуазная и крестьянская, кругозор ее ограничен маленькой сельской общиной. Возможно, Маркс имел в виду, что по мере приближению к справедливому обществу народ станет более сознателен и для исполнения принципа примата общественных интересов над частными все реже и реже придется применять государственное принуждение. Но одной только функцией принуждения своих сограждан к тому, что им не нравится делать, государство далеко не исчерпывается. Те социальные функции, что у буржуазного государства находятся в зачаточном состоянии, у государства социалистического и коммунистического должны быть развиты до максимальных размеров. Тридцать пять лет назад деятели Парижской коммуны попробовали претворить в жизнь принцип отмирания государства и замены армии вооруженным народом – и тут же вдребезги были разбиты версальцами. Вот еще одна функция государства, которую следует сохранить и даже преумножить. Поскольку ожидаемая нами Мировая Революция может произойти только в несколько этапов, разделенных значительными временными промежутками, то до полного ее завершения защита социалистических государств от попыток буржуазной реставрации (как внешней, так и внутренней) также останется насущной необходимостью, ведь весь буржуазный мир ополчится против тех, кто будет призван стать его могильщиками. И на этом фоне прятаться и уходить в подполье мы считаем совершенно нерациональным образом действий…
– Так значит, товарищ Ленин, – сказал Красин, – вы считаете, что у нас просто не возникнет потребность уходить в подполье, а потому нам непременно следует установить контроль над этим Собранием фабрично-заводских рабочих?
– Вот именно, – воскликнул Ильич, – мы пренепременно должны подчинить себе эту организацию и использовать ее в качестве нашего кадрового резерва. Если мы планируем быть легальной партией, то нынешняя численность партийных рядов и известность наших товарищей в массах совершенно недостаточна. Сейчас нас сотни, быть может, тысячи; а скоро нас будет сотни тысяч и миллионы. Наши люди должны проникнуть везде и всюду, наши идеи должны быть известны во всех кругах общества – от аристократии до беднейшего крестьянства…
Немного помолчав, Ильич подошел к столу, за которым он совсем недавно работал, и взял из стопки плотный прямоугольник беленого картона, заготовку для визитки – на нем он начертал товарищу Красину мандат, требующий, чтобы в ходе выполнения особого задания Центрального комитета ему безоговорочно подчинялись члены партии большевиков. Все; дата, подпись.
– Вот, – сказал он, помахав картонкой в воздухе, затем, вручив ее ошарашенному Красину, – ступайте и сделайте так, чтобы это Собрание в полном составе присоединилось к большевикам, потому что для этого пришло время.
[30 августа 1904 года, 11:55. Санкт-Петербург, Зимний Дворец, рабочий кабинет правящей императрицы.]
Узнав о последних назначениях, а особенно о создании министерства Труда, на аудиенцию к императрице Ольге напросился Кощей Бессмертный русской политики и злой гений трех последних императоров – обер-прокурор Синода Константин Петрович Победоносцев. До сей поры ни у канцлера Одинцова, ни у императрицы Ольги до Константина Петровича банально не доходили руки, ибо навалились другие неотложные дела. И вот он сам нарисовался – да так, что и не сотрешь. Ольга еще по старой детской памяти боялась этого человека чуть не до жути, а потому попросила присутствовать при предстоящем разговоре своего мужа. В его присутствии она всегда чувствовала себя под надежной защитой, а потому могла сосредоточиться на деле, а не на обуревающих ее страхах. Супруг, конечно, не отказал ей в этом маленьком капризе – перед визитом неприятного государыне человека он тяжелой молчаливой тенью занял свое место у окна ее кабинета. При этом императрица подумала, что теперь так будет всегда. Она будет заниматься своими императорскими делами, а за ее плечом будут маячить ощетинившиеся штыками армейские полки, которые сейчас олицетворяет ее муж. Добрым словом и паровым катком русской армии можно будет сделать гораздо больше, чем просто добрым словом.
Господин Победоносцев, когда Адель допустила его в кабинет императрицы, сразу просек приготовленную для него мизансцену. Он-то рассчитывал, оказавшись наедине с молодой девчонкой, подавить ее мощью своего авторитета и любой ценой вырвать у нее обещание изменить политический курс, который, по его мнению, ведет Российскую империю прямо к погибели. Но теперь, когда императрица позвала на помощь своего мужа (который сейчас смотрит на него, Победоносцева, с выражением пренебрежительной скуки на лице), обер-прокурору Синода стало ясно: лучшее, что можно сделать в такой ситуации – это попросить отставки со всех постов и удалиться прочь, посыпая голову пеплом. Полковник Новиков – этот головорез, пришелец из бездны, в определенной околочиновной и интеллигентской среде носивший прозвище «Викинг» – сумел очаровать императрицу Ольгу ореолом победителя, магией грубой физической силы, ощущением надежного и твердого мужского плеча, а также сладостью плотского греха на супружеском ложе, отражение которого сейчас мягким светом сияет на ее лице.
Победоносцев видел, что государыня-императрица счастлива в браке с этим человеком, счастлива во всех трех смыслах сразу: духовно-эмоциональном, умственно-интеллектуальном и плотско-постельном. Видел – и едва не скрежетал зубами от досады. И ведь полковник Новиков – не просто какой-нибудь хлыщ, сумевший очаровать неразумную девчонку; за его спиной прекрасно обученная и вооруженная воинская часть, где один боец стоит трех, а то и пяти обычных солдат. За героизм в сражении под Тюренченом и при штурме Цусимы императрица даровала его бригаде права лейб-гвардии и георгиевское знамя; и пока его солдаты охраняют цитадель власти, трон юной монархини будет стоять неколебимой скалой, а взятый ею политический курс останется неизменным. Здесь нет еще одного исчадия ада, канцлера Одинцова, который непосредственно и творит все то, против чего собрался протестовать Победоносцев. Разговаривать с этим человеком обер-прокурор Синода не собирался. Демон – он и есть демон, несмотря даже на то, что дружбу с ним свел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний.
Тот тоже хорош: заявил, что господство – это нехристианская идея, и что на этом основании надо оставить в покое всяческих инославных и иноверных людей, во множестве расплодившихся по Российской империи. Но если бы полную власть дали Победоносцеву, то в Российской империи остались бы одни православные, а остальных обер-прокурор Синода уничтожил бы, изгнал или обратил бы в истинную веру[23]. Причем православие у этого человека было какое-то свое, изрядно сдобренное душком манихейского нигилизма. Веря в Бога, Победоносцев не переносил эту веру на людей, и поэтому его жизнь была отравлена неверием в человеческую натуру; а церковную иерархию, над которой он был поставлен господствовать как обер-прокурор Синода, он просто презирал. Сам Победоносцев говорил: «Человек измельчал, характер выветрился. Гляжу вокруг себя, и не вижу на ком взгляд остановить». И Россия в его сознании тоже была какая-то особенная, кондово-патриархальная, существующая только за счет сохраняющихся в глухих местах остатков старины. Он считал, что русское государство погибнет, как только его перестанут подмораживать – будто это неупокоенный мертвец, а не живой и развивающийся государственный организм. А тут новая императрица не только собралась отключить морозильник, но и на полную мощность включила разогрев, чтобы по государственным жилам быстрее побежала кровь. Помимо всего прочего, Победоносцев был активным противником канонизации Серафима Саровского, настаивать на которой пришлось лично Николаю Второму.
И вот этот человек пришел на аудиенцию; нет, не просить – требовать вернуть все на дряхлые рельсы патриархальной домостроевской политики; и еще до того как было сказано хотя бы слово, получил решительный и свирепый отпор. Требовать от государыни хоть что-то при ее супруге – значило сразу нарываться на большие неприятности. Линию поведения Победоносцеву пришлось менять кардинально, хотя и проситься в отставку он тоже передумал.
– Ваше императорское величество, – сказал он, переводя взгляд с императрицы на князя-консорта и обратно, – я настоятельно прошу вас вернуться к консервативным традициям политики, которые исповедовал ваш великий отец император Александр Третий, а потом и брат Николай. Если вы этого не сделаете, то династию Романовых ожидает гибель, а российское государство великая смута и разные неустройства…
– Вы, Константин Петрович, – неожиданно твердо ответила императрица, – видимо, не понимаете того, о чем взялись судить. Вы что, думаете, будто есть возможность подмораживать Россию вечно, все сильнее и сильнее закручивая административные гайки? И это при том, что от такой политики крестьянство нищает, промышленность находится в угнетенном положении из-за затрудненного сбыта товаров и нехватки квалифицированных рабочих и инженеров, а экономика складывается по аграрно-сырьевому типу. А вокруг России далеко не райские кущи, в которых лани целуются с тиграми, а бурный и жестокий двадцатый век. Поэтому, даже если любимая вами политика замораживания не приведет к мужицкому бунту, который полыхнет от края и до края с необычайной свирепостью, свойственной доведенным до отчаяния людям, то рано или поздно придет иноземный завоеватель и разгромит нашу армию и положит русскую землю пусту. Случится это потому, что наши заводы из-за своей слабости не смогут произвести нужного количества оружия и снаряжения, а мужики, одетые в солдатские шинели, не будут иметь желания сражаться за тех, кто держит их в нищете. А потом все равно будет бунт и Смута, в которой погибнут миллионы, после чего русское государство уже никогда не будет прежним.
– Вам, господин Победоносцев, – неожиданно заговорил полковник Новиков, – следует понять, что сейчас, в самом начале двадцатого века, перед Россией, как в сказке, имеется распутье, от которого ведут три дороги. Тот путь, который России предложили вы, ведет прямо и через очень короткое время приводит к пропасти, на дне которой воют алчные волки. Терпение народа находится на грани истощения, и позвольте во всех подробностях не рассказывать при моей жене, что произойдет, когда эта грань лопнет. Смесь пугачевского бунта и французской революции выглядит на местности жутковато. Вторая дорога ведет направо, через внедрение в российскую действительность элементов конституционной монархии, западной буржуазной демократии, парламентаризма и политических свобод. По этому пути Россию увлекает крупная буржуазия, интересы которой обслуживают разного рода юркие либеральные личности. Мол, под просвещенным руководством Гучковых, Рябушинских и прочих капиталистов Россия невероятно усилится и процветет. Но нам-то точно известно, что и на этом пути Россию тоже не ждет ничего хорошего. Просто путь к пропасти будет дольше, чем в прямом варианте, ибо, овладев властью, крупная буржуазия не возжелает ничего делать с народной нищетой. В итоге – тот же бунт, в составе которого будет чуть меньше пугачевщины и больше французского якобинства. Третий путь ведет налево и означает сочетание абсолютной монархии и сильного социального государства. Мы ни в коем случае не собираемся потакать низменным инстинктам и расшатывать государственную власть. Напротив, можете считать наш курс возвратом к идеям государя Александра Третьего, провозгласившего союз Самодержавия и Народа. Только, в отличие от него, мы знаем, что надо делать и чего делать не стоит ни в коем случае.
– Да, именно так! – вскинула голову Ольга. – Принимая на себя власть, выпавшую из рук моего усталого брата, я поклялась, что буду своему народу доброй матерью, а не злой мачехой. Я поклялась, что при моем правлении дети не будут умирать от голода и болезней, что в России не будет нищих, босоногих и оборванных, а ее политический и военный авторитет будет стоять на недосягаемой высоте, как во времена Екатерины Великой, когда если в Петербурге чихали, вся Европа ложилась в жесточайшей простуде. Все, что я делаю, я делаю только ради этой цели. Не скажу, что это будет просто. Мне и моим помощникам предстоит провести государственный корабль между множества рифов и не ударить его о скалы, а потому любая попытка изменить или отменить нашу тщательно выверенную политику приведет Россию к катастрофе.
– Но, Ваше Императорское Величество! – вскричал Победоносцев, – вы назначили министром Труда некоего Владимира Ульянова – а это карбонарий, вольтерьянец и мятежник, призывавший к низвержению монархии и социальному бунту. Да и вообще, Бог с вами, зачем вам это министерство, ведь хватало же раньше рабочей инспекции?
– В первую очередь, – отчеканила Ольга, – господин Ульянов – это продукт вашей политики. Это реализация ваших идей привела к тому, что единственным путем для устранения неустройств стал видеться вооруженный мятеж против законной власти. Господин Ульянов – как раз тот человек, который нужен для того, чтобы унять жадность наших капиталистов, готовых перегонять на прибыли живых людей. На этом месте он будет незаменим. Знайте, Константин Петрович: если на каком-то посту лучше всего будет работать охранитель – я назначу туда охранителя, если социалист – то социалиста, если либерал – то либерала…
– Да неужели, – удивленно воскликнул Победоносцев, – даже такие бесполезные люди, как либералы, могут приносить пользу?
– Могут, – ответил князь-консорт, – ибо Козьма Прутков сказал, что каждый человек вынужденно приносит пользу, будучи употреблен на своем месте… Есть такое место и для либералов – например в антикартельном комитете, который должен следить за тем, чтобы крупные капиталисты не составляли картелей или трестов, сговариваясь по проводу заниженных закупочных и завышенных реализационных цен. Честная конкуренция – там, где это уместно – тоже часть пути, по которому мы собираемся повести Россию.
– В таком случае, Ваше Императорское Величество, – твердо сказал Победоносцев, – прошу меня простить, но я не желаю принимать во всем этом никакого участия и подаю в отставку со всех постов. Да-да, со всех постов. Я служил вашему деду, вашему отцу и вашему брату, и теперь желаю наконец-то отдохнуть…
– Нет ничего проще, – произнесла императрица Ольга, – Адель, дай сюда отставку господина Победоносцева. Вот, Константин Петрович, подпишите здесь и здесь, и будет вам пенсия, а также пожизненное место в Госсовете и Сенате. Будьте уверены: хотя мы крайне недовольны вашей деятельностью, с нашей стороны в ваш адрес не будет высказано ни одного дурного слова, а только похвалы и слова сожаления, ибо основной причиной вашей отставки названо состояние вашего здоровья. А теперь ступайте, господин Победоносцев, и мы надеемся, что мы о вас больше никогда не услышим ни хорошего, ни тем более плохого.
Когда растерянный и какой-то пожухлый визитер вышел из императорского кабинета, (казалось, даже знаменитые торчащие уши поникли будто у спаниеля), Ольга облегченно выдохнула и посмотрела на мужа.
– Ну вот и все, – сказала она, – этот вредный старик вымотал меня до последней возможности. Он, будто какой-то злой колдун, сверлил меня своими стеклянными глазами, и если бы не ты, но и не знаю, как бы я справилась…
– А мне он показался похожим на старую побитую собаку, – пожав плечами, произнес полковник Новиков, – служил всю жизнь – и, как оказалось, зря. Бездетный и бездомный, ибо даже квартира, в которой он сейчас проживает, принадлежит не ему, а Священному Синоду. Одним словом – так проходит слава мира…
Часть 24. Осень в Гельсингфорсе
[1 сентября 1904 года, 18:05. Гельсингфорс, Резиденция Великого князя Финляндского (ныне Президентский дворец) Коммерческий директор АОЗТ «Белый Медведь» и И.О. Великой Княгини Финляндской д.т.н. и графиня Лисовая Алла Викторовна.]
Вот мы и дома… То есть этому дворцу на берегу моря только предстоит стать домом для меня, Николая и четырех его дочерей. Надо сказать, что то, что я увидела, заставило меня замереть на месте на несколько мгновений. Нет, к дворцам-то я уже как-то привыкла, но это все были ЧУЖИЕ дворцы… И теперь мне трудно было привыкнуть к мысли, что такое огромное, великолепное здание отныне принадлежит мне – мне и моей семье… Я знала, что этот день навсегда останется в моей памяти: теплый, яркий, совсем еще летний, наполненный щебетанием птиц и запахом моря. Энергичный ветерок нежно обдувал наши лица, словно бы приветствуя нас в этой новой обители. Ветерок этот, казалось, был единственным, кто был рад нам на этой земле… На НАШЕЙ же земле – и то, что она наша, уже ничто не сможет изменить.
У меня и вправду не было ощущения, что я где-то «за границей». Наоборот – все то, что представало передо мной, чисто зрительно так хорошо ложилось мне на душу, что я понимала: это мое… Мне здесь нравилось, и мое воображение уже захватывали перспективы тех перемен и нововведений, которые мы тут, в Финляндии, произведем. Дай Бог, чтобы все задуманное у нас получилось…
Величественный дворец, огромный и строгий, не имеющий никакой растительности перед фасадом, смотрелся весьма внушительно на фоне голубого неба и с первого взгляда производил впечатление некой твердыни, являясь олицетворением власти и могущества – в этом смысле архитектор уж точно постарался. Хотя, на мой эстетский взгляд, по сравнению с Александровским дворцом он выглядел слишком сдержанно и холодновато (что побуждало провести некоторую аналогию с финским характером). К нему еще предстояло привыкнуть. И потому, вступая под его своды, я, поддерживаемая своим женихом под локоток, напряженно, но не без любопытства, озиралась. Девочки тоже вели себя немного настороженно. Они, притихшие, жались ко мне, и я понимала, что для них этот переезд является в некотором роде стрессом. Ну ничего… Уж я постараюсь создать для них тут уют и самую теплую атмосферу. Да и в Финляндии этой тоже наведу порядок… У меня хватит на это и сил, и энергии, и любви, и решимости.
Теперь я вкратце поведаю, что предшествовало нашему отъезду из Санкт-Петербурга. После того как Ольга вышла замуж на полковника Новикова, я поняла, что наше пребывание в Царском селе несколько затянулось. Нет, напрямую нам никто не говорил ничего подобного, потому что Ольга – добрая девушка, и эта доброта распространяется на всех подданных без исключения, считая и семью ее неудачливого старшего брата. Но я все равно чувствовала, что пора. Пора двигаться дальше, и для начала необходимо узаконить наши отношения с Николаем, иначе мой отъезд в Гельсингфорс вместе с ним будет выглядеть просто неприлично – причем больше для меня, поскольку Николай, даже вернувшись в статус Великого Князя, вполне себе вправе делать все что ему вздумается и поддерживать отношения хоть с десятком актрисок, любовниц и содержанок сразу (ха-ха, конечно же, только теоретически). Для тех, кто не знает, сообщу мимоходом интересную деталь: Императорские Театры – это такой бордель для Великих Князей, где балеринок содержат специально, как кобыл на конюшне. Вопрос, кто с кем спит, может значить даже больше того, кто как танцует…
Итак, поскольку Ольга, как новая глава дома Романовых, уже дала нам разрешение на брак, мы с Николаем перед самым отъездом провели обряд обручения в домовой церкви Зимнего дворца в узком семейном кругу. С моей стороны свидетелями присутствовали полковник Новиков, «главный инквизитор» Мартынов, канцлер Павел Павлович Одинцов и Дарья, а со стороны Николая – его дочери, императрица Ольга и брат Михаил. Ни вдовствующая императрица Мария Федоровна, ни сестра Ксения и друг детства Великий князь Александр Михайлович, несмотря на то, что были званы, на обручение не явились. Моя будущая свекровь до крайности не одобряла этот брак, как не одобряла она и замужество своей дочери Ольги за полковником Новиковым. И с тем, и с другим браком она, скорее, мирилась – как с неизбежностью. Это неприятно, но мы с Николаем переживем; а Ольгу и вовсе это не заботит – она и прежде не обращала большого внимания на свою маман. Что же касается семейства Ксении и Александра Михайловича, Николай подозревает, что они проигнорировали наше приглашение из-за того, что он перестал быть императором. Ну и черт с ними, подумаешь… уж париться по этому поводу я точно не стану. Обручение состоялось и без них. И после этого я стала официальной невестой Николая, одобренной царствующей государыней и моей подругой Ольгой.
Честно говоря, я старалась не углубляться в собственные переживания по поводу этого события. Не хотелось выглядеть глупо, проявляя излишнюю впечатлительность. Но, конечно же, я была безмерно счастлива, приобретя новый статус. Мои «дочки» с утра буквально не отлипали от меня. Они даже преподнесли мне подарок – и это тронуло меня до слез… Это была аппликация в красивой рамочке – в виде цветочного букета с двумя голубками, сделанная из кусочков различных тканей; я сама научила их этому виду рукоделия. Девочки в этот день были нарядны, веселы и неописуемо прелестны.
Николай тоже в этот день проявлял несвойственное ему оживление. Он то и дело шутил, делился планами, живо поддерживал разговор. Его глаза по-особенному блестели, и даже когда он на минутку задумывался, его лицо озарялось решимостью и вдохновением – то есть это была не присущая ему меланхолия, а нечто совсем противоположное. Ольга, наблюдавшая за ним, в какой-то момент даже озорно подмигнула мне, указав на моего будущего супруга взглядом.
После обручения мы все пили чай в Малахитовой гостиной. Ольга с Новиковым так расщедрились, что выделили нам в качестве личной охраны сводный батальон морской пехоты, надерганный из Новиковской бригады. Отбор производился по параметрам личной преданности бывшему императору Николаю. Да, в бригаде у полковника Новикова достаточно солдат и офицеров, готовых костьми лечь за отставного царя. Командовать этим батальоном поручили Антону Ивановичу Деникину – ради такого случая Ольга произвела в полковники. После этого она еще раз повторила, что если с нами хоть что-нибудь случится, она в полном составе переселит финнов на Камчатку и Чукотку, заместив их добрыми и трудолюбивыми русскими крестьянами, а так называемая финская интеллигенция до самого конца своей беспутной жизни будет рубать в Воркутинских шахтах уголек. На робкое напоминание Николая о том, что в Воркуте еще нет никаких шахт, Ольга тут же отрезала: «Нет – значит, будут!».
После этого полковник Мартынов заметил, что из-за обособленности Финляндии от Российской империи его ведомство даже не смогло нормально расследовать убийство русского наместника графа Бобрикова. Самоубийство исполнителя этого преступления для финского менталитета так же нетипично, как и ворона, исполняющая арии из «Князя Игоря». Преступник-то – не бедный иудей из заштатного местечка за чертой оседлости, и не фанатик-ваххабит из нашего времени, а достаточно высокопоставленный и образованный молодой человек, сын сенатора и чиновник главного управления учебных заведений в Финляндии. Что, несчастная любовь, она сказала ему: «никогда-никогда»? Ой, не смешите мои тапки… Такая импульсивность скорее свойственна какому-нибудь итальянцу, а не финну шведского происхождения.
Да, размышляла я, Финляндия в начале двадцатого века, которой нам предстоит чутко руководить – это отнюдь не мирная европейская страна, а гнездо жесточайших националистов, больше всего в жизни ненавидящих русских. И это при том, что именно русские дали ей то, что не имеют сами: то есть конституцию, парламент, внутреннее самоуправление и прочее. И в то же время Россия банально кормит Финляндию, земли которой до аграрной революции второй половины двадцатого века были не в состоянии произвести необходимое ей количество продовольствия. Но аппетиты финской элиты подстегиваются из Швеции, которая владела этой землей до России, и из Германии, которая уже одним глазом поглядывает на прибалтийские земли. При этом тем, кто мечтает оторвать этот край от России, по большому счету безразлично, будут ли после этого голодать простые финны. Весь финский (а на самом деле шведский) образованный класс так яростно стремится к независимости от России, что выделенный нам батальон личной охраны, состоящий из прославленных ветеранов битвы под Тюренченом и штурма Цусимы, является для нас не капризом, не роскошью, а насущной необходимостью. По счастью, наш дворец в Гельсингфорсе расположен по соседству с морскими казармами, так что в случае вооруженного мятежа мы всегда сможем отступить под защиту гарнизона; при этом хочется надеяться, что этот мир никогда не узнает словосочетания «революционный матрос».
Кроме всего прочего, теперь все в наших с Николаем руках. Быть может, столкнувшись с опасностью воочию, он наконец-то станет решительнее или хотя бы позволит быть решительными тем, кому это положено по должности. Ведь он не наместник, действующий от имени русского царя, а собственно Великий Князь Финляндский – правитель, самовластный во всем, кроме внешней политики и ведения войны. Впрочем, отозвав меня в сторону, Ольга тихонько сказала, что не особо надеется на то, что ее брат сможет проявить твердость. Ну не такой он человек, что ж поделать. В этом смысле она больше надеется на меня и господина Иванова. Помимо того, что тот – первый советник Николая, вдобавок он еще и ее имперский спецпредставитель. И первое дело, которым нам предстоит заняться – это расследование убийства графа Бобрикова. Нет, мы с Михаилом Васильевичем сами не будем гоняться за преступниками и вести допросы в крепостных казематах. Совсем нет. Мы создадим тому условия – то есть убедим Николая в связи с убийством графа Бобрикова отменить конституцию, распустить финляндский Сейм, а также арестовать членов правительства и депутатов, поместив их в казематы Свеаборга. Там ими займется присланная из Петербурга специальная следственная комиссия. В противном случае Николаю нечего будет передавать в наследство своей старшей дочери, ведь если после такого убийства заговорщикам-националистам все сойдет с рук, то они, почувствовав слабину, обязательно устроят мятеж. Успеха они не добьются, потому что императрица Ольга сразу введет войска и, что называется, утопит восстание в крови, а потом использует этот мятеж как предлог для полной ликвидации финской государственности. И тогда, даже если мы уцелеем в этой кровавой заварушке, Николай в любом случае лишится и последнего своего удела. Ну и, кроме всего прочего, мы можем и не уцелеть, что будет совсем печально. Да, я не забываю об опасности, и это скребется где-то в глубине моей души и призывает к предельной бдительности и осторожности.
Закончив все наши дела в Зимнем дворце, мы в каретах добрались до Финляндского вокзала и сели в литерный поезд, составленный из одних только синих классных вагонов. Несколько часов езды – и вот мы уже в Гельсингфорсе, и наш путь лежит к нашему будущему месту обитания. С любопытством смотрю из окна экипажа на улицу… Действительно, странное впечатление. В столицу приехал их Великий Князь и бывший император, а горожане не торопятся его приветствовать. Напротив, город, как бы это сказать, настороженно замер, словно ожидая, что прямо сейчас людей начнут хватать и швырять в застенки имперской безопасности. Немногочисленные прохожие, попавшиеся по пути нашего кортежа, жмутся к стенам домов, провожая грохочущие по мостовой кареты настороженными и весьма недружелюбными взглядами (полцарства за нормальный автомобиль!). Да погодите вы так пугаться, рано еще… Но могу обещать, что пройдет еще немного времени – и вы у нас взвоете. Дайте только срок осмотреться и понять, кто есть кто.
[2 сентября 1904 года, 11:15. Гельсингфорс, Резиденция Великого князя Финляндского (ныне Президентский дворец) Капитан первого ранга Иванов Михаил Васильевич.]
То, чего я уже давно подспудно ожидал, случилось за завтраком…
Поскольку дочери Николая завтракали отдельно, то мы втроем: я, бывший император и Алла Викторовна могли беседовать на любые приличествующие для смешанной компании темы.
– Михаил Васильевич, – сказал мне бывший император Николай Александрович, – я бы хотел попросить вас побыть моей правой рукой, исполняя точно такие же обязанности, какие господин Одинцов исполняет для моей сестрицы Ольги. Они вдвоем так разгулялись в последнее время, поднимая Россию на дыбы, что только зависть берет. Я бы так не смог.
Немного помолчав, он добавил:
– Я тут немного подумал о будущем (да и вчерашняя донельзя странная встреча финнами своего государя навела на определенные мысли) – и у меня сложилось мнение, что без волевого и решительного человека, который бы взялся помочь нам распутать этот гадючий клубок, может получиться весьма скверно. Томительная какая-то атмосфера в этом Гельсингфорсе…
Я сразу вспомнил, как в нашей реальности этот же персонаж, ощутив свою слабость, пытался спрятаться за спиной Витте, а потом, убедившись, что на того где сядешь, там и слезешь, сменил великого комбинатора на более надежного Столыпина. И тут то же самое, хоть и этажом ниже. Увидев недружелюбную встречу, которую ему устроили в Гельсингфорсе, Николай вдруг осознал, что не способен управлять не только огромной Российской империей, но и маленьким Финляндским княжеством. Утопающий хватается не только за соломинки, но и за другие, куда менее приятные вещи – вроде лезвия меча или гадюки; ну а Николай Александрович ухватился за меня. Ничего, я выдержу и не утону. Но только бы не получилось как со Столыпиным, когда ставшего ненужным премьера сняли самым радикальным способом, через шашни с эсеровскими боевиками. Хотя сейчас это навряд ли: товарищ Мартынов основательно повывел как эсеровскую боевку, так и чиновных интриганов-коррупционеров, играющих в подобные игры. А в то, что меня начнут подсиживать люди Павла Павловича Одинцова, я совершенно не верю.
– Да, государь, – сказал я, предварительно промокнув салфеткой губы, – разумеется, я выполню вашу просьбу и приду к вам на помощь. И в то же время вы должны помнить, что иногда для спасения ситуации мне понадобится ваше высочайшее соизволение, без которого я буду бессилен предпринять необходимые меры.
Бывший император тяжело вздохнул.
– Разумеется, Михаил Васильевич, – сказал он вполголоса, – я ведь не за себя беспокоюсь, а за своих девочек… Мне кажется, что Финляндия только притворяется цивилизованной европейской страной, а на самом деле тут в любой момент может случиться что-то невероятно ужасное.
– Вы одновременно и правы, и ошибаетесь, – ответил я, – вы ошибаетесь потому, что Финляндия – это типичная европейская страна, тяготеющая скорее к Швеции, чем к Российской империи, и в тоже время правы в том, что тут в любой момент может произойти нечто ужасное. Любая, даже самая цивилизованная, нация способна на самые невероятные мерзости – так что уж говорить о крае, чья цивилизованность не выстрадана веками собственной истории, а просто пожалована сверху… Когда император Александр Первый даровал Великому Княжеству Финляндскому Конституцию, Сейм и собственное правительство, сделав его автономным по отношению к основной территории Российской Империи, мог ли он знать, что сам, своими руками, создает язву, прилепившуюся с боку государственного организма? Главная задача, которую это псевдогосударство ставит перед собой – это отрыв от России и переход к самостоятельному существованию или возвращение в объятия Швеции… Ну как же может быть иначе: ведь вся финская элита – это либо этнические шведы, либо шведоговорящие финны…
– Вы говорите исходя из опыта вашего двадцатого века? – немного сочувственно спросил Николай.
– Верно, Государь, – ответил я, – да только то, что случилось с Финляндией – только полбеды. Она и так, стараниями императора Александра Первого, была отрезанным ломтем. Гораздо хуже то, что после вашего свержения по-европейски образованная национальная интеллигенция окраин Империи тут же принялась копировать финский опыт. Победившие буржуазных националистов большевики расширили и углубили их деятельность, и в результате территория бывшей Российской империи оказалась разрезанной на четырнадцать «финляндий» и Российскую республику (примерно в границах шестнадцатого века). Правда, они почти сразу спохватились, что так их сожрут поодиночке – и объединили эти псевдогосударства в федеративный союз, члены которого, однако, были связаны несколько сильнее, чем нынешняя Финляндия привязана к России. Уж, по крайней мере, большевистская полиция и жандармы с равным успехом действовали на территории всего Союза. И все бы хорошо, но все эти национальные республики страдали все той же финской болезнью – то есть их элиты, стремясь к отделению от России, потихоньку подтачивали межгосударственный союз…
– Михаил Васильевич, – недоуменно произнес бывший император, – я что-то не понимаю, к чему вы клоните…
– Я клоню к тому, – ответил я, – что для того, чтобы справиться с этой проблемой, необходимо принять радикальные меры и действовать решительно, без оглядки на общественное мнение и реакцию мировых держав.
Николай Александрович снова посмотрел на меня с непонимающим видом.
– Поясните подробней, Михаил Васильевич, – сказал он, – какие радикальные меры вы предлагаете принять, чтобы спасти положение в Великом Княжестве Финляндском?
– Очень простые, – пожал я плечами, – Великое Княжество из конституционной монархии должно превратиться в монархию абсолютную, а нынешние Сейм и Сенат (правительство) должны быть распущены, а их члены отданы под следствие с целью выяснить, каким образом эти люди собирались отторгнуть Финляндию от Российской империи и злоумышляли против власти государя-императора и государыни-императрицы.
– Да? – удивился бывший император, – но это же вызовет бунт!
– Разумеется, – ответил я, – но этот бунт случится в тот момент, когда мы будем к нему готовы, а для заговорщиков все произойдет неожиданно, и к тому же они будут лишены руководства. Используя эти преимущества, мы сможем быстро усмирить волнения и, кроме того, у нас будет повод сослать их активных участников к черту на кулички.
– Ага, понимаю, – кивнул Николай Александрович, – как грозилась сестрица Ольга, строить шахты в этой, как ее, Воркуте. И, кстати, где эта Воркута и что там за шахты?
– Воркута – это на севере, в самодийской тундре, – вместо меня вдруг ответила госпожа Лисовая, – город будет основан на огромном месторождении высококачественного каменного угля, и первыми его жителями в нашем прошлом были как раз каторжники, работающие на шахтах.
– Ну, – Николай Александрович явно потерял интерес к этому разговору, – если Ольга хочет снова сослать туда каторжников, значит, так тому и быть. Но вот что она скажет на то, что мы сами своими действиями будем провоцировать бунт, который придется подавлять русским солдатам?
– Ничего государыня Ольга Александровна вам не скажет, – ответил я. – Ваша сестра признает за вами право исправить ситуацию и де-юре, и де-факто. Как, собственно, и Павел Павлович, и господин Мартынов, и ваш брат Великий князь Михаил Александрович. Они не только не выступят против нас, но и полностью поддержат любые наши действия, отдав приказ военным частям и флотским экипажам оказать нам полное содействие в наведении в Финляндии истинного порядка. Гордиевы узлы не распутывают, их разрубают со всей возможной решительностью. Мыслимое ли дело, когда у власти в Сенате и Сейме находятся сепаратисты и мятеж готовится почти открыто, на глазах у всех. Кроме того, Великое княжество превратилось в отстойник для революционеров и террористов всех мастей, расположенный буквально под боком Санкт-Петербурга. Нет, этот нарыв должен быть вскрыт и вычищен от скверны, и только потом настанет время врачевать оставшуюся после него рану.
– Да, Николай, – поддержала меня Лисовая, – Михаил Васильевич прав. Или мы наведем тут порядок, или эта Финляндия проглотит нас и не подавится – а вместе с нами погибнут все проживающие тут русские: от семей офицеров до простых мастеровых.
– Вот уж сосватали вы меня, Михаил Васильевич, – вздохнул Николай Александрович, – от чего бежал, к тому и вернулся… Только у меня теперь не тот размах.
– Ну извините, Николай Александрович, – вздохнул я, – других вариантов под рукой не оказалось. Должности эмира Бухарского и хана Хивинского, по моему мнению, оказались бы еще хуже. Дикие места, иноверное и злобное население, не самый приятный для европейцев климат; да и вакансии-то заняты – пришлось бы придумывать какую-нибудь войну для того, чтобы освободить их.
– Ну да ладно, – махнул рукой Николай, – чему бывать, того не миновать. Дам я вам на все необходимое монаршее соизволение, но прошу вас, действуйте аккуратно, чтобы мне потом было что передавать в наследство старшей дочери.
На этом разговор не закончился.
– Николай, – вдруг произнесла Лисовая, – я давно хотела переговорить с тобой о девочках в присутствии Михаила Васильевича. Дело в том, что Ольге и Татьяне пора идти в школу, а это совсем не одно и то же, что приглашение учителей на дом. Домашнее воспитание – это вообще беда в царской семье. Твоя сестра Ольга мне как-то призналась, что когда ее впервые вывели в свет, она чувствовала себя зверьком, выставленным в клетке на всеобщее обозрение. Но так быть не должно. Девочки должны расти в обществе сверстниц и с самых младых ногтей привыкать к тому, что жизнь – это сложная штука, бег наперегонки с множеством соперниц и подруг. Вспомни: в Древней Элладе царских детей наравне с детьми прочих свободных отдавали в общие гимнасии и палестры, чтобы наследники трона с юных лет привыкали к соревнованию с себе подобными. Жизнь развивается – и женщины сейчас играют все более значимую роль, а потому к их воспитанию и обучению необходимо подходить с не меньшей серьезностью, чем к воспитанию и обучению мальчиков. Я хочу, чтобы все они выросли умными, добрыми, и в то же время полезными людьми, не боящимися смотреть в лицо этому огромному миру.
Николай вздохнул. Видно, много всякого свалилось сегодня на его плечи, не привыкшие к тяжелым нагрузкам.
– Хорошо, милая, – тихо сказал он, – я уже готов признать, что ты во всем права – и систему воспитания необходимо менять; но что ты предлагаешь конкретно?
Лисовая пожала плечами и задумчиво произнесла:
– Я думала о чем-то вроде женского лицея. В нем не должно быть очень много учениц, но все они должны быть очень умными и усидчивыми, успевающими по всем предметам. И главным критерием приема в этот лицей будет именно ум и трудолюбие, причем без различия сословий. При необходимости девочек из бедных семей, которые не могут их достойно содержать, можно будет брать на казенный кошт. Для начала можно набрать только один класс, в котором смогут учиться Ольга и Татьяна, и лишь потом добавить по классу для Марии и Анастасии. Ну а то, делать ли этот лицей постоянным учебным заведением покажет время.
– Думаю, – сказал Николай Александрович, – что все это можно устроить. Только чуть позже, моя дорогая, потому что сначала необходимо разрешить главную проблему.
– Погодите, государь, – сказал я, – основной контингент русскоязычных учениц – это дочери семейных офицеров Русского Императорского флота. Думаю, мы вполне сможем подобрать девочек соответствующего возраста и положения, чтобы они составили вашим дочерям компанию для игр и обучения прямо тут, во дворце. Приглашенным учителям в принципе все равно, скольких девочек они будут обучать – двоих или дюжину, – но зато даже при таком минимальном подходе в обучении появится искомый элемент состязательности, а ваши дочери перестанут расти буками, смущающимися посторонних.
– Хорошо, Михаил Васильевич, – кивнул Николай, – так мы и сделаем. А тебя, дорогая, я попрошу заняться подбором подруг для наших дочерей. Состязательность состязательностью, но перегибов в этом деле все же допускать нельзя, и соревнование не должно выливаться в грубость…
На этой оптимистической ноте завтрак был окончен. Николай Александрович и Алла Лисовая удалились прочь – видимо, для того, чтобы закончить обсуждение своих семейных дел без посторонних. А вот я пока остался. Мне нужно было о многом подумать – в первую очередь о том, что делать сначала, а что потом. Нельзя сказать, что этот разговор стал для меня полной неожиданностью – я ожидал изменения своего статуса, превращения из советника на общественных началах во что-то более постоянное и официальное; но Николай Александрович предложил мне больше, чем я ожидал, и теперь приходится думать, как наилучшим способом исполнить свои обязанности.
[5 сентября 1904 года. Санкт-Петербургская губерния, спецдача СИБ[24] еврейка Дора Бриллиант, бывшая революционерка, террористка и жертва режима.]
Господин Мартынов не соврал. Не прошло и недели, как меня извлекли из камеры тюремной больнички, переодели в цивильное платье и усадили в закрытый экипаж без окон – своего рода собачий ящик для людей… и долго-долго куда-то везли. Ящик ужасно трясло, зубы во время езды выбивали дробь, и я уже решила, что завезут меня сейчас к черту на кулички, а потом… Мне становилось тоскливо при мысли, что меня вдруг не станет, что появившаяся было надежда окажется миражом. Но тот факт, что в моем чреве живет и развивается новый человек, маленький и ни в чем не повинный, заставлял меня с неистовой силой желать того, чтобы мои тревоги оказались напрасными. Я поглаживала свой уже заметно выступающий живот и мысленно разговаривала со своим ребенком. Мой малыш, пусть еще не рожденный, был единственным близким мне существом в этом холодном, суровом и несправедливом мире. Я чувствовала с ним сильнейшую связь. Мне казалось, что этот ребенок очень сильно влияет на меня – словно он безмолвно разговаривает со мной, делая меня как-то мягче, добрее; с тех пор как я убедилась в его существовании, мое сознание будто бы озарилось теплым светом, смягчающим острые углы моей натуры. И вот что странно, но вместе с тем изумительно – всякий раз этому маленькому человечку, что жил внутри меня, удавалось повернуть мои мысли таким образом, что я успокаивалась и начинала верить в то, что самое лучшее у меня еще впереди.
Тряска беспокоила меня – я боялась, как бы это не навредило ребенку. А он толкался внутри меня, и я, поглаживая руками живот, старалась унять его энергичные толчки. Я уже не могла больше думать ни о чем, кроме этой тряски… Но тут ящик на колесах остановился. Дверь открылась, кто-то снаружи сказал, чтобы я выходила. Я подчинилась. После полумрака отрадно было снова видеть дневной свет. Нос мой ощутил чудные ароматы сельских просторов: хвои, влажной земли, прелой травы… И сразу как-то волнительно забилось сердце; новизна происходящего бодрила мой мозг, и упоительным было осознание того, что жизнь продолжается, что я нужна этим людям, и что сама я не сгину без следа, а продолжусь в своем потомстве… Я ступила на землю и огляделась. Похоже было, что я нахожусь на хозяйственном дворе какого-то господского имения посреди соснового леса. Деревья окружали усадьбу по кругу и, куда бы я ни бросала взгляд, везде возвышались прямые, как свечи, стволы огромных сосен – они были похожи на молчаливых стражей этого места. Я крутила головой и не понимала, зачем меня сюда привезли. А может, я обманываю себя – и это все-таки последние часы моей жизни? Уж слишком тут уединенно. Этот лес, эта тишина… Вполне подходящий антураж для расстрелов… Я непроизвольно вздрогнула и съежилась. Ребенок притих в моем чреве; наверное, он чувствовал мое состояние и старался лишний раз не тревожить.
И тут ко мне подошел встречающий. Был он таким же типом в черном мундире, коротко стриженным и подтянутым, как и мой мучитель-соблазнитель господин Мартынов. Но все же чего-то в нем не хватало. Через мгновение я поняла: у него нет такой тяжелой черной ауры, как у господина Мартынова. Он – только копия, одушевленная кукла, лишь внешне похожая на своего ужасного господина. Хотя нет… если внимательно присмотреться, то на нем становилась видна точно такая же печать одержимости охранительством, как и у господина Мартынова, только гораздо слабее. Это означало, что сущность, оседлавшая ум этого человека, требует сдерживать любой порыв к народной свободе. Если мой прежний мучитель был охотником на революционеров, то тот, кто стоял передо мной сейчас, являлся его цепным псом. И даже глаза у этого человека были соответствующие: с желтоватым оттенком дремлющей ярости. И веяло от него холодом; впрочем, это было скорее его профессиональное качество; не исключаю, что в частной жизни он мог оказаться добрым и отзывчивым человеком, хорошим семьянином, любящим мужем и отцом.
– С прибытием, госпожа Бриллиант, – без тени улыбки поприветствовал меня хозяин этого места. – Позвольте представиться: ротмистр Познанский Андрей Владиславович, начальник этого богоугодного заведения, именуемого специальной школой службы имперской безопасности.
– Это школа?! – с удивлением переспросила я, еще раз оглядываясь вокруг.
– Да, школа, – подтвердил мой собеседник; говорил он бесстрастным голосом, соответствующим его облику. Затем, окинув меня оценивающим взглядом с ног до головы, добавил: – Ваша будущая работа, выполняя которую, вы искупите свои грехи и заслужите прощение, будет заключаться в следующем: Дора Бриллиант исчезнет, а вместо нее появится…
Я застыла, с напряжением глядя на него. В его светлых глазах на долю мгновения вспыхнул огонек какой-то хищной насмешки.
– …аргентинская графиня Мария Луиза Изабелла Эсмеральда де Гусман, молодая богатая вдова и мать, – произнес он, отчетливо, со смаком выговаривая каждое слово, в то же время не отводя от меня глаз и, кажется, не без удовольствия наблюдая мою реакцию.
Я же от растерянности принялась покашливать и теребить платье на груди. До чего же это звучало гордо и внушительно: аргентинская графиня… Это что, он мне предлагает стать ею?! В смысле, притвориться… Да какая ж из меня графиня, это, наверное, шутка… хотя не для того же, чтоб шутить, меня сюда привезли…
А он, этот Познанский, снова, теперь еще более откровенно, оглядел меня и, хмыкнув, произнес:
– Медовая ловушка на крупную дичь из вас выйдет такая, что просто пальчики оближешь… Так-то, госпожа Бриллиант… – Сказав это, он отвел взгляд в сторону сосен и опять заговорил бесстрастно и деловито: – Так что сегодня я последний, кто обратился к вам по старому имени. Теперь вы – сеньора Мария де Гусман, и никак иначе. Мой начальник отрекомендовал вас самым превосходным образом, и теперь я сам убедился, что фактура у вас хоть куда. Правда, при этом заметил, что прежде чем вы сможете играть эту роль, вас потребуется к ней тщательно подготовить. – Его взгляд вернулся ко мне, и теперь, говоря, он смотрел мне глаза, и это должно было подчеркивать всю важность его слов. – Во-первых – вы должны выучить испанский язык и говорить на нем без акцента. В России мало кто понимает такие мелочи, но мало ли… Зато там хорошо понимают кое-что другое, поэтому при разговоре на русском языке ваш еврейский акцент должен смениться испанским, чтобы, едва вы откроете рот, из него не несло заштатным еврейским местечком. Во-вторых – вам необходимо полностью усвоить манеры испанской аристократки и католички, научиться ездить на лошади, правильно вести себя за столом, креститься слева направо при каждом удобном случае и постоянно поминать всуе деву Марию и Иисуса Христа.
Тут он сделал паузу и вгляделся в мое лицо, чтобы определить, как я отношусь ко всему сказанному. Я склонила голову в знак того, что мне все понятно и я на все согласна, и он продолжил:
– В-третьих – вас ждет общеобразовательное программа, которая предназначена для того, чтобы ваше местечковое невежество превратилось, так сказать, в невежество аристократическое… Ну что же, сеньора де Гусман, позвольте проводить вас внутрь нашего скромного обиталища…
С этими словами господин Познанский галантно подал мне руку, и мы пошли внутрь дома. Как я поняла – это был мой первый урок…
Меня поселили в маленькой чистенькой комнате – несомненно, более комфортной, чем тюремная камера, но для апартаментов аристократки слишком уж аскетичной. Занятия начались с первого же дня, и, кроме тех вещей, которые было оговорены в самом начале, меня учили фехтованию и рукопашному бою (делая это осторожно из-за беременности), стрельбе из пистолета, и даже игре в шахматы. Не скажу, что все эти предметы давались мне легко, но я имела немалое прилежание и достигла существенных успехов (для начала). Скука, которая одолевала меня во время сидения в одиночной камере, бежала прочь и спряталась так, что ее невозможно было найти. День за днем я втягивалась во все это, потому что процесс обретения новых знаний и умений привлекал меня все больше и больше. При этом я чувствовала, что меняюсь внутренне. Молодая озлобленная еврейка медленно растворялась, а вместо нее на свет появлялась прежде незнакомая мне молодая испанская аристократка… По мере продвижения процесса обучения маска постепенно прилипала к моему лицу. О, я и вправду начинала чувствовать себя графиней… Знатной, влиятельной, утонченной, блистательной, богатой, умопомрачительно прекрасной… При этом я понимала, что меня просто завербовали в агенты, и что в будущем мне, возможно, придется делать не самые приятные вещи, но на данный момент я была чрезвычайно довольна и счастлива, а о будущем старалась особо не задумываться. Я знала одно – мой ребенок появится на свет в хороших условиях.
Так вот: все то, что происходило со мной с тех пор как я попала в это место, стало напоминать мне о том давнем отроческом сне, в котором я видела себя ловкой блистательной циркачкой… Каким-то непостижимым образом сон этот начал воплощаться в жизнь. Вдруг оказалось, что я вовсе не та чернявая дурнушка, которой я привыкла себя считать. Здесь, в этой “школе”, над моим лицом поработали специалисты: какими-то чудодействеными “масками" они высветлили мою кожу и сделали ее гладкой и нежной будто шелк. Они придали форму моим бровям, к которым до того ни разу не прикасались щипчики… А волосы… Они у меня всегда были густыми и слегка вьющимися; теперь я должна была мыть их со специальными средствами – и вскоре я заметила, что они стали намного мягче и приобрели волшебный блеск… это было подобно чуду. Кроме того, что специалистам этого заведения удалось существенно улучшить мою внешность, они научили меня самой заботиться о поддержании своей красоты. И теперь я всякий раз перед сном и по пробуждении наносила на лицо и руки приятно пахнущие крема, и эта процедура доставляла мне удовольствие.
Глядя в зеркало, я видела там красавицу, которая еще и продолжала хорошеть с каждым днем. “Мария Луиза Изабелла Эсмеральда де Гусман…" – произносила я, глядя на свое отражение, привыкая выговаривать свое новое имя в аристократической манере. Да уж, какая там циркачка-наездница… Просто в детстве мое воображение не могло шагнуть дальше того, с чем у него была возможность сталкиваться. Безусловно, образ графини гораздо привлекательней образа циркачки. И ничего, что мне пришлось отказаться от своего звучного имени. Да, оно годилось бы для цирка, но едва ли принесло бы мне счастье… Все теперь в прошлом – и имя, и мои убеждения, и моя больная “любовь"… Странно теперь подумать, что когда-то я поэтизировала смерть во имя идеи, и целенаправленно шла к этому. Я думала, что я была рождена как раз для того, чтобы погибнуть ради народного блага, оставив о себе бессмертную славу… Какой абсурд! Неужели кто-то рождается лишь для того, чтобы умереть? Нет. И мой ребенок будет рожден, чтобы жить – жить и быть счастливым. Так и будет. Так и будет… Я знала, что со всем справлюсь, все преодолею, я стану лучшей из лучших – потому что это и есть НАСТОЯЩЕЕ, а тот мрак, в котором я раньше блуждала, был лишь хитроумным обманом.
Вообще я никогда прежде не могла бы подумать, что с таким удовольствием буду учиться. Мне нравилось становиться лучше, умнее, овладевать новыми навыками. По мере своего обучения я открывала для себя все больше удивительных вещей. И все дальше в прошлое уходила невежественная еврейка со звучной фамилией, все меньше оставалось у нас с ней общего… И я знала, что в конце концов образ Доры Бриллиант останется в моей душе подобием блеклой фотографии… фотографии человека, которого уже нет, но который всегда живет в памяти…
Надо отметить, что там, в этой школе, имелись, кроме меня, и другие ученики, но я никогда не встречалась ни с кем, кроме преподавателей. Наверное, так делалось для того, чтобы я не смогла никого выдать, ведь я не видела никого в лицо. Впрочем, я не страдала от недостатка общения. Я всегда была нелюдимкой, и меня скорее тяготила необходимость общаться с людьми, нежели отсутствие такой возможности. Здесь же для меня общения было в самую меру.
Весьма увлекательным оказалось учиться “хорошим манерам". Моей наставницей в этом мудреном искусстве была пожилая дама, которую звали Юстина Армандовна. Весь ее облик являл собой полное олицетворение этих самых “хороших манер": одетая всегда безупречно, без единой складочки, прямая, сухощавая, бледнолицая, она в любой ситуации хранила непроницаемое выражение лица. И первое, чему она меня научила – с первого раза запоминать имена людей, как бы сложно они ни звучали. В общем-то, мы с ней неплохо поладили. Она никогда не выходила из себя, а если и бывала недовольна мной, то лишь чуть сильнее поджимала губы и приподнимала брови. Надо заметить, что вся ее мимика была великолепна – в том плане, что у нее я научилась одним лишь “движением брови" показывать свое отношение к человеку или его действиям. Я была прилежной ученицей, и чаще всего Юстина Армандовна оставалась довольна мной.
Испанский язык тоже давался мне на удивление легко. Он был прекрасен: мелодичный, красивый; я сразу полюбила его и с наслаждением выговаривала сложные фразы-скороговорки, заставляя учителя цвести от радости. Даже во сне я разговаривала по-испански… Учитель говорил, что это замечательно, это значит, что программу я освою в срок.
Собственно, в процессе обучения мне не приходилось прикладывать чрезмерных усилий. Моя уверенность в собственных силах росла изо дня в день. Я, оказывается, талантлива и способна на многое – радостно убеждалась я. А ведь могла совершенно бездарно погибнуть во цвете лет… Подумать только – я была на волосок от этого; сама, сама хотела пожертвовать собой! Как хорошо, что этого не произошло! Наверное, за это я должна сказать спасибо господину Мартынову, ведь он более прочих принял участие в судьбе бедной еврейки, устроив ей блестящее будущее. А я-то, дура, еще сопротивлялась изо всех сил…
С тех пор как я поняла эту истину, меня стала просто одолевать жажда кипучей деятельности. Я чувствовала в себе небывалую силу… Все мне было интересно, я стремилась получать все больше новых знаний; казалось, мир во всем своем потрясающем многообразии распахнулся передо мной, маня неведомыми тропами, увлекательными перспективами. Я получу все, чего достойна! Я обязательно овладею всеми необходимыми знаниями и реализую в полной мере все свои таланты! Я непременно стану одной из тех, кто вершит судьбы мира, кто послан сюда волею Высших Сил… А Высшие Силы – это, собственно, и есть Правда и Справедливость… А не за это ли я боролась всю свою сознательную жизнь?
[7 сентября 1904 года, около полудня. Санкт-Петербург, Зимний дворец, кабинет Канцлера Российской Империи Канцлер Империи Павел Павлович Одинцов.]
Вчера к нам в Петербург с Дальнего Востока прибыл адмирал Макаров, назначенный главкомом флота, а уже сегодня у нас состоится совещание по поводу планирования нашего оборонного строительства. Время не ждет, а шпорит бока, тем более что по большинству других ключевых направлений подходящие люди уже назначены и работа идет полным ходом, а на ниве военного дела у нас пока и конь не валялся. Единственного достижения в этой сфере добился полковник Мартынов, по собственной инициативе привлекший капитана Федорова к конструированию автоматического оружия. А вообще вопрос назрел и перезрел, ибо в равной степени оказываются неприемлемы как простаивающие мощности военных заводов, так и напрасные траты денежных средств на оборонные нужды (производство ненужного и неэффективного вооружения).
От флотских на совещании присутствовали главком флота адмирал Макаров, морской министр контр-адмирал Григорович, а также командир «Кузбасса» контр-адмирал Степанов. Вытащить бы Сергея Сергеевича Карпенко, но нельзя. Он нужен на Цусиме, потому что там тоже нельзя оставлять дела без присмотра надежного человека. От армейцев на совещание пришли Великий князь Михаил Александрович, командир особого восточно-сибирского корпуса Федор Эдуардович Келлер, а также князь-консорт и полковник Александр Владимирович Новиков. В качестве арбитров в их спорах готовились выступить ваш покорный слуга и государыня-императрица Ольга Александровна. А споры предстояли ой какие! Морякам хотелось построить целый флот линкоров-дредноутов, зато армейцы желали отделиться от европейской угрозы несокрушимым рубежом обороны. По их замыслам, это должен быть некий аналог линии Сталина, который перечеркнет континент от Балтийского до Черного моря. А еще лучше, чтобы таких рубежей обороны было два или три…
– Итак, господа генералы и адмиралы, а так же приравненные к ним лица, – открыла наше почтеннейшее собрание государыня-императрица, – попрошу вас друг другу бород не рвать и словесных оскорблений не наносить. Наша задача – выработать разумную и взвешенную политику по военному вопросу, а не перессориться между собою насмерть…
– Ваше Императорское Величество, – сказал я, вставая, – дозвольте для начала озвучить общие граничные условия решения нашей стратегической задачи, а уже потом запустить общую дискуссию.
– Излагайте, Павел Павлович, – кивнула моя ученица.
– Хорошо, Ваше Императорское Величество, – кивнул я своей ученице и обратился к присутствующим. – Если исходить из постановки задачи, так сказать, в общем, то Российская империя должна быть готова отражать вооруженное вторжение всех европейских стран сразу, объединившихся в единый военный союз. Турция, Румыния, Австро-Венгрия, Швеция и даже Германия имеют к нам территориальные претензии…
– Погодите, Павел Павлович, – с некоторым недоумением спросил Великий князь Александр Михайлович, – а какие территориальные претензии к нам имеют Германия и Румыния?
– Румыния, – назидательно произнес я, – вожделеет нашу Бессарабию, и заодно Одессу с окрестностями, а Германия совсем не прочь отщипнуть у нас Курляндию, Лифляндию и Эстляндию, где имеется довольно значительное германоязычное меньшинство, заодно являющееся там привилегированным классом. Не обращайте, пожалуйста, внимания на то, что кайзер Вильгельм хочет показаться нам другом и время от времени посылает в нашу сторону умильные улыбки. На самом деле он иногда спьяну проговаривается о вещах, о которых бы ему лучше помалкивать. Хорошо, если это случается в узком семейном кругу, но порой он начинает болтать то перед депутатами рейхстага, то перед выпускниками военных училищ. Но не это самое страшное. При всех своих недостатках кайзер Вильгельм является англофобом и воспринимает британских джентльменов в весьма критическом ключе. Он понимает, что они ни за что не дадут Германии усилиться за счет России, а потому вряд ли купится на посулы обменять Эльзас и Лотарингию, так нужные французам, на русскую Прибалтику и, к примеру, Польшу. Он понимает, что, даже потерпев поражение от коалиции наших ближних соседей – Швеции, Германии, Австро-Венгрии и Румынии – Россия нанесет им тяжелейшие потери, раны от которых надо будет зализывать десятилетиями; и вот тогда Англия и Франция (возможно, в союзе с Италией) объявят войну победителям и заберут весь приз себе. Но кайзер Вильгельм не вечен, а его наследники вполне могут поддаться на призывы объединить Европу и совместно ударить по русским варварам. При этом мы должны помнить, что Россия не часть Европы, а равновеликая ей цивилизация, а потому может и должна сдержать удар объединенных европейских армий и, перемолов их в тяжелой изнуряющей борьбе, закончить войну на пылающих развалинах вражеских столиц.
– И что из этого следует? – с некоторой настороженностью спросил морской министр адмирал Григорович. – Неужели вы скажете, что флот Российской империи совсем не нужен?
– Ну почему же, – ответил я, – флот России нужен, и без него никак. В грядущей войне у нас будет три вероятных морских театра военных действий: Северный, включающий Баренцево и Норвежское моря, Балтийский и Черноморский. Ставить целью построить такой крейсерский флот, чтобы он сумел прервать все морские коммуникации противника, у нас, простите, пока кишка тонка. Надорвемся, но не построим. Тем более что наши вероятные противники первой очереди (за исключением Турции и пары Германия – Швеция) мало зависят от морских коммуникаций, так что крейсерские операции почти не принесут облегчения сражающейся сухопутной армии. В ближайшей войне задачей флота будет прерывание вражеского судоходства в ближней зоне, оборона собственного побережья на минно-артиллерийских позициях, поддержка действий приморского фланга войск и высадка тактических и стратегических десантов на завершающем этапе войны…
– Погодите-погодите, Павел Павлович, я что-то не понял – что там такого особенного с Германией, Швецией и Турцией? – с интересом спросил Макаров.
– Между Германией и Швецией довольно оживленные морские перевозки, – ответил я, – во-первых – в Швеции, в Лулео, добывается отличная железная руда, которая летом обычно вывозится по Балтике, а зимой, когда Ботнический залив замерзает, ее отгружают через норвежский порт Нарвик. Кроме того, у Швеции довольно развитая военная промышленность, производящая вооружения на экспорт, и основной покупатель в случае войны – опять же Германия. Даже если Швеция не будет принимать участия в боевых действиях, она все равно останется невоюющим союзником немцев. С Турцией же все гораздо смешнее. Она зависит сама от себя, ибо еще с античных времен дорог вдоль побережья Анатолийского полуострова как не было, так и нет, и для того, чтобы доставить грузы или живую силу из Стамбула в Синоп, Трапезунд или обратно, их необходимо перевозить исключительно морским путем. Но самая крупная ахиллесова пята Оттоманской Порты расположена в местечке Зонгулдак. Там находятся угольные шахты, продукция которых необходима для отопления Стамбула в зимнее время и доставляется она туда как раз по морю. Если морскую коммуникацию Зонгулдак-Стамбул перерезать в холодное время года, то султанскую столицу ожидают серьезные неприятности.
– Понятно, – кивнул Макаров, – и в том и в другом случае мы будем иметь дело с прибрежными каботажными перевозками, для прерывания которых нет необходимости строить тяжелые броненосные крейсеры. На таком расстоянии от собственных баз для прерывания вражеских коммуникаций хватит и отрядов истребителей.
– Или подводных лодок, – вступил в разговор командир «Кузбасса», – я видел ваш «Дельфин», Степан Осипович – убожество, конечно, страшное, но дело это в принципе поправимое. Уже сейчас вы вполне способны строить подлодки так называемой серии «Малютка», сопоставимые по водоизмещению с миноносцами типа «Сокол». Вся необходимая для этого информация уже передана вашему кораблестроителю Бубнову, и сейчас он уже работает над проектом первой настоящей подводной лодки.
– Хорошо, Александр Викторович, – кивнул Макаров. – Что еще?
– Следующую войну на море, – сказал я, – с полным правом можно будет назвать войной за проливы. Только на Балтике мы будем обороняться, не пуская немцев (и, возможно, шведов) к Риге, Гельсингфорсу и Санкт-Петербургу, а на Черном море атаковать Босфор и Дарданеллы, после чего снова обороняться, не давая англо-французской эскадре выбить нас обратно. Из этого следует, что линейные артиллерийские корабли нам строить можно и нужно, в том числе и для того, чтобы не потерять компетенции. Но эти корабли следует приспособить к сражению в узких проливах поблизости от своих баз. Большой запас топлива, угля или нефти им не нужен, ведь они не уйдут далеко от Ревеля или Севастополя. Зато им требуется иметь относительно небольшую осадку, толстую броню, мощное артиллерийское вооружение главного калибра с большими углами возвышения, не менее трех четвертей орудий которого должны иметь возможность вести огонь прямо по курсу корабля. Также необходимо предусмотреть возможность установки зенитного вооружения. Ведение линейного боя тоже должно входить в возможности этих кораблей, но эта функция у них не главная. Такие линкоры береговой обороны можно будет использовать не только для штурма и обороны проливов, но и для поддержки огнем приморского фланга войск или высаженного во вражеский тыл десанта. А потому артиллерию этих кораблей необходимо будет снабдить всем спектром боеприпасов, необходимых для применения по береговым и морским целям.
– Очень хорошо, – со вздохом сказал Макаров. – Иван Константинович (Григорович), мотай на ус. Не слезай с господина Крылова, но чтобы проект такой вот кусачей линейной черепахи у нас был… Конечно, хотелось бы иметь дальние океанские крейсеры, которые могли бы вредить британской торговле, но Павел Павлович на моей памяти еще ни разу не ошибался, поэтому если он говорит, что нам придется сражаться в проливах – значит, мы будем сражаться в проливах…
– При этом, Степан Осипович, – сказал контр-адмирал Степанов, – не стоит забывать о легких крейсерах, больших турбинных эсминцах, тральщиках, минных заградителях и прочей свите, без которой невозможно существование их линейных величеств. Короля делает свита, а линейное соединение немыслимо без эскорта эсминцев и тральщиков, крейсеров-разведчиков, кораблей противолодочной и противовоздушной обороны, и так далее. Я, конечно, не большой спец в надводных кораблях, Сергей Сергеевич Карпенко рассказал бы вам это гораздо подробнее, но как специалист в своей области могу сказать, что в ближайшее время подводные лодки массово появятся не только в русском императорском флоте. Большими любителями подводного оружия также будут германцы, нацеленные на борьбу с британской гегемонией на морях. Неограниченная подводная война, обрушившая традиционное призовое право – как раз их изобретение. Поэтому мало понастроить линкоров береговой обороны для действий в ближней морской зоне, оснастив их самой современной артиллерией и приборами управления огнем; необходимо защитить эти тяжелые и дорогие корабли от ударов из-под воды и с воздуха. Пройдет еще немного времени – и небеса заполонят целые стаи быстро совершенствующихся аэропланов: сначала игрушечных, из реек, ткани и фанеры, а потом и вполне серьезных, способных сбросить под борт линкора самодвижущуюся мину или влепить ему в палубу бомбу в полтонны или тонну весом…
– Мы вас поняли, Александр Викторович, – кивнул, мотнув бородой Макаров, – если сейчас ни у кого нет ни аэропланов, ни подводных лодок, то это не значит, что они не появятся через десять или двадцать лет. А расчетный срок службы боевого корабля – лет тридцать, если не пятьдесят.
– Степан Осипович, – сказала императрица, – думаю, что вам и господину Григоровичу нужно отдельно встретиться с господином Степановым и определить как перспективный облик линкора ближней зоны, так и состав его эскорта. Кстати, вот еще что. В связи с тем, что все наши задачи на Дальнем Востоке уже решены, предлагаю вам рассмотреть вопрос об отзыве оттуда двух самых современных броненосцев «Ретвизан» и «Цесаревич», а также крейсера первого ранга «Быстрый», который я разрешаю вам использовать как образец для подражания при строительстве кораблей аналогичного назначения. Жду вашего доклада с соображениями по этим вопросам, скажем так, в течение трех дней. А теперь, господа, давайте перейдем к самому важному. В случае войны с объединенной Европой, если армия не справится со своей задачей, то и флоту после захвата всех его баз врагом деваться будет некуда. Поэтому я хочу знать, что мы должны делать, чтобы совместное нападение Швеции, Германии, Австро-Венгрии, Румынии и Турции не застало нас врасплох. Александр Владимирович, вы, как кадровый офицер из будущего, изложите нам, пожалуйста, свое видение этой проблемы.
Полковник Новиков пожал плечами и ответил:
– Для того чтобы сражаться с означенным союзом государств, нацеленным на уничтожение России, необходимо иметь людские ресурсы и промышленный потенциал, раза в полтора превышающие аналогичные показатели объединенной Европы. Если индустриализацию можно произвести достаточно быстро, лет за десять-пятнадцать, то для серьезного роста мобилизационного ресурса за счет снижения детской и младенческой смертности понадобится не меньше четверти века. И это факт. В то же время в Европе и с промышленностью, и с ростом популяции все нормально, и если мы пассивно будем ждать мировой войны, то она в лучшем случае потребует от нас предельного напряжения всех сил и огромных жертв…
– А в худшем случае? – спросила Ольга.
– В худшем, – ответил полковник Новиков, – консервативный сценарий подготовки к общеевропейской войне может означать наше поражение, которого мы не имеем права допустить.
После этих слов на некоторое время наступила тишина. Присутствующие осмысливали сказанное, понимая, что зря этот человек так говорить не будет. Я, честно говоря, тоже не ожидал такой оценки. По моим расчетам, риск неблагоприятного развития событий сводился к вполне приемлемым величинам, но полковник Новиков говорит о нем как о равновероятном исходе наравне с победой, а это неприемлемый риск…
– Александр Владимирович, – спросил я, – какие соображения заставляют вас говорить о том, что мы можем проиграть грядущую мировую войну?
– Дело в том, – сказал Новиков, – что вас, Павел Павлович, очаровала наша история, в которой Россия сражалась в двух мировых войнах с одним и тем же врагом в составе схожих между собой коалиций. В причины, по которым Российская империя не смогла дотянуть до конца первой мировой, мы сейчас вдаваться не будем, поскольку они не военные, а сугубо политические. Россия спасла Францию от второго Седана, а та в благодарность жидко обгадилась на голову своей спасительнице. Но я сейчас не об этом. И в первую, и во вторую мировые войны нашей истории у России были союзники, которые оттягивали на себя часть вражеских сил и слали нам материальное снабжение. В планируемой же вами схватке союзников у нас не будет – одни враги. Бой будет идти насмерть против всего света. Нам даже не дадут нормально усилиться, дождаться значительного роста населения и объема промышленного производства. Вспомните наш родной двадцать первый век. Едва Россия ожила и стала устанавливать взаимовыгодные отношения со своими соседями постсоветскими лимитрофами, как тут же у этих соседей начались государственные перевороты, а по миру поднялся крик, обвиняющий нас во всех смертных грехах. В этот раз, когда станет известно, что ракетная начинка «Иркутска» более непригодна к использованию, Берлин, Лондон и Париж начнут сговариваться о совместных действиях. По нам ударят сразу, как только придут к этому соглашению. Все остальные наши соседи прибегут в этот союз с радостным визгом, и турки со шведами – в первую очередь. Одним обидно за Полтаву и Гангут, а другим – за Чесму и Синоп…
– Погодите, Александр Владимирович, – спросил я, – объясните, пожалуйста, что вы конкретно предлагаете?
– Если конкретно, – ответил Новиков, – то я предлагаю вашу эпическую битву добра со злом разрезать на множество мелких кусочков. Наших противников следует выбивать из игры по одному – еще до того, как истечет срок годности «Калибров» на «Иркутске», а ведущие европейские страны сумеют договориться и образовать антироссийскую коалицию. Начать при этом лучше всего с Турции. У нее и без нас предостаточно врагов. Все Балканские государство желают вонзить ей нож в бок. Следующей нашей целью должны стать Австро-Венгрия вкупе с Румынией. Наступательную операцию и полный разгром следует производить так стремительно, чтобы Берлин просто не успел вмешаться. Исходя из этого, нам нужны не оборонительные рубежи от моря до моря (вроде Великой Китайской стены), а подвижные и хорошо вооруженные ударные части, способные к проведению рассекающих операций на всю глубину вражеского стратегического построения. Поскольку о танковых войсках на первом этапе мы мечтать не можем, то это должна быть хорошо оснащенная стратегическая кавалерия, в которой на одного бойца приходится по три коня. Один, вьючный – для перевозки необходимых припасов, и два заводных – для быстрого передвижения на марше. Кроме кавполков, в состав ударных корпусов следует включить конные артиллерийские и минометные батареи – и никаких обозов, сковывающих подвижность кавалерийских частей.
– Есть тут одно соображение, – кивнул я, – если подгадать всю эту операцию к Тунгусскому диву, то, пока у зевак закроются рты, можно очистить множество карманов.
– Отлично, – кивнул Новиков, – только операцию по ликвидации Австро-Венгрии следует начать абсолютно внезапно, по какому-нибудь малозначащему поводу (вроде нападения на Сербию), и участвовать в ней должны только части постоянной готовности. Тут так не принято: начала за месяц надо изготовиться к войне, закупить припасы, лошадей и провиант, потом объявить всеобщую мобилизацию, и только потом, когда пушечное мясо будет собрано, начинать воевать. Но мы поступим совсем не так. Пока враг будет пытаться провести мобилизацию и вообще сообразить, что происходит, наша кавалерия, как минимум, уже войдет в Будапешт.
– Но оборонительные рубежи строить нужно, – сказал я, – где-то понарошку – для показухи, чтобы убедить нехороших соседей в том, что мы их боимся; а где-то всерьез, ибо там против нас в наступление могут перейти немецкие части.
– Ну, господа, – спросила императрица Ольга, – и к чему вы пришли?
– К тому, – сказал я, – что активная тактика значительно лучше пассивной. Сидя в окопах и дожидаясь врага, можно дождаться больших неприятностей.
– В таком случае, – сказал Макаров, который был осведомлен о Тунгусском диве, – на Черном море мы просто не успеем спроектировать и построить те самые линкоры прорыва береговой обороны… Сие, исходя из нашей российской действительности, возможно не ранее двенадцатого года.
– А вы попытайтесь, – ответил я, – и увидите, что способна сделать животворящая имперская безопасность. Почему англичане способны уложиться в три года от идеи до ввода в строй, а вы, господа, требуете на это втрое больше времени? Если не успеете с линкорами, вам будет необходимо достроить и модернизировать те корабли, что уже находятся в строю или могут быть готовы в кратчайшие сроки. Переносить операцию из-за вашей неготовности никто не будет.
– Решено! – сказала Ольга, – Мы принимаем план моего мужа громить наших врагов по одному. У моего величества нет пятисот миллионов лишних подданных, чтобы класть их в мировой войне, организованной по всем правилам. Исходя из этого, моему брату и мужу предстоит сформировать в составе особого восточно-сибирского корпуса генерала Келлера одну кавалерийскую бригаду нового типа – из расчета, что следующей весной мы должны сможем обкатать ее на маневрах. А теперь я попрошу всех разойтись, на совещание в узком кругу я попрошу остаться только господ из Малого Совета…
Малый совет – это я, Новиков, Михаил Александрович и сама Ольга, то есть люди, наиболее близкие и наиболее преданные ее императорскому величеству, находившиеся рядом с ней с самого начала ее пути к трону. А это значит, что именно сейчас и начнется настоящее обсуждение – вместо той неловкой и неуклюжей говорильни, которая у нас получилась из Большого Совета.
[Несколько минут спустя. Там же, в кабинете у канцлера Одинцова Князь-консорт и полковник морской пехоты Александр Владимирович Новиков.]
Ну вот – господа генералы и адмиралы, некоторые из которых не проронили за все время и слова (Келлер), вышли из кабинета и я вздохнул с явным облегчением. Стареет Павел Павлович, стареет. Прежде у него не было ни одной промашки, а вот сегодня он взял и поставил телегу впереди лошади. Сначала такой вопрос необходимо обсудить в кругу своих, а уже потом созывать большой митинг, чтобы возвестить благую весть граду и миру. Конечно, я понимаю – Павла Павловича очаровала (или, точнее, зачаровала) картинка страны, героически, из последних сил сражающейся с врагом, эдакий микс из Первой Мировой и Великой Отечественной. Но я, как и любой армейский профи, скажу, что по большей частью героизм этот является следствием тупости, некомпетентности и нерасторопности лиц высшего начальствующего состава, и его требуется по мере возможности избегать.
Вот на русско-японской войне, уже миновавшей в этой реальности, как раз в эти дни должны были бы идти героические и отчаянные бои безнадежной обороны Порт-Артура, уже списанного в расход высоким армейским начальством. И куда делся тот героизм? А нет его – списан за ненужностью, стоило вправить кое-кому мозги и хорошенько отоварить господина Куроки на рубеже реки Ялу. Да, там героизм был к месту, нужный и вполне полезный, но только не было в нем ничего трагического. Все геройство при Тюренчене происходило, так сказать, в рабочем порядке, а участники сражения были уверены, что командование находится в надежных руках, наследник-цесаревич знает свое дело твердо и не оплошает и не сглупит. Именно так и надо действовать, а не создавать себе трудностей, чтобы потом их героически преодолеть.
А Ольга у меня умница – поняла, что обсуждение свернуло не туда, и распустила Большой Совет для обсуждения вопросов «в комитетах»; а чтобы решить вопрос «по существу», собрала нас, своих ближайших помощников. Почему она не пригласила остаться контр-адмирала Степанова? Не знаю, наверное, потому, что он не был с нами от звонка до звонка на Элиотах. У него был свой отдельный квест, и Ольга не воспринимает его как своего. Сергей Сергеевича бы сюда… но чего нет того нет, поэтому будем решать вопросы сами, в меру собственного разумения, тем более что, действительно, судьба следующей войны будет решаться на суше, а не на море.
– Итак, друзья, – сказала моя ненаглядная, – во избежание повторения ситуации, когда карета оказывается впереди лошади, прежде всего предлагаю обсудить вопрос будущего Российской империи: какой она должна стать и чего нам следует избегать как огня.
– В первую очередь, – сказал я, – Российская империя должна быть сильным государством с развитой промышленностью и сытым довольным народом. И править ею должны не кто попало, а лучшие и достойные люди, служилое сословие, не жалеющее для нее ни сил, ни трудов.
– Если Россией будет править кто попало, – заметил Одинцов, – то она никогда не станет сильным государством с развитой промышленностью и сытым и довольным народом.
– И это тоже верно, – хлопнула в ладоши Ольга, – но это азбучные истины, которые вы, Павел Павлович, могли бы и не повторять. Но предположим, что мы вчетвером как раз не кто попало, и по такому же принципу, ориентируясь исключительно на полезность для дела, подобрали себе помощников. Какие есть еще силы, внутренние и внешние, которые могут помешать нам вести Россию к искомой государственной гармонии и процветанию?
Одинцов пожал плечами.
– Внутренних сил, мешающих развитию России, – сказал он, – всего четыре. Причем одна из этих сил действует на российское общество снизу, а три остальные сверху. Снизу нас тормозят нищета, забитость и неграмотность основной народной массы, и пока мы не справимся с этой проблемой, она чугунным каторжным ядром будет висеть у нас на ногах. Сверху на общество в первую очередь давят те, кто имеет прямую выгоду от нынешнего положения дел. Это дворяне-нахлебники, проматывающие выкупные платежи, плату за сдаваемую в аренду пашню, а также кредиты Дворянского банка, данные им под залог имений, хлеботорговцы, скупающие урожай по дешевке и отправляющие его на экспорт, фабриканты, извлекающие сверхприбыли из дешевого труда русских рабочих, банкиры, эксплуатирующие жирные нивы золотого стандарта. Мы пока только примеряемся, как взяться за этих людей, чтобы вместе с ними не снести Россию – ведь они так вросли в ее действительность, что не отдерешь, так что теперь требуется резать по живому. Отдельной проблемой можно считать взяточников-коррупционеров и работающих с ними в паре поставщиков всякого негодного гнилья, которое они сбывают по цене первоклассного товара. Но на этих теперь хотя бы есть управа. Имперская безопасность исправно вскрывает их делишки и, беспощадно конфисковав имущество, отправляет субчиков на каторжные работы. Кроме двух предыдущих проблем, в нашей российской действительности существуют такие вроде бы образованные люди, называющие себя интеллигентами, которые всегда будут против правительства, кем бы оно ни было назначено и какие бы действия ни предпринимало. Но это не проблема, а скорее помеха. Крику много, толку чуть; хотя брызги ядовитой слюны во все стороны, признаюсь, напрягают. А выписывать за их деятельность по паре лет каторги я все же считаю неоправданным. Внешние же силы, действующие против нас, просты и однозначны. Как говорил еще ваш батюшка, Европа пугается нашей огромности и хочет, чтобы мы умерли, превратившись в корм. Правда, некоторые из государств предварительно хотели от нас работы по сдерживанию своих конкурентов, но теперь, в связи с нашими действиями и самим фактом нашего существования, они отставили эти мечты в сторону. Чем больше мы будем увеличивать мощь России: расселять наших крестьян на пустых землях, улучшая их жизнь и увеличивая урожаи зерна, строить заводы и фабрики, открывать университеты и заявлять о научных достижениях, усиливать армию и флот, раздвигать границы, тем сильнее нас будут ненавидеть и тем больше будет жажда нашего уничтожения…
– Хорошо, что вы это осознаете, Павел Павлович, – вздохнула Ольга, – особенно в рассуждении народной бедности как главной помехи нашему развитию. И как с такой страной, большая часть которой живет натуральным хозяйством, как при князе Владимире Красно Солнышко, затевать большую затяжную войну? Мой братец Ники на этом в вашей истории погорел, проиграв в такой войне и страну, и собственную жизнь. Нет, и еще раз нет. Александр Владимирович прав: мы можем позволить себе только относительно дешевые, стремительные, как удар молнии, операции, сосредотачивая против очередного соперника всю свою мощь и создавая решающий перевес в силах. Что вы на это скажете?
– Все правильно, Ольга, – Одинцов склонил голову, как бы подтверждая свою промашку, – но это ни в коем случае не отменяет необходимости всемерно усиливать Россию – как в промышленном, так и в социальном отношении. И в то же время переселенческая программа, ликбез, электрификация, индустриализация и прочие компоненты этого усиления будут вызывать в Европе тревогу, сопровождающуюся ростом агрессивных настроений среди политиков. Особенно нервно там будут реагировать на электрификацию и индустриализацию… К социальным программам за границей, я думаю, отнесутся гораздо терпимее, но это не из какого-нибудь благородства, а из святой веры в непрошибаемую тупость русского мужика. Крик тут могут поднять отечественные особи либерального происхождения, уверенные, что деньги, потраченные на мужиков, оторваны непосредственно у них, любимых.
– Ерунда, – махнула рукой Ольга, – пусть кричат. Как говорил мой пращур Петр Великий, «чтоб дурость их была видна каждому» – а особенно тем самым мужикам, которые научатся читать и вдруг узнают, что о них на самом деле думают господа либералы. Но я нахожу основание для тревоги в том, что наше промышленное усиление будет вызывать рост европейской агрессивности. Нечего европейцам зазря нервничать, ведь так и до беды недалеко…
И тут меня осенила одна идея.
– Знаете что, товарищи, – сказал я, – там, в нашем прошлом, были так называемые закрытые города, куда не ступала нога подозрительного иностранца или даже просто непроверенного человека. И причиной той закрытости была как раз размещенная в этих городах военная промышленность, которую власти желали уберечь от шпионов и вредителей. Так почему бы нам не объявить особой закрытой территорией, своего рода опричниной, весь Урал, и именно там строить все новые заводы и фабрики?
– И не только Урал, – подхватил мою идею Одинцов, – восточнее и южнее Урала тоже множество подходящих мест, куда нежелательно пускать иностранных визитеров.
Ольга вздохнула.
– Знаешь, Александр Владимирович, – устало сказала она, – шпиону даже не понадобится самому ехать на эту закрытую территорию. Какой-нибудь доброхот сделает это для него бесплатно или за небольшие деньги.
– Если разрешение на посещение закрытых территорий будут выдавать в имперской безопасности, – пожал плечами я, – то и доброхоту тоже попасть туда будет очень непросто. Даже если полной секретности добиться не удастся, то сбить с толку и сильно занизить темпы нашего экономического развития мы, скорее всего, сумеем…
– А для пущего успеха дезинформации, – добавил Одинцов, – можно будет пустить в либеральной среде байку, что все эти закрытые территории есть сплошные потемкинские деревни, и ничего более. Так как наши смердяковы ни во что иное поверить не смогут, они заглотят наживку по самые гланды, и о том же донесут своим хозяевам.
– Хорошо, быть посему, – кивнула Ольга и перевела взгляд на Великого князя Михаила Александровича:
– А ты, братец, что молчишь?
Тот только пожал плечами.
– В тех делах, которые вы сейчас обсуждали, – сказал он, – я, сказать честно, ничего не понимаю. Вот если бы речь зашла о войне – так было бы совсем другое дело.
– Война, братец, – вздохнула Ольга, – есть ни что иное, как продолжение политики другими средствами. Никуда мы с тобой от нее не денемся. Или, может быть, тебе вообще непонятно, о чем мы сейчас тут толковали?
– Да нет, сестрица, – пожал плечами Михаил, – вполне понятно. Сразу тебе скажу – я во всем согласен с тем, что прежде и сейчас говорил твой Александр Владимирович. Он не только храбрый воин, но и очень умный человек; цени и береги его, насколько это вообще возможно.
Приятно же, черт возьми… потому что Великий князь Михаил Александрович – один из немногих Романовых, к которому я чувствую безотчетное уважение. Ольга вон тоже покраснела от удовольствия. А то как же – любимый брат одобрил выбранного ею мужа, да еще как одобрил.
– Да, – смущенно сказала она, – это действительно так. Но я слабая женщина и ничего не понимаю в военном деле, а потому вы оба, два человека на свете, которых я уважаю и люблю больше всех, мой брат и мой муж, должны сделать так, чтобы мы оказались готовы к предстоящей войне. Мы должны суметь провести ее так, что у господ европейцев челюсти упали бы от удивления. На этом все. А сейчас давай закончим деловые разговоры и направимся гостиную, где Дарья, наверное, уже распорядилась накрыть к обеду стол. Идем.
[10 сентября 1904 года, 11:45. Санкт-Петербург, Новая Голландия, Опытовый бассейн Начальник Опытового бассейна, младший судостроитель Алексей Николаевич Крылов.]
Когда после совещания у государыни императрицы Степан Осипович Макаров впервые озвучил мне требование к новому линкору и срокам готовности проекта, поначалу я был вынужден только покрутить пальцем у виска. Менее четырех лет срока от эскиза до ввода в строй кораблей первой серии? Совершеннейшее безумие. Но, как оказалось, это безумие имело под собой твердую основу. Уже на следующий день адмирал Макаров и морской министр Григорович явились ко мне в Новую Голландию в компании капитан-лейтенанта Синельникова.
Сей молодой офицер прибыл к нам на подводном крейсере «Иркутск» из далекого две тысячи семнадцатого года. Отсюда и звание, не виданное в наших Палестинах. Там, в будущем, между лейтенантом и капитаном второго ранга вполне привольно разместились старший лейтенант, капитан-лейтенант и капитан третьего ранга. Так вот, в этом Синельникове и был скрыт главный секрет. Точнее, секрет был не в самом этом молодом человеке, а в имевшимся при нем приборе размером с небольшой чемоданчик. Хотя и сам капитан-лейтенант тоже кое-чего стоил. Там, у себя, в двадцать первом веке, он был поклонником больших броненосных кораблей, совершенно вымерших к тому времени, и собирал их эскизы и основные данные с тем же фанатизмом, с каким другие собирают почтовые марки или редкие монеты. И ведь поди ж ты – пригодилось увлечение-то.
Несмотря на то, что сам процесс проектирования нам все равно предстояло проделать самостоятельно, выбор компоновки и основных размерностей будущего корабля был сделан стремительно, буквально в течение нескольких часов. Замечательно иметь опыт нескольких грядущих впереди десятилетий и заранее знать, какие идеи отказались выигрышными, а от каких лучше отказываться сразу. Впрочем, обо всем по порядку.
– Господа, – сказал адмирал Макаров, когда я и мои товарищи, корабельные инженеры, приготовились внимать начальственному гласу, – к следующей войне России необходим совершенно новый тип боевого корабля – многобашенный линкор, приспособленный для действий в узостях и мелководьях прибрежных вод внутренних морей…
Мои подчиненные, с которыми я, конечно же, еще не делился тем, что мне сказал адмирал Макаров день назад, недоуменно молчали. А то как же: только что, буквально вчера, Российские армия и флот одержали грандиозную победу, а Степан Осипович уже говорит о новой, крайне грозной войне, и не где-нибудь, а прямо в Европе.
Не дождавшись внятной реакции, адмирал Макаров после нескольких секунд молчания добавил:
– Есть сведения, что следующая война в Европе не будет похожа на минувшую войну с Японией. То есть совсем. Наша победа на Дальнем Востоке напугала многих и многих, и не исключено, что теперь Европа навалится на нас всем своим весом. Как во времена вторжения Наполеона, вопрос будет стоять о самом существовании России как государства, а русских как народа. Победитель в той войне получит все. При этом фланги сухопутного фронта, который перечеркнет Европу напополам, упираются в моря, и на флот ляжет задача поддерживать действия наших армий на приморских направлениях, прикрывать наше побережье от вражеских десантов и высаживать наши десанты в ближний и дальний вражеский тыл. Одним словом, корабль, который вы будете проектировать, должен быть достаточно крупным, несущим только орудия главного и противоминного калибров, при этом достаточно хорошо защищенным и к тому же быстроходным. Он должен быть приспособлен как к эскадренному линейному сражению, так и к индивидуальному бою на минно-артиллерийской позиции при поддержке береговых батарей и подводных лодок, а также к поддержке действий сухопутных войск и обстрелу удаленных от линии побережья береговых целей… Впрочем, об остальном вам должен докладывать уже не я. Господа, позвольте представить вам капитан-лейтенанта Константина Синельникова с подводного крейсера «Иркутск». Прошу, как говорится, любить и жаловать. Константин, расскажите, пожалуйста, господам кораблестроителям о том, какие бывают настоящие линкоры, а не то, что этим словом называется в наше время…
– Один момент, Степан Осипович, – сказал Костя, водружая на стол небольшой чемоданчик, – лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Минуту спустя мы лицезрели извлеченный из чемоданчика плоский прибор, в сложенном виде габаритами напоминающий дамский альбом, а когда молодой человек его открыл, то стало видно, что внутри скрывается клавиатура (примерно как у пишущей машинки), а на откинутой крышке демонстрируются потрясающе четкие цветные картинки. Это была довольно занятная вещь; впрочем, как и все прочие приборы из будущего.
– Извиняюсь, – сказал Константин, – проектора у нас нет, так что придется по-простому разглядывать изображение с экрана. Итак, история того, чего еще не было. Линкор номер один, замыслы о котором уже бродят в голове первого британского морского лорда адмирала Фишера. Имя этому чудику будет – «Дредноут». Англичане наклепали по той же схеме еще шесть его систершипов, но к тому моменту, когда грянули сражения, вся эта братия так капитально устарела, что эти корабли всю войну простояли в резерве, а сразу после ее завершения, не выслужив и половины минимального срока, отправились на слом. Это вам в качестве примера того, как не надо строить линкоры.
– Простите, Константин, – сказал я, разглядывая схему британского линкора, – а что тут не так?
– Во-первых, Алексей Николаевич, – сказал молодой человек, – мы подбирали проекты, у которых носовой залп был бы не намного хуже бортового. Так вот: тут носовой залп мнимый. Выстрелить из всех шести орудий разом можно только по цели, находящейся прямо по курсу; стоит ей сместиться чуть вправо или влево – и одна боковая башня выпадает из игры, то есть по одной цели на носовых курсовых углах могут стрелять только две башни из пяти. Второй фатальный недостаток этой серии кораблей – это как раз башни главного калибра. Желая поскорее наляпать своих уродцев, адмирал Фишер распорядился взять для них готовые двухорудийные башни и орудия, приготовленные для постройки броненосцев серии «Дункан». Естественно, это была уже устаревающая конструкция, в то время как все вероятные противники Великобритании корабельную артиллерию имели самую современную. Третий недостаток – корабли этой серии были лишены системы центрального управления огнем, а без нее линкор не линкор, а только баржа с большими пушками. Четвертый недостаток. Даже те примитивные системы артиллерийской наводки, что имелись в наличии, нельзя было нормально использовать, потому что мачта, на которой смонтирован командно-дальномерный пост, установлена позади дымовой трубы. Собственные дымы частенько заволакивают цель, а раскаленные дымовые газы превращают командно-дальномерный пост в филиал ада, объединенный с жарочным шкафом…
Потом молодой человек последовательно рассказал о российских линкорах типа «Императрица Мария», после чего перешел к так и не реализованному в их мире линкору-крейсеру «Измаил». Эти корабли, по его мнению, были уже гораздо ближе к идеалу, потому что могли вести огонь вперед тремя башнями из четырех при небольшом отклонении от диаметральной плоскости. «Измаил» был еще замечателен тем, что орудия у него не двенадцати, а четырнадцатидюймового калибра, что в полтора раза увеличивает вес залпа, а корпус имеет скоростные обводы и полубак, придающий мореходности. Константин попросил нас запомнить данную конструкцию корпуса. Мол, пригодится. Гениальный человек проектировал корабль, некто И.И. Бобров… После этих слов наш Ваня Бобров, младший помощник кораблестроителя (первый офицерский чин), только в этом году окончивший курс Кронштадтского морского инженерного училища, вдруг покраснел как девица и упер глаза в пол. А я подумал, что таким вот образом возможно выявлять не только успешные проекты кораблей, но и хороших инженеров-кораблестроителей…
Правда, эта мысль так и пропала втуне, потому что следом нам была показана схема британского линкора «Нельсон» (не путать с броненосцами «Лорд Нельсон»), построенного в середине двадцатых годов. Вот уж воистину уродец, замечательный только своими девятью шестнадцатидюймовками. Три башни главного калибра по три орудия – и все три в носовой части корпуса, при этом вторая башня линейно возвышена над первой, в результате чего они вдвоем изрядно ограничивают возможности третьей башни… а на кормовых углах противник и вовсе появиться не может. Ну-ну… явно же этот корабль создавался не для линейных сражений, а для обстрела береговых целей. (Автору, кстати, тоже интересно, кого эти британские конструкторы, создавшие эдакого уродца, в середине двадцатых годов видели в качестве вероятного противника Роял Нэви? Ведь и СССР, и Германия тогда еще лежали в руинах…).
И вот, наконец, нам была представлена вершина кораблестроительной мысли. Несколько проектов разных стран, отличающихся друг от друга только деталями. Две линейно-возвышенных трехорудийных башни на баке, одна такая же – в корме. Бортовой залп девять стволов, носовой шесть, причем на тупых углах вперед начинает доставать и кормовая башня. И тут же у американского проекта линкора «Айова», построенного на четверть века позже «Измаилов», точно такие обводы носовой части, только полубак заменен седловатостью носовой палубы. А эти корабли прослужили больше полувека – значит, оказались удобными в эксплуатации и эффективными в бою. Так что, как ни печально было это признавать, лучшим вариантом стали линейно-возвышенные башни, так нелюбимые нашими корабельными инженерами. Именно этот концепт из наиболее выгодных для скорости обводов и расположения башен главного калибра должен стать основой для концепта русского линкора. Четвертая башня главного калибра, куда ее ни пихай, по условиям задачи, во всех случаях (кроме чисто линейного боя) превращалась в балласт. А линейный бой, как поведал господин Синельников – явление, в двадцатом веке вымирающее по определению, так что рассчитывать под него боевой корабль было бы глупостью.
– Итак, господа, – сказал Костя напоследок, – на этом моя лекция закончена, более откровений не будет. Но должен заметить, что все эти проекты середины века рассчитаны на шестнадцатидюймовые орудия, но они – детища достаточно отдаленного будущего. Более того, у нас нет даже морских четырнадцатидюймовок, к проектированию которых тоже пока даже не приступали. Все, что у нас сейчас есть – это достаточно неплохое, но быстро устаревающее двенадцатидюймовое орудие образца тысяча восемьсот девяносто пятого года. Если проектировать линкор выбранной вами компоновки под существующие орудия, то получается карманный малыш водоизмещением в восемнадцать-девятнадцать тысяч тонн и с весьма скромной осадкой. И в то же время в линейном или одиночном бою он будет вполне адекватен детищам адмирала Фишера, имеющим схожее водоизмещение, при этом всего на одно орудие больше. Зато прослужит ваш карманный линкор гораздо дольше одноразовых британских поделок, ибо будет адекватен даже в середине наступающего века.
– Константин, – с удивлением спросил я, – так вы предлагаете проектировать корабль под существующие орудия главного калибра, а не, наоборот, подбирать пушки к выбранному проекту?
– Ну, разумеется, Алексей Николаевич, – ответил мне Синельников, – в случае линейного корабля, каким бы он ни был, большие пушки являются главной его составляющей. Остальное же – это только инструмент их доставки в ту точку, из которой они могут нанести противнику максимальный ущерб, а также средство обеспечения их живучести в бою, чтобы после полученных повреждений наш корабль смог вернуться в базу и отремонтироваться, а вражеский – утоп и больше никогда не всплывал.
– Вот, Константин, – сказал я, поднимая вверх палец, – а говорили, что откровений больше не будет…
Впрочем, на этом все далеко не закончилось. Молодого человека приказом его командира прикомандировали на помощь к нашей команде корабельных инженеров, и вот уже два дня мы не отходим от чертежных досок. Ящичек господина Синельникова, помимо демонстрации картинок, оказался способен к проделыванию множества вычислений, что существенно ускоряет работу. До ее конца еще достаточно далеко, но мне уже нравится тот ладный и мощный корабль, который прямо на глазах рождается на чертежных досках. Ничего лишнего, только эффективность и простота. Проект пока носит условное название «Гангут-2». Думаю, что через месяц эскизный проект девятиорудийного компактного линкора будет уже готов. Как раз к тому моменту, по данным наших потомков, адмирал Фишер на верфи в Портсмуте заложит киль своего «Дредноута». Линкорная гонка началась. Только он будет закладывать киль одного корабля, а мы сразу семь: четыре единицы на Балтике и еще три на Черном море.
[12 сентября 1904 года, около полудня. Царское село, Александровский парк Анна Горенко (Ахматова) (15 лет) и Николай Гумилев (18 лет).]
Осенний Александровский парк тих и прекрасен. Облетают с пожелтевших берез листья, усыпая опустевшие дорожки, на которых больше не появляется высокая фигура бывшего царя в офицерской шинели и с винтовкой на плече. Совсем недавно тут творилась история: неподалеку от этого места, в Александровском дворце, умерла императрица Александра Федоровна, а ее безутешный супруг бродил по этим аллеям, и именно здесь его утешал капитан первого ранга Иванов, по служебным делам прибывший с Тихого океана. Поговаривают, что этот суровый господин, с которым царь Николай держался запросто, будто с равным – и не человек вовсе, а сам Господень посланец, за спиной которого незримо развернуты белые ангельские крылья. Здесь, на этих дорожках, состоялось покушение на царя, и здесь он, уже будучи ранен насмерть, застрелил покушавшегося из своей винтовки выстрелом прямо в сердце. Здесь, совсем рядом, раненый царь, уже причастившийся Святых Даров, не надеясь выжить, подписал отречение от престола в пользу младшего брата… А потом бывший царь, несмотря на усилия врачей, выздоровел. И совсем недавно он уехал в Гельсингфорс, оставшийся в майорате[25] за его семьей.
И хоть прочие события, всего за полгода изменившие облик мира, происходили в других местах, все равно это место дышало историей…
И сейчас по усыпанным палой листвой дорожкам гуляют юноша и девушка. Девушка холодна и печалится о судьбе умершей императрицы (что доказывает, что даже сильных мира сего не обходят горести и печали), а юноша влюблен, самоуверен и возбужден победой в войне с Японией, а также переменами, которые произошли в России после смены власти, и грядущими сияющими перспективами. Для таких, как он, любая перемена к лучшему. Как бы он хотел встретиться с теми людьми и поговорить с ними… но он чувствует настроение спутницы, а потому читает ей подходящее к случаю стихотворение «По стенам опустевшего дома…». Он все еще надеется завоевать ее сердце, как обычно надеются на это восемнадцатилетние юноши, безумцы, не признающие слова «нет».
– …И рыдают печальные гномы В тишине своих новых владений…Последние строки стихотворения, казалось, вызвали отклик у природы: листья, схваченные порывом ветра, внезапно взметнулись с дорожки у ног этих двоих и, закрутившись вихорьком, перенеслись на другое место. Но дева осталась внешне бесстрастна. Несколько минут она пребывала в задумчивости, и в это время молодой человек напряженно наблюдал за ней. Ему нравилось смотреть на нее, видя, как движение мысли неуловимо меняет ее лицо. Всякий раз он пытался читать по нему, словно по книге с загадочными, смутно-знакомыми письменами, он выискивал в нем признаки восхищения иди хотя бы удовольствия… пусть даже не от самих стихов, а хотя бы от того, что он, верный ее поклонник, читает их ей – ей одной – в этой романтической атмосфере осеннего парка, преподнося как на блюдечке свою душу влюбленного рыцаря… Но она, эта холодная, горделивая русалка, была равнодушна к своему поклоннику. Она воспринимала его ухаживания как должное, в то время как сердце ее было занято другим. И верный ее кавалер, конечно же, догадывался, что о стихах его она не самого лучшего мнения, и только из вежливости позволяет себе не критиковать их. Но он не обижался. Он старался писать еще лучше, стремясь достичь совершенства, он хотел превзойти всех и заслужить ее одобрение. Он свято верил, что однажды он завоюет признание не только у нее, но и у всего народа.
Впрочем, сейчас он заметил, что на этот раз ему удалось пробудить в ней если не эмоции, то целый всплеск мыслей. Сначала глаза ее потемнели, а потом в них зажегся тот колдовской свет, что сводил его с ума, заставляя делать все, чтобы увидеть его снова. “А ведь ей пятнадцать… – думал он. – Девочка! Но какая… В ней уже присутствует все, что возвышает ее над сверстницами: глубокий ум, склонность к размышлениям, небанальность рассуждений. В ней ощущается некая свобода души, полет, редкостная способность презреть штампы и условности, смотря поверх голов туда, куда мало кто осмеливается бросить хотя бы мимолетный взгляд… В этом она похожа на меня. И за это я и люблю ее… И еще за красоту – загадочную, нездешнюю…”
Вдруг она, обычно избегавшая прикосновений, взяла своего спутника под локоть, словно бы в задумчивости; у того даже захватило дух от этого ее непринужденного жеста.
– Коля… – произнесла она каким-то глубоким, проникновенным голосом, глядя куда-то вдаль. – Коля, скажи, ведь все теперь изменится? Все будет не так, как должно было быть?
Он очень хорошо чувствовал ее, и потому не торопился с ответом. Он знал ее манеру начинать монолог риторическим вопросом, за которым должны следовать рассуждения. “Мы еще ни разу не говорили с ней о том, что у всех на слуху, – подумал он, чувствуя волнующее тепло ее узкой, невесомой ладони, – и вот наконец этот момент настал…” Она продолжила говорить:
– Скажи, Коля, неужели отныне наша судьба пойдет по другому пути? Наша – я имею в виду твоя и моя, наших близких… Или же судьбу отдельного человека не изменить в целом? Знаешь, я всегда думала, что наша судьба предначертана. Что она дает нам какие-то знаки, подталкивает к чему-то – до тех пор, пока мы не сделаем так, как ей угодно. Словом, все решается там… – она вскинула свой ясный взор к небу, которое мгновенно отразилось в ее глазах, сделав их облачно-серыми, – там, на небесах… Провидение, или Господь, всегда добивается своего. Но… – тут она как-то резко повернула голову и вперилась в лицо молодого человека строгим взглядом, – но получается, что у Господа есть разные варианты… Он видит их все, потому что для него нет ни прошлого, ни будущего. Коля! Ты понимаешь – и то, и другое существует только для нас… И вот, Коленька, выходит так, что одновременно с настоящим есть еще и будущее, в котором мы с тобой, дружок мой, уже давно покоимся в сырой земле… Но дело в том, что это уже НЕ НАШЕ будущее, и те, которые ТАМ мертвы – это не мы. Это были мы до той лишь поры, пока не появились эти… эти пришельцы ОТТУДА. Понимаешь? – Она крепче сжала локоть юноши, положив на него и вторую свою руку. Взгляд ее вновь блуждал по небесным просторам. – Вот и пришлось убедиться, насколько неисповедимы пути Господни… Чудо, истинное чудо явил Он нам… И, знаешь, Коленька, промысел-то Его очевиден. Он хочет сделать все по-другому, не так, как было в истории того мира откуда к нам пришли эти люди…
Она замолчала. От переполнявших эмоций грудь ее вздымалась.
– Конечно, Он хочет сделать по-другому, – согласился ее собеседник. – Потому Он и явил это чудо. И ведь все уже знают, что это истинное чудо, и никто не пытается обмануть себя. И, на мой взгляд, уже один факт того, что это чудо произошло ИМЕННО ТАКИМ ОБРАЗОМ, должен бы заставить врагов России спрятаться куда подальше и не высовываться. Но, кажется, у них слишком много глупости или дерзости, или самоуверенности, раз они продолжают свои попытки хоть как-то избегнуть неизбежного. Огненные письмена появились у них на стене, ангел с пламенеющим мечом трубит на их пороге, а они все не оставляют своих усилий так или иначе уязвить Россию. Им же от этого становится только хуже, а они этого не понимают и с достойным дятла упорством долбят гранитную колонну.
– Ах, Коленька! – воскликнула девушка, – ты думаешь, все дело в глупости и самоуверенности? Нет, просто они уже тоже знают, что теперь это ДРУГАЯ история, в которой они надеются отыскать и свой шанс… Загнанная в угол крыса в отчаянии кидается на своего врага, вот и враги России тоже хоть как-то пытаются если не отменить, то хотя бы отсрочить вынесенный им приговор. И не их вина в том, что после каждого рывка петля на их шеях затягивается все туже. Вот скажи… если бы ты знал, что в будущем тебя ждет что-то нехорошее, ты бы попытался как-то это изменить?
Молодой человек задумался лишь на мгновение. Затем уверенно произнес:
– Нет. Все дело в том, что я стараюсь жить по совести, и все мои поступки продиктованы исключительно моим понимаем чувства долга. Я совсем не боюсь ни смерти, ни страданий. И даже тогда, когда я бываю безрассуден, я все равно следую своему внутреннему побуждению, и поступать по-другому значило бы стать уже другим человеком, не собой.
– Вот как? – Девушка с каким-то новым интересом заглянула в глаза юноши. – Значит, тебе не хотелось бы узнать, как сложилась твоя судьба там, в том мире, где мы давно уже обратились в прах?
– Твой вопрос, милая Анечка, заставляет задуматься… – Парень замедлил шаг; его взгляд блуждал по качающимся верхушкам высоких кленов. – С одной стороны, естественное человеческое любопытство толкает к тому, чтобы узнать это… Но, с другой стороны, я вижу нечто нездоровое, гнетущее в том, чтобы думать о себе “я жил и умер", словно бы я – какой-то ненастоящий я. Да и вряд ли мне удалось бы избавиться от постоянных мыслей о подробностях жизни того второго меня. В этом случае я буду помимо своей воли анализировать поступки и мотивы себя второго, сопоставлять их с ЭТИМ собой… И в итоге я свихнусь. Нет, я, пожалуй, предпочел бы ничего не знать о себе другом…
– Ты серьезно?! – Девушка остановилась и развернулась к своему спутнику лицом. В глазах ее светилось недоверчивое изумление.
– Конечно! – подтвердил юноша. – Тот Николай Гумилев прожил свою жизнь и теперь покоится с миром, а я – не он, и живу только своей жизнью. Говорят, что когда государь Николай Александрович узнал о себе ином, он сначала чуть не сошел с ума, а потом решил отречься от трона сразу, как только выдастся подходящая возможность. Даже помазанник Божий оказался не силах вынести гнет абсолютной истины, и я не хочу себе такой судьбы.
Он говорил и одновременно любовался своею спутницей – уж больно она была хороша в этот момент: юная, наполненная жизнью, со светящимся взором и алеющими губами.
– А я бы хотела… – тихо произнесла она, отворачиваясь от него; они снова шли рядом по аллее, держась за руки. – Я бы хотела знать все о своей жизни, чтобы избежать ошибок…
– Даже если ты избежишь одних ошибок, ты совершишь другие, – сказал юноша, сжимая ее ладонь в своей руке. – Знание свой ТОЙ судьбы не убережет тебя, ведь ты сама заметила, что мы – уже не те “мы", что были в ТОМ мире. Делай что должно, говорил император Марк Аврелий, и да свершится что суждено. И так же действуют и они – те, что пришли в наш мир и теперь гнут его под себя с неумолимой решимостью людей, облеченных огромной властью карать и миловать целые народы. Ах, как я хотел бы встретиться и переговорить хоть с одним из них, узнать, о чем они думают и к чему стремятся… а вовсе не подробности той, иной истории.
Некоторое время они шли молча. Потом она тихо заговорила; и голос ее был не таким как обычно:
– Знаешь, я думаю, что раз Господь таким чудесным образом позаботился о судьбе России, значит, там, в том будущем, с нашей страной произошло что-то страшное, что-то катастрофическое… Страшен, видимо, тот мир, раз уж пришельцы оттуда с таким пылом взялись переделывать тут все подряд – не иначе как для того, чтобы произошедшее у них никогда не случилось у нас… Наверное, многие это понимают. Вот и мой папенька тоже пребывает в полном восторге. Впервые с момента смерти государя Императора Александра Третьего государственный штурвал России сжимает твердая рука. Так вот, Коленька: теперь всем нам следует больше думать о России, нежели о себе. Всеми силами мы должны поддерживать Божьих посланцев. Вот наш долг в свете происходящего. А что же касается наших персональных судеб… тут, наверное, ты прав. Надо просто действовать по совести. Я поняла – теперь у нас будет совершенно иная судьба, чем в том мире. А раз так, то теперь мне ясно, что судьба человека ничем не может быть предопределена… Господь оставляет нам свободу воли, и наша судьба предопределяется исключительно нашими мыслями, поступками… и ничем, ничем иным…
[15 сентября 1904 года, 9:15. Гельсингфорс, Резиденция Великого князя Финляндского (ныне Президентский дворец) Подполковник барон Карл Густав Маннергейм.]
Вызов в Гельсингфорс, поступивший от бывшего императора (а ныне только Великого князя Финляндского) Николая Александровича стал для меня полной неожиданностью. Я просто не понимал, для чего я мог понадобиться отставному государю. Но при этом я не видел для себя никаких оснований манкировать этим приглашением. Если я там нужен, то обязательно поеду, тем более что Гельсингфорс – мой родной город, побывать в котором я никогда не отказываюсь. Поскольку последние полгода я был прикомандирован к Кавалерийской школе, то за разрешением отбыть в Гельсингфорс я пошел к ее начальнику генерал-майору Брусилову. Тот был чрезвычайно занят, вследствие чего только махнул в мою сторону рукой.
– Конечно же, голубчик мой Густав Карлович, – рассеянно сказал он, – непременно поезжайте. Ежели так будет надо, то и отпуск мы вам выправим бессрочный. Хоть нам Николай Александрович теперь никто, а вот для вас, как для финского уроженца, он продолжает оставаться монархом.
Да уж, Алексею Алексеевичу сейчас не позавидуешь. За два дня до того разговора к нам в Школу заглянул Великий князь Михаил Александрович и имел с начальником школы весьма продолжительную беседу. О чем там шла речь, нам неизвестно, да вот только генерал Брусилов с тех пор будто сам не свой. Но это было уже не мое дело…
Получив разрешение, я отправился на Финский вокзал и сел на поезд. Так я делал всегда, когда мне хотелось посетить родной город. В пути мне пришлось провести почти весь день. Это только на карте кажется, что Гельсингфорс совсем рядом с Санкт-Петербургом, но на самом деле по железной дороге это больше половины расстояния от Питера до Москвы. В итоге на дорогу я потратил почти девять часов, ужасно утомился, в силу чего не поехал представляться государю на ночь глядя, а направился в свой городской дом. Там я привел себя в порядок, выспался и, зная привычки государя, рано утром отправился в Великокняжеский дворец. По пути меня немало удивил город – какой-то пришибленный, притихший, – и фланировавшие повсюду вооруженные матросские патрули.
У парадного входа вместо дворцовых гренадер, приличествующих этому месту, стояли солдаты совершенно невозможного вида, одетые в черно-зеленые пятнистые мундиры, из-под которых выглядывали полосатые морские тельники. Как же, знаем: это головорезы из особой бригады князя-консорта, герои Тюренчена и Цусимы, а также верные псы императрицы Ольги. Скажи при них о государыне плохое слово – загрызут насмерть. Впрочем, службу эти солдаты тоже знают на ять. Узнав мое имя и титул, а также то, по какому делу я явился во дворец, они, не колеблясь ни минуты, вызвали слугу – и тот сопроводил меня к курительной комнате, где государь после завтрака отравлял свой организм свежим никотином.
И Николай Александрович был там не один, а в компании седоволосого капитана первого ранга, незнакомого мне. Впрочем, об этом человеке я слышал… но никогда его прежде не видел. О господине Иванове в петербургском обществе говаривали разное. Одни называли его посланцем Князя Тьмы, другие – посланным Господом архангелом; но никто – подчеркиваю, никто – не мог назвать его пустым и случайным человеком, вроде отиравшегося подле Государя перед войной отставного ротмистра Безобразова. Впрочем, к моему появлению этот господин отнесся вполне положительно, и по тому, как он переглянулся с Николаем Александровичем, я понял, что приглашение, которое послал мне государь, было согласовано с этим человеком. И государь не преминул подтвердить мою догадку.
– Здравия желаю, Ваше императорское Величество, – первым поздоровался я, – подполковник Маннергейм явился по вашему вызову…
– Здравствуйте, дорогой Густав Карлович, – отозвался государь, – мы очень рады вас видеть. У нас с Михаилом Васильевичем на вас большие виды. Но только не надо нам льстить, называя Величеством. Я теперь всего лишь вассал своей любезной сестры, Великий князь Финляндский, и не более того – а значит, всего лишь Светлость. Впрочем, давайте оставим эту тему и поговорим о деле. Вы нам нужны, поскольку без вашей помощи нам придется тяжело.
– Слушаю вас, государь, – с тревогой в голосе произнес я. – Готов выполнить любое ваше поручение, каким бы сложным оно ни было.
Император и господин Иванов снова переглянулись, потом Николай Александрович с оттенком обиды (скорее, напускной) в голосе произнес:
– Господин Маннергейм, стоило Нам прибыть в Великое Княжество Финляндское, как ваши земляки отказали Нам в своей преданности. Сейм и Сенат отказались подчиняться Нам как своему государю, и на их сторону уже перешел Финляндский лейб-гвардии стрелковый батальон. То, что в городе пока не стреляют, ничего не значит – они надеются выжить нас из Гельсингфорса мирным путем, не производя ни единого выстрела. Кроме того, их пока еще пугает сводный батальон морской пехоты, который Наша сестра выделила нам в качестве личной охраны. Эти головорезы прекрасно вооружены и отлично обучены, а командир, нынешний князь-консорт, приучил их вступать в схватки с многократно превосходящим врагом. При этом им все равно, кого резать в дикой безудержной схватке: японцев или финнов. Кроме того, если бунт вырвется на свободу и мы не сможем справиться с ним самостоятельно, наша сестра государыня Ольга пообещала ввести сюда войска и, подавив беспорядки, ликвидировать Великое княжество Финляндское, включив его губернии непосредственно в состав Российской империи, а всех виновных в мятеже загнать в какую-то Воркуту. Конечно, это может случиться только после Нашей смерти; но кто знает, на что способны бунтовщики, твердо вознамерившиеся оторвать Финляндию от России… Мы слышали, что многие из них поклялись убить Нас при первом же удобном случае.
Восторг спер мне горло. Мой государь попал в трудную ситуацию и теперь просит у меня помощи!
– Ваша Великокняжеская светлость, – от волнения дав изрядного петуха, сказал я, – я сделаю все, что бы вы ни повелели… Клянусь вам в этом!
Николай Александрович принял величавую позу и произнес:
– Мы повелеваем Вам, Карл Густав Маннергейм, в дальнейшем состоять при Нашей особе, принять должность нашего главнокомандующего и приложить все возможные усилия к подавлению мятежа и наведению в Великом княжестве Финляндском надлежащего порядка. Все активные участники и подстрекатели беспорядков должны быть арестованы и подвергнуты заключению в казематах Свеаборгской крепости, где над ними будет проведено тщательное дознание и учинен военно-полевой суд. Обычное судопроизводство при этом отменяется и может быть введено обратно только Нашим указом…
Господин Иванов хмыкнул и добавил низким, немного угрожающим тоном:
– Если мятеж не подавите вы, дорогой Густав Карлович, то этим делом займутся люди, для которых бунтовщики – не более чем смазка для штыка. Жалеть никого не велено, в том числе и тех, кто укрылся за рубежами нашего богоспасаемого отечества. По принципу «око за око, зуб за зуб» – имперская безопасность начнет действовать, невзирая на линии границ. Арестовать они там никого не смогут, а вот пристрелить – вполне. Вашего старшего брата, насколько я помню, выслали в Швецию за то, что он злоумышлял оторвать Великое княжество Финляндское от Российской империи. Так вот: если вы не справитесь с порученной работой, можете с ним заранее попрощаться…
– Вы мне угрожаете, господин Иванов? – раздраженно спросил я.
– Нет, – с серьезным видом ответил тот, – предупреждаю. Или вы с нами, или пеняйте на себя, третьего не дано. Когда дело касается государственных интересов, мы ничуть не сентиментальны и не ограничены никакими нормами морали; положение слишком опасно, чтобы разводить тут политесы.
– Скажите, господин Иванов, – так же серьезно спросил я, – вы со всеми, кого пытаетесь привлечь на свою сторону, так суровы и безапелляционны?
– Да, со всеми, – ответил он, – кого пытаемся привлечь, так сказать, с противоположной стороны фронта. Ваше будущее, с нашей точки зрения, небезупречно, но мы решили дать вам шанс реабилитироваться. И решающий голос в принятии этого решения принадлежал государю Николаю Александровичу…
Упомянутый государь Николай Александрович, который до того момента просто стоял и слушал наш разговор, вдруг заговорил.
– Действительно, Густав Карлович, – прокашлявшись, произнес он, – Михаил Васильевич раскрыл перед нами все перипетии вашей еще не состоявшейся судьбы, и мы нашли ее весьма печальной. Но поскольку вы, хотя и предали Россию, но до самого конца своих дней оставались глубоко преданны лично нам, то мы, и никто другой, приняли решение дать вам второй шанс. Ибо кто еще, кроме преданного нам местного уроженца, сможет навести порядок в Великом Княжестве Финляндском, устранив и уврачевав запущенные смердящие язвы?
Надо сказать, что заявление государя шокировало меня до глубины души. Если к фельдфебельской грубости господина Иванова я относился спокойно, ибо уже знал о том, как эти пришельцы из мира будущего ведут свои дела, то слова государя заставили меня в буквальном смысле вздрогнуть. Я не понимал, как могло так случиться, что я изменил Российской империи, но остался верен императору Николаю… Но в то же время я ни на секунду не подверг сомнению сказанное государем. Было бы невероятно, если бы Николай Александрович солгал мне глядя прямо в лицо. Ответить уклончиво, с недомолвками, пообещать и забыть сделать – такое за ним водилось; но вот лгать, глядя в глаза с невозмутимым видом, Николай Александрович просто не умел.
Я все еще пребывал в сомнениях, и тут господин Иванов заговорил значительно более мягким тоном. Сейчас было видно, что передо мной стоит живой человек – в отличие от первоначального впечатления, когда в него, казалось, вселился сам ангел господень.
– Вы поймите, Густав Карлович, – произнес он, – исполняя поручение государя, вам придется принимать самые жесткие и непопулярные среди местных людей меры. Ведь враги государя и России – это не какие-то посторонние для вас люди, а ваши родственники, друзья и знакомые, люди одного с вами круга, в первую очередь, даже не финны, а финские шведы… Сможете ли вы во исполнение присяги преследовать этих людей за желание оторвать Финляндию от России, брать их под арест, судить и ссылать на вечную каторгу, при этом не впуская в свое сердце ни малейшей жалости? Не торопитесь отвечать, потому что если откажетесь вы, нам придется обратиться к господину фон Плеве. Он в последнее время как раз начал тяготиться урезанной должностью министра Внутренних дел, которая больше не предоставляет ему возможность проявлять над людьми тираническую власть, запрещать и преследовать, подобно верному цепному псу. Любое возмущение лучше всего подавлять в самом зародыше, и если не получится сделать это по-хорошему, мы в любом случае добьемся своего, даже если придется действовать по-плохому. Только вот после того, как тут потопчется господин Плеве, подобные вам финские шведы останутся только на страницах истории, а подпевающая мятежникам финская интеллигенция остаток своей жизни проведет в таких местах, по сравнению с которыми даже скандинавский ад Ниффельхейм покажется сущим курортом. Но это случится только в случае вашего отказа, ибо господин Плеве не знает удержу в своем охранительном раже, а вы будете вольны отмерять меру насилия по степени сопротивления. Ну что, господин Маннергейм, каково будет ваше самое верное положительное решение?
Перед лицом развернутой передо мной перспективы я, конечно же, не мог не согласиться. Ибо если сюда впустят такое чудовище, как фон Плеве, с приказом привести край к покорности, то здесь не только финских шведов, вообще живых людей не останется…
– Да, – сказал я, – я согласен взяться за эту работу и я буду делать все необходимое для того, чтобы выполнить свой долг верноподданного, и буду стараться делать это изо всех сил. Я понимаю, что если я потерплю неудачу, и Великое княжество Финляндия не будет замирено, на мое место непременно придет господин фон Плеве.
– Мы принимаем вашу службу, – важно кивнул Николай Александрович, – и обещаем, что никогда не оставим вас как своими милостями, так и своим контролем. Вы можете попытаться обмануть нас, или Михаил Васильевича, но вот обмануть службу имперской безопасности у вас не получится никогда. Идите же и помните: мы ждем от вас самой кропотливой и ответственной работы.
[15 сентября 1904 года, Вечер. Гельсингфорс.]
У подножия лестницы Сейма и Сената собралась толпа молодых людей, по большей части студентов Александровского (Гельсингфорсского) университета финско-шведского происхождения – они собрались послушать зажигательных демократическо-патриотических ораторов, одним из которых и был адвокат и финский националист Пер Эвин Свинхувуд.
– Сейчас, в этот решительный час, – вещал он с высоты крыльца, – когда финская земля буквально загорелась под ногами Романовых, мы, финские патриоты, близки к победе как никогда! Прошло всего три месяца с того дня, как истинным финским патриотом Евгеном Шуманом был застрелен тиран и душитель свободы русский наместник граф Бобриков – и вот до истинной независимости страны Суоми остался всего один шаг! Император Николай, сброшенный[26] восставшим народом с престола в Петербурге, решил, что сумеет отсидеться у нас в Финляндии, но ничего у него не выйдет. Уже завтра все финны разом поднимутся, как один человек – и вышвырнут бывшего русского царя из его последнего владения, а вместе с ним и прочих рюсся[27]. А если они не захотят уходить – то рука у нас не дрогнет, и никто из них не уцелеет! Ни мужчина, ни женщина, ни ребенок, ни старик – никто из оккупантов не должен чувствовать себя в безопасности. У них будет возможность либо бежать, либо умереть, третьего не дано. Финляндия достойна самостоятельного существования и другого, настоящего монарха из рода Гогенцоллернов или из состава шведской династии Бернадоттов. Ура, товарищи, ура!!!
Оратор замолчал, и собравшаяся на Сенатской площади толпа разразилась одобрительными криками, прославляя своего кумира. Этим молодым и не очень людям казалось, что стоит им выгнать из Финляндии проклятых русских оккупантов – как тут же настанет сытная и счастливая жизнь. Для кого-то, может быть, так и будет. Например, для тех, кто займет места министров, депутатов демократически избранного парламента, чиновников, а также тех, кто поделит между собой собственность, что принадлежит сейчас Империи и императору. Ради этого собравшиеся были готовы брать в руки оружие и убивать, убивать, убивать. Сейчас, на волне оптимизма, возникшего из-за недавней смуты в Империи, этим людям казалось, что Россия не захочет и не посмеет вмешаться в финские события, что бывший император Николай свергнут своей сестрой и послан в Гельсингфорс в ссылку, что Финляндия для молодой императрицы – уже отрезанный ломоть. Да и что может сделать им эта девчонка, буквально вчера севшая на императорский трон? Они думали, что стоит только чуточку надавить – и прогнившее самодержавие рухнет, и тогда можно будет праздновать победу.
Следом за Свинхувудом, на крыльцо Сейма и Сената поднялся радикальный финский политик Конни Циллиакус – возможно, самый отмороженный во всей этой шайке. По сути, это был международный авантюрист, десять лет мотавшийся по свету, живший в Египте, Коста-Рике, Североамериканских Соединенных Штатах, Японии и во Франции. В политике этот человек был лучшим другом самых радикальных революционных движений, стремившихся не к достижению социальной справедливости, а к разрушению Российского государства. В свое время, организуя контрабандную доставку в Россию оружия и революционной литературы, Циллиакус немало якшался с такими деятелями российского революционного движения, как Пинхас Рутенберг, Евно Азеф и Максим Литвинов. Выбравшись на импровизированную трибуну, этот глашатай смуты принялся долго и нудно вещать о том, что в России скоро случится революция, и это будет нечто великое и хорошее, чего ждут все либеральные и цивилизованные люди. Также говорил он и о том, что русские – отсталая, варварская и полуазиатская нация, у которой остальному миру нечему учиться политически, хотя революция должна освободить финнов и поляков и позволить России начать догонять Запад.
Совсем другие настроения царили в менее радикальных кругах финского политикума, реально оценивавшего складывающуюся международную и внутрироссийскую политическую обстановку. От революции Российская империя после победы в русско-японской войне была далека так же, как Пекин от Лондона. Напротив, в стране имел место патриотический подъем, отчего большая часть либеральных деятелей шипела как раскаленный утюг после смачного плевка, а объявленные императорскими манифестами и указами меры социального характера (вроде отмены выкупных платежей и создания министерства труда) в ближайшее время должны были резко снизить в стране социальное напряжение.
Эти люди понимали, что если в Великом княжестве Финляндском заварится националистическая буча, то новая власть, решительно подавившая гвардейский мятеж и всего за месяц сменившая большую часть министров, не преминет воспользоваться этой возможностью для того, чтобы привести финнов к тому же знаменателю, что и поляков, а может быть, даже и хлеще. Единственное, что будет сдерживать новую императрицу и ее канцлера в их объединительном стремлении – это необходимость оставить личную вотчину ушедшему в отставку экс-монарху и его потомкам. Но если экс-император с дочерями погибнут в ходе мятежа, то за финскую государственность, а также жизни всех финских политиканов, нельзя будет дать даже потертого медного гроша.
Именно с этими людьми, в число которых входил и небезызвестный в нашем мире главный директор государственного казначейства Юхо Кусти Паасикиви, и пытался работать Маннергейм, стремясь если не предотвратить, то хотя бы ослабить грядущий мятеж. Уж он-то точно знал, чем грозит аборигенам весь тот веселый карнавал, который затеяли деятели, митингующие сейчас на Сенатской площади… Но получалось у Маннергейма откровенно плохо. Люди, которые могли хоть что-то изменить, были опьянены своей кажущейся властью, а умеренные, которые были с ним согласны, не имели реальных рычагов влияния на события.
Отдельные, совершенно особенные настроения, царили на левом фланге политического фронта. Финская социал-демократическая (рабочая) партия, самая сильная из всех левых организаций, на тот момент придерживалась линии Каутского на чистый марксизм. Эти люди отрицали как сотрудничество с буржуазными и националистическими партиями, так и необходимость применения революционного насилия, в том числе и социалистическую революцию. Программа СДП требовала путем мирной агитации добиваться всеобщего избирательного права для мужчин и женщин с двадцати одного года, восьмичасового рабочего дня, всеобщего обязательного среднего образования, обобществления средств производства, улучшение условий труда и отделения церкви от государства.
Первые же социальные шаги нового правительства в Петербурге несколько дезориентировали этих людей, и теперь они не знали, чего им надо. То ли они хотят полного отделения Финляндии от России (вследствие чего, безусловно, наступят некоторые европейские свободы, но Финляндия надолго окажется во власти правых националистов), то ли им желательно полное присоединение Великого княжества Финляндского к территории России, чтобы и на ее территории начали действовать российские социальные законы и программы. Красная гвардия в рабочих районах, конечно, еще не формировалась, но и поддержки слева радикалам ждать не следовало.
И в то же время, когда над Гельсингфорсом уже сгущался вечерний мрак, в военно-морскую базу зашли прибывшие из Кронштадта три русских броненосца: «Император Александр III», «Бородино» и «Князь Суворов», а также более десятка транспортных пароходов, на которые находились войска. В основном это были части столичного гарнизона во время мятежа Владимировичей попытавшиеся отсидеться за фиговым листком нейтралитета. Прощение императрицы требовалось еще заслужить, и этой службой должно было стать подавление мятежа финско-шведских националистов в ВКФ. Выгружались солдаты уже под полным покровом темноты, тем более что по городу уже ходили намеренно пущенные слухи, о том, что пароходы присланы для эвакуации из Финляндии всего русского населения.
В результате митинг на Сенатской площади разгорелся с новой силой; там уже праздновали завтрашнюю победу. Правда, и Маннергейм тоже был пока ни сном ни духом о прибывающих войсках. Об этом его просто не предупредили, не желая доверять абсолютно секретные сведения человеку с неподтвержденной лояльностью. Этим парадом командовал полковник имперской безопасности Баев, которому императрица дала прямо-таки диктаторские полномочия, чтобы в ходе грядущих событий не пострадали не только ее брат и племянницы, но и вообще русскоязычное население. Время великого усмирителя фон Плеве (если он вообще понадобится) придет потом, а пока требовалось плеснуть на раскаленные угли холодной водичкой.
[16 сентября 1904 года, Утро. Гельсингфорс.]
Вроде бы по первому времени происходящее вполне соответствовало ожиданиям мятежников. Всю ночь по городу вышагивали сильные патрули вооруженных винтовками матросов, которые извлекали из своих квартир семьи русских инженеров, чиновников и гимназических учителей, сопровождая тех на территорию русской военно-морской базы на острове Катаянокка. В случае если бы кто-нибудь попытался чинить препятствия процессу эвакуации, матросам и старшим патрульных команд дозволялось без ограничений применять оружие на поражение. И в городе об этом знали. Возможно, потому-то всех, кого надо, из опасных районов удалось вывести почти без выстрелов и без ненужных потерь. В некоторых случаях вместе с русскими уходили и их соседи, и коллеги других национальностей. Ведь, дорвавшиеся до власти, бабуины обратят свой гнев не только на «оккупантов», но и на их предполагаемых «пособников» из местных.
На железнодорожный вокзал, в связи с его особой ценностью, полковник Баев послал роту морской пехоты. Задача – взять объект под охрану и удерживать его до тех пор, пока не минет надобность. Лейтенант Эльснер, конечно, не был столь брутален, как молодой Дроздовский, но службу знал на «отлично» и к местным аборигенам, решившим побунтовать против государыни-императрицы и своего великого князя, относился с брезгливым презрением. Сами же морские пехотинцы, экипированные и вооруженные по-боевому, с раскрашенными лицами, при пулеметах Мадсена, штурмовых кинжалах-бебутах, саперных лопатках и разгрузках, заполненных пулеметными магазинами и винтовочными обоймами, для местных выглядят настолько угрожающе, что с ними просто опасаются связываться. Рота морской пехоты, встреченная на улице, для одиночных хулиганов – просто страшно, а наваливаться толпой команды пока не было. Да если бы и навалились, то не беда: Мадсены в ближнем бою тоже способны творить чудеса (особенно если у противника в руках только револьверы или браунинги, только недавно вошедшие в моду у разных революционеров).
Главари мятежа рассчитывали, что русские, испугавшись их решительности и не желая проливать кровь, сами очистят для них город, так что останется только прийти и владеть брошенной на произвол судьбы страной. И вот ведь он, Великокняжеский дворец – от Сенатской площади до него, что называется, рукой подать. Стоит двинуться на него толпой, сминая реденькую цепочку матросов (которые, конечно же, не посмеют применить свое оружие) – и тогда у свергнутого русского царя не останется иного выхода, кроме как бежать или погибнуть. Но применять силу рано; быть может, все еще обойдется и без крови… Так что пока только кое-где финские мальчишки из подворотен без всякой команды обкидывали ненавистных рюсся камнями, а старшие патрульных команд отгоняют хулиганов револьверными выстрелами. Так появились первые жертвы мятежа: на русской стороне – с разбитыми головами, на финской – подстреленные затупленными нагановскими пулями (насмерть и не очень). Но все это были только цветочки, ягодкам, как считали обе стороны, предстояло появиться только наутро.
Эта редкая одиночная стрельба в ночи создавала у наблюдающих за происходящим Николая Второго и членов его семейства ощущение какой-то беспричинной тревоги. А тут еще и близость Сенатской площади со скачущими по ней вдохновленными свободой бабуинами. Стоя у окна своего дворца, Великий князь Финляндский смотрел, как морские пехотинцы сноровисто возводят из мешков с песком укрепления-блокпосты с установленными внутри десантными пушками Барановского и станковыми пулеметами «максим», установленными на раздвижных треногах. Полковник Новиков решил не заморачиваться разработкой колесного станка Соколова для станковых пулеметов, ибо тот станок весит сорок пять килограмм и требует для переноски двух бойцов, тренога же имеет вес в восемнадцать килограмм и переносится одним солдатом. Собственно, для мятежников все эти тонкости были по барабану, ибо попытка штурма дворца мятежной толпой должна была обернуться для них кровавой безумной мясорубкой.
Но все обошлось. Этой ночью мятежники и не собирались штурмовать великокняжеский дворец, ибо «поторапливать» уходящих русских оккупантов они собирались не ранее чем утром… Тем более что основная массовка вечером разошлась по домам, а митинговать у костров на сенатской площади остались только самые стойкие или безумные (по григорианскому календарю было уже двадцать девятое сентября и ночи отличались достаточно низкими температурами). Тем временем у причалов военной базы с пароходов разгружались войска – сойдя на берег, солдаты или собирались в штурмовые колонны, или грузились на миноносцы, чтобы высадиться на побережье Гуммельского залива, в заливе Талэ (в окрестностях сахарного завода) и в заливе Вантаа. После осуществления этих обходных малых десантов Гельсингфорс превратится в огромную мышеловку, куда уже влезла практически вся верхушка радикальной шведско-финской оппозиции.
Что касается выводимых в безопасное место гражданских, то надо сказать, что никакой эвакуации и не планировалось. Этих людей просто убирали из эпицентра грядущего уличного сражения, чтобы не путались под ногами и случайным образом не попадались в наброшенный на город частый бредень. Проведут ночь и утро под защитой гарнизона, а потом вернутся по домам. Поэтому подогнанные к причалам пароходы требовались только для того, чтобы после предварительной сортировки (на главарей и пехоту) погрузить на них соскобленную с города людскую плесень и немедленно отправить ее на каторгу. Любой застигнутый операцией умиротворения в составе мятежной толпы гарантированно обеспечивал себе десять лет физического труда на свежем воздухе и конфискацию всего движимого и недвижимого имущества.
Но все равно, даже несмотря на знание истинной подоплеки происходящих событий, зрелище людей, бредущих в полночь под охраной вооруженных матросов прямо под окнами великокняжеского дворца, на Николая Второго и Аллу Лисовую навевало ощущение какого-то невиданного бедствия, которое скоро предстояло пережить этому городу, да и всему миру. Так спасались бы жители Помпеи, заранее узнав о предстоящем извержении Везувия… Некоторые шли с пустыми руками, прижимая к груди узелок с самым ценным скарбом. Другие тащили в руках саквояжи, чемоданчики и чемоданы внушительных габаритов. Иногда багаж гражданских несли сопровождающие их матросы. Такое бывало в том случае, если чемодановладелец был слишком юн и малосилен, или, наоборот, стар и немощен. Зато важные господа вольны были искать носильщиков на стороне. Тихо плакали и капризничали дети, и так же негромко, проходя под окнами великокняжеского дворца, их утешали закутанные в платки матери.
Где-то в четвертом часу ночи прибыл измученный и какой-то измятый Маннергейм, и сообщил, что путем переговоров у него ничего добиться не получается. Готовые разговаривать не могут ни на что повлиять, а те, что заварили эту кашу, не хотят встречаться с русской подстилкой. Им это неинтересно, ведь они уже мнят себя победителями. Ведь они считают, что стоит им захватить Гельсингфорс и провозгласить независимость, как тут же вмешаются мировые державы, признают новое государство, высадят свои войска – и тогда все у них, у мятежников, будет хорошо.
После этого доклада дорогого Густава Карловича просто отодвинули в сторону, ибо было сейчас не до него. Поток временно эвакуируемых шел на убыль, и в скором времени должна была начаться следующая фаза операции…
Приближается рассвет, и выгрузившимся с пароходов батальонам предстоит выход на исходные позиции. Пора. По мостам, переброшенным через канал Катаянокка, переходят ровные коробки пехотных рот. Тяжел их шаг, щетина торчащих вверх штыков, кажется, царапает начинающее сереть небо. С этими солдатами командиры уже провели все необходимые беседы-политинформации – и теперь они идут подавлять мятеж тех, кто считает их, русских, дикими, отсталыми полуазиатами, а себя, любимых, чистыми и светлыми европейцами.
«Мало нам было своих бар, – говорили между собой солдаты, строясь перед выходом на операцию, – так теперь еще и эти навязались на нашу голову. Ну тады звиняйте, ежели что не так…»
Переходя через мосты, роты расходились по городу, прочесывая его частым гребнем. Основные цели: Университет, Сенат, Сейм, Телеграф, Телефон, Финский Госбанк (был и такой), а также студенческое общежитие неподалеку от вокзала…
И в этот момент в лучах восходящего солнца над русскими броненосцами в гавани поднялись большие привязные шары-аэростаты, необходимые для корректировки огня по береговой цели. Этой целью были казармы единственной воинской части, находящейся на стороне мятежников. И хоть солдаты финляндского лейб-гвардии стрелкового батальона, отказавшись подчиняться Великому князю Николаю, пока больше никак не вмешивались в происходящие события, угрозу от самого факта их существования требовалось устранить в кратчайшие сроки. Правда, при этом никто не собирался штурмовать в лоб трехэтажные кирпичные казармы постройки первой половины девятнадцатого века, (сейчас в этом здании расположено министерство обороны Финляндии). Просто после того как русские части, блокировавшие казармы, вышли на исходные позиции, в казарме зазвонил телефон (единственный). Трубку снял дежурный офицер и услышал хриплый мужской голос, который на чистом русском языке сообщил следующее: или мятежники прямо сейчас выйдут по одному и без оружия и построятся на Казарменной площади, или через пятнадцать минут их логово прямой наводкой в щебень раскатают русские броненосцы. С двенадцати кабельтовых комендоры по такой крупной цели попадут даже в полной темноте и будучи вусмерть пьяными.
Командир батальона, полковник Мексмонтан Николай Фридольфович, при известии о таком афронте чуть не грохнулся в обморок. История сохранила об этом человеке только тот факт, что в 1881 году он выпустился из Пажеского корпуса прапорщиком в этот самый батальон, а также то, что последние два с половиной года существования этой воинской части до самого расформирования он был ее командиром. Тут, понимаешь, трагедия. Тут двадцать с лишним лет беспорочной службы на теплом месте псу под хвост пошли! Плакали пенсия с мундиром, уважение в обществе и прочее, что делает жизнь отставника спокойной и приятной. Обманули старика господа радикалы: новая всероссийская императрица вовсе не собиралась выбросить Финляндию как ненужный балласт. Напротив, в Гельсингфорс нагнали столько сил, что мятеж будет прихлопнут без особых судорог и усилий… Одним словом, через полчаса разоруженный батальон в полном составе стоял на Казарменной площади и ждал свой участи.
Но интереснее всего было то, что произошло на Сенатской площади. В здании Сената расположился штаб мятежа. Как раз там находились Циллиакус, Свинхувуд, двоюродный брат полковника Мексмонтана Мауриц, преподаватель фехтования в университете, поэт Арвид Мёрнэ, адвокат Гуммерус, доцент Кастрен, архитектор Франкенгейзер, литератор, моряк и контрабандист Джон Нюландер и его братья, а также писательница Айно Мальмберг и другие, не менее интересные лица, преимущественно шведы по национальности. Эти люди уже мысленно разделили между собою министерские портфели, расселись в креслах и поздравили друг друга с успехом. И вот – такой облом…
Попытка студенческой группы поддержки, вооруженной преимущественно браунингами, оказать сопротивление была пресечена самым беспощадным способом, потому что хоть окружила здание Сената обычная армейская пехота, но внутрь врывалась штурмовая группа СИБ – а это такие лютые звери, что даже морская пехота снимает перед ними головные уборы. В случае если сопротивление оказывает обычная боевка, в ход идут пулеметы Мадсена, пистолеты Маузера и Браунинга. Но если перед штурмовиками обнаруживаются не желающие сдаваться главари, то против них разрешалось применять только светошумовые гранаты, шашки со слезогонкой, а также укороченные гладкоствольные ружья с патронами, снаряженными гуттаперчевыми пулями – не убивающими (разве что с короткого расстояния в голову), а надолго выводящими жертву из строя. Живьем брать гадов, живьем. Ожесточенная перестрелка, разбавленная буханьем светошумовых гранат и шипением шашек со слезоточивым газом, стихла так же быстро, как и началась; и вот уже штурмовики в противогазных масках одного за другим выводят из здания Сената вождей мятежа, скованных по рукам и ногам. Некоторые пытались бежать, но, натыкаясь повсюду на заслоны, были пойманы и отправлены к основной части пленных. Финита ля комедия… Так проходит слава мира.
В городе тоже вовсю идут аресты. Клиентов берут как в соответствии с заранее составленными списками (жандармская агентура в Финляндии есть, и мышей она ловит), так и на собственное усмотрение старших команд. В основном под это «усмотрение» попадали хорошо одетые господа, которые не могли ответить патрулю на внятном русском языке. Вопли «я есть британский, германский, шведский, датский, и какой-то еще подданный (нужное подчеркнуть)» пресекаются ударом в печень. Вот полежит, болезный, на земле, покорчится – и поймет, чего кричать стоило, а чего нет. Таких вот инограждан, отловленных во время мятежа, ждут не дождутся охочие до истины следователи в Петропавловской крепости. Так уж получилось, что весь шмон идет среди только господ, ибо так распорядился командующий операцией полковник имперской безопасности Баев. В рабочих кварталах тихо. Нет, солдаты там тоже присутствуют, но они никого не арестовывают и никуда не врываются, а лишь поддерживают порядок. Даже прилично одетые господа, если подтверждается, что это спешащие на службу инженеры, не привлекают их особого внимания. А зачем? Ведь финские рабочие сегодня не участвуют в мятеже, по результатам которого их положение должно было только ухудшиться. Поэтому их передовым отрядом, Социал-Демократической Партией Финляндии, займутся немного позже и совсем в ином ключе, чем с господами радикальными националистами. Как раз с рабочими императрица Ольга и ее правительство намерены договариваться, и, более того, четко придерживаться этих договоренностей.
[16 сентября 1904 года, Полдень. Гельсингфорс, улица Брохольм, редакция социал-демократической газеты «Рабочий».]
К полудню в городе был уже восстановлен относительный порядок. После того как был основной очаг мятежа на Сенатской площади удалось раздавить, в остальных частях города по большей части обошлось не только без стрельбы, но даже и без мордобоя. Главари оправлялись в казематы Свеаборга для предварительного дознания, а оптом осужденную пехоту мятежников (преимущественно из числа студентов) навалом грузили в трюмы пароходов для отправки на каторжные работы. Клин клином выбивают, и излечить застарелые комплексы зажравшейся национальной интеллигенции можно было только таким вот ударом в челюсть. Сгрести всех недовольных в кучу – и послать их осваивать далекую Сибирь, желательно в районах Крайнего Севера… На отдельный пароход погрузили и бывший финский лейб-гвардейский стрелковый батальон, за соучастие в мятеже низведенный до статуса строительного. Ближайшие десять лет махать этим деятелям кирками на постройке железных дорог в отдаленных уголках нашей необъятной Родины; и для почина им, скорее всего, выпадет трасса Мукден-Тюренчен-Пхеньян-Сеул.
А в Великом княжестве Финляндском началась новая жизнь. Уже оглашен манифест Императрицы Ольги Александровны о том, что Великое княжество Финляндское является автономной, но неотъемлемой частью Российской империи, где действуют все ее законы, установления и правила, работают общероссийские службы безопасности и ходит единственно верная валюта – рубль. А все те, кто хотят это оспорить, должны сначала выиграть у России войну. Следом за манифестом императрицы зачитывали и манифест Великого князя Николая Александровича, в котором говорилось, что в связи с состоянием мятежа, потрясшего Великое княжество Финляндское, отменяются все былые вольности-привольности, распускаются Сейм, Сенат и находящийся в Санкт-Петербурге Статс-секретариат, а вместо этого образуется нормальный кабинет министров. Председатель кабинета министров, он же Канцлер великого княжества Финляндского – капитан первого ранга Михаил Васильевич Иванов. Точка. Государь он или нет? Подписано собственноручно, Николай.
Существовавшее прежде положение было терпимо, когда Финляндская корона находилась на голове Всероссийского императора, а трон в Гельсингфорсе был как бы виртуальным. Теперь все по-другому: виртуальный монарх превратился в реального и желает править сам, а не через посредство наместника. А те, кому это не нравится, сами виновны в своих несчастьях, ибо бунт против законного государя есть деяние уголовно наказуемое. А посему Великое княжество Финляндское вычищается от нежелательных элементов с той же решительностью, что и вскрытый хирургом гнойный нарыв. В частности, землевладельцы, хоть каким-то краем принявшие участие в мятеже, также отправятся по этапу (как и те, кто митинговал на Сенатской площади), а их земли будут конфискованы. Но государство не оставит их себе и не продаст тому, кто сможет больше заплатить, а передаст в вечное, безвозмездное наследуемое пользование арендаторам торпарям, которые обрабатывали эти наделы на момент конфискации. И нацики с государственного возу, и финскому мужику легче.
Как они орали – Циллиакус, Свинхувуд и компания – когда их ставили перед следователями, которые сразу же начинали задавать им вопросы. Господа радикалы и в мыслях не держали, что однажды им придется за все отвечать – особое положение Великого княжества Финляндского придавало им ощущение полной безнаказанности. Но за все приходится платить… и не только главарям. Пехота, онижедети, молодые люди из состоятельных дворянских и купеческих семей с неопределенными занятиями – они тоже получат свое, кто что заслужил. Непосредственно участвовавшим в мятеже, таскавшим в карманах браунинги и наганы, планировавшим убийство русских чиновников и офицеров – пожизненная каторга. Остальным, составлявшим массовку и кричавшим ораторам одобрительные слова – такое же пожизненное поселение в Восточной Сибири без права появляться в крупных городах. Для России это был вопиющий пример, когда дворянство, вместо того, чтобы быть опорой трона и государства, превращается в их злейших врагов.
При этом не осталось без внимания и расследование убийства наместника Бобрикова. Людей из ближайшего окружения убийцы Имперская Безопасность взяла в особую разработку. Для многих из них (как, например, для несостоявшейся невесты Эйгена Шаумяна Эйлин Боргстрем или ее будущего жениха Эйнара Флорина), такое повышенное внимание компетентных органов стало настоящим шоком. Зато напарник убийцы графа Бобрикова, его второй номер, студент Александровского (Гельсингфорсского) университета Леннард Хохенталь, вопросам следователей ничуть не удивился, ибо отрицать участие в подготовке убийства было бесполезно. Господин Хохенталь был сговорчив еще и потому, что во время облавы в руки имперской безопасности, помимо прочих фигурантов, попала и его невеста и соучастница Александра Зеттерберг. В результате у следствия возник еще один вопрос. Чьим попущением при первоначальном расследовании убийства Наместника Бобрикова эти концы были спрятаны в воду, в результате чего Эйген Шауман прослыл террористом-одиночкой?
Но по большому счету все это было не более чем стрельба из пушек по давно улетевшим воробьям. Разгром националистического шведско-финского подполья можно было считать состоявшимся фактом, дальнейшую работу в этом направлении предстояло проводить новоорганизованным территориальным органам СИБ уже в текущем режиме. Едва какой-нибудь сторонник шведско-финской национальной исключительности поднимет голову, как его сразу, голубчика, за цугундер – и в путешествие по следам Бременских музыкантов, то есть в далекую Сибирь. А то взяли моду – шведских шпионов высылать в Швецию, как того же маннергеймовского брата Карлушу… Да от такой инновации в деле обеспечения государственной безопасности куры с насестов валятся от хохота как подстреленные.
Но это все вопрос вполне решаемый, гораздо сложнее дело обстояло с левым флангом оппозиционного политикума. Борцов за права рабочего класса нельзя вымести из Финляндии так же просто, как и нациков. И непросто тоже нельзя. Если уж императрица Ольга вполне сочувственно относится к борьбе русских рабочих за свои права, то почему она должна делать исключения для финнов? Ведь Финляндия является неотъемлемой частью Российской Империи – следовательно, и законы о труде в ней должны быть такими же, как и на остальной территории государства… Объясняться с означенными борцами полковник Баев отправился лично, взяв с собой в качестве верительных грамот молодого Кобу. Это ему тоже своего рода университеты: век живи, век учись. Ну и заодно пришлось запастись рекомендательным письмецом от товарища Ленина. Местные эсдеки – это, конечно, и не большевики, и не меньшевики, а нечто среднее: ни рыба ни мясо; но с Ильичом они, по крайней мере, не в контрах.
Продвигаясь по улицам Гельсингфорса в сопровождении четырех вооруженных до зубов штурмовиков, полковник Баев разъяснял Кобе «политику партии».
– Понимаешь, генацвале, – говорил он, – националисты, какие бы они ни были: шведские, финские, украинские, грузинские или армянские – это всегда зло, причем даже не столько для окружающих соседей, сколько для собственного народа. Ненависть к соседям иссушает и истощает, и к тому же противоречит пролетарскому интернационализму – что делает невозможным союз между большевиками и националистами…
– А вы, русские, – спросил Коба, – вы ведь тоже так любите свою Россию, что вас тоже можно считать русскими националистами?
– Э нет, товарищ Коба, – покачал головой полковник Баев, – любовь к своей стране и своему народу и ненависть к другим народам и государствам – это очень разные вещи. Мы, русские, скорее, шовинисты, с эпитетом «великодержавные» – и готовы поделиться этой великодержавностью со всеми народами, которые разделяют с нами это государство. Вот ваш земляк, герой Бородинской битвы Багратион, говорил, что лучше быть русским генералом, чем грузинским князем. Так он и вошел в бессмертие наряду со многими и многими положившими конец европейской гегемонии Наполеона.
В ответ Коба пожал плечами и сказал:
– А вот товарищ Ленин считает ваш великодержавный шовинизм, как он говорит, явлением архивредным и архиопасным, а вашу империю – тюрьмой народов. Вот и товарищи финны попытались совершить из вашей тюрьмы побег, а вы их силой вернули обратно в камеру, да еще и попутно наглумились над самым дорогим, что у них есть.
– Ага, – криво усмехнувшись, пробормотал Баев, – над их шведскими господами…
– Что вы сказали, товарищ Баев? – переспросил не расслышавший Коба.
– Я сказал, – ответил полковник имперской безопасности, – что подавляющая часть участников и организаторов только что подавленного мятежа – никакие не финны, а самые настоящие шведы, угнетавшие финнов пятьсот последних лет. Только при Империи финны начали обретать равноправие со шведами, ведь еще пятьдесят лет назад им было запрещено говорить на своем языке, а все документы записывались только на шведском. Так что еще непонятно, кто бежал и куда. Вы думаете, финнам будет приятно, если верхушка повстанцев отдала Великое княжество Финляндское в шведские вассалы? Впрочем, товарищ Сталин, когда стал вождем первого в мире государства рабочих и крестьян, тоже стал шовинистом – быть может, и не великорусским, но уж точно советским, а разница между этими двумя понятиями для меня лично совершенно незначительна.
– Я знаю об этом человеке, – тихо сказал Коба, – и пока он меня пугает. Хотя, быть может, он и прав, ведь ему удалось построить то самое справедливое бесклассовое общество, к которому революционеры стремились испокон веков…
– Он был прав в целях, – кивнул Баев, – а ошибался в методах… Впрочем, товарищ Коба, кажется, мы пришли. Если я не ошибаюсь, то редакция социал-демократического журнала «Рабочий» расположена именно в этом доме. А вот и пост морской пехоты, который я распорядился выставить, чтобы ретивые армейцы кого-нибудь случайно не арестовали. Интересно, как встретят нас обитатели сего места?
А обитатели этого места находились в состоянии полного мандража. Когда у дверей редакции встал десяток до зубов вооруженных головорезов в пятнистых мундирах, тельняшках, коротких сапогах гармошкой и залихвастски надвинутыми на одно ухо черными беретами, сотрудники редакции уже было решили, что сейчас их будут арестовывать и бросать к казематы Свеаборга. Но время шло, а вооруженные люди, о которых уже по всему миру разошлась леденящая слава, не только никого не арестовали, но и даже не препятствовали приходу и уходу посетителей и самих сотрудников редакции. Зато когда в редакцию попытались ворваться самые обычные русские солдаты, пятнистые заступили им дорогу и вежливо посоветовали прогуляться в другое место. Очевидно, в русской армии пятнистых тоже побаивались, потому что армейский офицер тут же увел своих людей, несмотря на то, что у пятнистых старшим в команде был всего лишь унтер-офицер. После того случая у всех отлегло, но, видимо, зря…
И вот открывается дверь и в редакцию вваливается полковник в черном мундире, выдающем его принадлежность к новой Тайной Канцелярии. Не самый приятный гость. Уж лучше бы на огонек сюда заглянул сам Сатана, а не сотрудник имперской безопасности (которая, в общем-то, организация молодая, но оттого не перестающая быть до крайности жуткой и опасной) а уж социал-демократам, пусть даже три раза легальным, встречаться с этим человеком и вовсе не с руки. Но он уже здесь – и с этим ничего не поделать, и от этого руки у редакторов и прочих сотрудников журнала непроизвольно тянутся вверх.
– Отставить поднимать руки, – рявкает пришелец в черном, – это не арест.
Члены редакции медленно опускают руки, и в этот момент в дверь заходит еще один визитер, одетый как приличный господин вышесреднего класса.
– Вот видите, товарищ Баев, – говорит он с заметным кавказским акцентом, – как ви запугали людей. Едва они видят ваш черный мундир, как сразу поднимают вверх руки. Нехорошо это…
– Разъяснительная работа у нас еще хромает, товарищ Коба, – оправдывается полковник, – никто не объясняет людям, что бояться нас должны только мятежники, террористы и казнокрады, а обычным людям мы ничего плохого не сделаем, а может даже, наоборот, защитим от каких-либо негодяев.
– Тогда, товарищ Баев, – сказал Коба, – как вежливый человек, вы должны представиться перед этими людьми, и объяснить, какое у вас к ним дело. А то они и в самом деле думают, что вы пришли к ним либо арестовать их, либо убить…
– Вы, как всегда правы, товарищ Коба, – вздохнул полковник СИБ и повернулся к застывшим в ступоре работникам редакции. – Позвольте представиться, товарищи: полковник службы имперской безопасности Игорь Михайлович Баев, прибыл к вам для ведения переговоров. Собственно, нам нужен главный редактор этого журнала, товарищ Эдвард Валпас-Ханнинен…
Это заявление было встречено гробовым молчанием, ибо никто ничего не мог понять. О чем кровавый царский сатрап может вести переговоры с социал-демократическим функционером и редактором газеты левого направления? Это было практически все равно ка если бы волк заявил, что собирается вести переговоры с ягнятами.
Наконец, после целой вечности молчания, из тесной компании сотрудников вышел относительно молодой человек (31 год), средней европейской наружности, с аккуратно причесанными слегка напомаженными светлыми волосами. Довершали портрет короткие английские усы, той же светлой масти, что и прическа. Вполне приятный молодой человек; но если встретишь такого в толпе, то второй раз не обернешься. Внешне он был спокоен, но его волнение выдавало напряженное лицо с поджатыми губами.
– Здравствуйте, господин полковник, – сильно растягивая слова в финско-эстонском акценте, сказал он, – это я Эдвард Ханнинен, которого товарищи зовут еще Эдвардом Валпасом, и в то же время редактор этот газета. Слушаю вас…
– Здравствуйте, товарищ Валпас, – с чувством удовлетворения сказал полковник, – мы с товарищем Кобой прибыли сюда для того, чтобы предложить вам сотрудничество…
– Какое сотрудничество? – встрепенулся Эдвард Валпас-Ханнинен. – Я никогда не стать провокатор…
– Товарищ Коба, – со вздохом сказал полковник, – передайте товарищу Валпасу письмо товарища Ленина. Пусть он знает, о чем идет речь.
После этих слов с Эдварда Валпаса-Ханнинена можно было писать картину воплощенного обалдения. Он машинально взял у Кобы конверт с письмом, вытащил из него эпистолу и, шевеля губами, принялся читать. Хорошо, что не вслух. Впрочем, и это не было бы страшно, потому что остальные сотрудники редакции, судя по всему, по-русски могли объясняться только на пальцах и «твоя моя не понимай».
Да уж… это вам не развитый СССР, где в любой национальной республике вся техническая и творческая интеллигенция, средний касс и элита владели языком межнационального общения на вполне приличном уровне, ибо его учили даже в национальной школе, а родители, желающие своим чадам продвинутого будущего, стремились отдать их в русскоязычную школу. Тут это не в почете. и на всю Финляндию существует только две гимназии с русским языком обучения, и обе в Хельсинки – одна женская и одна мужская. А в национальных финских и шведских гимназиях русский язык то учат (когда власти из Питера начинают продавливать русификацию), то не учат (когда местные «патриоты» путем протестов, интриг и террора добиваются отмены программ изучения русского языка).
Дочитав письмо Ильича, Эдвард Валпас-Ханнинен глубоко вздохнул, извлек из кармана большой клетчатый носовой платок и утер им взмокший лоб. Кстати, с чего бы это он вспотел, в помещении редакции довольно прохладно…
– Я все равно не понимать, – сказал при этом он, – какой связь есть между мы, социал-демократический функционер, и вы, сотрудник охранка, дело которой – ловить нас и сажать в тюрьма…
– Мы не охранка, – терпеливо произнес полковник Баев, – мы имперская безопасность…
– Это не принципиально, – упрямо сказал главный редактор, – вы одно и то же.
– Нет, принципиально, – возразил полковник, – охранка с одинаковым рвением охраняла в государстве и плохое, и хорошее, а мы, обеспечивая безопасность государства, охраняем только хорошее, а плохое стремимся трансформировать таким образом, чтобы оно перестало быть таковым. Понятно?
– Не очень понятно, – сказал Эдвард Валпас-Ханнинен, – ну да ладно. Товарищ Ленин писать, что вы хотеть, чтобы права рабочий был защищен, иначе вам не достигнуть собственный цель создать сильный общество. Он предлагать нам соединить усилий в этом благородный дело между вами, имперский безопасность, российский социал-демократ и финский социал-демократ. Пока нельзя сказать ни да, ни нет, потому что нужен решений ЦК, но я лично говорить вам да. Мы сейчас должны работать на благо людей, а не спорить, какой идея правильный, а какой нет. Вы сейчас идти, а я думать, как все сделать правильно.
– Хорошо, – сказал полковник Баев, доставая из внутреннего кармана кителя маленький прямоугольник белого картона, – мы сейчас уйдем, а вы, когда надумаете что-то умное, приходите в Великокняжеский дворец, а вот эта карточка послужит вам пропуском и вас сразу проведут ко мне. Засим до свидания, товарищ Валпас.
– До свидания, господин полковник, – ответил Эдвард Валпас-Ханнинен, – мы знать, что вы отпускать наш товарищ, который попасть в ваш облава, и это хорошо. Я бы тоже хотел звать вас товарищ, но это пока еще рано. Мы должен лучше узнать ваш цель и понять, благо вы нести нам или нет.
[17 сентября 1904 года, около полудня. Санкт-Петербург, Зимний дворец, кабинет Канцлера Российской Империи Канцлер Империи Павел Павлович Одинцов.]
На улице типичная питерская осенняя погода, унылый моросящий дождь и ветер, обдирающий с деревьев последние листья. Полгода нашего присутствия в этом времени (или, точнее в этом мире) промелькнули будто один миг. Ничего тут больше уже не будет прежним, и ведь только что мы выиграли у истории еще одну фигуру. Великое княжество Финляндское – в том виде, в каком оно было задумано императором Александром Первым – перестало существовать. Оболочка осталась, а вот начинку мы выскребли полностью. Позже грядущие поколения, если будут неумны, назовут нас кровавыми тиранами, сатрапами и держимордами, в то время как мы всего лишь выдернули из-под лопатки России отравленную стрелу – для того, чтобы можно было начать врачевать оставленную ею рану. Спасибо Алле Лисовой, которая вовремя распознала приближение финского майдана и забила тревогу, чтобы мы успели подготовиться к отражению этой напасти. И мы подготовились. В Великом княжестве Финляндском еще много дел – буквально начать и кончить, – но теперь оно, несмотря на свой условно-автономный статус, стало неотъемлемой частью Российской Империи, на которой действуют все российские законы.
Это значит, что теперь каперпанг Иванов и Алла Лисовая справятся сами, даже в том случае, если Густав Маннергейм так никогда и не выйдет из шока или перекинется на сторону врага. За бароном внимательно наблюдают, и в том случае если он действительно попробует предать, его ликвидируют сразу и без сантиментов. На войне как на войне. И вообще, Финляндия для нас была последним шагом во внутренней политике, сделанным до эпохи великих преобразований. Россия пошла по пути развития социальной монархии и уверенными шагами будет продвигаться все дальше и дальше. Государство наше будет сильным, общество – мудрым, а народ – счастливым и зажиточным. А те, кому это неприятно, могут паковать чемоданы и перебираться в Швецию, Германию, Францию, Австрию, Румынию, Британию… и так далее и тому подобное… Аминь.
Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Сузун.
24 октября 2019 года
Примечания
1
В эту же сумму обошлось строительство серии из пяти броненосцев типа «Бородино». И все эти деньги, которые Витте с легкостью фукнул на ветер, были извлечены из карманов нищих крестьян и рабочих, в том числе и за счет так называемой винной монополии.
(обратно)2
Действительно, в бытность министром финансов Витте был изобретателем так называемого вооруженного резерва, то есть того состояния, при котором команды боевых кораблей изнывают от безделья в базах, потому что содержание флота финансируется по остаточному принципу, без закупок угля на тренировочные плавания и снарядов для учебных стрельб. Боеспособность эскадр при этом падает очень значительно и подвернувшись внезапному нападению Русский флот оказался явно в невыгодном положении по отношению к флоту Японской империи.
(обратно)3
порфирородная – то есть родившаяся у уже царствующего монарха, после его вступления на престол. В семье Александра III Ольга Александровна была единственным ребенком, родившимся посте того как ее отец занял трон.
(обратно)4
Конечно же, ни в какой бочке Диоген не жил. Греки просто не умели работать с деревом и металлом, чтобы получить обычную в нашем понимании клепаную бочку. Вместо бочек для хранения зерна, масла, вина, и даже соленой рыбы у них имелись огромные керамические сосуды, именуемые пифосами, в некоторые из которых свободно мог поместиться человек…
(обратно)5
полуштоф – архаическая мера емкости спиртных напитков, примерно соответствующая современной бутылке в 0,7 литра. Что русскому нормально, то немцу, французу, англичанину (нужное подчеркнуть) – смерть. Но только не норвежцу – эти своего «аквавита» выжрут и больше.
(обратно)6
мануфактур-советник – почётное звание, дававшееся владельцам крупных промышленных предприятий и купцам Российской империи; соответствовало VIII классу статской службы, то есть коллежскому асессору у чиновников, титулярному камергеру при дворе, капитану в пехоте, ротмистру в кавалерии и есаулу в казачьих войсках.
(обратно)7
У старообрядцев-беспоповцев духовенство как таковое отсутствует, и его функции ограниченно выполняют специально подготовленные миряне, которых и называют начетчиками. Мол, после церковной реформы Никона в мир пришел Антихрист, а следовательно, никакого рукоположения новых священников быть не может, ибо мир уже осквернен. Вот так и живут люди более трехсот лет, уверенные, что при жизни оказались в царстве Антихриста, то есть в аду. В других местах с такими идейками инквизиция давно бы пожгла всех на кострах и отправила дело в архив. Но русские добрые, махнули рукой – пусть живут как знают, лишь бы другим не мешали, – и оставили старообрядцев в покое.
(обратно)8
А. П. Чехов писал своей жене 13 февраля 1902 года: «Зачем Морозов Савва пускает к себе аристократов? Ведь они наедятся, а потом, выйдя от него, хохочут над ним, как над якутом. Я бы этих скотов палкой гнал.»
(обратно)9
экс-император Николай Второй апеллирует к нашему времени и к таким персонажам его истории, как Грейс Келли и Меган Маркл.
(обратно)10
Николай Николаевич Кутлер, не женат, происходит из семьи обрусевших немцев, возраст 45 лет, в 1882 году окончил юридический факультет Московского университета, потом три года работал помощником присяжного поверенного, а затем перешёл на государственную службу, где занимал должности: податного инспектора, управляющего казённой палатой, вице-директора, а затем директора Департамента окладных сборов Министерства финансов.
Г-н Витте, характеризовал г-на Кутлера как одного из наиболее деловых сотрудников Министерства Финансов и как человека чистого и вообще весьма порядочного… В устах прожженного жулика и интригана такая характеристика стоит весьма дорогого.
В нашей истории после наступления Советской власти бывший кадет Кутлер не эмигрировал и не ушел в отказ, а продолжал сотрудничать с Советской властью как чистый «спец», несмотря на то, что его четыре раза арестовывало ВЧК. Подпись этого человека в числе прочих стояла на червонцах 1922 года, с которых началась нормализация денежного обращения и вообще НЭП. Лидер кадетов Милюков, находясь в эмиграции писал, что «Николай Кутлер при Николае II, как и при Ленине, служил государству, как «спец», – и служил именно государству, а не личности правителя».
(обратно)11
ВОСО – служба военных перевозок.
(обратно)12
тогдашние железнодорожные билеты – это такие жесткие зеленоватые типографские картонки, в которые кассир от руки вписывал только номер поезда, вагона и места, пункт назначения, дату поездки, титул и Ф.И.О пассажира…
(обратно)13
Мы имеем в виду истории с Брестским миром, бандитом Кошельковым и НЭПом. Находясь перед лицом обстоятельств неодолимой силы или под дулом пистолета, Ильич становился чрезвычайно сговорчивым.
(обратно)14
И Ленин, и Крупская происходили из дворянских семей. Кухарки, гувернантки, домработницы… а Крупская еще и была единственным балованным ребенком, которую небогатые родители выучили в гимназии, устроили на Бестужевские курсы и вообще сдували с нее пылинки. Немного позже они выпишут в Швейцарию Наденькину мать Елизавету Васильевну, и та будет обстряпывать и обстирывать семейство Ульяновых до самой своей смерти в 1915 году.
(обратно)15
МАТЕЛОТ – соседний в строю корабль. В зависимости от расположения в строю М. именуются: передним – если он расположен впереди данного корабля, задним – если сзади, правым – если справа, и левым – если слева.
(обратно)16
ШПИРОН – железный таран, иногда подводный, у броненосных судов.
(обратно)17
Морской технический Комитет – подразделение адмиралтейства, занимающееся проектированием боевых кораблей и корабельных механизмов.
(обратно)18
«клюква» – орден Святой Анны 4-й степени, имеющий знак отличия в виде орденского креста красного цвета на эфесе холодного оружия и темляка цвета красной орденской ленты, который как раз и назывался «клюквой».
(обратно)19
звание генералиссимус присваивалось генералу, командовавшему объединенной группировкой из нескольких союзных армий. Генералиссимусом был Суворов, которому под руку частенько попадали австрийские полки. Звание генералиссимуса носил и Иосиф Сталин, потому что под конец Великой отечественной войны под его командованием, помимо Красной Армии, были: Войско польское, Чехословацкий армейский корпус, румынская и болгарская армии… На звание генералиссимуса мог бы претендовать фельдмаршал Кутузов, командовавший объединенными союзными армиями в последней войне с Наполеоном, но он умер до завершения кампании.
(обратно)20
автору не попадались свидетельства о том, как Столыпин относился к крестьянскому вопросу, так сказать, в непубличной обстановке, но сама реформа, сталкивающая крестьянскую бедноту в ряды люмпен-пролетариата, а также чрезмерная жестокость при подавлении народных волнений, военно-полевые суды и прочее говорило о том, что классовые предрассудки в голове Столыпина цвели и пахли.
(обратно)21
Личное дворянство давалось автоматически при достижении первого офицерского чина в армии и чина коллежского асессора на гражданской службе. Наследственное дворянство также давалось автоматически при достижении чина полковника/каперанга на военной службе и действительного статского советника на гражданской службе.
(обратно)22
В наше время улица Чайковского.
(обратно)23
Победоносцеву приписывают такую фразу, относящуюся к будущему евреев: «Одна треть вымрет, одна выселится, одна треть бесследно растворится в окружающем населении…».
(обратно)24
Спецдачей Службы Имперской Безопасности стало выморочное имение одного из чиновников, взятого с поличным по статье «коррупция». После приговора суда коррупционер уехал по этапу на Сахалин, его семейство в статусе ссыльнопоселенцев последовало за главой семьи, а все, что они имели в прошлой жизни, было конфисковано в казну. А вот нечего было, служа на военном заводе, за мзду подписывать акты приемки некондиционной продукции.
(обратно)25
Майорат – наследуемое одним наследником и неделимое владение.
(обратно)26
маниакальный националист Пер Свинхувуд верит в то, во что он хочет верить, и о том же рассказывает своим единомышленником.
(обратно)27
русских
(обратно)




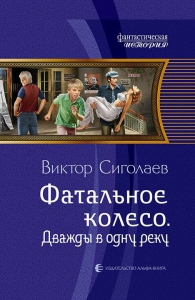

Комментарии к книге «Великий канцлер», Юлия Викторовна Маркова
Всего 0 комментариев