Александр Воронков, Елена Яворская НА ОРЛОВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ. ОТЫГРЫШ
Авторы выражают благодарность Андрею Милешкину, которому принадлежит идея создания этой книги, Сергею Бузинину, без которого она никогда не была бы написана, а также Николаю Инодину, Вячеславу Салину, Людмиле Дубиной, Игорю Черепневу, Константину Хохрякову, Александру Ершову, Андрею Колганову, чьими заботами книга получилась именно такой.
Предисловие, которое должно было стать послесловием
Когда авторы начинали работать над «Отыгрышем», они думали, что выйдет повесть или роман в жанре альтернативной истории, с возможностью переиграть один из эпизодов, прямо предшествующих битве за Москву. Но со временем стало ясно, что, невзирая на наличие попаданца и ряд художественных допущений (всё же это художественное произведение, а не документальное исследование) получается реалистическая книга о людях на войне. Стоит ли удивляться, что судьбы вымышленных, собирательных героев переплелись в ней с судьбами реальных людей, героев Великой войны и наших современников.
На крутом повороте свернув во вчера, Взял на плечи отцов непосильную ношу. Стиснув зубы, тащу. Не отдам и не брошу. Если только сумею дожить до утра. Николай ИнодинПролог
«1941. X. 04
Орёл
Моя любимая Марта! Наконец-то удалось выкроить минутку, чтобы приняться за письмо тебе.
Сегодня утром я получил от тебя четыре пакетика со сладостями и тёплый свитер ко дню рождения. Не беда, что он уже прошёл — почта из Фатерланда идёт 4–5 недель. Это не такой уж долгий срок, учитывая темпы нашего наступления.
Сейчас я в городе со смешным названием «Oröl», находящемся на пути к большевистской столице Москау. Говорят, на человеческом, немецком языке это означает «орёл». Жаль, что рядом со мной нет Вилли и его камерадов из Люфтваффе: им бы понравился такой каламбур.
Много думаю о вас. Почему ты ничего не пишешь о Луизе? Надеюсь, она выкинула из головы мысли об этом носатом? У него бабка была француженка или ещё хуже. Уточни, если получится. Можешь спросить у фрау Магды, она наверняка знает. Как поживает дядюшка Макс? Как его артрит? Рассчитался ли он с долгами? (Прошу тебя, Марта, не давай ему ни пфеннига, дядюшка совсем не знает счета деньгам!) Райни передай, что я горд его успехами, он настоящий брат фронтовика.
Дорогая Марта! Я понимаю, как тебе сейчас непросто, на твои плечи легли заботы и о бабушке, и о младших. Крепись, скоро я вернусь, и мы заживем безбедно, как всегда мечтали и как того заслуживает семья солдата Вермахта. Ради этого стоит потрудиться. Ты ведь знаешь, я никогда не боялся тяжёлой работы. Правда, иногда мне думается, что эта проклятая страна населена одними фанатиками. Русские защищаются так яростно, как будто бы ещё не понимают, что их дело проиграно. Вчера, после нескольких дней форсированного марша, мы подошли к окраине этого города, пробиваясь сквозь разрозненное, но ожесточённое сопротивление мелких групп большевиков. К счастью, моя машина предназначена для перевозки горючего, поэтому я никогда не езжу в голове колонн и уж тем более — в передовом отряде. Так что не переживай за мое здоровье, любимая! Ничего плохого со мной произойти не может. А вот нашим парням-танкистам вчера утром не повезло. Вдвойне досадно, что не повезло тогда, когда до города оставалось не более одного часа ходу: сумасшедшие русские с опушки леса неожиданно открыли огонь по передовому отряду. Сталинские фанатики сумели из своего единственного зенитного орудия уничтожить два наших панцера и разбить грузовик с солдатами. Представь себе: у этих деревянноголовых не было даже пехотного прикрытия, и потому наши герои сумели достаточно быстро подавить сопротивление. Тем не менее несколько камерадов погибло, а ещё больше — ранено. Да и с ремонтом панцеров ремонтникам придётся повозиться. А нас заставили собирать тела убитых гренадиров и везти к месту захоронения, при этом запачкали кузов моего грузовика. Но зато я стал обладателем прекрасных серебряных часов, правда, слегка старомодных и с непонятной гравировкой варварскими русскими письменами на крышке. Я пока в размышлениях, что выгоднее — оставить их себе или продать.
На окраине и на городских улицах также произошло несколько стычек, но их нельзя сравнить с тем, что нам пришлось пережить в Смоленске. Обедали мы уже в Орле.
На постой нашу роту разместили в домах на окраине города — поближе к захваченным у русских складам с горючим. Наш гауптманн был рад этому обстоятельству до безумия и сразу же выставил там караулы. Так что выспаться минувшей ночью мне не удалось: в качестве бдительного постена вышагивал под противным дождем с оружием на изготовку, то и дело поскальзываясь в русской грязи. Ничего не поделаешь: с этими большевиками нужно держать глаза и уши широко раскрытыми, проклятые русские собакосвиньи не ценят наших усилий по освобождению их от жидокомиссарской власти. Когда вчера парни из первого взвода размещались на отдых в одном из домов, то обнаружили спрятавшегося раненого большевика из НКВД. Пришлось расстрелять его вместе с обеими хозяйками дома в назидание прочим русским.
Не могу без печали думать о том, что по нелепой случайности была ранена собака, прелестное маленькое белое создание, так похожее на твою Лили. Наш гауптманн, как оказалось, некогда прослушал два семестра на медицинском факультете в Тюбингене, и парни притащили бедное животное к нему. Несмотря на высокое положение, командир никогда не забывает о своих народных корнях и, конечно, не отказал в помощи. Ассистировать при операции пришлось мне: ты же помнишь, как здорово у меня получалось оказывать первую помощь в молодёжном лагере Гитлерюгенда! Перебитая лапка была прооперирована простейшими методами, доступными нам, и помещена в лубки. Теперь собачка, которую по предложению гауптманна назвали Блонди, в честь верной спутницы Фюрера, стала всеобщей любимицей парней из первого взвода.
А погода очень испортилась: кругом слякоть, дождь, сырость. Настали холода, какие у нас в Померании бывают только в январе, а сейчас ведь лишь начало октября! Сколько же градусов тут будет зимой? Русские говорят, что в прошлом году мороз достигал пятидесяти градусов, а снежный покров — двух метров. Не дай бог нам задержаться со взятием Москау до выпадения снега! Радует то, что Рождество мы в любом случае будем встречать уже в Москау. Там, на зимних квартирах русской столицы, мы сумеем перенести тяготы проклятой большевистской зимы достаточно безболезненно, чтобы с весной вновь начать победное наступление!
Дорогая Марта! Вскоре после получения этого письма ожидай посылку от меня. Зная, что выбор продуктов по карточкам у вас несколько ограничен — о, да, сегодня нация поступается некоторыми бытовыми удобствами, но завтра нам будет принадлежать весь мир, — высылаю тебе банку натурального русского мёда, которая досталась мне по случаю, две банки консервированного краба и ткань на пальто: сегодня утром мне удалось раздобыть её в небольшом магазине на соседней улице. Увы, разжиться чем-то посущественнее не получилось: проклятые пехотинцы из передовых частей побывали там раньше и все, что не сумели уволочь в своих ранцах, постарались поломать, испачкать и порвать, словом, полностью испортить. Не грусти, ничего страшного: впереди у нас Тула и Москау, где можно забрать в магазине любой товар, не платя ни пфеннига, — это право победителя!
Любимая Марта! Рад был бы написать тебе гораздо больше, но не поспеваю. Пора готовиться к рейсу: наши панцеры укатили в сторону города с варварским названием Мценск, и твоему Курту вновь предстоит доставлять горючее для их ненасытных моторов.
Обнимаю и целую тебя тысячу раз!
Любящий тебя Курт Бальтазар».
* * *
Что нужно для счастья старому аскету, которому на прошлой неделе сравнялось тридцать лет? Чтобы чернила были густы, а чай — крепок и горяч, чтобы, наконец, прекратился дождь, а в печи уютно потрескивали дрова, как дома в камине. А ещё — немного интересной работы сейчас и весь мир впридачу в обозримой перспективе.
Унтер-офицер Герхард Кнопфель всегда подчеркнуто довольствовался малым и втайне мечтал о многом. Втайне потому, что ни один из сослуживцев, увы, не способен был подняться над обыденностью на должную высоту, чтобы… Да что и говорить! Ни у кого из них не водилось иной литературы, кроме очередного номера «Völkischer Beobachter». Зато, поговаривают, сам доктор Геббельс не чурался сочинительства, и если бы его не призвала бы нация, наверняка стал бы известным писателем, как же иначе? Так стоит ли Кнопфелю, истинному сыну Фатерланда, стыдиться своей мечты?
Каждый новый день приближает доблестных солдат фюрера к Москве, а его, скромного блюстителя интересов Рейха, пребывающего на незаметном, но, вне всякого сомнения, важном посту, — к главной жизненной цели. Если вдуматься, ему вообще фантастически повезло, причём дважды. Во-первых, он — современник великих свершений. Во-вторых, в отличие от кабинетных писак, изучающих мир по книгам, он имеет возможность все наблюдать сам, находясь в центре событий. Вот и сейчас в каких-то тридцати километрах от передовой, в небольшом городке — или это село? умеют же эти русские сделать простейшее малопонятным! (Кнопфель снимает и старательно протирает очки, как будто бы это поможет найти однозначный ответ) — он читает письма, пронизанные правдой жизни. И воочию видит героев своего будущего эпоса, который пусть и не сравнится с «Песнью о Нибелунгах», но, безусловно, оставит след в культуре величайшего из европейских народов. Да, именно так, на меньшее он, Герхард Кнопфель, не согласен. Через его руки ежедневно проходят сотни человеческих историй, каждая из которых может стать основой для романа. А какие типажи!
Вот, скажем, этот… (Кнопфель осторожно, чтобы не обжечься, отхлебывает из стакана и бросает взгляд на подпись) Курт Бальтазар. По всему видно, неглупый парень, наблюдательный и любознательный. Насчёт названия этого города русских быстро сообразил. Ему ли, Кнопфелю, не оценить! Сам только сегодня утром вызнавал у местных жителей, что значит название их… э-э-э… населенного пункта. Оказалось, что-то вроде «замок». Несколькими веками ранее, рассказали ему, тут и правда был замок. Однако непонятно, от кого они оборонялись… и как им это вообще удавалось. Или одни варвары на этой земле попросту сменяли других, менее удачливых? Унтер-офицер Герхард Кнопфель не считает нужным интересоваться столь… э-э-э… тщательно историей побежденных. Он всего лишь коллекционирует названия (чем это хуже собирания почтовых марок или рождественских открыток?) и как любой увлечённый человек радуется пополнению своего собрания. Теперь в таблице, аккуратно вычерченной в записной книжке и уже наполовину заполненной, слева значится чужое слово «Kromy», справа красуется родное — «Burg».
А здешняя история начинается с чистой страницы. Есть в этом что-то символическое. Равно как и в том, что гефрайтер, носящий прославленную фамилию Хофман, немного понимает язык жителей этих мест… и отлично разбирается в изысканном напитке, в коем большинство соотечественников, увы, совсем ничего не смыслит.
Кнопфель делает ещё несколько глотков, на этот раз предварительно вдохнув травяной аромат, и снова погружается в чтение, тоже не без удовольствия… Да, и краткие зарисовки из солдатской жизни у этого Бальтазара выразительны и энергичны. Ещё бы соображал, что можно писать своей фрау, а что нельзя. Ну да не было бы непонимающих, отпала бы необходимость в его, Кнопфеля, работе. (Отставив стакан, он с наслаждением погружает перо в чернильницу.) Все, что касается… э-э-э… последствий боя вымарываем. Гражданскому населению вполне достаточно «Немецкого еженедельного обозрения». Вот, пожалуй, и все. Хотя… Не слишком ли слезлива история о собаке? Не бросает ли тень на немецкого офицера? И вообще…
Морщась, он шевелит пальцами левой руки — насколько это позволяет сделать повязка. А правая уже вычеркивает — ровно и красиво, с выверенным и доведенным до автоматизма нажимом — крамольные строки.
Унтер-офицер Герхард Кнопфель, будущий писатель, участвует в сотворении европейской истории.
Глава 1
Сентябрь 1941 года
— Прифронтовой город, — медленно и чётко выговорила Лида, пробуя слова на вкус. Горчат слегка — да и только. Ну не верится, что Орёл — прифронтовой, не верится и всё тут. Отсюда, с зелёной скамеечки в сквере, многое видно. Внушительных очертаний серый мост, который называется Красным. По нему грохочут трамваи, как раз-таки кумачового — звонкого, как говорил Митя, — цвета; под ним неслышно вливаются в Оку воды Орлика; над ним возвышаются две церкви. У газетного киоска на пересечении улицы Сталина и Пятой Курской старик с бородой, как у Льва Толстого, и в молодецком картузе, играет на баяне — не для заработка, для удовольствия, а может, уже просто по привычке. Но всё равно очень хорошо играет. «Спит гаолян, сопки покрыты мглой…» Две девчонки лет десяти принимаются вальсировать. Им, конечно, невдомёк, что это песня о войне. А вот музыкант, словно спохватившись, резко обрывает мелодию и тут же, без перехода: «Утомленное солнце нежно с морем прощалось…»
Дело к вечеру, солнце — не утомленное, а словно блаженствующее, лежит на башенке высокого дома, немножко похожего на какой-то из ленинградских дворцов. На какой именно, Лида не знает, она видела их лишь на фотографиях в книгах (Митя говорил, что в отпуске они обязательно поедут… отпуск обещали в августе). Зато припоминается: эту вот башенку муж называл бельведером. Для него, для архитектора, это обычный термин. А вот ей, Лиде, всегда, когда она слышала это слово, чудилось ведро, изукрашенное с нелепой роскошью…
Лида улыбается.
Это её город. Те же улицы, те же дома, люди едут в трамвае по своим делам и военных вокруг не больше, чем обычно. Куда меньше, чем в Туле. Вон, и мальчишки, ровесники старшего племянника Васьки, заняты обычным делом: подкладывают гвозди на рельсы перед приближающимся красным вагончиком, а потом собирают с земли расплющенные кусочки металла. Любопытно, на что они пацанам? Для игры? Или поделки какие мастерить? Надо будет у Васятки выспросить…
И Первомайский сквер — точь-в-точь такой же, как в день её первой встречи с Митей. Шестнадцатого сентября тридцать восьмого. Прошло ровно три года и три дня. И снова едва заметно пробивается сквозь поблекший зелёный цвет листьев совсем не скучная, солнечная такая, желтизна. Воробьи в пыли купаются, празднуют бабье лето. А вот скамейки иначе покрашены… были синие, кажется…
И Мити в городе нет. И Варькиного Павла нет. И окна домов заклеены бумажными полосами крест-накрест. И лица прохожих как будто бы просто сосредоточенные, а на самом деле…
Прифронтовой.
* * *
Зато дома, в Гурьевском переулке — то есть в Хлебном, просто старое название привычней — все так же, как было при жизни мамы: герань на подоконниках, крахмальные покрывала на кроватях, вышитая скатерка. «Символы мещанского благополучия», — беззлобно поддевал свояченицу Митя. А если всерьёз, Варька — она в маму, хозяйка необыкновенная. Вот и сегодня: десять минут — и обед на столе. Не такой, конечно, какими потчевала до войны. Но всё ж картошка есть, и солёные огурцы… да что огурцы! пирожки — и те на столе, правда, не с мясом, а с мелко нарезанным луком. Для наголодавшейся в дороге Лиды — роскошное пиршество.
— В дорогу напекла, — как бы между делом обронила Варя.
— Кому в дорогу?
— Нам.
Лишь сейчас взгляд Лиды зацепился за бесформенный баул в углу. Из баула на удивление неряшливо свисал рукав детской вязаной кофточки. Жалостно и жутко.
Помолчали обе: одной не хотелось слышать, другой — говорить.
Ходики спокойно, как ни в чем не бывало, отсчитывали минуты.
— Лидусь, я письмо отправляла, но оно, видать, тебя уж не застало. Я написала, чтоб ты сразу к тете Дусе…
Младшая отодвинула тарелку — то ли насытилась, наконец, то ли кусок стал поперёк горла, она и сама не разобрала. Проговорила с усилием:
— Получила я его. Но мне казалось, ты передумаешь. Мама всегда говорила, что дома и стены помогают.
И добавила тихо-тихо, чтобы постыдная неуверенность не так была слышна:
— Варь, ну зачем тебе уезжать? Орёл — центр военного округа, тут должны быть какие-то войска, правильно? Не сдадут…
— Какие-то… — Варя покачала головой в такт движению маятника. Пугающе механическое движение. — Поехали с нами в Каменку, а?
— Это чего, бежать, что ли? — Лиде стало и досадно, и неловко. Отвернулась к окну, дёрнула черную тяжёлую занавеску…
— Закрой, закрой! — старшая сестра порывисто и суетливо отвела её руку. — Нельзя… затемнение.
Перевела дух. Но испуг из глаз не ушел, Лида видела.
— Станцию бомбят, и нам перепадает… Сегодня так и вовсе три воздушных тревоги было, и третьего дня… Перелыгиных помнишь? Как половина народа с депо — кто на фронт, кто с семьями в эвакуацию, так Порфирич на железку в сторожа подался. Ну вот… — Варя глубоко, со всхлипом вздохнула. — Ногу ему оторвало в бомбёжку. Это летом еще. До пункта первой помощи не довезли. И Иванниковых разбомбило, Маруся с детьми теперь у бабки в деревне.
Опять посидели молча. Тиканье часов в тишине нагоняло на Лиду страх, но заговорить почему-то было ещё страшнее. Она вздрогнула, когда Варя спросила вполголоса:
— Митяй-то пишет?
— Пишет. Перед самым моим отъездом вот…
— А от Пашки с десятого августа ни полсловечка, — Варя встала, принялась собирать посуду, качнула головой, увидев, что Лида поднимается: мол, сама управлюсь. — Мне детей сберечь. Я обещала.
И, после паузы:
— Чего делать-то собираешься?
— К вам вот попроситься хотела, — призналась младшая. — Библиотекари-то сейчас кому нужны?
— Это да, — Варя очень осторожно, беззвучно поставила тарелку на тарелку. — Да вот тебе-то — и в санитарки?..
— Думаешь, не справлюсь?
— Справишься, чего там… — старшая вздохнула и закончила с нажимом: — Ежели чего… ну, случится чего, госпиталя в первый черед вывезут, я так рассуждаю.
Подумала.
— Лидусь, как до тётки добираться-то помнишь?
— Доберусь, — Лида кивнула.
И мысленно повторила: «Если что…»
…Прощание с родными вышло долгое, суетливое и бестолковое.
Варя трижды повторяла одно и то же:
— Банка с керосином за буфетом, не перепутай, там в другой у Пашки чего-то… — и казалось, забывала собственные слова раньше, чем успевала договорить.
Ещё велела картошку кушать, а дверь в погребицу получше закрывать:
— Мыши вовсе страх потеряли, — и почему-то добавила: — Как война началась, так и…
Потом вдруг решила, что Манечка в дороге непременно замерзнет, начала искать пуховый платок, разворошила и баул, и один из двух узлов.
А Манечка ни с того ни с сего расплакалась, и все её долго утешали, и снова паковали вещи, и почему-то получалось не так ладно, как прежде.
Кое-как уложили Варя устало села — почему-то на узел, а не на табурет — и поглядела на стенные часы.
— Ежели что, мамкины ходики в сараюшке припрячь, да смотри, заверни как следует, чтоб не попортились, — сказала она и всхлипнула. — Вон, Пашкина фуфайка на вешалке, возьмешь тогда.
Лида молча кивнула. Что тут говорить? Сколько была семья, столько и эти ходики были.
— А Васька-то где? — всплеснула руками Варя.
Кинулись по комнатам, выглянули во двор, Манечка, обрадовавшись нежданной игре в прятки, побежала на улицу. Вернулась сияющая:
— Васятка к Лаврищевым пошёл, я видела!
Поспешили к соседям.
Васька попытался было улизнуть, но бабка Лаврищева не дремала, образумила подзатыльником. Ну и внуку Мишке отвесила для острастки.
— Ну что ты бегаешь, нам уж пора давно, — взялась выговаривать сыну Варя, силясь скрыть смущение — от нее-то от самой детям разве что мокрым полотенцем доставалось, когда в кухне под руку лезли.
— Это ты бегаешь, а я не хочу, — огрызнулся мальчишка. — Сама же мне говорила, что Орёл не сдадут, а теперь чего?
Варя, краснея и оглядываясь на бабку, стала сбивчиво оправдываться: они помогут тете Дусе по хозяйству, она ведь старенькая уже, ей трудно все одной да одной, а потом вернутся, Васятка и от класса отстать не успеет. Бабка Лаврищева поддакивала и украдкой посмеивалась то ли Вариному обхождению с сопляком, то ли неумелой её лжи.
Наконец вернулись домой за вещами, расцеловались, присели на дорожку, гуртом двинулись к калитке, и…
— Мы Лиду забыли! — отчаянно вспискнула Манечка и, чуть не сбив тётку с ног, бросилась назад.
Лида не сразу сообразила, что это не о ней — о кукле. Да и когда сообразила, от сердца не отлегло.
Смолчала. И Варя смолчала, хотя в другой раз точно не преминула бы посетовать на дурные приметы.
* * *
Лида всегда любила тишину и удивлялась, что кто-то от неё устает. Тишина читального зала — солидная, дружественная умным мыслям. Домашняя — лёгкая и теплая, как любимое одеяло. Тишина осеннего города — спокойная, уютная.
Тишина этой осени была совсем другая — сторожкая, ненадёжная, оглохшая от бомбежек и одуревшая от тяжёлых предчувствий. Та, что дома, — ещё и постоянно заодно с утомлением… и отдохнуть не позволяет. В ней чудятся Варины вздохи и горестный Манечкин возглас: «Лиду забыли!», она выталкивает прочь, гонит из дому. Тишина госпиталя — искалеченная, подавляющая крик, намертво стянутая бинтами. Лида приспособилась передремывать между сменами в комнатенке у медсестер. Это не одобрялось, но и запрещать никто не торопился.
Она не пыталась внушить себе, что в её присутствии здесь есть какой-то особый смысл; в госпитале хватало квалифицированного медперсонала, что уж говорить о санитарках из вольнонаемных. Просто ей самой так было легче: никаких лишних мыслей, потому что тут — нельзя. Ну, то есть, мысли-то — они у всех, только вот словами редко становятся. Разве что спросит кто-нибудь из раненых: «Сестрёнка, в городе-то чего слышно?» — «Всё по-прежнему», — ответит Лида — и не знает, что добавить. Она и прежде не отличалась разговорчивостью; Митя, бывало, шутил: «Вот повезло мне редкостную редкость выискать — неболтливую женщину!» А нынешние городские новости — те, что были и видны, и слышны, — ни к чему рассказывать, их и так все знают. Эти новости что ни день врываются с грохотом, оседают дымящимися развалинами на Выгонной, на Медведевской, на Пушкинской, на Курских.
А другие — из числа тех, что передавались из уст в уста, — просто повторять не хочется. Даже верить в них не хочется. Сегодня Надя Минакова, бойкая чернявая медсестричка, сказала по секрету: командующий округом Тюрин со штабными ещё прошлым вечером из города уехал. На восток. Может, в Мценск… а там кто его знает.
Верить не хотелось. А вот как, спрашивается, не верить, если Надькин жених — чекист?
Нет, лучше уж ограничиваться многозначительным и ничего не значащим «всё по-прежнему». А там уж пусть каждый для себя решает, к добру оно или к худу.
Общительная, да и вообще словоохотливая, Надька выкручивалась по-своему, частила бойко:
— Ну, то, что сестрёнка моя меньшая, Танька, косу себе отчекрыжила, чтоб букли крутить, как у соседской Вальки, а у тётки Нюры одноглазый кот пропал, — оно вам без интереса, а сводку вы и так слыхали — упорные бои на всем фронте, на западном, вон, направлении нынче наши самолёты кучу немецкой техники уничтожили да роту пехоты впридачу. Лично мне такие новости оч-чень и весьма!
Лида ей отчаянно завидовала: есть же такие люди, по которым никогда не скажешь, что они встревожены, или опечалены, или…
А сегодня приятельница и вовсе примчалась в сестринскую оживлённая, выпалила прямо с порога:
— Девочки, после смены все со мной! — и, сделав загадочные глаза, пропела опереточным голоском: — Банкет намечается!
Лида удивилась. Ей даже немножечко любопытно стало. Нет, она, конечно же, никуда не собиралась идти, но…
Но Надька была не из тех, от кого можно запросто отговориться. Ну и что с того, что Лида без году неделя в госпитале работает? Она ж, Надька, не отдел кадров, чтоб этим интересоваться. Устала? А кто не устает? Можно подумать, она, Надька, не устает, или, вон, Тонька… И в конце концов, тряхнув цыганскими кудрями, выдала самый главный аргумент:
— Ванька мой на полсуток домой выпросился. Ты ж понимаешь, он на казарменном, мы, считай, месяц не виделись. Скажешь, не праздник? По нашим временам вполне себе праздник! А у нас так — если праздник, то полон дом народу. Вот как свадьбу гулять будем, все услышат, от Привокзалки до Кирпичного! Теть Зина, Ванькина мать, уже, небось, пироги вовсю печёт. Так что не выдумывай-ка давай.
Они были очень красивой парой, темненькая Надя и её Ваня, похожий на царевича из сказки. Правда, Надя ворчала, что зря он к приходу гостей гражданское надел: когда он в форме, на него глядеть приятнее. А он притворно хмурился в ответ и отшучивался: «Коли так форму любишь, чего ж не стала встречаться с тем лётным курсантом, у летунов-то, знамо дело, шику больше нашего».
У Вани собралась целая дюжина гостей, однако мужчина среди них оказался только один — точнее, молодой парень в «профессорских» очках. Так что тему для разговоров задала Надька, воспользовавшаяся случаем покрасоваться в ярко-голубом крепдешиновом платье:
— Ну, граждане-друзья, как вам моя обновка?
Гостьи принялись оживлённо обсуждать ткани, фасоны, делиться мечтами, кто какое платье хотел бы себе сшить. Лида вздохнула, улыбнулась: уж её-то и малиновая наливка не втянет в такой разговор! Зато все та же наливка развязала язык стеснительному парнишке в очках, Жоре, и вдруг оказалось, что и ему, и Лиде давным-давно не терпелось поговорить о сонетах Шекспира.
Ей стало тепло и весело. И казалось, что все и у всех сейчас хорошо и просто замечательно и нет других тем для разговора, кроме самых приятных. Лиде вдруг представилось, что во главе стола сидят, как на свадьбе, Варя с Пашкой. А Митя… Митя тоже здесь, просто во двор покурить вышел и вот-вот вернётся.
Лида опомнилась. И почувствовала: все они пытаются отгородиться от того, что всё равно случится. Так, как будто бы красивая одежда может уберечь человека, а беззаботная болтовня — рассеять жуткую тишину, эту вот тишину от бомбёжки до бомбёжки.
А тётя Зина, беленькая старушка с удивительно звучным, молодым голосом, вдруг обронила, то ли извиняясь, то ли жалуясь:
— Так уж получается — стол у нас нынче бедноват. То ли дело до войны…
— А давайте патефон заведём? — словно не слыша её, с преувеличенным воодушевлением воскликнула Надя. Но в голосе её Лиде почувствовалось старческое дребезжание. И в танце она двигалась как-то неровно — то бессильно шаркала ногами, то, встряхнувшись, принималась дробно притопывать не в такт музыке. И когда мелодия споткнулась и захромала, Надя не сняла иглу — сдёрнула торопливо, резко — и уселась на место, кивком указав Ване, что пора наполнить рюмки.
А потом запела… нет, заговорила тихо и строго:
Дан приказ: ему — на запад, Ей — в другую сторону… Уходили комсомольцы На гражданскую войну. Уходили, расставались, Покидая тихий край. «Ты мне что-нибудь, родная, На прощанье пожелай»…Одна из девушек — Лида не успела сообразить, кто именно, — начала тихонько подпевать, но на неё шикнули.
А Надя продолжала ровным голосом:
И родная отвечала: «Я желаю всей душой, — Если смерти, то — мгновенной, Если раны — небольшой»…И Лида вдруг подумала, что таким вот голосом молятся.
Провожать гостей вышла в прихожую одна только тётя Зина. Лида слышала, как Надя рыдает в кухне в полный голос и допытывается:
— Ну ты мне скажи, всё плохо, да? Раз никто ничего толком не говорит, значит, всё совсем-совсем плохо!
— Не, ну какое плохо? — утешающе твердил Ваня. — Кому полагается знать — те знают, когда будет нужно — и вам скажут. А пока… ну видишь ведь, мы в городе и никуда отсюда не собираемся. Ну и о чём ты тогда плачешь, глупенькая?
Лида слышала. И не верила.
Глава 2
3 октября 1941 года,
район станции Оптуха
В школьные годы Ванька любил читать про войну. И не какие-то там повести-романы, где бой умещается на одной странице, зато балов всяких и барского трепа сплошняком понатыкано, а серьёзные книги, с картами, со схемами, со стрелками, указывающими направления удара. И дядя Петя, материн старший брат, случалось, рассказывал про германскую. Не байки для ребятни травил, а укладывал слова неторопливо и весомо, словно дорогу мостил. И всякий раз заключал:
— Война — эт не ваши сшибки на палках, что вы из плетня у бабки Мани понавыдергали, казаки-разбойники. Война — она навроде работы в горячем цеху. Трудно, силы отнимает, да и случиться может всякое. А геройство… Ну дык работу справил, ну, то есть, приказ выполнил, — герой.
Оттого и мнилось Ваньке, что на войне всегда всё понятно: есть командиры, которые точно знают, что нужно делать, есть приказ, в руках оружие, впереди враг. Думалось в детстве, казалось до вчерашнего вечера и верилось нынче ночью, когда они, семь сотен чекистов и пограничников, именуемых ополчением НКВД, получили впридачу к своим винтовкам скудное количество гранат и изрядное — бутылок с зажигательной смесью и выдвинулись на полуторках на Кромы. Уничтожать немецкий десант, как им было сказано.
Поначалу Ванька пытался вообразить себе, как все случится. На ум почему-то шли кадры из фильма про Чапая и больше ничего. А потом и вовсе мыслей не осталось: Ванька задремал, чувствуя сквозь сон и тряское покачивание грузовика, и собственный озноб, то ли от волнения, то ли от ночного холода.
Он и опомниться не успел, как, вытолкнутый из машины бесцеремонной рукой, уже лежал в кювете, а со всех сторон и вроде бы даже с неба трещало и грохотало. И он тоже стрелял — и добро бы в белый свет, как в копеечку, а то ведь в непроглядную ночную темень, тошнотворно воняющую металлом, бензином и ещё чем-то… чёрт знает чем!
А когда все стихло, понял: ничуть не врут люди про оглушительную тишину. И в этой тишине голоса звучали гулко, как из бочки… а о чём говорят, не сразу разберешь. Но и так ясно: что бы это ни было, на десант оно не похоже. Убралось восвояси — это да…однако ж, надо понимать, не совсем убралось, другую дорогу искать отправилось, обходную. И что ж теперь?
Вносить ясность никто не торопился. Вовка-пограничник, который все всегда узнавал быстрей всех, принес весть: командир с комиссаром куда-то двинули на «эмке». Прочим, выходит, где остановился — там и стой. Впотьмах да под мелким дождиком, плащ-палаток нет, во флягах вода не сказать что в избытке, и сверху вода не сказать что в недостатке. И перелесок на обочине дороги — то ещё укрытие. А чего делать, разместились кто как сумел, Вовка-пограничник кусок брезента откуда-то добыл, организовал подобие палатки на четверых, даже костерок развели. Жить можно!
— Я так рассуждаю, мужики, — заговорил Вовка, озябшими непослушными пальцами крутя «козью ножку». — Налетели мы с вами на передовой отряд гансов. Десант, спрашиваете? А чего, пехтура ихняя на танковой броне — не десант? Только вот танков тех — не меньше, чем до хренищи. И кабы они нас тоже за кого-то другого не приняли, враз выписали б нам путевку на тот свет. Считайте, свезло.
— Свезло, говоришь? — хрипловато заворчал Илюха, иначе именуемый Паровозом, мрачноватый парень, недавно перепросившийся к ним из военизированной охраны железки. — Ну тогда скажи, умник, куда они двинули-то?
— А чего тут думать? — пограничник нахмурился. — Тут не то что умнику, распоследнему дураку ясно — дорога им одна, на Орёл.
— Во-от! — назидательно прогудел Паровоз. — Такое вот оно, наше везение. В тыл к нам зайдут — и пишите письма.
— Не факт, — Вовка со старанием, словно занимался делом наипервейшей важности, затушил окурок о подошву, — что они сегодня нарисуются. Черт их знает, куда они по здешним кнубрям забурятся и сколько потом дорогу искать будут. А там уж их на окраине встретят…
— По кнубрям? — живо переспросил смуглый парень, прозванный Молдаванином, хотя фамилия его была Шевченко и он незадолго до войны приехал в Орёл откуда-то с юга Украины.
— А чего?
— По-нашему это как, интересуюсь.
— Почем мне знать, как оно по-вашему, — пробухтел Вовка. И тут до него дошло: — У вас чего, так не говорят?
— У нас и не так говорят. А этак вот — нет.
— По кнубрям — по бездорожью то есть. Они ж в обход тракта подались, так? А кроме того рельефа местности, — пограничник радостно скалится, — что у них на картах обозначен, есть ещё сама местность, улавливаешь мысль?
— До Кривцово и Шумаково дорога нормальная, — снова встрял Илюха. — А дальше, сдаётся мне, они вдоль железки попрут. Подымил с полминуты и закончил: — Так что — сегодня.
«А мамка? А Надюшка?» — Ваньку снова начало знобить, и он мысленно выругал себя — разнюниться ещё не хватало! И почему-то стыдно стало, что он в первый черед о своих вспомнил, когда такое творится. Хотя наверняка и Илюха, и Молдаванин в эту минуту о семьях подумали. Вовке-то проще, он одинокий.
Что ж это за война такая? Где враг — непонятно, сколько того врага — тоже, командовать никто не торо…
— Мужики, кончай перекур, выдвигаемся!
— Куда? — растерянно спросил Ванька. Почему-то у Илюхи.
— На кудыкину гору, — с неожиданной злостью осклабился Паровоз. — Домой, куда ж еще?
Грузились расторопно, но казалось — жутко медленно. Вовка последним запрыгнул в кузов и с ходу ошарашил:
— Вот тебе и по кнубрям! Знаете, где гансы? В Кнубре заночевали. А от того Кнубря до Орла километров двадцать. Вот и считай, в котором часу они по утреннему холодку в гости прикатят.
— Почем знаешь? — вскинулся Ванька.
— Ну так командир с комиссаром только что оттуда. Насилу вырвались.
— Тебе что, докладывают?
— Зачем? Я ж разведчик.
«Трепло ты, а не разведчик!» — чуть было не высказался в сердцах Ванька. Хорошо, вовремя язык прикусил. В чем Вовка-то виноват? Да и командир с комиссаром, если подумать, не дуриком в ночь помчали. Командир-то у них не абы кто — майор погранвойск НКВД, кадровый…
— Вовка у нас все знает, — протянул Паровоз, — да мало понимает. После таких гостей не соберешь костей.
— А ты панику не поднимай! — набычился пограничник.
— Да какая паника? — Илюха вздохнул так, как если бы его заставляли объяснять что-то очень простое. — На тебя железная дурища попрет, в которой хорошо так за тысячу пудов, а чего у тебя против неё, ты не хуже меня знаешь. И стоять тебе против неё. И стоять, и стоять. Потому как иной судьбы, чую, у нас не будет.
* * *
3 октября 1941 года,
юго-западная окраина Орла
Раньше Ваньке представлялось, что судьба — просто выдумка, которой в старое время бесстыжие гадалки дурили тёмный суеверный люд. Да и вообще, не брал он этого в голову. То ли дело — Родина. Вот о ней и думал, и читал, и в школьном сочинении писал. Родина — это огромная страна от края и до края, Москва с Красной площадью, Ленинград со Смольным и «Авророй»… А Надюшка, тогда ещё не невеста, просто одноклассница, написала совсем иначе. У неё выходило, что домишко на Привокзальной, мама с отцом, и сестра, и школа, и подружки, и бабушкина деревня, и тамошние ребята — Родина. Ванька удивлялся: странные они всё-таки люди, девчонки! И мечты у них странные. Ну что это за мечта — стану, дескать, медсестрой, буду людям помогать? Как будто бы врач людям не помогает! Чего прям сразу — медсестрой? Нет, мечтать — так мечтать! Можно даже и о подвиге. Таком, о каких в газетах пишут. Ванька мечтал. Молчком — эта вредина засмеет ведь. Она тогда уже за словом в карман не лезла, Надюшка…
А Родина, оказывается, — это земля.
И думается сейчас не о той, что от края и до края, а об этой рыжевато-серой, вязкой, что липнет на лопату, забивается в рот, в уши, комками сыплется за шиворот. Лопата уже неподъёмная. А земля мягкая. Лечь бы, полежать. Холодная. Это хорошо, что холодная. Остудит, бодрости прибавит. Да только земля эта — рубеж. Через какой-нибудь час ей защищать тех, кто будет защищать ее.
Вода во фляге пахнет землёй. И Ванька пропах землёй. И у дымка махорки запах, какой идёт от прогретой солнцем земли.
Серый рассвет пластается по земле. И небо тоже землистое; Ваньке в какой-то миг стало казаться, что он муравей, строящий себе жилище в огромном надёжном блиндаже.
А значит, ничего плохого не случится. Ни с кем из них. Ничего плохого.
И даже тогда, когда земля взметнулась в небо, а небо начало осыпаться на землю, страшно не было. Было что-то другое, непонятное, чему и названия-то, наверно, нет, но не страх. Земля-то — она прикрывает.
— Пока Цон не перейдут, будем жить! — срывающимся, веселым голосом проорал Ваньке в ухо Вовка-пограничник. — А вот хрен они найдут, где перейти!
Оно и понятно. Цон — река невеликая, Ванька, помнится, десятилетним пацаном переплывал. Туда-обратно. По три раза, прежде чем завалиться на бережку, подставляя пузо солнцу. В глубину тут взрослому в иных местах по макушку, а в иных — и вовсе по колено. Однако ж какая-никакая, а водная преграда. За которой — семь сотен злых, не выспавшихся русских. Три легких танка и горстка пехоты на рожон вряд ли попрут, огрызнутся да уйдут восвояси ни с чем. Но кто сказал, что гансюки выслали единственную разведгруппу?
Во, опять зашевелились! Один из трёх медленно, словно ощупью, двинулся вдоль бережка, приминая жидкий кустарник. Другой сунулся было к воде, нарвался на увесистую плюху из полусотни ружейных стволов, попятился.
И снова стало тихо. И неспокойно.
— Обойдут, — будто подслушав Ванькины мысли, негромко, но почему-то очень отчетливо сказал Илюха. И дёрнул головой влево. — Для любителей названий всяких интересных… слышь, Молдаванин, для тебя — в той стороне деревня, Гать называется. Не перейдут речку вброд, двинут через Гать, угу.
И тут Ваньку пробрало. Не до дрожи — до оцепенения. Такое было как-то в детстве, когда он на спор заночевал один в выселенном доме. Всякое могло приключиться, начиная с того, что проморгавший его сторож вдруг решит проявить бдительность, и заканчивая тем, что обрушатся ветхие перекрытия между этажами. Но страшно было думать, что справа и слева — пустые тёмные комнаты. И не потому, что никто не придет на помощь, а просто…
Что же получается, они и есть — оборона? Одни они — и всё?!
Возле Гати никого, это точно. А позади, в загодя отрытых окопах на окраине? Что, там тоже пусто?
Выходит, подарили немцу город?..
В следующий миг думать стало некогда…
* * *
3 октября 1941 года,
Старо-Киевский большак
Они не были единственными, кто держал в то утро оборону — безнадёжную, но держал. Справлял работу, как давным-давно говорил Ваньке дядя Петр. Свою или чужую — тут уж разбирать не приходилось.
Человек двужильный, а у техники ресурс есть. И хуже всего, когда вспоминаешь об этом вот так: твои товарищи уходят дальше, а ты остаешься на обочине дороги. И вся надежда — на коротышку в замызганной гимнастерке… да какая надежда! Вон он, возьми его за рупь двадцать! — влез на выклянченный у парней снарядный ящик, открыл капот своей трехтонки и смотрит внутрь жалостно, разве что слезу не пускает. Поглядишь на такого — и волей-неволей подумаешь: остался бы водила постарше, тот же Григорич, — наверняка бы управился, а этот… тьфу!
Сержант отмахивается от докучливой мыслишки и принимается за дело: хочешь не хочешь, а орудие надо ближе к лесу… В одном повезло: до леса десятка три шагов, не больше. Это, конечно, потрудней, чем летним вечером в горсаду лимонад пить, но их пять здоровенных лбов, и в каждом он уверен не меньше, чем в себе, а уж в себе-то — жаловаться грех. Пацан не в счет, пусть возится со своей колымагой…
Сержанту пошёл двадцать второй год, водитель на пару лет моложе и кажется ему совсем сопляком. Толку с мальчишки мало, ну да какой с него спрос?
Если кому и предъявлять претензии, так это немчуре. Подкрепляя восьмидесятипятимиллиметровыми доводами, коих не много, но и не мало — ровно дюжина. Их серовато-бурые бока внушительно вздымаются над жёсткой щеткой скошенной под осень травы. Они ждут. И люди ждут. Трудятся — и ждут. Ясно, чего.
— Ну? — сержант, потирая вспотевшую шею, подходит к водителю.
Здесь тоже всё понятно, но не спросить он не может.
Пацан качает головой и виновато шмыгает носом.
— Ты вот что, — сержант добавляет в голос командирских ноток, — подготовь машину к уничтожению. Мало ли что, вдруг эти… управятся. — И косится в сторону леса: только бы зениточка, красавица, не зачудила, а уж там… Что «там», думать смысла нет, а загадывать и вовсе последнее дело. — Как сделаешь, топай к нам. Завтракать будем
…Час спустя в Малой Фоминке, что в стороне от большака, который тут из поколения в поколение уважительно величали Старо-Киевским, услыхали раскатистое «тудух! тудух!» — словно из земли, как из половика, пыль выколачивают.
— С Драгунского бахають, — хмуро переглянулись два не старых ещё деда, повидавшие на своем веку не одну войну.
— Васька! Санька! Федька! — заметались, заголосили бабы. И — настежь двери погребиц, тут уж не о том печаль, что мыши понабегут: детей ховать надо! Малые — вот они, за подолы материнские цепляются, а кто постарше — те к Драгунскому лесу бежать наладились. Одного за ухо, другому подзатыльник… Бабы не скупятся: лишь бы головы дурные были целы.
Федька, тётки Любы сын, сорванец и коновод, порскнул огородами, как на реку бегал, когда мать не пускала, да и был таков.
Он-то и принес в деревню весть:
— Наши с пушки два не то три немецких танка спалили, а потом их… — и разревелся. Спохватился, прикусил губу, зыркнул на перепуганных сестрёнок и сказал устало и зло: — А танки у этих серые, как крысы!
Серые танки шли по большаку на Орёл.
А там, на окраине, в отрытых ещё в августе окопах занимали позиции бойцы конвойного батальона НКВД.
* * *
3 октября 1941 года,
юго-западная окраина Орла
…Сквозь никак не отступающую глухоту пробился тихий, срывающийся Надюшкин голос:
…Если смерти, то — мгновенной, Если раны — небольшой…Значит, всё-таки есть она, судьба, если её издали почуять можно?
А вот боя не слышно. Неужто — все?
Силясь приоткрыть глаза, Ванька позвал:
— Вовка! Вов, как там?
Отозвался почему-то Молдаванин, едва слышно:
— Отходить будем. Илюха говорит, знает, где подводой разжиться. А коль говорит… Скоро уже, Вань.
Ванька ждал. Ему-то что? Это им сейчас трудно — Молдаванину вот, Илюхе, Вовке… а где Вовка? Надо позвать, спросить. Потом. Сейчас пусть своё дело делают. А ему остаётся лежать да ждать, выталкивая с каждым выдохом боль, чтобы снова не накрыла, когда…
Земля теплая и пахнет хлебом. И дымком — как от костра. Тихая…
Не успел подумать, как снова ударило, и земля отозвалась дрожью. Земля тоже дышит, выталкивает боль. Живая…
…Секундой позже она вспыхнула под ногами Ганса, или Курта, или Фридриха — и одуряюще запахла гарью и тленом.
Ваньку вернул в сознание низкий гул, слышный даже сквозь грохот и треск.
Небо, белое-пребелое (когда ж день-то успел настать?) ослепило, и тотчас же закрылось чем-то тёмным, большим.
На город шли самолёты.
* * *
Восемь двухмоторных ПС-84, порождение американского технического гения и русского рабочего мастерства, один за другим спешно заходили на посадку. Чуть в стороне и выше, почти цепляя хвостовым оперением набрякшие дождем тучи, кувыркались, переполыхиваясь злыми огоньками пушек и пулемётов, две тройки «ястребков» против дюжины «мессов». Впрочем, нет, не дюжины — десятка: один Me-109, волоча за собою дымный шлейф, торопливо ковылял на юго-запад, в сторону Кром, пилота второго порывистым ветром тянуло вместе с парашютом к реденькой рощице.
Вот колеса первого самолёта синхронно стукнулись о покрытие взлетно-посадочной полосы, и он шустро для своих габаритов покатил вперед, торопясь освободить дорожку для летящего в кильватере дюралевого сотоварища. Крылатая машина не успела ещё окончательно остановиться, как в её борту рывком распахнулась сводчатая дверца и на землю принялись выскакивать бойцы. Подчиняясь отрывистым командам, они, едва успев размять занемевшие от многочасового сидения ноги, группировались по отделениям, взводам и торопливым шагом выдвигались в сторону железнодорожной насыпи. Четыре стальных «оглобли» ПТР-39 тащили на плечах попарно, выжидательно оглядываясь назад: следом за «русскими дугласами» шли десятки краснозвездных ТБ-3, которые несли в себе не только бойцов, но и намертво принайтованные тросами сорокапятимиллиметровые орудия противотанковой батареи 201-й воздушно-десантной бригады.
Бригаду подняли по тревоге глубокой ночью. А в девять часов утра она в полном составе уже была на аэродроме. Как в песне поется: «Были сборы недолги».
Все напутственные речи уложились в одну фразу:
— Товарищи, помните: на этом рубеже вы защищаете Москву…
…Передовой отряд десантников критически оглядывал подготовленные местными окопы по обе стороны шоссе, а командир деловито представлялся хозяевам-чекистам, когда раздались приглушённые расстоянием хлопки орудийных выстрелов.
Танки гитлеровской кампфгруппы открыли огонь по летному полю…
* * *
Когда ты впервые в жизни понимаешь, что цвиркающие звуки рядом с тобой издают не безобидные щеглы-воробушки, а вполне реальные пули и осколки снарядов, от неожиданности поневоле пригнешься, втягивая голову и завидуя черепахе с её панцирем, а то и бросишься с размаху на землю: она, кормилица и заступница, укроет от вражьего летящего железа. Десантники принялись рассредоточиваться по полю. Опустевшие самолёты друг за другом поднимались в воздух. Вроде бы, все без суеты, но у кого в то мгновение сердце не зашлось: опоздали!
Веселый золоточубый политрук, форсящий среди прыжковых комбинезонов и полевого обмундирования диагоналевыми тёмно-синими галифе «шириною с чёрное море» и авиационным околышем фуражки, кинулся к ирригационной канавке неподалеку от дороги, увлекая за собой ближайший взвод. Натренированные километражом довоенных ещё марш-бросков, парашютисты мчались за ним, с разбегу сигали в заросший поблекшей осенней травой водогон и сразу же принимались обустраивать свой временный боевой рубеж. Выкладывали из вещмешков гранаты, тут же деловито снаряжали их карандашиками детонаторов. Выравнивая дыхание, брали на мушки токаревских полуавтоматов мелькающие вдали непривычные силуэты в немецких касках. И — ждали, напряженно ждали приближения серо-сизых стальных ящиков на гусеницах…
Ведомый самым бесшабашным, а может быть, самым неопытным командиром Pz.Kpfw II сунулся справа, одновременно разворачивая башню, чтобы прочесать фланговым огнём канаву. Чересчур приблизился, чересчур. Над землёй молниеносно взметнулась чья-то рука, и, кувыркаясь в воздухе, полетела в танк килограммовая тушка гранаты. Взрыв на лобовом листе оглушил водителя, заставив выпустить рычаги управления, подобно тому, как терял поводья боевого коня тевтон, получивший удар булавой по ведерному шлему. Вторая граната, не долетев, взметнула землю в метре от борта, зато третья «РПГ-40» легла точно, разорвав стальную гусеницу и повредив опорный каток. Высунувшийся вскоре панцерманн поймал сразу несколько пуль и осел внутрь стального гроба. Сотоварищи подбитого танка не стали искушать судьбу и, остановившись в почтительном отдалении, принялись за методичный обстрел. Так воюет умный германский солдат!
Да вот снаряды делят мир не на дураков и умных, а на живых и мертвых. Слаженно рявкнули три сорокапятки — и попятились, и задымили сразу два панцера. Больше кандидатов в мертвые герои нации не нашлось: благоразумный командир отдал приказ на отход.
Тем временем тяжёлые бомбардировщики всё спускались и спускались с серого неба на серый бетон, солидно и в то же время проворно скользили по нему и, выплюнув из своих дюралевых утроб людей, ящики и орудия, вновь грузно выруливали на взлет. Удивительно: ни один из этих воздушных гигантов не горел, не лежал в конце ВПП грудой покорёженного металла… Видно, не признанный Советской властью Илья-пророк всё-таки решил прикрыть авиаторов и десантников своим плащом от летящих снарядов и избавил от прямого попадания. Что же до дырок в плоскостях и фюзеляжах… ну так дополнительное освещение ещё никому не вредило…
* * *
…Не горюйте, не печальтесь — все поправится, Прокатите побыстрее — все забудется! Разлюбила — ну так что ж, Стал ей видно не хорош. Буду вас любить, касатики мои!Капитан Денис Французов не без удобства устроился на старой берёзе, упершись ногами в толстую ветку, а лопатками — в ствол, и то окидывал внимательным взглядом лежащую перед ним местность, то сверялся с логарифмической линейкой. Составлял огневую карточку. Перед ним — небольшая речушка с поросшими ракитником обрывистыми берегами. За нею, водной, то бишь, преградой, — обширное пустое пастбище. Дальше — разномастные крыши домиков. Поселок носит знакомое имя — Знаменка. Только его, Дениса, Знаменка, — по другую сторону Урала, в Славгородском районе Алтайского края. Там дед, и тётки, и Маруська… хочется думать, что невеста.
Они даже чем-то похожи, Знаменки. Наверное, тем, что просторные обе. Здешняя разбросана по обе стороны шоссе. По нему, скорее всего, и попрут снова. Немец — он удобство любит… хоть и пуганый уже.
За спиной Дениса, в полукилометре от его НП, десантники обживают окопы, противотанкисты спешно дооборудуют укрытия и готовят снарядные ровики. Левый фланг прикрывают местные — ополченцы и парни с краповыми петлицами войск НКВД — конвойный батальон, до немецкого прорыва фронта охранявший (Денис не удержался, полюбопытствовал) знаменитый Орловский централ, где до революции, говорят, самого товарища Дзержинского держали. Надёжный народ, уже три атаки отбили. Ну, теперь-то им повеселей будет. Внизу, под деревом, торопливо роют окопчик двое телефонистов: фигура третьего, загруженного катушками провода, мелькает вдалеке между кустами: минут через пять-восемь линия связи ко второму огневому взводу будет протянута. Из расположения первого взвода и с пункта боепитания уже отзвонились об исполнении. Что не может не радовать.
Ну, быстрей летите, кони, отгоните прочь тоску! Мы найдём себе другую — раскрасавицу-жену! Как бывало к ней приедешь, к моей миленькой — Приголубишь, поцелуешь, приласкаешься. Как бывало с нею на сердце спокойненько — Коротали вечера мы с ней, соколики! А теперь лечу я с вами — эх, орёлики! — Коротаю с вами время, горемычные. Видно мне так суждено…Перед глазами, примерно там, где минуту назад мелькал комбинезон связиста, полыхнул бело-оранжево-черный цветок снарядного разрыва, а спустя секунду воздушная волна с привычным грохотом прошлась по всему телу, будто боксёрскими «лапами» ударив по ушам. Следом за первым рванул второй снаряд, третий…
— Бат-тарея! К бою!
* * *
Тяжко это — сидеть под огнём, даже если понятно, что враг лупит по площадям, в белый свет, как в копеечку… А ответить никак нельзя: винтовка против артиллерии не играет, да и свои-то пушечки… противотанковые они, пригодные для боя на прямой наводке, а вот артиллерийская дуэль не для них.
Так что сиди. Сиди и жди. Жди, когда снова пойдёт…
Они пошли, серые коробочки на блестящих лентах гусениц. Да не прошли — их встретили.
Они ломили, развернувшись в боевой порядок. В промежутках между ними сизыми бегунками мишеней сутулились цепи пехотинцев. Лиц на таком расстоянии не было видно… Да и ни к чему рассматривать. Солдатское дело — толково эдакого бегунка посадить на пенёк мушки да плавно выбрать спуск. «Не ходи на Русь. Там живёт твоя смерть!» Уж сколько раз вбивали эту истину в головы иноземных захватчиков и мечом, и штыком, и пулей… А все им неймется… Что у них, кладбИщ своих мало? Так мы не жадные. Метра по два выделим…
Сколько было атак и контратак? Никто не считал. А если кто и считал, тот вряд ли вспомнит… Германцам так и не удалось пройти по шоссе там, где стояли красные десантники и чекисты. В город немецкие солдаты вошли с юго-востока. С той стороны, где не было ни укреплений, ни бойцов…
Реальность первых дней октября одна тысяча девятьсот сорок первого года…
Но в этом нет вины ни капитана Французова, ни русоволосого политрука, удивленными голубыми очами всматривающегося в обгорелые травинки перед лицом, сжавши мертвыми пальцами черенок пехотной лопатки, ни тех, кто, выполнив положенное, отступал в сторону Мценска, чтобы там снова принять бой.
Так начиналась Битва за Москву.
Глава 3
3 октября 1941 года,
Орёл
Город слышал: идёт бой. Город не мог не слышать.
Город надеялся на чудо так отчаянно, напряженно и деятельно… как умеют только дети и старики.
В избенке на Широко-Кузнечной, близ кирпичного завода, дед Коля, упрямый старый мастер, ещё в начале августа крепким словом, пинками и клюкой втолковывавший меньшому сыну, с чего это вдруг он, Николай Егорыч Баринов, не поедет в эвакуацию, а к исходу сентября почти обезножевший, доковылял до красного угла и стал глаза в глаза с темноликим умиротворенным старцем.
— О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, тёплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче! Помози ми, грешному и унылому, в настоящем сем житии…
А потом не спеша оборотился к противоположной стене.
— Видишь, Татьяна, не забыл я еще, как молиться. Тещу-то я, извиняй, не сильно жаловал, оно для тебя не секрет. Однако ж грех соврать, мудрая она была бабка. И, помнится, завсегда твердила: по молитвам к Господу Николая Чудотворца воистину совершается невозможное.
Жена на фотографической карточке так строго сжимала губы, что от уголков рта разбегались задорные морщинки.
* * *
По Комсомольской чуть ли не вприпрыжку спешила-торопилась шестилетняя Марочка… точнее, Марксина. А что, разве она маленькая, если уже хозяйство вести помогает? Правда, бабушка, когда зачем-то собралась к тете Тоне, строго-настрого запретила высовывать нос из дому. Ага, а Гале велела глаз с сестры не спускать. А Галя взяла и по-своему сделала. Как зашли её пионеры, да позвали куда-то… Марочка, конечно, подслушивала — ну, то есть не подслушивала, подслушивать совсем нехорошо… просто с дверью рядом стояла, притихнув, как мышка — да так ничего не услышала, кроме «шу-шу-шу». Галя тоже повторила: сиди дома. И дверь на ключ заперла, вот!
Марочке скоро стало скучно. И немножко страшно: где-то рядом бухает, будто гром гремит или война идет… как в кино про революционных героев. А война — она далеко, где-то за Брянском, так, вроде, бабушка говорила. Марочка ещё маленькая, не ходит в школу и не знает, где он, Брянск, но точно неблизко.
Но уже не очень маленькая, знает, где папин ключ лежит. Когда папа на фронт уходил, он ключ дома оставил, а бабушка спрятала в жестяную коробку, а коробку — на шкап, подальше-подальше… надо стул подставить, а на него — табуреточку маленькую…
А в коробке нашлись ещё свернутые трубочкой денежки и мамина брошка красная.
И Марочка подумала: надо сбегать в булочную. Бабушка ещё когда-а-а придет! И устанет, наверно. А хлебушек — тут как тут. Может быть, даже белый. Бабушка похвалит Марочку. Нет, сначала чуточку поругает, а потом похвалит, она не умеет долго сердиться. А вот Галке точно достанется — обещала присматривать, а сама гулять убежала… а ещё пионерка!
Марочка не помнила, сколько денежек нужно на хлеб, взяла с запасом. А куда положить? Не в авоську же? Из авоськи вывалятся. А у синего платьишка нет кармашка. Зато у белого с большими красными цветами — целых два. Правда, белое — новенькое, праздничное и вообще — как у большой.
Ну и хорошо, пусть все видят, что Марочка уже большая. А вот сюда, на этот вот цветочек, можно мамину брошку пристегнуть. Цветочек красненький и мамина брошка красненькая. Жалко, что сверху придётся пальтишко надевать… но можно ведь и не застегивать!
На улице Марочка сразу заспешила-заторопилась, подражая взрослым прохожим и чуточку важничая.
А потом вдруг забыла, что надо торопиться. Потому что увидела лошадок. Сначала беленькую, красивую, как в книжке со сказками. Ну, или как у дяди Гриши в деревне, он на такой их с Галей катал. А следом — рыжую, некрасивую. Правда, когда увидела, что рыжая хроменькая, подумала, что она красивей белой… хоть и идёт еле-еле, но телегу тянет, умница.
На телегах — красноармейцы. Не такие, каких Марочка видела у военкомата, когда папу провожали. У этих лица грязные, одежда тоже перепачкана, из-под одежды что-то белеет и краснеет… пятнами. А у того вон молодого дяденьки на голове повязка, и тоже красным будто обрызгана…
Марочка ещё толком ничего не поняла, а ноги сами собой уже мчали её к дому. Ну пусть случится так, что бабушка уже вернулась… и Галя… С ними не страшно. Дома не страшно. Марочка знает — дома с ней ничего плохого не случится.
А дома Марочка до смерти перепугала и без того напуганную бабушку: глянула на своё нарядное платьишко, белое с красным, — и принялась срывать, и закричала.
* * *
С самого утра по городу без устали сновали взбудораженные мальчиши-кибальчиши, удирали с уроков, обманывали бдительность бабушек и старших сестер, оставляли без присмотра малых, задабривая совесть тем, что не на вечерний же ведь сеанс в кино прорываются. То, что происходило сейчас, было как в фильме, но куда интереснее. И уж тем более — увлекательнее любой игры. Ребята понимали: надвигается что-то грозное. Но издалека взрывы казались хлопками, как если бы кто-то рядом по земле ладонью с размаху шлепал. И было почти не страшно, но жуть как любопытно.
Кибальчиши собирались в отряды, шныряли тут и там, оказывались в самых неподходящих местах, и некому было призвать их к порядку: бойцы истребительных батальонов, такие же пацаны и девчонки, только малость постарше, двумя днями раньше получили приказ разбиться на группы и уходить в Елец, а немногочисленные милицейские патрули нынче ещё затемно стянули на охрану вокзала.
Ничего этого ребята знать, конечно же, не могли. Но, чуя свободу, не слишком прятались и таились. Главное — никому из своих на глаза не попасться. А чужие взрослые… им-то какое дело, куда навострилась детвора?
Вот и Галя, опасаясь на Комсомольской столкнуться нос к носу с возвращающейся бабушкой, утащила друзей на Широко-Кузнечную. Оказалось, зря.
— Девочка, ты, случаем, не Марь Трофимовны внучка?
Галя сразу поняла, что окликнули именно ее.
Сердитый худой старик одной рукой опирался на клюку, а другой держался за калитку — то ли решал, идти на улицу или нет, то ли просто упасть боялся.
— Да, — растерянно призналась Галя.
— А бабка-то, небось, знать не знает, где тебя нелёгкая носит, — так вот просто сказал, даже не прикрикнул — а как подзатыльника дал. — Ну-ка дуй домой. Да бабке сказать не забудь, Николай Егорыч, дескать, кланяться велел.
Обвел взглядом мальчишек.
— А вы, архаровцы, чего стоите, рты разинув? Родителей осиротить задумали? Брысь по домам. И чтоб больше не смели на улицу без спросу соваться. Кончились ваши казаки-разбойники, привольное житье.
Гале подумалось: старик похож на злого волшебника из сказки. И она строго-престрого выругала себя: когда тебе почти двенадцать и ты уже два года как пионерка, стыдно думать о такой ерунде. А перед бабушкой и Марочкой тем более стыдно.
Генке показалось, что у деда клюка только для притворства; вот сейчас возьмет да и припустит за ними, да ещё палкой своей, палкой… И мамке нажалуется, и она тогда точно голубей продаст.
Стёпка сказал себе: умный старикан, бывалый, наверняка больше ихнего понимает… и почти не злой, прикидывается.
А Гришка про деда не думал, ему досадно было. Друзья, называется! Наплевали на дело… а ведь час назад честное пионерское давали, что не отступятся!
— Никому вы там не поможете, — словно угадав Гришкины мысли, твердо сказал дед. — Чуете, стихло?
И, помолчав, растолковал:
— Наши отходить будут.
«Наши — отходить? Как же так?» — эта мысль была одна на четверых.
Но ни один не решился переспросить или заспорить. И так же, не сговариваясь, побежали домой дворами, по бездорожью.
Гришка жил дальше всех, на Семинарке, это аж час быстрым шагом. И всю дорогу мальчишка сомневался: может, повернуть назад, поглядеть? А вдруг дед всё-таки ошибся?
Он не дошел до дома с десяток шагов, когда на перекрёсток выехал танк. Не похожий на те, которые показывали в «Если завтра война». Вражеский.
* * *
К полудню по госпиталю пополз слушок, что из центрального буквально только что вывезли тяжелораненых. И слух этот походил на правду больше всех прежних. Наверное, потому, что случилось именно так, как должно было случиться.
Нет, как раз-таки не должно, ни в коем случае! Но Лида знала, что всё будет именно так, теперь-то настала пора себе признаться, куда уж дальше тянуть?
Слухи, а, скорее всего, что-то более весомое, побудили главврача и комиссара госпиталя собрать персонал на летучку и в кратких словах приказать: распространения панических настроений не допускать, внушая раненым: раз эвакуация началась, то в скором времени и до них дойдет очередь. Ну и, конечно, пребывать в повышенной готовности, ни на минуту никуда не отлучаясь.
Все правильно. Так и нужно делать. А уж верить или не верить…
Лида вернулась в палату, к оставленным ведру и швабре, и принялась с преувеличенной бодростью надраивать пол.
Надя, с застывшим, посеревшим лицом, двигалась от койки к койке, аккуратно поправляла одеяла, подавала воду даже тем, кто не просил, пока один из раненых не дёрнул её за рукав:
— Устала, сестричка? Поди посиди.
И она послушно села на стул в углу. И долго сидела, почти не шевелясь. Лида трижды выходила и возвращалась, а Надя все сидела. Вернулась в четвёртый — Нади нет.
«Убежала куда-то», — сказали Лиде. И она бросилась искать. Надо держаться вместе, сейчас обязательно надо держаться…
И столкнулась с Надей на пороге.
— Немцы, — почти беззвучно сказала Надя.
Она первой из госпитальных увидела немцев. Выскочила, будто бы что-то сдёрнуло её с места, на улицу — и увидела.
Танки входили на Красный мост.
Высунувшись по пояс из люка, молодой танкист глядел в бинокль. Вперед, только вперед, ни на что не отвлекаясь. Словно нарочно позировал для толстого фотографа, что стоял у перил и довольно щурился в видоискатель.
«Они что, вообще ничего не боятся?» — подумала Надя. Не с ненавистью — с удивлением.
Танкист был светловолосый, статный и держал спину очень прямо.
«Как Ваня…»
Сначала Надя почувствовала злость на себя и уже потом — ненависть.
Вот было бы, из чего выстрелить в эту прямую спину… Чтобы не зарывались, чтобы боялись!
Немецкие танки шли по улице Сталина, вдоль трамвайных путей, на которых замер красный трамвайчик. Пассажиры напряженно прильнули к окнам, готовые в любое мгновение отпрянуть. Вагоновожатая, едва завидев танки, закрыла двери, но никто не потребовал открыть, не попытался бежать.
«Наверное, каждому из нас в эти минуты трамвай казался хрупче детской игрушки и надёжнее ледокола», — запишет по возвращении в своем дневнике учитель литературы Трофимов, черпая в привычном действии уверенность. Он будет вести дневник ещё сто двадцать четыре дня. А на сто двадцать пятый не вернётся домой. И квартирная хозяйка сожжет все его тетрадки — «от греха подальше».
А Ваня умрёт ночью. В единственном эшелоне, успевшем уйти из Орла в этот день.
Надя и Лида будут работать в госпитале — по-прежнему, да не как прежде. Потому что госпиталь станет подпольным. И всё, начиная с пузырька йода и куска марли, придётся добывать с риском для жизни. Как в бою. О них так и станут говорить — «незримый фронт».
Они выживут.
Осенью сорок второго соседка, вдоволь побродившая по окрестным деревням, да так и не выменявшая почти ничего из вещей на еду для своих совсем оголодавших детишек, расскажет Лиде: в Каменке за связь с партизанами повесили какую-то Варю-беженку.
Лишь летом сорок третьего Лида узнает — это была другая Варя. Её Варя вернётся, постаревшая, усталая — и тотчас же примется за работу. Смена в госпитале, а потом — на разбор завалов.
У Васятки появится шрам над бровью: в тот день, когда немцы сгонят ребятню учиться в «русскую школу», он из рогатки разобьет стекло на портрете Гитлера и учитель, спасая то ли себя, то ли мальчишку от гнева старосты, ударит провинившегося головой об угол стола.
Манечка ещё долго будет молча играть за печкой и бояться выходить во двор. До самого конца войны.
А девятого мая соберутся три вдовы — Варя, Лида и Надя. И тоже будут молчать.
На стелах не принято изображать вдов. И на заводе «Дормаш», построенном на месте боя чекистов и десантников, установят стелу с тремя материнскими ликами.
После войны.
Глава 4
Лето 2009 года
Орёл
Я вернулся домой.
Простенькая фраза, вроде тех, что бывают в букварях.
А если на вкус распробовать: точь-в-точь мамины пирожки с вишнями, испеченные по бабушкиному рецепту, вишни — и те из бабушкиного сада в Фоминке…
А если вслушаться: птицы утро встречают, и Мишка орёт под окном то ли ломающимся, то ли до срока прокуренным, то ли просто сорванным раз и навсегда голосом: «Санька, айда в футбол!»…
А если вглядеться: вот он, мой дом — моя крепость. Он и вправду похож на крепость, пятиэтажный дом-«сталинка», почти на этаж возвышающийся над серенькими типовыми хрущевками, а уж если взобраться на башенку со шпилем, то, говорят, весь город виден. Может, так оно и есть, да только никто из пацанов там не был, даже если заливает, что был. В башенке — какие-то подсобки, да еще, вроде как, что-то связанное с гражданской обороной: во время учений оттуда сирена воет. Оно не страшно, может, чуть-чуть тревожно — и все. Ты — дома. Дом — крепость.
А если вчувствоваться… Вот тогда-то и возникает совсем не детское слово — «навсегда». Как там в песне пелось: «Родительский дом — надёжный причал»? Надёжный. Безнадёжный. Последний потому как. Не крайний, а именно…
Кладбищенским сквознячком потянуло… или все дело в том, что «осторожно, двери открываются!» Ш-шух! — разъехались, впуская ветерок, условно свежий, и пассажиров, безусловно озадаченных житейскими проблемами. И никакой тебе атаки зомби на мирный городской трамвайчик предпенсионного возраста, влекущий к месту вечной стоянки пенсионера Годунова А.В.
Александр Васильевич усмехнулся. Ну-у, нагнал жути — впору заворачиваться в простыню и потихонечку, чтобы сил наверняка хватило, ползти в сторону кладбища. В сорок-то четыре года! Медикус, поставивший жирный красный крест на дальнейшей службе капитана третьего ранга Годунова, подсластил пилюлю: это в подплаве с таким сердцем никак, а на суше… Короче говоря, скакать ему по этой жизни раненым зайцем ещё примерно полстолько… «Помирать нам рановато, есть у нас ещё дома дела», — вспомнилась любимая бабкина присказка, тоже песенная… А полстолько получается аккурат до шестидесяти шести годов. Шестерка — личный код неудачи. М-да.
Сквознячок пахнет прокаленной солнцем пылью, выхлопами бензина… и праздником. Не просто ароматами духов, способными забить выхлопные газы (наши женщины, чай, не француженки, у наших труд если не праздник, то подвиг … ну, там, коня на скаку остановить, избу построить, из мужика человека сделать… чур меня!), — нет, именно торжеством. Настоящим. Толково объяснить Годунов не смог бы. Он давно знал за собой привычку находить, не выискивая, образы буквально под ногами. Не стал бы неплохим офицером-подводником — наверняка докатился бы до жизни весьма посредственного мечтателя-поэта. Писал бы о синих морях и дальних странах, коих отродясь не видывал, да подпаивал музу горькой. Почему-то все знакомые поэты (общим числом три, если считать и того чудика, который гордо именовал себя бардом и лабал под Высоцкого) употребляли для вдохновения. Он же, Годунов, — исключительно по праздникам. Причём не общепризнанным, а лично принятым.
Сегодня именно такой день. Пятое августа. День освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков.
И сегодня будет не коньяк. Сегодня — «беленькая». Потому что оба деда-фронтовика и отец-фронтовик признавали только «беленькую», да ещё спирт.
Хороший, очень хороший день для возвращения домой.
Правда, нет уже ни дедов, ни бабушек, ни мамы с отцом. Никого нет. И Мишки нет — помер без малого десять лет тому назад в собственном гараже, по пьяни. Дом-крепость есть, до него всего-то две трамвайных остановки. Но квартира давно принадлежит другим людям, которых он, Санька Годунов, знать не знает. Когда понадобились деньги матери на лечение, отец, упёртый, как вся их порода, ничего не сообщая сыну, поменял «двушку» в центре на однокомнатную хрущобу на окраине, в девятьсот девятом. Вот ведь интересно получается: старые окраины города имеют неофициальные, но знакомые всем коренным (а Годунов был из коренных) названия — Выгонка, Лужки, Семинарка, Наугорка, а новые народ именует Микрорайоном (угу, вот так, с неоправданно большой буквы), девятьсот девятым кварталом и тэ пэ, как будто бы не было там прежде ни лугов, ни выгонов, ни каких бы то ни было других значимых объектов.
Годунов был в этой квартире считанные разы. Окна выходили на скверик, больше похожий на пустырь, — не разрослись ещё чахлые саженцы, не стали настоящими деревьями, — посреди которого стоял отнюдь не сказочный белый камень.
На камне бронзовело: «В память о мужестве и стойкости 201 воздушно-десантной бригады, 146 отдельного конвойного батальона внутренних войск НКВД, проявленных в бою с немецко-фашистскими захватчиками на северо-западной окраине города Орла 3 октября 1941 года. Вечная слава героям».
Об этом бое Годунов, наверное, знал все, что можно было узнать. Потому что этого «всего» было до обидного мало, приходилось домысливать и… и понимать, что придумки эти вполне могут войти в противоречие с реальной историей.
Теперь можно начать снова: а вдруг что-то да найдется? Дома, говорят, и стены помогают… Дом. Родительская «однушка» с окнами на мемориал. С вокзала — через весь город, это почти час на трамвае. Треть уже позади, и…
Пышнотелая вагоновожатая что-то проскрипела в микрофон.
— Чего? — насторожилась бабуля в газовом платочке поверх тщательно завитой седины.
— Чё? — тинейджер стянул на тощую шею большущие наушники.
— А что вы хотите, десятый час, дорога перекрыта, возложение, — равнодушно ответил мужик, который с равной вероятностью мог оказаться и рабочим, и учителем, и клерком каким-нибудь, винтиком государственной машины.
— Вагон дальше не пойдёт! — солидарно гаркнула тётка-водитель, благо не в микрофон, а через приоткрытую дверку кабины. — И когда пойдёт — не знаю. Часа через два, не раньше. Так что кому на Молочку — ногами быстрей дотопаете.
Странно, но именно в этот момент Годунов в полной мере осознал, что вернулся. Как только ни именуют на российских просторах всяческие торжища, но Молочкой центральный рынок называют, наверное, лишь в Орле.
На Молочку он не собирался. Но всё равно вышел. Наличие чемодана прогулке никак не способствует, однако же… В конце концов, не такой уж он и тяжёлый, чемодан, в нём всего лишь стандартный дорожный набор да ноутбук «мечта попаданца» с горой военно-исторической литературы, кучей альтисторических романов и несколькими стратежками.
Годунов никогда не считал себя ни историком, ни, упаси Господи, геймером (на пятом-то десятке!), да и сказки о суперменах, с ходу начинающих менять историю, его уже изрядно притомили. Он вообще никогда не ставил увлечёния выше службы. То есть, по мнению бывшей супруги, был редкостным занудой. Бывшая всерьёз полагала: выше службы для него в этом мире не существует ничего. Вообще и вовсе. Именно она однажды сказала (без пафоса, скорее, с жалостью): такие, как он, Саня Годунов, созданы не для службы — для служения. А в череде предшествовавших разводу семейных сцен главным обвинением было сакраментальное: «Твои приборы тебе дороже живых людей!» Как-то, в довесок, чтоб уж точно наповал, Лариса бросила вообще несусветное: «Ты у нас весь такой правильный, здорового авантюризма в тебе ни на грош. Ты, наверное, и в детстве по деревьям не лазал, с мальчишками не дрался и девчонок за косички не таскал!» Бывшая в совершенстве владела пресловутой женской логикой, отягченной высшим образованием и природной склонностью к демагогии: в пару фраз могла заложить такое внутреннее противоречие, что оно от одного, даже очень осторожного, прикосновения детонировало. Начни он, допустим, объяснять: хороший, мол, командир должен, прежде всего, уметь находить контакт с людьми и при этом не терять выдержки, — тотчас услышал бы: у тебя машинное мышление, и ты инструкция ходячая, которой чужды спонтанные — истинно человеческие! — поступки. Хорошо, хоть профессионала в нём жена признавала без колебаний…
Впрочем, что теперь толку об этом думать? Он вернулся в Орёл, бывшая осела в Питере. Любовная лодка разбилась… не сказать что о быт, Ларку он и в приливе гнева не считал оранжерейным цветочком; тут больше всего подходило тривиальное определение «не сошлись характерами». Дело всей жизни тоже вдруг осталось… в прошлой жизни. И что дальше? Что такое его профессиональный опыт для срединной России? То-то и оно… Ни родных, ни друзей, ни хотя бы приятелей тут у него нет; как-то сразу выяснилось: все, кого он мог назвать друзьями, одновременно были и сослуживцами.
Совсем не к месту возникла мысль: а ведь он — идеальный попаданец. Уже почти ничем, кроме воспоминаний, не связанный с этой реальностью любитель околоисторических построений, вооружённый ништяком типа «ноутбук». Забавно… но совсем не смешно.
Он шагал вдоль цепочки замерших (хотелось бы сказать «триумфально», но на ум приходило — «подобострастно», в соответствии с чиновничьей волей, возведшей зрелище в ранг традиции) трамваев к скверу Танкистов по истёртой, местами вылущенной тротуарной плитке. А мысль никуда не двигалась, застыла, железной хваткой вцепившись в совпадение: прибыл ты, Александр свет Василич, не в абы какой день, впору задуматься: вдруг это не случайность, а волеизъявление судьбы? Говорят, судьба заботится о тех, кто в неё верит. Годунов по-прежнему верил. Именно «верил» и именно «по-прежнему», потому как разуму факты подавай да подтверждения регулярные, вера же охотно довольствуется остатками идеализма. А разум…Что ж ты, разум, не подсказал: надо, товарищ капитан третьего ранга, соответствовать моменту, прибыть на родину при параде? Вон, милиция на всех входах в сквер. Пропускной режим. Из штатских свободно перемещаются туда-обратно только чиновного вида господа с бейджиками на пиджаках, а всякий, кто в форме, — проходи без вопросов, будь ты военнослужащий, ветеран или юнармеец… Э-э-э, это кто ж такой одаренный обмундирование для юнармейцев придумывал, а? Во время оно у юнармейца Саньки Годунова была форма, похожая на общевойсковую. То, во что сейчас обрядили пацанву, больше всего напоминало плод фантазии безымянного дембельского модельера.
Годунов одёрнул себя. Вот так и превращаются в циников и снобов, и принимаются старчески брюзжать на весь мир. Пацанята в ёлочно-зелёной форме, украшенной серебристыми погонами и многоцветными аксельбантами, преисполнены гордости: они участвуют в воинском празднике. То, что они сейчас чувствуют, всяко важнее того, как они выглядят, нет? И ветераны смотрят на них с одобрением. Решающее слово — за ветеранами.
Площадь с «тридцатьчетверкой» и Вечным огнём обнесена временным ограждением: от одной металлической стойки к другой тянутся жёлто-черные ленты. Внутри периметра для ветеранов расставлены пластиковые кресла. И опять Годунов вздохнул: в странном направлении движется творческая мысль организаторов, неужели никто не понимает, что этот гибрид стройплощадки и уличной забегаловки может оскорбить чьи-то чувства… и эстетические, и куда более глубокие и значимые? И снова себя выругал. Проще надо быть, товарищ капитан третьего ранга! А там, глядишь, и люди к тебе потянутся.
Пока что он был один в густеющей толпе. Малышня уже не могла так проворно лавировать между взрослыми, и игры переместились на трамвайную линию: в кои-то веки доведется без всяких опасений и без бабушкиных окриков попрыгать по рельсам?
Из динамиков на крыше припаркованного поблизости микроавтобуса зазвучало щемяще знакомое «Где же вы теперь, друзья-однополчане?», и воздух уплотнился, и стало трудно дышать. Судьба, в которую Годунов так безоглядно верил, благословила его чувством Родины, чувством кровной общности, не требующим определений и пояснений, даже словесного выражения не требующим. Благословила двумя дедами-фронтовиками и отцом-фронтовиком. И всё же было, было необъяснимо личное в том, что временами накатывало на него штормовой волной. Как будто бы отголосок собственных воспоминаний… а откуда бы им взяться? Проще раз и навсегда определиться: это всего лишь игра воображения. Но Годунов терпеть не мог все виды неправды, включая самообман и исключая военную хитрость.
Звук фанфар обрезал песню на полуслове, и не видимая отсюда ведущая хорошо поставленным голос принялась, профессионально имитируя восторг, нараспев читать кое-как срифмованные стихи.
Традиционные речи Годунова не раздражали — он слушал их вполуха. Он с детства усвоил, что приходит не на митинг — на возложение. «Возложение» — так говорили дед и бабушка, и все соседи, фронтовики и дети фронтовиков, а следом — и внуки.
— …торжественный митинг, посвящённый…
Он слушал не голоса людей — он слушал самих людей.
— …администрации города…
Не толпу — общность.
— …во имя жизни будущих поколений…
Малышня, прыгающая через трамвайные рельсы…
— …никто не забыт, ничто не забыто…
И серьёзные юнармейцы…
— …наш вечно юный город…
И девушка, замершая с не донесенной до уха мобилкой…
— …преодолевать любые трудности…
И погруженная в свои мысли, явно далекие от происходящего, женщина средних лет…
— …праздничное настроение…
И мужичок в изрядном подпитии, что-то исступленно доказывающий прапорщику ОМОНа…
— …мероприятия, приуроченные к этому знаменательному дню…
И омоновец, с профессиональным равнодушием поглядывающий в сторону.
Каждый из них часть общности, ни убавить, ни прибавить. И общностью их делают отнюдь не слова…
— …память — не долг, память — честь…
То есть — слова, но не всякие. Надо признать, и среди легковесных велеречивостей встречаются верные слова.
— …пятого августа тысяча девятьсот сорок третьего года разведчики триста восьмидесятой стрелковой дивизии Иван Санько и Василий Образцов водрузили флаг освобождения Орла над домом по улице Московской…
Соврали, милостивая государыня! Вряд ли нарочно, по злому умыслу такие дела другими людьми делались, и всё-таки не Московская она тогда была, а Сталина.
— …а в день двадцатилетия освобождения Маршал Советского Союза Иван Христофорович Баграмян зажёг Вечный огонь у подножия памятника танкистам. С тех пор не угасает огонь, как никогда не угаснет наша память о воинах-освободителях. В их честь дважды в год над Домом Победы взвивается красный флаг…
— Ну чего ты ждёшь? Снимай! — учительского вида женщина в бордовой кофточке с блестками толкает под локоть долговязого парнишку.
— Ма, да Катюха точняк в кадр не попадет, одни спины на фотке будут, — виновато бурчит сын.
— Сейчас! — грозно восклицает мать — и с уверенностью ледокола движется вперед, к ограждению: — Пропустите! Пр-ропустите, пажалста!
Кто-то даёт дорогу, кто-то огрызается.
— Мне дочку сфотографировать, она там, с флагом! — с готовностью поясняет новоявленная папарацци.
В образовавшийся на несколько мгновений просвет Годунов видит юнармейскую знаменную группу — мальчишку и двух девчонок с широкими красными лентами через плечо. И все, толпа смыкается. «Интересно, успела она дочку сфотографировать или нет?» — отстраненно думает Годунов.
И тут его внимание привлекает сутуловатая пожилая женщина — как-то мысль не повернулась поименовать её старушкой. Привлекает тем, что… что внимания не привлекает, стоит себе в сторонке, не вливаясь в толпу и не стремясь занять подобающее ветерану место внутри периметра. Или тем, что… Нет, только почудилось, будто знакомая, да и немудрено — обычный человек. Обычный человек необычной — уходящей — эпохи. Седые, коротко стриженые волосы, тёмно-синий костюм (вроде бы, эта ткань называется крепдешин, смутно припоминается Александру Васильевичу), орденские планки — прикрепи женщина вместо них награды, получился бы, как говаривала когда-то бабушка, собирая деда на встречу ветеранов, целый иконостас. На лацкане рубиновой эмалью поблескивает значок-знамя с золотистыми профилями двоих Вождей и четырьмя буквами снизу… что за буквы, отсюда не разобрать. В одной руке — трость, в другой — несколько красных гвоздик.
— …курсанты Академии Федеральной Службы Охраны водружают дубликат флага освобождения. Оригинал хранится в Санкт-Петербурге, в знаменных фондах Военно-исторического музея артиллерии…
Годунов никогда не признавал других цветов, кроме полевых да ещё гвоздик. И снова не ко времени и не к месту вспомнилось, как пришел он к будущей жене на первое свидание с букетиком гвоздик — и услышал: «Ты что, на кладбище собрался, что ли?» Потом супружница долго припоминала ему тот случай, пребывая в непреклонной убежденности: злодейка-судьба нарочно, на смех людям, свела её с редкостным жмотом…
Судьба любит тех, кто в неё верит…
Момент водружения он ухитрился пропустить. Когда поднял глаза — на шпиле над белой башенкой реяло в жарко-голубом небе алое полотнище с нашитыми на него белыми буквами.
«За Родину! За Сталина!»
Времена определенно меняются, раньше-то, Годунов доподлинно помнил, просто красный флаг поднимали. Если мечта о твердой руке одолела даже местных чиновников, которые, помнится, от одного этого имени шарахались, как черт от ладана, значит, уже и их припекать стало, причём отнюдь не ласковое солнышко южных курортов.
Правда, внешне пока все чинно-благородно, один за другим, по ранжиру, возлагают они венки и цветы к постаменту и следуют к своим машинам. Действо завершилось. Оцепление сняли. Теперь и простые горожане получили возможность подойти к памятнику танкистам. На бронзовую плиту у Вечного огня ложатся скромные букеты. В сторонке радостно фотографируется молодёжь… а, вон и… как ее? Катя, стоит у стелы с картой боевых действий, смотрит в объектив.
Последней подходит к памятнику та самая женщина с букетом гвоздик.
Дошагала, помедлила, возложила цветы, помедлила. И, тяжело ступая, двинулась к трамвайной остановке. «Долго ей трамвая ждать придётся», — тоскливо подумал Годунов. И пошёл в противоположном направлении, к автобусной: волка ноги кормят, авось водители маршруток раньше движение откроют.
* * *
Несмотря на вечную неустроенность своего быта, Годунов так и не смог притерпеться к атмосфере больниц, гостиниц и помещений, в которых долго никто не жил. Тривиальное определение «гнетущая» тут не подходило; эта атмосфера просто выталкивала его. Выталкивала комната с выгоревшими семейными фотографиями на стенах, с пыльными коврами, с пожелтевшими капроновыми занавесками.
И он пошёл — куда глаза глядят, куда ноги несут. Постоял у белого камня, к подножию которого кто-то положил цветы, красные гвоздики. Теперь камень соседствовал с часовней в русском стиле, в прошлый приезд Годунова её ещё не было. Камень — граница, предел, часовня — воин-порубежник. Один в поле не воин? Если на своем рубеже — то как знать, как знать.
Неспешно добрёл до памятника в Комсомольском сквере. С отрочества было у Годунова особое отношение к этому памятнику. Почему? Да разве поймешь, почему! Какие мысли возникали у Саньки при виде знаменосца, который другой рукой поддерживает падающего товарища? Помнилась только одна: ранен или убит второй боец? Думал ли раньше Годунов о преодолении, о победе жизни над смертью через страдания и саму смерть? Вряд ли. До «смертию смерть поправ» душой дорасти надо. Он и сейчас не вполне убежден, что дорос… да и вообще вряд ли для этого достаточно обычных размышлений. Такое пережить надо. Пережить. Надо. Да не ему. На Александра Васильевича Годунова у судьбы, по всей его жизни видать, совсем иные планы.
Чем ближе к центру, тем больше цветов у подножия монументов.
Тем больше праздничных флагов и праздных горожан.
Тем выше градус веселья. В прямом смысле слова. Городской парк культуры благоухает ароматами вино-водочного магазина, источает дымный жар шашлыков и неописуемый запах «пирожков с котятами». Присутствуют — а то как же! — неизменные атрибуты семейного досуга: мороженое, пирожные, сладкая вата, надувные диснеевские персонажи на палочках… Нет, не одни мультяшки: между Микки Маусами и прочими Белоснежками Годунов разглядел несуразные самолётики и танчики. Для детишек постарше, тех, что гуляют уже за ручку не с мамами, а под ручку с девушками, наличествует ассортимент сувенирных сердечек «Made in China», фосфоресцирующих браслетиков, светящихся рожек.
Возникло совершенно иррациональное желание взглянуть на город с высоты колеса обозрения — и тотчас же угасло: на аттракционы выстроилась длиннющая очередь.
И он отправился в забегаловку под открытым небом. Как говаривал один его сослуживец, шашлык без водки — деньги на ветер. Такого рода агитация влияния на Годунова не имела — он употреблял шашлык исключительно с томатным соком.
М-да, хлеба в избытке, зрелищ — нехватка. Впрочем, самые инициативные запаслись петардами — то тут, то там раздается звук, напоминающий хлопок лопнувшей покрышки; изредка бледной звёздочке удается подняться над вершинами деревьев.
Годунов никогда не любил толпу. Но одиночество не любил ещё сильнее. Его всегда раздражали массовые гулянья, а вот салют… Салют — другое дело. Минуты ничем не омрачённого торжества. В тот миг, когда, перекрывая убогонькие хлопки петард, грянул первый залп, на Александра Васильевича накатил такой восторг, какому прежний Санька позавидовал бы. Неизъяснимый, немой. Толпа разразилась свистом и нечленораздельными выкриками. Рядом с Годуновым звонко стукнула об асфальт пивная бутылка, где-то в стороне испуганно заплакал ребенок. Новый залп на мгновение перекрыл все звуки. И снова взвыла-взревела толпа. В небе гасли, оставляя седые стежки, звёздочки салюта. На земле тем временем свершалась фантасмагория. Завистливо потрескивали, силясь разгореться, белесые точки петард. Под ними неуклюже парил дородный надувной Пегас. Блуждали болотные огоньки — горожане запечатлевали на видеокамеры мобилок не событие, нет, — зрелище. Дюжий парень, увенчанный светящимися рожками, увлечённо тискал хрупкую девицу с ангельскими крылышками за спиной…
Вдруг подумалось не об орловцах-современниках, а о москвичах сорок третьего года. Слышала ли в тот вечер Москва, видела ли что-то, кроме Первого Салюта?.. Ты определенно становишься ханжой, Александр Васильевич, а мизантропия — твоя единственная подруга.
Залп, ещё один, еще…
И — темнота, которую тщетно силятся рассеять немногочисленные фонари.
Толпа разочарованно заулюлюкала.
Нет, не темнота — потёмки. Темень, раздолье всякому-разному, что светобоязнью страдает.
Очередная маршрутка подкатила к остановке уже переполненная, из раскрывшейся двери ехидно выглянул жёлтый воздушный шарик с косо намалеванными глазами и ртом. Безнадёжно!
День, проведенный на ногах, давал о себе знать, да делать нечего… Эх, была — не была, чего тут идти-то, каких-то полгорода. Ещё в отроческие походные времена Годунов усвоил: главное — правильно выбрать темп движения, тогда можно часами шагать и шагать, отмеряя вёрсты. Тем паче — по ночной прохладе. Наблюдая звезды и слушая ветер. И стараясь не замечать излишне веселую публику.
Не удалось. У Комсомольского сквера его настигла свара. Именно так — настигла. Двое парней в изодранных футболках, двигаясь какими-то несуразными перебежками, умудрялись на бегу волтузить друг друга в классическом стиле пьяных разборок, то есть — куда попало. Две растрепанные девчонки вскрикивали-всплакивали тоненько, испуганно, хромая следом на высоченных каблуках. М-да, резвится молодняк…
Будь Годунов помоложе, он, пожалуй, кинулся бы разнимать. Нет, не так: чувствуй он себя помоложе. Тут ведь не в физических кондициях дело — в умонастроении, том самом, которое побуждает лезть не в драку, а в карман за сотовым телефоном. Его опередили: какой-то не слишком трезвый бородач возмущенно орал в трубку, держа её почти на вытянутой руке:
— Але! РОВД? Здрас-сьте вам, РОВД! Доброй вам, как говорится, ночи! У вас тут чуть не под окнами смертоубийство творится, а вы там… р-репы чешете!.. Где-где? Говорю ж, у вас под боком… Да на площади. Возле «двоих из пивной», говорю!
А он и позабыл, к счастью своему, это жаргонное наименование памятника! Неприхотлива, всё-таки, людская фантазия, ей хоть хлев — лишь бы крыша над головой. А ведь это его, Саньки Годунова, поколение додумалось, не молодь… у молоди даже на подлость, такую, чтоб с выдумкой, жизненных сил не хватает, помахаться по пьяни — это да. И снова, в который раз за сегодняшний день, коротко стукнула, отозвалась болью в виске мысль: ты, Александр Васильевич, осколок иной эпохи, погребенный в толще своих и чужих воспоминаний.
Наверное, это не так уж страшно, — быть осколком. Страшнее — пустой банкой из-под пива. Пройдёт дворник, проедет поливальная машина — и нет тебя, и следа не осталось. А осколки хранит сама земля. В память.
Ночью Годунову снилась война. Не впервые. Он никогда не был ни на какой войне. Но война его не отпускала.
Глава 5
Осень 2011 года,
Орёл
— Юнармеец Селиванова сборку закончила! — звонко выкрикнула девчонка с большущими белыми бантами на рыжих лисьих хвостиках, потрясая воздетыми над головой руками.
— Тридцать пять секунд. Жень, можешь лучше, — другая, с бантами на темных косичках, опустила секундомер. — Ещё попробуешь?
— Да ну, опять палец прибила.
— Так сходи у товарища майора бинтик попроси. Да вообще, заранее бы обмотала, я так на прошлых соревнованиях делала, реально помогает.
— Юнармеец Гришечкин сборку закончил.
— Мог бы и не торопиться, минута пятнадцать секунд.
— А я на соревнования не собираюсь.
— Да кому ты нужен на соревнованиях! Ты на Посту нормативы сдай, горе мое. И вообще, хорош дурака валять, а? — темноволосая пошелестела страничками блокнота. — Вот. Понедельник — неправильно пришит шеврон, вторник — не вычищены ботинки. Ты один замечаний собрал больше, чем весь караул, а за это баллы снимают, между прочим! Если из-за тебя с первого места по району слетим…
— Тебе хорошо говорить, ты тут в третий раз…
— В четвёртый.
— Ир, пойди сюда! — это уже из соседней комнаты. — Какая там тема для боевого листка?
Годунов выразительно поднял глаза над газетной подшивкой. Ирина перехватила взгляд, возгласила (ни дать ни взять королевский герольд из сказки):
— Тишина в караульном помещении!
— Начкар-р-р! — уважительно проклекотал зелёный волнистый попугайчик и поудобнее перехватил лапами край погона.
Годунов усмехнулся, представив себя со стороны. Вылитый Джон Сильвер третьего ранга. Вот ведь полюбился он нахальному пернатому! Чуть ли не больше, чем девчонки с золотыми сережками, — попка отнюдь не дурак, на бижутерию не клюёт.
Согнутым пальцем пощекотал попугая по шейке, попросил вполголоса:
— Скажи: «пиастры»!
— Пуля-Пул-лечка, — ласково проворковал в ответ зелёный. Представился, то есть.
— Приятно познакомиться.
— Начкар-р-р! — требовательно повторил попугай.
— Ирин, командуй, в столовую пора, — спохватился Годунов.
— Ну Александр Васильевич, ну ещё пять минуточек! Славка и Вика не разбирали.
— После обеда.
— Да после обеда сразу заступать, толком не потренируешься уже!
— Отставить! Командуйте, юнармеец Сальникова.
— Караул, строиться на обед!
Годунов запер за уходящими дверь караулки на два из четырёх замков — в документах Поста сие было обозначено как «дополнительные меры безопасности в связи с угрозой террористических актов», хотя ничего подобного в городе не происходило… тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить! — и тоже отправился морить червячка… Ну не считать же, в самом деле, обедом лапшу моментального приготовления и пару купленных по дороге пирожков с повидлом?
На подходе к кабинету начальника услыхал треск телефонного звонка.
— Первый Пост, майор Рассоха… — настороженное молчание. — Так они… эт самое… вышли уже, через минуту-другую будут.
Начальник Поста № 1 майор танковых войск Сергей Сергеевич Рассоха выдохнул в щетинистые русые усы:
— Василич, за твоих первый раз втык приходится получать. Из столовки звонили.
— Да сообразил я уже. Извини, что так вышло. Сначала с бабулей этой заговорился… Не, ну человечище! Надо будет в следующий раз пригласить, как стоять будем. Как там её фамилия? — Годунов достал блокнот.
— Полынина. Марина Алексеевна. Домашнего её я не знаю, через Совет ветеранов приглашал.
— Ага, спасибо, — Александр Васильевич вздохнул. — Ну вот, а потом мои архаровцы до автоматов дорвались. Ну и… счёт времени потерял.
— Бывает. Сам иной день забываю, эт самое, как меня звать. Ты не пробовал подсчитать, сколько наши бойцы за пять дней зачётов сдают? — потеснив Годунова, Рассоха расстелил на столе газетку и принялся неторопливо, степенно расставлять судочки с домашним обедом. Значит, первое блюдо «Смерть язвенника» на сегодня отменяется. Да и второе в кои-то веки будет. И пирожки, радость-то какая, за десерт проканают…
— Считать не считал, так, прикидывал. С поправкой на тех, кто стоит не в первый раз и от части зачётов освобожден, получается чуть больше сотни.
— А с поправкой на пересдачи?
— Так у меня, Сергеич, вроде, нет пересдающих. Или сведения устаревшие?
— Не, твои без пересдач, — утешил Рассоха. И добавил с осторожностью информированного оптимиста: — Пока. Автомат-то, — усмехнулся иронически, — ещё не сдавали.
— Ирка вбила себе в голову, что должны взять первое место на соревнованиях.
— Так они ж в феврале. Вам что, четырёх месяцев на подготовку не хватит?
— А на чем они тренироваться будут?
— Ты до сих пор безоружный? Вроде ж, эт самое, обещали. Ну, бери тарелку, похлебка стынет.
— Как будто не знаешь, что обещанного три года ждут. Денежка нужна и немаленькая, а благотворители не торопятся. Хотя, если вдуматься, какая это, к чёрту, благотворительность? Старикам и детям мы все должны.
— Все митингуешь? — начальник Поста покачал головой. Не без одобрения.
— А чего мне ещё остается? Прививка против тотального разочарования. Я, вон, сегодня в кои-то веки местную печать решил почитать. Так там, не иначе как в преддверии третьего октября, в очередной раз муссируется вопрос, была оборона Орла или Гудериан сюда как призёр автопробега въехал. Задолбали, блин. Как говорил один литературный персонаж, не читайте до обеда советских газет. Вот и я чую, от местных у меня точно язва приключится.
— От вермишели из пакетиков у тебя язва приключится, эт самое… интеллектуал.
— Ты чего меня обидными словами дразнишь, какой я тебе интеллектуал? У меня вполне определенный род занятий есть и даже воинское звание, — фыркнул Годунов, с нескрываемым удовольствием зачерпывая наваристый домашний супец.
И вдруг задумался. Крепко задумался, зацепившись за звонкое, как медяшка, словцо.
У каждого уважающего себя интеллектуала должна быть излюбленная тема, одно прикосновение к которой вызывает цепную реакцию. Как правило — с разрушительными последствиями для психоэмоционального состояния окружающих. Близкие об этом знают — и обходят опасность десятыми дорогами. Дальние… ну, дальних не так жалко.
Нет, он никогда не считал себя интеллектуалом. Более того, откровенно недолюбливал это определение, втайне надеясь, что придет день, когда за подобные выражения будут морду бить. И он, капитан третьего ранга запаса Годунов (сама фамилия предрасполагает к размышлениям — ничто, дескать, не вечно под луной), рассчитывал оказаться как раз среди тех, кто будет бить. Он человек не злой, но очень уж достали знатоки, что из допотопных заготовок газетные статейки к датам ваяют и сыты при любой власти, а ещё больше — популяризаторы, которые всегда готовы пичкать любого Фоку демьяновой ухой быстрого приготовления, сваренной из новостей, сплетен и домыслов.
Тем не менее, любимая тема у Годунова была издавна. Ещё с сопливого пацанства, когда, бесцельно блуждая в окрестностях дедовой деревеньки Малая Фоминка, набрёл Санька Годунов на обшарпанную зенитку в окружении чахлых анютиных глазок вперемежку с сорняками. На казённой табличке суконным языком говорилось, что здесь, на этом вот месте, где сейчас переминался с ноги на ногу Санька, третьего октября сорок первого года держал оборону безымянный расчёт.
Санька и сам толком не понимал, с чего это вдруг мёртвой хваткой вцепился в деда — расскажи да расскажи. Дед поведать мог не больше того, что Саньке и так уже удалось разузнать. Да и не было деда тогда в Фоминке — его призвали двумя неделями раньше, и в эту пору он топал в составе маршевой роты навстречу неведомому будущему. Это будущее, став прошлым, залегло на верхней полке шкафа и извлекалось единожды в год, чтобы занять почётное место на старом дедовом пиджаке… Медали «За оборону Москвы» и «За взятие Берлина» после дедовой смерти безвестно сгинули, Санька, к тому времени уже старший лейтенант Годунов, концов не нашел, как ни искал. Александру Васильевичу казалось, что увидь он их сейчас (где? разве что у какого-нибудь торговца краденым антиквариатом, пока что не попавшего в поле зрения правоохранительных органов?) — тотчас узнал бы…
Дед тоже был артиллеристом. Он мог вообразить себе тот скоротечный бой. Мог и рассказать — и рассказал. Этот его рассказ его ничуть не походил на занимательные истории, которыми он по обыкновению баловал Саньку.
Бабушка, хоть и оставалась в родной деревне, хоть и пережила оккупацию «с первого денечка до остатнего», тоже ни полсловечка добавить не могла. Безымянный расчёт — и всё тут!
Одна-единственная зенитка против бронированного кулака Гудериана. А потом…
Что потом — об этом Санька узнал от второго деда, мамкиного отца, коренного орловца, ещё в царские времена его предки значились орловскими мещанами. Этого деда военная судьба тоже занесла за тридевять земель от родины — под Ленинград. Но потом, после войны, работал он в родном Орле на строительстве завода дорожных машин. При рытье котлована зачерпнул экскаватор полный ковш стреляных гильз вперемешку с землёй, там же при ближайшем рассмотрении обнаружились фляга, солдатская звёздочка… И тогда ветераны (шутка сказать — ветераны! Они ж тогда были моложе, чем Санька сейчас) послали запрос в Подольск, в архив. И выяснилось, что здесь, на окраине Орла, третьего октября сорок первого года, держали оборону два батальона 201-й воздушно-десантной бригады. И чекисты 146-го отдельного конвойного батальона… Но об этом сейчас, в просвещенные нулевые двадцать первого века — ш-ш-ш!.. Ну, то есть о десантниках — сколько угодно. О конвойниках — упаси Боже! Моветон-с.
Впрочем, при Леониде Ильиче, а тем паче при Юрии Владимировиче — не возбранялось. И даже поощрялось. Пару раз в газетах промелькнули заметки в полтора десятка строк. Да ещё в выпускном классе историчка, настропалённая неугомонным Санькой, договорилась с администрацией «Дормаша» насчёт экскурсии на мемориал. Громко сказано — мемориал. Песочно-серая стела с очертаниями трёх склоненных женских лиц и Вечный огонь, обрамлённый пятиконечной звездой. Ни одного намека на событие, которое все больше и больше занимало Саньку, принимая очертания той самой — главной в жизни — темы. Тётушка из профкома, которой поручили встретить школяров, выдала речитативом заученный раз и навсегда текст (все это Саньке, разумеется, уже было известно) и посторонилась, пропуская гостей к постаменту — возложить цветы.
Потом наступил принципиально новый жизненный этап — вздумалось ему, потомственно сухопутному, пойти в Морфлот. А так как ни здоровьем, ни соображалкой он обижен не был, привела его судьба на АПРК «Орёл». Служил, как говорится, не тужил, для души ностальгически кропал стишки о родном крае, изобилующие штампами типа «крылатый мой город», но, в отличие от многих и многих, своё место в литературе осознавал — предпоследнее с конца — и не публиковался даже в боевых листках. Изредка бывая на малой родине, с маниакальным упорством исследователя продолжал раскапывать материалы по обороне Орла, попутно перезнакомившись со всеми краеведами, интересующимися периодом, и переругавшись с доброй половиной из них по поводу того, можно ли считать действия десантников и чекистов обороной. Вопрос, впрочем, не стоил выеденного яйца — альтернативного термина предложить никто не смог, разве что самые упёртые продолжали твердить, как мантры: «Орёл сдали без боя».
Это вот самое «без боя» занозой сидело в сознании Александра Васильевича. В сотый раз пытался он понять, как случилось, что командующий войсками округа, располагая достаточной информацией и некоторыми резервами, никак не проявил себя в организации обороны. Как случилось, что в Орле, когда в него вошли танки Гудериана, мирно бегали по рельсам трамвайчики, на заводских территориях громоздилось упакованное, готовое к транспортировке оборудование, а в госпиталях оставалось более тысячи раненых…
В двухсотый раз перечитывал Александр Васильевич старательно выписанный в блокнот фрагмент из воспоминаний Ерёменко и к сегодняшнему дню уже заучил их наизусть слово в слово: «Я знал, что в это время в Орле было четыре артиллерийских противотанковых полка. Кроме того, в районе Орла сосредоточился гаубичный артиллерийский полк, который должен был перейти в подчинение фронта, но так как он был далеко от линии фронта и не успел прибыть к определенному сроку, я передал его Орловскому военному округу для усиления обороны города. В распоряжении штаба округа имелось также несколько пехотных частей, находившихся в самом городе. Начальник штаба округа ответил мне по телефону, что обстановка им понятна и что оборону Орла они организуют как следует. Он заверил меня даже, что Орёл ни в коем случае не будет сдан врагу…»
Ну, «не будет сдан» — это, мягко говоря, максимализм. Но вот почему единственными, кто оборонялся, выигрывая… нет, не выигрывая — выгрызая каждый час, чтобы дать возможность перебросить войска под Мценск, оказались чекисты — вопрос вопросов… хотя, опять же, нет — всего лишь один из больных вопросов. Что же до десантников — так они же из резерва Ставки, прибыли в город буквально перед самым боем. А где все те, кто находился «в распоряжении штаба округа»?..
В трехсотый раз отыгрывал Годунов различные варианты развития событий, неизменно начиная с допущения: «А если…»
Вернувшись в свою маленькую квартирку на окраине Орла, он все свободное время посвящал будничным размышлениям, в какое бы русло направить дальнейшую судьбу — хозяин он ей или не хозяин? — и борьбе с моментально выработавшимся синдромом навеки сошедшего на берег моряка, то бишь с тотальным разочарованием в жизни за пределами крейсера. Верным союзником в этой борьбе выступала она — одна, как сказал бы классик, но пламенная страсть. Желание дознаться, почему же под Орлом в октябре сорок первого все пошло наперекосяк, сопровождаемое абсурдной мыслишкой — эх, а ведь все могло случиться совсем иначе!
Катализатором, как это ни странно, служили высокомудрые «а если» компьютерных стратегий и альтисторических книжек. Как и у большинства (эпитет «молчаливого» тут более чем уместен, ибо большинство это не мельтешит на экране, не публикует одиозных мемуаров, не эстетствует, не эпатирует, не судит, не рядит, а если и подличает, то, как правило, втихаря), у него, у Годунова, в реале был ограниченный набор социальных ролей. Сын, внук, командир, подчинённый — это все в прошлом. Пассажир маршрутки, покупатель в магазине, сосед склочной бабульки, меланхоличного дедульки и ещё двух с половиной — трёх сотен душ, проживающих в ординарной хрущобе… При всем богатстве фантазии наберется не больше дюжины заурядных ролей. То ли дело стратежки! Впрочем, со вздохом признавал Годунов, это в пятнадцать лет лестно ощущать себя гением и рулевым. А когда тебе втрое больше и твоя судьба, если не моргая смотреть правде в глаза, под стать хрущобе — типовая, бесперспективная и неремонтопригодная, то геймерские амбиции, мягко говоря, неадекват. И вообще, даже в период подростковой социализации Александр Васильевич не примерял на себя роль колыхателя земли. Сотрясателя воздуха — это ещё куда ни шло, на такое всякий способен. Особенно если рюмка была не последняя.
Тем не менее, к стратежкам он пристрастился… а началось-то все ещё в период службы с невинных тетрисов и пасьянсов! Точнее, началось с того, что ему опротивела, обрыдла и осточертела продукция самого важного из искусств. Прежние герои казались архаичными, как ламповые телевизоры, новые сплошь и рядом оскорбляли его эстетическое чувство — а оно у Годунова было, хотя он, не признающий дамского слова «эстетика», обычно говорил «чистоплотность».
Поиск себя на тридцати квадратных метрах изрядно затянулся, и не было уже рядом ни материально озабоченной жены, ни приятелей-доброхотов. То есть не было ничего, что составляет жизнь обычного благополучного человека. Порой ему казалось: окружающий мир — искусственный и пустой, словно бело-красная банка из-под «Кока-Колы», люди не живут, а только выполняют примитивнейшую программу: «спать, работать, есть, совокупляться, спать, работать»… Чтобы избавиться от этого ощущения, Годунов, выключив надоедливо бормочущий «зомбоящик», доставал из шкафа пару альбомов в тёмно-вишнёвых коленкоровых переплетах и погружался в застывшие на бумаге мгновения того, настоящего, мира. Его собственного мира нерастраченных попусту надежд.
Вот на одном листе — немногочисленные снимки со свадьбы родителей. Отец — в отутюженном кителе с воротом-стоечкой, уже без погон и петлиц, но латунные пуговицы со звёздами ещё не спороты. По тем послевоенным годам нормально: многие фронтовики «донашивали второй срок». Мама в простом светлом платье и с кружевным шарфиком вместо фаты. Вот — широкоглазый стриженый паренек в необмятой фланке с гюйсом на плечах и звездастым якорем на пряжке. Первый «увал» в мореходке… Вот — веселые лица под бескозырками, играют мышцы под обтягивающими тела тельняшками, двумя ровными крыльями подняты весла яла 6-Д: соревнования по гребле на День ВМФ СССР. А тут — фотографии офицерских лет: то в кителе, то в тужурке, то в робе. Вот на этом фото он при полном параде гуляет по Ленинграду. А на этом — в родимой БЧ-5, опирается рукой о переборку. Лицо усталое, и без того тонкий нос совсем заострился, чисто выбритые щеки проваливаются. Да, тяжёленек был тогда поход…
Сейчас, конечно, Годунов смотрится презентабельнее: с годами обзавёлся небольшим «командирским» брюшком, в волосах мелькает проседь (друзья по службе, помнится, смеялись: «Как на шкурке у песца!»), аккуратно подстриженные небольшие усы прикрывают шрамик на рассеченной в детской драке губе. Но все так же горда офицерская выправка и сильны моряцкие руки. Что же до морщин на лбу — так оно и к лучшему: авось умнее покажется и уж точно — солиднее. Как полагается не просто домоседу, а отшельнику.
Впрочем, Александр Васильевич не сомневался: достаточно сделать небольшое усилие, чтобы выйти из этой ненормальной изоляции, по сравнению с которой автономное плавание равноценно праздничному собранию в аристократическом клубе, примерить новую жизненную роль и дальше пошагать.
Ну, и сделал. Перешёл дорогу, открыл дверь ближайшей школы и обернулся преподавателем ОБЖ и начальной военной подготовки.
Эйфории от обретенного дела он не испытывал. А кто сказал, что при отсутствии эйфории нельзя вкладывать в работу душу? И, тем паче, добросовестно выполнять обязанности? В перечне самых необходимых человеческих качеств добросовестность заняла бы у Годунова почётное первое место. Увлечённость — не путать с идиотской эйфорией! — второе. Отсутствие эйфории позволяло сохранять душевное спокойствие и ясность мыслей в условиях перманентных бабских склок, осложнённых диспропорцией между образовательным уровнем склочниц и их же уровнем жизни. Наличие увлечённости провоцировало Александра Васильевича на поступки, коих должностные обязанности от него не требовали.
Выпотрошив свои шкафы и чемоданы, Годунов смог обмундировать троих ребят. Так было положено начало клубу «Резерв ВМФ», участников которого тут же за глаза стали именовать «Санькиными юнгами». Далее в Совете ветеранов Вооружённых Сил удалось заполучить адреса моряков-отставников. Ежедневно в течение трёх недель Александр Васильевич, одевшись по форме и взяв на буксир первых своих юнг, отправлялся в гости. Расчёт оказался верным — незваным гостям не только радовались, но и одаривали их обмундированием, кто чем мог. Буквально от сердца отрывали, но ни один не отказал.
Двадцать четыре юнги — двадцать четыре полных комплекта. А заодно — готовый состав Почётного Караула для Поста № 1. Это внешняя сторона, позволявшая директрисе наглядно демонстрировать всяким-разным комиссиям успехи военно-патриотического воспитания (что, впрочем, не мешало ей вяло отмахиваться от просьб военрука выделить хотя бы постоянный кабинет для занятий клуба, не говоря уж о макете автомата, игрушке весьма дорогостоящей).
Куда более важный результат — строю юнг под Андреевским флагом вдруг начали отдавать честь встречные военнослужащие. Символично? Да.
Были и другие символы. Не воодушевляющие. Прямо сказать, некрасивые.
Присмотрел Александр Васильевич парусно-моторную яхту, тихо ржавеющую на причале у лодочной станции. В отличие от речных трамвайчиков и прочих увеселительных лоханок, эта красавица до коммерческих манипуляций унижена не была. Она просто погибала, как всеми брошенная аристократка в эмиграции. Начал Годунов наводить справки — и выяснил, что находится она на балансе «у области», проще говоря, была кем-то когда-то подарена отцам и кормильцам, а они попросту не придумали, куда её пристроить, а потом и вовсе забыли. Сюжетец для Салтыкова-Щедрина, этюд в серо-чёрных тонах.
Со своей обычной обстоятельностью и настойчивостью принялся Годунов обивать мраморные пороги. Заполучил хандру и радикулит, а итог… итог подвел очередной зав чем-то там, рубанувший в сердцах: «Да пускай себе догнивает!»
Разумеется, юнгам категорический отказ был преподнесен в менее… гм… категоричной форме. Но случилось так (простое совпадение? или совпадение, именуемое судьбой?), что с этого момента в клубе тоже завелась ржа и гниль. Да, ушли не лучшие. Да, Годунов не утратил контроля над ситуацией… Однако ж в его голове поселился тоскливый, как все извечные, вопрос: «И нафига?..»
Водки, кроме как в День Победы и День освобождения Орла, капитан не пил, чем повергал в недоумение трудовика и зама по административно-хозяйственной — последних из вымирающего племени школьных мужиков. А они-то было обрадовались: вот, пришел в коллектив мужчина в самом расцвете, значит, можно, не манкируя традицией, соображать в подсобке на троих… Теперь глядели сочувственно, дружно придя к простейшему выводу: закодированный, потому как на больного не похож. В кухонном шкафчике у Годунова одиноко коротала век бутылка коньяка, початая в День ВМФ два года тому назад. Да и вообще, совмещать коньяк с извечными русскими вопросами — всё равно что топиться в стакане воды: теоретически возможно, а практически трудноосуществимо.
Вот и заедал Александр Васильевич горечь поражений макаронами. Когда-то изысканное иноземное блюдо, превратившееся у нас в еду холостяков, облагораживалось абы как нарезанным мясом и громко именовалось макаронами по-флотски. Годунов ужинал под нудёж теленовостей (новости изо дня в день типовые, не только пресные, но и, похоже, хлорированные, как вода из-под крана); и аккурат к ужину незваными гостями являлись тривиальные мысли об утрате идеалов: а были бы мы в такой ж… жёсткой ситуации, кабы война лучших не забрала?
И опять стучало в голову одуревшим от бессонницы дятлом: эх, кабы отыграть назад!..
… — Сергеич, а вот если бы ты оказался в Орле… ну, скажем, в сентябре сорок первого года, как ты оборону строил бы?
— То есть… эт самое… как? — Рассоха аж попёрхнулся.
— Да не важно, как, — энергично отмахнулся Годунов. — Ты скажи, реально бой переиграть, а? Исходя из знаний сегодняшнего дня? Как думаешь, можно имеющимися силами все танкоопасные направления перекрыть? Вот смотри… — И начал азартно чертить прямо на подстеленной газетке давно придуманную схемку.
Глава 6
Осень 2011 года,
Орёл
Лариса Михайловна Сизова, заместитель директора по воспитательной работе, долго и внимательно изучала записи в своем гроссбухе, подсчитывая трофеи после инспекционного набега на кабинеты предметников. Наконец, сняла очки и принялась внушительно похлопывать ими по тетрадке в такт речитативу:
— Я уважаю ваши, Александр Васильевич, убеждения, однако же с точки зрения методики вы поступаете не совсем верно. Я учитываю отсутствие у вас педагогического образования и… э-э-э… принципиально иной профилирующий опыт. Тем не менее вы тоже должны понимать, что работаете со школьниками. Им нужно давать готовую концепцию. Никаких гипотез! Никаких допущений!
— А как же тогда их логически мыслить-то учить? — с абсолютно искренним недоумением спросил Годунов.
— В рамках концепции, все в рамках концепции. Я, между прочим, — завуч снова воздела очки на нос, эдак со значением, — историк, и, смею полагать, представление о причинно-следственных связях детям на своих уроках даю.
— Лариса Михайловна, вполне вероятно, я неправ, — увещевательно начал Годунов, — но что плохого в том, что на факультативных — подчеркиваю, факультативных! — занятиях мы пробуем моделировать исторические события, исходя из потенциальных возможностей, которые не были реализованы в реальности, но вполне могли бы…
— Если бы да кабы… — преувеличенно вздохнула Между Прочим Историк. — История, уважаемый наш Александр Васильевич, не терпит сослагательного наклонения!
Эту истину, отшлифованную до блеска в процессе постоянного использования, Годунов в предыдущий раз слышал с месяц тому назад на очередном шабаше краеведов, куда, как повелось, проник под видом восторженного слушателя — человеку «с улицы» приобщиться к весьма специфической касте ох как непросто!
Речь опять и снова шла о событиях 3 октября 1941 года. Снова и опять сошлись в поединке брутальный Ревцов и напористый Овсянников. Ревцов был из чиновников от культуры, попутно профессорствовал в пединституте, возглавлял комиссии под лозунгом «поспорят, пошумят и разойдутся» и занимал ещё с полдюжины всяких должностей. Короче, был авторитетом в законе. Овсянников статью и стилем — Ленин на броневике. Народный трибун и руководитель весьма результативного поискового отряда. Ревцов плевался умными словечками, Овсянников резал правду-матку… Приди кому-нибудь в голову мысль повесить здесь, как на футбольном поле, табло, на нём стойко, не сдавая своих позиций, держались бы два нуля.
Александр Васильевич давно сделал для себя вывод: спор увлечённых людей — это всегда, как говаривал один его сослуживец, с открытым забралом на амбразуру. Красиво и бессмысленно. Уж сколько раз он обещал себе не ходить на краеведческие мероприятия…
Но сегодня, именно сегодня наличествовал веский повод поприсутствовать. И если наставления непосредственного начальства продлятся не более четверти часа, он успевает минута в минуту.
— Можно считать, что мы с вами договорились? — замша улыбнулась, демонстрируя покровительственное дружелюбие, и подвела итог. — Будьте добры, Александр Васильевич, в течение недели-другой доработайте план факультативных занятий и принесите на утверждение.
Все, теперь точно успеваем! — Годунов еле удержался, чтобы не потереть руки. Да, наверное, правы коллеги, что посмеиваются над ним: его увлечённость становится манией какой-то. А если бы иначе, то разве это была бы увлечённость?
Не далее как два дня назад сунулся он сдуру, как папуас в прорубь, в местный архив, имея на руках не какой-нибудь солидный запрос, а всего лишь письмишко, выпрошенное все у той же Ларисы Михайловны, — конечно, с печатью и подписью… но они, как выяснилось буквально с порога, необходимого веса листу бумаги офсетной формата А4 не придали. Бабулька вахтёрской внешности, зыркнув поверх раннеперестроечного аналога ресепшн, невнятно пробухтела:
— Ушестоййдить…
С усилием расшифровав замысловатое послание, Годунов сообразил, что его посылают в шестой кабинет. И едва не сплюнул. Снова персональный код неудачи!
«Ушестом» за цифровым устройством типа ноутбук сидела аналоговая дамочка типа чиновник и щелкала мышкой в ритме похоронного марша. Недоброе предчувствие обрело плоть. И дар речи:
— Вам чего?
Иллюзия общения с продавщицей гастронома была столь велика, что Александр Васильевич едва не ляпнул: «Два кило бананов, пожалуйста». Да кабы и ляпнул, ничего не изменилось бы, ибо на какое число нуль ни умножай, всё равно получишь дырку от бублика. Пока он пространно объяснял, что всерьёз интересуется событиями октября сорок первого года на Орловщине и просит допустить его к архивным документам соответствующего периода, чиновная дама смотрела на него так, как если бы он посягнул на её кошелек или — свят-свят-свят! — честь.
— Насколько я понимаю, даже те документы, которые хранились в партийном архиве под грифом «секретно», давно рассекречены… — попытался атаковать Годунов.
— А вам-то оно зачем? — с ходу контратаковала хозяйка кабинета.
— То есть?.. — Александр Васильевич, подавив вздох, мысленно констатировал, что тактика чиновников всегда вынуждает обороняться.
— Ну, то есть, зачем вам эти материалы? Вы историк? Вы пишете диссертацию?
— Нет, я капитан третьего ранга запаса, но я давно интересуюсь…
— Значит, вы не специалист? — продолжала развивать наступление чиновница. Александр Васильевич без труда уловил обычный подтекст: «Делать тебе на пенсии нечего, вот и ходишь, людям мозги паришь».
— Более того, я изучил все, что имеется в открытом доступе… — Годунов понимал, что эти слова можно смело приравнять к капитуляции.
— Сходили бы в библиотеку, там в краеведческом отделе вам подобрали бы что-нибудь, — будто не слыша его, заявила дамочка. Кто-то сказал: женскую логику надо-де приравнивать к оружию массового поражения… или никто не говорил, просто это мысль разлита в ноосфере взамен многих литров слез: мужчины ведь не плачут.
— Все, что когда-либо было напечатано, я, полагаю, уже читал, — ну, блин, детский лепет, полный кретинизм… а что ещё скажешь? Чтоб и убедительно, и неоправданно вежливо? — И потом, любая книга в той или иной степени тенденциозна, а первоисточник…
— Вы разве не понимаете, это архивные документы, — чиновница решительно, напоказ захлопнула ноутбук, словно испугавшись, что настойчивый посетитель прикоснется нескромным взором к столь оберегаемым ею тайнам, — если мы будем выдавать их всякому желающему, они в труху превратятся.
Ух ты, оказывается, она способна не только на нажим, но и на патетику!
— И многие… гм… спрашивают? — Годунов усмехнулся. Терять ему было уже нечего.
— Многие, немногие… Вот вы же пришли! — чиновница понизила градус пафоса до отметки «прохладно». — Короче, вот вам два сборника, посидите, почитайте. Думаю, интересующемуся будет в самый раз.
Два пыльно-серых «кирпича» были изданы то ли при царе Горохе, то ли при генсеке Кукурузнике — смотреть на дату выхода Годунову не хотелось до тошноты — и являли собой шедевр номенклатурно-пофигистской историографии. Кашица из документов, которые и в виде красивой нарезки перестали быть деликатесом лет эдак тридцать назад, а уж сваленные как попало… Вспомнилась игривая фраза из допотопной рекламы: «А что это у нас Александр Василич ничего не ест?..»
Годунов тожественно возложил «кирпичи» на чиновничий стол и ушел по-английски.
Поостыв, обмозговал. И придумал, как с минимальными потерями прорваться-таки в архив. И вариант этот он собирался реализовать именно сегодня: надо было заручиться поддержкой тяжёлой артиллерии в лице Овсянникова.
С Овсянниковым он был в некоторой степени знаком. В некоторой — то есть маститый знал своего собрата-непрофессионала в лицо, но имени, как выяснилось, припомнить не смог, хотя честно пытался. А помочь согласился — о, счастье! — без лишних вопросов. Кому-то позвонил, поговорил минуты полторы и с интонацией «а в чем проблема-то?» сообщил Годунову:
— Завтра после обеда подходите. Спросите Наталью Сергеевну. Дальше она подскажет.
Обрадоваться бы — а Александр Васильевич с какой-то усталой отстраненностью подумал: чтобы заполучить золотой ключик от заветной дверцы, надо превратиться в Буратино… а кому-то и вовсе суждено до конца дней оставаться поленом…
…что не так уж и плохо, если тебя со всеми предосторожностями — не кантовать, не бросать, при пожаре первым выносить — перемещают из кабинета в кабинет, покуда ты вдруг не оказываешься в уютном уголке, за столом, на котором празднично белеют и важно желтеют вожделенные «материалы»…
…У него не было никаких предчувствий — ни хороших, ни плохих, ни отчетливых, ни смутных. Он провел пять уроков… подустал с отвычки, каникулы расхолаживают не одних только школяров. Отменил занятие у юнг, чтобы явиться в архив не совсем уж под конец рабочего дня. По дороге перехватил пару сосисок в тесте. Ехал в маршрутке и думал об отвлечённом: а не завести ли собаку? Или лучше кошку? Кошку выгуливать не надо. А рыбкам вообще достаточно время от времени сыпать сухой корм и чистить аквариум. Рыбки — это вариант на случай, если он окончательно обленится. А собака, хотя бы, будет его выгуливать два раза в день… Остановился на варианте «кошка». «Если что — и без хозяина не пропадет».
Откуда всплыла эта мысль? А шут её знает. Как всплыла, так и канула, и нечего всякую дурную мыслишку возводить в ранг предчувствия!
Следующая мысль тоже пришла непрошеной, благо прошла вскользь, по касательной к сознанию, когда за окном маршрутки разгуляйно-разлюляйно промчал свадебный кортеж. Припомнилось слышанное в новостях: сегодня счастливый день 11.11.11, будущие молодожены из кожи вон лезли, чтобы такую красивую дату для семейной летописи урвать. «В сумме шестёрка», — параноидально вякнуло подсознание.
Если не считать обе мыслишки предчувствиями, то предчувствий у Александра Васильевича не было.
Вот предвкушение было, да. С этим самым предвкушением он, немного поколебавшись, с чего же начать, вытянул наугад из середины стопки папку обычного канцелярского образца…
…ожидая увидеть что угодно… кого угодно, но не себя.
При двух ромбах в петлицах.
На чёрно-белой фотографии.
Странной фотографии: не пожелтела, не потрескалась, даже не поистерлась. Разве что угол закопчен слегка, а заодно и часть удостоверения личности, в которое она вклеена.
И ФИО в этом удостоверении ясно чьи.
Первая мысль: «Что за…» — была мгновенно вытеснена другой: «Ну как в кино, блин!»
Третья мысль, наверняка ещё более внятная, уже не успела. Потому как Годунов взял удостоверение в руки.
Глава 7
Осень 1941 года,
Орёл
Всё-таки шестёрка подложила свинью. Иррационально, но факт.
Как в кино. Технология 6D. Полное погружение.
За полторы минуты Годунова три раза толкнули, два раза обматерили и наконец приспособили для переноски какого-то ящика — увесистый, подлюка! Сзади, шумно дыша сквозь стиснутые зубы, топал худющий подросток лет хорошо если шестнадцати.
Вокруг — форменное столпотворение. Точнее, бесформенное — подавляющее большинство участников непонятного пока события, равно как и сам Годунов, в штатском, и только немногие — в полувоенном, с первого взгляда не разберешь, то ли это у них пиджаки такого покроя, то ли френчи без знаков различия. И это «полу-» — определенно образца тридцатых годов…
Следующих полутора минут хватило, чтобы сообразить: движение имеет четкую направленность от заводских корпусов — к забору, где уже высятся штабеля из ящиков больших и малых.
А ещё через мгновение он понял, что всегда знал наверняка о существовании параллельных реальностей и о возможности путешествий во времени.
«Хорошо, что кошку так и не успел завести…»
— …как это — машин не будет?!
Александр Васильевич невольно приостановился.
С такой интонацией (и соответствующими ей децибелами) в фильмах про войну связисты пытаются докричаться до кого-то на другом конце провода. А провод, по законам жанра, оборван… Окна конторы распахнуты настежь. В одном мельтешит коротко стриженная девчонка, бестолково таскает с места на место какие-то папки. В другом монументально застыл с телефонной трубкой в руке седовласый мужик — хоть и седой, но всё ж ещё мужик, не дед.
— Оборудование я чего, по-твоему, на собственном горбу попру? С июля же ж месяца кота за хвост тянули — дотянули, мать вашу за ногу! Да знаю я, как вы эвакуировали…
До Годунова резко дошло, что на дворе явно не ноябрь, а веселенький такой сентябрь в золоте и лазури. Бабье лето, теплынь.
Остаётся выяснить одно (и только? ха!): добавилось ли к смещению во времени смещение в пространстве.
Шестое чувство подсказало — если подобный казус и имеет место быть, то счёт идёт на какие-нибудь десятки метров. А этому самому чувству Годунов привык доверять. Почти так же, как глазам своим и прочему обонянию-осязанию. Едва поставил ящик, тотчас же полез в карман пыльного пиджачишка. С гадким ощущением, что обшаривает чужую одежду. А какая ж она, если не чужая? Хоть и сидит, как своя. И удостоверение на месте… будто бы сам положил. А может, и вправду сам?.. «Ладно, не до конспирологических теорий пока», — одёрнул себя Годунов.
Сейчас время практических действий. Если он там, где думает, и события развиваются так, как им положено развиваться, то прежний командующий округом, генерал-лейтенант Ремизов, сейчас командует 13-й армией… нет, наверное, уже войсками Северо-Кавказского округа и буквально со дня на день возглавит 56-ю армию, ту самую, которой предстоит освобождать Ростов-на-Дону. Да и его преемник Курочкин наверняка уже на Северо-Западном фронте. Значит, в Орле — Тюрин… Теоретически. А практически… хрен знает, где он в это время обретается и чем занят!
Тоже вот — показательно. Ведь не вывезут оборудование, точно не вывезут, порадуют дяденьку Гудериана… или пожгут… Смотря какой это завод. А архивы-то, небось, уже… Впрочем, это в спокойные времена архивы — бумажконакопители. В данных же обстоятельствах за иной бумажкой — жизнь. И не одна.
«Ты хотел знать? Пожалуйста. Старший майор госбезопасности — не хрен с бугра. Вот и действуй!»
Пацан-напарник покосился сперва на ящики — хотел, кажется, присесть отдохнуть, да устыдился, потом на Годунова — выжидательно. Александр Васильевич неопределенно махнул рукой: поступай, мол, как знаешь, я не в претензии.
Мальчишка вздохнул — и, подволакивая левую ногу, двинулся в обратный путь.
Появилась минутка, чтоб толком оглядеться. Исподволь, конечно, дабы судьбу не искушать. Двор как двор, в меру просторный, в меру захламленный. Разномастные корпуса, вдоль стен буроватая травка проросла, дорожка к проходной вымощена серым камнем, возле конторы — габаритный стенд, в пятнах засохшего клея и с обрывками бумаги… Ничего, что помогло бы сориентироваться.
Как именно он материализовался посреди заводского двора — об этом лучше не думать, всё равно ничего не надумаешь, если верить куче попаданческих романов… а теперь ещё и собственной интуиции. А вот почему его неведомо откуда взявшейся персоной никто не заинтересовался — это понятно. В нормальном рабочем коллективе большая часть работников друг друга знает и чужака заметили бы мгновенно. Но, по всему видать, коллектива-то и нет. Есть люди, которых свела вместе печальная необходимость. То, что называется «случайные». Крепких мужиков-работяг всего-то с полдюжины. Дюжина неубедительно бодрящихся дедов — явно из кадровых, а то и из потомственных рабочих; месяц назад они наверняка были пенсионерами, пестовали садики и внучат… Несколько женщин, в чьи лица не надо долго вглядываться, чтобы сообразить — беженки. Ну и парнишки-подростки. Те, что порасторопней, — наверняка из фэзэушников. Прочие — вероятно, тоже беженцы.
Интересно, а он, Годунов, в своем старомодном… точнее, аутентичном — во, какие слова на почве стресса в голову приходят! — пиджаке, пропыленном так, как если бы в нём полсотни верст отшагали, с кем идентифицируется?.. Почему-то всплыл, перебивая достаточно здравые мысли, допотопный анекдот: «Что-то отличало Штирлица от жителей Германии: то ли волевой профиль, то ли гордая осанка, то ли парашют, волочившийся за ним». Вот и нечего у стенки маячить, внимание привлекать… да и ассоциации нехорошие возникают, со стенкой-то.
Все равно, как ни крути, выходит, что лучше не ждать неведомого, а объявиться самому. Хотя бы и потому, что он ни разу не Штирлиц и о способах сбора информации может только догадываться… попытка приведет, девяносто девять из ста, к изобличению его как шпиона. А вот если заявиться в контору и побеседовать… Без шума, гама и прочих спецэффектов. Заходим уверенно, как подобает лицу, облеченному властью, и — «спокойно, Маша, я Дубровский».
Сказано — сделано. Тщательно выдерживая средний темп, подошел к распахнутой настежь двери, сориентировался, повернул налево и предсказуемо уперся в массивную крашеную дверь с лаконичной надписью «Директор». Единожды стукнул и, не дожидаясь ответа, вошел.
Коротко взглянул на седовласого, боковым зрением пытаясь выцепить календарь или подшивку газет: сообразить, какое нынче число, — наипервейшее дело. М-да, это в книжках-киношках подсказки щедро развешаны-разбросаны заботливыми авторами так, чтобы героический попаданец долго неизвестностью не терзался…
Но то ли он, Годунов, представлялся неведомой силе, перебросившей его сюда, недостаточно героическим, то ли логика его пребывания в прошлом предполагала квест повышенного уровня сложности… Одним словом, ни тебе отрывного календаря, ни перекидного, ни свежей «Правды» поверх стопок бумаг, ни рояля в кустах… да и откуда бы взяться кустам в помещении? Чахлая герань в горшке на подоконнике — вот и вся растительность. В ней даже детская свистулька не поместится, не то что концертный инструмент.
Под недоуменно-настороженным взглядом седовласого вытащил из внутреннего кармана удостоверение.
— Здравия желаю. Старший майор государственной безопасности Годунов Александр Васильевич.
Выдержал паузу, давая возможность седовласому изумиться. Ну и представиться, само собой.
— Потапов Николай Кузьмич, исполняющий обязанности директора, — если И.О. и удивился, то удивление это было какое-то вялое и невыразительное.
Наверное, подумал Годунов, последние несколько дней разнообразное начальство тут косяками ходит. А воз и ныне там. То есть наивысшим начальством дядька признал бы сейчас того, кто нашаманил бы заправленные под завязку грузовики у заводских ворот.
— Надо понимать, если вас… гм… прислали, значит, эвакуация всё же ж будет? Или… — Потапов вопросительно приподнял бровь.
Молодец мужик, сразу берет с места в карьер, и вперед, как говорится, — к новым горизонтам.
— А давайте-ка мы с вами прогуляемся за периметром да и обсудим все наши «или», — осторожно ответил Годунов. Если повезёт, удастся разжиться самой необходимой информацией. Ну и, само собой, оглядеться.
Осеннее солнце дарило последнее тепло пока ещё свободному городу. По правую сторону от проходной виднелась просвечиваемая насквозь липовая аллейка. Узнаваемая. А уж когда Годунов разглядел не то чтобы вдалеке угловую двухэтажку с кружевным карнизом (которая на его, Саньки-Александра Васильевича, памяти была всегда), сомнений не осталось: аллейка, по которой они идут, прозывается не то Трубниковым бульваром, не то бульваром Трубникова в честь какого-то давно почившего в бозе губернатора. Ну а вышли они, яснее ясного (и мрачнее мрачного, к чему ситуация располагала как нельзя лучше) с территории завода «Текмаш». Тут родной брат деда токарить должен… в смысле, токарил, пока не ушел вместе с другими заводчанами добровольцем на фронт…
Интересно, а почему именно «Текмаш»?..
Ёшкин кот, сказано же было самому себе, чётко сказано: нефиг над курьезами попаданчества голову ломать! Тут, по всему видать, такое начинается, что вообще без головы можно остаться, в самом прямом и некрасивом смысле.
Кузьмич хранил выжидательное молчание недолго — видать, вконец задолбала мужика неопределенность:
— Товарищ старший майор, ну так едем мы или что? Уже определиться бы, как дальше-то, с июля месяца людей мурыжим, частью вывезли, а частью… ну, вы сами видели! — И.О. рубанул рукой — аж воздух свистнул. — А тут хотя б наверняка знали бы. Станки, опять же ж, — их, на крайний случай, закопать можно где-нибудь поблизости, так? Да хоть в Медведевском лесу, а место приметить. Но, опять же, машины нужны, машины! Хотя б телеги, хотя б на полдня! И ходил я, и названивал — все впустую. Нету, говорят, ничего — и точка. А как же ж нету, если…
Будто бы нарочно подгадав момент, поблизости многоголосо взревели моторы, а пару минут спустя из-за поворота, со стороны Герценского моста, пыля и грохоча, вышла колонна. В очертаниях головных машин без труда угадывались танковые башни. «Что за нафиг?», — подумал Годунов. Без особых эмоций, потому как до конца ещё не осознанный факт переноса действовал, как удар массивной киянкой по лбу. И принялся наблюдать.
«Нафиг» при ближайшем рассмотрении оказался тремя броневиками с пришлёпнутыми сверху танковыми башнями. Вслед за метисами немирного автомобилестроения промчались пара легковушек, полуторка со счетверёнными «максимами» в кузове, а следом — ещё две полуторки с бойцами. Кузьмич отреагировал на колонну умеренно нецензурно — так реагируют на опостылевшее хлеще тещи начальство.
— Тюрин из города подался… — и закашлялся. То ли от поднятой колонной пыли, то ли окончанием фразы попёрхнувшись.
«Ну вот ты и влип, Александр Василич, — Годунов в растерянности пнул носком ботинка (непривычная обувка, но вроде крепкая и стоптана аккурат по ноге) вовремя подвернувшийся камушек. — Старше тебя теперь в городе никого нет».
Эк путешествует командующий округом — прям как чиновники периода расцвета дикой демократии: спешно и с солидным кортежем, разве что только без милицейских мигалок.
Куда — об этом и думать не приходится: известно, что сыщется он в Тамбове, будет доставлен в Москву, а там… Простора для хронически больных либерализмом журналюг никакого: отсидит с полгода и примется странствовать с должности на должность. В несколько странной последовательности: заместитель командующего армией — командующий армией — заместитель командующего — командующий… Героическими деяниями не прославится, героической кончины не удостоится. С точки зрения общечеловеков, которые уверенно записывают в репрессированные всяческих мечешочников и мелких несунов, вполне может считаться «пострадавшим от сталинского произвола», как-никак полгода отмотал…
Да черт с ним, в конце концов, с Тюриным! Крыса с корабля… А вот что прикажете делать капитану?
И никто ведь не прикажет…
Потапов смотрит напряженно. Будто мысли читает. С вопросами пока не лезет. А вопросов у него наверняка немерено. С чего вдруг старший майор госбезопасности появился на территории вверенного ему предприятия? Да в одиночку? Да в гражданском? К добру оно или к худу? Согласован спешный отъезд Тюрина с командованием или этот вот чекист (если он и вправду чекист, а не вражеский лазутчик) тоже озадачен увиденным?..
Ещё как озадачен! Ежу понятно: надо что-то делать, и срочно, чтобы вопросов больше не осталось и новых не возникло.
«…я не знаю, что, но у меня есть план», — иронически подсказала память.
К счастью, подсказала и ещё кое-что, многократно прокрученное в голове во время ночных бдений у компа.
— Вот что, Николай Кузьмич, танки ремонтировать сможете?
Нифига себе вопросик, а?
Наверное, И.О. подумал примерно то же самое, потому как ответил без прежней твердости:
— Так нету же ж их, танков, товарищ старший майор. Все, что были, ещё в июле с бору по сосенке собрали, учебные — и то на фронт. А тут вдобавок ко всему командующий, сами видели, последние броневики…
— Будут танки, Николай Кузьмич. Нам бы, как говорится, только день простоять и ночь продержаться.
— Ну-у, — раздумчиво начал Потапов, — третий цех запустим, плевое дело, часть наших станков распаковать и кое-какие у медведевцев забрать. Вот вам и ремонтный. С людьми, правда, похуже будет, кадровых-то немного осталось. Кто на фронте, кто в эвакуации… завод-то вроде как эвакуирован, но… — развел руками: на нет, мол, и суда нет. Поскреб переносицу тёмным широким ногтем: — Ну да ничего, старичков по городу ещё подсоберем, молодёжь поднатаскаем…
— Будем считать, договорились, — деловито отозвался Годунов, мысленно хваля себя за сообразительность: теперь Кузьмич сосредоточится на одном вопросе, а прочие отступят на задний план, — готовьте цех. Много времени понадобится? — И с возрастающей тоской подумал: «А число-то нынче какое хоть?» Как назло, ни одна из читаных статей не давала точного ответа на простой вопрос: когда покинул город командующий? А тут счёт идёт не на дни — на часы.
И в этот момент, прямо как в приключенческой киношке для подростков и пожизненно незрелых разумом обывателей, на столбе у проходной ожил репродуктор: «В течение 29 сентября наши войска вели упорные бои с противником на всем фронте… По уточнённым данным, за 26 сентября уничтожено не девяносто восемь немецких самолётов, а сто тринадцать…»
Двадцать девятое?.. Ага! Ну что, легче тебе дышится, а, Александр Василич?
Голос в репродукторе продолжал напористо и устало перечислять вражеские потери в самолётах, танках, артиллерии, живой силе…
Оно, конечно, хорошо и с точки зрения психологии даже правильно. Но уже завтра, если Годунов ничего не путает (а жаловаться на память ему, слава богу, грех), немцы прорвут оборону 13-й и 50-й армий и их подвижные соединения рванут что есть сил и скорости на Тулу. А послезавтра вечером Сталин поручит генерал-майору Лелюшенко принять командование стрелковым корпусом. 1-м особым гвардейским. Звучит солидно. Если не знать, что корпус находится на этапе формирования. И на всё про всё три дня. К ночи с первого на второе этот пугающе маленький срок ужмется до суток…
Получается, у него, у Годунова, тоже всего один день, чтобы начать предпринимать хоть какие-то действия. Повеяло до боли знакомым «надо было сделать позавчера». Однако тут не премией рискуешь и не продвижением по службе, а судьбой. И если бы только своей…
И всё же не без основания удивлялись сослуживцы, как это неторопливый флегматик Годунов при необходимости исхитряется выдавать план действий буквально на ходу… и по ходу. Будь он рыцарем, на его гербе следовало бы начертать тривиальное, но неизменно оправдывающее себя (а заодно и своего хозяина-авантюриста): «Надо ввязаться в драку, а там посмотрим».
Да, собственно, он уже ввязался. Оставалось надеяться, что в неразберихе, сопровождающей любое безвластие, полномочия можно будет захапать такие, какие он только отважится захапать.
Только вот для этого надо выйти на местное руководство, кто там в городе остался. А как? Попаданцы, вон, к самому Сталину шастают по красной ковровой дорожке, а ты в собственном городе растерялся… но судьба тебе определенно благоволит.
Правда, обличья при этом принимает такие, что сразу её, шельму, и не признаешь, и не изобличишь.
В этот раз прикинулась «эмкой», сиротливо приткнувшейся к обочине аккурат напротив проходной.
Ну да Годунов всё равно её узнал. И, нарочито неспешно распрощавшись с Потаповым, двинулся навстречу своему будущему.
Чумазый сержантик только что закрыл капот и сейчас с обескураженным видом вглядывался в жиденькие сумерки. Надо понимать, птенец отстал от стаи, получасом ранее подавшейся, вопреки законам природы, на северо-восток?
Годунов молча показал открытое удостоверение.
— В каком направлении следуете?
Вопрос, против его воли, прозвучал жёстко, как у какого-нибудь киношного энкавэдэшника.
— Я-а… — замялся водитель. — По приказанию генерал-лейтенанта Тюрина…
— Машина из гаража штаба округа? — милосердно помог парню Годунов.
— Так точно.
— Бежим?
— Бежим, — неожиданно легко и чуть ли не с вызовом согласился невольный аутсайдер.
— А чего так неорганизованно бежим-то?
— Два раза заглохла, — парень с неприязнью покосился на эмку.
— Плохо, значит, за машиной следим?
— Да я только три дня как…
Начал оправдываться, запнулся, вопросительно посмотрел на Годунова.
— Машина нужна в городе. Под мою ответственность, — с суровым видом распорядился резидент будущего.
— А разве мы не… — водитель снова осекся. — Виноват. Разрешите обратиться…
Годунов махнул рукой — вопрос понятен и без долгих слов.
— Город мы не оставляем.
«Пока», — мысленно закончил он.
— Вот это здорово! — обрадовался парень с такой непосредственностью, что Годунов окончательно утвердился во мнении: к треугольничкам, да к форме вообще, он ещё не привык.
— Звать-то тебя как?
— Сержант Дёмин, — бодро отрапортовал водитель. И добавил нерешительно: — Сергей.
— Дорогу к облвоенкомату, надо понимать, знаешь?
— Так точно.
— Поехали.
Час, конечно, уже поздний. Но время — военное. Так что…
Снова положимся на неё, на судьбу.
Глава 8
29 сентября 1941 года,
Орёл
Домчались, попетляв по непривычным, но узнаваемым улицам «дворянской» части города, минут за десять. За столь короткое время вряд ли возможно измыслить дельное объяснение, с чего это вдруг целый старший майор госбезопасности прибыл для инспектирования в откровенно непрезентабельном виде и без каких бы то ни было подтверждающих полномочия бумаг, как гоголевский ревизор — инкогнито. Угу, и тоже самозванец. Тут хоть день думай, хоть неделю, хоть целую вечность — фиг до чего путного додумаешься. Кроме сакраментального: наглость — второе счастье. Конечно, он, Годунов, актёр не бог весть какой, да и лгущий без зазрения совести ловкач — не его амплуа, однако ж делать нечего, придётся лицедействовать. Начальственный гнев, если рассудить, не в таком уж дальнем родстве с растерянностью. Орёл и решка одной монеты… и нужно бросить так, чтобы монета легла орлом.
Орлом.
Военкомат располагался в трехэтажном особнячке явно дореволюционной постройки. Здания этого Александр Васильевич никогда не видел, надо полагать, оно не уцелело. В другое время он, любящий всё строгое и основательное, задержался бы, чтобы неторопливо оглядеть достопримечательность. Но покой нам… даже не снится. И сон, похоже, скоро попадет в перечень контрабандных товаров: урвать реально, да цена высока.
Благо хоть надежды оправдались (вот бы и дальше так везло, тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить!): дверь была не только не заперта — открыта настежь и к тому же заботливо подперта камушком, наглядно свидетельствующим о простоте здешних нравов.
Годунов, старательно изобразив на лице невозмутимость, вошел, без суеты огляделся по сторонам. Из ниши слева дисциплинированно вышагнул средних лет красноармеец, наверняка из вновь мобилизованных, спросил ворчливо:
— Вы к кому, товарищ?
Наверное, подумал: заблудился мужик.
— Мне нужно срочно поговорить с военкомом, — Годунов четким эффектным движением раскрыл удостоверение на уровне глаз постового.
— Одну минуту, товарищ старший майор, — в ответе сквозило нескрываемое изумление. Но, надо отдать красноармейцу должное, подобрался он мигом, коротко взглянул на дежурного за столиком: что, мол, делать?
Тот уже делал: в руках телефонная трубка, на лице недоумение. И не через минуту, как обещано было, а секунд через десять выдал результат:
— Фомин… — Неловко, будто бы ему вдруг стал тесен ворот, повел головой. — Проводи.
Фомин тоже был отнюдь не юноша и тоже глядел оторопело, словно ему тень отца Гамлета показали. Хотя, если рассудить, сотрудник НКВД подобного ранга, вырядившийся по гражданке и рыскающий, аки тать в нощи, — сюжетец помощнее. И реализму в нём не сказать что больше.
А военком-то, похоже, здесь. Тем лучше, не придётся долго терзаться неизвестностью.
Добрая сотня шагов по полутёмным лестницам и коридорам вслед за Фоминым — а боец оглянулся всего раз-другой и то, похоже, лишь для того, чтоб убедиться: визитер не отстал и не заблудился. Радоваться или печалиться? С одной стороны, явное опровержение придумок кинематографистов о чуть ли не поголовной паранойе в Красной Армии. С другой — не слишком ли уж монументален пофигизм?
Так ничего и не надумалось: за очередным поворотом ярко высветился дверной проем.
Интерьер кабинета, понятно, оказался «как в кино». Да и его хозяин лицом и, что называется, статью напоминал киногероя: косая сажень в плечах, ладно пригнанная лётная форма, светлые волосы, зачесанные ото лба назад. И черная повязка, закрывающая левый глаз. Правый, вполне ожидаемо серо-голубой, смотрел вопрошающе, но уверенно.
— Здравия желаю, товарищ старший майор. Военный комиссар Орловской области майор Одинцов. Разрешите ваши документы.
«Во как!» — уважительно подумал Годунов, мигом корректируя своё отношение к здешней осмотрительности. Не полагается военком на дежурного и на русский авось, сам удостовериться желает. На фоне бегства командующего округом и бардака, который с большой натяжкой можно было назвать эвакуацией, кабинет с тяжёлым письменным столом, лампой под зелёным абажуром и с портретом Сталина на стене вдруг представился Александру Васильевичу райским островком порядка и организованности. А что держат двери нараспашку… ну так главное — бдят. Подобные вещи за годы службы Годунов научился улавливать мгновенно. Это сразу расположило его к майору, и убирать удостоверение он не торопился. В конце концов, корочки — единственная его надежда на легализацию, (словцо-то какое, прям из шпионских романов!), нельзя, чтобы военком усомнился в подлинности документа.
Не усомнился.
— Товарищ старший майор! На текущий момент силы гарнизона…
Это, конечно, очень важно. Без всякой натяжки — жизненно важно. Однако начальственный гнев изображать всё ж таки придётся. Во избежание последующих неудобных вопросов. Одинцов-то, по всему видать, не из раздолбаев.
— Вас ничего не удивляет, майор? — жёстко прервал Годунов и военкома, и собственные несвоевременные мысли. — Например, то, что я прибыл без предупреждения? И без сопровождения? — выдержал коротенькую, в один вздох, но очень весомую паузу. — Или мой, с позволения сказать, внешний вид?
— Прошу прощения… — сухо начал Одинцов.
— И есть за что. Что вы там о силах гарнизона? — Александр Василевич уперся кулаками в столешницу. — Начштаба округа чётко рапортует командующему Брянским фронтом: дескать, у вас тут артиллерии — хоть генеральное сражение давай, а на деле? А дело, по всему видать, швах. Железнодорожный-то узел зенитки надёжно прикрывают, нет? Про авиацию даже не спрашиваю. Тут, правда, без победных рапортов обошлось. А вот лично у меня не обошлось, как видите. В двух километрах от города под бомбёжку угодили, — Годунов перевел дух. — Так что никого со мной теперь нет и ничего, кроме удостоверения, предъявить в подтверждение своей личности и своих полномочий не могу. Придётся вам пока что поверить мне на слово…
Угу, то-то и оно, что поверить. То-то и оно, что пока. Пока не найдется кто-нибудь, чьих полномочий хватит, чтобы связаться со Ставкой, но…
«Дуракам везет», — помнится, любила повторять бабушка.
Вот и появилась возможность проверить. Даже то, что на корочках следы копоти, оказалось на удивление кстати… А кто он, Саня Годунов, если не дурак? Самая разумная мысль: надо-де отсидеться, осмотреться и озадачиться собственной судьбой, у него, конечно, возникала… Точнее, не возникала, в том смысле, что не вякала. Пряталась серой мышкой в самом темном уголке сознания — и не возникала.
Нормальный человек не преувеличивает роль личности в истории и не преуменьшает значимости собственного физического существования. А если он ещё и осведомлен, чем все кончится по большому счёту, то есть знает не только о мае и сентябре сорок пятого, но и об августе девяносто первого, и об октябре девяносто третьего? Как должен поступить такой нормальный? Сжечь удостоверение? (Спички — вот они, в боковом кармане, вместе с не початой, но уже основательно измятой пачкой папирос «Дюбек». Вот и все его личное имущество, не считая тяжеленных часов, похожих на те, которые Саньке-отроку подарил на память дед. Они долгие годы выполняли роль талисмана и на экзаменах, и на соревнованиях, и в походах, разве что от рутины не спасли… да и затерялись при одном из переездов совершенно странным образом, как будто наскучило им сопровождать раздолбая, до сорока с лишним лет так и не удосужившегося постичь истинную цену времени). Ну, сжег бы. А дальше что?
А дальше возникают, так сказать, варианты, как не быть принятым за дезертира или шпиона и сохранить голову на плечах. Если очень повезёт — даже и повлиять на что-то попытаться, всё ж таки послезнание — не совсем бесполезная штука. Наиболее запомнившиеся из альтисторических романов предлагали для достижения подобных целей самые разнообразные модели поведения. Некоторые вероятности казались осуществимыми. Только вот незадача: жизнь у него была одна, что не давало никакого простора для эксперимента. Ну, допустим, удалось с первого раза выбрать нужное направление действий и нигде не напортачить. Отлично. Но для осуществления задуманного нужно время. Опять же допустим, что незначительное. По меркам мирного времени, угу. У войны свои сроки. И в эти немногие месяцы уместится и падение Орла, и оборона Тулы, и, вполне вероятно, Московская битва. И с каждым днем твое, Годунов, послезнание будет обесцениваться.
И вообще, слишком много допущений! Слишком много, чтобы думать об этом всерьёз… Вот только совсем не думать, наверное, не выйдет.
Думать думай, но и дело делай. Присказка про белку в колесе многовековой практикой подтверждена. Вот и изволь, Александр Василич, крутиться. Да не просто так, а с толком, создавая не панику, но поступательное движение.
Вломиться со всего маху в прошлое, имея в кармане эдакие корочки, — и отсидеться? Преотличная во всех отношениях идея — отсидеться в подводной лодке, по которой хреначат глубинными бомбами!
…А ежели душой не кривить, ты ведь сразу определился: не настолько ты нормальный — правы, ох, правы оказались школьные коллеги! — чтобы стоять в стороне от того, что свершается здесь и сейчас, выгадывая какие-то будущие шансы. Завтрашний шанс — он то ли будет, то ли нет. Особенно с учетом военного времени и отсутствия каких бы то ни было документов, кроме пресловутого удостоверения.
Значит, в полном соответствии с традициями альтисторического жанра, будем считать сей документ прямым указанием к действию. Тем более что от метания громов и молний пора переходить, так сказать, к конструктивному диалогу. Ну и, памятуя о том, что в ногах правды нет, присесть, наконец.
— Товарищ Одинцов…э-э-э… позвольте узнать имя-отчество?..
— Игорь Григорьевич.
— …Игорь Григорьевич, как вы наверняка уже поняли, я уполномочен проинспектировать готовность города к обороне. Однако ж тут, я уже оценил, впору вести речь не об инспектировании, а об организации обороны города с нуля. Я связывался со штабом округа, — раз уж приходится играть, то почему бы не ва-банк? — но мне так и не смогли внятно ответить, где находится командующий.
— Отбыл, товарищ…
— Куда? — перебил Годунов.
— Не могу знать.
— Выясним. Сейчас меня больше интересует, какие воинские подразделения имеются в городе в настоящий момент и какие мы можем сформировать в течение одного-двух, ну, пусть трёх дней.
Одинцов не колебался:
— Самое боеспособное подразделение — это сто сорок шестой отдельный конвойный батальон НКВД.
Эх, товарищ майор, слышали бы тебя краеведы!
— Ещё есть семьсот человек ополченцев, отряд сформирован при Управлении НКВД.
«Ага, что и требовалось доказать!» — невесело хмыкнул про себя Годунов.
А чему радоваться? Были бы в городе пресловутые пять артполков, начал бы военком с двух батальонов чекистов, а?
— Есть с полтысячи человек в истребительных батальонах, по госпиталям выздоравливающие… тут данные надо уточнять, — с виноватым видом заключил Одинцов. И, поколебавшись, добавил: — С утра ещё два комендантских взвода было и три БА-10, но сегодня они отбыли вместе с командующим в неизвестном направлении.
«Угу, пусть будет — в неизвестном. История рассудит… жаль, история — она не военный трибунал», — подумал Годунов. И задал главный, но, по всему видать, уже излишний вопрос: — Вернёмся вот к чему. Генерал-полковнику Ерёменко докладывали о четырёх противотанковых артиллерийских полках и одном гаубичном. Они существуют…гм… в каком-либо виде?
— Если шестнадцать сорокапяток и четыре ЗИС-2 можно так назвать, — мрачнея буквально на глазах, ответил военком.
— Я сильно сомневаюсь, что в этом убедить удастся немцев, — саркастически хмыкнул Александр Васильевич. — А грядёт, не буду от вас скрывать, оборона города. В ближайшем будущем. — Одинцов сдержанно кивнул: мол, сам уже догадался. Вот и ладушки. — Так, дальше?
— Что же до гаубичного полка, наличествует двадцать четыре 122-миллиметровых гаубицы образца десятого года. Противотанковые орудия с расчётами, а в гаубичном от силы восемь расчётов укомплектовано.
— Хоть что-то, — Годунов вздохнул. И добавил про себя: «Уж очень «что-то»!»
— Кроме того, на аэродроме имеется десять машин: семь У-2, пять из которых в полной исправности, и три УТ-2. Только вот летать, — жёстко заключил военком, — некому. Об остальном подробнее можно осведомиться у замначштаба подполковника Беляева. Что касается вооружения и боеприпасов, наиболее полной информацией располагает бригвоенинтендант Оболенский, он вообще в округе всё имущество до последней портянки знает.
Годунов чувствовал себя сказочно-анекдотической старухой у разбитого корыта. Только вот не приходилось рассчитывать на появление не то что золотой рыбки, но даже какой-нибудь щедринской вяленой воблы, охочей до бестолковых советов.
— Поедемте-ка, товарищ майор, в штаб округа. Время поджимает, так что на месте разберемся, кто на что горазд. — На пару секунд задумался. — И вот ещё что. Мне бы одеться подобающим образом. Это возможно?
— Решим, товарищ старший майор, — помедлив несколько мгновений, уверенно проговорил Одинцов. — По дороге в военторг заедем. Прикажу готовить машину.
«Заодно и перекусить бы… хотя б и по дороге», — с тоскливой безнадёжностью намекнул желудок.
— Не надо машину. Я тут персональной разжился. Из гаража штаба округа.
Чередовать правду и вымысел, особенно когда в правде изрядная доля допущений, а в вымысле изрядная доля экспромта, потруднее, чем усидеть на двух стульях. Знать бы, где ты брякнешься, попаданец-самозванец, авось соломки удалось бы подстелить.
За те полчаса, что высокое начальство отсутствовало, водитель успел привести себя в подобающий вид (надо же, и печали во взгляде поубавилось) и теперь с полным основанием мог именоваться сержантом Дёминым. Ориентируясь без подсказки, он за считанные минуты доставил товарищей командиров в военторг.
А вот встретившую их на пороге Нину Фёдоровну, добрую, как сразу же стало понятно, знакомую Одинцова, впору было называть Ниночкой, прехорошенькая такая брюнеточка лет двадцати, разве что старушечий пучок на макушке немного портил впечатление. Чуточку суетясь и самую малость смущаясь (не каждый же день являются покупатели столь высокого ранга!), она подобрала форму и собственноручно привинтила к краповому сукну петлиц посеребренные ромбы, лучащиеся рубиновой эмалью.
Форма сидела непривычно. Да и вообще, поглядевшись в зеркало, капитан третьего ранга Годунов почувствовал себя ряженым. «Мало чести в том, чтобы нацепить чужие погоны!»
— Спасибо, — сказал он Ниночке, которая преданно маячила у него за спиной, и понял, что прозвучало резковато.
— Товарищ старший майор… — несмело начала девушка. — У меня вопрос… если можно.
— Слушаю, — без особого удовольствия отозвался Годунов: у него самого сейчас крутилось в голове слишком много вопросов.
— Правда ведь, вы Орёл не сдадите?
— Сделаем всё возможное, — коротко ответил он.
Всё-таки верно подметил классик: правду говорить легко. А вот приятно ли?
Глава 9
29 сентября 1941 года,
Орёл
«Сделаем всё возможное…»
Немудреный ответ. Такие ответы дают врачи, когда прогноз совсем плох. И чиновники, когда попросту не хотят ничего делать.
А Ниночка, похоже, воодушевилась. Ну да и пускай, надежда — подруга хорошая, случается, что и выручает. Как бы самому с надеждой накрепко задружиться, а? И не с малахольной какой-нибудь, а с такой, чтоб с первого взгляда доверие внушала и убежденность: всё будет хорошо и ещё лучше! И чтоб имелись при ней хотя б минимальные резервы и некоторое количество боеприпасов… Только нет такой ни рядом, ни поодаль. Твоей, Александр Василич, надежде, бледной, но отчаянной, впору, как в дурной киношке, бросаться с шанцевым инструментом и зверским выражением лица на танки.
Подходил к концу «первый день попаданца». От усталости и обилия впечатлений голова гудела вечевым колоколом… созывая мысли, нужные и ненужные. Стоило бы передремнуть по дороге хоть четверть часа, авось в мозгах прояснилось бы. А сна — ни в одном глазу, наверное, по тем же самым причинам. Оставалось только в очередной раз позавидовать бесценному опыту товарища Штирлица.
Годунов вглядывался в темноту, пытаясь уловить приметы того Орла, который был ему знаком. Занятие, конечно, бесполезное, но сосредоточиться помогло. И очень вовремя — машина остановилась перед особняком, в стиле которого архитектор, наверняка умевший потрафить вкусам губернского дворянства, находчиво соединил помпезность и провинциальность.
Додавить последние рефлексии, и так уже вялые, как травленые тараканы, и встряхнуться удалось аккурат в тот момент, когда со скрипом отворилась тяжёлая дверь с кованой ручкой. За такой дверью должен был бы обнаружиться бодренький дворецкий, а не усталый дежурный, оживившийся только при взгляде на волшебное удостоверение.
А вот замначштаба округа подполковник Беляев, крепко сбитый кряжистый мужик лет тридцати пяти, удивления не выказал. Может, Одинцов его предупредил? Угу, ещё скажи — морально подготовил. Когда б успел? Если только перепоручил кому? Ну да бог с ним.
Интуитивно Годунов опасался таких вот ничему не удивляющихся — на языке крутилось определение «лиц при исполнении должностных обязанностей» — с цепким взглядом чуть исподлобья. Хотя, признаться, никогда не видел от них ничего плохого. Но на всякий случай поспешил, после обычных приветствий, взять быка за рога, начальственным речитативом выдавая все то, что надумал по дороге:
— Товарищ подполковник, необходимо в кратчайшие сроки собрать командиров всех частей, дислоцированных в Орле, и всех начальников служб. И еще… — Годунов вдохнул, готовясь с головой броситься в омут, — мне нужна ВЧ с генерал-полковником Ерёменко.
— Товарищ старший майор, — сурово ответствовал Беляев. — ВЧ только в кабинете командующего округом, а он опечатан.
— Обстановка такова, что медлить нельзя. Вскрывайте кабинет, — приказал Александр Васильевич.
Бабка любила повторять: «Снявши голову, по волосам не плачут». Маленький Санька сути не улавливал, воображая себе что-то вовсе несусветное. Потом, конечно, начал понимать. А вот воистину проникся только сейчас. И картинка получилась как раз-таки сюрреалистическая, с уклоном в хоррор.
Замначштаба, по-прежнему не проявляя (почему-то хотелось надеяться — попросту не демонстрируя) никаких эмоций, достал из монструозного, под стать моменту, сейфа ключ.
Потом Годунов не раз удивлялся: как могло такое случиться, что кабинета беглого командующего он будто бы и не увидел. Запомнился только матово-черный телефон, похожий на дорожный камушек в миниатюре: направо пойдешь, налево пойдешь… Да ещё — царапины на краешке стола, напоминающие очертание воздетой птичьей лапки … а может, самой известной обывателю руны «альгиз», которая в таком вот положении обозначает жизнь и защиту. Ага, и нацисты, вроде как, ею пользуются без зазрения совести… Ну, Александр Василич, ты точно при переходе из реальности в реальность головой повредился! Мало тебе явных (и не вполне явных) намёков на твое, так сказать, предназначение, нужно еще, чтобы символы там и сям красовались? Бери-ка, мил человек, телефонную трубочку и… что, боязно? А делать нечего, придётся…
— Ерёменко у аппарата, — раздалось в трубке, кажется, раньше, чем должно было.
— Товарищ генерал-полковник, у аппарата старший майор госбезопасности Годунов, — так, хорошо, голос не дрогнул, Рубикон перейден. А вот насколько удастся сухим из воды выйти… — Я командирован в Орловский военный округ Ставкой Верховного Главнокомандования с целью инспектирования подготовки округа к обороне. Однако сегодня вечером командующий округом генерал-лейтенант Тюрин покинул город и отбыл в северо-восточном направлении, — перевел дух и снова глубоко вдохнул. — В связи с отсутствием в округе централизованного руководства и в соответствии с полномочиями, данными мне Ставкой, я принимаю командование округом и… и Орловским оборонительным районом на себя.
На том конце провода молчали. Хотелось верить, что к добру оно, это молчание. И надеяться, что командующий Брянским фронтом не поспешит сообщить об этом разговоре в Ставку. Снова ва-банк, товарищ старший майор третьего ранга! Пр-родолжаем разговор!
— Как я успел выяснить, сведения о составе и численности войск в округе, в частности о пяти артиллерийских полках, представленные вам начальником штаба округа, не соответствуют действительности. И, самое главное, по сведениям, полученным из абсолютно достоверных источников… — ох, только бы Ерёменко не пришло в голову выяснять, что за источники такие! — …утром 30 сентября Вторая танковая группа противника нанесёт удар на стыке 13-й армии и оперативной группы генерал-майора Ермакова. 24-й моторизованный корпус пойдёт на Орёл, а 47-й моторизованный — в направлении Севск — Карачев — Брянск. У противника имеются подробные карты местности и нельзя исключать возможности использования им лесных дорог…
— Что в Орле? — резко спросил командующий.
— Насколько мне известно, сейчас в Орле всего около двух тысяч штыков. Мобилизационный резерв ещё предстоит оценить, но не думаю, что он велик. Если будет возможность, окажите помощь танками и поддержите авиацией, — бесцеремонно, конечно, но вдруг чего да и обломится? — С нашими силами мы можем только героически погибнуть.
— Вот же Тюрин засранец, — оказывается, Ерёменко не просто молчал и думал, он ещё и проникнуться в полной мере успел. — Сбежал, сука, весь фронт с голой задницей оставил… — помолчал. — Ладно, подумаю, чем тебе помочь.
Ерёменко прокашлялся, и в следующую пару минут Годунов узнал много нового, но малоценного в свете ситуации, требующей практических решений, о морально-психологическом облике командования округа и о перспективах развития взаимоотношений указанных лиц с рядом домашних животных и Хайнцем Гудерианом лично. Вряд ли что-то из услышанного допустимо было бы включить в мемуары. «Ты доживи ещё до мемуаров, — усмехнулся Годунов, чувствуя себя ну очень конкретным попаданцем. Комфронта не на пустом ведь месте реагирует столь экспрессивно. Попадись ему сейчас Тюрин, мог бы, наверное, и в рожу двинуть. В лучшем случае.
— Десять тысяч бутылок с КС обещаю, по железке перебросим, готовься встречать, а что ещё… В общем, вы там держитесь, а уж я чем могу… Ну, ты понимаешь…
«А что мне ещё остается, на подводной-то лодке?» — снова подумал Годунов.
Трубка давно уже лежала на рычагах, а он все стоял у стола и в задумчивости водил пальцем по птичьей лапке альгиз. Спохватился только тогда, когда замначштаба покашлял — скорее настойчиво, нежели деликатно.
Для дальнейшей беседы расположились в кабинете Беляева. Что называется, тет-а-тет — Одинцов двинулся к себе, дабы телефонировать ответственным работникам: сегодня в двадцать три нуль-нуль состоится экстренное совещание в штабе округа. Годунову же предстояло поделиться с замначштаба необходимой толикой послезнания и прикинуть план. Но только он открыл рот, как в дверь постучали.
— Иван Трофимович, пойдёмте, голубчик, почаевничаем на ночь глядя… — вошедший хотел добавить ещё что-то, но осекся, заметив незнакомца. — Здравия желаю, товарищ комдив!
Вечерний гость подполковника Беляева, несмотря на форму бригвоенинтенданта (какое счастье, что любознательный Санька когда-то вызубрил значение всех этих шпал и ромбов!), показался Александру Васильевичу выходцем из XIX века — статный старик, словно сошедший с портрета эпохи дуэлей и балов. В его присутствии невольно хотелось расправить плечи — так ловко и красиво, иначе не скажешь, сидела на нём форма, так энергично и непринужденно он двигался. Годунов глядел на вошедшего не без зависти: у него-то самого бесконечный суматошный день отзывался ломотной болью не только в ногах, но и в пояснице.
— Бригвоенинтендант Оболенский, начальник снабжения Орловского военного округа, — представил визитера Беляев.
«На ловца и зверь бежит», — всплыла в памяти ещё одна любимая бабкина присказка. А заодно вспомнилась песня, в смутные девяностые звучавшая из всех радиоприемников страны: «Раздайте патроны, поручик Голицын, корнет Оболенский, налейте вина!» Просто по ассоциации вспомнилась, главный тыловик, к счастью, ничем не напоминал юношу бледного со взором горящим: глядел на нечаянного гостя с добрым спокойствием много повидавшего и ничему не удивляющегося человека. А вот патроны были бы в тему… и не только патроны…
— Здравствуйте, товарищ Оболенский. Старший майор госбезопасности Годунов, с сего дня я отвечаю за оборону Орла, — м-да-а, как ни крути, нелегка она, доля попаданца! Только представляться за сегодняшний бесконечный день приходится в третий раз… или в четвёртый? У-у-у!
— Значит, узнали в Ставке про наши безобразия, — старик едва заметно качнул головой. — Уму непостижимо, фронт задыхается без крупнокалиберных пулемётов, а у нас тут на складе аж двести штук пулемётов Дегтярева-Шпагина образца тридцать восьмого года, новеньких, в заводской смазке. С августа месяца на фронт отправить не можем, Тюрин над ними, как царь Кощей над златом, чахнет…
«Совсем зачах ваш Тюрин», — чуть было не вырвалось у Годунова, однако ж внутренний голос ехидно прокомментировал: «Он такой же ваш, как и наш!»
— Ну что ж, дождались, теперь не вы их на фронт, а фронт — к вам. Над чем там ещё чах бывший командующий? — сперва сказал, а уж потом осознал, что невольно выделил голосом слово «бывший».
— Вот что, товарищ комдив, пойдёмте-ка покушаем, что бог послал, а там и побеседуем, — мягко проговорил Оболенский, но в его тоне Годунову почудился укор… или не укор? А-а, нашел время шарить по закоулкам психологии! Особенно если учесть, что предложение как нельзя кстати и вообще с давешними мечтами совпало.
В кабинете бригвоенинтенданта, весьма похожем на беляевский, но каком-то… более обжитом, что ли, уже накрыт был стол, в центре которого возвышался гигантский самовар, начищенный до зеркального блеска. Бывалого вида старшина с шикарными («мулявинскими», так подумалось Годунову) усами вносил последние штрихи в притягательный натюрморт.
— Афанасий Петрович, у нас сегодня, извольте убедиться, двое гостей, — мягко, чуть ли не по-домашнему вымолвил Оболенский.
Старшина, ни слова не говоря, ловким движением добыл из притулившегося в стороне шкафа ещё пару столовых приборов, отправил их на стол и… вроде, и отвлекся-то Годунов совсем ненадолго, разглядывая ниспосланное голодающему счастье, глядь — а колоритного персонажа уже и след простыл.
— Афанасий Петрович у нас потомственный пластун, товарищ комдив, — понятливо усмехнулся Оболенский, — сам до сих пор удивляюсь, как это ловко у него получается, хотя я его уже лет, почитай, десять знаю. Да вы присаживайтесь, покушайте. Надо понимать, у нас такие дела скоро завертятся, что покушать без спешки, по-человечески, райской мечтою покажется. Иван Трофимович, ну а вы-то что стоите, чай не в гостях…
— Вы правы, — грея ни с того ни с сего озябшие руки о чашку, признался Годунов. — Насчёт дел наших правы. У нас с вами на всё про всё два, ну, может, три дня осталось, так что надо всё взрывающееся, горящее и стреляющее использовать, да по уму, — он задумался. — Вот взрывчатка, к примеру, есть на складах?
— Ну, такой, о которой при добрых людях сказать не совестно, килограммов сто наберется, — не моргнув глазом ответил Оболенский и принялся переливать чай из стакана в блюдечко, — однако ж есть ещё мелинит, с царских времен остался, жуткая, между нами говоря, гадость, — взглянул на Годунова, потом на Беляева, будто ища сочувствия, — но гадости этой много, почитай двадцать тонн. Хотели мы её строителям отдать, но они как черт от ладана шарахнулись, так вот и долежала…. На безрыбье, как говорится, и рак рыба…
— Вы даже не представляете, как это хорошо, что долежала, — немного воспрянул духом Годунов. Руки согрелись, даже к щекам кровь прилила. — Вот только годный он, мелинит ваш, или того…
— Ещё как взрывается! — поспешил заверить Оболенский. — Да вы кушайте, кушайте, печенье домашнее, супруга нынче побаловать вздумала, как чувствовала, что гости у меня будут. Так вот, я по весне приказал с каждой тонны пробу взять и испытания провести, и могу заверить — все двадцать тонн годны в дело.
— В снарядах тоже взрывчатка есть, — заметил Беляев, глядя в свой стакан так, словно вознамерился гадать по чаинкам на его дне.
— Иван Трофимович, дорогой мой человек, — с притворным осуждением покачал головой интендант. — Я, конечно, давно уже вышел из гимназических лет и латинские глаголы вряд ли сейчас дались бы мне без труда. Однако ж о том, что у нас в хозяйстве имеется, пока ещё крепко помню.
— Что за снаряды? — спросил Годунов.
— Реактивные, для самолётов. Ну, те, что РС-132. Завезли их с неделю тому назад, ни много ни мало — восемь тысяч. А толку-то с них? Самолётов у нас всё равно нет, на У-2 на перкалевые их не поставить, — Оболенский вздохнул. Так вздыхает радушный хозяин, на столе у которого вдруг не оказалось простого хлеба.
— Э-э нет, товарищ бригвоенинтендант! — цепляясь за смутную пока мысль, Годунов крепче сжал шероховатую ручку подстаканника. — Я думаю, снаряды мы иначе используем. А вот скажите, нет ли в нашем распоряжении противотанковых ружей? — спросил он, и не рассчитывая на утвердительный ответ.
— Чего нет — того нет, — снова вздохнул Оболенский, — не дошли до нас ружья. Мы же до войны глубоким тылом считались. Благо, хоть орудия какие-никакие есть.
— Да уж, мне про эти орудия товарищ Одинцов рассказал, — Годунов хмыкнул. — В том числе про гаубицы. Кабы не враг, к этому антиквариату пионеров на экскурсии впору было бы водить, рассказывать им про Империалистическую…
— Это вы товарищ, комдив, зря. Игорь Григорьевич, не в обиду ему будет сказано, под стол пешком ходил, когда эти гаубицы германцев громили. А вы, товарищ комдив, наверняка помните…
«Артиллерист», — осенило Годунова.
А вслух он сказал:
— Простите великодушно, не силен я в артиллерии…
Оболенский, будто и не слыша, увлечённо продолжал:
— Но с гаубицами и правда беда, расчёты дай бог к третьей части найдутся. Однако ж и с этой бедой сладить можно. Правда, возраст у солдат великоват, но есть, есть у нас в Орле человек тридцать старых гаубичников.
— А ежели ещё и по госпиталям посмотреть выздоравливающих… — подхватил мысль Годунов: — Справимся?
— Справимся, — без уверенности, но с какой-то отчаянной убежденностью ответил бригвоенинтендант.
«Хочется верить, ох как хочется!» — в который раз подумал Александр Васильевич.
— Особенно хочу порекомендовать вам отца Иоанна из Преображенской церкви, в миру Ивана Григорьевича Земского…
Так, вроде бы, на этот момент в Орле нет ни одной действующей церкви, припомнил Годунов. Нет, он, конечно, не специалист, но на недавнем семинаре Общества охраны памятников смутно знакомая по предыдущим семинарам дамочка об этом доклад читала.
— Мы с ним давние приятели, у наших матушек усадьбы в Пятницкой слободе забор в забор стояли, — между тем продолжал Оболенский с той интонацией, с коей и надлежит разговаривать за чаем… без учета обстоятельств, и Александр Васильевич не мог не подивиться самообладанию старого офицера. — Артиллерист он от бога, за это я ручаюсь, и как раз-таки гаубичник, до штабс-капитана дослужился. Сан-то он уже в двадцатые принял, после некоторых событий в частной, как говорится, жизни. — Поглядел на Годунова, будто мысли его стараясь угадать. — Вы дурного-то не подумайте, он не из врагов идейных, ничего эдакого за ним не водится. Как церковь закрыли, его даже в облархив работать взяли, и был он на хорошем счёту. А архив наш в здании Преображенской церкви располагается, видите, как чудно судьба-то распорядилась? Архив, конечно, уже эвакуировали, да не весь, не весь. Вот при том, что осталось, Иван Григорьевич и числится. Ну и, скрывать не буду, служит. Сан-то он не слагал, а время такое, что людям никакая опора не лишняя.
М-да-а, а здесь, по всему видать, край непуганых интендантов. Вот и верь после этого любителям порассуждать о безгласном тоталитаризме и тотальной безгласности!
— Я убежден, что в такое время он раздумывать не будет, да и отсиживаться ему резону нет — военная, как говорится, косточка, — резюмировал Оболенский, допил чай, аккуратно отодвинул чашечку с блюдечком — и принялся совершенно учительским тоном, с чувством, с толком и с расстановкой, перечислять, чем богаты окружные склады…
Вскоре у Годунова голова пошла кругом. ДШК, мелинит, гаубицы… А надо ведь ещё сообразить, кого всем этим вооружить можно. Округ, надо понимать, выметен подчистую: если память вкупе с послезнанием ему не изменяет, в июле сформировали двадцатую армию, а потом стрелковую дивизию, которая в привычной истории прославилась при обороне Тулы, и сколько-то там маршевых батальонов… не один десяток — точно. Так что правильно он сказал Ерёменко насчёт мобилизационных резервов, правильно. Что мы вообще имеем на сегодняшний день, который давно уже вечер? Доподлинно известно, и Одинцов сегодня подтвердил, что есть семь сотен ополченцев, и не абы каких — батальон, шутка ли сказать, создавался при Управлении НКВД. Прибавим чекистов-конвойников. Ну и робко припомним про три сотни парней и девчонок из истребительных групп… А нужны-то артиллеристы… сапёры… лётчиков бы человек… хоть сколько-нибудь!..
Авторы многочисленных альтернативок, красочно живописующие преимущества послезнания… вас бы сюда, подсказали бы бедному краеведу-любителю, откуда спецов брать да по каким кустам рояли шукать! И заодно — на чем эту филармонию транспортировать. Память, память, ну хоть ты-то что-нибудь жизнеутверждающее подскажи!
В компьютерной стратежке удобно: вот они, все твои ресурсы, аккуратно расфасованы по квадратикам. А главное, если что-то пошло вкривь, и вкось, и поперёк планов, всегда переиграть можно, угу. И не надо бодреньким тоном человека, радующегося тому, что покойник он пока только потенциальный, объявлять всем и каждому: дескать, прибыл Чип и Дейл в одном лице, сейчас всех спасет и выручит, ввалит врагам по самое Гудериан не горюй и в финале будет красиво попирать ногами поверженного Гитлера на фоне сбереженного для народной Германии Берлина…
А причём тут, собственно говоря, компьютерная «стратегия»? Неужто тебя, Александр свет Василич, ни жизнь, ни служба системности мышления не научили? Вот и давай, систематизируй, если потонуть не хочешь.
Вздохнул. Дожевал печенье, почти не чувствуя вкуса. Снова вздохнул. Допил чай. Попросил у хозяина листок бумаги и карандаш — в последний раз он писал пером, да и то плакатным, в незабвенные курсантские времена, нефиг лишние подозрения провоцировать. Он и сам по себе — тот ещё рояль на человечьих ножках, целый, в переводе на нормальный общевойсковой язык, генерал-майор, свалившийся в прифронтовой город можно сказать что с неба. Да ну и ладно, в любом случае обратный отсчёт уже пошёл, и от того момента, когда откроется, что оборону возглавил самозванец, его, Годунова, отделяют считанные дни, в лучшем случае — неделя, в самом фантастическом — пара недель. И эти сроки до известной степени зависят от результативности его действий. И вообще, кому судьба быть повешенным, тот не утонет. Так когда-то сказала бабка, входя, в самом что ни на есть буквальном смысле слова, в горящую избу, чтобы вынести оттуда кошку с новорожденными котятами.
А интересно было бы повстречаться с бабкой… она совсем рядом, в Фоминке…
Угу, давай-давай, хронотурист…. Помечтай!
Мысли опять пошли вразнос. Такого прежде не бывало даже в нештатных ситуациях. Впрочем, эта… даже не экстраординарная. Черт знает, как о ней вообще сказать, не воскресив в памяти прославленный боцманский загиб.
Годунов ровнехонько, хоть и без помощи линейки, расчертил листок на клетки и начал вписывать в них то, что однозначно имелось в наличии. Часть пустых клеток заполнится в процессе совещания, часть по-прежнему будет удручать траурной белизной.
На обороте Годунов, припомнив свои диванные размышления о возможностях и перспективах, накидал список вопросов.
Картина становилась более ясной — но ничуть не более радужной. И, как нередко бывало в трудных ситуациях, на помощь пришел внутренний голос.
«Ну что, товарищ самозванец, делать-то будем?» — устало вопросил он.
«Я не самозванец, я мобилизованный из будущего», — в тоне ему огрызнулся Годунов.
«Угу, старший майор Военно-Морского флота Российской Федерации! Давай, вперед, строй оборону на суше, покажи мастер-класс! Ты у нас не то что в морскую пехоту, ты сразу в стратеги подался!» — альтер эго было традиционно упрямо и ехидно. И эта традиционность создавала иллюзию стабильности, и…
И как будто бы что-то перещёлкнуло в мозгах: город вдруг увиделся кораблем в условиях автономки. Да, ситуация нештатная, да, полагаться надлежит только на себя, но бороться за живучесть можно и нужно. Собраться с силами, и…
Годунов глянул на часы. До совещания оставалось тридцать минут.
Глава 10
30 сентября 1941 года,
Орёл
«А сил тех — кот наплакал, скотина полосатая», — продолжал размышлять Годунов, устроившись после совещания на отдых прямо в кабинете Оболенского. Обитый буровато-зелёной кожей диван с высокой, в обрамлении резного дерева, спинкой оказался жёстким и неудобным… а на телеэкране такие почему-то всегда смотрелись совсем иначе: мягкие, так и тянет поваляться. Хозяин, выдав высокому гостю вышитую маками думочку, учтиво удалился. Гм, не иначе как дочка рукодельничает? Или жена? Ну, та, которая печенье печёт, и преотлично, надо признать, печёт. Однако ж хотелось думать, что именно дочка и непременно очень красивая… тёмненькая, как Ниночка из военторга… Вот уж нашел время для размышлений в духе попаданца, озабоченного… гм… не только историческими судьбами! Тоже реакция на стресс и на переутомление, наверное. Сейчас бы пустырничку тяпнуть… А лучше…
Впервые в жизни по-настоящему хотелось водки.
У всех у них на отдых оставалось часа три, не больше. А если подумать, то и не у всех. Беляев, буквально на ходу возведенный в начальники штаба Орловского оборонительного района, и посейчас суетится, готовит утренний отъезд, с кем-то связывается, что-то решает. Ему же, Годунову, как самому главному, кого беречь следует для грядущих больших решений и свершений, предоставили на отдых прорву времени. А вот не спится — и всё тут.
Поворочавшись минут с пятнадцать, Годунов понял, что в борьбе с бессонницей потерпел фиаско, и пока воображению не вздумалось экстраполировать эту житейскую ситуацию на все предстоящее, глобальное, встал, включил настольную лампу и снова принялся медитировать над расчерченным листочком.
Что-то из конспективно намеченного в квадратиках уже воплотилось в обращение к населению города и в приказы, чему-то предстояло воплотиться. Казалось бы, и продумано, и сделано уже много, но — до отчаяния мало. Вроде бы и штаб обороны сформирован, и фронт работ очерчен, а оборона города и окрестностей как виделась эдаким тришкиным кафтаном, так и сейчас видится, дыр в ней — латать не перелатать. И далеко не факт, что все дыры удалось разглядеть. И что завтра кафтан не прохудится в другом месте, не расползется по шву, сметанному на живую нитку. Эх, Александр Василич, храбрый ты портняжка! Главное, не напортачь.
Главное… Вновь и вновь мысленно возвращался Годунов к совещанию, раз за разом выстраивая вопросы и ответы по ранжиру.
Больше всего опасался Александр Васильевич встречи с начальником областного управления НКВД Фирсановым. Один вопрос в духе «кто вы, доктор Зорге?» — и все, каюк тебе, пришелец из будущего. Но главный чекист, собранный темноволосый мужчина, похожий на Вячеслава Тихонова времен «Семнадцати мгновений весны», ничего не спрашивал, разве что вставлял краткие, всякий раз уместные комментарии там, где дело касалось его компетенции. Где не касалось — помалкивал и слушал.
Транспорт, транспорт, транспорт… Начальник дистанции, серый от недосыпа дед в железнодорожной тужурке, поначалу только мученически морщился, но потом разухарился, начал изъясняться в трагикомическом духе: хоть стреляйте, хоть вешайте, хоть тупым ножом режьте, паровозов нет, сильно надо — сам прицеплюсь к составу. Чего ещё нет? Извольте! — начал загибать тёмные узловатые пальцы — угля нет, керосина, машинистов, ремонтников… Попёрхнулся, отдышался и, продолжая возмущенно пыхтеть, пообещал к завтрашнему вечеру один паровоз. Один. Но — железно.
По-армейски подтянутый серьёзный бригвоенврач — начальник армейской госпитальной базы — мгновенно оживился: значит, незамедлительно готовим раненых к эвакуации?
И никто не посмел ему возразить. Разве что круглолицый в наглухо застегнутой рубашке («Второй секретарь обкома ВКП(б) товарищ Игнатов», — так представил его Годунову Беляев; смутно припомнилось: ну да, первый секретарь сейчас в Брянске, партизанское движение организует) начал приподниматься, собираясь что-то сказать, да передумал, махнул рукой.
А бригвоенврач уже чётко, как по писаному, перечислял, сколько раненых надлежит вывезти из одного госпиталя, из другого, из третьего… сколько человек медперсонала… да, ещё медикаменты, перевязочные средства…
— Нужны машины. Пусть совсем немного, две-три… Развернуть на станции эвакопункт… Как раз к вечеру всё будет готово к отправке. С Тулой я договорюсь, чтобы готовы были принимать.
«Теперь попросим начальника транспортного цеха. Расскажите нам об изыскании внутренних резервов…» Очень кстати вспомнилось. Тот ещё юмор, угу. Начальник автотранспортного хозяйства виновато вздыхал и бессильно разводил руками. Его невнятная речь сводилась к грустному, мягко говоря, курьезу: он, начальник, есть, а хозяйства — нет как нет. То, что осталось от хозяйства после всех мобилизаций, годно разве что пионерам на металлолом. Что-то можно сделать, да. Но для этого нужна пара толковых автомехаников. Которых у него нет. Потому как — мобилизация…
Потапов обещал помочь. Да и у партсекретаря, как выяснилось, уже возникли кое-какие идеи насчёт транспорта, незамедлительно облеченные в слова и включенные в план обращения к жителям города.
Годунов слушал, задавал вопросы, слушал… А в памяти всплывали известные ещё со школьных лет эпизоды из книг и фильмов.
— …можно доставлять трамваями…
Ленинградские и одесские трамвайчики, перевозившие грузы к передовой.
— …а чем кирпичный завод — не укрепленный пункт?..
Уличные бои в Сталинграде.
— …списки выздоравливающих по воинским специальностям…
А вот эпизод из «Офицеров», как раненые оборону держали, хоть и стоит он перед глазами, лучше сейчас не вспоминать. Он-то, конечно, к месту и ко времени, но не способствует сохранению ясности рассудка, ну никак.
Годунов слушал, делал пометки в клеточках — и снова задавал вопросы, чаще — уточняя только что услышанное. Иногда возвращался к недоговоренному — и снова слушал…
— И всё-таки как обстоит дело с противовоздушной обороной железнодорожного узла?
Дело обстояло именно так, как ему виделось: отгонять — отгоняют, но чтобы внушительно остеречь — нечем. Он ведь, Годунов, не пальцем в небо попадал, изображая распеканцию: помнил из рассказов знакомого комиссара поисковиков, который в войну пацаном был, как горела Привокзалка. Да и сам разглядеть мельком кое-что успел, пока ехал от «Текмаша» к военкомату. Правда, ничего драматически масштабного, больше похоже на следы обычных, бытовых, пожаров… но слишком их много, следов, слишком. А чего ж ты хочешь, Александр Василич? Округ так стремительно превратился в прифронтовой, что зенитное прикрытие у него осталось, как у тылового.
— Давайте думать, чем ещё можем прикрыть железнодорожный узел…
И снова: материальные ресурсы… людские ресурсы…
И не просто людские ресурсы — человеческий потенциал. Говоря словами Игнатова — морально-политический дух орловцев.
— Чертовы фашисты, — осипшим, простуженным голосом толковал он, — не только бомбы бросают, но и агитки, что в нынешней ситуации пострашнее бомб оказаться может. Бойцам, говорят, сытый плен и гарантированная жизнь, гражданскому населению — мир-покой. Немецкий солдат, дескать, несёт освобождение от первобытного жидо-большевистского рабства (эк загнули, сволочи!) и европейскую культуру, а комиссары заставляют вас стрелять в своего освободителя.
— Мы все понимаем, товарищи, — с усилием хрипел он, пытаясь дохрипеться до каждого, — что решающего значения эта пропаганда иметь не будет, однако же…
— Однако противопоставить ей что-то надо, — решительно прерывая несвоевременную агитацию, заключил Годунов, — И лучше всего бороться с ними их же оружием. На чем строится наша пропаганда? Солидарность, Тельман, Рот-Фронт? Хотим мы признавать или нет, но это — пропаганда мирного времени. Где сейчас те, кто сердцем мог бы эту пропаганду принять? По концлагерям сидят. А обычному немцу, которого в серую форму обрядили да и приказали: «дранг нах Остен!», — ему не до солидарности. Ему собственную башку сберечь да к своей фрау и киндерам с руками-с ногами вернуться. А вернуться будет ой как непросто. Потому что мы защищаем свой дом. И будем его защищать во что бы то ни стало, сами за ценой не постоим и с врага по всем счетам спросим. Вот об этом и надо говорить. Вбивать это в головы надо, вдалбливать. Любыми способами. В листовках, по радио. А что? Разве не достанет радиостанция до Брянска? А за Брянском они уже сидят и хошь-не хошь слушают. И запоминают. Раз-другой покрепче получат — так и вовсе проникнутся, — посмотрел на Игнатова: тот что-то сосредоточенно черкал в блокноте. — Ну и нашим то же самое не лениться напоминать: мы защищаем свой дом.
— Наши-то накрепко помнят, — не отрывая взгляд от блокнота, буркнул второй секретарь обкома.
— Повторение — мать учения, — остановил его Годунов и посмотрел на Одинцова. — Так что у нас, говорите, с пилотами?..
…Все основное было сказано, теперь пора было приниматься за работу каждому на своем посту. Участники совещания начали расходиться. Не по домам, а, как мысленно выразился на привычный себе манер Годунов, — по заведованиям.
Остались только Беляев, Оболенский и Одинцов. Да ещё второй секретарь обкома, продолжал деловито шуршать остро заточенным карандашом по страницам блокнота. Да начальник дистанции задержался на пороге.
— Мне бы, товарищ старший майор, с вами словечком-другим перекинуться, — хитро прищурившись, сообщил он с видом профессионального заговорщика.
— Слушаю, — Годунов напрягся, хотя, судя по всему, новость была не из поганых.
— Не стал я принародно каяться, чтоб, как в старинных романсах пелось, страсти роковыя не пробуждать, а попросту говоря, народ не будоражить… — он помялся, изображая смущение. — Есть у меня ещё один паровозик. Да не абы какой, а «федюшка»… ФД, то есть. И мыслишка на его счёт имеется. Я, товарищ старший майор, в девятнадцатом году машинистом ходил на бронепоезде «Коммунар». Вот помозговал я малость, пока мы тут беседовали, — а почему бы не…
Ну, вперед, товарищ старший майор третьего ранга, вспоминай, чего ты про бронепоезда знаешь!
— А давайте-ка… э-э-э…
— Савелий Артемьевич, — догадливо подсказал железнодорожник.
— Давайте, Савелий Артемьевич, обсудим это с товарищами, да и решим.
Решили: «Феликса» приспособить для эвакуации. Прикинули: за три рейса тогда можно управиться. Даже Артемич, поупиравшись и повздыхав — видать, нарисовалась ему уже картинка из героического прошлого и ещё более героического будущего, — признал: «кукушки» туда-сюда, до Тулы и обратно, замаются мотаться, а исходя из того, что ни машинистов, ни угля, ни…
Тут его довольно беспардонно прервал Беляев — да и выпроводил. Время тоже было в дефиците.
Партсекретарь хмуро поглядел на подошедшего Годунова и снова углубился в работу.
— Что, товарищ Игнатов, тезисы к докладу кропаете? — примирительно улыбнулся Годунов.
— Не до докладов сейчас. Доклады, старший майор, на нас на самих напишут, если просрём город. Уж поверь — ни чернил, ни бумаги не пожалеют, найдутся доброхоты. Я нашу систему на своей шкуре уже изучил… Как-никак с конца Гражданской в органах.
— Чекист, значит? — хоть и муторно сейчас, и не до задушевных бесед, но общий язык с партийным руководством города находить надо. — А что ж на партработу перешли?
— Куда послали — там и служу. Да и неуютно стало у нас в главке для старых кадров. Сам-то ты, дивлюсь, не московский выдвиженец, не помню я тебя…
— Так и я вас не помню…
— Николай. Не «выкай», мы с тобой сейчас одну качель качаем.
— Александр.
— Ну, вот и добре. Сам-то где служил до войны?
— На Мурмане… — осторожно ответил Годунов.
— Далековато от наших краев, факт. И как там? Что за народ в Управлении подобрался?
— Да как везде. Служба наша известная, Николай. Как прежде говорили, государева.
Игнатов вдруг встал со своего места. Нет, не встал — воздвигся, и сразу стал похож на затянутый в защитный френч двухметровый монумент:
— За языком следи, старший майор, думай, что гутаришь! По старому времени заскучал?
«Это он что, на пропаганду монархизма намекает? — подрастерялся Александр Васильевич, старательно делая морду кирпичом. — Причалили, швартуемся. Сейчас только объяснений-выяснений и не хватает… Эх, была не была! Представление о единоначалии надо давать здесь и сейчас, а то и вправду спечешься, не успев ничего сотворить».
И остановил готовящегося продолжать Игнатова хлёстким:
— Отставить! — Выдержал коротенькую паузу и проговорил уже спокойнее, с легким нажимом: — Убеждения, партийная совесть и бдительность — это все очень правильно и очень нужно, особенно в военное время, но субординацию они не отменяют. Ни в коей мере. — Снова помолчал, как будто бы ставя точку, сбавил тон до дружелюбного: — Давай, Николай, раз и навсегда договоримся: не то время ты для агитации выбрал. И не надо меня за Советскую власть агитировать, я ещё в ту войну крепко-накрепко сагитирован. Да и цари, если подумать, — разные они были, не все такие, как Николашка. Вон, про Петра Первого сам товарищ Сталин распорядился кино снять, и про Александра Невского, немцев громившего, — тоже. А Сталин — он получше нас с тобой знает, что советскому народу во благо, а что — наоборот. И сам он для государства столько сделал, сколько ни один царь не сумел…
Уф-ф-ф, вроде, правильные слова подобрал: партсекретарь посмотрел с уважением.
— Дивись, какой языкатый! На слове и не поймать! — Игнатов взъерошил тёмно-русый чуб и вновь занял место у стола: — У нас в Тишанке был навродь тебя казачок: завси отбрехаться мог!
Гляди-ка, а секретарь-то, оказывается, из казаков? Как же он сумел до такой должности дорасти? Опять, выходит, брешут новорусские журналисты да историки, а следом за ними бездумно повторяет людская молва: до войны-де на казачество одни только гонения были, вдоль, поперёк и сплошь? М-да, верно говорится: «Не всякому слуху верь».
— Но ты ж целый старший майор, ты соображать должен вперед того, чтоб брякнуть!
Тут он прав. Совет ценный. За языком следить надо, а то ведь спалишься до срока. Здешний народ ещё той закалки, революционной. А до ноябрьского выступления Сталина, «пусть вдохновит вас мужественный образ наших великих предков», дожить нужно…
— Ты, Александр, до того, как в органы пришел, кем был?
— Флотский… — будем держаться поближе к правде, так легче… в том числе и на душе. — На подводной лодке служил.
— Вот оно как… И по каким морям плавал, по Чёрному или по Балтике?
— Кто плавал, а я ходил… На Чёрном побывать не довелось. Не сложилось как-то, понимаешь…
— Слыхивал я про ваших. В двадцатом был у нас один морячок из Гельсингфорса, Васька… Как же его… О! Слесарев, точно. Так он рассказывал, как подлодки от белофиннов уводили. Знаешь такого?
— Нет, что-то не припомню. Народу-то на флоте немало. А всё же, Николай, что ты пишешь-то?
— Да комиссарю потихоньку. Обращение к бойцам и жителям города настрочил, листовку «Враг у порога». Теперь вот — текст для немцев пытаюсь накалякать, ну, чтоб по радио попробовать передавать. Ты, часом, не знаешь, на какой волне их рации ловят?
— Не знаю. Но, полагаю, связисты разберутся… Дай-ка гляну…
Годунов, приблизив игнатовский блокнот к лампе, пробежал глазами по строчкам:
«Немецкие солдаты!
Гитлер требует от вас слепого подчинения. Вас ослепляет болтовня партийных бонз НСДАП, прячущихся от фронта в глубоком тылу. Вам перед атакой дают шнапс, чтобы вы бездумно шли на смерть.
Почти один миллион убитых и искалеченных Германия получила в первые дни вторжения в Россию. Если бы эти солдаты не подчинялись слепо клике Гитлера-Геринга-Геббельса, продавшей идеалы социализма, они были бы ещё в живых.
Если вы не слепые, то вы до войны не раз видели, что русские — не враги ваши, но ваши друзья. Зачем вы ищете здесь ваши могилы? Ваш дом, ваша семья ждут вас. Вы должны вернуться домой живыми и не искалеченными.
Существует только один выход из катастрофы, которую вам готовит Гитлер, — возвращайтесь к своим семьям!»
Значения агитации Годунов не преувеличивал. А если положа руку на сердце, так вообще сомневался. Но и то, что здешним виднее, вполне допускал. А тут ещё и несвоевременная идейка возникла, на грани якобы не характерного ему хулиганства.
— Откуда, говоришь, транслировать станешь?
— С Радиодома, откуда ж еще? Армейских-то станций в городе чёрт ма! На весь гарнизон хорошо если с пяток осталось приличных. Да и те все больше морзянкой телеграфят.
— Ага… А вот если на службу этой прозе жизни ещё и поэзию поставить, как думаешь? Немчура — она сентиментальная. А песенное слово крепче в мозг ложится, сам знаешь.
— Знаю. С хорошей песней и драться легче, и на походе подмога, и на привале веселье. Но что ты предлагаешь: для гансов песни сочинять, что ли? Так им Геббельс с подручными, небось, и без нас маршей насочиняли столько, что только маршируй, покуда ноги до жопы не сотрешь… Впрочем, есть у меня в комитете несколько пластинок Эрнста Буша, ещё от предшественников остались…
— Насочиняли — это да, — задумчиво протянул Годунов. — А мы им, опять-таки, напомним о «киндер», о «муттер» и о «фрау» в фатерланде, которым кроме похоронок из-под Орла ожидать будет нечего!
— Тут хоть бы простую листовку с толком перевести, куда уж за стихи да песни браться! — гневно отмахнулся Игнатов, хотя по всему было видно, что сама идея агитационной песни его вдохновила.
— Не боги горшки обжигают, Николай! Когда-то и я неплохо язык Тельмана и Энгельса знал… Попытаюсь фольклор перелицевать, — и склонился над игнатовским блокнотом.
Уточнять, что учил немецкий много лет тому вперед в школьном клубе интернациональной дружбы, переводя письма от сверстников из ГДР, уточнять, конечно же, не стал. Ну и в мореходке осваивал в качестве второго иностранного: будущие морские офицеры главный упор делали на английский — «международный морской». А «фольклором» ничтоже сумняшеся назвал песню антифашистов из комитета «Свободная Германия», которую выучил к торжественному вечеру, посвящённому юбилею Сталинградской победы:
Es dröhnt durch die Welt, ihr herrisches Geschrei. Auf ihren Spuren ist Brand und Tod. Es folgt ihren Horden die Sklaverei, und Galgen, Vernichtung und Tod…[1]Тогда же и переложение сделал. Так и исполнял — сначала немецкий, а потом русский вариант, кустарным образом подкорректировав мелодию, чтоб уложить в неё по-новому зазвучавшие строки.
«Немка» была в восторге. А вот въедливая русичка, хоть и вознаградила труды несколькими пятерками, не преминула заметить: переложение следует делать в соответствии с ритмом и размером оригинала. Ещё к рифмам придралась… Санька тогда именно так и подумал — придирается. Зато Надька Зубкова перестала возмущаться, что её пересадили от подруги Лидочки к этому хулигану Саньке, и даже слова песни себе в тетрадку переписала. Это был успех. Знал бы ты тогда, Саня Годунов, какой успех у тебя впереди!
— Вот, смотри, Николай, что получилось. А на обороте — по-русски.
Игнатов быстро скользнул взглядом по немецкому тексту, перелистнул страницу, принялся читать вполголоса маршевым речитативом:
— Планета слышит их волчий вой: «Яволь, майн фюрер, яволь, яволь!» За их спиной полыхает ад, Глаза убитых им вслед глядят. Им служат подлость, обман и страх, В делах — жестокость и ложь — в словах. Остывший пепел за их спиной, И кровью залит весь шар земной.Выразительно глянул на Годунова — силен, мол, — и продолжил, возвышая голос:
— Солдат немецкий, себе не лги, Не то падешь у реки Оки. Преступник правит страной твоей, Ты кровь и пот за него не лей. Тебе убийца кричит: «Вперед!» Но есть Отчизна и твой народ. И ты рабочим — не враг, а брат. Ты за свободу борись, солдат.Опять поднял голову, посмотрел с прищуром:
— Откуда ж ты взялся такой… поэт?
Интересный вопрос, однако. Годунов ограничился тем, что скромно пожал плечами.
— Да какой я поэт. Так, любитель.
— Может, ещё чего есть подходящее? Нет? Невеликая печаль, обойдемся тем, что есть. Ты погляди, как сказано, а?
Народы мира, сплотите силы, Разбейте орды, что сеют зло. А чтоб вернее рука разила, Свободы солнце для вас взошло.[2]— Найдешь кого, чтоб исполнили?
— Надо — значит найду, — уверил партсекретарь, складывая бумаги в картонную папку. — Ну, счастливо тебе, товарищ старший майор. Конь не выдаст, враг не съест, свидимся…
…Годунов выключил лампу, снова прилег. Почему он тогда, в школе, написал в переложении про Оку? В оригинале же Волга была. Местечковый патриотизм? Или рифму искать легче было? А может, посетило его тогда предчувствие, к сознанию не пробилось, а подсознанию что-то да нашептало?..
Три часа сна — роскошь, какой грех не воспользоваться. А ты продолжаешь пялиться в потолок и думать. Думать о тех, кого этой ночью разбудят посыльные. О людях, которые уже вовлечены в происходящее и которых только предстоит вовлечь. Судьбы меняются. И никак не узнать, как отразится на одной судьбе создаваемая тобой, Саня Годунов, альтернатива. Игнатова вот. Или необыкновенного старика с княжеской фамилией Оболенский. Или бригвоенврача… как его фамилия? Смирнов?
Да, верно. Как же ты сразу не сообразил-то?! И что с того, что Смирновых на Руси едва ли не больше, чем Ивановых-Петровых? С должностью фамилию соотнеси — и все очевидно, очевидней некуда.
Вспомнилась книга, что стояла в ряду других самых любимых на полке над письменным столом. На внешней стороне истёртой бумажной обложки значилось: М. Мартынов, А. Эвентов, «Подпольный госпиталь». На внутренней каллиграфическим почерком было выведено: «Александру от Надежды в день 23 февраля». Надя-Надежда-Надюха, соседка по парте и первая любовь четырнадцатилетнего Саньки. Она превозносила до небес его стихи и не таясь посмеивалась над увлечённостью краеведением. А книжку всё ж таки подарила… Одним из героев этой документальной повести был Вениамин Александрович Смирнов, главный врач «русской больницы», спасшей сотни людей — военнопленных и горожан. Тот самый бригвоенврач, который сегодня так отчаянно вцепился в возможность эвакуировать раненых…
Судьбы меняются. И ты, к счастью, всё-таки видишь — как.
Глава 11
30 сентября 1941 года,
Орёл
Сержант Дёмин тоже не спал — впотьмах огонёк папиросы казался почти что красным, тревожным.
«М-да, вот так и начинают грешить излишней впечатлительностью», — укорил внутренний голос.
Узнав, куда предстоит ехать, комсомолец — наверняка ведь комсомолец, сто из ста, — Дёмин удивления не выказал. А может, и вправду не удивился. В ночных сумерках, когда лицо едва различимо, чужая душа — вдвойне потёмки.
Автомобиль прогромыхал-пророкотал по смутно знакомым Годунову улицам. Смутно? Да неужели? Вон по правому борту белеет — совсем не нарядно, нет, потерянно и грустно, церковь Михаила Архангела, по левому величественно багровеет терем Центробанка…
Терем-терем-теремок, кто в теремочке живет?.. Вот сдашь ты, Александр Василич, Орёл — будет в этом тереме тюрьма. В глубоких, предназначенных под деньгохранилище подвалах. А выше, в комнатах со стрельчатыми оконцами, чины в гестаповских мундирах с вошедшей в поговорку немецкой педантичностью будут размеренно воплощать в жизнь план «Ост». По заранее установленным дням к этим вот кружевным кованым воротам под бравурные марши, ревущие из репродукторов, будут подъезжать машины и вывозить людей на расстрелы. Горючку беречь потребно, немцы — народ практичный, экономный, избытком стратегических ресурсов не избалованный, так что места расстрелов определят поблизости. У той же, к примеру, Малой Гати, от которой подросток Санька Годунов доходил до центра города за пару часов, а как-то на спор и за полтора управился. У приятеля на Гати была… будет дача. Собираясь тайком от родителей попить пивка, они вперемежку с детскими страшилками будут рассказывать друг другу услышанные от бабок-дедов местные легенды. Когда с усмешкой, а когда и с оглядкой. Вполголоса. Потому что действительно — жутко. Тогда-то Санька и узнает: кто-то из здешних осенью сорок второго нашел в придорожных кустах бутылочку с соской. И пошла гулять по Гати и за пределами леденящая кровь история о молодой женщине, расстрелянной вместе с младенцем.
Санька тогда в эту историю не поверил. Начитанный он был пацан, даже мудреное слово «клише» выучил, коим иной раз щеголял перед приятелями, игнорируя насмешки. Прочёл и перечитал, а не просто «осилил» по требованию учителей, как иные одноклассники, большущий роман «Молодая гвардия», крепко впечатлился — и вдогонку пару-тройку документальных книг по этой же теме пролистал. Помнил, что в самом начале оккупации Краснодона казнили три десятка шахтеров и советских служащих и что была среди них женщина с грудным ребенком. А потом и имя женщины узнал, у Фадеева не упомянутое, — Евгения Саранча. Так что в историю о безымянной орловчанке не поверил… И не верил бы по сей день, если бы много лет спустя ему, уже сменившему неблагодарную службу на ещё более неблагодарный школьный труд, один хороший человек, в прошлом тоже военмор, а ныне комиссар поискового отряда, не назвал имя: Мария. Мария Земская, подпольщица из группы Владимира Сечкина…
…Стоп! Как Оболенский назвал священника?!
Может, конечно, очередное совпадение, да вот все меньше и меньше верится в игру случая, и все больше — в знаки судьбы. И плевать, что пафосно звучит… тут до реально происходящего никакой патетике не подняться!
По обе стороны улицы потянулись Торговые ряды. Непривычно приземистые, двухэтажные, как на старых открытках. Ну да, третий надстроят уже после войны. После всего того, что только ещё предстоит. Витрины и окна местами закрыты фанерными щитами, местами — кое-как заколочены досками. Только что мысли шагали сомкнутым строем, серьёзные, строгие, соответствующие ситуации, — да выскочила поперёк одна, в пёстрой одежонке аллегории: вот он, дескать, зримый символ обороны Орла, полюбуйтесь — где хорошо пригнанный щит, а где наскоро прибитые доски. И ничего не поделаешь, хоть убейся.
Проехали по Красному мосту, который так и тянуло поименовать Мариинским: колонны на въезде, металлическая, но совсем не тяжеловесная вязь ограждения. В реальной истории, понемногу утрачивающей реальность, его взорвут гитлеровцы. При отступлении. Давняя, очень давняя непонятка: наши-то почему не взорвали? Танки прошли по старому Красному с шиком, как через несколько десятилетий по новому Красному будут ездить к мемориалу танкистам-освободителям свадебные кортежи. Нечем было? Некому? По итогам совещания Годунов уверенно мог сказать: эти предположения истине не соответствуют. Приказа ждали? От кого? Не от того ли, кто примет на себя ответственность за оборону… и за отступление? Именно такой вывод и напрашивается…
Он и сам толком не знал, зачем ему понадобилась ехать. То есть, рационально объяснить не смог бы… да и кому оно нужно, это «рационально»? Для Дёмина существуют субординация и приказ. А в начальственной голове товарища Годунова от рациональных мыслей и мыслишек не протолкнуться, так что от некоторого иррациональных заметно теснее не станет.
Вообще-то одинокую эмку из штабного гаража, везущую столь ценный груз, как целый старший майор госбезопасности, должны были бы остановить. Самый простой и реалистичный вариант — ещё на выезде, верные сподвижники, терзаемые беспокойством о судьбе высокого начальства или подозрениями на его счет. Но все они, к счастью, были слишком заняты. При киношно-авантюрном ходе событий путь преградили бы суровые мужики в васильковых фуражках, после чего непременно начался политический детектив со шпионскими играми и с застенками НКВД либо боевик с погонями и пострелушками. Ну а в прифронтовом городе — кто угодно. Те же чекисты. Или милиция. Или ребята из истребительного батальона…
И всё же машину никто не остановил. Город спал, что называется, мирным сном. Успокаивать себя, списывая сей прискорбный факт на то, что путешествие продлилось от силы четверть часа, Годунов не имел права. И сделал выводы. На самое что ни на есть ближайшее будущее. Что ещё не учтено, не оговорено? Ясно, что до фига всего. И с этим «до фига» придётся разбираться по мере возникновения проблем. Насколько хватит времени и возможностей.
Ну а пока… Пока он велел припарковаться у Первомайского сквера.
В том прошлом-будущем, о котором он знал из книг да из рассказов своих стариков и которое теперь может и не настать (хотелось верить — не настанет), Первомайский в дни оккупации — в одночасье и на долгие месяцы — превратится в лобное место. Вешать будут прямо на деревьях, не утруждая себя сооружением виселиц. Нарушение комендантского часа, возвращение в город от деревенской родни не большаком, а непроезжей дорогой, саботаж… И сколько бы конвенций ни заключалось до и после, сколько бы ни предпринималось попыток сделать войну сугубо мужским занятием, она никогда не станет только чередой оборонительных сражений и наступлений, позиционных боёв и атак. То, что будет происходить в оккупированном Орле, — тоже война. И кем, как не бойцами, считать двух подростков, которых повесят на одном из этих деревьев — совершенно не хотелось предполагать, на каком именно, — за отказ нести трудовую повинность. То есть — работать на оккупантов. Бабкина старшая сестра видела, а потом всю жизнь забыть не могла.
Двое мальчишек, ровесники его школяров. Двое из нескольких сотен повещенных. Двое из нескольких тысяч казненных в Первомайском сквере, в городском парке, во дворе Орловского централа… В лихолетье первыми всегда уходят самые отважные и отчаянные. Не потому ли генетически закрепляется трусливое благоразумие, чтобы предопределить судьбу последующих поколений: моя хата с краю, в ней свеженький евроремонт, и мысли мои — сплошь общечеловеческие, то есть обо всех — и ни о ком, кроме себя.
А в августе сорок третьего здесь, в сквере, похоронят тех, кто крепко-накрепко помнил, что это такое — воинский долг и что означают слова «за други своя». И станет Первомайский сквером Танкистов, и через него, через обновленный, пройдёт множество личных историй, в том числе и его, Саньки Годунова, юнармейца рубежа семидесятых-восьмидесятых, история.
А ещё через тридцать лет будут нести Вахту Памяти у «тридцатьчетверки» и Вечного Огня его юнги. И попутно — сдавать самые разнообразные зачёты, от разборки-сборки автомата до исторической справки об этом месте. Тогда-то Годунов и узнает, что ещё раньше была на этом месте Ильинская площадь с часовней Александра Невского…
Морским узлом связалась твоя, Александр свет Василич, личная история с той, что известна тебе по книжкам. В той, прежней, реальности через шестьдесят лет построят на юго-западной окраине, рядом с твоей типовой пятиэтажкой, новую часовню Александра Невского — в память о защитниках города. Может, и в этой тоже…
Прежде чем пересечь улицу Сталина, зачем-то оглянулся. Вот ведь молодёжь! Снова дымит! Взрослее он так себя чувствует, что ли? Или просто увереннее?
Нестерпимо захотелось курить, хотя обычно — к неизменному удивлению всех курящих приятелей — Годунов управлял этой привычкой, как ему заблагорассудится. Помнится, ещё дед, когда Санька приехал в свой первый отпуск в Фоминку, заприметил эту, как тогда же выразился «чудаканутость» и сделал вывод в своей обычной манере:
— Знать, лиха ты, Шурка, ещё ни разу полной мерой не хватил.
И вот сейчас, ранним утром, шутка ли сказать, 30 сентября 1941 года, в Первомайском сквере, который не стал ещё сквером Танкистов, Александр Васильевич Годунов, застрявший между двумя временами и атакованный разом с двух флангов мыслями о будущем, которое только вчера было далеким прошлым, и о прошлом, которое осталось в будущем, захотел курить. До скрежета зубовного, до рези в животе. Но «Дюбек» не пережил ночи интенсивных размышлений, а клянчить, пускай и с горделиво-начальственным видом, курево у подчинённого — моветон.
И Годунов, сделав поворот налево кругом, широким шагом двинулся в сторону двух церквей, Преображенской и Покровской.
Он помнил их по фотографиям, сделанным дедом-фотолюбителем; мамина семья жила тогда в полутора сотнях шагов отсюда, в маленьком домике послевоенной постройки.
На фото церкви были без куполов, с обнажившейся каменной кладкой, калеченные-перекалеченные. Саньке почему-то до оторопи жутко было смотреть на эти снимки, страшней, чем на фотографии развалин после бомбёжки, а признаться в такой вот слабости — стыдно. И однажды он изорвал их и выбросил из окна, обрывки унес ветер и… и ничего, фотографий никто не хватился.
Потом доводилось видеть в дорогущих подарочных фолиантах, выпускаемых местными книгоиздательствами, дореволюционные открытки и читать, что Преображенская и Покровская были едва ли не красивейшими церквями Орла. Но фотографии не давали об этом ни малейшего представления: церкви были сняты как будто бы между прочим, куда больше внимания уделялось мосту, и Торговым рядам, и лавкам у Ильинки… да просто бытовым сценкам.
Сейчас Годунов понял — в кои-то веки не соврали краеведы. Церкви, даже без крестов и с кое-где осыпавшейся штукатуркой, были хороши. И, соседствуя, подчеркивали символичное различие: Покровская — женственно-стройная, слегка угловатая, сразу вспомнилась бабкина припевка: «Покров, Покров, Покровушко, покой мою головушку…», Преображенская — мощная, строгая.
Покровская на замке — большущем навесном, ещё не успевшем приржаветь. Одна из дверных створок Преображенской приоткрыта.
И он шагнул в зыбкий полумрак, и шёл ощупью меж стеллажей и ящиков, пока его не окликнули.
— Ищете кого, нет?
Из-за громады шкафа выступила, как в первую минуту показалось Годунову, девочка-подросток, малюсенькая, худюсенькая, укутанная в бабушкин пуховый платок.
— Кого вам? — повторила она тоненьким надтреснутым голоском и высоко, чуть ли не на вытянутой руке, подняла восковую свечку. Лицо — старушечье лицо — тоже показалось Годунову восковым, черты мягкие, будто оплывающие.
— Ищу. Мне Ивана Григорьевича повидать бы.
Старушка неторопливо оглядела пришедшего с ног до головы, сказала без какого бы то ни было выражения:
— Были уже ваши. Посланец приезжал.
— Посыльный, — машинально поправил Годунов. Бабуля, судя по всему, и в званиях не разбирается, ей что старший сержант, что старший майор — без разницы, так что толку от долгих речей никакого.
— Батюшку-то спервоначала дома искали. Ну так дома он уже вторую, почитай, неделю не бывает, как погорельцы тут у нас поселились, — её голос зазвучал размеренно, сказово. — Разбомбленные с Выгонного, соседи, значит, батюшкины, а потом ещё с Ильинского да с Московского. Батюшка одну семью, у кого мал мала меньше, к себе поселил, а остальных, значит, — сюда.
Умолкла. Постояла, покачивая головой, будто решаясь. Годунов подумал было, что сейчас она пойдёт, наконец, за Земским. Ан нет — вековечным неторопливо-тягучим бабьим движением поправила выбившуюся из-под платка прядь на удивление темных волос, проговорила все таким же ровным голосом:
— Никишкин третьего дня приходил, уж так ругался, так ругался. Что ж вы, говорит, в государственном учреждении странноприимный дом устроили… нет, не так сказал — гостиницу, говорит, устроили…
Снова помолчала, испытующе поглядела на Годунова: дескать, от тебя чего ждать-то, мил человек? И наконец почти торжествующе заключила:
— Ну вот, уже и к заутрене батюшку будить пора. Совсем он за эти дни умаялся с погорельцами, пока перебраться-то помогал, а нынче в ночь ваш приехал…
Вот оно, значит, в чем-то дело! Бабуля выжидала, минутки сна для отца Иоанна выгадывала. Ох, ну и вредная же старушенция… но молодец, за своих горой.
— Я вот чего сказать-то хотела, — в её голос прибавилось строгости, а звонкости поубавилось. — Ежели вы к нему не насчёт погорельцев, а смущать явились, идите-ка вы лучше с миром.
— Смущать? — удивленно переспросил Годунов.
— Не по сану ему брать в руки оружие.
— Я не совсем понимаю…
Нет, надо всё-таки настоять на немедленной встрече со священником. В странноватый диалог бабуля втягивает, только сейчас до религиозной философии…
— Вы, мирские, мыслите по-мирски, — принялась терпеливо, словно увещевая, втолковывать старушка. — И не верите, что придет день, когда и вы постигнете, что на все воля Божия. Ваше оружие — танки там всякие, пулемёты с самолётами…
«Ох, бабушка, кабы были б они, танки-то с самолётами! Твоими бы устами да мед пить!» — с нарастающей тоской подумал Годунов.
— …а наше оружие — молитва. «Не моя воля, но Твоя да будет…» Так-то.
— Даже если убивать придут? — вырвалось у Годунова. — А они ведь придут…
— Все в руце Божией — и живот, и смерть.
И такой безнадёжностью повеяло от этой фразы, что Годунов поспешил возразить:
— А народ издревле говорил: на Бога надейся, да сам не плошай.
Наверное, вышло громковато: старушка сердито цыкнула. И вздохнула сокрушенно.
— В гордыне своей человецы порешили, что сами своей судьбой руководят. Нет бы сперва Бога попросить на путь истинный наставить, а потом уж, помолясь, и взяться, как деды брались да отпор давали супостату. Авось и в этот раз перемогли бы, — опять вздохнула и добавила то ли обиженно, то ли жалобно: — Батюшка посланнику-то вашему ни да, ни нет не сказал. Времени до утра попросил. Да только вижу, взыграла в нём кровь, вспомнились ему дела мирские. И молились мы рядышком. Он — чтобы Господь путь указал, а я, грешная, — чтоб не дал Господь ему от обетов отступиться.
И, горестно всплеснув руками, — огонёк свечи затрепетал, силясь выровняться, — быстро-быстро зашептала, словно торопясь отогнать беду:
— Вы ведь его не знаете, он же, ежели что, сам себя изведет…
— И всё-таки я настаиваю на личной беседе, — отчеканил Годунов.
И снова зримо — до ломоты в висках — ощутил, как одна судьба соединяется, намертво сцепляется с тысячами других.
— Нам ещё заутреню служить, — в тон ему напомнила собеседница.
— Вам? — переспросил Годунов.
— Я псаломщица здешняя. Была. И, даст Бог, буду.
— Кто к нам, Стеша? — тихо спросили темноты.
— Военный, — пробурчала старушка. — К вам.
И столько всего было в этом коротком, в полвыдоха, «к вам» — от обожания до осуждения, — что Годунову на мгновение стало неловко: вломился, понимаешь, в чужую жизнь, людей баламутит…
— Так что ж его ждать-то заставила? У людей военных, Степанидушка, сейчас забот поболе нашего, — мягко укорил отец Иоанн, приблизился, ступая едва слышно, и зажёг керосинку, приделанную к стене на уровне плеча. — Прошу меня простить, крепко, видать, заснул. Давно меня дожидаетесь?
Был он невысок ростом и худощав, в неярком, воскового оттенка свете седые его волосы казались желтоватыми, а лицо — тёмным, как лик на иконе. А так — самое обыкновенное лицо. Но Годунов почему-то был уверен — запоминающееся.
— Не то чтобы… но и время, как вы верно подметили, поджимает, и сильно — ответил он, интуитивно чувствуя, что играть в дипломата резона нет.
— Понимаю, — все так же тихо проговорил священник.
Годунову вспомнился вдруг сосед, подполковник-зенитчик, с меньшим сыном которого он, Санька, в ранней юности приятельствовал. К тому времени Василий Григорьевич давно уже вышел в отставку, работал в какой-то конторе с техническим уклоном, но командный артиллерийский басок был так же неистребим, как и украинский акцент. А отец Иоанн казался настолько далеким от военной службы человеком, что Годунов волей-неволей задумался: не вышло ли ошибки?.. хотя какая тут может быть ошибка?
— Вы за ответом? — несколько удивленно спросил Земской. — Извините, я не очень-то понимаю в нынешних чинах, однако же…
Однако же понимания вполне хватило, чтобы сообразить: визитер — большая шишка, такие для разговора не сами приезжают, а к себе приглашают. И что отвечать? Мимо шёл, решил заглянуть?
Сочинять правдоподобный ответ не хотелось. Усталость навалилась раненым медведем — опасная усталость, такой нельзя поддаваться, потом не встанешь.
Помедлив, Годунов признался:
— И да, и нет. Мне, честно говоря, в голову не приходило, что вы будете колебаться с ответом…
Поймал на себе укоризненный взгляд Степаниды.
— Но если вы сейчас готовы дать ответ, буду вам искренне признателен. Потому как больше времени на размышления у нас действительно нет.
— Всему своё время, и время всякой вещи под небом… — медленно, будто не к Годунову обращаясь, а ведя разговор с самим собой, проговорил отец Иоанн. — Время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное, время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить… — как бы невзначай погладил ладонью серовато-белую стену и продолжал, словно невидимые метки ставя: — Время плакать и время смеяться… время сетовать и время плясать… время разбрасывать камни и время собирать камни… время обнимать и время уклоняться от объятий… время искать и время терять… время сберегать и время бросать… время раздирать и время сшивать… время молчать и время говорить… время любить и время ненавидеть… время войне и время миру.
Пока священник говорил, Годунов силился понять, чего больше в этих словах — безнадёжности или надежды.
— Кто находится между живыми, тому есть ещё надежда, — Земской как будто бы подслушал его мысли. — Екклесиаст. В отроческие-то годы читали, небось? Вы можете мне не поверить, но время есть всегда. На этом свете человек вне времени не живет. Только разное оно, время-то. И тот, кто не убоится сегодняшней беды, завтра познает радость. А тот, кто сегодня убоится, тому и завтра в страхе пребывать. Ну да не буду испытывать ваше терпение. Скажите, куда и к какому часу я прибыть должен.
Степанида потрясенно охнула.
— Не надо, Стеша, ничего сейчас не говори, — попросил отец Иоанн. — Помнишь ведь: «что обещал, исполни…лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить».
— Тебя ж сана лишат, батюшка, — в голосе старой псаломщицы прорвались причитания. — И грех, грех великий…
— А не случится ли, что ещё больший грех свершу, отказав ближнему своему в защите? — ровным голосом спросил священник. — Будет на то воля Его, переможем. А что в наших силах, то сделаем, ибо сказано: все, что может рука твоя делать, по силам делай…
— Они на пряжках своих пишут «Gott mit uns», — глухо сказал Годунов, сам не понимая, зачем.
— Имя Божие на устах, страсти мирские в сердце… недобрые страсти, — тихо проговорил отец Иоанн. — Не ново. Издревле так было. — Помолчал, будто бы на что-то решаясь. — Пойдёмте, — и взял у Степаниды свечу.
Пока Годунов вслед за священником пробирался меж ящиков и стеллажей вглубь храма, его не покидало ощущение… почему-то не хотелось даже мысленно называть его фривольным словечком «дежавю». Ощущение ранее виденного, так будет правильно. Словно он здесь уже был.
В тусклом свете побелка на стенах казалась где блекло-серой, где пергаментно-желтой. Из-под сводов взирали с не закрашенных фресок святые, и было в их лицах одобрительное понимание. Они ведь тоже наделены послезнанием, — эта странное соображение почему-то успокаивало.
Несколько коробок с бумагами. Мелькнула шальная мыслишка: а вдруг и это не случайно? Вдруг его попаданчество — всего лишь краткий вояж, который начался в одном архиве и должен завершиться в другом? Что если порыться в бумагах — ан как пропуск назад отыщется?.. Себе-то не ври, Александр Васильевич, себе врать — последнее дело. Если бы ты точно знал, что он лежит-полеживает, тебя дожидается, ты вряд ли взялся бы его искать. И не потому что ты какой-то там герой, и тем паче не потому, что у тебя возникли мессианские амбиции. Просто когда-то давным-давно, во дни, как сказал классик, сомнений и тягостных раздумий, ты раз и навсегда определил для себя: если и есть в мире крепкий якорь и надёжный спасательный круг, так это данное тобою обещание. Как там батюшка сказал? Вспомнилось слово в слово: «Что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить». Ответ пусть не на все вопросы, но на многие.
На верёвках, протянутых от стеллажа к стеллажу, пестрели занавески. Погорельцы, понятно, уже обжились, отделили себе клетушки. Слышно было сонное посапывание. Коротко всплакнул во сне ребенок. Годунов едва не споткнулся о трехколёсный велосипед. И в этот момент вдруг понял, откуда оно, это самое ощущение. Такое же возникало у него при чтении хороших — правдивых, то есть, — исторических романов.
Которые остаются жизнеутверждающими, какие бы трагедии в них ни разворачивались.
У восточной стены — надо понимать, там, где раньше возвышался алтарь, — на конторском столе, покрытом кружевной скатертью, расставлены были иконы, одни — в тяжёлых металлических рамах, другие — в простеньких деревянных, а то и вовсе не обрамлённые. Степанида, молча шедшая сзади, так же молча обошла, зажгла лампаду и отступила в сторонку. Годунов не смотрел на неё, но чувствовал на себе её пристальный строгий взгляд.
— Я понимаю, что вы отвергаете мысль о Боге сущем, — все тем же ровным голосом заговорил отец Иоанн. — Однако же вера живёт в каждом из нас, в одних горит, в других тлеет, и никому не ведомо, откуда прилетит ветер, который раздует пламя. У вас есть своя вера, которая понуждает вас действовать так, а не иначе. И сейчас — ко благу. Вам ведь тоже это нужно — укрепиться духом. Помолитесь со мной. Как чувствуете, как умеете.
Годунов проследил за его взглядом: на маленькой, чуть побольше ладони, дощечке, на осенне-желтом фоне изображен был русоволосый воин в византийском доспехе. На голове — венец, похожий на церковный купол, на плечах — царская алая мантия, подбитая горностаем, в правой руке — воздетый крест, в левой — меч, упирающийся остриём в каменистую тропу, а за спиной — церковь с куполами-шлемами. Не просто церковь — твердыня. Но он, воин, эту твердыню защищает. Ещё на подступах к ней. На ближних подступах.
— Скорый помощниче всех, усердно к тебе прибегающих и тёплый наш пред Господем предстателю, святый благоверный великий княже Александре! Призри милостивно на ныне достойныя, многими беззаконии непотребны себе сотворишия, к иконе твоей ныне притекающия и из глубины сердца к тебе взывающия: ты в житии своем ревнитель и защитник Православныя веры был еси, и нас в ней тёплыми твоими к Богу молитвами непоколебимы утверди…
Отец Иоанн ненадолго умолк, коротко взглянул на беззвучно повторяющую слова молитвы Степаниду, перевел взгляд на Годунова. Не вопрошая — ободряя. И снова заговорил:
— …Ты великое, возложенное на тя, служение тщательно проходил еси, и нас твоею помощию пребывати коего ждо, в неже призван есть, настави. Ты, победив полки супостатов, от пределов Российских отгнал еси, и на нас ополчающихся всех видимых и невидимых врагов низложи…
Счастливый ты всё-таки человек, Годунов. Потому что знаешь: Победа всё равно будет. Не веришь — знаешь. Сколько бы ни продержался Орёл — сутки, трое, неделю — она придет. Не позднее, чем девятого мая сорок пятого. Тебе легче, потому что ты знаешь…
— …Ты, оставив тленный венец царства земнаго, избрал еси безмолвное житие, и ныне праведно венцем нетленным увенчанный, на небесех царствуеши, исходатайствуй и нам, смиренно молим тя, житие тихое и безмятежное и к вечному Царствию шествие неуклонное твоим предстательством устрой нам…
Годунов обернулся на едва слышный шорох. Поодаль стояла девушка в светлом платье, тёмные косы уложены венцом, у ног — узел. Молчала. Ждала.
— …Предстоя же со всеми святыми престолу Божию, молися о всех православных христианах, да сохранит их Господь Бог Своею благодатию в мире, здравии, долгоденствии и всяком благополучии в должайшая лета, да присно славим и благословим Бога, в Троице Святей славимаго Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Священник медленно осенил себя крестным знамением. Посмотрел на девушку.
— Что ты, Машенька?
— Я вещи принесла. Не очень много, все, что собрать успела. Макаровы помогли, дед Петро, даже переселенцы наши. Главное — пеленки для Сёмушки. Валюша поделилась, — девушка улыбнулась, но заметно было — напряженно, тревожно.
— Что ж ты пешком да по темноте? — встревоженно проворчала Степанида.
— Да чего тут идти-то, тёть Стеш? И когда б я потом пришла? Оглянуться не успеешь — на работу пора, а до вечера дело не ждет.
— Племянница моя Мария, — пояснил священник Годунову. — Одёжу для погорельцев принесла. Подожди меня тут, Машенька, я гостя провожу, а там и поговорим.
— Тороплюсь я, дядь Вань, мне ещё для Валюшки сготовить…
Она и вправду торопилась, частила, едва переводя дух. «Как будто бы боль заговаривает», — подумалось Годунову. Вот и Степанида, и отец Иоанн глядят на неё, почти не тая тревоги.
Вышли вчетвером, последней, чуть приотстав, Степанида. Мария, поспешно простившись, ушла.
— Вы на неё не серчайте, — почему-то шепотом проговорила Степанида. — Муж у неё без вести пропал, на той ещё неделе…
— Тут вот ещё какой вопрос, — как будто бы продолжая разговор, прервал псаломщицу отец Иоанн. — Я ж при архиве числюсь. Иные документы вывезли, а осталось-то куда больше.
— Не волнуйтесь, с этого дня вы по другому ведомству. Кому бумаги ваши передоверить, найдём, — он отвечал священнику, а думал о его племяннице. Об очередной случайной-неслучайной встрече.
Нет, не легче тебе от того, что ты знаешь, ничуть не легче!
В дороге он опять не смог ни подремать, ни подумать о предстоящем. В мыслях было другое. Личное, иначе и не скажешь.
Вспоминался отец. В одну из последних встреч зашёл у них разговор, почему Годунов-старший так и не вступил в партию. Отец ответил сразу, видать, сам себе на этот вопрос давненько ответил:
— На фронте-то я ещё комсомольцем был. Потом как-то замешкался, пока к гражданской жизни привыкал да по городам и весям мыкался. А как дозрел, понял, что делать мне в партии уже нечего. Настоящие коммунисты, те, которые большевики, — бросил взгляд из-под насупленных бровей, будто сомневаясь, что сын поймет, — они либо в войну полегли, либо вернулись и честно, никого не подсиживая, трудились… под руководством прохиндеев с партбилетами, из которых потом нынешние жирные коты повырастали. С кошачьей психологией, угу. Послаще пожрать, покрепче поспать и нагадить так, чтобы за это ничего не было. Да и маленькие люди, вроде меня вот, зачем в партию шли? — Вопрос был явно риторический, так что Годунов-младший счел за благо промолчать. — Должностишку получить, чтоб большим человеком себя почувствовать да лишний полтинник к окладу приплюсовать? В очереди на квартиру беспартийных соседей обогнать? Просто потому, что все идут, ну, и я за компанию, вроде как в пивбар или в баню. А какое, простите, отношение это имеет к заветам марксизма-ленинизма? Обратно пропорциональное?
Отец и на старости лет оставался мужиком въедливым, да и попросту едким.
А вот мама, коммунист с тридцатилетним стажем, вдруг начала ходить в церковь. После того как одним осенним утром заводское начальство, тоже сплошь партийное и ходившее в первых рядах на первомайские демонстрации, устроило на проходной демонстрацию иного рода. Возле вахтёрской будки стояли главный кадровик и председатель профсоюза. Не просто так стоял, а на посту возле объемистой металлической урны, изготовленной здесь же, на заводе, в качестве популярного в те годы ширпотреба.
— Партбилет!
Мама говорила, что в первую минуту вообще ничего не сообразила. А когда поняла, бросила. Только не партбилет в урну, а профсоюзный — в физиономию председателя. «А для тебя, — сказала она кадровику, — извини, кирпича не припасла».
После этого, заметил Годунов, что-то в маме надломилось. И она, всегда и во всем служившая опорой другим, принялась искать опору для себя, стеснительно и неумело. Как и многие в те годы.
Так неужели ему, Годунову, надо было вернуться на семьдесят лет назад, чтобы встретиться и с настоящим убежденным коммунистом, и с истинно верующим православным? С людьми, которые готовы были платить за свои идеалы любую цену?
А ещё подумалось: как бы ни трансформировалось сейчас будущее, как бы ни менялись судьбы, они должны выжить — беспокойная молодая женщина Мария, с корой судьба свела его на несколько минут, и те, о ком он только слышал — маленькая Валюшка и те двое пацанов, у которых хватило характера, чтобы не работать на оккупантов.
Город по-прежнему казался безлюдным и сонным. Но — только казался. Александр Васильевич знал: то, о чём говорилось на ночном совещании, уже начало воплощаться в жизнь. Создавая новую действительность.
Глава 12
30 сентября 1941 года,
Орёл
В три часа ночи по центральной улице Сталина пророкотала окрашенная в защитный цвет «эмка», свернула в Малаховский переулок и остановилась у калитки ничем не примечательного дома. Хлопнула дверца машины, и почти тотчас же раздался требовательный стук. Всполошено плесканул разноголосый собачий лай.
Спустя пару минут на крыльцо, прихрамывая, вышел хозяин в пальто, накинутом поверх белой исподней рубахи.
— Кто там? — он близоруко вглядывался в темноту.
— Товарищ Абрамов?
— Да, я… А что, собственно…
— Откройте. Я к вам по распоряжению штаба обороны города.
…Стук отпираемого засова калитки. Окрик на пса… Во двор входит человек в плащ-палатке.
— Товарищ Абрамов, получите и ознакомьтесь!
Из рук в руки переходит запечатанный пакет.
— Пройдемте в дом, прошу вас, пройдемте… — начинает суетиться хозяин.
Вновь распахивается дверь, ненадолго высветив силуэты на крыльце.
Спустя десять минут хозяин дома, уже одетый как полагается, с портфелем в руке, выходит следом за военным со двора и садится в машину, которая тут же срывается с места, вновь пробудив всю местную собачью братию.
Спустя полчаса директор областной радиоретрансляционной станции Виталий Исаакович Абрамов поднимается по ступеням Радиодома, на ходу предъявляя пропуск полусонному милиционеру.
Ещё через сорок с небольшим минут появляются две запыхавшиеся сотрудницы, сопровождаемые пареньком-ополченцем в необмятом красноармейском обмундировании…
…В половине пятого утра тридцатого сентября во всех уличных и домашних репродукторах города что-то защёлкало, прошуршало, и в неурочное время зазвенели такты «Интернационала». Когда мощная мелодия гимна страны отзвучала, проснувшиеся орловцы услышали привычный хорошо поставленный голос дикторши:
— К военнослужащим Красной Армии и жителям города Орёл и Орловской области!
Товарищи!
Обстановка на некоторых участках советско-германского фронта за последние сутки осложнилась. Имеют место прорывы линии фронта вражескими подразделениями. Возникла непосредственная угроза городу.
Приняв на себя командование Орловским оборонительным районом, ПРИКАЗЫВАЮ:
Первое. С нуля часов тридцатого сентября считать город Орёл и окрестности на военном положении. Всякое нарушение установленного порядка пресекать всеми имеющимися средствами вплоть до применения высшей меры социальной защиты.
Второе. Всё трудоспособное население в возрасте от шестнадцати до шестидесяти двух лет, за исключением беременных женщин, инвалидов с поражениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и нарушениями умственной деятельности, а также женщин, имеющих на иждивении детей в возрасте до двенадцати лет, объявляется мобилизованным на оборонительные работы. Лица же, поименованные выше, подлежат немедленной обязательной эвакуации из города и окрестностей в срок до двадцати одного часа первого октября сего года. Всем мобилизованным предписывается немедленно явиться к помещениям районных комитетов партии. Лица, работающие на оборонном производстве, переводятся на казарменное положение по месту работы. Граждане, сдавшие нормы ОСоАвиаХима на право ношения знаков «Ворошиловский стрелок» обеих ступеней, «Готов к санитарной обороне», «Готов к противохимической обороне», а также лица, служившие в старой армии в сапёрах, артиллерии и пулемётных командах, поступают в распоряжение непосредственно штаба обороны города. Им надлежит явиться к зданию областного военного комиссариата не позднее одиннадцати часов утра тридцатого сентября.
Третье. Все вооружённые подразделения, вне зависимости от ведомственной принадлежности, поступают в распоряжение штаба обороны города.
Четвертое. Все транспортные средства предприятий и населения вплоть до велосипедов взрослых образцов, объявляются реквизированными и должны быть сданы на нужды обороны.
Пятое…
Шестое…
Седьмое…
Подпись: командующий Орловским оборонительным районом Старший майор государственной безопасности Годунов».
Дикторша умолкла. В динамиках снова раздались шуршание и шелест, потом, видимо, игла патефона «поймала дорожку» — и вот на улицах и в домах загремел трубами, зазвенел тарельчатой медью «Марш-парад» Чернецкого…
* * *
С пяти утра гремел станок в типографии «Орловской правды», оттиск за оттиском печатая жёсткие строки приказа.
С шести почтальонши, привычно перекинув через плечо коленкоровые сумки и оседлав велосипеды, мчались по городу, останавливались на перекрёстках и у магазинов, расклеивали текст воззвания.
Полсуток раз за разом повторяла дикторша в микрофон: «Возникла непосредственная угроза…». Трансляция обращения сменялась записанной на чёрных патефонных пластинках музыкой, и вновь звучало: «К военнослужащим Красной Армии и жителям города Орёл и Орловской области!..»
Враг был у порога.
* * *
Танечка Кущина гордилась своей профессией. А что тут такого? Не каждая же девушка в СССР должна быть летчицей, как Раскова с Гризодубовой, или трактористкой-героиней, навроде Паши Ангелиной! Если каждая к штурвалу или, к примеру, к рычагам кинется, так на всех девчат Советского Союза никаких самолётов с тракторами не напасешься. Да и нужно ведь, чтобы кто-то одежду шил, и у кухонных котлов стоял, и, если захворает кто, уколы делал? У станков, опять же, надо кому-то работать? А с детворой возиться, хороших людей для любимого пролетарского государства растить? Все работы хороши, как лучший, талантливейший поэт нашей советской эпохи писал!
А после работы, понятное дело, каждой женщине хочется выглядеть привлекательно. Слава Труду, не в капиталистической стране живем, имеем возможность поприхорашиваться! По крайней мере, горожанки. В Доме быта можно и платьице новое заказать, и набойки на туфельки поставить, и причёску красивую соорудить вместе с холей ногтей. Уж Танечка-то точно знала, потому как трудилась как раз-таки в Доме быта мастером-парикмахером. Хорошо трудилась: её фотографический образ на почётной красной доске висел. Женщины в очередь к ней за два месяца записывались… А что такого? Садилась в кресло усталая, изработавшаяся тётка, а выходила из дверей Дома быта радостная миловидная женщина с прекрасной причёской и ухоженными ногтями, вот!
Разумеется, и свою внешность Танечка Кущина не запускала: всегда со стрижечкой, с укладочкой, всегда в отутюженном, ноготки маникюром переливаются. Даже как война началась, не изменила она своим привычкам, хотя и работала теперь на санпропускнике. Как и прежде, звонко щелкали в ловких пальчиках ножницы, вжикала машинка для стрижки — и сыпались на серые простыни и полы грязные волосы бойцов, командиров, беженцев… Порой, при большом наплыве обрабатываемых, пол был устлан волосами в несколько слоёв, как кошмой. Кошма местами шевелилась от вшей и гнид, по жирным волосам скользили подошвы… Но маникюр с Танюшиных ноготков не сходил никогда….
Но вот наступил предпоследний сентябрьский день, и на двери санпропускника повис тяжёлый тульский замок, а все работники отправились к райкому ВКП(б), согласно приказу о мобилизации. Отстоявших полтора часа в огромной очереди работниц санпропускника гамузом отправили получать стройинвентарь, одну только Кущину усталый морщинистый сержант с забинтованной шеей отделил от товарок:
— Больно ты, пигалица, субтильна… Не по тебе та работа будет.
— Как так? Всем — так по ним, а я, значит, недостойна?! — подбоченилась Танечка. — Это что же такое творится-то, а?! Да я на вас…
— Не гоношись, кажу! Будет и тебе дело по плечу. Почекай трошки.
Сержант поднялся из-за стола и, сбычив голову, прошёл в соседнюю комнату. Спустя минуту вернулся с бумагой:
— Так. Ты, товарищ Кущина, пойдешь сейчас вот по этому вот адресу, предъявишь направление и приступишь к работе.
И вот уже Танечка не парикмахер, а «боец Кущина», и работает она не в Доме быта, и не в санпропускнике, а на одном из окружных артскладов. И не ножницами с расческой орудует она: шомполом, да ершиком, да ветошью, да выколоткой. Не нашлось для Татьяны красноармейского обмундирования, и приходится прижимать покрытые тавотом пулемётные стволы прямо к голубенькой штатской жакетке. А как не прижимать-то? Они же ж, пулемёты эти крупнокалиберные, — тя-же-лючие! Надорваться можно очень даже запросто!
И ничего не поделаешь: смазку эту… как ее?.. консервационную до металла нужно снять, иначе, как объяснил тутошний оружейный мастер, пулемёты стрелять не годятся.
А потом — прочистить.
А потом снова смазать, на этот раз другим маслом — ружейным. А уж после вновь перетащить железины в ихние ящики. А их, ДШК этих проклятущих, — аж двести штук!
Приходят каждые двадцать-тридцать минут бойцы, получают ящики с пулемётами, патронами, гранаты, взрыватели… Уносят. Приходят следующие… И опять… И снова… Час за часом…
…За полночь Таня отволокла и уложила в ящик последний расконсервированный пулемёт. Подошла к столу для разборки, чтобы убрать щелочь, масло и все остальное хозяйство. Не успела. Присела на секундочку, спине отдых дать. И — словно повернули эбонитовый выключатель — провалилась в сон без сновидений.
Спала сидя, склонив растрепанную рыжую голову на перекрещенные ладони с потрескавшимися, чёрными от масла и тавота ногтями…
* * *
В самых счастливых своих снах Зина Ворогушина всегда гуляла по лесу. Обычно с подружками, порой одна, а случалось — с мальчишкой, лица которого почему-то никак не могла разглядеть, только пожатие руки ещё долго чувствовала после того как проснулась — как будто травинки приятно так кожу покалывали. Лес был летний, светлый, солнце всеми своими лучиками тянулось к земле, а земля — ему навстречу, всем, что на ней растет. Зина так однажды и написала в сочинении, и Клавдия Дмитриевна очень её хвалила. Учительница никогда не была щедрой на добрые слова, зато и ценились они выше похвальных листов. И увлекать примером Шкопинская умела, как никто другой — с ней и на прогулку по городу, и в поход по местам, где в девятнадцатом году наши громили деникинцев, и в краеведческий музей. Музей тоже как-то раз снился Зине, странно так снился — будто бы она ходила по залам и должна была найти что-то важное, а что — не понять.
А как началась война, ничего хорошего уже и не снилось, виделись обрывки сегодняшних событий вперемешку с тем, что предстояло сделать завтра. Даже во сне болели и зябли ноги. Сквозь дремоту вспоминалось: обязательно надо зашить тапки. Парусиновые тапочки — не лучшая обувь для осени, но что ж поделать, если удобные туфли на низком каблуке порвались ещё две недели назад? Надо бы выпроситься домой, поглядеть, может, ещё какая обувка найдется?..
Она слышала — или это ей только снилось? — как пришли ребята с патруля, глухо брякнула о край бака жестяная кружка, кто-то тихонько засмеялся. Нет, не сон. Смех точно не приснился бы… Хорошо, что и самое страшное тоже не снится. Не снится бомбёжка, под которую она с Тамаркой попала двадцать один… нет, уже двадцать два дня назад.
Зина и сама не знала, зачем считает. Считает дни, которых могло и не быть. Нельзя об этом думать, нельзя, иначе…
И она, чтобы снова заснуть, на этот раз уж наверняка, попробовала представить, как гуляет по лесу и солнечные лучики гладят её по плечам. А ноги зябнут — это просто роса холодная, скоро-скоро она высохнет, и…
Двадцать второго июня она тоже собиралась в лес. На целый день. Девчонки зашли за ней, она разволновалась, что ещё не готова — мама куда-то прибрала эти вот самые злополучные парусиновые тапочки. Наконец, вышли. А навстречу — соседка баба Настя, волосы из-под платка выбились, взгляд испуганный: «Девчата, радио слушали? Война!»
Почему-то в тот момент слово «война» совсем Зину не напугало. Не по себе стало от другого, вроде бы и не страшного: сумка соседки понизу набрякла синевато-красным, в пыли пролегла багровая дорожка, осы ползают. И только по дороге — не в лес, нет, в райком комсомола — девушка сообразила: это ж баба Настя попросту банку с вареньем до дома не донесла!
На углу Пушкинской их снова остановили, на этот раз тётя Лиза: «Девочки, война!» Зина попыталась представить себе, какая она — война.
А над головой — солнце, вокруг — веселая зелень и нарядная пестрота домов, под подошвами парусиновых тапочек — утоптанная дорога…
На ум приходили только обрывки занудных рассуждений из «Войны и мира». А потом и вовсе вспомнилось героическое и немножко озорное стихотворение Дениса Давыдова о партизане, зазвучало в такт шагам:
И мчится тайною тропой Воспрянувший с долины битвы Наездников веселый рой На отдалённые ловитвы. Как стая алчущих волков, Они долинами витают: То внемлют шороху, то вновь Безмолвно рыскать продолжают…И когда три сотни комсомольцев, знакомых Зине и не знакомых, но всё равно — её товарищей, — прямо здесь, в большом зале райкома, писали одни и те же слова: «Прошу отправить меня на фронт», она вывела на аккуратно вырванном из чьей-то школьной тетрадки листе: «Прошу направить меня в партизанский отряд…»
Оказалась вот в истребительном батальоне. Вместе с некоторыми из тех, кто просился на фронт.
Грозно звучит, по-военному: «истребительный батальон», «патрулирование». На самом же деле — обычное хождение вдвоём-втроем по городу, только долгое-предолгое, иной раз кажется — бесконечное. И одёжка собственная, повседневная, привычная, и обувь своя, разношенная, удобная… Так поначалу кажется, а потом всё равно стаптываешь ноги до кровавых мозолей.
А ещё постоянно ждёшь: не взлетит ли в небо ракета? Это значит, вот-вот начнут бомбить, надо со всех ног мчаться с докладом к командиру, известить, предупредить, чтобы жители спускались в бомбоубежища. А сами… а самим — как повезёт.
В первый раз не повезло им с Тамаркой двадцать два дня назад на Семинарке, возле железнодорожного техникума. Зина уткнулась носом в пахнущую сыростью траву и прикрыла голову руками. Не потому, что так учили, а чтоб от панического страха спрятаться. В небе надрывно гудело, гудело… а потом как ухнет! Земля ходуном заходила, на спину посыпалось — будто горох из порванного мешка. Зина не сразу услышала тишину — да, оказывается, тишину порой труднее услышать, чем крик и грохот. Неуверенно поднялась — и ноги чуть было снова не подкосились: шагах в десяти, как раз там, откуда они с Тамаркой ушли, зияла воронка.
Какое там «не повезло»! Ещё как повезло! «Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить!» — в который раз подумала Зина — и снова устыдилась: комсомолка, а как вспомнишь — лезут в голову бабкины суеверия.
Нет, надо думать о хорошем, только о хорошем… и тогда приснится лес.
Приснился. Летний, светлый… но почему-то всё равно было жутко. Зина знала, что не может уйти с этой вот поляны. Она не заблудилась, нет, вот утоптанная тропа, да и люди рядом — вон, в сосняке Тамаркин сарафан белеет. Но там, за лесом — что-то очень плохое, опасное…
— Зинка!.. — её тряс за плечо Пашка, веснушчатый мальчишка из двадцать восьмой школы. Давно пора было думать — «из нашего батальона», но так было привычнее. — Зинка, слушай! — и ткнул пальцем в сторону черной тарелки на стене.
«…Возникла непосредственная угроза городу.
Приняв на себя командование Орловским оборонительным районом, ПРИКАЗЫВАЮ:
Первое. С нуля часов тридцатого сентября считать город Орёл и окрестности на военном положении. Всякое нарушение установленного порядка пресекать всеми имеющимися средствами…»
— А времени-то сколько? — почему-то шепотом спросила Зина, хотя никто уже не спал.
— Пяти ещё нет, — торопливо ответил Пашка. — Подожди, не мешай.
— Что будет-то? — ещё тише, ни к кому не обращаясь, прошептала Зина.
«…Все трудоспособное население…
* * *
«…в возрасте от шестнадцати до шестидесяти двух лет, за исключением…»
Клавдия Дмитриевна Шкопинская подняла руку ладонью вперед, прося собеседника помолчать. Привычный жест, не раз помогавший ей установить тишину в классе, был хорошо знаком Саше Кочерову, и парень осекся на полуслове. Хоть и торопился: забежал перед работой к соседке и бывшей своей учительнице узнать, нет ли нового письма от её дочки Лиды — и, если уж совсем честно, нет ли там слова-другого о нем…
«…объявляется мобилизованным на оборонительные работы…»
— Что-то происходит, Саша, — неторопливо, ровно, будто бы размышляя вслух, заговорила учительница. — Что-то очень важное. Прямо скажу: я уже беспокоиться начинала, какой оборот наши дела примут. Потому и Лиду попросила остаться в Москве. Объяснила, что ей не следует прерывать учёбу. Это не ложь. Я, разумеется, не думаю, что полуправда лучше лжи, но…
Она помолчала, пристально вглядываясь в лицо Кочерова.
— Я уверена, что Москву не сдадут. Чего не могла бы с такой же убежденностью сказать об Орле. Не могла… — Шкопинская помолчала. — Не могла бы — сослагательное наклонение. Не могла — прошедшее время, — она горько улыбнулась уголками рта и повторила: — Что-то происходит… Саша, ты не знаешь, где можно раздобыть пару брезентовых рукавиц?
— Клавдия Дмитриевна, вы что, собираетесь на оборонительные работы пойти? — вскинулся Кочеров. — У вас же гипертония, вам нельзя…
— От тебя, Саша, я не ожидала, — учительница качнула головой. — Я полагала, ты зрело оцениваешь ситуацию и понимаешь, что сейчас не время…
— О чём вы, Клавдия Дмитриевна? — насторожился Кочеров.
— Не знаю, насколько это очевидно для других, но… ты ведь неспроста в городе остался? Разумеется, это вопрос риторический, однако же подумай.
— О чём? Вы ведь не хотите сказать…
— Слово «нельзя» было произнесено тобой, — напомнила Шкопинская. — Я же говорю о другом: на всякий случай подумай, как сделать очевидное неочевидным.
«…Все вооружённые подразделения, вне зависимости от ведомственной принадлежности…»
* * *
«…поступают в распоряжение штаба обороны города…» — женский голос звучал из репродуктора приглушённо и как будто бы устало.
— Я вам долго об конспирации гутарить не буду, — решительно подытожил Игнатов, переводя взгляд с одного своего собеседника, седоватого коренастого мужчины, на другого, худощавого интеллигента в круглых очках. — Сами люди сознательные, партийцы со стажем. Так какого ж… зачем, говорю, пришли? Ну, послушали радио. Ну, услышали то, чего вас не касается. Как коснется — первые узнаете, уж я озадачусь. А пока… Если навпростэць, я с вами беседу иметь всё равно собирался. Правда, за другое. К тебе, товарищ Жорес, такой вот вопрос: немецкий мал-мала знаешь? Есть у меня для тебя дело одно, на предмет пропаганды и, опять же ж, агитации…
Получасом ранее Михаил Суров совершенно неожиданно для себя столкнулся в коридоре обкома партии с Александром Николаевичем Комаровым, чаще именуемым Жоресом. Неожиданно? Да какое там! Коли что-то началось, куда ж людям идти-то, как не в обком?
Три месяца назад они уже были в этом кабинете; тогда Игнатов разговаривал с ними долго, обстоятельно, предварительно пообщавшись с каждым в отдельности. Директору двадцать шестой школы, инвалиду гражданской войны Комарову-Жоресу в случае оккупации Орла предстояло возглавить подпольную организацию, а слесарю завода имени Медведева Сурову — стать его правой рукой. Тогда представлялось: ну, это уж на всякий случай, ну не может такого быть, чтоб Орёл сдали. Потом иначе думалось. И вдруг — воззвание по радио…
— А ты, Михаил Андреич, мне как спец нужен. Текмашевцам сейчас слесаря до зарезу потребны. Поможешь соседям, а? Не в службу, а в дружбу: доскочи сейчас до Потапова…
Не только «доскочил», но и отработал полсмены: ничуть не преувеличил второй секретарь обкома насчёт «до зарезу». А вечером решил Суров заглянуть к двум Аннушкам — сестре и племяннице — в маленький частный домик на улице Сакко и Ванцетти. Уж у них-то наверняка есть новости!
Не ошибся.
* * *
«…Все транспортные средства предприятий и населения вплоть до велосипедов взрослых образцов, объявляются реквизированными и должны быть сданы на нужды обороны…»
Анна Андреевна Давыденко выпрямилась, давая отдых затекшей спине. Куда ж они могли подеваться, носки-то? Всегда лежали в нижнем ящике комода. А тёплые платки, увязанные в узел вместе с несколькими кусками дегтярного мыла — чтобы моль не заводилась, — должны были непременно обнаружиться на антресолях. Анна Андреевна каждой вещи определяла место раз и навсегда. Брат говорил — аккуратистка, дочь называла это свойство характера вычитанным в какой-то книжке словом «педантизм». А вот сейчас…
— Ладно, носки, но платки-то куда переложила?! Только что в руках держала! — пожаловалась она. — Ну просто из рук всё валится!
— Как Мамай прошёл, — усмехнулся Михаил Андреевич, сдвигая узлы в сторону и усаживаясь на край дивана. — Анютку собираешь?
— А кого ж еще? Она час назад забегала, говорит, всё ж таки эвакуируют их. Надо хотя б тёплые вещи. И покушать чего-нибудь, чтоб домашнее. Она зайти обещала, но когда — сама не знает.
— Да посиди ты маленько, не мельтеши! А то и вовсе растеряешься, глядишь — и себя не найдешь. В случае чего сами отнесем, чего тут идти-то до той Володарки?
— Неспокойно мне, Миш, — призналась Анна Андреевна. — Аннушка-то в первый раз из дома…
— С чего это неспокойно? Ты ж её в эвакуацию отправляешь, не на фронт.
— Да ты ведь знаешь, мне хорошо, когда мы все вместе, — женщина вздохнула, помолчала. — Ну где же, всё-таки, носки?.. Миш, я вот ещё что думаю: надо прям сегодня сдать Аннушкин велосипед, а то кто его знает, что завтра-то будет.
* * *
«К военнослужащим Красной Армии и жителям города Орёл и Орловской области!
Товарищи!
Обстановка на советско-германском фронте на некоторых участках за последние сутки осложнилась, имеют место прорывы линии фронта вражескими подразделениями. Возникла непосредственная угроза городу…»
Аня очнулась. Оказывается, можно уснуть не то что стоя — на ходу. Прислонилась к стене на минуточку, чтобы коробку с медикаментами не выронить, — и уснула. Хорошо еще, что над самым ухом репродуктор заговорил… и что ношу свою она крепко держала.
Подходило к концу суточное дежурство, когда по коридору стремительно прошагала старшая медсестра, на ходу созывая персонал на совещание.
Совещание больше напоминало инструктаж и продлилось минут пятнадцать, не больше. Сразу же началась подготовка к эвакуации госпиталя. А потом пришли машины. Мало, всего-то две. И Клавочка, когда выносили лежачих, подвернула ногу. Или это было во второй рейс? Все в голове перепуталось! А вот биксу с перевязочным материалом Галка уронила точно во второй! Надо идти, а то руки слабеют, как бы не…
* * *
«…командующий Орловским оборонительным районом старший майор государственной безопасности Годунов».
Вот и повернулось оно, тяжёлое колесо истории. И начали меняться судьбы. И как знать, что в них изменится?
В той, прежней, истории Зина Ворогушина уже завтра должна была уйти из Орла в сторону Ельца. Не навсегда, нет. Но путь назад для неё, политрука отряда имени Дзержинского, пролег через партизанские леса и через госпиталь в Ташкенте. А потом были бы долгие годы работы «в органах», выход на пенсию — и скромная должность смотрителя в Орловском краеведческом музее.
В том самом музее, где в годы оккупации действовал Тургеневский зал. Добиться его открытия сумел художник-декоратор Саша Кочеров, подпольщик из группы Вали Берзина. А заведовала залом учительница Клавдия Дмитриевна Шкопинская. Саша пережил оккупацию и погиб на фронте.
Александр Николаевич Комаров, ещё с гражданской называвший себя Жоресом, возглавил другую группу. И осенью сорок второго года был расстрелян вместе с Михаилом Суровым и другими своими товарищами.
Сестре Сурова Анне Андреевне Давыденко, хозяйке явочной квартиры жоресовцев, и её дочери Ане, санитарке подпольного госпиталя, иначе именуемого «русской больницей», удалось уцелеть. Чтобы разделить судьбу других выживших — хранить память.
Всё-таки мудро устроено, что люди не знают своей судьбы.
Но сейчас их судьбы менялись. И как знать…
Глава 13
30 сентября — 1 октября 1941 года,
Орёл
Удивительно полезные вещи окружают в быту человека разумного. Не того, который Homo sapiens, а по-настоящему разумного. Неразумного тоже, но речь именно о тех, кто способен применять разум по назначению и иногда включать фантазию — хотя бы как рубильник, что приводит в действие лампочку Ильича.
Самые, казалось бы, привычные предметы, если к ним приложили руки и мозг, могут выполнять функции, о которых их изобретатели даже и не догадывались.
Когда к воротам окружного склада Военно-охотничьего и рыболовного общества подъехали телеги, заведующая, коротающая день за письмами на фронт — сыну, мужу, брату, — только голову подняла. Отучили тётку непонятное настоящее и смутное будущее интересоваться чем бы то ни было. Однако ж когда боец войск НКВД предъявил подписанную аж целым «страшным майором» ведомость на отпуск буравов, стеклянных поплавков для сетей и бамбуковых удилищ, она изумленно вскинула брови:
— Вам чего, делать нечего? Где рыбу-то ловить собрались?
— Это вам, дорогая гражданочка, делать нечего, — весело стрельнув глазами, с комической задушевностью ответил парень. — А нам, вон, таскать не перетаскать. Принимай товар, ребята!
Пацаны из «ремеслухи» споро принялись за погрузку.
Спустя всего лишь час первые обрубки дорогущего удилища посыпались в ящик у станка с дисковой пилой. Застучали молотки, укрепляя полые бамбуковые трубки на деревянных донцах с вбитыми гвоздями.
Тем временем в другом конце училищного цеха пожилой мастер аккуратно опустил вращающееся сверло в центр залитого водой участка на стеклянном шаре, окруженном бортиком из оконной замазки.
Всю ночь в мастерских горел свет, визжала пила, гремели молотки, свиристели сверла. В половине четвёртого утра к ФЗУ подъехала первая повозка, на которую спешно нагрузили несколько рогожных кулей с бамбуковыми заготовками и все имеющиеся буравы. К восьми заготовки были окончательно снаряжены на артскладах, и вскоре первая партия пружинных мин отправилась в войска.
Операция под кодовым названием «Улитка» началась.
Всё-таки хорошо, что во времена службы на АПРК-266 «Орёл» кап-три Годунов на досуге не только журнал «Крокодил» читал, но и хорошие книги. А одной из любимых был документальный роман «Волоколамское шоссе». Его герои — бойцы и командиры Панфиловской дивизии — были совершенно реальными людьми, и именно сейчас, осенью 1941-го, ехали в эшелонах из казахских степей на защиту Москвы. В прежней истории им суждено было оседлать Волоколамскую магистраль, и, перемежая бои и отходы на новые позиции, улиткой кружить на направлении главного удара немцев на Москву.
Не только мелинит способен задержать гитлеровцев на орловских дорогах! Момыш-Улы, герой Бека, имел в своем распоряжении всего лишь один батальон, и то эвон на сколько затормозил немецкий «блицкриг». А у него как у командующего Орловским оборонительным районом возможностей гораздо больше. Вот и надо их использовать, опираясь на опыт предков… то есть современников, и надеяться, что Момыш-Улы не будет иметь повода, чтоб обидеться за плагиат.
* * *
— Товарищи милиционеры! — капитан Бабанов, как всегда, говорил сухим размеренным речитативом, за который его давно уже за глаза и в глаза именовали Барабановым… но по этим самым глазам видно было: новости тревожные. — Только что мне звонил секретарь обкома ВКП(б) товарищ Игнатов с приказом передать нашу конно-манёвренную группу в распоряжение Штаба обороны. С выделением за счёт облуправления всего имеющегося пулемётного вооружения, продовольствия и фуража для лошадей. Понятно, задачи нам поставят новые… — сказал «новые», а всем услышалось «трудные, но выполнимые», капитан славился своим умением с помощью обыкновенных пауз смысл сказанного на два, а то и на три помножить. — Но, товарищи, все мы здесь — люди не случайные. Все в прошлом проходили службу в кавалерии или на границе, есть участники боёв с басмачами и схваток с нарушителями. Каждый принимал клятву сотрудника Рабоче-Крестьянской милиции, обещая Советскому народу и Советскому правительству твердо и мужественно стоять на защите пролетарского государства и закона. И теперь, когда на нашу землю ступил враг, народ требует от каждого из нас с честью сдержать это обещание! Вот и весь сказ!
Он начал было подниматься из-за несуразного, похожего на школьную парту, стола, да спохватился:
— Вопросы есть? Вопросов…
— Есть вопрос! — пробасил от дверей коренастый крепыш.
— Ну чего тебе, Кафтанов?
— Да насчёт пулемётного вооружения… Мы ж ещё в августе месяце оба станкача и ручник фронту отдали. И опять же — ежели у нас конский фураж отберут весь для мангруппы, то чем Машку кормить станем, которая двуколку разъездную возит? Да и сёдла новые ещё ко-огда обещаны… Старым-то все сроки вышли…
— Ох и хитрая у тебя натура, Кафтанов! — раздраженно прихлопнул ладонью по столу командир. — Вот сколько тебя знаю, а все шесть лет такого не случалось, чтобы от тебя хитрованства не было! От клиентов наших, что ль, жиганства набрался? Думаешь, я не знаю, что два дегтярёвских пулемёта ты сверх всяких нормативов заначил и в бочке с солярой хранишь? Знаю. И сёдел новых с десяток за мешками с зимним обмундированием лежит, так?
— Четыре, Василий Романович… — досадливо потупился Кафтанов.
— Ага. Значит — точно не менее семи… Что бы я за начальник милиции был, если б не знал, что на подведомственной территории у меня творится, а тем более — в моем собственном управлении! Так что, друг сердешный, давай-ка не придуривайся. Доставай свои заначки, а то вон… — обвел глазами повеселевших подчинённых, — товарищи тебя не поймут.
— Да отдам! — чуть ли не на слезе выдохнул начхоз. — Отдам я эти ручники чёртовы… выделю! Но ведь последний же резерв был, на случай крайний!
— Считай, наступил твой крайний. Какой тебе, суконная душа, еще-то нужон?
— Мало ли… — Кафтанов сделал вид, что прикидывает. — А вдруг немец десант кинет? Чем тогда отбиваться? Наганами против ихних автоматчиков? Так наган пока перезарядишь…
— Все! — припечатал ладонь к столешнице начальник управления. — Приказ есть — исполнять! И вот ещё что… — помялся. — Машке оставить три пуда овса и пять тюков сена. А то и впрямь — некому станет тягать двуколку…
Глава 14
30 сентября 1941 года,
район Дмитровска-Орловского
Местность вокруг Дмитровска — совсем не то же самое, что типичный орловский ландшафт.
Окрестности Орла — блюдечко. Учитывая, при каких обстоятельствах Быстроходный Хайнц заполучил город, так и тянет добавить народное — «с голубой каемочкой». И сдобрить ещё более народным, да морской загиб присовокупить.
А вот район Дмитровска — менажница. Овраги, балки, холмы. И леса, леса. Коим в скором будущем предстоит стать партизанскими. Тут как ни альтернативь, один фиг — без альтернативы.
Здешний рельеф Годунов представлял себе и без топографической карты. У дядь Бори, отцова друга, тут родственники жили. Вот и ездили они втроем на дядь Борином «Жигулёнке» даже не за семь верст киселя хлебать, а за сто — ушицы.
Первый приезд в Дмитровск запомнился тем, что «Жигуль» увяз в глубоченной луже аккурат на въезде в город. И хорошо так увяз — ни вперед, ни назад. И младший Годунов, наблюдая со стороны попытки вытащить машину, тогда посмеялся: чего, может, прям тут рыбачить и устроимся? За что словил от отца совсем не съедобного «леща» и распоряжение работать не языком, а руками.
Рыбачили на речке Неруссе. Санька все любопытствовал: откуда это у русской речки имя такое? Но никто толком объяснить не смог.
И только древний-предревний дед дяди Бори, не иначе как сжалившись над пытливым пацаном, выдал своё объяснение:
— Тут вишь, малой, какая загогулина — неруси много к нам приходило. Кто селился, да женился на наших, да хлеб робить начинал — тот свой становился. А кто неладно гостевал да загостился — тому вот Бог, а вот порог.
Санька и усомнился бы в дедовом объяснении, да очень уж хорошее оно было. Правильное, но не как в книге, а по-человечески. И рисовались в Санькином воображении неведомые конники, что повернули вспять от речки Неруссы. И придумывались бои, в которых причудливо смешивались приметы разных эпох.
Да только вот никакой фантазии не хватило бы, чтобы выдумать то, что сейчас происходило на самом деле: он ехал в Дмитровск готовить незваным гостям горячий, прямо таки пламенный приём на русской речке Неруссе.
«Эмка» целеустремлённо мчала по шоссе. Мягко покачиваясь на дерматиновом сиденье, Годунов в который раз детализировал для себя предстоящее. Вроде бы, все обдумали, обговорили, снова обдумали, но не покидает ощущение, будто что-то да забыли. Интересно, как это в книжках какой-нибудь до мозга костей штатский историк бултых в прошлое — и с ходу соображает, что, где, когда, какими силами учинить потребно. И давай руководить. И никто ему, болезному, не скажет: да ты офонарел, дядя! Какие тебе, к фрицевой матери, пять артполков? Чего бы сразу не механизированный корпус и пропорциональное количество авиации впридачу? Никто! А ежели и возникают трудности, справляется с ними попаданец лихо, врагам на страх, друзьям на диво, красным девицам на радость, сопровождаемую восторженным бросанием чепчиков в воздух и себя любимых — к ногам героя. Куда уж до эдакого титанической личности капитану третьего ранга, ушедшему в вечный запас!
«А ведь говорил мне отец — иди, Саня, в общевойсковое», — Годунов ухмыльнулся.
И мысли в очередной раз приняли другой оборот. Сиденье — оно, конечно, не такое удобное, как любимое кресло, но дорога к размышлениям предрасполагает. В приоткрытое окно бьёт ветер, по-утреннему свежий и влажноватый, чуть-чуть похожий на морской бриз. И не пыльно пока, что тоже весьма неплохо.
Кое-какие идеи уже воплощаются в жизнь. Иные — те, что контрабандой протащило послезнание, — заставляют в очередной раз ухмыльнуться, а заодно и приободриться, чтоб носом не клевать (ядерная бомба на Берлин — она, конечно, весомый аргумент, Гитлер и думать забыл бы о блицкриге, но ты ж, Александр Василич, не в сказку попал). Третьи понадобятся в самой ближайшей перспективе, только бы времени хватило. Ежели хватит — все в твоих руках: и «улитка» Момыш-Улы, и вьетнамские мины, и эрзац-напалм… Прогрессорствовать — так прогрессорствовать от души.
В конце концов, ситуация на данный момент всяко лучше, чем в той истории, которая тебе известна. Ерёменко предупрежден, а самозваный старший майор, но вполне уже легитимный начальник Орловского оборонительного района едет в Дмитровск. Причём в компании не одних только здравых мыслей да бредовых идей. Знание — оно, конечно, сила, однако ж одиннадцать машин с полутора сотнями вооружённых до зубов ополченцев НКВД как-то убедительнее. Ещё сотня следует в Дмитровск по узкоколейке, а с ними — взрывчатка и бутылки с зажигательной смесью.
И опять выползло извечное любопытство. Интересно, почему всё-таки обозвали вполне себе профессиональное воинское формирование ополчением? Как бы половчее вызнать? И ходить-то далеко не надо. Младший лейтенант-чекист, сидящий рядом с сержантом Дёминым, знает наверняка. Но лучше лишних вопросов не задавать. Лишние вопросы — дополнительная возможность выдать себя. Это только в книжках всякие-разные попаданцы во времена Иоанна Грозного и Петра Первого никому не кажутся подозрительными и, как следствие, не оканчивают жизнь на колу или в застенках Тайной канцелярии. Да какая там дыба и прочие ужасы! Головокружительную карьеру при особах государей попаданцы делают, ага. А тут в родном двадцатом веке плывешь, что те туманы над рекой. Странно все, малознакомо, непривычно — от бытовых мелочей до территориального деления. И надо постоянно следить за собой, чтобы не выказать удивления, когда спутник, например, сообщает:
— Ну вот, в Курскую въехали.
И думать: чего ж ты рассеянный-то такой, Александр свет Василич? Ещё ж на совещании отметил: Дмитровск пока что находится в составе Курской области. Впрочем, это важно только для поддержания, так сказать, легенды. А на бурной деятельности не должно отразиться никак, ибо по любому — территория Орловского военного округа.
Отразиться не должно — и к чертям морским и сухопутным, в конце-то концов, все опасения и приметы. Тем более что приметы до оскорбительного тривиальны даже в свете отдельно взятой судьбы некоего А Вэ Годунова. В колонне — тринадцать машин. Тринадцатая — щедрый игнатовский подарок на прощание: партсекретарь, прежде чем отбыть в Кромы, вызвался самолично проводить командующего со товарищи. Ну, и подарок преподнес… А зачем, спрашивается, Годунову обкомовская агитмашина и толстый бритоголовый агитбригадчик в придачу? Если только лишние… ну, то есть, не лишние колеса? Так и тут, в Орле, они никак не лишние.
— Я тебе ценного кадра от сердца отрываю, а ты… — не на шутку разобиделся Игнатов — Ты вот знаешь, как у тебя в том Дмитровске дела пойдут? Не-ет. А Никита Василич — агитатор опытный. Коли что — такую речугу задвинет, какой нам, «сапогам», ни в жисть не сказать. И музыка у него при себе, подберет правильную, чтоб, значит, настрой нужный создать, чтоб аж до сердца, значит…
— Какая музыка, Николай! — раздраженно отмахнулся Годунов. — Не до агитации сейчас.
— Агитация — она всегда ко времени, смотря кто, кого и как агитировать будет! — заартачился секретарь. — Не всяк человек приказ разумеет, особливо ежели человек этот — баба, того хуже — дед какой упёртый. А таких, я тебе скажу, в том Дмитровске — полсотни на сотню. А при них — детишки. Представь, какой вой вся эта гвардия поднять может? Они ж того германца в глаза не видали, ну, разве что, кто из бывалых мужиков, которые на германской лиха хлебнули. Но этих ты и сам, небось, никуда спроваживать не станешь, а? То-то же. А у нашего товарища Горохова, — кивок в сторону скромно помалкивающего в сторонке агитбригадчика, — с той войны «максимка» в лучших друзьях. Вдобавок он самолично за баранкой, шофёра-то ихнего я давно к другому делу приставил.
И, перехватив недоверчивый взгляд командующего, закончил с нажимом:
— Потом спасибо скажешь!
Невдомёк ему было, что в этот момент Александр Васильевич думает совсем не об агитбригадчике. Точнее, о нем, но опосредованно.
Ещё бывшая супруга в бытность свою невестой восторгалась способностью Годунова оригинально, как она выражалась, мыслить. Когда вместо кино или танцплощадки он вел её в компанию непризнанных — как сейчас, так и, совершенно очевидно, в дальнейшем — талантов с кое-как настроенными гитарами и странными песнями. Потом, году на третьем-четвёртом семейной жизни, стала говорить иное: дескать, был бы он, капитан-лейтенант Годунов, жутким занудой и скучным службистом, кабы не приключающиеся время от времени ребяческие выходки. Ну а под занавес раздражалась: «На тебя как будто бы девятый вал накатывает — и несёт, и утопит когда-нибудь, вот увидишь!» — «Как же я увижу, если утону?» — вяло отбрехивался Годунов, достаточно постаревший, чтобы не бороться с женской логикой. Тем более что Лариска была отчасти права: да, случается, накатывает.
Вот и сейчас накатило — и понесла.
— Послушайте-ка, товарищ Горохов, а у вас пластинки с классической музыкой есть?
— Что именно вас интересует, товарищ старший майор? — несколько церемонно поинтересовался тот. — У меня неплохая домашняя подборочка.
Александр Васильевич исподволь глянул на Игнатова — хороший человек секретарь, но въедливы-ы-ый! — и вместо ответа задал следующий вопрос:
— Дома — это далеко?
— На Карла Либкнехта.
Годунов поморщился: название-то знакомое, но наверняка ещё по детским воспоминаниям. Вот улица Розы Люксембург точно была и есть в его родной, так неожиданно покинутой реальности, а…
— По дороге завернем, — осторожно ответил он.
Как ни странно, вышло действительно по дороге: имя Либкнехта носила Васильевская, соседствующая с Комсомольской, по которой двигала колонна. И надежда Годунова найти пластинку с чем-нибудь симфоническим и грозным оправдалась в такой степени, на какую он и рассчитывать не смел.
Но все это произошло получасом позднее. А перед тем ему предстояло ещё одно знакомство и опять-таки по инициативе неугомонного Игнатова.
Встречам с теми, кого он знал только по книгам, Годунов удивляться уже перестал. Меньше суток прошло, а вот перестал — и всё тут. Ведь не удивлялся же он, в самом-то деле, когда пересекался по службе с бывшим сокурсником? Если люди бродят одними тропками, идут похожим курсом, нет ничего странного, что когда-нибудь да и встретятся.
Хотя встреча с этим вот младшим лейтенантом, в отличие от знакомства с Гороховым, крепко впечатлила.
Начать с того, что он, Годунов, едва не попалился на «школе пожарных». Все ж таки, как ни крути, «опыт работы попаданцем — один день» — это чертовски мало. Когда Игнатов подвел к нему светлоглазого молодого мужчину лет тридцати и представил: «Товарищ Мартынов, оперативный работник и вообще надёжный человек… ну и в школе пожарных поработал, знамо дело», — Александр Васильевич решил было, что ослышался. Хорошо хоть, переспрашивать не стал.
Потому что буквально в следующее мгновение сообразил: а ведь работают они, работают, описанные в книгах законы попаданства!
Некоторые — уж наверняка. Сам, помнится, посмеивался: ну никакой фантазии нет у современных писателей! Как ни возьмутся рассказывать, с чего это вдруг герой весь из себя информированный, да именно в тех вопросах, какие подсовывает ему жизнь после попаданства, так непременно выясняется, что одну-другую книжку буквально вчера на досуге читал.
Эх, верно народ подметил: хорошо смеется тот, кто смеется последним! Уходя в крайний (или тут как всё ж таки придётся сказать: в последний?) раз в школу, Годунов оставил на кухонном столе книгу «дедушки русского спецназа» Ильи Старинова «Записки диверсанта», которую читал за завтраком. Остановился аккурат на главе об этих самых «пожарных», которые на самом деле партизаны, — и вот те раз!
Вообще-то, командированный в Орёл старший майор такие вещи знать просто обязан, так что — более чем кстати.
И Александр Васильевич не преминул нахально продемонстрировать информированность:
— А товарищ Родольфо, случаем, не в Орле обретается?
Поймал на себе два недоуменных взгляда. Да, выходка, конечно, ребяческая — туману нагнать и показаться более сведущим, чем ты есть на самом деле. Однако ж не бессмысленная — впечатление-то произвел. Тем более — риск нулевой… в сравнении с прочими рисками. Как раз в этих числах Старинов должен быть отозван из Орла, но вдруг?.. Хотя это «вдруг» не ахти какое дружественное может оказаться: диверсант номер один напрямую Ставке подчиняется, мигом выяснит…
— В Орле сейчас Старинов, нет? — более понятно переспросил Годунов.
Вчера уехал, — ответил партсекретарь. — Товарищ Мартынов вот остался, да ещё трое сведущих товарищей. Одного я, уж не обессудь, с собой возьму, остальные — с тобой. А товарищ Мартынов при тебе навроде ординарца будет, не возражаешь? Вот и правильно, — Игнатов широко улыбнулся.
«Адъютант моего превосходительства», — Александр Васильевич едва заметно усмехнулся. Но озвучивать эту мысль не стал, дабы снова не спровоцировать партсекретаря.
— Потом ещё спасибо скажешь, что я тебе такого помощника, как Матвей Матвеич, сыскал, — заключил Игнатов.
И когда он назвал мамлея по имени-отчеству, до Годунова резко дошло: так это ж будущий писатель-документалист! Мало ли Мартыновых в средней полосе России? Но чтобы именно Матвей Матвеич… Нет, точно, волею судьбы и партсекретаря ему в спутники назначен лучший из исследователей истории орловского подполья, чьими книгами Санька Годунов зачитывался в юности. Писатели тогда представлялись ему великими мудрецами, чуть ли не небожителями.
А сейчас покачивается на сиденье «эмки» прямо перед ним самый настоящий (ладно, будущий) писатель да глазеет по сторонам так увлечённо, как будто бы видит что-то значительное и прекрасное в скучненьком, признаться по чести, осеннем пейзаже. А ведь он прав, есть во всем вот в этом своя притягательность. Он, пейзаж этот, существует как будто бы вне времени и вне пространства — лет сто назад был таким и через сотню будет таким же.
— Запоминаете, Матвей Матвеевич? Вот и правильно. Вдруг лет через… э-э-э… несколько захотите книжку обо всем об этом написать?
Мартынов обернулся:
— Не могу знать, товарищ старший майор. Не зарекаюсь. Я же ещё год назад корреспондентом ТАСС по Орловской области работал, да время-то неспокойное… — он неопределенно пожал плечами.
— А я почему-то уверен, что вы напишете книгу. И не одну. Так сказать, увековечите всех нас и день сегодняшний, — Годунов улыбнулся. И тоже принялся смотреть: а вдруг удастся высмотреть в этом вот вневременном пейзаже четкую примету, так сказать, эпохи?
Так ничего и не высмотрел; разве что опоры линии электропередач да телефонные столбы были деревянные.
…Да, всё-таки пока не окажешься в ситуации, когда время — вопрос жизни и смерти, не оценишь в полной мере такое завоевание прогресса, как телефон. Первого секретаря Дмитровского райкома разбудили ночным звонком, и сейчас, надо надеяться, в городе большой аврал и боевая тревога — по местам стоять, к срочному погружению. Если судить по телефонному разговору, Федосюткин — мужик сообразительный и деятельный. Кажется, в той реальности он возглавил партизанский отряд. Наверняка Годунов не помнил, но, по логике, так и должно было случиться. И всё-таки лишнего Александр Васильевич говорить не стал, ограничившись указаниями, с которыми нельзя было медлить. И не только потому, что привычка ничего важного по телефону не говорить была вбита на уровне рефлексов. По телефону ещё и реакции человеческие не отследишь, не то что с глазу на глаз. А планы новоявленного командования реакцию могли вызвать… гм… неоднозначную, вплоть до настойчивого желания связаться с вышестоящим партийным руководством и уточнить. И тогда все могло закончиться, не начавшись.
Досадно всё-таки, что приходится думать не только о деле, но и о том, чтобы не засыпаться по глупости, чертовски досадно! Вылетит слово, которое, как известно, не воробей, а для местных — вообще колибри или страус какой…
Кстати о словах и о телефонах: первым делом, первым делом самолёты. То есть надо будет по приезде узнать, как движутся дела у Одина… тьфу ты, у Одинцова! Из какой только потайной каморки сознания высунула нос эта школярская привычка привешивать прозвища?! А что, одноглазый Один — он Один и есть, эдакий ариославянский типаж, куда там до него всяким выморочным «истинным арийцам» вроде Гитлера и Геббельса? И творить сверхчеловеческое этому Одину, хошь-не хошь, а придётся.
История авиации никогда не числилась среди главных интересов Годунова; если он что-то и выцепил из читаных книжек, то походя, не нарочно. Смутно припоминалось: знаменитые «ночные ведьмы» станут массовым явлением несколько позже, ну а пока женщины-пилоты — такое же редкое явление, как женщины-танкисты в масштабах всей военной истории.
Правильно припоминалось. Когда на совещании Одинцов сказал: «Самолёты есть, техников худо-бедно найду, не в том количестве, в каком следует, но найду», — и повторил безнадёжное: «А вот пилотов у нас нет», — пришлось Годунову самому озвучивать лежащую, казалось бы, на поверхности мысль о девушках-аэроклубовках.
Сказал — и увидел на лице военкома такую усталость, какой не бывает даже от самой тяжкой работы. Сразу понятно: наступил Одинцову на любимую мозоль. Наверняка те девчонки ещё летом осаждали военкомат, требуя отправить их на фронт. А что они, девчонки, умеют? Взлет-посадка? Когда небо чистенькое, как нарядное платьишко? А на земле только две неприятности — строгий инструктор и ворчливый механик?
Примерно так Одинцов и ответил, только формулировки были сухие, чеканные. Даже когда новоиспеченный командующий Орловским оборонительным районом вкратце обрисовал свой план, лицо военкома не просветлело. Но в идею Один вцепился со сноровкой истинного профессионала. И у Годунова отлегло от сердца. Во-первых, профи не только не забраковал рискованный план, но и начал уточнять частности. «Не, ну разве я не молодец? — с усмешкой мысленно похвалил себя Александр Васильевич. — Было бы время, обязательно опочил бы на лаврах, а так придётся довольствоваться диваном в кабинете Оболенского». А во-вторых…
Просто приказать — иногда тоже очень непросто. И, начав обсуждать замысел командующего, военком разделил с ним ответственность. Не важно, что формальную, Годунов не в том положении был, чтобы волноваться о подобных мелочах. Нет, Один разделил с ним моральную ответственность. Такую, какой, черт возьми, злейшему врагу не пожелаешь.
Ладно. Лишь бы только все шло так, как задумано. Одинцов, по всему видать, товарищ решительный, на полпути не остановится и сам где надо разумную инициативу проявит.
И снова нежданно-незванно возник проклятый этот вопрос: неужто всем им, деятельным и решительным, нужен был пинок извне, чтобы не сидеть и не ждать у моря погоды? Историки, вон, пишут: в первый период войны многие, кого в малодушии и боязни принимать на себя ответственность никак не заподозришь, растерялись. Те, кто выше стоял и, как следствие, больше полномочий имел, и то сплоховали, не использовали в полной мере свои возможности.
А велики ли они, возможности-то, а, Александр свет Василич? Вот то-то же. Правильно говорил краевед Овсянников: чтобы судить о таких вещах, надо их на своей шкуре испытать. У тебя ещё и преимущество есть, какого, наверное, ни у кого больше нет: ты знаешь, как все закончится…
…И всё-таки первыми с корабля бегут крысы, а капитан уходит последним, когда волны уже перехлестывают комингс ходового мостика — и ни минутой ранее. Или не уходит вовсе.
Тёмные столбы линии электропередач. А дальше, вглубь, — ещё более тёмные сосны, стволы с лиловатым оттенком, а хвоя — зеленая аж до синевы. И через двадцать, и через пятьдесят, и через семьдесят лет на этой земле будут расти сосны. Но почему-то именно при взгляде на них острее всего ощущаешь, что ты в другом времени.
В своем времени тебе нечего было терять, кроме собственной жизни. Да ей ничто и не угрожало. Но ты почему-то чувствовал себя обреченным. А здесь… это ж ведь не фантастика и ты, скорее всего, вправду обречен, но вот нет этого паскудного состояния растерянности потерянности. Тебе есть, что терять, кроме…
А вот и вехи твои, Александр Василич, — сосны да столбы линии электропередач.
Годунов едва заметил, как принялся их считать… и проснулся, ткнувшись лбом в спину Мартынова.
Сержант Дёмин стоял возле машины и вид у него был виноватый. Годунов приоткрыл дверь и выглянул. Мог бы и не выглядывать, и так знал, что увидит. Ну, так и есть: «эмка» на добрых две трети колеса погрузилась в лужу… А на горизонте маячат какие-то строения. Дежавюха, однако!
— Никак, приехали?
— Так точно, товарищ старший майор, — ответствовал Мартынов. Выбираться не спешил. Оно и понятно: Дёмин, вон, чуть не по колено…
Только тут Александр Васильевич сообразил, что фраза получилась неоднозначная, и уточнил:
— В Дмитровск, говорю, въезжаем?
— Так точно, — повторил чекист.
И то благо, что въезжаем. А чего бы и не въезжать, ежели сопровождение такое солидное? Подоспевшие бойцы в два счета выкатили командирскую «эмку» на сухое пространство, которое можно было с изрядной убежденностью именовать дорогой. «Вот оно, преимущество служебного положения», — усмехнулся Годунов.
Метров через тридцать преимущества трансформируются в тяготы: колонна войдет в Дмитровск.
* * *
Дмитровск сорок первого представился Годунову точь-в-точь таким же, как Дмитровск рубежа семидесятых-восьмидесятых. Конечно, будь Александр Васильевич местным, он без труда нашел бы и традиционные десять отличий, и даже больше, и с печалью либо радостью констатировал отсутствие или наличие дорогих сердцу примет. Однако ж для постороннего этот город был похож на бессчетное множество небольших населенных пунктов, в которых, как написали бы в путеводителе, век девятнадцатый соседствовал с двадцатым. Соседствовал, но не так, как в городах Золотого Кольца, которые Годунов как-то раз объехал во время отпуска. Там соседство продуманное, как выкладка экспонатов в музее. Здесь — как бог на душу положит. Наверное, в этом тоже есть своя прелесть, да только думать о ней совсем не хочется. И, увы, совсем не из эстетических соображений. Если всё пойдёт так, как надо, скоро здесь мало что останется. Лишь бы местная власть не заартачилась. Дело-то — оно в любом случае сделано будет, но проблем огребёшь несоизмеримо больше.
А местная власть тут, по всему видать, бедовая. Разговаривая с Федосюткиным по телефону, Годунов почему-то нарисовал в воображении немолодого, но скорого на слово и дело мужика, кого-то вроде Ковпака. Спасибо связи: трубка сипела и гудела, надёжно маскируя возраст собеседника. И Александр Васильевич был немало удивлен, когда Федосюткиным назвался крепкого телосложения парень лет двадцати пяти во френче без знаков различия и в штатского покроя чёрных брюках с щегольским напуском, заправленных в чуть запылившиеся комсоставские сапоги. Глаза покрасневшие от недосыпа, но взгляд упрямый — по-хорошему упрямый. И манера изложения информации больше похожа на рапорт, нежели на обыкновение гражданских озвучивать суть вперемешку с собственными мыслями и кучей совершенно не нужных сейчас соображений. Через полчаса жители города соберутся на центральной площади. Для оповещения привлекли комсомольцев и пионеров. В МТС района направлены телефонограммы, горючее следует ждать с часа на час. Железнодорожный состав подготовлен, график движения согласован. Бойцы ополчения направлены на расчистку и инженерное оборудование поля к северо-востоку от города. Доложил — и поглядел прямо, требовательно: к чему, мол, все это?
А к тому, уважаемый товарищ Федосюткин, что в той истории, которая известна большому дяде Годунову, танки Гудериана должны войти в Дмитровск к завтрашнему вечеру. Если же разговор с Ерёменко резонирует так, как нужно, то у них в запасе прорва времени. Чуть ли не целые сутки. Это много — без всякой иронии и прочего сарказма. В нынешних условиях, когда ситуация развивается прямо по классику «нам бы только ночь простоять да день продержаться», — очень много. Классик, кстати, явно знал, о чём говорил. И Лелюшенко с Катуковым сопоставимого отрезка времени хватило, чтобы развернуть оборону в районе Мценска. Увы, это не тот пример, которым сейчас можно воспользоваться. А отвечать надо. Коротко, чётко и, по возможности, воодушевляюще.
— Скажу без околичностей, товарищ Федосюткин. Кутузов во времена оны отдал Москву, чтобы спасти Россию. Нам предстоит отдать Дмитровск, чтобы спасти Москву.
На лице секретаря возникло недоумение. Пока — только недоумение. Хорошо хоть, не кинулся с ходу возражать.
— И не просто отдать, ну, то есть, совсем не даром. Так что живенько формируем, так сказать, комитет по торжественной встрече — и по местам стоять, с якоря сниматься. В комитет включаем вас, товарища Мартынова, — кивок в сторону «адъютанта», — товарища Нефёдова, — кивок в сторону старлея-погранца, командира отряда ополченцев НКВД, — и заочно — орловского военного комиссара товарища Одинцова. Можете на своё усмотрение пополнить комитет ответственными работниками Дмитровска. Первоочередная задача — срочная эвакуация гражданского населения… сколько сейчас народу-то в городе?
— Всего — порядка шести тысяч, — быстро ответил секретарь. — Местных — около пяти, остальные эвакуированные.
— Милиция?.. Ополчение?.. Железнодорожники, в том числе пенсионеры?.. Медики?..
Некоторые цифры Федосюткин называл с ходу, не задумываясь, ручаясь за их точность, другие, не ломаясь и не чинясь, — приблизительно и обещал уточнить.
— Ну а вы-то сами до сего момента что собирались делать, когда враг подойдет? — закинул провокационный вопрос Годунов.
— Как и запланировано. Организованно собрались — и в Друженские леса, — снова без промедления ответил секретарь.
«Организованно? Ну, это ты молодец, конечно… танки на окраину въезжают, а ты — организованно!» — хмыкнул Александр Васильевич. А вслух сказал:
— Дело хорошее. Только повременить придётся. Насколько повременить — жизнь покажет. Все, секретарь, давай на митинг, об остальном после договорим, что называется, в рабочем порядке.
Площадь оказалась предсказуемо небольшая, почти квадратная. Памятник Ленину, выкрашенный в светло-серый цвет, привычный, разве что не такой помпезный, какие доводилось видеть Годунову даже в отдалённых райцентрах. Рядом — деревянная трибуна, завешенная потемневшей красной материей. «Подновляли, небось, ещё когда первых мобилизованных провожали», — с какой-то невнятной тоской подумал Александр Васильевич.
Люди уже собрались. Собрались и ждали. На площади, на примыкающих к ней улицах. Никто не порывался уйти, разве что некоторые, увидав кого-то из родственников или друзей, перебирались поближе. Но без толкотни, тем паче без ругани. Ни один не пытался прорваться на удобное место возле трибуны или забиться в укромный уголок, где можно вдоволь поскучать, а то и вздремнуть. Все это Годунов оценил буквально с первого взгляда. Иные говорят: люди во все времена одинаковые. Черта с два! Люди, которым понятно, что, как говаривала бабка, дело пахнет керосином, отличаются от людей, пришедших на праздничный митинг, куда больше, нежели последние — от пиплов, собравшихся на рок-концерт.
Над площадью стоял ровный гул: все разговаривали почему-то вполголоса. И замолчали как по команде, едва приезжий командир поставил ногу на нижнюю ступеньку ведущей на трибуну лестницы. Александр Васильевич за последнюю пару лет привык к легковесной тишине, что висела хорошо бы на ниточке — так нет, на паутинке и срывалась иной раз от неосторожного взгляда, и не мог не удивиться: тяжёлая тишина, а держится надёжно, будто на стальном тросе.
Только и слышно, как поскрипывают под ногами рассохшиеся за лето доски да пацанёнок лет пяти, стоящий рядом с трибуной, хнычуще тянет:
— Ма-ам, ручкам зя-а-абко! Пошли домо-ой!
М-да, и вот что тут прикажешь говорить? Что и как, чтобы обойтись без дополнительных осложнений, плюсом к тем, которые и так неизбежно возникнут? Как убедить этих вот дедов, которые, небось, всю жизнь в Дмитровске безвылазно прожили, этих вот женщин, закрывающих собою детей от осеннего ветра, что надо бросить дом, разом лишившись всего нажитого, и ехать чёрт-те куда, в неизвестность и неустроенность?
Ладно, как скажется — так и скажется. Будем надеяться, что люди, не привыкшие к постоянно сменяющимся пестрым впечатлениям, более восприимчивы к словам… хоть и наверняка менее легковерны, угу.
Годунов с легким недоумением взглянул на цилиндрическую штуковину, укрепленную на краю трибуны («А ничё так эта гирька, наверное, в ближнем бою! Тюк по макушке — и нету Кука!») и, как-то совсем не солидно прокашлявшись и немного наклонившись к микрофону, начал:
— Товарищи! Я говорю с вами от лица командования Орловского оборонительного района…
И едва узнал свой голос, захрипевший-заскрежетавший из двух репродукторов. Учел ошибку — и дальше говорил с высоты своего роста. В любом случае — ни разу не Молотов и не Левитан, но так хотя бы для ушей терпимо. И — главное — слова вдруг стали приходить сами, без усилий:
— Не буду скрывать, ситуация для всех нас сложилась чрезвычайно серьёзная. Враг рвется к Москве. Дмитровск — на острие главного удара. Но у нас есть возможность действовать на опережение. Как бы то ни было, не сегодня, так завтра в городе — на этих вот улицах, на этой площади, в ваших домах — начнутся боевые действия. В связи с этим всё гражданское население подлежит немедленной эвакуации, — уф-ф, главное сказано.
Тишина стала зыбкой, как ртуть: натужное дыхание, едва слышные всхлипы… Люди услышали — но наверняка ещё до конца не поверили. Ну что ж, инструкции в таком состоянии духа воспринимаются, как правило, от и до — сознанию надо за что-то зацепиться.
— Командование даёт вам на сборы два часа с момента окончания митинга. С собой брать документы, деньги, ценности, тёплую одежду, запас продовольствия на три дня. Питьевой водой вас обеспечат в поезде.
Короткий взгляд на Федосюткина. Секретарь кивает: понял, мол, сделаем.
— Большинство из вас — гражданские. Но не надо думать, что если вы решите остаться, война не затронет вас. Вы слушаете сводки Совинформбюро и знаете, какие зверства творят солдаты Гитлера. Их цель — завоевание нашей страны и уничтожение советских людей. Ваша первоочередная задача — сохранить жизнь детям…
Говорят, страх и надежда — главные психологические рычаги, приводящие человека в движение. А раз так, надо ими пользоваться.
— Ну а после того, как вас доставят в глубокий тыл, вы будете обеспечены работой, вещами и продуктами. Я уверен, что вы будете честно трудиться, помогая ковать Победу там, куда вас направит Родина. Запомните: вы не беженцы. Вы покидаете зону боевых действий по прямому распоряжению командования Орловского оборонительного района.
Годунов набрал в легкие побольше воздуха и заключил:
— И ещё одно: если кто-то пожелает остаться, это будет расценено как осознанное намерение остаться на территории, которая может быть захвачена врагом, и караться по законам военного времени.
Сказал и подумал: интересно, не так ли рождаются истории о людоедской сущности «кровавой гэбни»?
— Медики всех специальностей, механики, водители, трактористы, строители, у кого нет на попечении детей до шестнадцати лет, объявляются мобилизованными. Сразу же по завершении митинга им надлежит прибыть в райком партии для постановки на учет и инструктажа.
Вроде, сказал достаточно. Ну и пора закругляться, чтобы потом не мучиться анекдотическим вопросом «а не сболтнул ли я чего лишнего?» Тоже вот странность: все, что нужно было сказать по делу и по сути, произнеслось как будто бы само собой, а на заключительной фразе споткнулся, как школяр, забывший строчку стишка. На ум шли бюрократическое «а теперь слово предоставляется товарищу Федосюткину» и лозунговое «враг будет разбит, победа будет за нами! Смерть немецким захватчикам!» Первое слишком неказисто, второе слишком возвышенно. И Александр Васильевич предпочел просто посторониться, пропуская секретаря райкома к микрофону.
Федосюткин лозунгов не стеснялся. Война требует от всех советских людей невиданных доселе усилий и неслыханных лишений. Но они на то и советские люди, чтобы все преодолеть и создать для своих детей светлое коммунистическое будущее. А пока что каждый, как на фронте, так и в тылу, должен стать солдатом. Враг будет разбит, победа будет за нами!
В устах секретаря эти слова звучали без пафоса, естественно и убедительно. И в них была уверенность — такая безграничная, запредельная уверенность в том, что всё будет хорошо, какая бывает только у молодых людей. Знающих цену своим словам. Но ни разу ещё не заплативших сполна.
Однако ж Годунов не мог не видеть лиц тех, кто стоял у самой трибуны: у женщины, обнимающей капризного пятилетку, разгладилась страдальческая складка у губ, старик перестал сокрушенно покачивать головой, девочка-подросток с пионерским галстуком, выпущенным поверх курточки, поглядела на Федосюткина с обожанием.
— Только давайте, товарищи, чемоданы добром не набивайте, — резко меняя тон, сказал секретарь — как если бы беседовал с людьми с глазу на глаз в своем кабинете, а не стоял перед площадью. — И зверьё с собой не тащите, всё равно в вагон его взять не разрешим. Значит так: в первую очередь выезжают жители Коллективной и Рабоче-Крестьянской, прибытие на станцию через два часа, то есть в одиннадцать тридцать, следом — с Коммунистической и Красного переулка, прибыть к двенадцати тридцати…
«Только бы успеть», — повторил вечное своё заклинание Годунов.
— Всё, в добрый путь. И до встречи, — заключил Федосюткин.
«Ну, молодец ты, секретарь! — мысленно восхитился Александр Васильевич. Хотел и вслух повторить, но не успел: над площадью в ритме маршевой поступи зазвучали первые такты «Священной войны». — И Горохов тоже хорошо сработал! Если он и у пулемёта такой же расторопный…»
Расторопность же Федосюткина оказалась вообще выше всяких похвал. Командующий ещё спускался с трибуны, а секретарь уже говорил с каким-то седоватым мужиком в очочках и мятом пиджаке — распоряжался выдать эвакуируемым продукты с продовольственных складов из расчёта столько-то того и столько-то этого на человека, распределение организовать непосредственно на станции.
— Да как же я… — с ходу начал причитать тот. — Возить-то на чем?
— Ваш грузовичок ещё вчера вечером был жив, здоров и не кашлял, — срезал его Федосюткин. — Какая ж хвороба с ним нынче приключилась? Насчёт драпа, не того, который материя, беспокоитесь? Так я вам, Михал Сергеич, лично все организую, вы у нас ни в какую очередь мобилизации не подлежите, я всю вашу медицинскую карту вашими же стараниями вдоль и поперёк изучил, когда вы о путевках хлопотали. Только сперва дело сделайте, и сделайте как надо. Вам же ясно и понятно, что всех сразу мы в состав не поместим. Вот и организуйте подвоз. На погрузку-разгрузку я людей вам дам, сколько скажете.
— Норму вы мне даете на взрослого? — насупившись, пробубнил собеседник секретаря. — А на детей какая?
— Слушай, Михал Сергеич, — перешёл на задушевное «ты» Федосюткин, а Годунов с удивлением подумал: кабы не буйная шевелюра, седоватый был бы двойником последнего генсека. — Никто с тебя сегодня за лишний килограмм колбасы не спросит. И за десять не спросит. Ни сегодня и ни завтра. Никакой бюрократии можешь не разводить. Расчёт мой простой — чтоб всем хватило и никто на нас — и на тебя, Сергеич, персонально, в обиде не был.
И, показывая, что разговор закончен, повернулся к похожей на учительницу женщине в строгом тёмно-синем платье:
— Ну а ваше, Ефросинья Степановна, дело известное — накормить вновь прибывших обедом-ужином. Дарью-то вашу мы отправляем, так что придётся у товарища старшего лейтенанта пару бойцов вам в помощь попросить. Дарья-то, конечно, за троих работала, но, боюсь, троих нам не дадут, — и обернулся, ища глазами Нефёдова.
А встретился взглядом с командующим, по-мальчишески смутился.
— Виноват, товарищ старший майор!
— С чего ж это вдруг и виноваты? — весело удивился Годунов. — Что особых распоряжений не ждете?
— Отвык, — почти не скрывая, что доволен прозвучавшей в тоне командующего похвалой, признался Федосюткин. — Когда за месяц в район двадцать тысяч эвакуированных поступает, как-то уже не ждёшь, пока гром грянет.
Александр Васильевич машинально поглядел в проясневшее небо: дай бог, чтобы гром грянул точно в намеченные сроки.
— Пойдём, секретарь, детали уточнять.
* * *
От непривычно терпкого чая и непривычно крепких папирос саднило в горле. А может, продуло в машине. Неправильный ты, всё же, попаданец, Александр Василич! Скучный. Ни ядрёнбатон напрогрессорствовать не торопишься, ни к товарищу Сталину не ломишься, дабы похвастаться послезнанием. Высоцкого и то не перепел, подсунул Игнатову вместо строчек гениального поэта свои школярские каракули. А вместо совершения подвигов сидишь себе посиживаешь, сиречь заседаешь. С трудом выстраиваешь нехитрую многоходовку. Нехитрую — потому как наличных сил маловато. Двести пятьдесят ополченцев НКВД (те, что прибыли по железной дороге, тоже с ходу включились в бурную деятельность, заботливо направляемую Нефёдовым, Мартыновым и директором леспромхоза Жариковым), да местных человек сто пятьдесят. Вот уж эти — классическое ополчение, стар и млад, даже девчонок четверо — три медсестры и фельдшерица. Одно радует — край охотничий, у мужичков, почитай, у всех двустволки по углам… и не пылятся без дела. Охотников — к сержанту Сомову, отрекомендованному Нефёдовым в качестве лучшего стрелка: пусть определяется, кто вправду виртуоз, а кто так, зайцев по окрестным лесам гонял. Остальные пообедали, спасибо Ефросинье Степановне, — и снова двинулись в поле. Не жать запоздало и не пахать под зиму, а строить аэродром подскока. Горохов, ещё в Орле вполне уяснивший роль, отведенную ему в предстоящих событиях, взял в помощь двух парней-радиолюбителей и принялся священнодействовать.
Но больше всего трудов выпало на долю Федосюткина, в полной мере оправдавшего уже сложившуюся в глазах командующего репутацию. Александр Васильевич давно заметил: острая ситуация у людей с лидерскими способностями подстёгивает креативное… тьфу ты, творческое мышление. Причём так подстёгивает, что мысли несутся с места в карьер. Секретарь, едва услыхав подробности плана, настолько загорелся идеей, что предложил усовершенствовать её в направлении ещё большей пожароопасности. Мартынов мысль подхватил и творчески развил… «школа пожарных», что и говорить!
Вообще, с помощниками проблем не возникло. Почти все ответственные работники, будь то директора предприятий или райкомовцы, собирались оставаться при любом развитии событий. Заранее было определено, что они составят ядро партизанского отряда. И вариант уничтожения оборудования предприятий и произведённой, но не вывезенной продукции, как выяснилось, обсуждался в узком кругу. Так сказать, гипотетически. Ну очень гипотетически, то есть предположить-то было надо, хотя бы просто по логике, но никто не верил, что до такого дойдет. Против человеческой природы это — сидеть и размышлять, как будешь уничтожать созданное твоими же руками.
А гореть в городе есть чему. Пеньковое волокно, верёвки, бумага, древесина…
Годунов зябко передёрнул плечами и потянулся к стакану с горячим чаем.
Поразмыслить над разными вариантами разрешения ситуации — хорошая зарядка для ума. Только вот ему, Годунову, придётся сразу же участвовать в Олимпийских играх и во что бы то ни стало занять место на пьедестале. «Кто ж его посадит, он памятник!» — с невеселой иронией выдало скорое на ассоциации подсознание.
Годунов с усилием провел ладонью по лицу. Поглядел на Федосюткина, устало, чуть ли не отрешенно изучающего расстеленную на столе карту.
— Поедемте-ка, Андрей Дмитриевич, развеемся, оценим работу нашей… гм… полеводческой бригады, а заодно и на станцию заскочим. Завтра с утреца специалист-авиатор прибудет нас инспектировать, и нам ударить в грязь лицом никак нельзя. Одобрит он — тогда и более суровую проверку пройдем.
Из книги Матвея Мартынова «В дни суровых испытаний. Чекисты в боях на Орловщине» (Тула: Приокское книжное издательство, 1972, изд. второе)
В те дни, когда бронированные чудовища Гудериана, одного из самых прославленных гитлеровских генералов, рвались к сердцу нашей Родины, каждый день решал очень многое. Нужно было задержать врага на дальних подступах к Москве. Фронт требовал резервов, и Орловский военный округ с честью выполнял эту задачу. На Орловской земле сформированы были 20-я армия, 258-я стрелковая дивизия и более двадцати маршевых батальонов. Кроме того, порядка ста тридцати тысяч орловцев трудилось на строительстве оборонительных рубежей Брянского фронта.
Во второй половине августа в Орле было сформировано подразделение Оперативно-учебного центра Западного фронта — партизанская школа, которую в целях конспирации именовали «школой пожарных». В её создании участвовал наш легендарный земляк Илья Григорьевич Старинов, которому уже довелось сражаться против коричневой чумы в Испании. В качестве инструкторов и курсантов партийные органы направляли в школу самых стойких коммунистов, комсомольцев и беспартийных патриотов. Имена многих из них ныне известны всей стране.
Золотыми буквами вписано в историю Великой Отечественной войны имя настоящего патриота, старшего майора государственной безопасности Годунова. Как и его товарищ Старинов, А.В. Годунов был в числе советских военных специалистов, оказывавших интернациональную помощь героическим испанским республиканцам, а с первых дней Великой Отечественной войны он находился на тех участках всенародной борьбы, на которых больше всего нужны были его знания, его опыт, его незаурядные организаторские способности и личное мужество. Всегда выдержанный, спокойный, рассудительный, Александр Васильевич был неизменно тактичен с окружающими, даже в сложных ситуациях не теряя присутствия духа, а склад его речи, несколько удивлявший слушателей, выдавал его происхождение: его отец и дед учительствовали в сельских школах, неся в крестьянские массы не только просвещение, но и революционные идеи. С этими идеями пришел на Балтийский флот юный Александр Годунов, плечом к плечу со своими товарищами с первых дней Октября вставший на защиту молодой Советской Республики.
Когда над нашим городом нависла непосредственная угроза, Ставка Верховного Главнокомандования направила товарища Годунова в Орёл, наделив особыми полномочиями. Утром 30 сентября 1941 года жителям населенных пунктов, находящихся на территории военного округа, было объявлено о создании Орловского оборонительного района. А.В. Годунов возложил на себя нелёгкие обязанности командующего в тяжелейших условиях: не хватало бойцов, оружия, боеприпасов. Но коммунист Годунов, твердо помня слова товарища Сталина, что нет в мире таких крепостей, которых большевики не могли бы взять, был уверен и в том, что любой город большевики могут превратить в крепость. В тот же день он с отрядом чекистов прибыл в Дмитровск-Орловский. На этом рубеже предстояло задержать бронированные гитлеровские полчища…
Глава 15
30 сентября — 1 октября 1941 года,
Орёл
«Все выше, и выше и выше Стремим мы полёт наших птиц!»Ага. Вот прямо сейчас, бегом и вприпрыжку. Кто «стремит полёт», а кто — с этими самыми «птицами» сношается в особо извращенной форме: «уши в масле, нос в тавоте, но зато — в Воздушном Флоте». Так говаривал давно, ещё до войны, обрисовывая будущее нерадивых курсантов, Фёдор Иванович, зануда и сквернослов, зато настоящий военный пилот, хоть и в прошлом, а теперь — отличный инструктор и просто хороший человек. Поэтому начальство ему все прощало, а курсанты-девушки были попросту в него влюблены. И она, Маринка, тоже… ну, самую малость. Что же до грубости — этим её не отпугнешь. Всю жизнь рядом с железнодорожниками, а они ещё и похуже сказануть могут, особенно если подвернешься под горячую руку.
В который раз за последние недели вспомнилась ехидная инструкторская поговорка — и снова стало обидно до слез. Не помогли ей ни полученное в тридцать второй школе — говорили, одной из лучших в городе! — среднее образование, ни усидчивость на занятиях и целых восемь часов налёта в осоавиахимовском аэроклубе, где посчастливилось впервые подняться в небо. Усталый, как будто бы ко всему на свете уже безразличный районный военком раз и навсегда определил Маринкину судьбу. «Без приказа женщин… да каких женщин! Девчонок сопливых!.. — зашелся надсадным кашлем и отрезал со злостью: — Короче, в бой вас я не пущу. И никто не пустит! Хоть с самим секретарём райкома комсомола ко мне приходи». Знал ведь уже, наверняка знал, что райком уже закрыт — кто на фронте, кто в истребительном отряде. Ну да Маринка и сама не лыком шита!..
Все, чего удалось ей добиться в сорок пятый ежедневный визит, — так это первого и единственного сочувственного взгляда и подписи на заявлении о добровольном вступлении в ВВС РККА.
Она сразу почуяла подвох. И правильно почуяла. Ни быстрого истребителя, ни грозного бомбардировщика, ни даже тихоходного транспортника на долю Марины Полыниной не досталось. А достались ей служба в роте аэродромного обслуживания в родимом Орле да нечаянные «радости» ремонта ушатанных поколениями аэроклубовцев У-2 и чуть менее измученных жизнью УТ-2. Что таить: и подковырки ротных остряков достались тоже.
Собрался у них народ всё больше степенный, семейный, однако любители проехаться насчёт миниатюрности Маринкиного теловычитания и неловкости в работе с вверенной матчастью нашлись. Хотя Полынина и была единственной в роте девушкой, но никаких сальностей ей слышать не случалось: в первую очередь из-за того, что дядьки-запасники были наслышаны об её военкоматовских мытарствах и прониклись уважением к упорству «мелкокалиберной девахи». Кроме того, что-то вроде шефства над Мариной взял на себя Егор Перминов, красноармеец аж девятьсот второго года рождения, бывший ЧОНовец, участник Гражданской, немало погонявший и банды кочи в освобождённом Закавказье, и басмачей в Туркестане… Так уж сложилось, что комиссованный из рядов по ранению бывший боец эскадрона особого назначения осел на жительство в Орле, где устроился смазчиком на «железку». Там он и задружился с отцом Марины, бывшим пулемётчиком команды бронепоезда «III Интернационал» Одиннадцатой Красной армии.
С началом войны старый солдат добился в военкомате медицинского переосвидетельствования, и, в конце концов, был признан ограниченно годным по здоровью и подлежащим призыву в тыловое подразделение. Таким подразделением и стала ближайшая к городу рота аэродромного обслуживания. Дядька Егор глядел на девчонку строго, но, случалось, и в работе помогал, и трепачам окорот давал.
Да Маринка и сама на шутки не очень уж обижалась. Чего она, в зеркало себя не видела, что ли? Понимала: трудно сдержать улыбку, когда ты видишь эдакую тоненькую куколку, одетую в гимнастерку, где между воротником и шеей можно кулак продеть, а в каждую штанину защитных шаровар — засунуть обе ноги разом? У каптера нашлись ей по размеру только пилотка со звёздочкой да солдатское белье — две пары бязевых рубах с мужскими подштанниками. Предметы дамского туалета, как он сразу же предупредил с нарочитой суровостью, концепцией вещевого снабжения Красной Армии не предусматривались. Маринка спорить не стала, хотя знала, что были на снабжении и форменные платья, и юбки. Но это ж для комсостава! А она, красноармеец Полынина, для платья чином не вышла, а юбок на складе попросту не оказалось. Ну да и шут с ней, с юбкой: строевой-огневой подготовкой в ней заниматься не очень-то удобно, а уж ползать по-пластунски на КМБ или возиться в авиационном движке, до половины залезши в капот самолёта, — вовсе стыдоба!
Впрочем, с приведением обмундирования в божеский вид Марина справилась быстро: два вечера при свете керосинки подпарывала-ушивала-отглаживала примитивным рубелем свою солдатскую одежонку. Даже безразмерный рабочий комбинезон старого образца с чёрными костяными пуговицами на её фигуре больше не смотрелся как провисший на березке парашют, а выглядел вполне аккуратно. Вот только обувь… Хоть и сильна, хоть и славна Красная Армия, хоть и много у неё самолётов, танков, пушек — а всё ж таки не хватает у неё казённой обуви на ногу тридцать второго номера… Самые малоразмерные ботинки, которые удалось отыскать каптеру, оказались тридцать восьмого и выглядели на Маринкиных ножках как полуметровые игрушечные крейсера, продававшиеся в «Промтоварах» перед войной. Не побегаешь в таких, не промаршируешь — будто два утюга шаркают подошвами. И хоть в лепешку расшибись, хоть в блин раскатайся — нет на аэродроме никого, владеющего сапожным искусством! Некому Марине в такой беде помочь… Вот потому и носила поначалу красноармеец Полынина, с разрешения комроты, разумеется, во внеслужебное время, парусиновые «тенниски», в которых явилась в военкомат.
Увы, вечных вещей не бывает. Так что ничего удивительного, что к концу сентября месяца девичья обутка полностью развалилась: удивительно, что этого не случилось раньше. Тем более — осень, сыро-холодно-тоскливо… Оттого-то доброволец Полынина, 1919 года рождения, и пошла на воинское преступление, за которое по военному времени ей светили бо-о-ольшие неприятности, самовольно покинув расположение части, или, говоря по-простому, свалив в самоход.
Казалось — ну что такого! От аэродрома до дома всего несколько километров: за полтора часика пробежать знакомой обочиной, хоженой-исхоженой за время занятий в аэроклубе, со дна сундука достать мягкие праздничные козловые сапожки — наследство от покойной бабушки, переобуться, прихватить с собой ещё кой-какое бельишко, мыло, круглую коробочку зубного порошка и баночку гуталина… И тем же быстрым темпом вернутся домой ещё до того, как боец на тумбочке заорет на всю казарму «Р-рёт-та! Падыём! Вых-хади строится!» Делов-то!..
Но, как напоминал прогрессивный писатель Лев Толстой, «гладко было на бумаге, да забыли про овраги…». Одним словом, когда Маринка, звеня стальными подковками праздничных мягчайших сапожек, уже выбегала на последнюю улицу, из темноты ей навстречу вынырнули силуэты с винтовками:
— Комендантский патруль! Ваши документы!
Ну, какие там документы? Не прежние времена, когда у каждого бойца была при себе «книжка красноармейца»: нынче все числятся в списках личного состава подразделения. А увольнительной записки у Марины нет. Откуда?! Да и недействительна она была бы после официального времени отбоя…
Круто развернувшись, Полынина дёрнулась бежать, благо все окрестные переулки-тупички были ей знакомы с малолетства. Ан не тут-то было! Крепкие пальцы патрульного вцепились в горловину заплечного мешка, сильным рывком чуть не опрокинув девчонку на спину:
— Куда! А ну стоять!
… Гарнизонная гауптвахта — место унылое и неприятное. А когда всех «пассажиров» там трое, причём сидишь ты, девушка, в индивидуальном помещении, в обычное время предназначенном для проштрафившихся лиц комначсостава, то ещё и до псиной тоски скучное! Не считать же развлечением тупую шагистику и переползания под командой опирающегося на суковатую палку сердитого младшего сержанта с новенькими чёрными петлицами танкиста на выцветшей гимнастерке третьего срока и багровеющей свежезалеченным шрамом щекой? Ну, и хозработы — куда без них! Переборка в мерзлом бетонном складе громадных буртов грязного картофеля, мытьё стен и полов в помещениях комендатуры и гауптвахты, отупляющее откачивание помпой воды из аварийного коллектора… Ничего, скажу я вам, воодушевляющего! А учитывая вероятность грядущего суда — и вовсе хочется свернуться клубочком и завыть…
Два дня гауптвахты для Маринки тянулись как два года. Вечером третьего, вместо получения полагающегося ужина, её отвели в кабинет с обшитыми темной рейкой стенами, где, предварительно задав несколько вопросов о прохождении службы, образовании, происхождении и даже о часах налетов в аэроклубе, передали с рук на руки незнакомому капитану с родными авиационными петлицами на пропахшей специфическим амбре госпитального склада шинели.
И вот красноармеец Полынина вновь на своем аэродроме. Только теперь уже не в качестве аэродромной обслуги, а как полноправный, хотя и абсолютно «зелёный» пилот. И вместе с ней в этой роли выступают ещё пятеро девчат с аэроклубов: четверо орловских и одна эвакуированная из Минска ещё в июне месяце. Командуют ими недолеченный капитан Полевой и ветеран Гражданской и Империалистической войн сорокавосьмилетний красвоенлёт Селезень, не прошедший аттестацию на присвоение воинского звания, но гордо сверкающий выделяющимся на потертой кожаной куртке значком краскома. Да ещё «штурманы» — такие же бывшие аэроклубовки, только не налетавшие и трёх часов каждая. «Теоретики», так сказать. Их задача — следить за ориентирами, прокладывать курс и швырять на головы фашистов всю взрывучую начинку, какой только удастся нагрузить самолётики. Плюс механики и вооруженцы — вот и вся свежесформированная легкобомбардировочная эскадрилья, подчиняющаяся пока что непосредственно Штабу обороны. Хотя Полевой хмурится — какая эскадрилья? И добавляет: какая эскадрилья, такая и матчасть. Верно, не матчасть это вовсе, а сплошное надсмехательство! Четыре аэроклубовских, латанных-перелатанных ещё до войны, У-2 с давно выработавшими ресурс двигунами (есть ещё три, но, глянув на них Полевой отвернулся, только что не зажмурился, а Селезень сплюнул в сердцах), да три самолёта поновее — УТ-2. Под фюзеляжи каждой из машин умельцы-механики уже ухитрились приделать кронштейн-подвеску для стокилограммовой ФАБки и теперь гадали, как приспособить на самолёт хоть по одному курсовому пулемёту из полутора десятков привезённых с окружных складов ДА и ШКАС-32. Воевать на безоружных учебных самолётах было бы чистым самоубийством. Одно хорошо: никаких согласований с вышестоящим авианачальством не предвиделось. Эскадрилья в мобпланах сроду не значилась, появившись на свет в результате волевого решения командующего Орловским оборонительным районом старшего майора НКВД Годунова. Значит, не без гордости говорил Полевой, подведомственна она наверняка будет чекистам. Впрочем, учитывая характеристики машин фронтовой авиации Люфтваффе (на этот счёт Маринка ещё во время своих военкоматских мытарств крепко подковалась), велик был шанс, что после установки на «кукурузниках» и «уточках» пулемётов винтовочного калибра означенное самоубийство попросту несколько затянется.
Но Маринка, как ни странно, мимо всех этих соображений проскальзывала походя. Куда больше было волнения и тревоги: сможет ли она оправдать доверие Родины? А еще, совестно признаться, жуть как хотелось поболтать с девчонками, почти что два месяца их не видела. Они-то — слегка красовалась перед самой собой красноармеец Полынина — оказались не такими упёртыми, как она, день на десятый сдались. Катюшка — та и вовсе в эвакуацию собиралась. А Клавочка сразу честно призналась, что на фронт попасть боится. И каково же было Маринкино удивление, когда она увидела их обеих на аэродроме. Обрадовалась, что и говорить. Со своими-то — и на земле, и в небе уютней.
Девчонки посмеиваются: самолёты — «уточки», самый опытный лётчик — Селезень. Не эскадрилья, а утиная стая! Но ко всему, что говорит красвоенлёт, прислушиваются. Как-никак, настоящий лётчик и вообще — в отцы им годится.
На формирование и «усушку-утруску», говоря словами все того же Селезня, матчасти и личного состава ушли почти сутки. И уже следующим вечером, не дожидаясь, пока начнет смеркаться, четыре признанных годными к вылету У-2 один за другим поднялись следом за капитанской «уточкой». Сделав круг над аэродромом, восемь девчонок — пилотов и штурманов — в фанерных самолётиках направились на юго-запад, в сторону приближающегося фронта…
Глава 16
30 сентября 1941 года,
Дмитровск-Орловский
Ещё во времена, претендующие на почётное звание незапамятных (ну, хотя бы потому, что, принадлежа личному прошлому, теперь они объективно являлись будущим), Годунов вывел для себя правило: составляя план на ходу, рискуешь завалить работу. А результат надо как раз таки выхаживать. В самом прямом смысле слова. Ножками. С поправкой на текущий момент — выезживать. Вот и моталась его «эмка» остаток дня и весь вечер по городу и окрестностям, прокладывая экскурсионно-туристические маршруты для искушенных европейцев. Сперва командующий внимательнейшим образом осмотрел город. Потом, подхватив по пути Нефёдова, выехал на место будущей пламенной встречи — в междуречье Нессы и Неруссы. Полюбовался пока ещё мирными ландшафтами, прикидывая, как бы половчее приспособить их для войны, — и двинулся в лес, с притворным видом большого знатока вслушиваясь в диалог старлея и партсекретаря: они с мальчишеским азартом обсуждали (а что, по возрасту оба куда ближе к пацанам, нежели к дедам), как половчее организовать засаду. И снова — в город, с заездом на станцию: все ли готово к отправке эвакуируемых и к принятию состава из Орла?
Попутчики менялись, но чаще других рядом с командующим оказывались Федосюткин и Мартынов. Заодно появлялась лишняя минутка, чтобы частности обсудить, без отрыва от бурной деятельности. А частности — это совсем не обязательно мелочи. Скажем, сорок пять тонн ГСМ — это не то чтобы очень много, но довольно внушительно. А ежели учесть, что до них всего-то полчаса пути, так и вовсе подарок судьбы. И не успеть толком воспользоваться им — идиотизм, если не преступление. Следовательно, ещё пару машин в деревню с красивым русским именем Лубянки направить просто необходимо.
…Годунов понятия не имел, насколько был прав, мысленно поименовав содержимое лубянских складов подарком. Тем паче, представить себе не мог, что одним только своим распоряжением аккумулировать горючее в Дмитровске внес дополнительные коррективы в историю. Никаких хитрых взаимосвязей, никакого эпического, высокого эффекта бабочки; все просто, приземленно — эффект гусеницы, которой вместо ветки с сочными листьями подсунули сухую. Ибо в прежней истории «быстроходный Хайнц» был настолько стремителен и пока ещё непугано нахален, что оставил тылы далеко позади и в город вошел с почти опустошёнными баками. Час-другой — вроде, пустяк, да не тогда, когда счёт идёт на эти самые часы. А тут — лубянская горючка, подарок если не царский, то уж княжеский — точно. На той дарёной горючке и двинули к Орлу.
История пока ещё не отклонилась от известного Годунову маршрута, но уже замедлила шаг.
Александр Васильевич не подозревал об этом, даже смутного ощущения — и того не было. Ведь на его глазах, в спешке, в грохоте и ругани, в слезах разворачивалась вечная трагедия под названием «Исход»…
…Движутся к железнодорожной станции вереницы людей. Ходят от дома к дому патрули из ополченцев; дядьки — ровесники Годунова и мальчишки, едва ли намного старше его юнармейцев. На лицах — тревога и сосредоточенность, разве что видно — мальчишки все ещё немножко продолжают играть в войну и со школярской убежденностью ставят знак равенства между поручением и приключением.
А им навстречу спешит барышня в приталенном жакетике, береточке набекрень и с коричневым фанерным чемоданчиком, шустро ковыляет укутанная в расписной, наверняка праздничный, полушалок бабулька с двумя холщовыми сумками, связанными и перекинутыми через плечо, толкает доверху нагруженную скарбом тачку белобрысая девчонка, а следом за ней мать тащит упирающуюся девчонку поменьше, другой рукой прижимая к груди младенца в одеяльце. Тележка дребезжит, мелкая кричит, младенец плачет, но во всеобщем шуме эти звуки не кажутся слишком громкими.
Глухое «плюх» — это у барышниного чемоданчика отрывается ручка, замки от удара оземь раскрываются, выпуская на волю — удивительно, но не наряды, а десятка два книг и множество фотографий. Серо-жёлтые карточки незамедлительно подхватывает ветер и несёт вместе с пожухлой листвой. Исход…
Девчонка сноровисто закатывает тележку под дерево и бросается на подмогу. Меньшая, одной рукой продолжая размазывать по лицу слезы, другой собирает книжку за книжкой и относит барышне.
Женщина в стареньком, но опрятном пальто старательно закрывает ставни, словно делает что-то очень значительное, а на лавочке перед домом как-то уж слишком чинно, по росту, сидят четверо ребятишек. Женщина, скорее всего, понимает, что её труд не имеет смысла. Но всем им так спокойнее.
Монашеского обличья старушку сводят под руки с высокого крыльца девушка и мальчонка, следом тётка в сбившемся на затылок платке чуть не волоком тащит огромный узел и плачет. Кажется — просто от усилий.
Сурового вида дед, нетерпеливо прикрикнув на замешкавшегося у калитки подростка с двумя плетёными корзинами, ставит на землю оцинкованное корытце с какой-то едой и по-мальчишески свистит. Через пару минут у корытца — с десяток дворняжек всех размеров и мастей. Дед глядит на них, будто бы ему совсем некуда торопиться.
К патрулю бежит пожилая женщина в пуховом платке и летнем платье, кричит издалека:
— Миша! Миша, ты Ванятку моего не видел?
— В райкоме комсомола были? Ну так подите поглядите.
Федосюткин слушает, безрадостно усмехается. Добровольцев моложе семнадцати лет велено гнать в три шеи, но командующему понятно: тревожится партсекретарь, что кто-нибудь вздумает потеряться по дороге от райкома комсомола до дома.
— Послушайте, Андрей Дмитриевич, а не пора ли в райкомах двери на запор? Мобилизация по партийной и комсомольской линии завершена? Завершена…
Годунов осекся: секретарь глядел с таким настороженным удивлением, как будто бы подозревал, что его просто испытывают.
— Так люди ж идут, кому какая помощь нужна.
Вот те на! Задал вполне невинный вопрос, а по сути…М-да, кажется, никогда ещё Штирлиц не был настолько близок к провалу. Вон и Мартынов исподволь косится через плечо… или просто разговор слушает? Интересно, а как тебе, Матвей Матвеич, годах в восьмидесятых нравились партработники-чиновники и комсомольские вожаки, желающие быть не солью земли, а белой костью?
Издержки послезнания.
А символы дня сегодняшнего — вот они, у тебя, Александр Василич, на виду: двери Преображенской церкви, которые снова открыл прямо-таки иконописный старик отец Иоанн, чтоб дать кров над головой погорельцам, и двери райкома в городе Дмитровске, которые упрямо не желает закрывать этот парень простецкого вида — и молодец, каких поискать.
— Убедили, — Годунов улыбнулся. — Подбросить вас до райкома?
И машинально посмотрел на оттягивающие запястье часы. Копьевидные стрелки попирали змееподобную цифру «шесть». Пора возвращаться на станцию — встречать людей и грузы из Орла. И сразу же место определять и для тех, и для этих.
На вокзале наблюдалось вполне предсказуемое столпотворение вавилонское, поначалу ещё сохранявшее какое-то подобие упорядоченности и целеустремлённости, но сейчас изрядно их порастратившее: с отправкой очередного, второго по счёту, состава, пришлось погодить, чтобы пропустить встречный. Замотанные, обозленные тётки-служащие и десятка полтора ополченцев гоняли мелюзгу от железки. Годунов достаточно долго проработал в школе, чтобы уяснить: попытка аккумулировать такое количество детворы в одном месте и надолго — аж на пару часов — найти всем и каждому занятие, препятствующее активному (и далеко не всегда безопасному) освоению мира, — это фантастика. Так что оставалось надеяться, что обойдется без происшествий. Старики сидели на баулах, на узлах, и негромкий говорок вплетался в общий гомон. На лужайке за дощатым станционным домиком сухонькая бабулька доила козу, а стайка малышей, загодя вооружившись кружками, ждала поодаль. Девчата, усевшись рядком на скамейке, слаженно выводили: «Дан приказ: ему — на запад, ей — в другую сторону…» — и почему-то у них выходило радостно и задорно. Мужичок-с-ноготок деловито тащил от колонки ведро воды — по ту строну путей, на утоптанной площадке с остовами футбольных ворот, уже развели костры, что-то жарили, приготовлялись раздувать самовар.
Годунов разом ощутил и горечь, и гордость. Напортачил он с эвакуацией и до сих пор не знает, что можно было бы сделать иначе, дабы не допускать такой анархии и, к тому же, не доставлять военный груз на виду у мира. Но вот ведь люди, а? Золотые люди! Мигом ко всему приспосабливаются!
Времени до прибытия состава хватило аккурат на то, чтобы выкурить папиросу да заглянуть в здание вокзала, где трагикомический Михаил Сергеевич, зачем-то устроившийся в каморке билетной кассы, с обреченным видом выдавал через окошечко колбасу ехидно посмеивающимся женщинам. Годунов тоже невольно улыбнулся — и поймал себя на мысли, что, несмотря на патовую ситуацию, сложнее которой не было в его жизни, улыбается куда чаще обычного. Судьба в ответ то ухмыляется с мрачной иронией — мясокомбинатскому фургончику теперь предстоит возить взрывчатку, то улыбается, да так открыто и душевно, хоть и сквозь слезы, что у Годунова даже не хватает сил сердиться на себя за недодуманное и недоработанное. Вон, спешит на помощь щуплому пареньку-ополченцу, который долго приноравливается, как бы половчее ухватить с земли ящик, низенькая плотная женщина. По решимости, с коей она отмахивается от дедов из оцепления, отодвигает парня в сторону и берётся за ящик, можно сообразить, что не впервой тётке коня на скаку останавливать и в горящую избу входить.
«Всё-таки надо было привлечь гражданское население для разгрузочно-погрузочных», — думает Годунов. Ну вот не дают ему собственные стереотипы действовать сообразно моменту. Нет, о соблюдении режима секретности мечтать было бы наивно, однако ж и помимо того… Никак не соединяются, не связываются в сознании флотского офицера мирного времени тяжеленные ящики со взрывчаткой и эти вот тётки, которым будто бы только личного примера соседки и не хватало, чтобы броситься к составу — как по команде! К сыновьям, к братьям, к отцам. И тягают они так, что у самих слезы на глазах, но хрен ты их теперь прогонишь, раньше думать надо было. Не связывается у командующего судьбоносная важность предстоящего с героической анархией, творящейся на станции. Но тут уж ничего не попишешь: ополченцы — не кадровые бойцы, для них эти женщины — не «гражданское население», а матери, сослуживицы, знакомые. Кто-то из них только сегодня завтракал за одним столом, а теперь, буквально через полчаса, им расставаться на неопределенный срок. Думать о том, что для кого-то срок окажется бессрочным… не сейчас.
А чекисты, похоже, решили, что всё было заранее определено командованием. Правда, тёток жалеют, стараются не нагружать.
Не додумали на райкомовском совещании, ой, не додумали! И кому вменять это в вину? Ведь даже те, у кого на вороте петлицы, ещё не мыслят категориями большой войны — такой, в которой стираются грани между бойцами и мирным населением, между фронтом и тылом.
Много чего передумал и просчитал ты, Александр Васильевич, сидя над книгами и размышляя над картами. Но есть вещи которые постичь можно только на опыте. Дай бог, чтоб не на очень горьком.
Годуновская «эмка» покидала станцию одновременно с последним грузовиком. Уже, суетясь и скликая своих, грузились в только что опустевшие вагоны те, кому предстояло ехать в эвакуацию; второй состав должен был уйти следом за первым.
— То-оли-и-ик!
За машинами бежала та самая женщина, что так безапелляционно вмешалась в разгрузку.
— То-олик! Как я тебя найду-то?
— Не знаю, ма, — парень в кузове грузовика смущенно потупился. — Не потеряемся как-нибудь.
— Товарищ красный командир! — ещё громче выкрикнула женщина. — А куда нас, а?
Годунов сделал Дёмину знак остановиться, обернулся к женщине.
— Пока в Орёл, а далее будет определено…
Закашлялся; показалось, что это слова оцарапали гортань.
Игнатов обещал договориться с туляками, чтоб насчёт размещения людей решили, а того лучше — транспортом помогли. Однако ж твердого ответа пока нет, а делиться предположениями…
«История не терпит сослагательного наклонения», — как же напористо, с каким не омрачённым сомнениями восторгом произносила эту фразу неподражаемая и незабываемая завуч Лариса Михайловна! Вот и не будем сослагать. А будем возлагать. Возлагать на себя и на других ответственность и в меру сил делать историю. Во как! А дальше — будь что будет.
— Не беспокойтесь, о вас позаботятся. И за помощь спасибо.
Женщина всплеснула руками.
— Да я ж разве за себя? Я за сына, за Толика. А помощь… — пожала плечами. — Как же своим не подмогнуть-то?
И снова вспомнилось-проассоциировалось: соседка Тамара Вадимовна, человек такой же жизнестойкой, упрямой породы, выпестованный гарнизонами и воспитанный отсутствием в пределах личных квадратных метров твердого мужского плеча, надрывно твердит в трубку мобильника:
— Костик, я сказала, чтобы в десять был дома! У меня нервы не казённые!
Костику в прошлом году стукнул тридцатник, у него третий брак и четверо официально признанных детей.
А тут, может статься, и письмо написать некуда будет. И что ей сказать? Попросить верить в лучшее?
Ничего не сказал, кивнул Дёмину, поезжай, мол. Отвернулся.
И уперся взглядом в двух зарёванных женщин — большую и маленькую.
— Ну разве так можно? Ну разве можно? — приговаривала мать. — Я уж и не знала, где тебя искать! Ну разве так можно!
— Ма, я и так самого маленького…
Младшая продолжала что-то говорить, покаянно и упрямо. Слов Годунов уже не слышал, но мог догадаться: девочка уверяла, что ну никак не потерялась бы и успела бы вовремя. Из-за пазухи детского клетчатого пальтеца торчала сонная мордашка рыжего щенка.
* * *
Всё-таки не врут люди, когда наделяют человеческое сознание всякими удивительными возможностями. Прилёг Годунов подремать на диван в кабинете Федосюткина, такой коротенький и жёсткий, что сам Прокруст позавидовал бы, и мгновенно уснул — будто бы головой вниз в колодец ухнул. И виделось Годунову: расхаживает по комнате из угла в угол товарищ Горохов — будто бильярдный шарик сам собою по столу катается. Голова со стрижкой «под Котовского» покачивается в такт шагам, и слова — тоже в такт, напористым таким речитативом. А возмущается агитбригадчик тем, что с засадами, дескать, перемудрили, замахнулись широко, а вместо полновесной плюхи выйдет отмашка. С ним соглашался кто-то, кого Годунов сперва принял за хозяина кабинета, и только потом сообразил, что это никто иной как Одинцов. Потом Горохов куда-то исчез, вместо него появилась женщина в пуховом платке, та, что искала Ванятку, и военком принялся втолковывать ей, что главное сейчас — сберечь детей. А потом кто-то из них, Годунов не разобрал, кто именно, даже не понял, женский был голос или мужской, потребовал сурово:
— Вы уж сберегите, товарищ капитан третьего ранга!..
Он проснулся в холодном поту и с одной мыслью: авторы альтисторических книжек — сволочи. Ну вот чего бы им стоило, таким умным, лопатящим тонны и гигабайты материала, написать промеж делом пособие для попаданца в столь любимый ими всеми период? Рассмотреть набор типичных ситуаций, проработать оптимальный вариант действий с учетом, так сказать, комплексного послезнания. Вот, скажем, эвакуация гражданского населения из прифронтовой полосы…
— Одинцов прибыл? — голос хриплый спросонья.
— Да нет, товарищ командующий, — Федосюткин поднял голову от бумаг. Причём не читал он и не писал, а прикорнул прямо за столом, подложив вместо подушки несколько картонных папок.
Годунов в который раз за день бросил взгляд на наручные часы. Восемнадцать пятнадцать. Эх, голова садовая, мог бы пока и не будить партсекретаря.
— Так да или нет? — спросил резко, заглушая интеллигентские рефлексии.
— Не прибыл пока. Да вы не сомневайтесь, на станции Нефёдов, он сразу… — Федосюткин немного помялся. — Товарищ командующий, мы тут для засады лучше место нашли. Ну, мы с Нефёдовым. Ясное дело, нужно было бы сразу, а потом к вам, но… Один охотник посоветовал, дед Паша. Вы уж извините, что мы его спросили, но Пал Игнатич — мужик надёжный, хоть и беспартийный.
Годунов нахмурился — и мысленно махнул рукой. Спросили — и спросили, что ж теперь, под трибунал их, что ли?
Суток не прошло, как он в Дмитровске, а уже начал привыкать, что война здесь с привкусом партизанщины.
— Вам на карте показать или поедем? — продолжал гнуть свою линию неугомонный секретарь райкома.
— Показать. А потом поедем. И вот ещё что мы с тобой, Андрей Дмитриевич, упустили. И пока совсем не упустили, ты найди-ка ответственного человечка, лучше, думается мне, женщину, быстрее с мамашами общий язык найдет. Одним словом, надо, чтобы прямо на станции детям на одежду бирки нашивали и хотя бы химическим карандашом имя-фамилию писали. Бережёного бог бережёт, — и, вспомнив Игнатова, неохотно добавил: — Как бабки наши говорили.
Федосюткин ненадолго задумался.
— Сделаем, товарищ командующий.
Ну что ж, будем надеяться, в этой реальности потерявшихся на дорогах войны детей окажется меньше. Хотя бы на несколько человек.
* * *
В шесть тридцать пополудни умер Борис Федотыч Чуров, чудаковатый, как многие по-настоящему увлечённые люди, старик-садовод. Вышел проститься с отцветающими астрами, сел на скамейку — и умер. Дочка и внучка, уже готовые к отъезду, увидали, метнулись по соседям, кто-то побежал в райком. Время не ждало, и схоронили деда Борю здесь же, в саду, под любимой его яблонькой.
Первая потеря при обороне Дмитровска.
Глава 17
1 октября 1941 года,
Дмитровск-Орловский
Однажды в прошлой жизни военруку Годунову А Ве с юнармейцами Почётного Караула довелось пережить дружественный набег комиссии из министерства обороны, приехавшей замерять каким-то неведомым точной науке образом уровень военно-патриотической работы в области. Дружественный — потому как юнармейское движение проходило по ведомству образования. Набег — потому как почти неожиданный. Почти. Ибо днем ранее начальнику Поста № 1 позвонили из облвоенкомата и уведомили: через час нагрянет Главный. Сиречь облвоенком. Начался вполне предсказуемый аврал. Главный не приехал — прибыл. На черной «Волге» и с сопровождающими лицами. Его встречали при полном параде, разве что не хлебом-солью и без фанфар. Неадекватной заменой последним стал зелёный попугай Пулечка, прооравший что-то нечленораздельное и не ахти какое возвышенное (и, как следствие, заточённый в кладовке до окончания всей серии визитов — во избежание конфуза). Военком сообщил: к нам-де едет ревизор, но мы, в щедрости нашей безмерной, и с вами поделимся, мало никому не покажется. Далее, по традиции, принялись судить да рядить, каким именно способом метко поразить воображение московских гостей. В завершение Главный ещё раз обозрел караулку — сочетание темных оттенков синего и коричневого, известных в среде профессионалов под названием «что гороно послало», породило выражение сдержанной печали на его лице — и снисходительно, с точно выверенной долей сомнения в голосе, благословил ребят на деяние, коему, бесспорно, предстояло войти в анналы истории… ну, хотя бы истории орловского Поста № 1.
Облвоенком Одинцов прибыл в семь пятьдесят пять по Москве один. На лично пилотируемом самолёте УТ-2, без штурмана. Встречали его более чем официальные лица: командующий Орловским оборонительным районом, первый секретарь районного комитета ВКП(б) и будущий писатель-документалист, однако ж без какой бы то ни было торжественности. Каждому без долгих слов было понятно: если не удастся в полной мере поразить воображение Гудериана, то уж точно — мало никому не покажется.
Да и само зрелище оказалось будничным, лишённым какой бы то ни было внушительности: в мутных предрассветных сумерках возник игрушечный силуэтик самолёта, на несколько мгновений отстав от собственного звука: хорошо слышимое в сыроватом воздухе низкое «ж-ж-ж», будто большой жук, посаженный в коробку, гудит. Годунову сразу вспомнился памятник в сквере возле орловского машиностроительного техникума: в руке у конструктора — модель самолёта. Бочкообразный, обтекаемых очертаний И-16, конечно, ничуть не похож на угловатую этажерку, однако ж родитель один, Орловской губернии уроженец Николай Николаевич Поликарпов. «Уточка» скользила по небесной глади, как будто бы нарочно — по самой границе восходящего солнца, и от этого почему-то ещё больше напоминала детскую игрушку. А потом так же плавно пошла вниз — и побежала навстречу посадочным огням костров, слегка подскакивая и кренясь на неровностях. Мотор сменил своё жужжание на мерное постукивание а затем и вовсе замолк. Самолётик остановился шагах в тридцати от Годунова. Эффектно, ничего не скажешь! Не лишен товарищ военком лётного форсу! Даром что лицо строгое-престрогое, хоть статую в духе античности лепи.
Утвердился на земле. Коротко доложил Годунову о происходящем в Орле. Приличествующей случаю убежденности в том, что он сделал все от него зависящее и даже чуть больше, не продемонстрировал. Уныния, коего следовало было бы ожидать от человека, прекрасно понимающего: что бы ты ни свершил, этого вряд ли будет достаточно для решения всех первостепенных задач, не проявил. Да и всем яснее ясного: больно уж до хрена их, этих первостепенных, хребет сломаешь, лавируя между ними.
Одинцов прошёлся по аэродрому. Громко, конечно, сказано — по аэродрому. Посадочная площадка, подготовленная настолько качественно, насколько позволили силы и сроки. Но «аэродром» звучит куда как короче и оптимистичнее. Однако ж заметить на лице военкома хотя бы тень оптимизма мог только человек, одаренный немалой фантазией. лётчик перехватил вопрошающий взгляд командующего. Казалось, сейчас пожмет плечами, но нет, склонил голову, вроде как одобрительно.
— Только позвонить, поторопить их надо, чтоб до темноты успели.
Переспрашивать-уточнять Годунов не стал: сам, сколько себя помнил, не терпел рядом любопытствующих профанов… не хватало ещё самому на старости лет да в другой жизни к ним примкнуть. Ну, на душе ещё чуть потяжелело… при той тяжести, что и так на ней лежит, почти и незаметно. Почти. Учитывая, сколько сегодня предстоит мотаться, чтобы везде поспеть и все успеть… утрясётся она, эта тяжесть.
Утряслась. Спрессовалась. Залегла глубоко. А потом выпала из темного уголка сознания да и приложила по мозгам. Когда Годунов увидал их, всё ж таки до темноты успевших.
Сели благополучно. Все. Эскадрилья численностью в шестую часть настоящей. Силища!
Вряд ли Годунову послышалось-почудилось: военком вздохнул с облегчением. И доклад командира, бледного сухопарого капитана неопределенного возраста, слушал откровенно одобрительно. Однако ж в сторону новобранцев-летунов глядеть избегал. Почему — ясно, как божий день. Худосочные взъерошенные валькирии в кое-как ушитых комбинезонах-парашютах пытаются принять стойку «смирно», а коленки до сих пор трясутся, и взгляд — у кого в сторону, у кого в землю. И ведь твердо знаешь, что такие вот девчоночки в скором времени заслужат у врагов — как у своих награду заслуживают — прозвание «ночные ведьмы». Но как-то не верится, что вот сейчас, именно сейчас выдюжат, не подведут. Девочки-девчоночки… наверняка им лет по двадцать. Не так уж и мало по нынешним временам, Годунов на примере собственного отца знает, что в войну взрослеют быстро. И всё же в сравнении со старшеклассницами-юнармейцами — и вправду девчонки, женственности у всех у шестерых вместе взятых — как у одной Женьки Селивановой. Та вон, большеглазая, даже малость на Женьку похожа…или нет… фигурка мальчишеская, волосы срезаны некрасиво, будто по линейке, нос курносый, рот большеват. Нет, не похожа. А ощущение, что видит её не впервые.
И разом — другое: а хорошие, всё-таки, у этих девчонок лица. Свои, родные.
— Нам бы вас не подвести, — сказал вслух, вполголоса. Но никто в ответ не глянул — то ли не расслышали, то ли он попросту общую мысль озвучил.
— Экипажам отдыхать, командир — со мной.
Ох, девочки-девчоночки! И самолётики — вам под стать, легонькие лодчонки. Каково ж вам будет в пятом океане посреди огненного шторма?
Из книги Владимира Овсянникова «Так зарождалась Победа» (Орёл: Орёлиздат, 2002)
Роль личности в истории… Сколько бы об этом ни говорилось, сколько бы ни издавалось документально достоверных книг, каким бы почтением ни были окружены ветераны Великой Отечественной и сколь бы бережно ни сохранялась в обществе память о павших, нашему современнику трудно, практически невозможно постичь меру ответственности, которую историческая ситуация возлагала на человека. Когда объективные обстоятельства врываются в твою жизнь в обличье бронированных машин для убийства, нужно твердо помнить о чести и долге, чтобы встать у них на пути. И нужно быть воистину героем, чтобы выстоять и победить.
«Кадры решают все». Эту афористически точную мысль И.В. Сталина, не теряющую своей актуальности и поныне, фронтовики воспринимают по-особому. Как известно, для первых месяцев войны были характерны ситуации острейшей нехватки резервов и ресурсов, условия менялись столь стремительно и угрожающе, что попытки изменить их были равноценны намерению удержать рукой снежную лавину. Но люди — обычные люди, которые только вчера растили хлеб, стояли у станков, сидели за партами — оказались способны на воистину сверхчеловеческие деяния. Легенды об этих людях возникли куда раньше, нежели появились книги мемуаров и научные монографии.
Общеизвестный факт: 1–2 октября 1941 года войска Брянского фронта в течение сорока часов героически сдерживали яростный натиск значительно превосходящего противника на Орловском направлении. Умело нанесенные фланговые удары привели к тяжёлым потерям в 10-й мотопехотной дивизии, а 3-я танковая дивизия вермахта фактически перестала существовать.
Сорок часов. Всего сорок часов. Менее двух суток. Но чувствуешь стальную весомость каждой секунды этих сорока часов, едва открываешь книги участников этих грандиозных событий — будь то мемуары маршала А.И. Ерёменко или документальные повести краеведа и писателя М.М. Мартынова.
Матвей Матвеевич не понаслышке знал о том, что именно эти сорок часов позволили создать новый рубеж на пути механизированных орд незваных гостей. Им стал город Дмитровск-Орловский, тогда — райцентр Курской области.
В истории Великой Отечественной войны Дмитровску отведено особое место. Небольшой город стал, по образному выражению орловского писателя А. Яновского, первым кругом ада для гитлеровцев, первой линией обороны в легендарной Орловской битве.
Сердце и мозг обороны города — старший майор госбезопасности Александр Васильевич Годунов. Он был назначен командующим Орловским оборонительным районом накануне, и прибыл в Дмитровск около полудня 30 сентября. Здесь, в Дмитровске, в полной мере раскрылись его незаурядные организаторские способности и умение принимать быстрые нестандартные решения.
Самый ответственный участок работы — эвакуация мирного населения — был поручен им А.Д. Федосюткину, ныне — орденоносцу, Почётному гражданину городов Орёл и Курск. К своим двадцати восьми годам Андрей Федосюткин прошёл большой трудовой путь — был прорабом, лесничим, директором леспромхоза — и везде проявлял себя как умелый и инициативный руководитель, заботящийся не только о вверенном ему деле, но и о людях. Перед самой войной он получил назначение на должность первого секретаря Дмитровского райкома партии и с честью выполнял свой партийный долг в тяжелейших условиях первых месяцев войны. На его плечи легли и мобилизация в ряды Красной Армии, и эвакуация в тыл части населения, и вывоз материальных ресурсов. В это же время он принимал, расселял, трудоустраивал прибывающих в район беженцев с временно оккупированных территорий. Теперь же перед ним стояла задача небывалой сложности: менее чем за сутки эвакуировать всех мирных жителей Дмитровска.
Люди покидали родной город организованно, со сдержанной скорбью, но не теряя присутствия духа. Уезжали, прощаясь с родными, которым через считанные часы предстояло достойно отразить первый удар неумолимо рвущегося к Москве врага. В этот день завершалось формирование ополчения. Оно пополнилось юношами 1923–1924 годов рождения, среди них было более двадцати человек, сдавших нормы ГТО, и мужчинами моложе шестидесяти лет, многие из которых воевали на фронтах Первой мировой войны и защищали молодую Советскую республику в годы Гражданской. Ополченцы и прибывшие из Орла чекисты под командованием старшего лейтенанта погранвойск НКВД Нефёдова патрулировали город и готовили оборонительные рубежи на ближних подступах. Значительная роль в организации минно-стрелковых засад принадлежит М.М. Мартынову, тогда — младшему лейтенанту НКВД, С.Г. Жарикову, директору леспромхоза, и дмитровскому охотнику, инвалиду гражданской войны П.И. Шевлякову, погибшему при обороне родного города.
Как только город опустел, началась подготовка второго рубежа. Мирный город, только недавно радовавший жителей своей тишиной и просторностью, превратился в тесную ловушку для бронированных фашистских зверей и утративших человечность людей.
И к тому моменту, как 2-я танковая группа Гудериана, используя превосходство в танках, авиации и живой силе, вырвалась на оперативный простор, уже был готов русский — дмитровский — ответ зарвавшимся покорителям Европы…
Из книги Матвея Мартынова «С мечтой о грядущем» (Тула: Приокское книжное издательство, 1965)
На центральной площади возрожденного Дмитровска-Орловского в канун двадцатилетия Великой Победы был установлен памятник работы скульптора А.Н. Бурганова и архитектора Р.К. Топуридзе. На невысоком постаменте розового гранита — бронзовая скульптурная группа: молодой боец-чекист, вооружённый знаменитой трёхлинейкой, пожилой ополченец, стиснувший большими, сильными, крестьянскими руками свою верную «тулку» и женщина, напряженно, с тревожным ожиданием вглядывающаяся вдаль и сжимающая будто бы в объятиях — удивительный, пронзительный символ! — ворох осенних листьев. Старожилы говорят: женщина поразительно похожа на учительницу Ефросинью Степановну Агаркову, одну из героинь этих памятных дней.
А в небольшом сквере на западной окраине несколькими годами ранее появился памятник, созданный дмитровцами братьями Родионовыми. В путеводителе можно прочесть: «Памятник летчицам — защитницам Дмитровска-Орловского». Но памятник сразу же получил неофициальные названия, неизменно удивляющие приезжих, — «Валькирия» и «Маринка». Девушка в летном шлеме держит на высоко поднятой раскрытой ладони голубя мира. В этом случае не остаётся места догадкам: при работе над скульптурой художники-монументалисты пользовались фронтовой фотографией Марины Орловой, в девичестве Полыниной, ныне проживающей в городе-герое Мурманск. Марина Алексеевна не смогла прибыть на открытие памятника, но на митинге было зачитано её письмо с благодарностью создателям памятника и такими словами, обращенными к новому поколению дмитровцев: «В дни праздников принято желать друг другу мирного неба над головой. Мирного голубого неба с ярким солнцем и спокойными облаками, со стремительными птицами и неторопливо проплывающими в далекой вышине самолётами. Самолётами, которые несут на своих бортах только хороших людей и полезные грузы. Даже если небо вспыхивает зарницами или полыхает молнией, оно остаётся мирным. И после дождя снова восходит солнце. Желаю вам никогда не знать другого неба».
Глава 18
2 октября 1941 года,
близ Дмитровска
В январе тридцать третьего Клаусу Весселю исполнилось четырнадцать лет. Отец подарил ему набор слесарных инструментов, а старший брат Хельмут — записную книжку в кожаном переплете. Один мечтал видеть Клауса хорошим автомехаником, таким же, как дядя Вилли, — он-то никогда не сидел без куска хлеба, не то что простой работяга! Другой почему-то видел в нескладном рыжеватом подростке, который до сих пор донашивал за ним одежду, а за столом норовил урвать кусок повкуснее, ни много ни мало — нового Шиллера. В будущем, конечно. А в настоящем Клаусу предстояло много и усердно учиться, да так, чтобы не разочаровать ни отца, ни брата. Дядя Вилли тоже племянником был доволен, ставил в пример сыну, толстому Готфриду, и не бранился, когда Клаус отвлекался от работы, чтобы черкнуть строчку-другую в записную книжку. Ту самую, в коричневом кожаном переплете, — он постоянно носил её с собой. На первой странице, потратив целых два вечера, каллиграфически вывел черной тушью слова: «Sturm und Drang»[3], а ниже — стихотворное посвящение великому штюрмеру.
В это время по улицам маршировали парни из Sturmabteilung и звучала «Die Fahne hoch», написанная легендарным человеком, носившим ту же фамилию, что и Клаус. Толстый Готфрид надел коричневую форму — и Клаус вдруг понял, что кузен никакой не толстый, а просто атлетически сложенный. И принялся тайно, но отчаянно завидовать. И трудиться в автомастерской за двоих.
Под натиском новых впечатлений незнаменитый и пока ни к чему великому не причастный Вессель, как умел, начертал карандашом на форзаце своей записной книжки Войну в образе прекрасной юной женщины. По замыслу она воздетым мечом должна была указывать нации путь ввысь, к свободе и процветанию. Но рисовальщику Клаусу было далеко до Клауса-стихотворца, и Война получилась похожей не столько на истинную арийку Лоттхен — дочь дантиста, сколько на кривую Луизу из бакалейной лавки. Да и меч, совестно признаться, больше напоминал зубило, а нация — полудюжину человекоподобных чурбачков. Они тянули вверх корявые ветки, будто норовя зацепиться за край мантии девы. Мантия вышла, пожалуй, лучше всего, складка к складке… Только глупцы и трусы видят в войне хаос, на самом же деле она — порядок.
Клаус написал об этом целый цикл из пяти стихотворений — как раз к очередной встрече с собратьями по перу. Они без затей именовали себя «богемой», собирались в одном замечательном погребке, и Вессель сразу стал в этом кружке кем-то вроде вождя… о, это горделивое, величественное слово — «фюрер»! Но в этот раз Клаусу восторженно внимал только верный малыш Кляйн, прочие задумчиво хлебали пиво, а насмешник Краузе (вполне вероятно, наполовину еврей) нацарапал на клочке бумаги весьма обидную эпиграмму. Должно быть, такая серьёзная тема требовала шнапса, но дядя Вилли крепких напитков сам не пил и своим работникам не позволял. Не поглядел бы, что племянник, мигом выставил за ворота. Терять место было жаль. А богема… на то она и богема. Вроде бы, у французов это слово как-то связано с цыганами… бр-р-р! Клаус до сих пор нервически передергивал плечами, воображая, куда его мог бы привести этот путь. И написал стихотворение «Покаяние», в котором в символической форме рассказал о том, как мудрая судьба в лице то ли дяди Вилли, то ли великого фюрера предотвратила его падение в пропасть с предательски осыпающейся горной тропинки и указала надёжную, твердую дорогу.
Дорогу, которая привела не куда-нибудь, а в ту самую богемную Францию. И начало лета близ Бордо, как вдруг выяснилось, было ничем не хуже, чем близ Файхингена. И война оказалась похожа пусть не на красавицу Лоттхен, но и не на анархичную старуху из страшных сказок, которая жутко хохочет и не глядя размахивает косой. Нет, она походила на бакалейщицу Луизу, у которой все посчитано и твердой рукой занесено в гроссбух, а то, чему только предстоит случиться, старательно спланировано и нацелено на строго определенный результат. Непоэтично, но… движение нации к величию и процветанию не может подчиняться романтическим порывам.
Все шло так, как надо. Гулкие щелчки пуль по броне были подобны ударам капель дождя в перевернутое ведро. Взрывы… что-то отдалённо похожее Клаус переживал в детстве, когда здоровяк-сосед, подкравшись со спины, со всего маху бил его по ушам… да если бы только бил! ещё и в воздух приподнимал, и тряс… В глазах темнеет, мир ходит ходуном, больно и противно до тошноты! Но все это не может длиться бесконечно. Тогда заканчивалось, закончится и теперь. Раньше у юного Весселя было только собственное терпение, сейчас — ещё и броня верного панцера. Клаус знал, что он не трус. Настоящий ариец всегда преодолевает страх. Французы… ну что ж, французы сопротивлялись ровно столько, сколько нужно было, чтобы заслужить уважение и не обесценить победу германского оружия. По крайней мере, Клаусу с его места механика-водителя виделось именно так.
И кто рискнет сказать, что увиделось неправильно? Ведь сумел же он разглядеть и учуять, что Франция красива и благоуханна, как праздничный пирог, а француженки подобны восседающим на облаках из крема куколкам-богиням. Здесь замечательно мягкая, теплая, как свежевыпеченный бисквит, земля. И сердца, размягченные богемной жизнью. Мягкость — не порок. Для побежденного. А победитель имеет право быть милостивым.
Странно, что Хельмут до сих пор этого не понимает — и впервые не одобрил стихи Клауса. Должно быть, воображение нарисовало старшему брату смуглую цыганистую девицу с вульгарными манерами. На самом же деле Жозефина по-арийски белокура и светлоглаза. И похожа на осторожную, деликатную лисичку — и в жизни, и в стихах своего германского «cher ami». А Хельмут… он максималист. И, как оказалось на поверку, куда больший романтик, чем Клаус. Здоровье не позволило пойти в люфтваффе — подался в авиамеханики. А уж женится точно на истинной арийке, пусть даже она похожа будет на бакалейщицу Луизу. Но ведь это и неплохо, а?
За кузена и вовсе волноваться не приходится: дядя Вилли с гордостью написал, что Готфрид служит в дивизии «Мертвая голова» и уже получил первое офицерское звание. Первое офицерское — звучит завораживающе. К счастью, Клаус не завистлив. Он надеется, что после победы Великой Германии каждый получит то, чего пожелает… в соответствии с вкладом в дело Нации, конечно. И Хельмут сможет заняться изобретательством, не отвлекаясь на всякие пустяки. А Готфрид и дядя Вилли переберутся в собственное поместье, куда-нибудь поближе к югу, дядюшкин ревматизм требует иного климата.
Так думалось и мечталось совсем ещё недавно. А в последнем письме, датированном тринадцатым августа, но полученном лишь позавчера, дядя сокрушался: дивизию кузена перебросили на север России… кто знает, как это скажется на последующем благосостоянии семьи!
Вот уж эти гражданские! Какой-нибудь намёк на незначительные потери повергает их в уныние. Он, Клаус, уже давно забыл, что такое мягкая постель и покой. А летняя Франция здесь, в этой злой стране, окутанной, словно саваном, холодными осенними туманами, вспоминается как дивная сказка. Но он не теряет присутствия духа. После войны у него наверняка будет достаточно марок, чтобы если не выкупить дядину мастерскую, то открыть собственную. И привезти в Файхинген Жозефину, и… А стихи и наблюдения — они для души и на память потомкам: пусть знают, что их предок был не последним из солдат Рейха, многое повидал, испытал лишения, пережил опасности…
Замечательное, кстати, может выйти посвящение — что-то вроде письма в будущее. Почему именно сегодня? Наверное, зря он торопится. Грядут поистине знаменательные дни. Наверняка фюрер позволит своим верным солдатам отпраздновать Рождество в Москау, будет время и поразмышлять, и оформить мысли на титульном листе записной книжки… чёрные чернила можно раздобыть у писаря. А сегодня… Перед ними — самая обыкновенная речушка, названия которой Клаус не запомнил. Дальше, как сказали, будет маленький город, названия он не расслышал.
Они не глушат моторы, не отходят от своих танков, даже, шутка ли сказать, едят на ходу — вот-вот вернётся разведка, и вперед. Нет, вряд ли они столкнутся с сопротивлением русских. Поговорил с бывалыми: все как один считают, что против третьей дивизии большевики бросили последние резервы, что были у них на этом направлении, и здесь ждать толковой обороны от упрямых русских фанатиков не приходится. Клаус вспомнил о сожжённых панцерах, виденных по пути близ Севска (это название он специально запомнил, чтобы прославить павших героев в стихах, когда выдастся свободная минутка), и поежился — конечно, всего лишь от порыва ветра. Да и ожидание — оно почему-то всегда тревожное.
А разведка… надо надеяться, она подтвердит, что переправа надёжна. Иначе… от дурного предчувствия у Клауса заныли виски. Странно… противоестественно! Слово, которым здесь обозначают неглубокое место в реке, звучит очень… чуть было не подумал — по-арийски, быстро поправил себя — по-европейски… и так похоже на родное, доброе — «хлеб». Хорошее, домашнее, надёжное слово — и зыбкое илистое дно, прикрытое мутной холодной водой. Вессель посмотрел на реку, как на притворяющегося покорным мирным жителем врага. Подумал: не зафиксировать ли образ? Нет. Еще, чего доброго, беду навлечешь. И снова зябко передёрнул плечами. На этот раз — не от ветра. От воспоминаний об одной такой же вот речушке, мост через которую оказался взорван и пришлось перебираться вброд. Курт по прозвищу Каменный проскочил с видимой легкостью, Клаус с безоглядной смело сунулся следом. Пройти-то прошёл, но вдоволь напоил мотор водой с песком. И, что ещё хуже, растерялся, когда понял, какую глупость совершил. Не миновать бы взыскания, если бы не Курт. Такому механику сам дядя Вилли уважительно поклонился бы. И младшему из Весселей дружба с ним была бы весьма полезна в будущем. Да вот досада — Каменный ни с кем не желает сближаться и даже когда предлагает помощь, глядит мрачно, лицо — что гипсовая маска, только губы и шевелятся, неподвижный взгляд направлен куда-то в пространство. А еще… нет, Клаус понимает, что страх перед насилием — удел слабого, да и необходимость устрашения уже очевидна, без неё с этой страной не сладишь. Но незаурядное мастерство и точный расчёт, использованные для того, чтобы раздавить собаку, которой вздумалось перебежать дорогу перед танком… или это была кошка? По тому, что от неё осталось, не разобрать. Если кошка — тем более непонятно, какая-то бессмысленная жестокость. Но камерадам Курт помогает всегда, не дожидаясь просьб. Вот и сейчас — Вессель отыскал Каменного глазами — бродит меж танков, как жрец древних германцев — меж дерев священной рощи, смотрит на них с благоговением, останавливается, прислушивается, словно они о чем-то ему рассказывают. Жутковато и завораживающе.
И вообще, зрелище эпическое: бронированная стая готова устремиться к добыче, а люди — уже не просто люди, а сверхчеловеки, которым покорна эта агрессивная мощь. У солнца не хватает сил, чтобы пробиться сквозь промозглый туман, а огоньки сигарет — пробиваются, складываются в новое созвездие. Клаус не сомневается: оно предрекает победу.
Перед мысленным взором гефрайтера Весселя — то, чему только предстоит быть… то великое, что свершится здесь в самом скором времени. Вот из марева вынырнут хищные силуэты — мотоциклы разведчиков. Краткие команды прозвучат красивее любых напутственных слов. И вырвется на свободу неудержимый, но скованный стальной дисциплиной поток. Мотоциклы и люди — единая сущность, псы войны, что вынюхивают добычу. Следом, со стремительностью и напором загонщиков, — броневики. И только потом — рыцарственного вида панцеры. Пехота на бронетранспортёрах, артиллерия, зенитчики — рыцарям не положено обходиться без слуг… Говорят, сам командир дивизии нередко предпочитает танк штабной машине.
Вряд ли в маленьком городке найдется работа для панцеров. Но столь быстрое движение вперед тоже отнимает силы, командующий группой снова и снова оправдывает прозвище «Хайнц-ураган»… о, да, этот век требует именно таких бури и натиска!
Так что пока есть возможность — Вессель снова косится на Каменного Курта, на этот раз неодобрительно, — надо отдыхать. И Клаус закуривает, прикрывая ладонью огонёк от ветра с реки. Сразу становится теплее. Мощь и уют соседствуют. И Клаус думает, думает… Уже не столько о войне, сколько об оттенках серого. Белесовато-серый туман — как выношенный плащ нищего. Броня окрашена в благородный серый — природа наделила хищника, заботясь о его пропитании, шкурой похожего оттенка… Хороший образ.
И всё-таки день для написания посвящения наследникам сегодня не худший, мысли облекаются в слова без малейших усилий. Правда, придётся довольствоваться огрызком химического карандаша. Тем большей старательности требует работа. Приходится пожертвовать последним чистым носовым платком — шёлковым! о, да, у Клауса имеется такая нефронтовая роскошь! — постелить его на броню и только потом раскрыть драгоценную записную книжку. «В этот обычный осенний день на пути в русскую столицу я, гефрайтер Клаус Вильгельм Вессель…»
Кажется, он оказался в танке раньше, чем успел услышать команду. Кажется… Успел сунуть записную книжку в карман комбинезона, уголком сознания зацепившись за мысль: будущей семейной реликвии там совсем не место. Платок… ладно, невелика потеря.
Деревянный мост через русскую реку на удивление похож на другой, памятный — над Энцем. Подростком Клаус удил с него рыбу, на нём же впервые повстречался с холодной, как Лорелея, красавицей Лоттхен… Нашел время для воспоминаний! Сентиментальный поэт за рычагами грозного панцера — более дурацкое зрелище трудно вообразить! И этот проклятый мост никак не может быть похож на тот. Держит — да и ладно. У Клауса взмокли ладони… как же он ненавидит воду! И любит твердую землю… даже ту, которая не так уж и тверда — влажно сминается под траками.
А вот о том, что она вражеская, Клаус начал забывать — миновали стороной две деревеньки, тихие, будто вымершие. Никаких укреплений, никаких русских фанатиков с гранатами и бутылками… о, Вессель видел, каких бед может наделать дьявольская смесь, которую большевики заливают в бутылки! Клаус не трус, но он не может без содрогания думать о том, что совсем недавно считал огненное погребение достойнейшим способом упокоения истинного арийца.
Крышки люков подняты, командир время от времени обозревает окрестности — вряд ли с определенной целью, скорее всего так, для порядка. Заслонка на смотровой щели тоже открыта. Тянет запахом бензина. Привычно… но почему-то тревожно. Кажется, пахнет сильнее, чем всегда. Но… Обоняние не впервые злобно шутит с Весселем, вот и дядя Вилли до поры, покуда племянник не научился скрывать приступы, посмеивался, приговаривал: ты совсем как фрау в интересном положении. С началом службы Клаус как-то вдруг притерпелся, а сейчас снова накатило: голова закружилась, в жар бросило. Вроде бы всё как всегда, но…
Кажется, сперва земля жёстко спружинила, и только после этого гулко бабахнуло… Или так почудилось — потому что за первым взрывом последовал ещё один… и еще… и еще… настолько много, что непрерывный гул перекрыл громовые раскаты. Плотный раскалённый воздух протолкнулся в смотровую щель, ударил по глазам, вышиб слезы — и тотчас же высушил их. Весселю панически подумалось: выжег. Но нет — зрение вернулось так же внезапно, как и исчезло. Или он видел не то, что реально происходило, а всего лишь собственный кошмар? — поднятый взрывом танк корежило как будто бы прямо в воздухе.
На какой-то краткий момент стало тихо… сколько, оказывается, оттенков у слова «тихо»! Бушевало пожарище, кричали люди, по-звериному выли… да, наверное, тоже люди, но больше ничего не взрывалось, и в этой почти что тишине Клаус снова осознал себя и понял: он сидит, вжавшись в сиденье и прикрыв голову руками. Ему подумалось: все закончилось. Следующая мысль: хорошо, если никто не заметил его минутную слабость. Но поглядеть вокруг, чтобы удостовериться, Вессель так и не успел: сквозь звон в ушах он различил негромкий, одуряюще мерный стук пулемёта. И неведомо как сразу понял: не немецкий.
И в этот миг небо хищно заклекотало — и притянулось к земле огненными нитями, и срослось с ней, не оставляя места ни для чего живого.
Весселя вернули к жизни боль и герр лейтенант. Точнее, он сначала почувствовал боль в плече, а потом понял, что его тормошат. И очень нескоро — с десятой, должно быть, попытки уразумел, что командир пытается объяснить: опасность миновала. И — не поверил. Но привычка подчиняться пересилила — и он начал выбираться из танка, медленно и неуверенно, чувствуя себя старой тряпичной куклой, у которой голова болтается на нескольких истончившихся ниточках.
Два десятка шагов — непомерное усилие. Какой-то десяток метров — неодолимое расстояние. А для смерти — всего ничего. Она была рядом. И оставила знак: уткнувшийся башней в землю танк. Чей — Вессель так и не разобрал, перед глазами снова поплыло. Зато он на удивление явственно увидел поодаль Курта — и ничуть не усомнился, что это именно Курт. Каменный лежал в такой позе, как если бы собирался заграбастать всю землю, до которой только мог дотянуться. Клаус хохотнул: ну кто бы сомневался! — и понял, что сходит с ума. Вряд ли он когда-либо теперь сможет спокойно видеть огонь… даже как тлеет табак в трубке дяди Вилли. Наверное, с ним приключится паника, а пока…какое-то противоестественное спокойствие. И сводящий с ума треск большого пожара — не столько заглушает голоса, сколько пожирает суть.
Если человек понимает, что теряет рассудок — это значит, окончательно ещё не потерял. И если герр лейтенант не замедлит отдать распоряжение, у него, у Клауса, есть шанс удержаться.
Гефрайтер Вессель привык пользоваться шансами. Аккуратно и расчётливо. Не пытаясь выбиться в самые знающие и умелые, но и не скрывая своих преимуществ. Должно быть, лейтенант давно это понял, потому и ограничивался постановкой задачи, предоставляя Клаусу самому выбирать путь. Как правило — в прямом смысле слова. Вывести танк на обочину — не самое сложное дело, тем более что уцелевшие члены стаи уже нашли путь из огненной ловушки. Самый удобный. Но Вессель не пошёл за ними, а протиснулся в узкую щель меж двумя мертвыми панцерами. Это оказалось легче, чем он думал. Куда труднее было не закашляться… и куда страшнее — Клаусу чудилось, что отравленные гарью легкие просто вывалятся через обожженную гортань.
Он всё-таки закашлялся — до рвоты — когда понял, что, уже выбравшись на свободу, вмял в землю тело немецкого солдата. Кузен Готфрид однажды сказал, что из поэта может получиться сносный автомеханик, но никогда не выйдет хороший солдат…
И всё-таки он был неправ! Клаус понял это уже потом — а сейчас оторопело наблюдал, как в полусотне метров — там, где сбилась стая, — огонь и земля вздымают металл, будто бы ставший на несколько мгновений невесомым…
Нестерпимо жгло глаза.
* * *
…За годы жизни, а в особенности — военной службы, которая всё-таки чуточку больше, чем просто жизнь, капитан третьего ранга Годунов успел постичь самые разнообразные субъективные свойства времени. Некоторые из них впору было описывать поэтической строкой (но, как правило, некогда), другие имели вполне четкие непечатные характеристики. Но никогда прежде ему не приходилось чувствовать, как время скручивается в тугую спираль. В спираль Бруно. В улитку Момыш-Улы… События то медленно стелются по ней — и нервы вопреки физиологии искривляются согласно их траектории, то перескакивают на другой виток, вызывая нечто вроде локальной амнезии — на минуту-другую выпадаешь не только из реальности, но и из размышлений. А может, это обыкновенная усталость и нефиг, как говорил один анекдотически интеллигентный старший мичман, усложнять техпроцесс (за этим, как правило, следовала раздача плюшек и плюх матросам).
С того момента, как примчался наблюдатель — шустрый паренек из местных, силящийся не просто говорить, а докладывать по уставу, — с сообщением, что появились два немецких мотоцикла, спираль растянулась и искривилась на манер кардиограммы. Годунов пытался ещё раз критически осмыслить все, что удалось сделать, найти уязвимые стороны в плане, но то и дело сбивался, потому как один черт — ничего уже не изменишь. И снова начинал думать, потому что привык находить для любой задачи оптимальное решение. Нелегко теоретику в авральном порядке превращаться в практика!
А часы отмеряли время, как им полагается — объективно. Прошло полчаса, чуть ли не минута в минуту, до того момента, как в поле зрения возникли первые танки. Конечно, обозреть с импровизированного НП всю колонну было невозможно, да и гарь из выхлопных труб закрывала перспективу, однако ж зрелище всё равно внушало… внушало что-то до омерзения похожее на страх. Не за себя — бояться за собственное существование Годунов подразучился, да и нынешние обстоятельства не способствовали, — а за то, что дело пойдёт не так — и все усилия прахом.
Рокот и лязг досюда доносились как прерывистое «ж-ж-ж» и стук чем-то мягким по игрушечному барабану, но серьёзность происходящего не вызывала ни малейших сомнений — даже на уровне эмоций. И вот почему: эта осень пахла так, как полагается пахнуть осени, свежим ветром, палой листвой и мокрой хвоей. То есть реальность — реальнее некуда. Ну что, Александр Василич, хочешь назад, в компьютерную стратежку? А, старый дурень?
Междуречье понемногу заполнялось вражеской техникой. Серой, как начавшая подсыхать грязь. Пора бы уже… да неужто головной танк ещё не дошел до второго моста?
— Матвей Матвеевич, что-то они дол… — да так и замер вполоборота к Мартынову.
Взрывы показались Годунову не громче тех, с коими достигают наивысшей цели своего существования китайские петарды в тихую ночь. А вот на вид… пиротехники Голливуда нервно курят в сторонке, ежели, конечно, не ломятся за помощью к создателям компьютерных спецэффектов. Жутковатая такая эстетика: огненно-алые кучевые облака в траурном обрамлении, а над ними — белое, как раскалённый металл, небо. Незваным гостям грех жаловаться: их встречают пиротехническим шоу, почти что в точности имитирующим цвета нацистского флага. Сквозь плотную завесу огня едва угадываются мечущиеся человеческие фигурки. Безмолвные — никакой крик не пробьется сквозь такую шумовую завесу. Театр теней. А теням не полагается разгуливать на свободе.
Именно так — отстраненно — и подумалось при виде танков и людей, что пытались вырваться из любовно подготовленного для них ада. Ладно бы подумалось без ужаса — нет, даже и без злости, все сильные эмоции как отрезало в тот момент, когда началось.
Казалось, вся колонна разом занялась огнём. Взметались в небо двухсотлитровые бочки с горючим — Годунову почему-то подумалось, что они похожи на булавы жонглера — и рушились вниз, заливая пламя пламенем. Там, внутри западни, что-то детонировало — пламя порождало пламя.
«Адский ужас — со времен Средневековья столь милый сердцу европейской интеллигенции сюжет — воплотился на земле близ маленького русского городка, чтобы изгнать из мира другой ужас. А что дальше — чистилище для тех, кто верил в утверждение ««Gott mit uns», или Валгалла для тех, кто ни во что не верил, кроме силы оружия? Признаться, мне безразлично. Главное, что все случилось именно так, как случилось…» Такие слова месяц спустя, когда описание событий под Дмитровском просочится в британские газеты, появятся в дневнике эмигранта с самой что ни на есть белогвардейской фамилией — Голицын, поручика некогда квартировавшего в Орле 17-го гусарского Черниговского полка.
А пока другой носитель громких имени и фамилии, Александр Васильевич Годунов, всматривался в небо, в котором появились валькирии. Раз, два, три… все пять самолётов. Оценить их работу он не мог — откуда ж взяться такому опыту? не из компьютерных же симуляторов? — но рядом что-то одобрительно бурчал вполголоса растративший половину форса Одинцов, придерживая рукой сдвинутую на затылок фуражку.
Надо понимать, озвученная военкомом идея использовать складки местности для того, чтобы незаметно «подкрасться» к противнику, реализована должным образом и пока все идёт как надо…
Только это вот — нифига не Голливуд: хрупкие самолётики над пожарищем. Задача у девчонок проста, как все трудновыполнимое: внаглую спикировав на колонну, вернее, на то, что от неё осталось, сбросить бутылки с горючей смесью…
Немцы быстро опамятовались — к самолётикам протянулись белесые нити. Ну, выскакивайте уже, живей!
Годунов видит, как один из пяти начинает будто бы хромать в воздухе. Александр Васильевич ждет — выровняется! Но нет — самолёт отвесно, на удивление тяжело уходит к земле. Что дальше — не разглядеть в дыму.
— Всё… — сквозь стиснутые зубы выдыхает Одинцов.
Но Годунов продолжает смотреть в бинокль — не столько веря в чудо, сколько боясь встретиться взглядом с военкомом. И смотрит до тех пор, пока глаза не начинает щипать то ли от яростных бликов, то ли от пота.
Здесь, на высотке, ветер куда злее, чем внизу, пробирает не то что до сердца — до печёнок. Сосны шумят, хрустят, скрипят, будто все лешие разом собрались поглазеть на творимый людьми ужас, — треск пожарища заглушают. А Годунова изнутри печёт — и это не простуда и не ОРЗ какое-нибудь, это не описанный в литературе — ладно бы в медицинской, так нет, в насквозь художественной — синдром попаданца. Симптоматика разнообразна — от постоянных сомнений в своих действиях и прочих интеллигентских рефлексий до хронической бессонницы на фоне отсутствия возможности спать.
Обернулся к Мартынову: тот вглядывается вдаль так, словно и без оптики все видит — в том числе и то, чего никак не увидать; лицо напряженное.
— Убедительно ваши «пожарные» работают, Матвей Матвеевич. Как там у классика? «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем»? — шутка, конечно, натужная, но за неимением гербовой пишем на обычной. Тем более что и вправду здорово ребята отработали, чётко по плану… тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, план и факт — они отнюдь не близнецы-братья. И фугасы вовремя рванули, рассекли колонну. И бочки с горючкой технично были установлены, от них головняка фрицам как бы не больше всего оказалось. И «подарки» на обочине, надо надеяться, тоже ко времени-к месту…
«Лишь бы отойти успели», — этого Годунов не говорит и, вроде бы, почти не думает.
Теперь он не по книжкам и отнюдь не гипотетически знает, как они корёжат — потери. Дико думать, что их могло быть больше, а всего лишь один самолёт — это… Нет, не так! Один экипаж. И его больше нет. Кто — будет ясно позднее. Да и не успели толком познакомиться, половину этих девчонок Александр Васильевич, встреться он с ними снова в иных обстоятельствах, и в лицо не узнал бы.
Но для Годунова они — первые, кого он отправил на смерть. Чушь выдумывают писаки, что это легко, если ты уверен, что цель оправдывает средства. Наверняка и о том, что к этому привыкаешь, они брешут, заводчики сивых меринов-сью. То-то видно, как Одинцов привык! И ведь не ищет себе оправданий, за прямой приказ командующего и то не прячется. И сможет ли когда-нибудь вообще воспринимать женские экипажи легких бомбардировщиков как вариант нормы для большой войны — вопрос преогромный…
…Ни командующий оборонительным районом, ни военный комиссар не могли знать, что один из сгоревших танков служит сейчас временным местом упокоения барону Вилибальду фон Лангерману унд Эрленкампу. Судьбу полковника предопределила не столько привычка быть впереди — на коне ли в драгунском полку, на танке ли во главе колонны, — сколько случайность: бутылка с горючей смесью, упавшая в открытый люк, пресекла попытку командира дивизии обуздать панику.
Его кончина будет удостоена скупых строчек в официальных некрологах — в Третьем Рейхе пока ещё верят в блицкриг и воздерживаются от помпезной скорби: не пришла ещё пора внушать нации жертвенную готовность к тотальной войне. Мемуаристы проявят куда большую щедрость, не только приписав командиру четвёртой танковой слова, коих он не произносил (что-то вроде интригующего «я так и не успел…»), но и приукрасив его гибель совсем уж фантастической историей спасения простого панцерштуце. В Большой Советской энциклопедии полковника не упомянут — не та величина, а вот в фундаментальном двенадцатитомном издании «Великая Отечественная война» ему отведут шесть с половиной строк.
В новой реальности полковник барон Лангерман никогда не сойдется в девятидневных боях под Мценском с полковником, крестьянским сыном Михаилом Ефимовичем Катуковым и никогда не посетует на то, что русские «больше не дают выбивать свои танки артиллерийским огнём». Не будет ни Дубовых листьев к Рыцарскому Кресту, ни генеральского чина. Потому что в этой реальности он не погибнет при артобстреле в районе села Сторожевое Донецкой области — он уже погиб в междуречье русских рек с нерусскими названиями — Нерусса и Несса. Бутылка с зажигательной смесью выпала из руки смертельно раненной девушки Клавы Зелениной меньше чем за две минуты до того, как их с Катюшей самолёт ткнулся носом в пылающую землю.
Лангерман погиб ровно на один год и один день раньше, нежели это должно было случиться.
Гефрайтер Вессель услыхал о гибели командира дивизии почти сразу же, едва только вырвался из огня и прошёл полымя. Откуда узнал — и сам толком не понял, наверное, кто-то походя обронил. О полковнике — и походя! Всякое доводилось переживать Клаусу за два с лишним года войны, но впервые он почувствовал себя так, как будто бы его голым выставили на мороз в многолюдном месте, и любой может бросить в беззащитно скорчившегося человечка что угодно — от презрительной усмешки до гранаты.
А лейтенанту будто и дела ни до чего нет — напустил на себя вид мыслителя и рассуждает: придумка этих русских донельзя примитивна, бочки с бензином да вышибные заряды под днищами, только и всего, соединить их в цепь сумеет любой гимназист.
От начальственных разглагольствований Клауса снова начинает тошнить, он исподволь смотрит на лейтенанта — не заметил ли тот гримасу на лице подчинённого? Их взгляды встречаются — и каждый видит в глазах другого собственный страх, и каждый хочет верить, что уж он-то держится молодцом. И оба разом вжимают головы в плечи, когда раздается первая приглушённая расстоянием очередь…
— Это наши, — голос лейтенанта звучит преувеличенно бодро, а Весселю слышится невысказанное: они стреляют, чтобы заглушить страх.
Нет, всё-таки он, Клаус, — везунчик. Он понял это не тогда, когда выскочил из второго капкана. И не тогда, когда увидел, что весь экипаж уцелел, даже трусоватый Франц не умер со страху… всё-таки он подозрительно чернявый, врёт, наверное, что баварец! И не тогда, когда, бегло осмотрев танк, удостоверился, что с ним тоже все в порядке. Оказывается, самое большое в мире счастье — стоять, подпирая спиной верный панцер, в то время как другие шагают в цепи, прочёсывая ближайший лесок. И он ещё осмеливался роптать на судьбу?!
Отдаленный взрыв ставит точку в размышлениях. Лейтенант — и тот не может сказать ничего утешительного: ясно, что случилась новая, пока ещё неведомая беда.
А вот Годунов, когда ветер доносит до него эхо взрыва, одобрительно кивает Мартынову: вот и познакомили фрицев с доселе наверняка не ведомым им видом минно-взрывных заграждений, проще говоря — с растяжками.
— Ну что, товарищи, нам пора.
Артиллеристы отработают и без них.
Если судить по послевоенной писанине немецких мемуаристов и историков, им постоянно мешали особенности русских климата и ландшафта — чуть ли не больше, чем нерыцарские способы ведения войны. В данном случае они имеют полное право жаловаться и на первое, и на второе. Мало того, что междуречье — естественная ловушка, которую грех было бы не усилить с помощью сапёрных ухищрений, так ещё и две высоты исключительно удачно расположены по обе стороны дороги — в трёх километрах и в четырёх с половиной.
Гаубицы терять, конечно, жалко…
Блин горелый, Годунов! У тебя ж в роду, как будто бы, ни одного хохла не наблюдалось! Ну не думать же, что на твою… гм… повышенную хозяйственность повлиял единственный в семье малоросс — тёткин муж? Хотя он мало того, что хохол, так ещё старший прапорщик.
Ладно, самое главное — сохранить расчёты. Годунов приказал, чтобы при отправленных в Дмитровск из Орла гаубицах находились лучшие из лучших, их действия расписаны чуть ли не по секундам. И на каждой высоте — стариновские «пожарные». Которые уже показали, на что они способны. Даст бог — покажут снова.
Пожалуй, подготовительные работы здесь оказались самыми трудоёмкими: втащить и установить орудия, а потом доставить наверх десятки килограммов мелинита, камней, мусора. Слишком щедрые подарки получили в известной Годунову истории фрицы, победным маршем пройдя от Дмитровска до Орла, чтобы сейчас оставлять им целехонькими хотя бы четыре гаубицы.
Глава 19
1–2 октября 1941 года,
Дмитровск-Орловский
В семье Полыниных Маринка, так уж вышло, была самая образованная: закончила семилетку, успела поработать кассиром на железнодорожном вокзале, готовилась поступать в пединститут, чтоб потом учить ребятню русскому языку и литературе. Детей Маринка любила даже больше, чем самолёты, а самолёты она просто обожала. С грамотностью дела у Полыниной обстояли неплохо, книжки девушка перечитала все, что только удалось раздобыть. Одна беда — на пути Маринки к мечте сурово возвышался не кто-нибудь, а сам Лев Николаевич Толстой. Стыдно признаться, но добрую половину «Войны и мира» она попросту пролистала — все, что касалось сражений. Осталось только впечатление от описания первого боя (чьего, Маринка уже не помнила): человек никогда не выходит из него таким же, каким вошел. Первый бой — это испытание, на что ты вообще годен на земле. Не больше и не меньше. Не будет же великий писатель говорить о всяких пустяках?
Однако ж то, что предстоит им — не совсем бой. Скорей, задание… ну, вроде комсомольского поручения. Его надо выполнить старательно и хорошо.
Маринка даже и в мыслях не держит, что её могут убить. Настоящая война — она где-то далеко, за Брянском, там, где фронт, а тут… как и сказать — непонятно.
А ещё очень крепко верится: серьёзные спокойные командиры все точно знают и сделают так, чтобы ничего плохого ни с кем не случилось. Вон, инструктор Фёдор Иванович в первый самостоятельный Маринкин вылет, притворившись, что готовится отвесить подзатыльник, напутствовал: «На хрена ж тебе неба бояться? Ты земли бойся, потому как на земле — злой я». И всё — сразу коленки трястись перестали. Голова, правда, немножко кружилась, но уже не от страха, а от предчувствия полёта.
Вот и сейчас, убеждала она девчонок, всё будет в порядке. Тем более что военком (самый главный, а не тот вредный дядька, что тридцать четыре раза кряду приказывал Маринке идти домой и больше на глаза ему не показываться) — тоже лётчик. А старший майор, который над всем оборонительным районом начальствует, вообще на учителя истории Матвея Степановича похож, видно, что умный, добрый… и даже красивый, хоть и немолодой уже.
Тут Катька хихикнула — хитренько так, с намёком — и Маринка поняла, что сейчас или покраснеет, или ляпнет что-нибудь невпопад… а скорее всего, и то и другое разом. Придумала третье: коротко огрызнулась — мол, это у тебя одни шуры-муры на уме, фу, мещанство! — и принялась бродить по горнице, с притворным любопытством разглядывая оставленные хозяевами вещи. С притворным — потому что ей тут сразу стало не по себе и это чувство исчезать не собиралось, хотя за два часа девчонки, вроде бы, успели обжиться, перекусить, устроить себе постели из найденного у хозяев… даже подушечек в вышитых наволочках на всех хватило. Катя и Клавочка расположились на хозяйской кровати, высоченной, с белым покрывалом в кружавчиках… ни дать ни взять — снежная горка, другие — на лавках, Галочка-белоруска — на составленных в рядок у стены стульях. И только Маринка — на полу, подстелив большую, тяжёлую телогрейку, что подарил на прощанье дядя Егор Перминов — а ну как замерзнет «крестница»? А подушку свою отдала Галочке.
— Не хочешь брать чужое без разрешения? — спросила белоруска, вскинув на подругу огромные васильковые глазищи.
Полынина подумала, качнула головой, ещё немножко помедлила и всё-таки призналась:
— Тошно. Вот жили себе люди, жили, жизнь свою устраивали, чтоб хорошо было, и красиво, и вообще… — и осеклась, не зная, как объяснить, чтоб вышло толково. Но Галочка — по глазам видно — поняла. Она ж тоже не то эвакуированная, не то беженка.
Возле станины, что осталась от швейной машины, — валом цветные лоскутки; девчонки, перед тем как начать обустраиваться, собрали с пола. Попутно обругали протопавшего по комнате не глядя Полевого. А чего, если он командир, то пусть по нужным вещам топчется, да?
— Для немцев, что ль, бережёте? — дёрнул изуродованной шрамом щекой капитан.
Маринке не верилось, что сюда придут чужие солдаты… враги. Ей просто тошно было глядеть на раскуроченные ящики шкафов и комодов — хозяева наверняка собирались впопыхах. И на детскую кроватку с тряпичным самодельным мишкой размером с младенца. И на чудную подушку, вроде скатки, лежащую на деревянных козлах и щедро увешанную нитками с какими-то штуковинами на концах, типа больших деревянных гвоздей. Вроде, это для того, чтоб кружево плести, Маринка никогда не видела, но догадалась.
Там, где висели фотокарточки, остались на стенах тёмные прямоугольники; а вон и кусочек оторванный желтеет, правда, не разберешь, что на нём — светлое пятно, да и только. Но всё равно жутковато — как будто бы и вправду беречь уже нечего. Или наоборот — есть что, карточки-то хозяева с собой и забрали.
А кошку оставили, красивую, дымчатую, — сперва дичилась, а сейчас уже мурлычет вовсю на коленях у сердобольной Клавочки. И цветы… подоконники сплошь цветочными горшками позаставлены. И игрушку, вон, тоже бросили, больно громоздкая, видать. Как же девчонка без мишки своего? (Маринка почему-то была уверена, что ребенок — именно девочка).
Людей нет, а их вещи остались. И дела, которые они уже не закончат. Даже если вернутся… кто знает, скоро ли? И что здесь будет, пока их нет.
Из кухни доносится бодрое «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью».
— Вот уж не думала, что селезни поют, — ехидничает Наташа, самая старшая из девчат, бедовая и строгая — а то как же, до позавчерашнего дня работала секретаршей в военизированной охране железной дороги.
— И нам даны стальные руки-крылья, а вместо сердца пламенный мотор! — радостно подтверждает из кухни красвоенлёт. Поёт громко и с чувством, а что немножко фальшивит… главное, уверенно заявляет Наташа, чтоб готовил лучше, чем поёт.
В погребе под сараюшкой кроме запасенной хозяевами на зиму картошки обнаружились бочка солёных огурцов, банки с маринованными помидорами, ну, и варенья всякого в достатке. Селезень, увидав эти богатства, расплылся в счастливой улыбке и заявил: дескать, нечего им из общего котла питаться, когда влёт можно настоящий домашний ужин организовать. А слово у красвоенлёта, как все уже успели понять, не расходится с делом. Через каких-нибудь пару часов брошенный хозяевами дом наполнился и переполнился самыми жизнеутверждающими на свете запахами — жареной с салом и луком картошечки и блинов. Причём девчат к кухне Селезень на пушечный выстрел не подпустил — дескать, только под ногами крутиться будут, под руку соваться и болтовней надоедать. Только когда пришла пора накрывать, кликнул Наташу и Клавочку — почему-то он с самого начала ворчал на них меньше, чем на остальных.
Маринка поглядела на скатерть-самобранку, сглотнула голодую слюну — ну да, только казалось, что есть не хочется, — и выдохнула:
— Спасибо, я уже наелась, — прозвучало, против воли, не то с обидой, не то обидно, и она поспешила исправиться: — Мне тут дядя Егор сухариков…
Вышло ещё хуже — даже все понимающая Галочка головой покачала. А Селезень как-то странно усмехнулся: приподнял верхнюю губу — так большой, сильный и добрый пес предупреждает неосторожного прохожего о том, что собирается зарычать, — и буркнул, щедро поливая верхний блин смородиновым вареньем:
— Ну, ты… — Маринка думала, скажет то же, что другие всегда говорят: упёртая, но он, с показным удовольствием понюхав свернутый трубочкой блин, заключил: — Принципиальная.
Уговаривать Полынину никто не стал — даже чуточку досадно. И она раньше всех вышла из-за стола, голодная и грустная, провожаемая удивленными и насмешливыми взглядами, и снова отправилась бродить по дому.
Набрела на встречу со своей нечистой совестью. С той самой «Войной и миром» — двухтомником в серых обложках на самодельной книжной полке. Рука уже потянулась к первой книжке — и отдёрнулась, натолкнувшись на неожиданную преграду — новый страх. Маринке вдруг отчетливо подумалось: если вот сейчас сделать то, на что раньше времени не было, или настроения подходящего, или ещё чего, тогда завтра… Нет, завтра всё будет хорошо. И просто. Без выкрутасов всяких, как в книжках у Толстого.
А получилось по-другому. Вообще. И не по-книжному, и не так, как представлялось Маринке.
Было «до» и — Полыниной повезло — было «после». До — почти бессонная ночь на новом месте и в преддверии неведомого. После — тщетные попытки согреться, кутаясь в дядьегорову телогрейку, и осознать, что вокруг все то же самое — и горница со смятыми «постелями», и палисадник с сухими палками флоксов под окном, и монотонное бухтение Селезня в кухне, слов не разобрать. И запах… тот же, что был вначале. Неустроенность и бесприютность пахнут точно так же, как ненужные вещи, которые долго лежали в шкафу, а потом их всё-таки выбросили.
По-прежнему… Вот и Клавочкин гребешок на высокой белой кровати… будто могильная ограда выглядывает из-под снега. Маринку уже не трясет — ей хочется пойти и начать что-то делать. Трудное, опасное — да плевать! Главное — не стоять и не смотреть!
«До» и «после» — их оказывается много… неподъёмно много. А бой — самый настоящий бой! — в памяти какими-то обрывками, вместе не сложишь, хоть наизнанку вывернись. Но хочется, очень хочется, как будто бы от этого зависит что-то важное. Маринке думается невпопад: так вот в сказке Кай собирал из льдинок слово «вечность». И не собрал. Потому как все, что осталось от той вечности, в детскую ладошку запросто уместится…
…Девчата знали, что с минуты на минуту затрезвонит чёрный телефонный аппарат, который притащил откуда-то ещё вчера Селезень, и…
Все равно звонок — громкий, неприятный такой, словно кто-то изо всех сил тряс жестянку, наполненную гвоздями, — застал их врасплох. Маринка вскочила, забыв, что у неё на коленях примостилась кошка. Наташа — она поливала цветы — расплескала воду. У Клавочки задрожали руки, и она никак не могла завязать ленту на косе, Галя бросилась помогать.
От домика на окраине до самолётов — десять минут скорым шагом, со всеми бестолковыми сборами потратили вдвое больше, Катя ещё вернуться зачем-то порывалась, её удержали — примета плохая и тут же сами себя высмеяли: комсомолки, называется!.. Даже удивительно, как это у самолётов они ухитрились оказаться раньше, чем Полевой начал ругаться в полный голос.
Селезень уже был на месте, с недоверчивой миной обходил-осматривал машины — небось, не в первый раз, зануда. Заглядывал в кабины, совался под крылья — а ведь давно уже убедился, что «эти дуры не как зря приделаны». Эдак он перед вылетом из Орла высказался про железные ящики с бутылками, но и на девчат-пилотов тоже покосился. На старого ворчуна давно уже… ну, то есть, сразу, не сговариваясь, решили не обижаться — видно ведь, что по доброте душевной нудит и бухтит.
У девчонок, с легкой руки кого-то из механиков, прилады под крыльями стали называться «дерни за верёвочку — дверь и откроется». Как в первый раз услыхали — посмеялись, конечно. Смех смехом, однако ж страшненько оно — под каждым крылом по сотне бутылок да два десятка — в ящике рядом со штурманом. Странное дело: думать о тех, что под крыльями, просто неприятно, а вот стоит вспомнить про тот, который за спиной — пробирает аж до костей. Каково же Галочке, у которой ещё и под ногами?..
«Скорей бы уже!» — Маринка поерзала, устраиваясь поудобнее, и требовательно поглядела в небо. Оно было такое, словно кто-то впопыхах малевал по белому грязно-серым, чтоб самолётам среди этой пустоты хоть как-нибудь спрятаться. Третьего дня дядьки из роты аэродромного обслуживания перекрасили все машины в такой же вот неопрятный цвет…
Ракеты! Одна, вторая, третья. «Юго-запад», — механически определила Маринка. Дождались! Полынина надвинула очки, успела покоситься на командирскую «уточку» — что ж ты не поторопишься-то, а?! — прежде чем УТ-2 Полевого взял короткий разбег и поднялся в воздух. Следом — Зоя с Капой. Вот и её черед.
А потом… вот это «потом» у Маринки воедино ну никак не складывается.
Цель оказалась заметна издалека: чёрное марево на горизонте разрасталось вширь — по мере приближения и ввысь — само собой. «Делай, как я!» — командирский самолёт снизился, пошёл меж поросшими лесом холмами. Им десять раз было говорено: на цель нужно зайти незаметно, чтоб неожиданность для немцев и всё такое. Но Полынина сначала потянула ручку на себя, а уж потом вспомнила, что к чему. Несколько почти неощутимых мгновений… будто по льду скользишь, и ветер в спину, подгоняет — и она увидала внизу… не колонну, как она себе её представляла, а мешанину чёрного, бурого, серого в густом дыму с проблесками огня.
«Работать по скоплениям техники», — так инструктировал Полевой. Нынче утром, ставя задачу, опять повторил. И вдруг добавил странное: «А вообще — хоть куда-нибудь сбросьте. Зашла на цель — бросай, не тяни кота за хвост. Сделала — уходи сразу. И главное — с собой груз не унесите, как с ним садиться-то будете?»
Маринка, к стыду своему, вспомнила об этом уже потом, по дороге домой… в Дмитровск, то есть. А тут… Снизу как полыхнет чёрно-оранжево-красным, как бабахнет — так самолётик её фанерно-перкалевый аж вздрогнул и даже, кажется, чуть накренился… или это она что-то не то сделала? Одно поняла — кто-то из девчат, а может, сам командир уже «дёрнул за верёвочку».
— Дава-ай! — что было сил заорала Полынина.
Как посыпались из-под крыльев бутылки, она не почувствовала… или почувствовала, но сейчас вспомнить не может. Куда они попали, Маринка тоже не разобрала, надо бы спросить у Галочки, да язык не поворачивается. И насчёт тех бутылок, что в кабине штурмана были, до сих пор в толк не взяла… одно название — командир экипажа! Зато явственно услышала, как Галя крикнула срывающимся голосом: «Всё!» — и в ровное жужжанье моторов вплелось нежданное: «Дай па-арусу по-о-олную во-олю, сама-а я присяду к рулю!..» Ну, Галка!!!
Немцы? Она понимает, что там были вражеские солдаты, но вспоминается что-то вроде лоскутков, рассыпанных по станине от швейной машины и шевелящихся от сквозняка. Потому, наверно, и не чуяла угрозы. Только вдруг — явственно помнится: зубы заныли и самолёт качнуло… не от попадания, нет! Просто она, всем телом подавшись назад, заставила машину набрать высоту. Никогда прежде Маринка не слышала, как стреляют зенитки, но сразу сообразила: этот стрёкот несёт смерть.
Как уклонилась — сама не уразумела. Потому что только через несколько мгновений, каждое из которых могло стать последним, сообразила, что сделала совсем не то. Ручку вперед-влево, правую педаль от себя… Вот так — правильно! Послушный У-2 легко скользнул над верхушками сосен, едва не задев их брюхом.
А дальше — она очнулась уже в доме. На плечах, поверх комбинезона, — дядьегорова телогрейка, но всё равно знобит. И рука саднит. Даже смешно — только что из боя вышли, а рука болит от царапин, оставленных мстительной кошкой. Маринка шарит взглядом по горнице, что-то ищет… что? Где-то поблизости бормочет Селезень — только бы не пришел! Если придет, то ей нипочем не найти.
— Полынина!
Ну вот, теперь — наверняка! — Маринка морщится, говорит, не оборачиваясь:
— Мне — для Кати… она тут забыла…
Что же она забыла?
— Все наши вещи на взлётном, ребята отнесли, — глухо отвечает Селезень. — А Кати больше нету.
Маринка и верит, и не верит. Разве может такое быть, чтоб самолёт сбили, а она не видела? И гребешок… Клавочка никогда за ним не вернётся, иначе Григорий Николаич таким голосом не говорил бы.
— А ты молодец, — утешительно бубнит красвоенлёт. — И на цель зашла грамотно, и уходила хорошо — нырнула за сосны, и только тебя ихние зенитчики да пулемётчики видали.
Он чего, насмехается? Нашел время! Нет, даже и не улыбнулся, и глаза серьёзные-серьёзные. Маринка хочет сказать… да слов не находит, разворачивается — и опрометью бросается уже хорошо знакомой дорогой к взлётному полю. У самого края спотыкается то ли о камень, то ли о собственные мысли и падает.
Ей помогает подняться мужская рука, Маринка краснеет и огрызается:
— Сама бы справилась!
— Вы уже справились, — нет, это не голос Полевого. — Вы отлично справились с боевой задачей.
Она поднимает глаза и видит командующего.
— Справились?.. А зачем? — Маринка смотрит в спокойные зеленовато-серые глаза и, неожиданно для себя, срывается на крик: — Там и так всё горело! Толку-то с того, что мы бутылками пошвырялись?!
Почему-то становится тихо. Так тихо, что слышно, как испуганно выдохнула Галочка — она ближе всех к Маринке.
— Толк есть, просто вы его оценить не можете, — старший майор как-то непонятно, но точно без злости смотрит на неё. Смотрит сверху вниз — Полынина хорошо если до плеча ему макушкой достанет — но не нависает… и вообще, с удивлением понимает Маринка, он на равных держится.
Командующий оглядывает экипажи и продолжает чуть громче, обращаясь уже ко всем:
— Даже мы точно не оценим, какой урон вы нанесли врагу. Одно ясно — немцы тут надолго застряли. И не просто под Дмитровском, а на пути в Москву, — встречает, не отворачиваясь, порыв ветра, едва заметно переводит дух и поправляет фуражку. — Не люблю я громкие слова, да и говорить их, когда боевые друзья погибли… но сегодня, товарищи, мы с вами начали рыть могилу гитлеровскому блицкригу. Я верю, что тут, на орловской… — замялся, поправился: — и на курской земле, мы его и похороним, — посмотрел на часы. — Всё, давайте к делу. Вы, — кивнул на Маринку, — летите со мной. Остальные получат дальнейшие распоряжения от товарища Одинцова.
— То есть как это — лечу? — растерянно переспросила Маринка.
— В качестве пилота. Пока что ни вы, ни я крылья не отрастили, чтобы перемещаться по воздуху каким-то иным способом, — старший майор усмехается, но его тон становится жёстким. — И если вы действительно намерены быть военным лётчиком, отвыкайте обсуждать приказы и действия командиров.
Полынина больше ничего не говорит. И даже старается не хмуриться…
…И не краснеть, затылком чувствуя взгляд пассажира.
Глава 20
2 октября 1941 года,
Дмитровск-Орловский
Надо признать, до этого дня Клаус Вессель не знал, что такое усталость. Даже смутного представления не имел. Ему казалось, усталость — это когда болят руки или ноет спина после тяжёлой работы. Или когда клонит в сон. Или когда приходится заставлять себя подняться с кровати утром, потому что остаётся какая-то четверть часа до завтрака. Нет! Настоящая усталость — это когда хочется сдохнуть, всё равно где, даже в этой вот наполненной жидкой грязью колее, только бы больше не шевелиться.
Пораженческие настроения? Ха! Вессель очень удивился бы, узнав, что кто-то из товарищей сейчас полон энтузиазма. Так что же, все они предали, пусть только лишь в мыслях, Великую Германию? Или просто утомились — безнадёжно, смертельно? Очень трудно думать о грандиозном будущем Рейха, растаскивая десятки тонн изуродованного металла и доставая из того, что только час назад было грозным панцером или внушительным бронетранспортёром, то, что только час назад было людьми. Цинично? Да. Оказалось, подобная работа очень быстро вычищает остатки прекраснодушия и из человека лезет отъявленная скотина. Эталон скотства? Пожалуйста: подошло, если верить часам (верить себе уже не приходится) время обеда, но не впечатления сегодняшнего дня отвращают его, Клауса, от мыслей о еде, а одно только обстоятельство — мертвецы, даже движущиеся, в пище не нуждаются. Да и когда появится возможность закусить чем-то, кроме галет, — это тайна куда большая, нежели секретные планы верховного командования.
Странное дело: голова, вроде бы, пуста, а мыслей в ней — как песчинок в песочных часах, пересыпаются, царапают.
Ни времени, ни возможности обменяться новостями и мыслями ни у кого нет. Точных сведений о потерях — тоже. Всех приказаний — одно только очевидное: мёртвую броню — с дороги долой. Ту, что ремонтопригодна — в сторону: как и куда буксировать, пока не вполне понятно. Если же можно починить на месте — честь вам и хвала, ходячие трупы!
И всё-таки, перемещаясь на одеревеневших ногах от груды к груде металла, который более или менее сохраняет форму панцеров, гефрайтер Вессель успевает ловить — не слышать, а будто бы вдыхать вместе с тошнотворными запахами окисленного железа, бензина, копоти и горелой плоти, — слухи.
Охранение усилили… насколько смогли. Интересно, насколько? Или неинтересно… Черт, можно подумать, командиры знают, чего ожидать от этих русских?..
Бояться уже сил нет, мысли копошатся в голове, как слепые котята в корзине.
Два танка и сколько-то там мотоциклов, вроде как, были посланы разведать брод…
Враньё, наверное. Яснее ясного: вся техника дивизии там не пройдёт, да и русские вполне могли устроить какую-нибудь пакость. Вместо того чтобы воевать по-настоящему, они взрывают и взрывают. Не пожалели ни свои батареи на холмах, ни мосты… как это можно — уничтожать то, во что вложен собственный труд? Дикая нация!
Сапёры, конечно, мосты наведут… уже наводят, сухой решительный перестук топоров вламывается в усталый лязг брони. Если закрыть глаза, рисуется мирная картина: он, Клаус, — в автомастерской дяди Вилли, а на той стороне улицы рабочие наводят строительные леса — готовятся подновлять фасад дома, в котором живёт Лоттхен… как жаль, что её окна выходят во двор!..
Только эти вот звуки стократ громче. И вонь… у мирной жизни совсем другие запахи. И глаза закрывать нельзя — уже не откроешь.
Сколько панцеров погибло? Называют и полсотни, и сотню. О прочих машинах Клаус и знать не хочет. О людях… И так понятно, что счёт пойдёт на тысячи. Но вообразить такие потери, да всего за один бой, было бы, наверное, выше сил гефрайтера Весселя даже тогда, когда они ещё оставались… Бой? Разве это — бой?
От идеи прочёсывать лес командиры в конце концов отказались, гренадиры потоптались на опушке и вернулись. С потерями. Солдат вермахта никто не обучал охотиться за белыми дикарями и обходить расставленные ими ловушки!.. Клаус не знает, ему ли это пришло в голову или было услышано, но слова «паутина смерти» вертятся на языке безотвязно, на мотив какой-то дурацкой песенки…
Говорят, с минуты на минуту ожидается прибытие самого Гудериана. Правдоподобно. Дивизия обезглавлена… Весселю почему-то вспомнилась виденная давным-давно в какой-то книге средневековая миниатюра или же стилизация под таковую: похожее на высокий холм серо-стальное тело дракона и отдельно — отрубленная голова, из ноздрей тянется, стелется по темной траве то ли бурый дым, то ли запекшаяся кровь. Тогда рисунок показался омерзительным, теперь… Клаус засмеялся бы, но на это тоже нет сил. Вообще не осталось.
Он и сам не осознал, что произошло, почему его поднимают, а герр лейтенант смотрит сверху… так, как будто бы собирается ударить или того хуже — заплакать. Гефрайтер Вессель чувствует, что не оправдал его доверия.
Прав кузен Готфрид: никогда не стать поэту хорошим солдатом!
Глава 21
3 октября 1941 года,
окрестности Дмитровска-Орловского.
Ночь с 3 на 4 октября,
с. Крупышино
Наполеон был велик. Но он был всего лишь корсиканец. Заполучив Москву, он не сумел её сберечь… Отличная мысль для стихотворения. А это значит, что он, гефрайтер Вессель, понемногу оживает. Несколько добрых глотков шнапса, горячий ужин и долгий сон творят чудеса. Да и потери на поверку оказались не столь фатальны, как представлялось там, в пылающем аду. Как скоро дивизия двинется дальше, зависит от ремонтников. И в некоторой степени — от него, Клауса Весселя. Всё-таки это чертовски приятно и лестно, когда от тебя что-то зависит.
Клаус без особого усилия поднимается с постели — почти такой же белой, как было всё, от покрывал до кухонных занавесок, в доме Весселей при жизни матушки — и принимается вышагивать по комнате. Добротная мебель, домашние растения, репродукция какой-то картины — поле и сосны. Минимум беспорядка. Все так же, как у обычных людей. Странно.
Никогда прежде ему не доводилось бывать на постое в русском городе. Наверное, не так уж и важно, что Клаус видел только окраину да этот дом. Важнее, что в доме есть печь с запасом дров и даже электричество. А главное — корыто с тёплой водой и самая настоящая кровать. И уж совсем не принципиально, сколь мал этот город — за ним открывается путь на Орёл и на ту самую Москау.
Клаус глядит в окно, но видит лишь кусок разворочанной гусеницами грунтовки. Да, дороги здесь отвратительны. А люди…
Наполеон был велик. Но он был европеец. Он не мог заранее знать, что эти русские питают прямо-таки нечеловеческую склонность к разрушению своих жилищ. Клаус много читал о Наполеоне и хорошо запомнил его фразу: «Какое ужасное зрелище! Это они сами! Столько дворцов! Какое невероятное решение! Что за люди! Это скифы!» Вессель даже воображал себе, как это было произнесено — со сдержанной печалью великого человека, который вдруг постиг: он ведет войну не с цивилизованными людьми, а с варварами, от которых можно ожидать самых безумных решений.
Гефрайтер мерит комнату широкими шагами, разминая затекшее тело. Разглядывает и размышляет.
В простенке между окон — ещё одна картина. Не репродукция. Нарисовано неумело, но с душой: домик, полускрытый кустами цветущей сирени, передний план — скамейка, девочка и кошка. Идиллия!
Если не знать истории и не верить глазам своим, просто не верится, что этим вот русским пришло в голову минировать дома… пусть даже не собственные, но своих соотечественников. И центральную площадь с памятником бльшевистскому фюреру, и даже в парке, говорят, нашли несколько наскоро прикопанных кустарных противопехоток. Многие считают, что все дело в еврейских комиссарах. Но он-то, Клаус, знает историю: русские никогда не умели достойно проигрывать, их всегда тянуло уничтожать ценности…
Наполеон был велик. Но Фюрер не просто велик — он гениально дальновиден, и его солдаты — не чета французам корсиканца. Этот брошенный жителями городок — как его там? — к счастью, так и не стал их маленькой Москау. За какие-то три часа сапёры полностью очистили его от взрывчатки, и у измотанных однополчан гефрайтера Весселя появилась возможность после нечеловеческого труда отдохнуть в человеческих условиях и привести себя в должный вид, пока подоспевшие ремонтники заняты своим делом.
Правда, Клаус немного завидует камерадам из 17-й дивизии: пантофельная почта доносит, что 17-я двинулась дальше и наверняка уже завтра будет в Орле. Первым — и уважение, и награды, кому-то, вполне вероятно, — и отпуск. А много ли чести в том, чтобы копаться в покалеченном железе? Вожделенный отдых так краток, а работе пока не видно конца. И пережитое там, в огненной западне… нет, всё-таки повезло камерадам из 17-й!
Он и представить себе не может, что в другой истории — той, которая несколько дней назад свернула на иную дорогу, — именно его, гефрайтера Весселя, дивизия первой вошла в Орёл.
И он понятия не имеет, до какой степени «повезло» некоторым камерадам из 17-й…
Вот кому Клаус совсем не завидует, так это сапёрам. Собачья работа! И для собак, и для людей. И отдыхали всего ничего — с темноты и до рассвета. С первыми лучами солнца — снова вперед…
…Да и железо, с которым им пришлось иметь дело, не ждало, в отличие от панцеров, помощи с терпеливостью доброго товарища, а мерзко разевало, словно насмехаясь, забитые землёй горловины, неподъёмным грузом висло на усталых руках, издевательски дребезжало, когда сапёры, удостоверившись, что оно не опасно, отбрасывали его в сторону. Молочные бидоны, утюги, примусы и прочие предметы мирного обихода, будучи погребены под тонким слоем земли, сразу становились не такими уж и мирными. Это куда больше походило на страшноватую фантазию Гофмана, нежели на действительность: кастрюли и садовые лейки не просто отнимали время и силы у сапёров — они задерживали наступление! Наверное, в один из таких моментов то ли приключилась быль, то ли возникла легенда: «быстроходный Хайнц», услыхав, что именно не даёт его солдатам двигаться вперед с должной скоростью, поглядел на штабных офицеров и, саркастически усмехнувшись, спросил: «Как вы полагаете, господа, следует ли мне доложить фюреру о том, как героически мы сражаемся с кухонной утварью?»
Враг более чем реален, но это вряд ли может служить утешением: одна на дюжину, а может, на десяток или менее того — кто скажет точно? — железяка скрывает под собой или в себе взрывчатку. Потери растут, тем более что сапёрам трудно сохранять необходимое в их работе хладнокровие: неизвестно, где в следующий раз появятся русские снайперы, все попытки противодействия которым пока что больше похожи на охоту за призраками.
Для скольких «счастливчиков» война закончилась 3 октября 41-го года, прежде чем были пройдены эти проклятые полтора десятка километров, знают — или в скором времени узнают — штабы. Прочим же полагается надеяться, что дальше откроется прямой, ровный и безопасный путь. Метр за метром сапёры ничего не находят. Не пора ли дать им отдых и ограничится обычной разведкой?
Но вот траурным салютом звучит взрыв — и мотоцикл, только что бойко бежавший по укатанной, пока ещё не размытой осенними дождями грунтовке валится на бок, словно споткнувшийся на всем скаку конь. Мгновение спустя взрыву вторит ещё один, сбивая листья с берез и солдат с мотоциклов. Тот, кто успевает первым схватиться за оружие, и тот, кто первым поворачивает обратно, чтобы успеть предупредить о засаде, погибают первыми: война возводит принцип обратного отбора в ранг основного закона.
Перестрелка коротка, как эпитафия на безымянной могиле. Ещё не долетел до земли последний из погибших до срока листьев, как с полдюжины молодцов в зелёных фуражках и трое пожилых дядек, одетых разношерстно, но одинаково практично, вынырнули из перелеска. Единственный то ли стон, то ли всхлип, несколько одиночных выстрелов — и вот уже нет других звуков, кроме шелеста листвы под сапогами и деловитого лязганья: винтовки собраны, пулемёты с мотоциклов сняты. Старший — лет тридцати, не по возрасту седоватый и солидный, споро укладывает в полевую сумку пачку зольдатенбухов. Под один-другой труп — по гранате без чеки: добро пожаловать в Дмитровское ополчение, дохлые гансы!
* * *
…Едва сработала самодельная мина под передним колесом мотоцикла, что шёл третьим в колонне разведывательного отделения, крупнокалиберная пуля вырвалась из-под земли, разрывая резину покрышки с камерой, разрушая стальной обод, и впилась в металл мотоциклетной вилки. Немец слетел наземь, вспахав противогазным бачком борозду на пыльной земле и едва успев выдернуть ногу из-под рухнувшей железяки. Его сослуживцы принялись резко разворачиваться, трое растянулись на обочине, открыв неприцельную пальбу в сторону близкого перелеска. Ещё двое, пригибаясь, подбежали к пострадавшему камераду.
Но перелесок молчал. Больше ни одного выстрела не раздалось, лишь вспугнутые птицы повспархивали с ветвей. Незадачливый мотоциклист, в отличие от своего «железного коня», серьёзно не пострадал, отделавшись ссадинами и прорехами в обмундировании. В паре с другим солдатом оттащил покалеченный транспорт на обочину и остался ожидать подхода остальных сил. Прочие же разведчики, вновь оседлав мотоциклы, утарахтели дальше.
Немцы решили, что попали под одиночный выстрел снайпера. Найденная пуля крупного калибра ещё более утвердила их в правильности догадки. Так что внимательно осмотреть припорошенные пылью колеи они не догадались. А зря…
— Дядь Костя, гляди: двое остались! Хлопнем?
— Лежи смирно, не дёргайся. Остальных спугнём. И вообще: это я тебе в цеху «дядя Костя» был, а сейчас лафа закончилась. Теперь я тебе «товарищ отделенный командир». А поскольку ты нынче второй нумер, то и твой непосредственный начальник. Лучше вон магазины набивай…
— Так нету больше. Патронов ещё под сотню в сумке, а магазинов всего три штуки выдали.
— Вот и не шебаршись тогда, Васильев. Лежи да радуйся, что на весе экономишь. Вот дали бы нам «дегтяря» заместо этого дрына белофинского — тогда бы намаялся ты. Там по сорок семь штучек на диск приходится, да на четыре перемножь, да насыпом столько же. Давно б усрался от усердия. А у тебя в магазинах вдвое меньше. Так что со мной тебе не служба — малина…
Далеко за спинами лежащих на краю овражного склона ополченцев-пулемётчиков заполошно заметались звуки выстрелов, несколькими судорожными очередями протатакал пулемёт, секунды спустя одиноко жахнула граната.
— Вот же суки! Всё же нашумели, на ребят напоролись. Ну, теперь жди гостей по наши души… — не зло, скорее огорченно произнес пожилой ополченец с одиноко рдеющими на защитных байковых петлицах шинели «третьего срока» треугольничками.
В двух сотнях метров от позиции пулемётчиков, на дороге, оставшиеся гитлеровцы что-то встревожено забуровили промеж себя. Владелец покалеченного мотоцикла растянулся за ним, как за бруствером, выставив осиным жалом ствол карабина. Второй немец, судорожно заведя мотор, оседлал свою «бурбухайку» и стартовал в том направлении, откуда менее чем полчаса назад, прикатила моторазведка.
Витя Васильев сунулся было к пулемёту, но был пойман за ремень младшим сержантом Лапиным.
— Лежи, сказал!
Неподалеку хлопнули, один за другим, два выстрела, и успевший укатить метров на тридцать ганс рухнул всем телом на руль, сваливая наземь двухколесную машину.
— Ну вот. Я ж тебе говорю: не дёргайся. Рамазан Гафурович своё дело знает. Чай, из лучших охотников в области. От него и рябчик не улетит, не то что шваб. Не мешай человеку работать, молодой.
Укрывшийся за разбитым мотоциклом солдат выстрелил в направлении показавшихся ему подозрительными кустов. Ответная пуля чиркнула по седлу и, кувыркаясь, ушла вверх. Вторая, выдрав клок сукна на спине чуть выше широкого чёрного ремня, пробороздила мышцы и вошла в позвонок. С мягким стуком приклад немецкого карабина ударился о землю.
Что сказать? Не повезло немчуре. Кабы узнали — обидно, должно быть, это им показалось. Аж до соплей обидно… Потому что спустя две минуты, гудя моторами, из-за дальних бугров на дороге стали появляться бронемашины и грузовики доблестной мотопехоты вермахта.
Как только оккупантам стало ясно, что их разведчикам пришел капут, немецкие бронетранспортёры принялись разворачиваться уступом в два ряда. Из кузовов посыпались гренадиры, на руках вытаскивая легкие миномёты и MG. Всю эту деловую суету прикрывали пулемёты бронемашин, жгучими очередями, как парикмахерской машинкой, стригущие всю подозрительную растительность в зоне досягаемости и дальний перелесок впридачу…
…Стащив с импровизированного бруствера шведский пулемёт «Кнорр-Бремзе», Лапин и Васильев присели на корточки. Ополченцев скрывал от вражеских глаз и пуль склон оврага, пролегшего почти параллельно дороге.
— Что, Васильев, боязно? Ничего, сейчас подуспокоятся, ближе подойдут — тут их и встретим.
— Не, не боязно, товарищ младший сержант. Неуютно…
— Врёшь. Вон как сбледнул с рожи. Нешто непонятно, что про себя всем святым комсомольским молишься? В первом бою всем страшно, по себе знаю. Главно дело — страх перемочь. Тогда жив будешь. Да и то сказать: разве это страх сейчас? Вот когда в девятнадцатом на нас под Харьковом марковцы трижды в штыки ходили, вот тогда был страх. Прёт он на тебя, штык прямо в глаз целит, а под белой фуражкой зенки тоже аж белые, рот раззявил и видать, что клык выбит, а с угла рта на щетину слюна, как у бешеного кобеля, течет…
Стих грохот последнего немецкого пулемёта, в рухнувшей с небес тишине стали слышны перекрики немецких команд и ровное порыкивание моторов.
— Никак, полезли? Ну-ка, поглядим…
Осторожно высунувшись из укрытия, бойцы с тревогой наблюдали, как, постепенно сжимая строй, чтобы не вылететь в овраг, катили бронетранспортёры, железными боками прикрывая перебежки гренадёр, лихорадочно высверкивали пехотные лопатки, сооружая брустверы на позициях миномётчиков и «эмгарей».
Наученные горьким опытом двух лет боев, ветераны «старого Хайнца» были готовы плюхнуться наземь и открыть ураганный огонь при первом же выстреле противника. Но засада молчала…
— Не замай! Пусть поближе подойдут…
Сосредоточенно доворачивая пулемётный ствол за выбранной группой немцев, старый «комотд» Константин Лапин старался не упустить с прорези поднятой планки тощего немца, который, прыгая из кузова грузовика, сменил унтерскую фуражку на стальной шлем. Витя Васильев, прокусив до крови губу, выцеливал пляшущим стволом финской магазинки пулемётчика на едущем как раз по краю дороги бронетранспортёре…
А Рамазан Гафуров недвижно лежал в своей ячейке, замаскированной в зарослях на противоположной стороне от дороги. Он лежал, неудобно уткнувшись лицом в торчащие из срезанной земли белые корешки, и жёлтые сухие соцветия дикого укропа, срубленные пулемётной очередью, тоже лежали на бело-розовых хлопьях мозга, не прикрытого больше затылочной костью, и на исковерканном оптическом прицеле…
Тишина…
Грах!
Грохот выстрела, высверк в колее — и идущая по дороге бронемашина рыскнула вбок, дернувшись на разбитом колесе.
Одновременно с этим над тихой пустошью вновь разлилась стрелковая разноголосица. Били наши, били немцы.
Тремя злыми очередями опорожнивший двадцатипятипатронный плоский магазин Лапин сполз от края оврага вниз, стаскивая за хлястик второго номера.
— Ходу, Витька, ходу! Патроны не забудь, убью!
Скользя и спотыкаясь, пулемётчики бежали вглубь оврага, продираясь сквозь кустарник на северо-восток. Со злым матом отстегнув непривычную защелку, командир выдёрнул опустевший короб из пулемёта:
— Стой, Васильев! Патроны давай! Да стой, тебе говорю!
Парень, наконец, затормозил, завертел очумело головой. И тут же схлопотал такой подзатыльник, что и без того сидящая на голове наперекосяк пилотка вовсе отлетела на полметра.
— Охренел, что ли? Чего летишь, как обосравшись? До Москвы доскачешь! Магазин полный давай!
Прерывисто дыша, Витя выудил из одной из висящих крест-накрест противогазных сумок железный короб и протянул старому столяру.
И лишь потом осознал происходящее.
— Дядь Костя, ты чего?
— Того самого. На войне — не в бане. Приказ сполнять должен мигом. На вот, этот пока снаряди да пилотку подбери. Пока германец там на говно исходит, у нас время есть. На полчаса швабов задержали, не менее. Сейчас полезем ещё позицию искать, чуть в стороне. Германец — вояка толковый, обязательно насчёт мин проверять полезет — тут мы его ещё раз кусанём. А потом уж, помолясь, к нашим отступим, пусть Кузнецов со своими швабов у себя на участке встречает. Ручей перебредем — а там уже парни на машинах с «крупняками». У ребят там траншейки отрыты: в них и отдохнем коллективно. Подождем сволочь фашистскую. А то муторно как-то в одиночку воевать…
…А вот ещё одна картина, которую Клаус Вессель, будь он здесь и дай он волю творческой части своей натуры, мог бы назвать пасторально-декадентской: поперёк дороги — накренённая телега о трёх колесах, рассыпавшееся сено — в эдаком эстетичном беспорядке, из-под него стыдливо выглядывает четвёртое колесо. Русские невероятно бестолковы! Нет бы починить, тут работы на четверть часа, — бросили!
Что стоит панцеру снести хлипкую преграду?
В следующее мгновение танк перестает существовать как боевая единица и начинает новую жизнь — в качестве препятствия куда более внушительного, нежели злосчастная телега. Водитель одного из мотоциклов от избытка храбрости или просто от растерянности проскакивает вперед по обочине, следом опасливо движется бронетранспортёр. Предосторожности оказываются излишними: тяжёлый взрыв поднимает пласт земли вместе с машиной, распыляет, прожигает, раздирает. Когда комья и пыль возвращаются на положенное им природой, а не человеком место, даже самому большому оптимисту из числа сидящих в другом бронетранспортёре становится ясно: живых среди этого раскуроченного металла быть не может.
И всё-таки русские поразительно бесхозяйственны! Таким образом распорядиться реактивными снарядами, которые должны были достаться в качестве трофеев покорителям Европы, — воистину азиатское изуверство!
Солдаты рейха настолько впечатлены, что последующую четверть часа ожесточённо воюют с лесом. В ответ — ни единого выстрела.
И снова впереди, в мрачноватом свете октябрьского предвечерья, идут сапёры. Металла находят всего ничего — одну только изъеденную ржавчиной полоску, наверное, обод от бочки. А вот завал из срубленных сосен — неприятно. Крайне неприятно: на этот раз из леса… не то чтобы стреляют — постреливают. Такого мнения придерживался герр гауптман — что-то около двух минут, пока с него не слетела фуражка, а рядом не взвыл над распластанной в пыли собакой молоденький сапёр: «Они убили мою Адель!»
Солдаты, торопливо ссыпавшиеся с бронетранспортёра при первых выстрелах, разворачиваются в цепь. Прочесывание леса на этот раз оказывается столь же безопасным, сколь и безрезультатным. Если и удалось подстрелить кого-то из лесных призраков, то не иначе как чудом. Пара товарок погибшей Адели сперва с воодушевлением бросается вперед, но вскоре начинает топтаться на месте и чихать: к добру или к худу завез во времена оны русский царь Пётр из одной германоязычной страны моду на курение табака.
И когда в пятом часу пополудни в видимости села с истинно русским названием Лубянки, что в дюжине километров от Дмитровска, препятствия вдруг заканчиваются, никто уже и не верит.
Жители, предупреждённые строгими военными в зелёных фуражках, подались в леса, благо даже ночами пока подмораживает не очень сильно, а там, глядишь, и прогонят немчуру.
Всех людей в селе — упрямый дед Павел, который и в колхоз последним пошёл, всё дожидался, покуда ему всем миром поклонятся, попросят, да измученная грудной жабой и нарочно отставшая от односельчан бездетная вдова Настасья.
Лубянки пылают. Кто отдал приказ их сжечь, и был ли вообще такой приказ? Вряд ли даже те, кто поджигал, смогут дать внятный ответ. А вот двоих русских — смуглого седоусого старика и бледную простоволосую женщину — застрелил по личной инициативе сапёр Карл Вернер. Девятнадцатилетний уроженец старинного европейского города Регенсбурга мстил русским за свою Адель.
Пожар виден в соседнем селе Крупышино, где остановился для короткого отдыха штаб механизированного полка.
Отдых — не для всех. Некоторым приходится делать неинтересную и, прямо сказать, грязную, но нужную работу: доставили пленного: худого большевика, раненного осколками мины при обстреле очередной русской засады. Вдвоём с напарником эти затаившиеся до поры русские пулемётчики обстреляли взвод гренадер, выталкивающих очередной застрявший на легком подъёме грузовик. Из-за их скифской злокозненности шестеро храбрых солдат фюрера обрели себе последнее пристанище на воинском кладбище, появившемся теперь в этом селе, и ещё столько же теперь надолго выведены из строя, став пациентами прекрасных германских артцев и обер-артцев. Ещё хорошо, что командир миномётной батареи, следовавшей в полукилометре от места засады, услышав стрельбу, прореагировал необходимым образом. В течение трёх минут первые миномёты были установлены прямо на крестьянских телегах, в которых перевозились, и четвёртым залпом позиция русских была накрыта. Конечно, большевики должны были бы бежать, но спастись от германской мины — дело почти невозможное. Раненого большевика озлобленные гренадиры чуть было не отправили на свидание с ихним красным юде Марксом, от души вымещая на нём сапогами только что миновавший страх, но подоспевший командир миномётчиков прекратил избиение, посчитав, что его законную добычу при необходимости сумеют пристрелить и в штабе полка… предварительно серьёзно поговорив с пленным.
Теперь тот стоял в одних шароварах, пошатываясь, грязью с босых ног пятная выскобленные половицы в центре горницы, слегка поддерживаемый за локоть пожилым переводчиком с гвардейски закрученными набриолиненными усами. За столом перед ним сидел сухопарый оберст-лейтенант с длинным, похожим на сучок, носом — чужой, приблудный лешак в золотых очочках — и перебирал узловатыми пальцами документы: два узких бланка с личными данными, вытащенные из чёрных шестигранных пенальчиков, заводской пропуск и залитый кровью комсомольский билет погибшего второго номера.
Прижимая перебитую руку к побуревшей бумаге германского индпакета, обматывающего пробитую грудь, пленный сквозь шум крови в ушах вслушивался в непонятную резкую речь немецкого офицера, прерывающуюся чисто звучащими словами толмача:
— Итак, «товарищ» Лапин, откуда вы взялись здесь, какой части, кто командир?
— Живем мы здесь. А командир и комиссар у нас на все века один: товарищ Сталин.
…Резкий рывок раненой руки, полувскрик-полувсхлип: «…ять!»
— Хорошая шутка. Но всё-таки: номер части, фамилии командира и комиссара?..
…Тычок в диафрагму.
— Сволочь… Сказал же — местный я… Орловский… Вон, пропуск заводской лежит.
— Уже лучше. Но номер части я так и не услышал… — снова рывок…
…— Ну что ты молчаливый такой попался, как та ворона из басни? Спой, светик, не стыдись… А то ведь помирать долгонько придётся…
— Да иди ты … в зимний день в трухлявый пень, а коль близко — через коромысло, сто ежей тебе … и паровоз вдогонку! Зашатал уже, сука немецкая!
Резкий хлопок ладонями по ушам и удар коленом в промежность:
— Ай-яй, нехорошо как получилось-то… Больно, наверное? Жаль, жаль… Ну, так сам виноват: нечего лаяться на старшего в чине, унтер…
— Был унтер, да сплыл. Нынче — младший сержант Красной Армии Лапин Константин Александрович. А ты, никак, из «ваш благородиев» будешь?
— Не угадал, сержант. Из «высокоблагородий». В двадцатом произведен в войсковые старшины. И горя бы сейчас не знал, кабы не такие, как ты… мразь краснопузая. Так что, землячок? Говорить станешь, или тебе вторую руку сломать?
— Да чего попусту языком трепать? Всё в бумагах в моих записано…
…Удар… удар… рывок… удар… выверт руки из суставной сумки…
Раздраженный оберст-лейтенант что-то трескуче командует, привстав за столом. Допрос продолжается с прежнего места:
— Номер части?
— Да зашатал, сволочь! Не знаю я номера! И командира не помню: как в полк ополчения забрали, оружие выдали, так через день уже на позиции послали.
Вновь удар под дых.
— Врёшь, сука красная! За два дня в сержанты не производят!
— Сам ты сука… Аттестовали как бывшего командира отделения на ту же должность, ясно тебе… бла-ародие?
— Ага, допустим… Ну, а взводного своего хоть знаешь?
— Чего ж не знать, знаю: сержант Кочетков. Только где он сейчас — не в понятии. Два дня тому по его приказу нам патроны с пайком привозили, был где-то возле перекрёстка с резервом.
— Так, ладно… Давай дальше: сколько солдат в Орле и окрестностях? Чем вооружены? Где стоит артиллерия, танки?
— Тю, да ты, высокоблагородие, дурак совсем… Откуда ж мне все это знать? Приходи сам в Орёл да посчитай… если целым останешься. Хотя оно вряд ли… Зашатал ты меня… помирать мешаешь…
* * *
Хорошо спится в селе оккупантам после трудного дня. Все крупышинские избы и овины забиты храпящими и сопящими господами офицерами и солдатами из штабной обслуги. Непрекращающийся дождь шелестит по листве и крышам, легонько постукивает в оконные стекла. Матово поблескивают по дворам мокрые тела автомобилей и мотоциклов, странными великанскими галошами топорщатся бронетранспортёры, лишенные бережливо унесенных под крышу пулемётов. Орднунг: ночь — время для сна. Воинам Германии следует набраться сил перед завтрашним днем.
Выгнанные из своих домов немногие оставшиеся в Крупышино крестьяне притихли в погребах и щелястых сарайчиках…
И только часовые отчаянно борются с подступающей дремотой. Вот постен приткнулся под навесом крыльца сельпо, сунул руки в карманы пропитанной влагой шинели, под сгибом локтя — блестящий от дождя карабин, с края каски срываются запоздалые капли. Вот сейчас передохнет немного — благо, до появления разводящего со сменой ещё больше часа — и вновь примется вышагивать туда и обратно вдоль улицы…
Постен упорно борется с дремотой, но шорох дождевых капель так непреклонно перекрывает все остальные звуки, что веки сами собой то и дело смежаются. Так что чавканье копыт по раскисшей земле немец услыхал слишком поздно: одновременно с высверком винтовочного выстрела.
И тут же улицы села наполнились движением. Скрытые ночным мраком всадники, как мстительное и крылатое небесное воинство, проносились мимо заборов, швыряя в силуэты вражеской техники кувыркающиеся в воздухе бутылки — и за их спинами вспыхивали костры пылающей КС. Влетая во дворы, бойцы в синих гимнастерках выбивали прикладами рамы со стёклами и вкатывали в забитые немецкими штабистами горницы ребристые гранаты. Успевших выскочить в панике немцев встречали хлёсткие выстрелы винтовок и наганов. Где-то на околице короткими лающими очередями закричал дегтярёвский пулемёт, возле захваченного сельпо ему отозвался второй…
Синие призраки в фуражках с гербами СССР на звёздах хозяйничали в Крупышино до пяти утра, методично обшаривая все здания и канавы и достреливая забившихся в щели, будто тараканы, гитлеровцев. На рассвете же, запалив оставшиеся неповреждёнными три бронетранспортёра, оперативная кавгруппа милиции при Орловском Управлении НКВД, увеличившаяся за счёт захваченных мотоцикла и штабного автобуса фирмы «Шкода», уже отступала в сторону Орла. Прихватить автотранспорт с собой пришлось вынужденно: ни одна лошадь не смогла бы двигаться, загруженная трофейным оружием и боеприпасами: одних только пулемётов было взято восемь штук — и, благодаря внезапности, ни один из них не успел выстрелить! Винтовки же и пистолеты можно было смело считать десятками. Жаль, не удалось всё подобрать — слишком поджимало время.
Однако своих погибших собрали всех, в первую очередь. И теперь на сиденьях «Шкоды» лежали тела шестерых орловских милиционеров и неизвестного младшего сержанта, расстрелянного оккупантами накануне вечером…
Глава 22
Ночь с 3 на 4 октября,
Дмитровск-Орловский
И всё-таки прав был гефрайтер Вессель: камерадам из 17-й чертовски повезло. Их разбудили в положенный час привычные команды. Ну а Клаус, проснувшись неведомо отчего, вообще не понял, где он находится: в полной темноте звучало торжественное многоголосое пение. Это было по-настоящему жутко. Пели не только в доме, но и на улице… не под самыми окнами — где-то в стороне, но пели определенно то же самое. Слов Клаус не разобрал — то ли спросонья, то ли язык был чужой, то ли просто времени не хватило: тускло вспыхнул жёлтым карманный фонарик, в круге света замаячило перекошенное, едва узнаваемое лицо, и лейтенант, пребольно толкнув Весселя в плечо, завопил: «К машине!» До танка — двадцать шагов по щедро освещенной луной дорожке. В другое время Клаус непременно хотя бы мысленно выдал что-то вроде: «Среди всего этого русского безумия благоразумны лишь светила», но сейчас он думал только о том, чтобы поскорее добраться до верного панцера. В нём куда уютнее, чем в чужом городе. Не добежал: на этот раз его ещё больнее толкнула сама земля — так, что на ногах не удержался, ткнулся носом в траву. Кольнуло холодом. А сверху накрыло жгучей — огненной! — волной.
Клаусу показалось, что весь город взлетел на воздух и запылал разом. Сразу стало светло — не как днем, а… кто сказал, что в аду темно? Там просто безысходно страшно.
«Снова?! Как же так?!»
Земля улетала куда-то вниз, все ниже и ниже, небо давило, а между землёй и небом был один только огонь. Клаусу думалось: он вот-вот задохнется, потому что пламя выжгло весь кислород… Механик-водитель PzIII номер 232 35-го танкового полка 4-й танковой дивизии гефрайтер Вессель бежал, хватая ртом раскалённый воздух… бежал так, как никогда в жизни не бегал… бежал, не разбирая дороги, пока его не остановили легоньким толчком приклада и «хендехохом», произнесенным с невероятным акцентом.
Именно этот акцент одновременно привел Клауса в чувство и вверг в жесточайший трепет.
Вессель поднял глаза и признал, почему-то немного успокаиваясь от этой мысли, что на этот раз спятил окончательно: на него наставил винтовку злобно ухмыляющийся чёрт — маленький, черный, с коротенькими острыми рожками.
— Пошел! Ну? — на чистейшем русском языке велел «чёрт», и немец его понял.
…Спустя пятьдесят лет известный американский историк, исследователь Второй мировой войны, профессор Калифорнийского университета Клаус Вессель-Гиршбейн, напишет «исторически достоверные воспоминания», в которых подробнейше расскажет об этих днях. Мемуары будут изданы с трогательным посвящением «Рейчел, супруге, вдохновительнице и верной помощнице во всех начинаниях» (по совместительству — единственной дочери Авраама Гиршбейна, финансиста из Лос-Анджелеса).
Разумеется, автор ни единым словом не упомянет о странном полуночном концерте и тем более о потусторонних сущностях — из боязни повредить заслуженной репутации здравомыслящего человека. Зато рассказ о том, как его обыскивали молодые люди в штатском («наверняка сотрудники органов государственной безопасности») и что именно они забрали при обыске, займёт полторы страницы и будет завершен пространными выводами о традиционном попрании русскими прав человека.
Конечно же все — от студентов до внука, хорошенького мулатика по имени Джуниор Авраам, — будут пребывать в уверенности, что уважаемый профессор и лучший в мире дедушка никогда не был нацистом. Его принудили пойти в вермахт, и лично он, конечно же, никого не убивал, и вообще — в душе никогда не был за Гитлера. Потому-то и эмигрировал при первой же возможности в самую свободную страну, где начал жизнь с чистого листа.
Поймет ли сам Клаус Вессель, сколь сильно ему повезло — куда больше, чем большинству камерадов из 17-й? Возможно. Но вряд ли. Ведь ему будет ведомо далеко не все, что произошло в ту ночь в русском городке Дмитровске и окрестностях. Если бы он, тогда ещё гефрайтер непобедимой армии фюрера, и впрямь попался чекисту или хотя бы дядьке-ополченцу, прошедшему германскую, они наверняка действовали бы в соответствии с приказом. Кабы он налетел на один из дюжины ДШК, итог был бы столь же печален для него. Но судьба вынесла Клауса на семнадцатилетнего Митьку Колосова и его закадычного приятеля Ваньку Горлова, которому третьего дня сравнялось восемнадцать. Тогда же, два дня назад, они в числе первых записались в ополчение. Оба мечтали о подвигах. А лучшего случая отличиться могло и не представиться. Вот они и двинули самочинно, вооружённые винтовками системы Мосина, смутными планами итвёрдым намерением помогать Красной Армии, на поиск приключений, проще говоря — полезли поперёк батьки в пекло, в самом прямом смысле слова.
В самый неподходящий момент — когда все уже началось — Митька ухитрился шмякнутся в лужу… да не просто лужу, а из тех, что пересыхают только в разгар лета и то ненадолго. Выгваздался, как чёрт, попытался хотя бы лицо обтереть — только грязь размазал. Однако ж вышло будто бы нарочно: перепачканный Митька слился с темнотой. Одно досадно: отцову кепку потерял, давно не стриженные волосы в глаза лезут. Взъерошил их мокрой ладонью — и принялся внутренней стороной полы пальто обтирать трёхлинейку. От бати слыхал: вроде, винтовка надёжная, значит, от нескольких капель воды попортиться не должна…
Митьке с Ванькой тоже повезло: на них наскочил не вооружённый до зубов гитлеровец, а запыхавшийся, изрядно перетрусивший малый чуть постарше их. Встреча стала неожиданностью для всех троих. Колосов не растерялся… ну, почти: всё ж таки сообразил, что выставил трёхлинейку прикладом вперед… почти что вовремя сообразил. Вот и остановил немчина: неуверенно — прикладом и чуть более решительно — окриком «хенде хох!» У «немки» Митька перебивался с твердой тройки на шаткую четверочку, но на этот возглас его знаний хватило с избытком. Немчурёнок оказался какой-то малахольный: прежде чем поднять руки, попытался перекреститься и бельма пялил так, будто нечистую силу увидел.
— Чего теперь с ним делать будем? — почему-то шепотом спросил Митька у Ваньки. Вроде, во время инструктажа он ловил каждое слово, ведь говорил с ними самый настоящий лейтенант-пограничник. Да, видать, все знания выдуло из Митькиной головы холодным ночным ветром. Правильно учителя сетовали: неусидчивый Колосов, неприлежный. Зато Ваньку чаще хвалили, чем ругали. И в этот раз он не подвел:
— Ну… это… поглядеть надо, чего есть при нем…
Сказано — надо делать. Горлов осторожно двинулся к пленному. Оглянулся на приятеля: Митька всегда был заводилой, ему, небось, и немца обыскать — раз плюнуть. Да вот незадача: кому-то ж надо держать фашиста на мушке. И этот кто-то — Митяй.
Посветить-то чем? Впотьмах как-то не того… А придётся.
Немец был мокрый и ледяной, как лягуха… бр-р, противно! Ваньке припомнилось давно забытое: в детстве он так шугался квакающей пакости, что над ним кто только ни насмехался. А бабка сажала этих самых, как она говорила, холодух в молоко, чтоб подольше не кисло. Из-за бабки-то Ванька и бояться перестал: очень уж не хотелось её огорчать, приходилось зажмуриваться и пить…
Сейчас даже не зажмуришься — и так почти ничего не видать.
Горлов стиснул зубы и принялся искать на фашистовой одеже карманы. Нашел. А в карманах — ничего, кроме каких-то бумажек. Хоть бы пистолет или гранату какую-нибудь… поймали невесть кого!
— Вроде, все, — буркнул Ванька через плечо. — К нашим его, што ль?
— Ага, давай, — неуверенно согласился Митяй и шевельнул стволом винтовки в сторону немца: — Пошел! Н-ну?!
Получилось очень даже грозно. Пленный послушно двинулся вперед. Колосов выдохнул. Настоящего подвига не получилось, однако ж немчина с собой привели — уже помогли своим, так? В лесу они точно не заплутают: даром, что ли, и Митька, и Ванька сызмальства увязывались следом за дедами-охотниками?
У гефрайтера Весселя охотников в роду не было. Зато были гробовщики — по линии матушки. И он увидел перед собой не деревья, а выстроенные в беспорядочные ряды заготовки для гробов. Две нацеленные в спину винтовки прожигали спину, доставали до самого сердца, оно обречённо замирало, чтобы через мгновение пуститься вскачь, радуясь, что все ещё живо. Но от леса шёл такой могильный холод, что Клауса снова — в который раз за два дня — охватила паника, и он позавидовал уже не камерадам из 17-й, а Каменному Курту, для которого все закончилось быстро.
Земля опять качнулась у него под ногами… или это он пошатнулся? Удерживая равновесие, попятился — и внезапно, резко развернувшись, рванулся прямо на винтовки, проскочил между опешившими русскими и припустил что было сил в сторону пожарища.
— Стреляй, Митяй! — крикнул Ванька, неловко перехватывая вдруг потяжелевшую винтовку. — Ну чего ты?!
Они оба разом поняли: выстрелить в человека, даже если он фашист, не так-то просто. И от этого понимания обоим стало не по себе.
— Ушёл! — со злостью и с облегчением выдохнул Митька, опуская винтарь. — Чего теперь?
— Чего-чего, — в тон ему передразнил Ванька. — К нашим пошли, а то, неровен час, хватятся, тогда… — да так и замер, задрав голову в небо.
Ничего подобного ни он, ни Митька прежде не видели даже в кино, да и представить себе не могли. Из-за войлочно-серых, привычных таких облаков плавно двигалось под аккомпанемент ровного гудения что-то необыкновенно красивое и грозное.
— Вань, это наши? — толкнул приятеля локтем в бок Митяй, машинально считая: один-два-три, и снова: один-два… Много!
— Угу, — снова заважничав, кивнул Горлов. — Дэ Бэ!
— На город идут…
Судьба города и 4-й танковой дивизии вермахта была окончательно решена накануне вечером, когда Годунов, вернувшись в Орёл, снова связался по ВЧ с командующим Брянским фронтом. Вроде, и готов был Александр Васильевич к чему угодно, но неожиданность — на то она и неожиданность, чтобы приключаться вдруг: Ерёменко выслушал, не перебивая, помолчал с полминуты и задал явно риторический вопрос:
— Дмитровск, говоришь?
— Дмитровск.
Ерёменко глухо кашлянул и заключил:
— Ну, там германцу и капут. Как думаешь, для авиации дальнего действия цель подходящая?
Если предыдущий вопрос был почти риторическим, то этот — риторическим насквозь, так что Годунов ограничился сухим чеканным «так точно».
Устраиваясь для краткого отдыха на знакомом диване в кабинете Оболенского, все на тех же вышитых подушечках, он думал лишь о том, что должно случиться через пару часов в Дмитровске. А ещё — совсем немножко, пока огонёк папиросы догорал, — о худенькой девчонке с выбивающимися из-под лётного шлема рыжевато-русыми волосами. О Марине… Надо же! Вот как морское имя — так обязательно в небо тянет! Известная каждому в СССР Марина Раскова, орловчанка Марина Чечнева… даст бог, и в новой реальности станет Героем Советского Союза. Или правильнее пожелать ей, чтоб не узнала войны? Хотя история — вещь упругая, и все, что ты тут напрогрессорствовал… Вот и эта — тоже Марина… Хорошее имя, морское. И девчонка хорошая. Вздорная и искренняя… Главное, чтоб уцелела.
Все прочие мысли уместились в одну фразу: «А, будь что будет!»
Те четыре часа, что у него были, Годунов проспал крепко, без сновидений. И, пожалуй, часам этим суждено было стать самым спокойным его временем в новом-старом мире.
На рубеже суток для него начался обратный отсчет. Командующий Брянским фронтом в телефонном разговоре с генерал-майором Василевским обозначил цель для бомбового удара. Собственно, произошло то же самое, что и в реальной истории, разве что тогда самолёты отбомбились по движущейся колонне, а спустя несколько дней разнесли в пух и прах один из орловских аэродромов. Для исторической хроники — факт малоинтересный. И не было в реальной истории никакого старшего майора госбезопасности Годунова, имя которого с удивлением назвал этой же ночью на совещании в Ставке Василевский — и с не меньшим удивлением услышал Сталин.
Но задуманное продолжало осуществляться. Ровно в полночь — самое время для страшных чудес — все репродукторы в городе, что продолжали оставаться в рабочем состоянии, восторженно дрогнули хором от звуков кантаты «Александр Невский»:
А и было дело на Неве-реке, На Неве-реке, на большой воде. Там рубили мы злое воинство…Горохову и трём его помощникам стоило немалого труда запрятать в землю и вывести в лес, к старательно замаскированной агитмашине, кабель. Да и было это, признаться, неоправданным риском, совершеннейшим ребячеством, упрямо утвердившимся на шатком основании из случайностей: один взрослый серьёзный человек, командующий Орловским оборонительным районом, походя подал идею другому взрослому серьёзному человеку, профессиональному пропагандисту. Ну а секретарю райкома партии Федосюткину и вовсе шёл только двадцать восьмой год. Конечно, все вышло не так, как задумывалось, — часть проводов немцы повредили при разминировании. Однако ж тем немногим гансам, кому удалось выжить, ночной концерт запал в память, и жуткая легенда про «Ein Höllischer Stadt» пошла гулять по фронтам, обрастая все новыми и новыми подробностями.
«Ein Höllischer Stadt»… Город, в котором музыка предвещает смерть. Город, который невозможно разминировать так, чтобы в нём совсем не осталось взрывчатки.
Те, кто лишь недавно радовался азиатской глупости этих русских — это же надо было додуматься: разложить мины по подвалам самых больших домов, как приманку для крыс, да зарыть у всех на виду! — успели ужаснуться азиатскому коварству. Или не успели, тут уж — надо согласиться с Весселем — кому как повезло: в две минуты первого разом взорвались тонны и тонны мелинита, расчётливо заложенные в ливневой канализации и в погребах домов, полыхнули штабеля леса на фабричной окраине. Ночной отдых у гитлеровцев определенно не задался.
Что же до везунчика Весселя — даже в самых смелых мечтах он не видел себя поэтом-пророком. Однако ж, вспомнив вечером 3 октября о Наполеоне и пожаре Москвы, он, сам о том не подозревая, предугадал скорую судьбу Дмитровска.
Пару недель спустя в «Правде» появятся две фотографии, одна ночная, плохого качества, без подписи и не разберешь, что на ней — снятые с большой высоты пожары, другая — утренняя, тут и так понятно: кладбище битой техники. А в короткой заметке о полном уничтожении 4-й танковой дивизии немцев маленький курский городок впервые назовут «Москвой Хайнца Гудериана».
Через много лет Орловское книжное издательство выпустит к 70-летию событий книгу именитого краеведа Владимира Овсянников «Огненный Китеж».
Но все слова, как водится, потом. А пока двое дмитровских мальчишек, немея от восторга, смешанного с ужасом, смотрели, как к их родному городу движутся тяжёлые самолёты.
Поднятые в воздух распоряжением Василевского бомбардировщики авиации дальнего действия шли к Дмитровску, неся в бомболюках по три тонны законсервированного пламени.
Приблизившись к окраине, головной самолёт просигналил крыльями, и бомбардировщики перестроились, беря цель в воздушные клещи. Грозно и неотвратимо шли над головами мечущихся в панике захватчиков небесные крейсера. Раз за разом покачивались они, освобождаясь от порций заключенной в чугун взрывчатки. Пришельцев с Запада не спасали ни глубокие погреба уцелевших — до времени — строений, ни истовые молитвы тому, с чьим именем, отштампованным на пряжках ремней, они пришли на русскую землю. В грохоте разрывов разлетались крупной щепой бревенчатые стены домов, простоявших и сорок, и сто, и полторы сотни лет. Подпрыгивали, переворачиваясь в воздухе, многотонные серые черепахи панцеров и рушились в образовавшиеся громадные воронки. Яркими кострами полыхали грузовики, хелендвагены, мотоциклы. В лоскуты разрывались, разлетались, как городки, незваные гости в форме масти чумных крыс…
Поделом. «Не ходите на Русь! Здесь живёт германская Смерть».
Пять минут сорок восемь секунд миновало с того момента, когда комполка Евдокимов в первый раз дёрнул рычаг бомбосбрасывателя, до того момента, когда вновь сошедшиеся в единый боевой порядок бомберы, покачивая крыльями в знак привета укрытым ночным сумраком товарищам на земле, развернулись на обратный курс. Сегодня — без потерь…
Врагам на Русь не хаживать, Полков на Русь не важивать, Путей на Русь не видывать, Полей Руси не таптывать. Вставайте, люди русские, На славный бой, на смертный бой, Вставайте, люди вольные, За нашу землю честную!А над постепенно затихающим рукотворным адом, залитым кровавым светом, бесшумно появился маленький самолётик. Капитан Полевой вел «уточку» бережно и деликатно, как любимую девушку под ручку по парку. Из кабины штурмана восторженно, от всей своей необъятной, как небо, души, матерился Селезень, не забывая щёлкать фотоаппаратом. Лизавету, с которой обычно — ну, то есть, три дня из четырёх, что существовала «эскадрилья», — летал капитан, единодушно решили оставить на земле. На снисходительно выцеженное Селезнем «нечего там девке делать» Лиза только фыркнула, тряхнув рыжими косами, но в спор не полезла.
Труднее пришлось с Гороховым, который непременно хотел лететь сам. Но и его все тот же неутомимый и неумолимый красвоенлёт срезал ехидным:
— Дядя, тебэ нужен целый Тэ Бэ, — с восточным акцентом выдал он, хохотнул, довольный тем, как складно вышло, и закончил, требовательно протягивая руку: — Короче, ты тут грусти, девчатам музыку крути… ну, и худей потихоньку, а с твоей машинкой я там, — показал глазами вперед и вверх, — как-нибудь управлюсь, не сложнее, поди, самолёта?
— Да давай, фотокор, дерзай, — беззлобно, но не без ехидства, ухмыльнулся агитбригадчик. — Но я тебе и так скажу, что у тебя выйдет: бой в Крыму, всё в дыму, ничего не видать.
— А мы утром ещё раз поснимаем, — браво заверил Селезень. — Так, командир?
Одним словом, Горохова оставили на земле.
От тоски по настоящему делу старый искатель приключений принялся с настойчивостью, не находящей лучшего применения, составлять компанию младшему лейтенанту Мартынову: тот, как-никак, в прошлом — журналист, почти что коллега. И случилось так, что агитбригадчик первым увидал двух разгильдяев (попытался нахмуриться — и улыбнулся: сам таким был с четверть века тому назад), явившихся с повинной и с документами сбежавшего ганса.
В это время хозяин бумаг выл и рыдал от боли под опаленным кусточком, под чёрным небом, под хлёстнувшими слаженно и дружно струями дождя на дальней окраине только что переставшего существовать города.
Где потом затерялся зольдатенбух гефрайтера Клауса Вильгельма Весселя — маленькая историческая тайна. А вот записная книжка в коричневом кожаном переплете с латунными уголочками будет лежать в витрине краеведческого музея возрожденного города Дмитровск-Орловский среди вещей тех, кому наверняка повезло меньше, чем будущему профессору Калифорнийского университета и заклятому врагу СССР. И через пятьдесят, и через семьдесят лет на пожелтевшем форзаце будут хищно топорщиться острыми углами готического шрифта слова «Die Fahne hoch» и предсмертно скалиться нарисованная химическим карандашом фурия — Война.
Глава 23
4 октября 1941 года,
близ с. Бельдяжки Кромского района
Орловской области
Рассвет выдался тихий-тихий: ни птичьего гомона, ни буйства красок. Серенько. Даже ветер шелестит по-мышиному осторожно: вроде бы, есть, но словно и нет его. Тихая речка Тишинка по-матерински нежно перебирает ветви плакучей ивы, будто косу плетет. И напевает, Годунову слышится: «Тиш-ш-шь, тиш-ш-шь…»
Тихое утро — некапризный последыш бабьего лета.
Александр Васильевич специалист, конечно, невеликий, в метеорологии соображает постольку-поскольку, как краевед вообще только общедоступное читал, а из архива в первый же день — налево кр-ругом и марш-марш историю править. Однако ж где-то возле сердца не то ноет, не то ломит, аж в плечо отдаёт, — этот признак верней любого штормового предупреждения. Да и от бабки, что на Альшани жила, не раз слыхал: аккурат как немцы пришли, погода испортилась — «будто б назло им, иродам»: сперва несколько дней ливмя лило, потом ударил ночной мороз — ранний, крепкий. К такой партизанской диверсии природы оккупанты оказались не готовы. Совсем и вообще. «Первые-то прошли и, сказывают, о той поре возле Мценска где-то наши с ними дрались. А те, что следом, — так и встали за околицей, танки-то ихние с машинами как следовает приморозило, ни тпру, ни но, — смеялась бабушка, круглолицее солнышко в белом ситцевом платочке. — Бегали они, что тараканы, шумели чего-то, лаялись по-своему. А тут из туч — самолёты наши, маленькие такие… ну, дед тебе такой ладил, дощечка над дощечкой. Три их было не то четыре. Да как начнут чево-то немцам прям на головы бросать… как начнет бахать… немцы по им палят, а они знай бросают. Побросали да были таковы», — с той же сказово-горделивой интонацией, с которой совсем недавно повествовала Саньке о находчивости Колобка, заключала бабка. И, посерьезнев, добавляла: «Потом пособрали немцы деревенских с ломами, с лопатами и погнали, стал быть, помогать. Стрелять не стреляли, это уж потом, на Выселках, и наших, и солдатиков пленных… А тут — ружьём по хребту со злости — да и вся недолга…»
Ну что, Александр свет Василич, тебе уже есть чем гордиться. Хоть и не нашел ты нигде ни слова-ни полслова про «кукурузники», забросавшие вмерзших немцев гранатами, но сам воплотил бабкину сказочную быль в реальность. В альтернативную реальность. Да и дальше мал-мала продвинулся, теперь фрицы на Орловщине не до ранних заморозков проваландаются, а, считай, до настоящих морозов…
Во-от, кажется, дождь начинается… Годунов поежился. Ночью лило, теперь моросит. Ну да ничего, неприятность эту мы переживем. Главное, помнить, что не сегодня-завтра Дедушка Мороз зашлет разведку.
Несерьёзный настрой какой-то, мультяшный до изумления. Вдвойне странно, ежели учесть, что дело предстоит более чем серьёзное. Световое шоу со всяческими спецэффектами под кодовым наименованием «Капли датского короля».
Правда, название существует только в мыслях Годунова. Да и вообще, ни одной бумаге не доверен даже фрагмент информации о предстоящем. Единственный, кто мог бы озаботиться бумаготворчеством, — въедливый бригвоенинтендант с княжеской фамилией Оболенский. Но не озаботился: артиллерист победил в нём тыловика. Вот теперь и стоит бывший командир батареи Гренадёрского мортирного дивизиона на юру у места впадения тихой речки Тишинки в укромно спрятанную за густым кустарником речку Крому… Александр Васильевич чуть было не ляпнул по инерции «бывший артиллерист», но вовремя спохватился. Не важно, что говорил он не вслух, всё равно совестно, давно ведь, в ранние годы своей прошлой жизни, определил: бывших профессионалов не существует, существуют только бывшие люди. А Оболенский — настоящий.
На давешнем совещании — ага, очень давнем, аж четверо суток прошло! — главный тыловик вдумчиво, даже, вроде бы, сочувственно, слушал, как командующий оборонительным районом пытается облечь в слова смутные попаданческие мечты о сработанной на коленке вундервафле, а Годунов хоть и не без стеснения, но полной пригоршней черпал идеи из книжек и киношек. Слушал Оболенский, слушал — и вот неторопливо достал из кармана солидного вида записную книжку и карандаш в тусклой металлической, не иначе как серебряной, оправе. Но писать не ринулся — сделал пару быстрых пометок. Гм, все, что тыловых служб касалось, шпарил по памяти, как по писаному (гвозди бы делать из этих людей!), а тут вдруг за блокнот схватился… хорошо — не за голову. Годунову и самому этот план казался… «диким» — говорить как будто бы не по рангу, да и сомневаться в себе — оно не ко времени. Тогда скажем так: вызывающим некоторые опасения. Теоретически-то оно красиво, но…
У «князя» же по мере слушания вид становился все менее и менее княжеский: глаза разгорелись, плечи развернулись, будто бы росту прибавилось. Вдохновился, значит.
— Разрешите, товарищ старший майор? — только что руку не тянет, как прилежный гимназист. — Как я понимаю, все расчёты пока только по картам?
— Правильно понимаете, — старательно напустив на себя важный вид, ответствовал Годунов.
Не соврал. Почти. Разве что до вчерашнего дня он рассчитывал совсем другие вещи: вместе с завучем — нагрузку в только что начавшейся четверти (одна из преподавательниц ОБЖ вдруг засобиралась в декрет и щедро поделилась своими учебными часами с коллегами), а наедине с самим собой — остаток денег в портмоне, надеясь продержаться на плаву до пенсии или до зарплаты, ни у кого не одалживаясь. Ну а фрагменты топографических карт этого периода он когда-то в будущем по случаю скачал с одного толкового сайта.
В тот момент думалось с долей смущения: ну, когда в детстве отыгрываешь сражения по «Книге будущих командиров», — это в пределах нормы. Но когда стареющий мужик эдаким горьковским буревестником реет над распечаткой карты, испещрённой чужими карандашными пометками, — это или от не хрен делать, или диагноз… или то и другое разом. А взгляд тем временем скользил по камуфляжу рельефа местности, цеплялся за чётко пропечатанные названия населенных пунктов: Дмитровск-Орловский, Лубянки, Бельдяжки, Сизовы Дворы… Почти не в тему вспомнилась лекция некоей дамы, широко известной среди краеведов своими фундаментальными работами о том, где любили проводить лето графы П. и что едали по праздникам князья Г. И даже тогда, когда она повествовала о вещах более земных и обыденных, в её аристократическом прононсе отчетливо улавливался хруст французской булки и перестук изящных каблучков по панелям Галаты и Монмартра… Вот и в тот раз, морщась с легкой брезгливостью и подпустив в голос иронии, которая приличествует интеллигентке в третьем поколении, если она вынуждена говорить о столь низменных вещах, именитая краеведша просвещала собравшихся, откуда есть пошли не князья и графья, а географические названия на карте области. Вымолвив — с привычным французским акцентом — нечто вроде «Bell'дяжки», она с намёком улыбнулась и в категоричной манере заверила: этимология не вполне ясна.
Годунов, с его насквозь мужицким происхождением, о быте титулованных особ не знал ровным счетом ничего, зато с детства привык, вслед за бабкой, именовать куриную или свиную ногу булдыжкой, а чаще — бельдяжкой. И никакого, понимаешь, простора для озабоченной поиском научной истины фантазии!
А расположены те Бельдяжки вместе со всей их «не вполне понятной этимологией» в пяти километрах древнего города Кромы, чуть в стороне от дороженьки прямоезжей, коей любящие не только скорость, но и комфорт супостаты всяко не минуют. Через Сизовы Дворы та дорога и вовсе проходит, а дальше пересекает речку Тишинку близ места впадения в Крому.
Все продумано самой природой будто бы нарочно для хорошей подлянки недобрым людям.
В теории — фантастически красиво. На практике — как знать, не фантастика ли. Не приходилось в прошлой жизни капитану третьего ранга Годунову решать даже отдалённо похожих задач. Подначитался-поднахватался, над картой мозги потренировал — вот и весь его богатый опыт.
Но и ежу понятно: было бы время для строительства укреплений, были бы ресурсы — получились бы крепкие клещи, выдирая из которых хвост, захватчики рисковали укоротиться по самую шею.
Однако ж как узнал Александр Васильевич, сколько в Орле штыков, — устыдился своего нездешнего, прямо сказать, прожектерства. А как услыхал о сокровищах бригвоенинтенданта Оболенского — куда до них кладу старины Флинта! — приободрился и принялся думать: как же ими по-хозяйски распорядиться? И вспомнил про Бельдяжки и прочее.
За картой — уже тутошней, чистенькой, без пометок, пахнущей типографской краской, — дело не стало. Мысли пока не обрели завершенной формы, вся надежда на помощь зала.
Зал в лице главного тыловика ожиданий не обманул.
— Как должны выглядеть упомянутые… э-э-э… — немного замявшись, Оболенский заглянул в записную книжку, — направляющие, я примерно себе представляю. Найти инженера, не чуждого, как бы это сказать, изобретательству, несложно. Насколько мне известно, товарищ Домнин в эвакуацию не уехал, только семью отправил, — вопрошающий взгляд адресован директору «Текмаша», ответный кивок вызвал легкую одобрительную улыбку — очень похоже улыбался старый мудрый Каа из мультфильма, которому предстоит появиться в нескором будущем. — А вот кто осуществит расчёты на месте?
— А кого бы вы порекомендовали? — осторожно поинтересовался Годунов.
— Себя, — просто сказал Оболенский. — Подобного, конечно, делать не доводилось, однако ж сомнительно, что найдется у нас знаток с опытом. Умельцы — дело другое, как без них. Себе в помощь намечаю товарища Малыгина, преподавателя пединститута, — бригвоенинтерндант в задумчивости потер большим пальцем гладко выбритый подбородок, — и из строителей кого-нибудь думаю к утру отыскать.
Похоже, Оболенский знал если не весь город, то добрую половину — точно. Причём половина была действительно доброй.
С помощниками интенданта, который на время снова стал артиллеристом, Александр Васильевич до отъезда в Дмитровск познакомиться не успел. Исключая, конечно, отца Иоанна. И направляющие ладили без него — часть в Кромах, часть прямо здесь, на месте, из родной тары от снарядов. Подтянули людей из окрестных деревень, трактора, лошадей. Трое суток, теперь Годунов не то что душой или умом — шкурой чувствовал, — это очень много. Ну и светлая голова — а в том, что у Оболенского она светлая, сомнений как-то сразу не было, — в комплекте к которой идут не только многочисленные инструкции, но и особые полномочия, способна творить чудеса. «Ты, Александр Василич, считай, на готовенькое приехал», — хмыкнул в усы Годунов, хозяйским взором окидывая едва заметные за жёлто-зелёной порослью прибрежного кустарника «коробки с карандашами». А сверху — икебана из веток с уже слегка подсохшими листьями. Разумная предосторожность, хотя… Командующий оборонительным районом поднял голову в небо — и тут же назидательно получил в глаз первой каплей дождя. Правильно, нефиг расслабляться!
— Вчера после полудня летали, — догадливо подтвердил Оболенский. — Надо понимать, так ничего и не увидели. Мы, товарищ старший майор, судьбу не искушали, работали исключительно по ночам.
С того берега тем паче ничего не видно, Годунов лично проверял. Мост через Тишинку — капитальный деревянный, рассчитанный на то, чтоб по нему трактора без риска шли — «взорвали по-тихому» вчера поздним вечером. Посредством эдакого каламбура описал произошедшее доцент Малыгин, сутуловатый пожилой мужчина с легкой татарщинкой в чертах лица. Пришлось переходить речку вброд вслед за проводником — молчаливой женщиной лет сорока пяти, жительницей спешно эвакуированных Сизовых Дворов, по-старушечьи обвязанной тремя шерстяными платками: один голову и плечи укрывает, второй крест-накрест увязан на груди, третий поясницу укутывает. За всю дорогу туда и обратно обернулась один только раз — когда дошли до торчащих из-под воды накренившихся пеньков-опор, — и строго спросила, без ошибки угадав в Годунове старшего:
— А мост-то наш когда обратно ладить начнете?
— Как только немца прогоним, — честно ответил он, и их короткая процессия двинулась дальше.
В кино все красиво: генерал с биноклем в руках, следом за ним — солидные штабные, где-то на заднем плане бойцами роты Почётного Караула маячат внушительного вида автоматчики. Да и вряд ли эстеты-сценаристы избрали бы для драматического сюжетного хода место близ населенного пункта с названием Бельдяжки… вот в комедию какую-то, смутно припоминается, воткнули. Но то — в кино. А в реальности…
То ли реальность вообще выглядит несколько иначе, то ли он, Годунов, своими лихаческими выходками исхитрился создать насквозь альтернативный вариант, но свита под стать ему самому, старшему майору третьего ранга. Бригвоенинтендант-артиллерист — это ещё куда ни шло. А вот священник-артиллерист… Без долгих прений (и, слава богу, без возражений со стороны дотошного умницы Игнатова) решено было назначить бывшего штабс-капитана Земского на должность, соответствующую его опыту и роли в предстоящих событиях. Спросят за это потом? Не факт. Всяко — не строже, чем за упущенные шансы. А вот поднять авторитет командира — вопрос сегодняшнего дня. Промедление для нас смерти подобно, как прозорливо отмечал основатель Советского государства. Форма с отложным воротом сидит на новоиспеченном командире батареи как-то странно. Не как на ряженом актёре из псевдоисторических фильмов, «основанных на реальных событиях»; доводилось Годунову семьдесят лет тому вперед скоротать вечерок-другой за просмотром очередной белиберды. Выправка у Земского, с какой стороны ни глянь, офицерская. Да почему-то вот топорщится-бугрится не придавленный погонами габардин на широких плечах. Борода? Ну, борода, конечно, — по сану, а не по воинскому званию.
А в довесок — трое штатских: Малыгин и строители — высоченный дед, представившийся (надо ж такому быть!) Ермоловым Алексеем Петровичем, и широколицый мужик, который, привычно подхрипывая, как многие, кому приходится долго орать на ветру, без обиняков назвался дядей Вовой. Шестеро. Опять шестёрка! Но на этот раз дурацким суевериям разгуляться было негде: приплюсовываем к командирам и гражданским спецам четверых бойцов с трёхлинейками — и получаем в сумме вполне счастливую десятку, тьфу-тьфу-тьфу… Александр Васильевич незаметно постучал по дереву — не просто по деревяшке, а по самой настоящей берёзе.
А Оболенский тем временем докладывал, и что-то в его сугубо уставном тоне было от речи экскурсовода:
— Как и планировалось, три тысячи снарядов разместили за Тишинкой, полторы — за Кромой. Дорогу перепашут не намного хуже трактора, это мы с товарищами, — кивок в сторону помощников, — можем уверенно обещать. Да вот только… — выдохнул-выкашлял, будто горячим чаем обжегшись, — кто и что будет в этот момент находиться на дороге?..
Годунов пожал плечами.
— Тут уж мы постараться должны. Вы, я, — улыбнулся уголком рта, — и русский авось. Чтоб в нужный момент команду отдать…
…Нужный момент приближался со средней скоростью движения немецкой танковой дивизии по укатанному, ещё не размокшему от дождей большаку. Земской и строители были отосланы в Орёл на «эмке» командующего — теперь они там многократно нужнее; Малыгин попытался было остаться, апеллируя к тому, что места в машине для него всё равно нет. Но Годунов обронил сухое начальственное «нет», Оболенский, вдруг позабыв о своей деликатности, заявил, что не может кандидат математических наук не уметь считать до пяти и вообще, не ко времени штафирку на воинские подвиги потянуло, а Земской с дядей Вовой живехонько подвинулись, высвобождая пресловутое место. Дёмину было приказано далее оставаться в Орле, в распоряжении подполковника Беляева. Сейчас не до начальственных понтов, командующему и в кабине одной из двух полуторок прокатиться до облцентра не зазорно.
— Место здесь даже не сказочное, а, иначе и не скажу, — эпическое, — проводив долгим взглядом машину, вымолвил бригвоенинтендант. — Сюда бы орудий дивизион-другой — по самым скромным, конечно, подсчётам —, да пехоты пару-тройку батальонов, и можно было бы такой щит создать, о который германец лоб расшиб бы, с наскоку-то…
— Как думаете, если бы мы гаубицы сюда перебросили, бойцов, опять же, по максимуму, это было бы верно? — рискнул озвучить смутную мысль Годунов. Она не то чтобы мучила, так — пощипывала, как вода ещё не затянувшуюся ранку.
Оболенский тяжело, будто бы тоже прогоняя сомнения, качнул головой, ответил твёрдо:
— Если бы я так думал, то, уверяю вас, не постеснялся бы об этом сказать. И стволов, и штыков у нас — для одного хорошего боя, — глянул немного исподлобья — дескать, чего ума пытаете, вам и самому все яснее ясного. — Говоря поэтически, мы — не крепость, мы — палка в колёса. То есть избранная вами… как бы сказать? полупартизанская тактика, смею надеяться, себя оправдает. В непосредственном соприкосновении с противником нам долго не устоять.
Тяжело вздохнул, взглянул на командующего немного виновато — ничего, мол, хорошего не скажу, хоть и ждёте.
— А что до гаубиц… Я, видите ли, с юности при орудиях, по земле ходить привык, смотреть вперед да по сторонам… Как там у товарища Горького? Рожденный ползать. Мне то и дело в небо глядеть — так хондроз приключится или ещё какая хвороба. А все наши зенитки железнодорожный узел прикрывают… — он на минуту задумался и вдруг, без всякого перехода: — Ну что, товарищ старший майор, самое время позавтракать, если возражений не имеете. Не вполне уверен, что у нас будет возможность пообедать. Чайку горяченького, опять же…
И, не дожидаясь пресловутых возражений, двинулся к наскоро сооруженному блиндажу: часть неглубокого, густо заросшего ивняком овражка перекрыли бревнами в один накат, вот и все фортификационные работы. Три дня на войне — это и вправду бездна времени, бойцы уже обжились, без видимых усилий встроив быт в распорядок службы. А царила посередь спартанского, но радующего душу порядка, разумеется, буржуйка. Сейчас вместе с командирами трапезничало кашей, густо замешанной на тушёнке, с полдюжины чекистов. Остальные — в общей сложности полусотня бойцов — находились там, где им надлежит, въедливость и разумность Оболенского сомнений не вызывали. Но вот странное создание человек: не столько напрягало Годунова приближение «часа икс», сколько этот вот неторопливый приём пищи. Бригвоенинтендант и вовсе чай пьёт так, будто сидит в своем кабинете, разве что подстаканника нет — платком руку обернул, чтоб не обжечься.
«Война войной, а обед по расписанию». Эту бородатую фразу любил повторять к месту и не к месту Лёха Сафонов, почти сиамский близнец Годунова — майор запаса и военрук. С ним Александр Васильевич и сошелся ближе всего — на почве интереса к истории и любви к стратежкам. Но у Сафонова, в отличие от него, был реальный боевой опыт. Афган, потом какие-то локальные — о них майор говорить не любил, и Годунов понятливо не лез. Однако же из нечастых разговоров с Лёхой почерпнул немало полезного, что давало направление для размышлений тогда и даёт сейчас. Жаль, знакомство так и не переросло в дружбу — Лёха как-то неожиданно уволился из школы и вообще исчез с горизонта.
Кстати, Сафонов своим эпикурейством и сибаритством не раз удивлял привыкшего довольствоваться малым, а может, от природы неприхотливого Годунова, но кушать майор, в самом деле, мог где угодно и, по большому счёту, что угодно, от наваристого домашнего борща до ресторанного кошмара авангардиста — мяса в шоколаде. А уж пшёнке с тушняком точно влёт присвоил бы наивысший в его пищевой табели о рангах чин «мирового закусона». Что может быть общего между хамоватым насмешником Лехой, которому ничего не стоило даже под обычный чай в караулке Поста № 1 выдать сентенцию вроде: «Мы с тобой, Саня, урожденные шестидесятники, а значит, прирожденные сволочи», и старомодным, успевшим пожить-обтесаться ещё в XIX веке Оболенским? А вот что-то одинаковое в них не то чуется, не то чудится. Может, из-за того, что оба — воевавшие. А он, Годунов, — сбоку припёка. Даже сейчас — вроде, он и в гуще событий, но на чужие смерти со стороны глядит. Мартынов едва успел застать командующего в Орле, доложил по потерям в районе Дмитровска: предварительно — пятеро убитых, двенадцать раненых…
Что-то тебя, Александр Василич, совсем не туда понесло. С твоим-то умением иной раз накликать незваное!
От блиндажа до высокой ракиты, на которой устроен НП, всего-то метров тридцать. А сидит в том «вороньем гнезде» сержант-чекист по фамилии Орлов. О появлении немцев известит своевременно. Так что бери пример с бывалых, товарищ старший майор, пей чаёк. И жди так, как будто бы уже давным-давно всего в жизни дождался.
— А как же вы, Николай Николаевич, в тыловиках-то оказались? — вопрос — то, что надо для неторопливой застольной беседы, да и узнать вправду интересно.
— Как и полагается упрямому старику, товарищ командующий, — Оболенский горделиво приосанился. — В тридцать девятом собирались меня вчистую списать — дескать, сердчишко шалит… ну, и всё такое прочее, что эскулапы привыкли именовать непонятными словами, а по-нашему оно называется старость не радость. А мне, верьте-не верьте, страсть как не захотелось дома сидеть да цветочки в палисаднике горючими слезами поливать…
Годунов понимающе усмехнулся.
— Здешнее начальство уперлось, я уперся в ответ, — старый артиллерист привычным движением провел пальцем по подбородку, будто проверяя, не пора ли бриться (Александр Васильевич поморщился, вспоминая свои ночные труды по приведению физиономии в надлежащий порядок: опасная бритва профанства не прощает). — Ну, и написал в Москву, прямо товарищу Шапошникову. Ну и вот… — развел руками: мол, так получилось. — Надюша, дочка моя, до сих пор нет-нет да посмеивается, — Оболенский с усмешкой развел руками. — Она у меня девица своенравная, палец в рот не клади. Даже фамилию сменила на бабкину девичью, Минаковой стала. Не хочу, говорит, старорежимную дворянскую носить. А у нас в роду никаких дворян и в помине не было. Дьячки были, приказчики, мастеровые, опять же…
— Семья-то ваша эвакуировалась? — осторожно спросил Годунов. Уже не из любопытства. Даже его опыта — опыта службы в мирное время — хватало для того, чтобы уверенно сказать: для дела лучше и для окружающих надёжнее, когда душа в командира за жену и детишек не болит.
— Дочь — третьего дня, — Николай Николаевич аккуратно обтер стакан платком. — Вместе с окружным госпиталем. Медицинская сестра она. А жена осталась. Так уж у нас заведено, по старинке, — куда, как говорится, иголка…
Закрывающий вход брезент колыхнулся, и ещё до того, как в блиндаж ввалился взбудораженный мальчишка-боец, командиры уже были на ногах — докладывать ничего не понадобилось.
До ракиты — полсотни шагов Годунова, для Оболенского, наверное, чуть побольше. Все равно не больше полутора минут. А кажется — едва успели. Так быстро Санька, кажется, никогда на дерево не взбирался, даже в далеком отрочестве, когда приятель подбил его сравнить яблоки из бабкиного сада с соседскими. Потом пришлось спасаться от двух злющих полканов… и дома дед добавил, да так, что внук раз и навсегда уяснил, чем отличается бабушкино «ругаться» от дедова «полкана спускать».
Это воспоминание прошло по краю сознания уже тогда, когда Александр Васильевич оглядел видимый кусок дороги в бинокль и выдохнул. НП старики-артиллеристы выбрали со знанием дела, а короткий предутренний дождичек прибил пыль, так что обзор был — лучше не придумаешь. И логика немцев не разочаровала — оказалась именно такой, на какую крепко надеялся Годунов. На тридцати с лишним километрах от Лубянок до Бельдяжек гитлеровцев ждали всего лишь три минных засады (вполне вероятно, они были благополучно обнаружены доблестными солдатами вермахта) и один взорванный мост…
Доводилось, помнится, читать в сборнике весьма ироничную статью кого-то из именитых фронтовых журналистов — кажется, Эренбурга… или всё-таки Полевого? (угу, самое время ты выбрал, Саня, для своего «вспомнить всё»!) — под названием «Фрицы этого лета». О продуктах, так сказать, тотальной мобилизации: смех и слёзы.
Ну а фрицы этой осени ещё нахальны и самонадеянны. Пока что из них проще вышибить дух, нежели веру в мудрость фюрера и скорое поражение русских. Наверняка они уже сделали вывод, что у большевиков заканчивается взрывчатка, а вместе с нею — и воля к сопротивлению. Насчёт взрывчатки, допустим, они не так уж и неправы, что же до воли…
Годунов снова поднес к глазам бинокль и довольно улыбнулся в усы. Останавливаются! Значит, разведка натолкнулась на взорванный мост и теперь рыщет в поисках объездной. Работу сапёров отсюда не видать, но, небось, и этой мерой предосторожности не пренебрегли. Ну, и придорожные овражки оглядеть на предмет засад… Эх, фрицы-фрицы, препоганая, надо вам сказать, вещь — стереотипы. Хотя… какая разница, помирать в оковах стереотипов или на свободе.
— Хорошо стоят, — это уже Оболенскому, — живописно. Командуйте, Николай Николаевич.
…Говорят, увидеть во сне комету — к тяжким испытаниям. А увидеть наяву армаду комет — к смерти. Вероятнее всего — к быстрой. Но это уж кому как повезёт.
…Говорят, трудно быть богом. Но почему-то все попаданцы с маниакальным упорством к этому стремятся. Вот и тебе, Александр свет Василич выпало попробовать себя в роли громовержца… а ты не соответствуешь. Громовержцу полагается взирать на смертоносный шквал со спокойствием вершителя судеб и думать… о чём? о красоте зрелища — стаях огненных стрел, уверенными росчерками пластающих низкое небо? О высшей справедливости? А тебе вдруг вспоминается единожды в жизни виденная бешеная лисица… тоже по-своему незабываемое зрелище. Ну а тут — сотни и сотни целеустремлённых летающих хищников с пылающими рыжими хвостами… знакомьтесь, граждане оккупанты, с близкими родственниками русского полярного лиса!
И ещё думается: вот как ты сейчас будешь слезать по узким дощечкам-ступенькам с этой чёртовой ракиты, чтоб не навернуться самым позорным образом?
Обошлось.
Но до тех пор, пока за пыльным оконцем кабины вдруг не возникли песочно-серые коробки кирпичного завода, Годунов пребывал в какой-то странной прострации: ни о чём не думалось, только крутилось в голове на все лады: «Капли датского короля пейте… пейте, кавалеры!..»
А когда он и Оболенский пересели в верную «эмку», в которой их уже ждал Мартынов (не иначе как стосковался за полдня), бригвоенинтендант вдруг огорошил вопросом:
— Товарищ командующий, разрешите… — и дальше как-то совсем по-бытовому: — А что за мелодию, если позволено будет полюбопытствовать, вы напевали? Та-та-та… та-та-та-та…
Узнаваемо так воспроизвел.
Ты не попаданец, Годунов! Ты злостный хронохулиган! Не довелось Высоцкого перепеть, так на Окуджаве отыграться вознамерился? Да делать нечего… Годунов лукаво улыбнулся.
— Песня такая есть, Николай Николаевич. Хорошая, даже очень. Слыхал раньше, а сегодня вспомнилось почему-то.
И тихонько запел:
С детских лет поверил я Что от всех болезней Капель датского короля Не найти полезней…Глянул на Оболенского — слушает так, будто ему приказ по гарнизону зачитывают. А Дёмин аж от дороги отвлекся, профиль командующему демонстрирует, нарушитель ПДД. Пришлось легонько ткнуть его в спину ладонью, прежде чем продолжить работать автомагнитолой:
И с тех пор горит во мне Огонёк той веры Капли датского короля Пейте, кавалеры…Больше всех впечатлился Матвей… бывший журналист, что и говорить, улучил потом момент, упросил слова надиктовать. Годунову даже стыдно стало за беззастенчивый плагиат… или что оно там… ну, когда автора по имени не называешь, а выдаешь сакраментальное «музыка народная, слова народные»?
Он и предположить не мог, что с его легкой руки реактивные снаряды, запускаемые по направляющим прямо с земли, получат прозвание «капли датского короля». «Прописали мы фрицам капель датского короля под Кенигсбергом», — будет вспоминать много лет спустя старый артиллерист, беседуя с юнармейцами орловского Поста № 1. И никто не переспросит — кто ж переспрашивает про общеизвестное?
Из вечернего сообщения Совинформбюро 8 октября 1941 года
В течение 8 октября наши войска вели бои с противником на всем фронте, особенно ожесточенные на Вяземском и Орловском направлениях.
По уточнённым данным 4 октября на Орловском направлении в результате внезапного огневого налёта на колонну противника было уничтожено свыше четырёх тысяч немецких солдат и офицеров, свыше двадцати танков, семнадцать бронеавтомобилей и девяносто восемь автомобилей…
В реальной истории в этот день Совинформбюро сообщило об оставлении нашими войсками Орла.
Глава 24
4–5 октября 1941 года,
Орёл
В прежней жизни Годунову так часто доводилось читать: перед смертью-де перед внутренним взором человека проносится всё былое, — что он перестал в это верить… кажется, одновременно с тем, как из принципа прекратил покупать разрекламированные товары.
При переходе из жизни в жизнь он ничего не успел понять. И даже почувствовать — не успел. Разве что легкое сожаление кольнуло. Не сильней, чем на походной ночёвке — сухая сосновая иголка сквозь спальный мешок. Столько времени и сил потратил, чтоб пробиться в архив, — и на тебе!
А ещё говорят, что у многих переживших клиническую смерть открывается третий глаз… Тем же, кто вылетел спиной вперед в прошлое и со всего маху приложился затылком о насущные проблемы текущего момента, такого бонуса, по ходу, не полагается. И интуиция все та же, на ранее полученном жизненном опыте основанная, и послезнание не обостряется… не говоря уж о том, что вся твоя харизма, Александр свет Василич, — это два ромба в петлицах и отнюдь не уникальная способность напускать на себя умный вид, когда ничего толком не знаешь и ни в чем не уверен.
Считать, что ли, побочным эффектом попаданчества странноватые воспоминания и странные ассоциации, позволяющие иной раз генерировать более чем странные идеи?
Где-то между Орлом и Дмитровском пришел на ум — в ритме бессонного счета назойливых, как мухи, слоников — детский стишок, выученный на заре вынужденного знакомства с аглицкой мовой:
«Little mouse, little mouse, Where is your house? “Little cat, little cat, I have no flat, I am a poor mouse, I have no house…»Ну, и уцепило сознание хвостик этой мышки-мыслишки, и вытянуло на свет не грызуна, но грозную вундервафлю с более чем солидным родством, былинно-криминальным. В папашах у неё числился разбойный хотынецкий лес…
Не от премудрых краеведов и прочих собирателей фольклора, а от бабки своей, что знала, кажется, все на свете — потому и истолковывала по-простому — впервые услыхал Санька Годунов про деревеньку Девять Дубов близ поселка Хотынец. А сидел на тех девяти дубах, сказывают, Соловей-Разбойник, сам-один, поджидал неосторожных путников. Пока Илья Муромец его не урезонил, ага.
«А чего ж ты хочешь? — смеялась бабушка, вытирая выступившие в уголках глаз слезы кончиком платка. — Как у нас говорится-то? Как со старины повелось: Орёл да Кромы — самые воры, Ливны ворами дивны, Елец всем ворам отец и Карачев на поддачу».
Воры в воображении маленького Саньки все как один были похожи на развеселого цыганистого мужика Гришку с Альшани, только вместо мятого пиджака и кепки, одной и той же в холод и в жару, носили они красные шёлковые рубашки и по золотой серьге в ухе. А ещё — шапки на манер колпаков, ведь говорят же — на воре шапка горит.
Когда учительница сказала, что воры из поговорки — это, на самом деле, обычные горожане, сторонники Лжедмитриев, Санька сперва и не поверил. Потом подначитался былей и легенд, проникся доверием к истории и почтением к фольклору. И узнал — дорога, что шла мимо Девяти Дубов, и впрямь была во времена оны ох какая неспокойная, ну а народное сознание потрудилось объединить всех работников ножа и топора в профсоюз имени Соловья, Одихмантьева сына…
Сейчас надлежало, отталкиваясь от смутных ассоциаций и не ахти каких четких знаний, начать созидать новую немецкую мифологию. В том духе, что у русских каждый куст стреляет и тэ пэ. Ну, и идей под это дело Годунов мал-мала накреативил. В том числе набросал в пять минут на листе шероховатой писчей бумаги, такой не похожей на привычную «для офисной техники», проект вундервафли обыкновенной, русс-фанер наземной. Слава богу, чертить умел лучше, чем стихи слагать. Внешний облик новшества бессовестно… скажем так, позаимствовал у немцев, только их милитаристски ориентированный научно-технический прогресс пока до этой крайности ещё не дошел… Тем более — должны впечатлиться. Развивающемуся в европейской тесноте сознанию трудно в полной мере постичь простую истину: размер — не главное. Хотя калибр в полторы сотни ме-ме… угу, положа руку на сердце признайся: досадно, что это только муляж?
Полюбоваться на то, как три «Сталинца» легким движением рук, вооружённых тяжёлыми молотками и острыми пилами, превращаются в самопальные отечественные «Маусы», Годунову, разумеется, не удалось: дивная, на зависть всем крестным феям, трансформация происходила где-то возле Хотынца.
А вот познакомиться с легендой своей юнармейской юности и военруковского предпопаданчества, Михаилом Ефимовичем Катуковым, пока ещё полковником, Годунову всё ж таки довелось. На вечернем совещании 4 октября, которое вряд ли войдет в учебники истории, но в монографиях многомудрых историков и ещё более мудрых краеведов, конечно же, будет упомянуто.
Знакомые по фотографиям в книгах и в глобальной сети крупные черты лица, взгляд с прищуром, внимательный и озорной, улыбка — как у Бернеса… вроде, и не красавец, но за одну такую улыбку, не говоря уж о взгляде, женщины, случается, разум и сердце отдают. Это Александр Васильевич на примере собственной бывшей супруги досконально изучил. Только вот катуковская цепкость, сразу понятно становится, — иного рода. Сравнивая себя с таким человеком, и интеллигентскими рефлексиями пострадать не грех. Чем Годунов и занялся с превеликим удовольствием.
Правда, этому предшествовали не слишком радостные размышления угодившего в колесо истории попаданца: с выдвижением в район Орла стрелкового корпуса Лелюшенко Ставка теперь решила повременить. Надо понимать, в альтернативной реальности 1-й особый гвардейский будет формироваться не за сутки в соответствии с широко известным с давних времен принципом «по амбару поскребу, по сусекам помету», задокументированным в сборниках народных сказок… и то благо!
А ещё был очередной разговор по ВЧ с командующим Брянским фронтом, на этот раз инициированный самим товарищем Ерёменко. Устный приказ, до удивления похожий на просьбу (прежде Ерёменко говорил суше и строже), гласил следующее: не позволить немцам перерезать железную дорогу на Карачев и Брянск. Логика более чем ясна. Командующий думает о бесперебойном снабжении. И понимает, что взятие немцами Орла приведет к окружению частей разорванного надвое фронта.
Ладно, об этом речи сейчас, слава богу, не идёт. И ситуация, с учетом прибытия катуковцев и 5-го воздушно-десантного корпуса, выглядит не как ужас-ужас, а как просто ужас. Опять же, в актив записываем наличие гения маневренной войны. А ты-то, товарищ Годунов, дёргался: что будет, когда закончатся домашние заготовки типа «фрицы, припущенные в соляре, по-дмитровски» и «настойка на каплях датского короля по-бельдяжкински» и пойдёт жесткая альтернативная реальность, не приправленная послезнанием! Ты ведь, как ни крути, ни разу не пехотный командир. И все, о чём ты знаешь-ведаешь, по книжкам изучено да в воспоминаниях услышано.
Покойный Василий Иванович Годунов принимался, бывало, рассказывать, как в 1944 году он, тогдашний молоденький комвзвода, гулял в составе конно-механизированной группы генерала Плиева в глубоком рейде по немецко-румынским тылам на Одесщине и в Приднестровье. Санькина фантазия оживляла истории из отцова прошлого на манер приключений Неуловимых. Потом Годунов-младший подначитался, его воображение стало дисциплинированнее — пусть не как образцовый солдат на смотру, но хотя бы как завзятый очкарик на открытом уроке. Но осталось понимание: глубокий рейд подвижных соединений — штука страшная для привыкших к чёткости и порядку штабистов и смертельная для тыловиков, расслабившихся за спинами боевых подразделений.
Единственная мобильная группа, которой располагал Орловский гарнизон, была сформирована ещё 30 сентября из конных милиционеров. Прямо говоря, негусто. Да и в том, что он сможет использовать её с толком и в полной мере, Александр Васильевич сомневался… вплоть до сегодняшнего дня.
Всё-таки он, тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо, и вправду везунчик. Изложил указания, полученные от Ерёменко, авторитетным товарищам, прозрачно намекнул, что неплохо бы-де мобильную группу размером с увесистый кулак профессионального боксёра создать, — и сиди наслаждайся, слушая насыщенный специальными терминами и намёками на куда более экспрессивную лексику диалог командира 4-й танковой бригады полковника Катукова с командиром 5-го воздушно-десантного корпуса полковником Гурьевым. Худощавый подвижный танкист порывист, как ветер, плотный широколицый десантник основателен и надежен, как земля. И если нюх на людей тебя, Саня, не обманывает, эти двое отлично сработаются. Ну а ты знай подкидывай в топку жаркой дискуссии идейки из оставшихся домашних запасов: а не стоит ли якобы случайно продемонстрировать немцам советское чудо-оружие, как будто бы скрытно передвигающееся окольными путями к линии фронта? Что, Николай Николаевич, бронепоезд? Хорошо, очень хорошо! И дожди начинаются… да нет, Михаил Ефимович, я не злорадствую, я размышляю…
Рупь за сто — Гудериан, с его-то полководческой метеочувствительностью, поторопится проскочить по не размытым ещё дорогам. Чем дольше удастся удерживать Гудериана на расстоянии вытянутой руки — тем лучше…
Светомаскировочные шторы не позволяют отслеживать ход времени по солнцу. И только верные наручные часы подсказывают — за окном забрезжил рассвет воскресного дня, 5 октября 1941 года. Очередного буднего дня попаданца.
* * *
Рытье противотанковых рвов с помощью кирок, лопат и «такой-то матери» — занятие тяжёлое, грязное… но отнюдь не бесполезное.
Скрипят, скрипят по орловским дорогам крестьянские телеги, запряженные немногими уцелевшими от прежних мобилизаций лошадёнками. Везут топорщащиеся твёрдым рогожные мешки вперемешку с зелёными армейскими ящиками, лопатами, кирками, пилами, буравами. Мобилизованные на трудовой фронт штатские и ополченческие взводы, словно муравьи, трудолюбиво дырявят землю на дороге и обочинах, настораживают ловушки на фашистского механизированного зверя, подпиливают сваи деревянных мостов, чтобы те не могли выдержать десятитонную массу легких немецких танков.
Николай Николаевич Оболенский — интендант и артиллерист два в одном, как его мысленно уважительно именует Годунов, — и ношу на себе тянет двойную. Его видят то на окружных складах, то на позициях артиллеристов в той части города, которая нынче именуется Пролетарской горой, а старожилы до сих пор зовут её, как прежде, — Балашовой, хотя вряд ли многие из них помнят генерал-губернатора с такой фамилией. И в другой возвышенной части, которую и стар, и млад именует Дворянским гнездом.
Штаб обороны мобилизовал бывших пулемётчиков и «ворошиловских стрелков», а на окружных складах очень кстати нашлись финские трехлинейные винтовки под русский патрон и трофейные же «ручники» «Кнорр-Бремзе LH33» с небольшим боекомплектом. Родимых «дегтярей» там почти не осталось: практически все ДП-27 и ДТ-29 пошли на вооружение ранее сформированных в округе частей. Остатки Годунов приказал распределить по огневым взводам сводного артпульдивизиона, занимавшего оборону непосредственно на окраинах Орла. Если не считать орудий ПВО, которые никак нельзя было снять с позиций, прикрывающих железнодорожный узел, и пушки-гаубицы блиндированного поезда, в дивизионе Земского была сосредоточена вся артиллерия, имеющаяся в распоряжении защитников города. Настоял на этом тот же Годунов, накрепко затвердивший во время оно аксиому о «двухстах орудиях на километр фронта». Конечно, и орудий сейчас было заметно меньше, и «километров» тех — считать умаешься, но старого волка Хайнца бить нужно кулаком, а не растопыренной пятерней, которую он походя сломает и не почувствует. Так было решено ещё на первом совещании.
Пушкари, что помоложе, из пацанов-истребков, осваивали матчасть «времён очаковских и покоренья Крыма», в чем им посильно помогали деды-участники минувшей Империалистической и Гражданской войн. Для них эти стальные мастодонты были не только грозным оружием, но и ностальгическим напоминанием о невозвратимой молодости…
Город вкапывался в землю, врастал в кирпич, бетон и железо. Жители домов с городских окраин принудительно выселялись: работающие переходили на казарменное положение при предприятиях или трудовых подразделениях, дети, старики, инвалиды и прочие иждивенцы эвакуировались на первое время в Тулу. Туда же Штаб обороны распорядился отправить всех транспортабельных тяжелораненых из областных госпиталей. Для решения этой задачи Годунов буквально вырвал у начальника дистанции аж три паровоза различной мощности и разной степени изношенности. Авторитет командующего Орловским оборонительным районом пришлось подкрепить малым боцманским загибом, железнодорожное божество прониклось… интересно, не из братишек ли? Да ещё двадцать две единицы подвижного состава наскребли в орловском депо и по близлежащим станциям в тупиках «паровозных кладбищ». Три из них — полувагон и две открытые платформы — тут же были изъяты для сверхсрочной постройки блиндированного поезда «Красный Орёл». Остальные «единицы» — от открытых платформ до построенных ещё перед Японской и Империалистической теплушек «сорок человек или восемь лошадей» и «дачных» вагончиков — собранные воедино, представляли жалкое зрелище. Самым же отвратительным было то, что даже этих «раритетов», чьим единственным достоинством была возможность передвигаться по рельсам в составе поезда, всё равно не хватало. Арифметика простая: в Орле на излечении находилось более тысячи раненых, причём около восьмисот «тяжелых». Из них шесть с половиной сотен были признаны транспортабельными. Вагонов же хватало лишь на полтысячи пассажиров, включая эвакуируемых детей. Хоть наколдуй, хоть нарожай — а иначе придётся оставить часть людей в городе, который вскоре неизбежно станет фронтом.
Подготовка к эвакуации даже этого количества людей заняла почти полтора суток — абсолютное большинство не способно было передвигаться самостоятельно. К пятому числу основной этап был завершен. Город не обезлюдел, но притих. Детворы почти не осталось. В полутемном вагоне, заполненном знакомыми, но по большей части незнакомыми друг с другом людьми, детским плачем, старческим покашливанием и непонятными разговорами, ехали на восток Марксина-Марочка с улицы Комсомольской, её старшая сестра Галочка, бабушка Марья Трофимовна и приятели с Кирпички — Генка и Гришка…
Освобожденные от жителей здания на окраинах, важных перекрёстках и площадях, облепленные мобилизованными «трудармейцами», со скоростью, невероятной в мирное время, превращались в опорные пункты, связанные системами ходов сообщения. В цоколях проделывались амбразуры, стены укреплялись землёй и бетоном, создавались неприкосновенные запасы бутылок с «КС» и воды — не только для бойцов маленьких гарнизонов, но и в первую голову — для пулемётов.
Хотя, конечно, с пулемётами было сложно… а с чем сложно не было? Чтобы пересчитать изъятые у зенитчиков установки «максимов», с избытком хватило бы пальцев двух рук. Оболенский, осчастливленный прибытием в Орёл десантников, сделал встречу по-настоящему торжественной, передав им двадцать ДШК. Этой силой, способной противостоять любому противнику — от авиации до легкобронированной техники, в гарнизоне воспользоваться было некому. Такое оружие требует грамотного с ним обращения, а на весь Орёл отыскалось только четверо бойцов, ранее имевших дело с творением товарищей Дегтярева и Шпагина, причём трое оказались легкоранеными из госпиталя, а четвёртый — старшина-зенитчик, списанный вчистую из-за заработанного в марте 1940 года на выборгском направлении хронического ревматизма и проникающего ранения обоих легких. Этих четверых, хорошенько подумав, прикомандировали к артпульдивизиону.
Завтрашние защитники Орла должны были твердо усвоить — Орловщина уже сражается, враг несёт потери на дальних рубежах. А здесь — их рубеж. Примерно так и сказал на очередном совещании второй секретарь обкома ВКП(б). Сказано — сделано. В помощь себе Игнатов взял старого партийца, директора школы № 26 Комарова, которого с Гражданской многие знали-помнили как Жореса. Испытанный войной и мирной жизнью, он ещё летом был выбран — на случай оставления нашими Орла, хоть в это тогда почти и не верилось, — для руководства подпольной группой. Сейчас ему, назначенному инструктором обкома, предстояло решать иную задачу: ставить политработу во вновь сформированных подразделениях.
Орёл медленно — медленнее, чем хотелось бы не только порывистому Игнатову, но и осторожному в прогнозах Оболенскому, и даже Годунову, единственному, кто мог сопоставить исторические вероятности, — но верно превращался в крепость.
Глава 25
1–5 октября 1941 года,
Кромы
«Кром, кремль на языке древних русичей, означает «твердыня». Испокон веку на перепутьях и холмах возводили предки наши из неохватных бревен стены кромов и детинцев над мощными земляными валами. И скрывались за теми стенами храмы Божьи, амбары хлебные да хоромы теремчатые, уходили под защиту их от злой гибели и плена вражьего люди русские, что селились окрест. И дождем лились стрелы острые, и звучали мечи булатные, рассекая доспехи захватчиков, поражая сердца черные, отсекая руки хищные. Полыхали в тех кромах пожарища, унося на небеса искрами души Русской земли защитников. Хоть случалось: твердыни рушились под ударами вражьей силищи, но горька была для поганинов их победа, кром одоление: забирали с собой люди русские силу полчищ вражеских, свою жизнь на пять вражьих разменивая, а бывало, что и на дюжину. И летели века вереницею, и все дальше от кромов бревенчатых отдалялись границы русские, укрепляясь там сталью воинской: что и острой казачьею пикою, что солдатскою пушкой гремучею. А былые твердыни обветшалые оставались в легендах и в памяти гордыми, нерушимыми».
Переворачивается страница, меняется слог. Теперь это не сказ, а просто рассказ.
«Городок Кромы, хоть и самой Москве ровесник, нынче селом негромко именуется. Отсюда до Орла, почитай, рукой подать — сорок верст.
От прежних битв и осад остались тут, помимо ржавых бердышей да копейных наконечников, сбереженных в музее, почти сровнявшаяся с землёй прерывистая канавка на месте былого крепостного рва да мощные валы, изрытые, что тот голландский сыр, дырками, галереями и пещерами. В стародавние дни Смуты прокопали их казаки атамана Корелы, народного защитника, многомесячно защищавшего город от войска узурпатора Васьки Шуйского, «царя боярского».
Уж давно прошумели над Кромами победные знамена Ивана Болотникова, отгремели последние выстрелы, гнавшие прочь из русских пределов расчехвощенные хоругви литовские, отзвенели по камням подковами эскадроны петровских драгун, отгрохотали железом окованные колеса пушек багратионовских. Опалило Кромы жарким огнём войны Гражданской… Повидали Кромы всякого-разного, отведали и горького и сладкого. И теперь, в дни лихие осенние, предстояло им вновь испытание…»
У стального пера, только что прытко бежавшего по разлинованной странице, словно нога подломилась — тесануло бумагу, пробороздило. Пётр Гаврилович Федосов, кромской учитель и летописец, марая пальцы чернилами, попробовал вправить — да и вовсе отломал. Не без сожаления отложил ручку, не без наслаждения расправил затекшие плечи. Дальнозоркий взгляд, повинуясь не намерению, но случайности, скользнул по тускло поблескивающему циферблату стенных часов: да уже утро! Ещё немного — и рассвет забрезжит.
А на улице снова что-то происходит. Гомон какой-то… детские, как будто бы, голоса… с чего вдруг ни свет ни заря?
«Спать по ночам, Гаврилыч, надо, а не писульки писать!» — послышалось Федосову, да так явственно, что будто бы даже скрип пружинной сетки на кровати различил, а уж скрипучая интонация и подавно знакома до последней нотки. Сколько раз за двадцать пять лет совместной жизни Агафья Матвеевна произносила эти слова — и не сосчитать. Только вот нет Агаши, третий год как нет…
А шум за окном не почудился… Надо бы выйти посмотреть…
Вздыхая и покашливая, Пётр Гаврилович надел старую, жениными руками сшитую телогрейку. Прежде чем выйти, вернулся к письменному столу и спрятал в закрывающийся на ключик ящик главное своё сокровище — толстую тетрадку в синей коленкоровой обложке.
* * *
Какими бы провинциальным ни были Кромы, но, как-никак, — райцентр. Помимо дороги с твёрдым покрытием, ведущей в Орёл и носящей гордое наименование — Кромское шоссе, село соединяли с внешним миром металлические струны нитей «его светлости» теле-Графа и «его милости» теле-Фона. Правда, «милость», как и полагается классовому врагу, была своенравной и подличала. Случалось, в зимние дни провода меж столбов рвались от ветра и от тяжести льда, в тёплую пору во время гроз, да, впрочем, и просто при дожде, в эбонитовых трубках аппаратов стоял такой треск, что распознать собеседника становилось положительно невозможно.
Однако сейчас центрально-русская осень баловала самыми последними погожими деньками, так что на связь военкому Кром Никиты Казакову жаловаться не приходилось.
Да и какие могут быть жалобы, когда вторую, почитай, неделю область молчит. А такое случается, как достоверно известно всякому служилому человеку, в двух случаях — когда все хорошо и когда все плохо. Во второе, учитывая сводки Совинформбюро, верится больше.
А вообще, поганое это дело — неизвестность.
Не то чтоб Никита не доверял дежурным — хорошие, надёжные ребята, все как один комсомольцы. Да и от дома до военкомата — три минуты быстрым шагом. Но вот приспособился чуть не с конца августа ночевать на составленных в рядок стульях в своем кабинете. Время-то какое! Вон, рассказывают, люди в цеху между сменами в уголку где-нибудь прикорнут, чтоб часов… да что часов! минут даром не терять. Малость отдохнул — и снова к станку. У каждого, говорят, свой передний край.
Правильно говорят. Вот его, Казакова, передний край, — тут, и точка. И нечего здесь обзаводиться буржуазными излишествами!
Но эдак сказануть Нине Сергеевне язык не поворачивается, особенно когда она строго глядит поверх очков и тон настойчивый.
Отец Никиты погиб в Гражданскую, мамка умерла в тридцать пятом. Отдать подростка, непокладистого и ершистого, в детдом не позволила она, учительница Хвостова. Так и заявила, ничуть не смущаясь Никиткиным присутствием, серьёзной тётке в черной кожанке: «Либо до чего плохого пацан допрыгается, либо задразнят его совсем». За пару лет до того стыдящийся своей болезненности, малорослости и малосильности мальчишка на спор сиганул с крыши, теперь носился по селу, заметно припадая на неправильно сросшуюся ногу, — и дрался пуще прежнего.
Так и стала Нина Сергеевна ему вместо матери. Уму-разуму научила, правильные, стоящие книжки прочесть заставила, самая любимая среди которых и посейчас — «Как закалялась сталь». В область повозила, вылечила. В Красную Армию проводила. С войны с белофиннами встретила — обмороженного, хромающего после ранения все на ту же многострадальную правую ногу. И потом, когда стал самостоятельно хозяйничать в родительском доме, присматривала — горяченького приносила, чтоб питался, как следует, с мастером хорошим договорилась — надо ведь печку-развалюшку до холодов переложить. А на неизменное «роскошь буржуйская!» молчала так огорченно и осуждающе, что Никите, хоть он и считал себя правым, неловко становилось. И не поспоришь… как с молчанием-то спорить?
Только однажды и сказала: «Ты, Никита, все пытаешься жить правильно. Так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы». — «А разве вы меня не так учили? — удивился-обиделся Казаков. — Или я не понимаю чего? Вы ведь тоже не для себя живете». «Я тебя жить учила, а не пытаться». «Как жить-то… ну, чтоб жить?» — ещё больше не понял Никита. «Свободно, спокойно и радостно, — Нина Сергеевна вздохнула. — Не искать себе трудностей и тревог, они тебя сами сыщут». «Да какая радость, какой покой, когда в мире полно всякой контры недобитой, империалисты, вона, опять голову поднимают!» — возмутился военком, впервые в жизни повысив голос в присутствии учительницы.
Больше они не спорили. Нина Сергеевна только головой иной раз качала, а Никита… Никита старался её не огорчать.
Не возразил даже тогда, когда она, прежде чем уехать в Свердловск к двоим осиротевшим племянникам, самочинно велела трём ребятам-истребкам, тоже из бывших своих учеников, притащить в кабинет Казакова тяжеленный, скрипучий, как бы не дореволюционный, диван… вдвоём худосочные мальчишки и не управились бы.
Теперь Никита спал чуть ли не лучше, чем дома, подложив на подлокотник вместо подушки свёрнутую шинель. А в изголовье нёс молчаливую вахту телефон.
Как ни ждал военком звонка, всё равно чуть не проспал. То ли потому, что скрип дивана способен был заглушить не то что жестяное скрежетание старенького аппарата, но даже вопли Митрохи, прибившегося к военкомату кота Нины Сергеевны, то ли потому, что во сне Никита опять воевал.
Не вырванный — выкорчеванный из сна, «аллё!» проорал в трубку так, что от собственного крика окончательно проснулся. И хрипловатый баритон орловского военного комиссара Одинцова узнал с первых слов:
— Ну чего ты, Казаков, кричишь, как контуженый? Никак, разбудил я тебя? Давай включай соображение и слушай внимательно. Ты у себя там с твоими тремя кубиками — старший воинский начальник и комендант гарнизона. Так что давай, главноначальствуй. В единстве с партсовактивом. Они сейчас как раз должны указания насчёт эвакуации населения получать, — орловский военком помолчал, давая Никите возможность осознать суть предстоящего, и продолжил медленнее, уже, вроде, и без напора, но таким тоном, что Казакову захотелось замереть по стойке «смирно». — Твоя, старлей, и твоих орлов первейшая задача — контролировать подходы к городу с юго-запада. Понял?
— Так точно, товарищ майор! — бойко отрапортовал Никита и не удержался, добавил со значением: — Только вот орлы — это у вас там, а у меня сами знаете кто, если не от горшка, то от парты два вершка, поскрёбышки, да деды… ну, деды — те, конечно, сплошь геройские.
— Вот давай-ка, Казаков, без геройства, — добавил металла в голос Одинцов. — Твоя задача — оседлал шоссе, да и сиди. Тихо сиди, ясно тебе? Оборону держать никто тебе задачу не ставит. Известное дело — нечем и некем, — с уловимым даже на слух удовольствием вслушавшись в покладистое молчание Никиты, орловский военком заключил: — От тебя вот что требуется: чтоб гражданские из села ушли, да ещё данные о приближении противника. Сможешь организовать завал на дороге или ещё что, не мне тебя учить, — молодец. Но стоять не на жизнь, а на смерть, как тебе, чую, уже придумалось, — ни-ни, понял? Вы нам в Орле нужны.
— А транспорт какой будет? Ну, для эвакуации? — уточнил Казаков.
— Только ты ещё мне стенать не начинай, без тебя плакальщиков хватает! — Майор отчетливо скрипнул зубами. — Нет транспорта, ясно? Совсем нет. Была б у вас железнодорожная ветка — дело другое. А тут — своим ходом. Так что смотри, момент отхода не промухоловь…
Что-то пробормотал в сторону — его явно торопили — и добавил, закругляя разговор:
— В общем, терпи, Казаков, атаманом будешь. И от необдуманных действий воздерживайся. Всё, отбой связи.
Казаков аккуратно опустил трубку на рычажки и отправился учинять смотр гарнизону — ну и, понятно, действия свои обдумывать-обмозговывать.
Дело было 1 октября.
Всей вооружённой силы в Кромах и вправду шиш да ни шиша: персонал местного военкомата, два десятка милиционеров с пожарными, на которых возложена задача по поддержанию порядка в поселке и окрестностях, да истребительная рота, сформированная из нескольких боевых дедов, местной комсомолии и сочувствующих, по разным причинам не мобилизованных в армию. Рота — одно название: два взвода неполного состава, да и на эту без нескольких человек полусотню всего-навсего двадцать три винтовки и пара наганов, и то и другое — царского ещё выпуска. Мало того, семь винтовок к тому же оказались не переделаны под имеющиеся патроны образца 1908 года. Боеприпасов же с уменьшенным пороховым зарядом и закруглённой пулей во всем городке не сыскалось, случись что, это оружие только как копье и можно будет в дело пустить. Благо штыки на хомутовом креплении к винтовкам всё ж таки прилагаются. Да один ДШК…
Никита повздыхал, произнес краткую напутственную речь — и выдвинул своё воинство к шоссейке.
Тем временем девчата-истребки, сверяясь со школьными и детсадовскими списками, ходили по дворам.
Звеня цепурами, истошным лаем заливались хозяйские кабысдохи. Сами же хозяйки — в большинстве кромских домов одни только хозяйки: мужики-то давно в Красной Армии — тоже не лучились радушием:
— Да ты чего, девка, в уме ли? Какая выкувация? Ну и что, что детей двое, твои, что ли? Куды я с ними потащусь не пойми-пойми куды? Кто нас там ждет, на кой чёрт мы там кому сдалися? Ещё скажи — для нас ватрушек наготовили! Никуда мы со своего двора не поедем, и нечего мне вашими бумажками тыкать! Ну и что, что немцы? Вы на то есть: раз звёздочку нацепила — значит Красная Армия, и немца не пускать — ваша святая обязанность! Вон, мой-то под Одессой дерется, а тут, стыдобища, энтого Гитлера, в пасть ему коромысло, аж досюдова допустили, позорники! Сказано: не поеду! И пусть стреляют: в погребе сховаемся. Кто немцев ждет?! Я немцев жду?!! Ах ты, мелкота мокрохвостая! А ну, выкатывайся со двора, и чтоб я тебя больше не видала! А то счас как тряпку возьму! Не доводи до греха!
И оставались. Немногие. Но большинство, подчиняясь жёстко-колючим словам приказа, а то и просто страху перед неведомыми находниками из германских краев, всё же отрывалось от домов своих, отрывало от сердца все, что привычно с детства, — с кровью и болью, как рвут присохшие к ранам бинты.
Кто-то тайком, словно оберегая принадлежащую только ему тайну, увязывал в платочек комок родной земли — чтобы уж точно вернуться. А кому-то было достаточно заверенной печатью бумаги, выданной в райсовете:
Кромской районный Совет депутатов трудящихся
и РК ВКП(б) Орловской обл. РСФСР
УДОСТОВЕРЕНИЕ
Дано настоящее гр. Марковской Д.И. с семьёй из 2-х человек в том, что она действительно эвакуируется с семьёй с прифронтовой местности в глубь страны Советского Союза — Саратовскую обл.
Просьба к советским и партийным организациям оказывать всемерное содействие…
В соседней комнате единственная в городе женщина-милиционер Ольга Осипянц, чей муж погиб запрошлой зимой в Финляндии, пришлёпывала печать райотдела и ставила закорючку росписи на пропуске из прифронтовой зоны. Тут же, пересчитав для порядка пальцем детвору, грудастая сотрудница продбазы выкладывала перед растерянным семейством положенное им на время пути согласно приказу богатство: по кирпичику ржаного хлеба на двоих, пару пачек горохового концентрата, фунтик с двадцатью граммами карамели каждому и — верх роскоши — по четверти круга макухи и по куску чёрного дегтярного мыла. Изредка, при виде лелеемых на руках грудничков, щедро добавляла к комплекту круглую голубенькую коробочку пудры «Прелесть» и полутораметровый отрез бязи на пелёнки.
Нагруженные лыковыми кузовами, сплетёнными ещё прадедами в годы помещичьей кабалы, и новомодными полотняными хозсумками, натянув одну поверх другой несколько одёжек — грех ведь бросать на поживу грабьармии купленное на премию к прошлому Дню Революции пальто с барашковым воротом, — уцепившись свободной рукой за детскую ладошку, шли женщины Кром по кривым улочкам. Как капли росы по листве цветка к стеблю, стекались к дороге на Орёл, объединяемые соседством, приятельством, да и попросту шапочным знакомством. Человеку в одиночку — худо. Вот и стремится он, оторванный от привычного обиталища, держаться за близкое ему или хотя бы за знакомое.
На весь поселок нашлось с полдюжины подвод, в которые было кого запрячь… без слёз и не глянешь! Гнали следом коровёнок, тащили в корзинах домашнюю птицу. Дети несли за пазухой своё мяучаще-лающее счастье… не оставлять же? Бобики покрупнее бежали следом. Табор цыганский, да и только!
Благо день выдался погожий, — утешали детишек бабы.
И только зябнущая и в безветрие беженка откуда-то с юга Марьяна то и дело поглядывала в небо.
— Ну чего ты, а?
— Гляжу, не летят ли… Слышу-то я плохо… с той ещё бомбёжки.
Пожалуй, только она и понимала, какое это счастье, что самолёты они увидели только возле Орла. И это были наши «уточки» и «кукурузники», нестройной стайкой идущие на юго-запад.
Вечером 2 октября секретарь райкома партии Зоя Трофимовна Криницына снова, в десятый, наверное, раз обошла село. Стучалась в каждую калитку, в каждую дверь, прислушивалась: откликнутся ли? Иногда, ещё на подходе, её встречал предупреждающий собачий лай: что бродишь? Что тебе, чужая, надо? Порой в ответ на зов опасливо выглядывала из дырки в заборе довольная и любопытная кошачья морда: что-то, конечно, происходит, и остерегаться надо, но псов, сердитых тёток и шкодливых пацанов хорошо так поубавилось, а мышей осталось в достатке, да и в доме есть чем безнаказанно поживиться… если эта вот не турнёт.
Но Криницыной дела нет до брошенной хозяевами живности. Она ищет людей: кто ещё остался? Чтобы снова и снова убеждать их уйти, объяснять, просить, увещевать, стыдить, совестить… Бывшая заведующая районной библиотекой, меньше года назад приехавшая в Кромы по распределению, может рассказывать о Толстом и Горьком так, как если бы жила рядом с ними долгие годы, и знает, как правильно заполнять библиотечные формуляры, но имеет весьма смутное представление о враге, только по газетам да сводкам Совинформбюро, и совсем никакого — о том, что будет дальше. А в секретарях она и вовсе без году неделя, в книгах не растолковано, как с людьми говорить, чтоб понимали. А совестить и вовсе неловко: Зое Трофимовне, которую многие до сих пор не то что за глаза — в глаза зовут Зосей, двадцать два года… будет через неделю. Из четверти сотни человек, оставшихся в Кромах, больше половины годится ей в родители, а то и в деды, остальные — дети от месяца до двенадцати лет.
— Да куда ж я пойду, Зосенька? У меня ж Егорка один только и остался, а он в пожарных… Вместе тогда и уйдем.
— Васятка у меня, Зой, простудился, ноги помочил… в эдакую-то погоду — и промочил! У-у-у, мало я тебя, оглоед, порола! В речку, небось лазал, да?.. Ты представь, Зой, ему дед мой, ну, свёкор, наплел, что винтовку с той ещё войны с собой нёс да не донёс, в речке утопил, не то в Кроме, не то в Недне, сам не помнит… У-у-у, хрыч старый, совсем из ума выжил!.. Зой, просквозит малого по дороге-то, у него с любой хворобы, ты же знаешь, две враз приключаются. Может, отлежится, завтра-послезавтра и тронемся. Чего тут до Орла-то идти?
— Зоя Трофимовна, а вы скажите товарищу Казакову, чтоб он меня в отряд, а? Ма, да кто маленький? Ты ж сама говорила, отец в двенадцать лет уже в Орле в ученье жил! Зоя Трофимовна, ну вы же партийный секретарь, если вы прикажете, вас точно послушаются!..
Кому и что она, Зося Криницына, может приказать? Катерине Семеновне, которая за три месяца войны на двух сыновей похоронки получила? Таиске, библиотекарше своей… так и раньше, в бытность свою заведующей, не отказывала, когда Васятка хворал, болезненный он у неё. Вовку, конечно, никто никуда не пустит, зато, может, хоть так упёртую его мамашу убедить удастся: как вы ни приглядывайте за пацаном, Раиса Митрофановна, хоть привязывайте его, он себе в голову вбил — точно на шоссе удерёт.
Семья Шиковых — мать, да бабка, да трое детишек — последние, кто ушел из Кром, аж утром четвёртого. До последнего держалась за дом и хозяйство твердолобая тётка Рая, по два раза на дню ходила к ней Зося… смех и грех — подметку с левой туфельки именно на её пороге и оставила. Поначалу даже и не заметила — слушала хозяйкины жалобы и давала сто первое, наверное, обещание ежедневно проведывать дом и проверять целостность замков — просто ноге стало зябко. Да маленькая Танюшка потянула за рукав:
— Теть Зось, а тебя скоро принц найдет, да? Ты потеряла, вот. Как Золушка…
— Во глупая! — насупился Вовка. — Какие при Советской власти принцы? Все принцы — они у этих… ин… им… у буржуев, короче!
Никакой принц Зосю, конечно, не нашел. Зато утром пятого, когда она, проклиная свою дурацкую честность, обходила дозором дом Шиковой, прибежал запыхавшийся милиционер Лёша Коростелев, на синей шинели — следы кое-как отчищенных рыжеватых пятен — земля тут глинистая, тяжёлая, вязкая.
— Зоя Трофимовна, там дети!.. — перевел дух. — На дороге. Детдом, что ли, я не понял… Откуда — не знаю. Куда — вроде как, в Орёл… — устало прислонился к столбику крыльца — Машина у них сломалась где-то возле Муханова, что ль… Как их сюда занесло — понятия не имею. Но замученные — жуть. Промокли, замерзли, есть хотят… Товарищ Казаков к вам послал. Говорит, гражданское население — это по вашей части.
С детьми Зося умеет говорить ещё хуже, чем со взрослыми, вот и глядит жалостливо на продрогшую стайку, жмущуюся к такой же растерянной воспитательнице. Грустно Криницыной. Грустно и совестно — не знает, чем их приободрить… ну не сводку же Совинформбюро вчерашнюю начать пересказывать! Им бы лучше — сказку. О том, что все и всегда заканчивается победой добра над злом, а временные трудности — они временные и есть. А ещё лучше — обогреть, переодеть в сухое, накормить, как-то успокоить… а дальше? Может, сперва в Орёл позвонить? Солнце, вон, в первый раз чуть не за двое суток проглянуло блеклое, как в пергидроле вымоченное. Если повезёт — до темноты успеют и не вымокнут по новой…
Пока она переживала, прикидывала, чиркала отсыревшими спичками и пачкалась в покрывающей изразцы копоти, пытаясь развести огонь в печи, на райкомовском пороге — как по щучьему веленью — почти одновременно появились Катерина Семеновна и учитель Пётр Гаврилович. Принесли кое-какую одежонку, одеяла, покрывала, полотенца, погнали малышню переодеваться, потом Гаврилыч затеял какую-то игру, на манер физзарядки, а тётя Катя тем временем нарезала ломтями каравай и положила на каждый ломоть по паре небольших картофелин.
И тут снаружи загудело. Зося сразу поняла — самолёт. Но почему-то вспомнилось о бормашинке зубного врача, даже зубы заныли.
Учитель подошел к окну, поглядел куда-то вверх и поплотней задёрнул пыльные шторы. Сказал одними губами:
— Не наш.
* * *
Никита Казаков, растянувшись на дощатой полке пропахшего кислой капустой погреба, который оборудовали — на всякий пожарный случай — под перевязочный пункт, в очередной раз пересчитывал, чем богаты. Думы множились, а с «тем и рады» по-прежнему ничего не выходило. Много ли навоюешь с эдаким количеством бойцов да эдаким вооружением?
Правда, воевать не приказано. Да вот сосёт под ложечкой, как всегда перед боем. И чуется недоброе, так сильно чуется, как никогда прежде. А уж снится — и вовсе…
…Он не сразу сообразил, что беспорядочная пальба — не во сне, а на самом деле. А как понял — схватил винтовку и сумку с противогазом, складки которой красными рубцами отпечатались на щеке, и кинулся к выходу из погреба, второпях ударившись коленом о кадушку. Солёные лисички ржавыми пятнами усеяли земляной пол.
В проясневшем небе медленно и уверенно, с нахальством лиса, пробравшегося в бесхозный курятник, барражировал чужой самолёт с двумя килями. «Fw 189», прозванный красноармейцами «двоежопым» и «рамой».
— Кто стрелял?! — надрывая голос, заорал Никита. — Вашу же ж через коромысло! Чего творишь? Какого лешего пальбу начали?! Летел фашист, никого не трогал — так на хрена ж без команды?!
— Я приказал, товарищ старший лейтенант, — не понять, чего больше в лице младшего сержанта Стародубцева — смущения или служебного рвения. — Воздушный разведчик разыскивал наши позиции, и я…
— Ну, пусть тебе спасибо скажет: разыскал!.. — Казаков с усилием проглотил рвущиеся наружу совсем неуставные слова. Он-то, дурак, радовался, что есть у него настоящий кадровый младший командир, только вот по весне отслуживший. Под мобилизацию Стародубцев не попал, как раз накануне ухитрившись сломать ногу. Так они сейчас и хромали — старлей на правую ногу, младший сержант на левую. И чудили очень похоже: один позиции вражьему разведчику раскрыл, а другой конец света проспал!
— Да уж очень он наглый, товарищ старший лейтенант, — виновато потупился Стародубцев.
— Хоть бы сбили, раз так в жопе засвербело! — раздосадовано буркнул Никита. — Коростелев, ты с детворой-то решил, нет? Давай мухой к ним, поторопи, — и принялся с ожесточением рыться в карманах, ища трубку и табак. Запамятовал в сердцах, что вот уж год как не курит…
* * *
В Кромах — меньше сотни человек вместе с жителями и с не вовремя забредшими детдомовцами. А движутся на них аж две танковые дивизии с двух направлений: 10-я, вполне собравшаяся с силами после нелегких боёв у Севска, и 17-я, едва пришедшая в себя после «капель датского короля». Погода портится, персональный блицкриг «быстроходного Хайнца» оказывается не таким стремительным и победоносным, как мнилось только недавно, Гудериан нервничает, торопит, пытается подручными средствами выправить покривленное острие главного удара, чтобы вновь нацелить его точно нах Москау.
Тянутся по русским дорогам параллелепипеды тентованных машин, танки, мотоциклы. Трактора и конские запряжки волокут орудия, зарядные ящики, повозки с продовольствием, боеприпасами и снаряжением. Изредка матово-округло мелькает штабная легковушка…
А на пути готовящегося к броску стального питона — давно осевшая в землю крепость, которая когда-то сдерживала набеги орд крымских татар, да гарнизон в семьдесят пять человек.
Две бронированные дивизии движутся к Кромам. А из Кром, ёжась от холодных капель снова заморосившего дождя, спешат полтора десятка едва живых от усталости детишек, да высохшая то ли от трудов и думок, то ли от собственного затаенного горя воспитательница, да старый учитель с бродяжьей сумкой через плечо. В сумке — тетрадка в синей коленкоровой обложке. Кромская летопись. Не хотел Пётр Гаврилович из дому уходить — Зося уломала, откуда только красноречие взялось. Дескать, заплутают детдомовские, а Федосов и дорогу знает, и вообще — мужчина.
Криницына проводила их до самой до околицы, до столба с наискось перечеркнутой надписью «Кромы».
— Пойдём, Зоя Трофимовна, с нами, — вдруг предложил учитель. — Ты все, что могла и что должна была, сделала, чего ж ещё ждать?
И тут загрохотало, надрывая сердце и выворачивая наизнанку душу.
Зося посмотрела на Петра Гавриловича огромными, почему-то чёрными — хотя он точно помнил, ещё минуту назад были голубые — глазами.
— Идите, идите! — всплеснула руками, всем телом подаваясь вперед, — и, словно оттолкнувшись от воздуха, кинулась назад, в Кромы.
На этот раз гитлеровцы не стали рисковать, да и хваленая немецкая бережливость проиграла чувству самосохранения: к населенному пункт Kromy они двинулись только после артподготовки.
Едва отгрохотало — потянулась, вздымая горбы тентов над придорожными кустами, по дороге длинная колонна грузовиков. В голове чадили выхлопами три бронетранспортёра с установленными на них пулемётами, следом уродовала траками подразмокшую дорогу StuG III. В арьергарде колонны, сразу за дивизионом полевых пушек, тянущихся на буксире у грузовиков, шёл тяжёлый бронеавтомобиль связи Sd Kfz 263 с характерно поднятыми над корпусом дугами поручневой антенны, облепленный грязью почти по щели обзора, над одной из которых торчал любопытный пулемётный «нос»…
В паре километров от Кром колонна снова встала, из кузовов посыпались солдаты и забегали шустрыми прусаками: кто-то отцеплял и на руках катил в кустарники низенькие тридцатилинейные leIG 18, кто-то, рассыпавшись по краю колхозного поля, отрывал стрелковые ячейки промеж зелёных кочанов поздней капусты. Кто их знает, этих русских, какая у них тут оборона. Лучше тратить снаряды, послушные европейские рабочие изготовят еще, нежели проливать драгоценную арийскую кровь.
Потому-то и остановилась колонна, потому и захлопали миномёты, устанавливая дымовую завесу между германскими боевыми порядками и занятой русскими окраиной. Вскоре на старой придорожной берёзе, прижимаясь к стволу всем телом, угнездился корректировщик с полевым телефоном и на советские позиции посыпались снаряды. До двух взводов немцев в сопровождении ханомага выдвинулись правее, намереваясь прощупать стойкость красных путем охвата левого фланга.
Снаряды немецкой полевой пушки невелики и не слишком мощны: чуть больше семи с половиною сантиметров калибр. Однако неплохие германские взрыватели и пикриновая начинка дают при попадании в цель вполне приличный взрыв. Конечно, бетонному колпаку дота или стальной броне «Клима Ворошилова» эти снаряды не слишком опасны, но вот с пехотой они могут сделать такое, что подумать противно! А пушек таких у германцев много: целый дивизион!
Старший лейтенант Казаков от немцев ничего хорошего и не ждал. А когда примерно прикинул на глаз численность наступающего противника и количество арт- и бронеединиц, во рту стало кисло — не со страху, от досады. Что уйти не удастся — это яснее ясного. Так и повоевать толком — ну никак. Задёшево ты свою жизнь продаешь, военком! Хоть бы одного гада с собой забрать, хоть бы одного…
Успел — двух. Но так об этом и не узнал.
Ожесточенно, вперебой загремели полевые пушки немцев. Черно-оранжевыми злыми цветами распустились между небом и землёй разрывы, осыпая все вокруг раскалёнными семенами осколков. Кое-где в траншеях искорками чиркали ответные вспышки винтовочных выстрелов, но увы, увы: слишком далеко! Слабая огневая выучка большинства бойцов и отсутствие нормальной оптики делали эту стрельбу почти бесполезной. Лишь изредка пули на излёте чиркали по серым пушечным щитам, заставляя дрогнуть пальцы наводчика на верньере, да пару раз раздирали сукно кителей, сразу же набухающее мокрой чернотой.
Немецкие снаряды всё рвались и рвались, обрушивая стенки траншей, швыряя бордовые осколки чугуна, стремящиеся угодить в мягкое человеческое тело, забивая дыхание горьким дымом сгоревшей пикриновой кислоты. А касок — ни у кого, кроме пожарных. Огнеборцы пошли в бой в тех же латунных головных уборах с кокардой из скрещенных топориков с брандспойтом под серпом и молотом, в которых прежде выезжали на пожары.
Четвертую минуту работали германские канонен, давая возможность гренадирам после обстрела с комфортом войти в Кромы. Четыре минуты из запланированной четверти часа.
Столько же понадобилось для того, чтобы, сметая остатки русского заслона, войти в село.
А вот поиск в домах смертоносных сюрпризов занял намного больше времени: только к трём часам пополудни победители удостоверились, что дмитровский кошмар не повторится, попутно отыскав два десятка местных жителей — кого в сараюшке, кого в подвале, кого на окраине при безнадёжной попытке убежать и укрыться.
Катерина Семеновна и её старинная приятельница баба Дуся не бежали и не прятались. Они спокойно сидели в кухне у бабы Дуси и пили чай. На столе сверкал медью начищенный самовар, на расписном деревянном блюде лежали тонкие ломти домашнего каравая.
Увиденное так потрясло унылого долговязого унтера, который первым переступил порог, что он попятился, едва не ударившись затылком о низкую притолоку. Подвоха он не почувствовал: недаром ведь говорит господин обер-лейтенант, что сам дьявол не поймет этих русских. Он просто принялся делать то, что велено: методично обыскивать дом, не забыв попутно припрятать салфетку с какими-то красными диковинными птицами и пару серебряных ложек. Ну, и приказать солдатам, чтоб отодвинули стол, не поленился — вон, там какая-то дверца виднеется.
Получасом ранее баба Дуся, испуганно причитая, выставляла из кладовки на широкий подоконник банки с вареньем и крушила опустевшие полки:
— Зося Трофимовна, ну чего ж ты, а? Бечь тебе надо было, бечь, да подальше! Вона, беляки, когда у нас тут были, девок сильничали, а если кто партейный, так и вовсе… А немцы эти — они ж нехристи все как один! Полезай давай живее!
Их согнали в маленький скверик перед районной библиотекой. Бабу Дусю, и Катерину Семеновну, и Таису с Васяткой, и деда их, и других. Здесь же были и последние защитники Кром — баюкающий перебитую осколком руку младший сержант Стародубцев, Лёша Коростелев, едва узнаваемый, лицо его превратилось в кровавую маску, и пожилой пожарный в мятой каске.
Никто из вошедших в город не знал по-русски ни слова, а искать переводчика, чтобы допросить явно не представляющих никакой ценности пленных? Нерационально.
Двадцать четыре человека… Выходит — по шесть русских за каждого погибшего здесь немецкого солдата. А это — рационально.
Катерина Семеновна протолкалась к Стародубцеву. Не то прокричала, не то прошептала, и сама не поняла:
— А Егорушка? Егорушка мой где?
— Нету, — младший сержант отвел глаза. — Никого больше нету.
Зося не слышала, о чём спрашивала тётя Катя, и не слышала, что отвечал ей Стародубцев, но всё поняла. Надо бы найти слова, чтобы хоть как-то поддержать, ободрить…
Но в ушах стоял голос бабы Дуси: «Когда у нас тут были, девок сильничали». И ни о чём другом Зося думать не могла — с того мгновения, как перехватила взгляд немецкого офицера… неживой какой-то взгляд.
Обер-лейтенант фон Кранке был равнодушен к славянским красоткам. Дома ждала его рыжеволосая красавица Луизхен, слишком проницательная для невесты, но идеально подходящая на роль жены. Да и вообще дело было не в женщинах. Кранке смущало поручение. Он, офицер в четвёртом поколении, никогда ещё не командовал расстрелами. Да и сама мысль тратить благородный свинец на горстку русских дикарей претила ему… Зато другая, пришедшая внезапно, показалась удивительно приятной.
— Ланге, узнайте, что это за сооружение? — он махнул зажатыми в руке перчатками в сторону ютящегося за густым кустарником невзрачного деревянного домишки.
— Дровяной сарай, герр обер-лейтенант! — две минуты спустя чётко доложил гефрайтер Ланге.
Судьба определенно благоволила к Кранке.
И вообще, он с давних пор — ещё до факельных шествий и до того, как узнал о свастике, — восторженно любил огонь…
Глава 26
4 октября 1941 года, Орёл —
6 октября 1941 года,
рабочий поселок Нарышкино
Пшшшш… Пшшшш… Пшшшш…
Фыркают паром латунные трубки древнего паровоза-Нв-шки, за двое бессонных суток «оживлённого» руками орловских локомотивщиков. Впрочем, узнать его силуэт с расстояния сейчас весьма непросто: с боков котёл и будка машиниста закрыты прямоугольными листами ржавого котельного железа, так что паровоз со стороны напоминает конструкцию из кубиков, составленную малышом, из которой торчит труба и крыша будки. Оставшийся без дополнительной защиты тендер зеленеет облупившейся по-весеннему весёленькой краской.
Идет маневрирование. Чуть вперед… Слегка назад… тяжело звякают буфера, сцепщица неловко накидывает крюки, фиксирует… Что вы хотите: война. Опытных рабочих пораздёргали кого куда ещё в июле-августе. Конечно, «на броне» при депо осталось около половины «старичков», но раздваиваться, подобно сказочным героям, они не умеют. Вот и понабрали женщин на работы, которые кажутся менее сложными…
За тендером прицеплен полувагон, в трёх железных стенках которого электросваркой прорезаны пулемётные амбразуры в виде перевернутых «Т» и узкие черточки-бойницы «подошвенного боя» для стрелков. Внутри полувагон усилен стенками из бракованного строительного кирпича, привезённого несколькими тележными «рейсами» с «кирпички». Пулемётную команду набрали в основном из ополченцев и сцементировали полудюжиной срочно переведенных в команду БеПо бойцов — первых номеров станковых «максимов». Пулемётчики уже затащили внутрь боекомплект, ящики с продовольствием и молочные бидоны с водой. Один ДШК успели укрепить, ещё четыре до времени сиротливо приткнулись у стенки. То-то грохоту будет, когда они заголосят одновременно во все свои без малого тринадцатимиллиметровые глотки! Умная техника, думают кадровые, жаль, дуракам досталась. Ну, не то чтоб дуракам, а так, салажне необученной… Но где ж других-то взять? Кто есть, с теми и воевать будем.
А вот артиллеристов, хлопочущих возле прикрытой от пуль и осколков тем же котельным железом платформы, салагами назвать никак нельзя. У установленного на ней шнейдеровского осадного орудия, что закуплено было у Антанты ещё проклятым царизмом, возятся, укрепляя ствол на лафете, дядьки в возрасте от сорока лет и старше, явно начинавшие военную службу ещё при том самом Николае Кровавом и Последнем. Ящики со 152-миллиметровыми выстрелами уже соштабелёваны в конце платформы, бочки с водой и уксусом укреплены талями, чтоб не опрокинулись, как тряхнет при залпе.
Руководящего оборудованием артиллерийской бронеплощадки артиллериста с «пилой» демаскирующих рубиновых треугольников на защитных петлицах и в ещё более заметных синих шароварах образца конца двадцатых годов нельзя не заметить. А увидев однажды — невозможно забыть этих тяжёлых пшеничных усов и бакенбард, как у генерала Скобелева на картинках из старого журнала. Ну а матерно-рифмованные «загибы» и «перегибы», с упоминанием буржуев, кайзера Вильгельма впополам с Гинденбургом, Врангелем и бесноватым Адольфом в исполнении бывшего старшего фейерверкера береговой артиллерии с форта «Белая Лошадь» Ивана Никодимова явно могут претендовать на звание шедевров русской командной лексики наравне с хрестоматийными «Большим и Малым петровскими»… Ничего не поделаешь: командир орудия — типичное порождение унтер-офицерского состава прежней армии. Так ему и сказал, демонстрируя не только начитанность, но и незаурядную храбрость, тощий парень в очках — и следующие десять минут то краснел, то бледнел, вынужденно обогащаясь знаниями: в дореволюционные-де времена нерадивого нижнего чина господин старший фейерверкер мог не только матом обложить или под ружьё поставить, но и зубы тому начистить не постеснялся бы, особенно получив на то приказ офицера. «Их благородия», за небольшим исключением, предпочитали сами ручек не марать: для грязной работы существовали, к взаимной радости, унтера… Зато чего-чего, а службу в те годы солдатики знали «на ять». Вон, с германцами за польские уезды больше года дрались, пока не отступили. Не то что нынче: война всего четвёртый месяц идёт, а немчура уже до Брянска докатилась на плечах Рабоче-Крестьянской, со дня на день у родного Орла будет, так-то, студент!.. Да, верно Советская власть поступила, объявив всенародную мобилизацию. Ещё послужат России старые солдаты. А ежели что… Так все на том свете будем, сколько тех годов-то осталось?! Чуть раньше, чуть позже… А за Отечество живот положивших всяко в райские кущи принимают без пропуска…
Давно уже был приставлен к делу худосочный умник, а Никодимов, сам того не замечая, продолжал бормотать вслух — пока не перехватил удивленно-испуганный взгляд пробегающего мальца лет тринадцати.
Даже детвора посильное участие принимает в общем деле. Кто песочницу на паровозе заправляет, кто, впрягшись по двое-трое в тележки, подвозит бидоны с водой и ящики консервов. А что делать: оставшихся в городе автомашин несколько штук, подводы все тоже постоянно в разъездах, трамваи — и те приспособили для перевозки воинских грузов. Вот и приходится возить на себе… А рядом, стоя на садовой стремянке, выводит кистью алые буквы по ржавчине востроносенькая художница-подросток. «Красный Орёл» — блестит на котельном железе пулемётного полувагона. Ниже, как раз между амбразурами, разметав, словно крылья, бурку, застыл в стремительном галопе силуэт конника.
…Спустя всего четыре часа, издав лишь один традиционный свисток отправления, эрзац-блиндопоезд, словно железный призрак минувшей Гражданской войны, толкая перед собой груженную шпалами и рельсами платформу, где за мешками с песком ёжились от сквозняка ополченцы-«путейцы» с трёхлинейками и ДТ-27, прополз мимо деповских зданий, рабочей столовой, простучал колесами на стрелках и вышел за зелёный семафор. Пункт назначения — станция Нарышкино.
Ветер проникал под колючие, пахнущие складом, свежевыданные шинели второго и третьего срока, высвистывал короткие мелодии в оргАне винтовочных и пулемётных дул, швырял клочья дыма и искры из паровозной трубы прямо в пулемётный полувагон.
Бойцы команды торопливо осваивали свою движущуюся фортецию, хлебали густой гороховый суп и перловую кашу-«шрапнель», притащенные перед самым отправлением в зелёных термосах теми же помощниками-подростками. Окончившие приём пищи снаряжали пулемётные ленты ДШК и заполняли винтовочные обоймы: благо по личному распоряжению Годунова на БеПо, помимо самих боеприпасов, было доставлено с окружных складов аж пять ящиков пустых обойм и коробок с лентами.
Старики-артиллеристы, собравшись на снарядных ящиках, отдыхали после тяжёлого труда. Двое переговаривались о своих соседских делах: дома-то стоят на одной улице, почитай, напротив друг дружки. Кто-то молча сосредоточенно курил, дымок из вишнёвой трубки сносило назад и он смешивался с дымом паровоза. Остальные же, окружив рвущего сочные звуки из тульской двухрядки гармониста Ираклия Пименова, слаженно — будто и не было десятилетий, минувших со времен царской солдатчины и замятни Гражданской, — подтягивали никодимовскому баритону:
Идем мы тихо, стройно, Подходим к высотам; Вершины эти грозно Показывались нам. Карпатские вершины, Я вас увижу ль вновь, Мадьярские долины — Кладбища удальцов. Начальник батареи Подставил грудь свою: «Ребята, не робейте, — Не страшна смерть в бою». Карпатские д’ вершины, Я вас увижу ль вновь, Мадьярские долины — Кладбища удальцов.Стоящий на тендере старший лейтенант с загипсованной рукой на черной косынке приник к окулярам бинокля. Внимательно всматривался в бегущий навстречу ландшафт и краем уха слушал «старорежимную» песню артиллеристов. Конечно, наспех сделанный узенький дощатый настил вдоль бортов тендера — слабая замена командирской башенке, но тут уж ничего не поделаешь! Вон, девчата-телефонистки вовсе на мешках, постеленных прямо на уголь, устроились — и хоть бы что! Щебечут о чем-то между собой, интересно им все, комсомолочкам-доброволочкам… Может, ещё и школу-то не закончили, а туда же: на потенциальную братскую могилу на колесах напросились… Гнать бы их отсюда веником по мягкому месту, да ведь других-то нет и не будет! Так что хочешь-не хочешь, а придётся вместе и служить, и воевать, а то и смертыньку принимать… Командир «Красного Орла» хорошо знал, как она, костлявая, выглядит… От Ломжи до Минска с боями отходил, теряя людей, теряя матчасть батареи… А за Минском и сам потерялся: прилетело два осколочка, и уехал Серёга Денисов подальше от фронта на излечение. А теперь вот, выходит, фронт его и тут догнал. Жаль, рука не зажила, ну да ему не выстрелы в казённик кидать, а чтобы траекторию рассчитать да команду подать — и тем, что есть, обойтись можно. Вот только позицию толковую для «фортеции», как старики на свой лад БеПо именуют, подобрать будет трудновато: как ни крути, блиндопоезд привязан к рельсам, в сторону не съедешь, в землю не вкопаешься… Так что остаётся классическое двуединство: огнём и манёвром. А что манёвра всего-то и есть, что «вперед-назад» — это уж зло неизбежное…
Денисов слегка завидует нежданным своим попутчикам — роте войск НКВД, прибывшей чуть не перед самой отправкой поезда. Из конвойников централа, вроде как. Это сейчас они разместились хуже всех — в давно списанном, грязном товарном вагоне, продуваемом всеми ветрами. Ну а на месте у них будет возможность хоть как-то окопаться… дорогого она стоит, возможность эта! Землица — она всяко лучше защитит, чем ветхая «броня»…
От Орла до Нарышкино ехать по железке чуть больше получаса. Как раз — супца похлебать, да трубочку выкурить, да спеть. И вот уже — дощатый станционный домик, крашеный, небось, ещё в годы первой пятилетки, и не разобрать уже, серый он или зелёный.
Диковинный поезд встречали ехидного вида дедок в железнодорожной тужурке, три женщины с таким давним отпечатком тревоги на лицах, что возраст стёрся, и — вот уж неожиданность так неожиданность! — пятеро пехотинцев.
Был бы здесь Годунов — наверняка вспомнил бы кадры кинохроники: встреча войск двух фронтов, улыбки, объятия.
Здесь вышло, конечно, куда скромнее: рукопожатия и нескрываемо удивленные возгласы. Конвойники из Орла и команда БеПо встретились со стрелковой ротой, которая только несколько дней назад держала оборону против танков Гудериана в районе Севска, а нынче ночью была, тоже нежданно-негаданно, переброшена сюда с приказом держать станцию в случае, если враг обойдет и двинется со стороны Орла. Бойцы сразу же начали окапываться по сторонам шоссейки, лицом на светлеющий восток. Командир стрелковой, рыжеватый старший лейтенант с очень подходящей ему фамилией — Костров, был убежден, что «скорое рандеву с гансами так же неизбежно, как победа коммунизма».
— А чего, Кромы, разве, сдали? — осторожно уточнил Денисов.
— Вам, вообще-то, видней. В сводках Совинформбюро о том пока ни полслова, — хмыкнул старлей, заставляя обоих собеседников поморщиться: артиллериста раздражала его вопиющая несерьезность, чекиста, дядьку средних лет, до желтизны высушенного давным-давно, раз и навсегда, упрямым среднеазиатским солнцем, — трехдневная щетина и цветастые речевые обороты, так не похожие на предписанные уставом. — Но, как по мне, чем лучше зароемся, тем дольше нас отсюда выколупывать будут. Ферштейн, как спросил ихний фюрер у ихней же нации, намекая на то, что, один хрен, если тебя так удобно уложили, согласия твоего спрашивать не станут, как ты, милочка, ни охай…
Заметил на ступеньке вагона телефонистку Леночку Лях, похожую на слегка испуганную белую мышку, осекся, вспыхнул — и заспешил к своим. Будучи отловлен за рукав командиром конвойников до того, как успел скрыться за углом станционного домика и задолго до того, как справился со смущением, определил участок обороны для вновь прибывших в соответствии с начальственным произволом. Проще говоря, неопределенно махнул рукой в сторону жиденькой лесопосадки.
Чекисты тем временем закончили спешную, но слаженную разгрузку, «Красный Орёл» вновь тронулся с места и остановился на выезде из очередного перелеска. Бойцы принялись сооружать из древесных стволов, веток и маскировочных сетей полог, способный укрыть состав от зоркого взгляда воздушного пирата «Лютваффе» — погода, конечно, нелетная, но, как строго напомнил, шевеля мохнатыми бровями, Никодимов, береженого Бог бережёт.
Сам же старший лейтенант Денисов, выслав в двух направлениях разведдозоры, принялся, склонившись с логарифмической линейкой над картой и огневым блокнотом, производить расчёты траекторий и секторов обстрела. Получалось вполне прилично: дальность стрельбы орудия давала возможность накрывать вражеские скопления далеко за линией горизонта, а целых пять ДШК позволяли держать противника под огнём на дистанции горизонтального огня в три с половиной километра и более чем на две версты вверх. Таким образом от воздушного налёта и от легковооруженного моторизованного противника БеПо мог отбиваться до тех пор, пока не закончатся боеприпасы или (думать об этом очень не хочется) пока не погибнет почти вся команда.
* * *
Рельеф местности между рабочим поселком Нарышкино и Орлом — типично среднерусский. Что означает: сколь-нибудь приличных гор в зоне досягаемости просто нет. Есть луга, перелески, высотки, овраги. А гор — нет. Как следствие, нет и туннелей, через горные массивы проложенных. Очень хорошо это для железнодорожного строительства, удобно. А вот для команды БеПо — паршиво. Не спрячешься, не укроешься. Благо, день и ночь морось, а если распогодится — точно поналетят…
Местным жителям тоже несладко: железнодорожные пути делят поселок на две неравные части. Если тут каша заварится, здешним ничего не останется, кроме как в погреба лезть, а уж дальше — как повезёт. Кто может — двинулся своим ходом в ближние деревни, к родственникам-свойственникам, а то и к чужим людям на постой, имея на руках райкомовскую бумагу. Кое-кого командир чекистов (душевный оказался дядька, понимающий) каким-то образом ухитрился пристроить в идущий из Брянска эшелон. Но и осталось народу немало, и у всякого — своя надежда. У одного — на то, что немец не придет, он, сказывают, уже за Кромами, чего б ему возвращаться. У другого — на глубокий погреб. У третьего — на русский авось.
То, что первая и главная из надежд оказалась несбыточной, стало ясно утром шестого, когда беда явилась, вопреки обыкновению, не с заката, а с рассвета. И вот уже местные спешно закрываются в погребах, а «Красный Орёл» сгоняет с дороги злыми очередями дальнобойных пулемётов «образца 1938» германских моторизованных разведчиков, посылая — почти наугад — пятидюймовые снаряды древней французской гаубицы в расчёте накрыть вражескую колонну.
Стукнувшись, с лязгом и грохотом, бронированным лбом о стену, немцы не стали испытывать её на прочность. Затишье обрадовало ребят-«истребков»: сильны, говорят, враги, а вот врезали им от души раз-другой по зубам — они и призадумались. Дядьки-ветераны насторожились: упёртый германец, быть такого не может, чтоб пакость какую-нибудь не учинил, надо держать ухо востро. А Денисов, приказав девчатам-телефонисткам срочно связываться с «гнездом», начал прикидывать: сколько времени понадобится немцам, чтобы подтянуть танки и артиллерию? Как ни крути, выходило всего ничего. И чуть больше, чем ничего, — на то, чтоб они поняли: перед ними не капитальная стена, а перегородка, наскоро построенная из того, что нашлось под рукой у командования. Лишь бы подкрепление из Орла вовремя подошло!
Дрогнула земля, когда пристрелочный вырвал сноп почвы и гравия на откосе насыпи, словно под шпалами стрельнула картечью в небо зарытая неведомо кем старинная Царь-пушка.
«Ну, понеслось!» — подумал Денисов, с раздражением, на удивление похожим на жалость, не то чтобы услыхав — скорее угадав, как испуганно ахнула, роняя телефонную трубку, Клава Стецюра.
БеПо огрызался гаубицей и крупнокалиберными пулемётами правого борта. В общем шуме нельзя было расслышать, что творится в той стороне, где шоссейка, но старлей точно знал — там тоже идёт бой.
Второй и третий снаряды ушли с перелётом, но чёртов ганс, видать, уже рассчитал «вилку»: следующий залп исковеркал рельс, раскрошил пропитанные креозотом шпалы, изрыл воронками насыпь позади блиндированного поезда.
Антантовское орудие на службе у «Красного Орла» успело произвести целых семь выстрелов, буквально разбив вдрызг две немецкие «тройки» Pz-III и шустрый бронетранспортёр. Гренадиры, что попытались проскочить в «мертвую зону», попали под перекрестный огонь с обочин и залегли.
Немецкая артиллерия продолжала методично, с упреждением работать по самому поезду, чтобы обездвижить и нанести ему максимальные повреждения, обеспечивая этим успех атаки мотопехоты и танков, уже потявкивавших своими пушечками из-за деревенских сараев и стогов.
Раскуроченный прямым попаданием в будку машиниста паровоз «Красного Орла», весь окутанный паровым облаком, протянул по инерции состав ещё метров на сорок и встал окончательно и бесповоротно.
Через люк в днище полувагона четверо бойцов из молодёжного истреббата, выволокли один из ДШК левого борта, установив его прямо на насыпи в полусотне шагов от артиллерийской платформы. Впрочем, пулемёт смолк, не успев выпустить целиком даже первую ленту: слишком густо падали у блиндированного поезда вражеские снаряды, смертельным посевом засыпая все вокруг. После «прямого» на месте расчёта остались лишь рваные трупы. Людей и оружия. Исковерканные и перекрученные стальные детали, смешавшиеся воедино со шматками мяса и торчащими осколками костей. И лишь в полуметре от воронки сиротливо крутилась, тикая, секундная стрелка на белом циферблате точмеховских латунных часов, надёжно укрепленных на запястье оторванной руки в сером шинельном рукаве…
Второе попадание пришлось в «голову» самодельной артплощадки: тяжёлые рваные осколки стаей раскалённых птах прозвенели по телу и лафету орудия, с лязгом пробороздили железные борта и с жадным чавком мясницких топоров прорубили плоть большинства стоявших у гаубицы старых артиллеристов.
Рухнул навзничь, свистя разорванным горлом, бывший старший фейерверкер Никодимов, большой охотник до песен. Недвижным взглядом вперился в доски пола прижимающий окровавленные культи к животу Пименов. Закатилась под лафет чья-то прокуренная трубочка…
Третий и четвёртый снаряды, ударившие в стенку пулемётного полувагона, были посланы расхрабрившимися немецкими танкистами. Металл они, конечно, пробить сумели, но добрая кирпичная кладка устояла, осыпав пулемётчиков керамическим крошевом и создав внутри облако мелкой красно-рыжей пыли.
Без всякой команды оба «крупняка» правого борта схлестнули металлические плети очередей на одном из панцеров, неудачно пытающимся укрыться за жиденькой — на просвет — лесопосадкой. За дальностью расстояния бойцам не было видно, кромсают ли рурскую броню тульские пули, но вот то, что с танковых катков широкой лентой поползла гусеница, а поймавший очередь погон башни явно заклинило, пулемётчики поняли сразу. Пацаны, вчерашние старшеклассники, в колючих шинелях и немногим более взрослые красноармейцы предвоенного призыва на радостях подпрыгивали, колотили друг дружку по плечам, вопили «Ура!..»
…А рядом, внутри искореженного тендера, беззвучно рыдала телефонистка Леночка Лях, стоя коленями на острых гранях угольных кусков, поверх которых разметались толстые окровавленные косы Клавы Стецюры. Связистка боялась выпустить из рук раскроенную осколком голову подружки. Они познакомились только четверо суток назад: Клавочка, вся такая тонюсенькая, в сером ушитом пальтишке, с нарядной белой сумочкой в руках, взбежала на крыльцо пристанционной казармы, где дислоцировалась спешно формируемая команда «Красного Орла». И вот сейчас…
Чуть в стороне, неловко подвернув загипсованную руку, лежал под стенкой тендера Серёжка Денисов, удивленно уставивший в небеса третье око, проделанное острой маузеровской пулей германского стрелка, и низкое солнце отражалось в рубиновой эмали старлейских «кубиков».
Сто четырнадцать минут…
Сто четырнадцать минут рвали железо и плоть «Красного Орла» немецкие снаряды и пули.
Сто четырнадцать минут не смолкал оружейный грохот.
Сто четырнадцать минут отлаженная машина германского Вермахта ломала своими огненными шестернями русских людей.
А они — стояли. Сколько могли, и ещё больше.
Шесть тысяч восемьсот сорок секунд.
И вот щёлкнул последний выстрел, и сержант Максим Белашов, веселый казачок родом из-под Ейска, глотнул воды из тёплой фляги и, выбравшись из-под исковерканного броневагона, примкнул штык, взял пустую винтовку «на руку» и засвистел немудрящую песенку из любимого фильма. И пошёл. «Крутится, вертится шар голубой, крутится, вертится над…»
И всё.
Упал, сковырнутый на гравий насыпи судорожной очередью зашуганного пулемёта.
А на ржавом борту погибшей крепости все также несся в стремительную атаку иссеченный пулями всадник в пробитой снарядом бурке.
Красный. Орёл.
Советские танки подоспели на сто двадцать первой минуте.
Из книги Владимира Овсянникова «Так зарождалась Победа» (Орёл: Орёлиздат, 2002)
Среди событий первого этапа войны примечателен бой за станцию Нарышкино утром 6 октября 1941 года. Гитлеровцы силами одного танкового и двух мотопехотных полков выдвинулись из занятых накануне Кром в сторону рабочего поселка Нарышкино, имея целью перерезать железную дорогу Орёл — Брянск и лишить, таким образом, Брянский фронт первостепенной по значению линии коммуникаций. Дополнительной целью этого удара, по замыслу немецкого командования, было содействие 4-й танковой группе в ударе по северному фасу Брянского фронта и создание предпосылок для его окружения.
К этому моменту подвижная оборона, развернутая защитниками Орловщины, значительно нарушила первоначальные планы гитлеровцев. Были уничтожены наиболее мобильные дивизии 2-й танковой группы, которые, по замыслу Гудериана, должны были служить остриём клина, нацеленного на Москву.
Предугадав планы «быстроходного Гейнца», командующий Брянским фронтом генерал-полковник Ерёменко направил стрелковую роту под командованием старшего лейтенанта Озерова из резерва Брянского фронта в район станции Нарышкино. Одним днем позже, 5 октября 1941 года, прибыла ещё одна рота, на этот раз — из Орла, из состава 146-го отдельного конвойного батальона внутренних войск НКВД. Подвижным опорным пунктом обороняющихся стал блиндированный поезд «Красный Орёл». В его команду были зачислены выздоравливающие из орловских госпиталей, ополченцы — ветераны прошлых войн и бойцы истреббата.
Ценой своих жизней защитники станции Нарышкино сдержали первый натиск численно превосходящего противника и дали возможность мобильной группе полковника Катукова нанести сокрушительный удар, приведший к тому, что на орловском направлении немцам потребовалась оперативная передышка. Этот бой был для танкистов-катуковцев первым на Орловской земле. В ноябре 1941 года за отважные и умелые действия личного состава в боях на Орловщине бригада была удостоена почётного звания «гвардейская» и переименована в 1-ю гвардейскую танковую бригаду, став таким образом первым гвардейским танковым соединением в Красной Армии.
Вечером 6 октября были освобождены Кромы. Они находились в руках врага всего лишь чуть более суток. Об этих недолгих, но страшных часах плена напоминает чёрный камень со скорбным женским профилем, установленный в сквере у здания Кромской районной библиотеки. Именно на этом месте были заживо сожжены фашистами последние защитники поселка и мирные жители в возрасте от семидесяти пяти до полутора лет.
А на станции Нарышкино, чуть в стороне от привокзальной площади, на низком бетонном основании установлен собранный буквально по частям паровоз «Красного Орла». Случайных посетителей удивляет, что на мемориальной табличке, рядом со словами: ««В память о мужестве защитников Нарышкино. 5 октября 1941 года. Вечная слава героям» выгравирован всадник времен Гражданской войны…
Глава 27
Передовица областной газеты «Орловская правда» от 6 октября 1941 года
ОНИ НЕ ПРОЙДУТ!
К оружию, товарищи!
Товарищи красноармейцы, командиры и политработники! Товарищи орловцы!
Прошедшие в ожесточенных боях с подлым врагом месяцы ярко показали исключительное мужеством советских людей, беззаветно борющихся против кровавых гитлеровских убийц, насильников и грабителей. Много отбито отчаянных вражеских атак. Потери врага колоссальны. Горы фашистских трупов устилают поля боёв на всем пути от Буга до Оки. Стоны брошенных врагом раненых разносятся отовсюду, где настиг их сокрушительный удар мужественных советских пехотинцев, метких артиллеристов, храбрых миномётчиков, стремительных конников, отважных лётчиков, бесстрашных танкистов. В пламени оборонительных боев, как в кузнице, закаляется стальной кулак нашей родной Красной Армии, и этот кулак уже наносит удары по фашистской гадине на различных участках фронта. Западнее Мурманска советские войска удерживают немецко-белофинские дивизии на линии Государственной границы. На юге героически бьют врага славные защитники жемчужины Черноморья — красной Одессы. На центральном участке фронта части Красной Армии под командованием товарища Жукова ещё месяц назад, 6 сентября, выбили отборные эсэсовские полчища из Ельни и ведут наступление на запад!
Да, враг пока силен: перебрасывая силы с участка на участок он местами ещё прорывает оборонительные порядки наших войск и стремится захватить важнейшие транспортные и промышленные узлы.
И вот теперь фашисты из последних сил тянут свои кровавые лапы к нашему городу, чтобы нанести удар в самое сердце нашей Родины. Глухие к урокам истории, они позабыли о том, что крепость Орёл в давние времена была щитом, прикрывающим Москву. Наши предки с честью противостояли ордам крымских и ногайских ханов. Нам предстоит остановить вражью армаду, пришедшую с запада.
Враг упрям, злобен и коварен. Он собрался с последними силами для захвата нашего родного города. С невиданной злобой и бесчеловечностью фашистские изуверы пытаются всячески деморализовать защитников города. Все мы знаем, как они при первой возможности сбрасывают со своих самолётов бомбы на головы мирного населения, на головы женщин, стариков и детей. Не щадят они ничего на своем пути. После того, как немцы вошли в Дмитровск, от города остались лишь обгорелые руины, полностью обезлюдели древние Кромы. А теперь гитлеровское зверьё ломится в ворота Орла!
ОНИ НЕ ПРОЙДУТ!
Каждая орловская улица станет для захватчиков огненным мешком, каждый дом — крепостью каждая площадь — кладбищем фашистских псов!
Пусть фашистские варвары помнят, что их зверства не будут забыты и прощены. Наш карающий меч сумеет раз и навсегда уничтожить презренную гадину!
Товарищи бойцы, командиры и политработники! Жители Орла! Сегодня от каждого из нас зависит не только его судьба, но судьба всего города, судьба Москвы, судьба Советской России. Дрогнувший в бою сейчас — не просто презренный трус: он мерзкий изменник и враг трудового народа. Но нет, не будет таких среди нас! Защитники Орла войдут в историю как герои и встанут рядом с защитниками Ленинграда, Киева, Смоленска.
Так пусть же немецкие мерзавцы лезут навстречу собственной гибели: всем им найдется место в русской земле, как нашлось их предшественникам: польским панам, солдатам Наполеона и кайзеровским воякам!
ОНИ НЕ ПРОЙДУТ!
Военный Совет
Орловского оборонительного района
Орловский областной комитет ВКП (б)
* * *
30 сентября –7 октября 1941 года,
Орёл
Стёпку в армию не брали.
«Запрещено!»
И никакой возможности, чтобы обойти это запрещение, не было. Ребята постарше и выглядевшие повзрослее порой приписывали себе полгода-год, чтобы быть зачисленными хотя бы в истреббат НКВД, сформированный, как говорили в городе «на самый крайний случай». Им-то хорошо: несут караульную службу, везде ходят патрулями с финскими винтовками на длинных кожаных ремнях, тускло посверкивая примкнутыми плоскими штыками.
Но если тебе всего тринадцать — скоро будет четырнадцать, правда-правда! Всего через три месяца! — и ростом ты удался как раз с ту самую винтовку со штыком, то умолять о чем-то усталую женщину из четвёртого отдела военкомата — дело совершенно зряшное. В лучшем случае в десятый раз услышишь суровое: «Иди отсюда, мальчик. Не мешай работать».
Начавшиеся занятия в школе Стёпка посещал только по необходимости: каждое утро в классе зачитывали по два сообщения Совинформбюро, утреннее и вечернее за предыдущий день, а на стенде для стенгазет возле учительской узкой красной лентой на карте СССР отмечали изменения в конфигурации линии фронта. В середине сентября кумачовая лента приблизилась к границе Орловской области…
На покупку газет со сводкой у него денег сроду не водилось, а радиоточку в доме дед так и не собрался установить. Упрямый старик обходился обшарпанным древним граммофоном и фанерным ящиком с пластинками. И добро бы пластинки были как пластинки: «Конармейская», к примеру, или «Песня о встречном», или хотя б девчоночий фокстрот «Рио-Рита»! Так нет же, из крашеной латунной трубы ежедневно раздавался то плач маньчжурских сопок, то шаляпинско-мефистофелевская ода золоту, то нескладные стоны скрипки и голос, напоминающие о давно забытой войне на южноафриканской земле…
Привыкший за двадцать лет свободно перемещаться по своему дому, в котором на ощупь изучил каждый уголок, дед так же свободно ориентировался и в пластинках, чуткими пальцами нащупывая собственноручно сделанные вырезы на краях конвертов.
И работал дед так же — точно и свободно, размерено паяя латунные пряги комсоставских ремней и штампуя ручным мини-прессом детали пуговок для гимнастерок. Сильные и чуткие руки заменяли ему потерянные в Крыму глаза, сырьё же и заготовки поставляло правление кустарной артели инвалидов «Красный богатырь».
Разумеется, часть бытовых мелочей у Степана Ксаверьевича и не могла получаться так же, как и у зрячих. Пока жива была дочь Малгожата, всякого рода стирка, глажка, уборка и готовка лежали на её плечах. Но вот уже два года как Стёпка принял на себя матушкины обязанности: в конце концов, кто, кроме единственного внука, должен отстирывать пятна на старых дедовых гимнастерках, да и на своих собственных сорочках, мыть полы и лазить в подпол за картошкой?
Вот в этом-то подполе Стёпка и нашел как-то «клад». Случайно запнувшись, он зацепил пустую бочку из-под квашеной капусты так, что та сдвинулась, скрежетнув по полу.
По земляному полу — и скрежетнула?! Чепушиная чепуха!
Стёпка присел на корточки, до упора выкрутив фитиль лампы. На месте, где только что стояла кисло пахнущая бочка, тускло поблескивал прямоугольник металла. Мальчишка попытался подцепить его пальцами. Безуспешно: ящичек или коробочка — непонятно пока — плотно сидел в глине… Ничего не поделаешь: надо искать инструмент. Как говорил некогда директор школы: «Когда обезьяна взяла в руки палку, она стала трудиться». Палки в погребе не нашлось, зато прямо под лядой отыскался ржавый шкворень, тут же применённый в качестве инструмента кладоискателя.
Спустя несколько минут сообразительный Стёпка уже стоял на коленях перед открытым продолговатым ящиком с защелкой и рукояткой сверху и перебирал извлеченные сокровища. Поверх всего, завернутые в печатный платок с изображением прописной «Н» с двумя палочками в центре и старинных пушек с артиллеристами по углам, лежали суконные оливковые погоны с вшитой посредине красной полоской и пара пришпиленных к ним с изнанки пятиугольных колодок с вычурными старорежимными крестами. Дальше — простенькая картонная папка с завязками, в которой оказались фотографии людей в штатском и военном, с погонами и без, с будёновками на головах и в странных киверах с многолучевыми звёздами, тоненькая пачка каких-то документов, намертво перемотанная шёлковой нитью, и сложенная вшестеро большущая грамота с портретом бородатого кучерявого человечка в пенсне на фоне красной звезды и крупным заголовком «От имени Народного комиссара по военным и морским делам за отменную храбрость награждается…» Подобная грамота, но с рабочим-кузнецом и мужиком-сеятелем внизу листа, выданная деду в годовщину Первой Конной, висела в рамке на стене, сколько Стёпка себя помнил, рядом с портретами товарища Сталина и товарища Будённого. Отчего же вот эту решили укрыть в погребе вместе с царскими погонами? Непонятно…
Но лучшей находкой стал самый настоящий кинжал в ножнах, завернутый в промасленную тряпицу и уложенный на самое дно железного ящика. Светлая рукоятка прямоугольного сечения, перекрестие с разнонаправленными завитками, украшенное круглым медальоном с красным крестиком под короной и темляком из красного муара, тускло мерцающий при свете керосиновой лампы клинок…
Ну у какого мальчишки не дрогнет сердце при виде такого дива! Кто в состоянии будет, только что взяв в руки настоящее оружие, спокойно вернуть его на место? Знаете таких? Вот то-то же! Стоит ли удивляться, что находка перекочевала из ящика, вновь захованного на прежнем месте под капустной бочкой, за пазуху к пацану.
Деду Стёпка не стал ничего рассказывать о находке: и без того было понятно, что захоронку сделал либо он, либо мама: кому ещё понадобилось бы прятать в их доме фотографии, на доброй половине которых было запечатлено молодое лицо дедушки, весело глядящего в объектив ясными, не выжженными врангелевским палачом Троицким, глазами.
С тех пор мальчик расставался с найденным в погребе оружием только собираясь идти в баню. Все остальное время находка висела у него под мышкой на собственноручно связанной из полосок старого полотенца потайной перевязи, прикрытая сверху перешитой тужуркой покойного отца.
«Вот попаду на фронт — уверено мечтал Степан — будет у меня на первое время оружие в рукопашную ходить! Конечно, хорошо бы, чтоб дали пулемёт, как у комиссара матросов в «Мы из Кронштадта» или в «Чапаеве», но это вряд ли: «максим» — вещь сложная, каждому желающему его не доверят. Ну, хоть винтовку-то дадут, тем более и разбирать её я уже умею, не зря вокруг старших ребят из стрелкового кружка крутился, и даже стрельнуть раз довелось. Только бы на фронт взяли!»
А фронт становился ближе и ближе.
И тридцатого сентября к ним в дом пришли нежданные посетители.
Группа подростков, чуть постарше Стёпки, и молодых девчат, все с топорами и лопатами на плечах и торбочками за спиной спозаранку столпились на дворе. Предводительствующие ими старшая пионервожатая из Семкиной школы Зоя Бартенева и пожилой морщинистый сержант в пахнущей складом необмятой гимнастерке с топориками на чёрных петлицах, вежливо, но настойчиво постучавшись, взошли в горницу.
— Здравствуйте, товарищ Еленьский!
— Здравия желаю!
— И вам того же! — настороженно выкашлял дед. Бережно отставив подстаканник со стаканом недопитого чаю подальше от края стола, повернулся к ним всем телом. — Чем обязаны?
— Товарищ Еленьский, согласно распоряжению Штаба обороны Орла, ваш дом решено включить в систему оборонительного рубежа города, в районе кирпичного завода, — степенно, но заметно смущаясь, произнес сержант. — Здесь будет оборудована огневая точка. Ваше же семейство приказано эвакуировать, как небоеспособный элемент. О чём имеются соответствующие документы.
Опираясь о столешницу, дед поднялся во весь свой саженный рост:
— Допустим. И куда же ваш — он иронически выделил это слово — ваш штаб намерен нас с внуком эвакуировать?
— Пока что в Тулу, — вступила в беседу Зойка-вожатая, — а после, возможно, в Москву или дальше…
— А потом — куда-нибудь в Читу, а затем — во Владивосток, — размеренно и на удивление спокойно продолжал Степан Ксаверьевич, — если его к тому времени японцы не оттяпают, так я понимаю, девушка?
— Я вам не девушка! — Бартенева так похоже скопировала тон, которым директриса устраивала разносы, что Стёпка фыркнул, хоть и вслушивался — напряженно, аж до озноба: до чего они там договорятся?
— Это зря. Хвалиться совершенно нечем — усмехнулся старик. — Никуда я не поеду отсюда. И внука не пущу: загинет он один в этой вашей круговерти.
— Да я сам не поеду! Тут фронт подходит, немцев бить надо, а я, пионер, драпать стану? Дудки! — решив, что молчать нельзя, влез со своим категорическим мнением Стёпка.
— Ой… — покраснела вожатая, наконец сообразив. — Я не в том смысле не девушка, что не девушка. Я здесь бригадир строительства! Вот. И мы будем ваш дом укреплять. Он же у вас на каменном цоколе стоит?
— На кирпичном. И погреб имеется. Так что если нужно бойницы пробивать — всегда пожалуйста: как раз влево-вправо сектора открытые. Все прилегающее поле простреливать можно станет. Только пошлите кого ни на есть забор разобрать, да за дорогой кустарник повырубить. Я хоть и слепой, однако память на такие дела не потерял: небось, с революции совсем разросся, за столько-то лет.
— Но вам всё-таки нужно уехать, ведь дом будет на самом огневом рубеже, — снова подал голос сержант. — У немцев автоматчики, артиллерия, самолёты… Гражданским нельзя…
— Вот что, товарищ… кто вы там по званию? — упрямо склонив голову, продолжал дед, — и вы, милейшая товарищ бригадир, говорю в последний раз, повторять не стану: это наш дом, и мы со Степаном никуда отсюда не уйдем. Артиллерия да самолёты — они где хочешь достанут, бегать от них — только зазря устать перед смертью. А немцы… Бил я их в ту войну, а доведется — и в эту сумею хоть одного, да прихватить с собою, — Степан Ксаверьевич выдвинул ящик стола и выложил на стол тёмно-зеленую рубчатую гранату. — Вот, прошу любить и жаловать: трофей от господ интервентов, британская, конструкции мистера Лемона. Если в горнице рванет — осколки до каждого достанут. Так что будем надеяться, что до нашего порога русские солдаты германца не допустят. Надобно дом в фортецию превращать — да будет так! Ежели б с июня каждый дом крепостью стал бы — не прошли бы бандиты дальше прежней границы нашей! А теперь солдату отходить некуда: за плечами Орёл, а за Орлом — Москва Первопрестольная… Так что, верую, здесь предел германцу положен будет. Здесь! — и заключил торжественно, у Стёпки аж мурашки по спине побежали: — Ступайте, люди добрые. Исполняйте, что приказано с домом-то вершить …
* * *
Вы знаете, что такое «линия обороны»? Нет, не зубчатые синие и красные кривульки на схемах, а настоящая?
Линия обороны — это кубометры. Вернее сказать — кубические километры вырытой земли, уложенных бревен, рельсов, шпал и прочих перекрытий, залитого бетона, километры колючей проволоки в несколько колов и малозаметных проволочных заграждений, десятки минных полей и одиночных фугасов…
Линия фронта — это труд. Тяжёлый труд тех, кто планирует создание оборонительных рубежей, тех, кто строит укрепления, тех, кто отбивает здесь атаки врага…
С июня месяца мир разделился на «тыл» и на «фронт». «Тыл» был привычен, остойчив, «тылом» было все окружающее: и эти улицы со старыми домами, и тихо текущие воды рек, и загородные поля…
А «фронт» — это было где-то там, далеко на западе. Фронт напоминал о себе постоянно. Забирал мужчин призывных возрастов, лошадей, автомобили, трактора, взамен выплёскивая из санитарных эшелонов сотни раненых и контуженых бойцов, наполняя город и окрестности беженцами, значительная часть которых так и оставалась там, куда хватило сил добраться. Вагонами поглощал оружие, боеприпасы, обмундирование, снаряжение с окружных складов, массу продовольствия — от картофеля с полей и свежезасушенных сухарей с хлебозавода до стад свиней и коров. Напоминанием о фронте пролетали над головой ноющие моторами крылатые машины, с которых все чаще на город сыпался взрывчатый чугун.
И вдруг как-то внезапно понятие «фронт» приблизилось, приобрело выпуклость и ощутимость, из некоего абстрактного «там» превратилось в совершенно ясное и конкретное «здесь». Здесь — это заминированные мосты на шоссе и проселках. Здесь — это дзоты из шпал у железнодорожных насыпей. Здесь — это колючая проволока на полях ближних к городу колхозов, траншеи перед крайними домами города, баррикады поперёк улиц и огневые точки в фундаментах.
Будь это в прежние, довоенные времена, никто бы не поверил, что возможно, пусть и мобилизовав практически семьдесят пять процентов населения (так докладывал Годунову на совещании 6 октября 1941 года привыкший все переводить на суровый язык цифр подполковник Беляев), за несколько дней соорудить систему оборонительных позиций в непосредственной близости к городским окраинам и узлы обороны у прилегающих транспортных развязок и переправ. Причём все эти сотни и тысячи кубометров грунта и бревен, а также реквизированных на железной дороге шпал и рельсов были перемещены главным образом вручную. Ничего не поделаешь: большая часть городского автопарка и строительной техники давным-давно была отмобилизована и сейчас частично несла фронтовую службу где-то далеко отсюда, а частично была брошена, уничтожена или захвачена наступающими гитлеровцами…
Одним из узелков оборонительной системы Орла стал и Стёпкин дом. Даже не столько сам дом, сколько его погреб, старательно расширенный и укрепленный двумя подводами кирпича, благо завод по его производству находился всего метрах в четырёхстах. В кладке были проделаны замаскированные амбразуры для крупнокалиберного пулемёта и стрелков, из того же кирпича соорудили опорные тумбы и приступочки для бойцов. Такие же амбразуры появились и по периметру стен здания, где защитники опорного пункта могли вести наблюдение и огонь из положения «лёжа». Для дополнительной защиты из остатков привезённого соорудили стеночку в один кирпич. Возле дома по участку и поперёк улицы были прокопаны неглубокие траншейки с редкими стрелковыми ячейками: по сути, даже не полноценные траншеи, а так — ходы сообщения.
Дом на пригорке находился на второй линии, в трехстах метрах от передовых окопов и блиндажей, в восьмистах — от небрежно замаскированных ложных позиций, которые, впрочем, уже вовсю обживались полувзводом «истребков». В задачу парней из истреббата входило открыть огонь по наступающему противнику, вызвав тем самым ответный по почти пустому участку. А уж корректировщики, засевшие внутри трубы кирпичного завода, сумеют засечь огневые позиции врага и передать координаты гаубичникам сводного артпульдива.
Идею о создании ложного рубежа выдвинул не кто-нибудь — полковник Катуков.
А подход в течение 6–7 октября частей генерал-майора Лелюшенко стал большой радостью… для Годунова — всё-таки чаянной. Батальон 34-го пограничного полка был сразу же направлен в район кирпичного завода с приказом занять свежесозданные оборонительные укрепления и, используя оставшееся время, дооборудовать их. Сорок танков подошедшей 11-й танковой бригады были стянуты в ударный кулак на случай удара по флангу наступающих гитлеровцев, остальные выдвинулись далеко вперед, навстречу танкам Гудериана, для организации танковых засад на узостях местности.
На краю разросшегося до состояния средней дремучести леса парка «Дворянское гнездо» под маскировочными сетями притаились в капонирах гаубицы времен обороны Мукдена и штурма Перемышля, на прикрытие которых от возможных авиаударов Катуков, скрепя сердце, выделил аж половину зенитно-артиллерийского дивизиона своей бригады. Оставшуюся восьмиорудийную батарею Михаил Ефимович наотрез отказался отдавать в чужие руки, и теперь стволы её орудий стерегли дождливое небо в непосредственной близости от основного ядра 4-го танкового полка. Зубоскалы-маслопупы тут же пустили в оборот грубоватую хохмочку: «Был в бригаде один ЗАД, да порвали на ползадницы». Зенитчики капитана Афанасенко в ответ сердито отругивались.
Позиции на западной и северо-западной окраинах Орла занимали, опять же, бойцы в зелёных фуражках да приданные им противотанковые батареи 45- и 76-миллиметровых пушек.
Мотоциклетный полк командующий оборонительным районом, поколебавшись, выслал под покровом ночи вперед. Комполка майор Танасчишин, плотного телосложения круглолицый малоросс (украинцев Александр Васильевич безошибочно определял по манере говорить по-русски ещё с училищных времен, оставивших весьма неоднозначные воспоминания о некоем капитане второго ранга Оноприенко), произвел впечатление не столько скорого, сколько спорого на дела человека. Вроде бы, Годунов имел все основания считать себя человеком маловпечатлительным, но от смутного воспоминания холодок пробежал по спине: доводилось читать о погибшем при освобождении Украины генерал-лейтенанте Танасчишине… Может, однофамилец? Тем более — генерал… Эх ты, Саня-Саня, голова садовая! Все-то ты категориями мирного времени мыслишь! За два с половиной года войны можно было вырасти в чинах, факт. Да и фамилия — не самая распространенная…
Всё-таки это проклятие, иначе и не скажешь: смотреть на человека и знать его судьбу. Одна надежда — уже в который раз — на то, что последствия «эффекта бабочки» будут благотворными. И в целом, и для этого вот несуетливого, но расторопного украинца.
Затаившись в лесу, находящемся в двадцати с небольшим километрах от окраины Орла, бойцы-мотоциклисты были должны пропустить мимо себя наиболее боеспособные передовые части Гудериана — и обрушиться на вражеские тылы, штабы, подразделения снабжения и ремонта, обозы.
Скелет обороны города с каждым днем все более обрастал плотью, покрывался бронёй танков и ощеривался орудийными стволами. Изматывающая врага тактика «улитки» дала результат — немцы замедлили темп своего наступления, и Годунов с каждым днем укреплялся во мнении: война на орловском направлении окончательно приобрела иной оборот. Тем, кто в известной ему истории буквально с колёс держал рубежи и бросался в контратаки на подступах к Мценску, теперь предстояло прогреметь своей стойкостью на всю Советскую страну в обороне Орла.
Пока все шло очень даже неплохо. Пока…
* * *
Стёпка был занят важным делом. Затащив на чердак старый табурет, сдвинув лист кровли и высунувшись по пояс, он всматривался сквозь пелену в происходящее на дороге. Смотреть было неудобно: приходилось поминутно обтирать лицо. Бинокля мальчишке не дали. Зато дали самое настоящее боевое задание: «докладывать обо всех передвижениях в этом секторе». Так сказал сержант дядя Коля, командующий гарнизоном опорного пункта, что расположился в доме и около него. Стёпка прямо-таки упивался звучанием слов «гарнизон», «опорный пункт», «наблюдательный пункт», «сектор наблюдения», «доклад обстановки». Они звучали как пароль, как тайный сигнал вхождения во взрослую, более того — военную жизнь! Уже при первом знакомстве дядя Коля расставил все по своим местам:
— Так, товарищ Степан Гавриков! Поскольку вы, несмотря на своё несовершеннолетие, от эвакуации из города отказались, следовательно, явочным порядком входите в данный момент вместе с товарищем комбатром в отставке в состав вспомогательных сил нашего гарнизона, — покрутил рыжеватый «будёновский» ус и продолжил все так же значительно. — Потому приказываю: при обстрелах и бомбёжках, а также иных боевых ситуациях немедленно занимать позицию либо в подвальном помещении, либо в отрытой с тыльной части здания щели-укрытии, пережидая огневой контакт, — считая, что одних только слов недостаточно, ткнул пальцем в нужном направлении. — Подчиняться непосредственно мне, а в мое отсутствие — любому красноармейцу гарнизона, находящемуся в непосредственной близости. Обращаться к старшему по званию: мое звание — сержант, ваше звание — пионер.
Далее выяснилось ещё много важного и волнующе интересного:
— В круг ваших обязанностей входит наблюдение за выделенным вам сектором, своевременная доставка воды из колодца или колонок, уборка помещений и помощь в поправке и освежении маскировки.
И куда менее увлекательного:
— Кроме того, за вами остаются прежние обязанности по оказанию всей необходимой помощи вашему деду, товарищу комбатру в отставке Еленьскому и ведению хозяйства.
И:
— Вопросы?
— А винтовку дадите, товарищ сержант? — спросил о самом важном Стёпка.
— По обстоятельствам. Сперва научитесь нести службу без оружия, сдадите положенные нормативы. А вообще личное оружие красноармейцу полагается выдавать после принятия Присяги, товарищ пионер Гавриков. А теперь слушайте боевое задание: наносить воды, наполнив в том числе и установленную в подвальном помещении бочку, приготовить обед из расчёта двух человек и приступить к приему пищи совместно с товарищем комбатром в отставке Еленьским!
Ну что же, дед всегда учил Стёпку, что в армии не только стрелять приходится, но и картошку чистить, и воду таскать, так что…
За два дня, которые пошли с момента, когда промокшие под первым серьёзным дождем этой осени красноармейцы, сгибаясь под тяжестью стали, внесли в калитку зачехлённые брезентом части крупнокалиберного пулемёта, таких приказов пришлось исполнить немало. Днями напролет вертелся Стёпка, как шпулька на «зингере», то по хозяйству, то помогая бойцам. Вечерами же, пристроившись в уголке рядом с отдыхающими бойцами и подперев кулаками голову, внимательно слушал он, как читает сержант дядя Коля вынутую из походного мешка книгу с портретом перед титульным листом: человек в кубанке весело улыбался со страницы. «В те давние-давние году, когда только что отгремела над страною война, жил на свете Мальчиш, по прозванию Кибальчиш, да отец Мальчиша, да старший брат Мальчиша. А матери у них не было…»
Но больше всего Стёпка любил исполнять два приказа: крутить рукоятку снаряжательной штуковины, наблюдая, как здоровенные жёлтые патроны туго входят в чёрные звенья ленты ДШК, и вот так вот, как сейчас, тихонько сидеть на чердаке, вглядываясь в происходящее на шоссе и рядом… только когда дождь, тогда противно… бр-р-р! В предыдущие дни ничего особенного не случалось, не считая, конечно, возни с окопами возле окраины. Так — изредка в сторону, откуда временами доходили отзвуки стрельбы, проезжала грузовая автомашина-другая с установленными в кузове зелёными ящиками боеприпасов, возвращаясь через несколько часов с лежащими на досках ранеными бойцами. Но Стёпка знал — сержант говорил, — что «дальние подступы», на которых сражались передовые части защитников Орла, с каждым приближались.
И вот сегодня на дороге стало оживлённее. Рано утром со стороны темнеющей вдали полоски леска появились мокрые от дождя усталые лошади, понукаемые такими же вымокшими обозниками. Стёпка насчитал два десятка повозок. Половину занимали укрытые шинелями и брезентом раненые, остальные были загружены зелёными ящиками явно военного вида. Часам к девяти на шоссе появились отступающие повзводно бойцы. Усталые, мокрые, охристо-серые от измазавшей шинели глины, они, однако, не создавали впечатления разбитого войска: двигались хоть и тяжёлым шагом, не слишком-то держа равнение, но и не вразброд, не пряча лиц, все с оружием.
И вот теперь, одна за одной, на полной скорости ухитряясь держать дистанцию метров в сто пятьдесят, по шоссе мчались грузовые автомашины с установленными в кузовах такими же крупнокалиберными пулемётами, как тот, что хищно высовывал раструб на стволе из проделанной в погребе амбразуры. Почти доехав до контрольного поста, два задних грузовика затормозили, развернулись, и сидевшие в кузовах бойцы тут же засуетились у своих ДШК. Из окошка кабины одной из передвижных огневых точек высунулась рука с толстоствольным пистолетом, хлопнул выстрел — и к затянутому тучами небу взлетела ракета красного дыма.
Пока Стёпка, напрягая горло криком, докладывал о происходящем на шоссе сидящему внизу у полевого телефона красноармейцу дяде Додику, на дороге снова произошли изменения. На дальнем видимом краю дороги появились силуэты ещё двух грузовиков с пулемётами и грязно-зелёной легковушки-эмки.
Разбрызгивая шинами дождевую воду, машины за треть часа достигли охрящихся глиной, нарочито плохо замаскированных брустверов ложной линии обороны. Не доезжая до траншей, легковушка вдруг вильнула, и, въехав передними колесами в кювет, наполовину перегородила дорогу. Выбравшийся с шофёрского места командир в фуражке с чёрным околышем и ватнике несколько минут возился внутри автомобиля, попеременно взблескивая то клинком ножа, то странным неопознанным инструментом, издалека напомнившим Стёпке плоскогубцы, потом аккуратно, без хлопка, закрыл дверцу и, придерживая кобуру на поясе, побежал к поджидающей его полуторке с пулемётом. Как только он перевалился через задний борт, все четыре остававшихся на дороге грузовика, зарычав моторами, покатили в город, снизив скорость только у временных мостков через пересекающую улицу траншею. Едва грузовики миновали препятствие, дежуривший у мостков дед Коля с Широко-Кузнечной, бывший мастер кирпичного завода (надо же! — удивился Стёпка — ещё вчера еле-еле ходил, а сегодня даже без палки! и работает), на пару с малознакомой худой тёткой, вроде бы, беженкой, мобилизованной несколько дней назад на трудфронт, принялся разбивать многострадальные мостки. Стало ясно, что с юга добрых людей ждать уже не стоит…
В проеме дверцы чердака показалась фигура красноармейца Додика Газаряна:
— Степан-джан, спускайся быстро! Сержант зовет!
Ну вот… Ну прям как в кино, когда истёртая пленка вечно рвется на самом интересном месте и толком досмотреть не получается, как из-за бугра выскакивает красная конница во главе с самим Василием Ивановичем! Однако война есть война, служба есть служба, командир есть командир, даже если он не комдив, как Чапай, а всего лишь сержант. Раз командир зовет — значит нужно приказ исполнять быстро и в точности.
Так что пришлось Стёпке с чердачного «поднебесья» спускаться в подвальную сырость, где командир гарнизона с треугольниками в петлицах, примостившись за притащенным сверху столом буфета, заставленным коробками с пулемётными лентами, уже дописывал последние строчки донесения. Аккуратно его сложив, он запечатал документ в обычный голубоватый конверт с уже готовой фамилией получателя и на обороте начертил крест:
— Вот что, товарищ пионер. Необходимо — разумеется, не распечатывая — доставить этот пакет в областной военкомат. Знаете, где это? — Стёпка энергично закивал. — В военкомате найдете майора Одинцова и передадите пакет ему. Если военного комиссара в расположении военкомата не окажется — передайте пакет старшему по званию. Вот пакет, выполняйте приказание!
— Слушаюсь! — вытянувшись, Стёпка вскинул руку к украшенной пилоточной звёздочкой кепке, и, на ходу засовывая за пазуху конверт, кинулся к подвальной лестнице. Хотелось быстрее исполнить важное военное поручение и вновь вернуться обратно, в свой дом, к ставшим за пару дней такими близкими ребятам из гарнизона… к деду.
Когда он, оскальзываясь в грязи, уже бежал по Широко-Кузнечной к центру, поднявшийся из оборудованной в погребе огневой точки сержант Николай Стафеев, сидя на краю траншеи, устало говорил в трубку полевого телефона:
— …Вы, товарищ майор, пацанёнка-то этого к какому делу приспособьте, не пускайте обратно. Чую я, тут не до него скоро будет, а дурную пулю принимать мальчишке совершенно ни к чему… Спасибо, товарищ майор! Слушаюсь! Есть держаться, не подведем!
* * *
Домой Стёпка так и не добрался. После того как он разыскал в запутанных коридорах военкоматского подвала серого от недосыпа Одинцова, строгого майора с черной повязкой на глазу, тот, не говоря лишнего слова, объявил, что назначает его, Степана Гаврикова, личным порученцем, — «как Петька у Чапаева, цените, товарищ пионер!», — и, быстро выписав справку с круглой печатью, послал сперва в столовую получать паёк, а после — помогать телефонисткам в перебазировании аппаратов, коммутатора и прокладывании проводов из надземной части здания комиссариата в подвальную.
Мальчишка жалел, что сразу не спросил, когда ему возвращаться-то можно. Думал — через час-другой снова увидит военкома. А как же иначе? Тот ведь его порученцем назначил!
Но Одинцов так и не появился до самого вечера, а своевольничать Стёпка не посмел: как-никак он теперь военнослужащий! Вот и пришлось продолжать делать то, что велено, время от времени дергая то одну, то другую телефонистку за рукав: «Тёть, а сколько сейчас времени, а?»
Телефонистки были, как сразу сообразил парнишка, из штатских — выделялись среди мелькавших в здании гимнастерок и редких форменных платьев строгими прямыми юбками и тёмно-синими жакетами с чёрными петлицами Наркомсвязи. Тем не менее, «телефонные барышни» были «на ты» с коммутаторами, реле и всяческими моделями телефонов как гражданского образца, так и армейских. Работа Стёпке досталась хоть и несложная, но важная: присоединение зачищенных медных усиков провода к клеммам и прозвон линии. На третьем часу беготни по подвальным отсекам вслед за носящей катушки тётей Шурой Бастрыкиной, казавшейся ему очень мудрой из-за очков с прямоугольными стёклами — пацан уже изучил все закоулки сводчатых «катакомб», кроме отсеков, охранявшихся вооружёнными часовыми. Обидно, конечно: почему взрослым, таскающим серые и зелёные ящики, молочные бидоны и мешки с поверхности, туда проход был разрешен, а его отгоняли… Слова «стратегические резервы», брошенные мимоходом, ничего ему не говорили.
В девятом часу вечера Стёпка понял, что его майор совсем куда-то запропал. Новоявленный порученец метался в поисках своего «Чапаева» и по кирпичным подземельям, и по обоим этажам военкоматского здания, заглядывая во все незапертые двери, но найти военкома так и не сумел. И как-то враз позабыл, что он боец и всё такое, — рванул к выходу так, как в школе стометровку не бегал. Но был остановлен окриком:
— Стоять! Пионер Гавриков? — молодой смуглый дежурный смотрел на него суровее, чем директор… ну, когда они окно в кабинете «немки» разгрохали.
— Ага, Гавриков, — Стёпка растерялся. — А вы, дядя, откуда знаете?
— А ты что, думаешь, школьники тут табунятся? — дежурный хмыкнул. — Ну так куда торопитесь, товарищ пионер?
— Я, дядя, товарища начальника ищу, Одинцова. Пустите, я у него как порученец!
— Успеется. Во-первых, я не «дядя», а «товарищ сержант», и фамилия моя — Пурцхванидзе. В армии ни дядь, ни теть не полагается, здесь бойцы, командиры и политработники, а также начальствующий и вольнонаемный состав. Уяснили?
Стёпка закивал и попытался прошмыгнуть в дверь мимо красноармейцев, вносящих очередной длинный ящик. Однако ловкий дежурный, перегнувшись через стол, ухватил его за плечо костистой рукой:
— Не торопитесь. Товарищ майор отбыл по важному делу, а вам товарищ Гавриков, приказал быть в распоряжении дежурного по военному комиссариату. То есть в моем. Так что отставить попытки самовольного оставления расположения подразделения! В военное время это расценивается как дезертирство.
Вот так-так! Становиться дезертиром в первый день взаправдашней обороны города пионер Степан Гавриков категорически не желал. Посему пришлось остаться в военкомате. До завтра…
…Покинуть это здание, вернее, его развалины, ему довелось только на двадцатую ночь боев, когда к осаждённым в течение недели защитникам сумел пробиться посыльный с приказом ударить навстречу деблокирующему батальону НКВД. Тогда, оставив у вентиляционных отдушин подвалов нескольких человек прикрытия с ручным пулемётом и трофейными автоматами, разместив носилки с тяжелоранеными в середине группы, они в полном молчании пошли в прорыв. В грохоте непрекращающейся две декады круглосуточной пальбы немцы сперва не услышали громкого топота сапог и ботинок и цоканья каблучков женщин-связисток, которые так и не успели сменить свою синюю форму Наркомсвязи на практичное военное обмундирование. И лишь когда первая эргэдэха, вращаясь, уже летела в забаррикадированное окно дома на углу, оттуда заполошной очередью ударил пулемёт, тут же подержанный прочими огневыми средствами. Но поздно: кроме нескольких отставших, сваленных на асфальт пулями, остальные уже добежали. В оконные проемы летели гранаты и яркие змеи осветительных ракет в упор, вслед за гранатами вскакивали атакующие…
Стёпке же и другим, кто нёс раненых, оставалось стоять, прижавшись к стене, и ждать исхода схватки. Тогда повезло немногим. Из защитников военкомата к своим пробились только семнадцать человек относительно целых, сумевших доставить троих тяжелораненых. А вышли из подвалов пятьдесят два. Человека…
Майора Одинцова Стёпка так больше и не увидал: ни во время боёв за Орёл, ни в партизанах, ни в Суворовском училище, ни после войны, хотя знал, что живёт майор… то есть полковник где-то в Крыму и даже бывает наездами в Орле. Да вот не довелось. Офицерская служба — она такая. Помотало Степана Гаврикова и по стране, и за рубежом. Однако ж среди самых памятных вещей он бережно сохранил дедов кинжал — наградной «аннинский» кортик. Да ещё — четвертушку листа бумаги: «Предъявитель сего… состоит для особых поручений при комиссаре Орловской области. Майор Одинцов». Росчерк казённой чернильной ручкой и расплывшаяся синяя печать. Хранил сперва просто в кармане, а спустя годы — под обложкой комсомольского, а потом и партийного билета. У сердца.
Глава 28
7 октября 1941 года,
Орёл
Если что-то работает качественно, то зачем это «что-то» менять, ища, как говорят русские, добра от добра? Правильно: незачем. Вот если работать перестанет — другой разговор. Тактика наступления Хайнца Гудериана в этой маневренной войне второй год подряд работала вполне сносно и в Полонии, и во Франции, и в Белорутении. Впрочем, после пересечения в июне большевистской границы его «ролики» все чаще пробуксовывали, натыкаясь на необъяснимое для цивилизованного европейца ожесточённое упорство этих сталинских фанатиков. Того ускоренного марша, которым они прокатились по одряхлевшим костям Европы, в России уже не получалось: приходилось напрягать все силы, бросая в бой новые и новые резервы. Однако же несмотря ни на что в первые октябрьские дни немецкие солдаты оказались на подступах к орловскому транспортно-промышленному узлу, откуда в два длинных прыжка — через Тулу — было легче всего достигнуть Москвы. И достигнуть, что крайне желательно, раньше этой свинячьей собаки фон Бока! Молниеносному Хайнцу необходимо поддержать своё реноме, первым въехав на танке в ворота древнего русского Кремля, над самой высокой кирхой которого — ди Гроссе Йохан, кажется? — его мальчики в панцерграу поднимут германский флаг!
Так что сейчас немецкие солдаты действовали согласно привычной тактике, учитывая, правда, что из-за дождей авиаразведка отсутствовала напрочь: парни Геринга прочно сидели на полевых аэродромах, длинными идиоматическими эпитетами поминая низко нависшие тучи, поливающие все вокруг холодным душем.
Сперва по двум шоссе по направлению к городу промчались мотоциклисты разведки. Тут же разрозненным огнём ожили плохо замаскированные окопы, вынесенные большевиками в чистое поле. Что же, немецкие солдаты — умные солдаты, они должны по возможности беречь свои жизни для будущего величия Рейха. Потому, прощупав оборону русских, разведчики, не вступая в перестрелку, попросту развернули стальных скакунов и умчались обратно к лесу, где уже скапливались передовые подразделения.
Германский Хеер в эту войну успел прославиться оперативностью и хорошей взаимной поддержкой родов войск, так что уже сорок минут спустя откуда-то из-за леса с тяжёлым шелестом прилетел первый пристрелочный снаряд артподдержки. Недолет составил более двухсот метров, однако артиллеристы быстро исправились, и следующие разрывы заплясали вокруг плохо замаскированных брустверов русских траншей. Совсем скоро, растянувшись звеньями стальной цепи, от леса двинутся серые танки, за которыми, пригибаясь по въевшейся в подкорку привычке, пойдёт пехота. Метлой из огня и металла будут сметены прячущиеся в осыпающихся окопчиках русские: их беспорядочная стрельба по моторазведке ясно показала, что позицию занимают в самом крайнем случае два-три взвода с легким стрелковым оружием и только одним пулемётом. Впрочем, вон там, за глинистой грядкой, угадываются три… нет, пожалуй, всё-таки четыре плохо замаскированных миномётных ствола. Батарея. Ну что же: дадим ещё одно целеуказание артиллеристам! Немецким солдатам не нужны лишние проблемы: пускай красные миномётчики попляшут между разрывами германских снарядов и собственных детонирующих мин!
* * *
В разрушаемых огнём немецких орудий окопах лежали ребята-ополченцы. Их было не три взвода, и даже не два, а всего три отделения, и единственный «Кнорр-Бремзе LH33» накрыт был под телом убитого пулемётчика и придавлен землёй в осыпавшейся от взрыва «лисьей норе». Нельзя, никак нельзя было посылать в эти траншеи много бойцов: вырытые посреди поля и плохо замаскированные, они словно специально привлекали внимание противника. Ложная позиция. Но и оставлять её пустой также было нельзя: отсутствие даже минимальной советской обороны у окраины стопроцентно вызвало бы настороженность прожжённых немецких командиров. Другое дело — на ложных огневых, где взрывы разносили сейчас в щепы, в труху и бревна «миномётов» с «пушками», и чучела из набитых травой рогожных мешков, одетых в списанные шинели «четвёртого срока» и прелые будёновки.
Спустя двадцать минут орудия смолкли. Кашляя и плюясь от горькой вонищи жжёной пикринки, рыже-чёрные от глины и гари, бойцы принялись выкарабкиваться из осыпавшихся траншей, подбирать оружие, подправлять малыми лопатками брустверы. То тут, то там, подчиняясь заранее полученному приказу, к окраине потянулись раненые, многие — в сопровождении товарищей.
Вероятно, вид хорошо заметных в чистом поле отступающих ополченцев взбодрил притаившихся на опушке гитлеровцев, и вскоре, оставляя за кормой чёрный дым из выхлопных труб, по направлению к разгромленной артиллерией позиции двинулись два танка, сменивших защитную окраску, что принята была в армии капитулировавшей без боя Чехословакии, на серо-сизый панцерфарбе с белой буквой «G» на лобовой броне. За танками, словно вороньи крылья, почти не пригибаясь, быстрым шагом шли пехотинцы. Их было много, даже слишком много против защитников города, сидевших в разрушенных окопах. Роты две прошедших огни и воды ветеранов польской и французской кампаний, сытых, прекрасно обмундированных и вооружённых молодых и сильных мужчин. Чуть сбычившись, чтобы спрятать от яркого солнечного света глаза в тени козырьков штальхельмов, они шли, приминая шипованными сапогами стебли травы, упрямо выпрямляющейся за их спинами. Тела, готовые кинуться наземь при первых же выстрелах, карабины и пулемёты, которые могут в любой миг выплюнуть десятки и сотни пуль в ответ на каждую большевистскую пулю…
Хорошо шли. Но не по-русски. Не как офицеры добровольческих рот в «психической», положив мерцающие остриями граненых штыков винтовки на руку, с папиросочкой в углу рта и последним патроном в патроннике. Не как перекатывающиеся волнами цепи красных стрелков в драных опорках, где «даёшь!» и «ура!» мешалась с «Йогана мать!», и мать этого самого Йогана приводила в дикую панику самых стойких обороняющихся. Нет, они шли по-своему, по-немецки, с истинно германской аккуратностью и отработанным годами казарменно-полигонной муштры автоматизмом. Словно и не люди, а хитро сработанные машины или мифические гомункулы, шли они, чтобы одним ударом сметя жалкие остатки последних не бросивших позиции защитников, ворваться на окраины старинного русского города Орёл, что означает «Der Adler».
Когда наступающие роты оказались в ста — ста двадцати метрах от противотанкового рва, окопы ополченцев ожили редкими вспышками винтовочных выстрелов, выбившими из цепей нескольких пехотинцев. Немцы тут же повалились в траву, уходя от редкого, но тем не менее меткого обстрела. Заметив изменение обстановки, панцерманны одной из бронированных машин остановили танк и принялись водить башней, выцеливая тех, кто набрался дерзости и осмелился противостоять доблестному Хееру. Артиллерийского огня они уже не боялись: и так ясно, что русские пушки недавним обстрелом либо уничтожены, либо приведены в негодность. Иначе большевистские противотанкисты давным-давно открыли бы огонь по приближающимся панцерам, как они раз за разом делали почти в каждой стычке, в которой пришлось участвовать с начала боёв в России. Что же, если их командиров плохо учили в советских артшколах — германские военнослужащие всегда готовы преподать им последний урок!
Вторая «Прага», развернувшись, выползла на брусчатку шоссе, чтобы миновать ров по оставшемуся дефиле. Через полминуты над залегшими пехотинцами, увлечённо стреляющими в направлении траншей большевиков, зазвучали резкие свистки офицеров и фельдфебелей. Поотделенно немцы вскакивали и, низко пригибаясь, кидались вперед. Пробежав тридцать-сорок метров, они вновь плюхались наземь, перекатывались вбок и, стараясь унять дыхание, вновь открывали огонь. А позади точно так же поднимались и неслись со всех ног вперед их камерады. На третьей перебежке первые немецкие солдаты уже прыгали в противотанковый ров, который теперь прикрывал их от меткого огня русских.
Танк остановился, не доезжая до противотанкового рва; командир довольно ухмылялся, наблюдая, как из русских траншей то тут то там выползают последние защитники и кто короткими перебежками, кто ползком, а кто-то и на четвереньках устремляются в бегство.
Впрочем, фельдфебель не заметил последних притаившихся в траншее русских: скуластого младшего сержанта с топориками на довоенных ещё чёрных петлицах, выглядывающих из-под ватника с оборванными пуговицами, и пожилого лейтенанта-«запасника» в успевшей потерять свой первоначальный цвет фуражке, сидящих возле укрытых на дне окопа ящичков с торчащими Т-образными рукоятками. В склеенный из картона примитивный зеркальный перископ лейтенант внимательно наблюдал за действиями германцев, благо находящееся слева-сзади солнце не могло его выдать предательским бликом «зайчика». И как только второй чешско-немецкий танк, двигавшийся по шоссе, поравнялся с уткнувшейся в кювет «эмкой», командир резко крикнул укрывшемуся на дне окопа сержанту:
— Равиль, третий! Давай!
Равиль Забиуллин резко вдавил рычаг в корпус подрывной машинки, контакты соединились, замыкая электрическую цепь, пролетел по проводам ток, торкнувшись в металлическую «пробку» детонатора, пыхнул микровзрыв, от которого тут же сдетонировал основной заряд, заботливо заложенный в легковушке. Триста килограммов мелинита сработали так, как им полагалось. От продукции Горьковского автомобильного завода мало что осталось, но и находившийся рядом танк попросту отлетел, перевернувшись на бок…
Как только с неба перестали сыпаться ошметки металла, земля и обломки булыжников, в окопе вновь раздалась команда:
— Давай первый!
Вновь вдавился Т-образный рычаг — теперь на другой подрывной машинке. И опять раздался грохот, но красноармейцы-мотострелки в замаскированных и до сих пор не обнаруженных окопах у окраины не смогли увидеть такого же великолепного куста разрыва, как в первый раз. Скрытый в глинистой стенке фугас направленного взрыва мгновенно выплюнул не только огонь, дым, ударную волну, но и десятки граненых гаек, которые промчались вдоль рва в тридцати-сорока сантиметрах над его дном, круша и калеча укрывшихся там гитлеровцев. Грохот взрыва смешался с воплями ужаса и боли.
— Ну что же… Пора сворачиваться, с левого фланга эти гады явно идти не собираются. Младший сержант Забиуллин! Взрывмашинки от клемм отсоединить, берём с собой. Неиспользованную — замаскировать землёй, возможно, третий фугас ещё понадобится. Остальные берём с собой, отходим сперва по ходу сообщения, потом — рывком вправо до кювета. Да смотри, аккуратнее: там на дне нажимные мины «рыбацкая радость» установлены. Ну, с богом, пошли!
Пробежали, где согнувшись, а где на четвереньках, по осыпающейся борозде хода сообщения, один за другим выметнулись на поверхность, пригибаясь и петляя, затопали толстыми подошвами через рыхлое поле. Гаубичные дула с грохотом вбросили языки дымного пламени. Полыхнуло поле огнём снарядных разрывов. Два залпа тяжёлых дивизионов. Два советских солдата. Не добежали…
Из рва, мешая стаккато шипованных сапог с трелями свистков и бренчанием амуниции, рванулись вперед, к оставленным русским траншеям уцелевшие пехотинцы. Много. Роты полторы, даже больше. Полторы стометровки преодолеть стремительным броском — нетрудная задача для солдат фюрера. Ввалиться в траншею, перегруппироваться повзводно и быстро преодолеть оставшиеся четыре сотни метров до крайних домиков с зелёными ставнями…
Но бежит по телефонным проводам электроток, несёт краткие выкрики корректировщика через полгорода, за Оку. Там давно настороженно задрали стволы внутри стен бутафорских домиков маскировки старые добрые Шнейдер-Крезо. В откопанных поблизости ровиках — открытые зелёные ящики: тускло желтеют выстрелы и снаряды раздельного заряжания.
Всем этим заведует пожилой военный в старорежимном кителе без погон. И с солидной седоватой бородой временно сложивший священнический сан отец Иоанн расставаться не пожелал.
Прозвучал в хриплой трубке голос корректировщика, карандашный грифель, острый, словно шило, черканул по карточке стрельбы и по зелёному пятну леса на топографической карте, перекликами от КП к орудиям заметалась команда командира дивизиона… Один за другим залязгали тяжёлые клинья замков, надёжно запирая внутри орудийных тел щедрое русское угощение для непрошенных гостей. Наводчики судорожно закрутили маховички, изменяя положение стволов в соответствии с заранее просчитанными траекториями, и спустя минуту мостовая в центре старинного города, построенного некогда как преграда на пути вражьей силищи, затряслась, принимая отдачу гаубичных выстрелов. «Один… два… тр…» — первые снаряды рухнули с небес карающими молниями на скапливающиеся на лесной опушке немецкие резервы. «Четыре, пять…» — на наводящих орднунг у орудийных двориков канониров «шверфельдхаубиц», только что храбро разменявших несколько центнеров рурского чугуна на жизни двоих досадивших доблестному Хееру большевиков. Что же, в России не принято долго оставаться в долгу… На сей раз не рурские — русские снаряды принялись крошить мясной фарш и корежить сталь тех самых орудий, которые лишь несколько дней назад безнаказанно изничтожали упорно огрызающийся самодельный БеПо, а сейчас собирались засыпать гремучей смертью город, чье имя тот бронепоезд недолго, но честно носил.
А немецкая пехота… А что пехота? Лежит пехота. Бежит пехота. Изорвали, скомкали, швырнули наземь, откинули случайно уцелевших назад, в спасительный ров бешеные очереди сердитых «швейных машинок» Дегтярева-Шпитального! Ударили металлическими росчерками пулемёты из кузовов притаившихся за разобранным мостиком грузовиков, и тут же, подчиняясь команде, шофёры один за другим направили свои передвижные огневые точки в сторону перекрёстка улиц, чтобы уйти от возможного ответного огня и поскорее занять позицию на новом месте.
* * *
Годунов сидит в печке.
Не Бабой-Ягой на лопату посаженный пропекается, не баней бедняцкой прогревается и уж тем более не через крематорий тела бренного лишается, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить!
Сидит самозваный старший майор госбезопасности и официально назначенный руководитель обороны Орла и окрестностей в остывшей печи кирпичного завода, на своем ЗКП, командует боем.
Верхушку трубы венчает громоотвод, к которому в дни пролетарских праздников крепился алый флаг. Теперь же он наскоро приспособлен к несению службы радиоантенны. Орловские умельцы-радиолюбители братья Михаил и Пётр Пальчиковы и два Александра — Филимошкин с Бредихиным, мобилизованные по ведомству НКВД ещё летом, всё-таки исхитрились, работая безвылазно, подобно сотоварищам тульского Левши, совершить дело гораздо более важное, чем подковывание блохи. За те несколько суток, на которые защитникам оборонительного района удалось задержать Гудериана в отдалении от областного центра, мастера исхитрились изваять аж двадцать две носимые приемо-передающие радиостанции, приспособленные для голосовой связи. А куда деваться? К сентябрю месяцу года 1941-го окружные армейские склады на предмет средств связи оказались выметены подчистую, как бедняцкий амбар в голодные годы.
Кроме полудюжины эриксоновских полевых телефонов — таких точно, как в фильме «Мы из Кронштадта», — там отыскалось лишь одно чудо техники времен царя Николашки. Это недоразумение, именуемое радиостанцией исключительно в целях дезинформации вражеских шпионов, размещалось на двух рассохшихся повозках-двуколках с окованными железными шинами колесами и было способно вещать при хорошей погоде и с вершины горы аж на десяток верст. Новые же рации, хоть и слабосильные, тем не менее были гораздо компактнее: каждая умещалась в наскоро приспособленном к переноске за плечами «командирском» фибровом чемоданчике. Изрядный запас этих чемоданов был найден все в том же военторге. Теперь эти носимые радиостанции, как то самое чеховское «ружье на стене», сыграли свою роль — роль основного средства связи. Как только Александр Годунов углядел сквозь оптику, что отброшенные огнём ДШК немецкие пехотинцы откатились в тот же противотанковый ров, из которого выскочили в атаку, он повернулся к примостившемуся рядом на дощатом настиле радисту:
— Передай «Граду»: один залп эрэс по цели пять, пятнадцать снарядов!
Спустя полминуты в небе завыли-зашелестели полтора десятка запущенных с гофрированных направляющих восьмидесятипятисантиметровых «стрел» авиационных ракет. Едва они достигли заранее рассчитанного рубежа, как по обеим сторонам от рва и в нём самом оранжево-красно расцвели букеты грохочущих астр-разрывов.
— Ну вот, совсем хорошо, — улыбнулся командующий. — А теперь, парень, дай-ка мне Игнатова. Добро… Николай? Слушай, врубай свою агитацию на полную мощность. Немцы у шоссе уже с нами поздоровкались, сидят во рву, юшку утирают. Порадуй-ка гансюков песней и добрым словом. Что значит «каким»? Ясное дело: хенде хох, Гитлер — капут и так далее. Если сейчас не проймёт, авось к ночи дозреют… Им сейчас из того рва, как в «Волге-Волге» пелось, и ни туды и ни сюды…
Спустя ещё пару минут сидящие в противотанковом рву и окапывающиеся на опушке гитлеровцы, да и укрывшиеся в траншеях и огневых пунктах близ кирпичного завода защитники города услышали бесплатный концерт: политрук Горохов запустил свою агитмашину, и над окраиной зазвучал сильный женский голос:
Es dröhnt durch die Welt, ihr herrisches Geschrei. Auf ihren Spuren ist Brand und Tod…И сразу же — по-русски, напоминая о пролетарском единстве тем из завоевателей, кто способен был вспомнить:
Солдат немецкий, себе не лги, Не то падешь у реки Оки. Преступник правит страной твоей, Ты кровь и пот за него не лей. Тебе убийца кричит: «Вперед!» Но есть Отчизна и твой народ. И ты рабочим — не враг, а брат. Ты за свободу борись, солдат……На булыжниках Кромского шоссе раздавленной лягушкой валялся на боку серый танк с буквой «G» на лобовой броне… Тот самый танк, который в знакомой Годунову истории первым въехал на улицы Орла, пересекая маршрут красного трамвайчика.
Так начались семидесятидневные бои на окраинах Орла.
Глава 29
7–8 октября 1941 года,
Орёл
Вся ночь и утро первого дня обороны в доме близ кирпичного завода прошли относительно тихо. Умывшиеся собственной кровью немцы по обыкновению решили не биться лбом о пули обороняющихся, а, совершив обходной маневр, войти в город с фланга. Сидящие в укрепленном подвале и траншейках бойцы заслона, разумеется, не знали, что в той истории, которую помнил в Орле лишь один-единственный «старший майор госбезопасности» в город немецкие солдаты ворваться с этого направления тоже не сумели, завязнув в бою с советскими десантниками и малочисленными чекистами. Гитлеровцы, воспользовавшись абсолютным отсутствием у защитников резервов для манёвра, вошли с противоположной стороны, которую в просторечии до сих пор по старинке именуют Семинаркой. И потом будут именовать, хотя в здании семинарии предстоит учиться не священнослужителям, а железнодорожникам. Танки Гудериана двигались по тем улицам, которые некем было прикрыть, и бойцам, дравшимся весь день на юго-восточной окраине города, пришлось с боями отступать, теряя товарищей, чтобы потом принять бой близ Мценска.
И хорошо, что ничего этого защитники города не знали. Ибо сейчас картина была уже совсем иной. Первый бой на окраине Орла красноармейцам пришлось принимать не в кое-как отрытых окопах, а на достаточно приемлемо оборудованной позиции, и не с одними винтовками и малым количеством гранат, а имея поддержку тяжёлыми пулемётами и артиллерией, да ещё и с заминированным худо-бедно предпольем. А на Семинарке и в Лужках, на месте былого флангового удара гитлеровцев, решившего судьбу Орла, уже находились советские заслоны и, что самое важное, — изготовившиеся в засаде два танковых батальона 11-й бригады.
Великая вещь — время на войне. Кто теряет его — тот теряет всё!
В прежней истории время сыграло на руку Гудериану, позволив захватить крупнейший орловский узел до подхода спешно формирующихся и перебрасывающихся советских соединений. Орёл и окрестности на долгие два года стали ближним тылом Вермахта, позволяя немцам спокойно снабжаться и маневрировать силами на Центральном участке фронта. Сейчас, вопреки сомнениям Годунова, всё выглядело с точностью до наоборот.
Поэтому, когда германский батальон, напоровшись на огонь окопавшихся бойцов под командой батальонного комиссара Столярчука, принялся разворачиваться в боевой порядок, танкисты ударили немцам в тыл.
Как они шли! Как шли! Как в незабвенном фильме, броневые громадины, дав пару залпов с места, подминая под днище свеженарубленные кусты маскировки, «гремя огнём, сверкая блеском стали», оставляя за собой шлейфы сизого дыма выхлопных труб, яростно рванулись, разменивая минуты на метры, татакая пулемётами по разбегающимся от нежданного стального ужаса гренадирам, налётая бронёй на БТРы и сминая автомобили и мотоциклы. Пройдя наискосок по вражеской колонне, танки двинулись в обратном направлении, нагоняя тройку германских машин, сумевшую развернуться прямо в поле и кинуться врассыпную. Среди разгромленной колонны осталась стоять, грозно поводя башенной пушкой, лишь одна «тридцатьчетверка»: когда она таранила кюбельваген, лопнул палец, крепящий траки, и повреждённая гусеница сползла, разув танк.
Тем не менее недоброй половине гитлеровцев удалось избежать гибели. Лишившаяся транспорта и тяжёлого вооружения мотопехота сумела зацепиться за склон ближнего оврага и начать лихорадочно зарываться в землю. А как иначе? Дойче зольдатен — гутен зольдатен! На поле скоротечного боя остались лежать и сидеть только раненые и убитые вперемежку с пылающим и раздавленным металлом… Разные по возрасту и профессии, все они покинули свои семьи под Лейпцигом или Мекленбургом, мечтая прогуляться по московским площадям и паркам, получить после победы над большевиками в вечное владение по три десятка гектаров плодородной русской земли — и вдруг оказались низринутыми в липкую грязь Орловщины: кто до момента, когда услышит от солдата в серой шинели и круглой каске повелительное «Хенде хох!», а кто и насовсем. Уйдёт в эту грязь, став удобрением для грядущих хлебов, — и всё. Ну что же… Их сюда не звали. И пришли они не с добром.
Всего этого гарнизон сержанта Стафеева тоже не знал. В подвале после окончания боя красноармейцы навели порядок, проветрив его от пороховых газов и собрав стреляные гильзы от ДШК и ДП в пустые ящики, стоящие в углу. Порожние ленты и диски вновь были набиты патронами под завязку, на телефонный доклад об обстановке получен приказ «продолжать наблюдение за противником и уничтожение живой силы». Красноармеец Газарян заменил Стёпку на чердачном НП, откуда прекрасно просматривались оставленные ложные позиции и занятый недобитыми немцами противотанковый ров. Впрочем, самих немцев увидеть было сложно: грамотный командир заставил гренадиров оборудовать в стенке рва стрелковые ячейки и укрытия, так что достать гансов пулей с чердака стало сложновато. Да и не стал бы Додик этого делать. Бывший бакинский мясник давно привык к виду крови… не только бычьей, но зачем же без нужды раскрывать НП? Снизу-то обзор не в пример хуже…
Прошедшим днем Коля Стафеев был доволен. А чего ж недовольным-то быть? Враг остановлен, потерь в личном составе вверенного отделения нет — даже не царапнуло никого. Основную огневую позицию, похоже, немцы не засекли: били-то сперва по ложным траншеям, где сидело слабенькое прикрытие, а после — по траншейкам на склоне, занятым ополченческим взводом. Вот этим ребятам действительно не повезло: после того как стихла стрельба, оттуда проволокли через палисадник шестерых раненых, оставив под стеной сарайчика рядок из трёх накрытых шинелями недвижных тел. После, уже в темноте, с той стороны слышны были скрежет лопат и чавканье отлипающей грязи. Оно и правильно: ополченцы, небось, все местные. Когда отгоним гансов от города, родичи придут, перезахоронят на кладбище, как полагается. А пока — хоть так.
Ночное спокойствие прерывалось резкими винтовочными хлопками да дежурным лаем немецких пулемётов. Напоминание: теперь здесь не просто окраина, теперь здесь — передний край.
Свободная от боевого дежурства смена, несмотря на отдалённые звуки пальбы, расположилась в горнице. Кому-то повезло занять койку и топчан, а кто-то спал, подстелив под себя одеяла из старого приданого покойной дочери хозяина и накрывшись шинелью. Сам Степан Ксаверьевич также почивал, беспокойно скрипя во сне панцирной сеткой железной кровати.
Раннее утро 8 октября в окраинном доме на Широко-Кузнечной началось с музыки. Не как в мирные времена, когда в жилищах горожан по всему Советскому Союзу звучали куранты и раздавались величественные звуки «Интернационала». Впрочем, репродуктора в этом доме сроду не водилось: новости узнавались из читаемых вслух домашними газет, а музыку хозяин предпочитал слушать под настроение и не ту, которую передавали по радио. Так и теперь: проснувшись и с привычной осторожностью пройдя давно исхоженный путь до умывальной комнаты, на обратном пути Степан Ксаверьевич расшуровал керогаз и, поставив полный чайник, уселся за кухонным столом, в углу, образованном стеной кухни и белёной печью. Ещё со вчерашнего дня на столе стоял граммофон. Из нескольких лежащих рядом пластинок в заковыристо изрезанных с краю конвертах старик аккуратно выбрал одну и, опустив её на кружащийся диск, легонько поставил на краешек иглу никелированного звукоснимателя.
В темной кухоньке запела печально скрипка, а вслед за ней зазвучали пронзительно-искренние слова песни о далекой-далекой земле и о прежней войне:
Трансвааль, Трансвааль, страна моя — Ты вся горишь в огне! Под деревом развесистым Задумчив бур сидел: Огонь любви и мести в душе его горел…Отдыхавшие в доме пехотинцы проснулись, суетливо повскакивали, торопливо приводя себя в порядок, как следует быть бойцам Красной Армии.
Из погреба, опершись на откинутую ляду, в горницу выпрыгнул сержант, раздавая команды: кому сменить наблюдателя на НП, кому — товарищей у пулемётов, которым тоже необходимо чуток отдохнуть, пока немцы не попёрли в наступление, кому — готовить завтрак, кому — занять стрелковые ячейки в траншее.
Спрашивается: с чего бы нарушать налаженный быт? Война? Ну так и что с того? Тем важнее для бойцов эти минуты, когда к армейскому порядку добавляется немножко домашнего уюта.
После торопливого завтрака (пока немцы глаза не продрали да вновь не принялись за свои пакости) жизнь в домике продолжилась своим чередом: кто-то отдыхал, кто-то бдил на боевом посту. И только дед Еленьский все подкручивал рукоятку граммофона, и в воздухе все звучала и звучала гордая печаль:
Да, час настал, тяжёлый час Для Родины моей. Молитесь, женщины, за нас, За ваших сыновей……Боом!!! Боом!!! Боом!!! Боом!!! — четырежды подряд прогрохотали артиллерийские разрывы. Гитлеровцы явно не теряли даром времени: пользуясь длинной осенней ночью, они пригнали откуда-то новые орудия, и теперь их артиллерия решила проорать на всю округу «Guten Morgen!». Практически одновременно звуки канонады раздались вдалеке, со стороны станции Семинарская: с пресловутым тевтонским упорством германцы решили сбить советские заслоны и занять узел Орёл-Товарная, под корень подсекая желдорветку на Брянск. Судя по грохоту, с той стороны Гудериан создал гораздо более увесистый кулак, на огонь которого уже отвечали русские орудия, стремящиеся снизить эффект вражеской артподготовки навязыванием артиллерийской дуэли.
Ну что же, линия фронта, как правило, подобна елочной гирлянде: огонь попеременно вспыхивает и гаснет в разных местах, пока электрическим пунктиром не пробежит вдоль всего провода. Вчера там было тихо, сегодня разгорается бой, а что будет завтра — не знает никто: ни боец в окопе, ни его командир, ни даже сам товарищ Сталин, которому должно быть ведомо все на Руси происходящее.
Германские орудия громыхали на разные голоса: бодро кашляли полковые пушки с замаскированных позиций на опушке дальнего леска, солидно грохало счетверёнными залпами что-то крупнокалиберное. Тяжёлые снаряды с шелестом пролетали поверху, устремляясь к центральной части города, те, что попроще, методично месили землю как на оставленных вчера ложных позициях, так и совсем рядом, возле траншеи пехотного прикрытия. Что же, разумная предосторожность со стороны германских командиров: в темноте красноармейцы вполне могли вновь вернуться в передовую траншею и опять устроить неприятности наступающим…
Сынов всех девять у меня, Троих уж нет в живых, Но за свободу борются Шесть юных остальных!..Артиллерийская побудка не застала маленький гарнизон врасплох. Торопливо перепоясываясь на ходу ремнями, увешанными подсумками, флягой, лопаткой, сумкой для провизии, подхватывая одной рукой оружие, а второй вскидывая на плечо вещевые мешки, красноармейцы отдыхающей смены споро разбежались по боевым постам, где их товарищи уже пристально наблюдали: не движутся ли по полю враги?
Но вот, похоже, немцы всё-таки нащупали настоящую линию обороны. Один за другим грязевые кусты разрывов стали вздыматься по линии занятой орловскими ополченцами траншеи. Вот какой-то особо меткий снаряд ударил в прикрытые брезентом от дождя и грязи гранатные ящики на пункте боепитания. От детонации они принялись рваться, расшвыривая осколки и куски досок во все стороны. Один из обломков, вращаясь, с силой ударил в основание затылка прячущегося от обстрела у окопной стенки часового, что охранял боеприпасы, а следующий снаряд, врезавшись в бруствер, вызвал маленький оползень. Влажная земля укрыла ещё теплое тело в колючей шинели.
А старший сын, старик седой, Убит уж на войне Он без молитвы, без креста Зарыт в сырой земле……Пруссаки — всем известные аккуратисты, помешанные на муштре. Поэтому всегда можно отличить залповый огонь германских батарей от русской россыпи «беглым». Раз за разом они бьют размерено и неотвратимо, снаряды ложатся, согласно предварительным расчётам. Бывалый фронтовик, застигнутый на открытом месте артналетом, всегда пользуется этой особенностью немецких артиллеристов, успевая между двумя залпами вскочить и броском перебежать на десяток-полтора метров. Немало отчаюг таким образом сумели сберечь свои головы, добравшись до укрытий. Но если ты сидишь внутри огневой точки, пусть даже она и считается весьма надёжной, однако ж бежать куда-то не получится при всем желании, то этот размеренный грохот, от которого содрогается пол и ходят ходуном стены, страшно действует на нервы.
Раз за разом взлетают к небу фонтаны грязи вперемежку с огненно-железными сгустками, все ближе и ближе. Вот взрывы затанцевали по брустверам траншей, по палисадникам окраинных домов, ворвались во дворы… Сдвоенный удар по краю крыши и по крыльцу: разлетается щепа, хриплым «хеканьем» отзывается раненый старый дом, но стоит, как много переживший пожилой мужик стоит в нежданной драке.
И резко — тишь. Как отрубили. Вдалеке артиллеристы суетятся у орудий, с немецким аккуратизмом собирая стреляные гильзы и складывая их в пустые укупорки, а прямо перед глазами перебегают в одиночку и группами пехотинцы. Две секунды тишины — и вновь залаяли немецкие пулемёты, из обрушенной траншеи им заполошно ответили винтовочные хлёсты, зататакал пехотный дегтярь из амбразуры…
А чёрный круг пластинки все так же вращался и вращался:
И младший сын — тринадцать лет Просился на войну Сказал я твердо: «Нет и нет! Малютку не возьму!» Но он сурово отвечал: «Отец, пойду и я! Пускай я слаб, пускай я мал — Тверда рука моя!» И я сыночка своего Обнял, поцеловал И в тот же час с молитвою Пошли на вражий стан…Николай стоит, чуть согнувшись, за пулемётом. Пальцы уверенно охватывают рукояти ДШК, губы чуть шевелятся, подсчитывая расстояние. Вот немцы миновали ров, вот преодолели тридцать метров, сорок, сорок пять — теперь им негде укрыться, да они и не собираются: рвутся вперед, уже готовя гранаты к броску…
ДЫК-ДЫК-ДЫК-ДЫК-ДЫК-ДЫК-ДЫК-ДЫК-ДЫК!..
Грохот очереди перекрыл все остальные звуки в подвале.
Тяжёлая машина ДШК, трудно водить им, перенося огонь с одной группки захватчиков на другую. Бьется стальное тело, рвутся из ладоней рубчатые рукояти, пляшет перед глазами огненный сноп за дульным срезом, мешая наблюдать за подступами. Ну так чего ж ты хотел, сержант? Обещал, присягая, стойко переносить трудности — вот и переноси. Зато те, в зелёных шинелях, обляпанных грязью, и матово блестящих от дождя касках, попав под жгучие струи очередей, уже навряд ли что перенесут и мало кто из них вернётся в Германию, чтобы с ужасом в бесцветно-рыбьих глазах рассказывать внукам о страшных русских пулемётах, одной пулей отрывающих руку у впереди идущего и голову у заднего гренадира…
Ну, да где были их головы, когда они, радостно вопили «Хайль!», слушая приказ фюрера о переходе границы Советского Союза? Да и руки, сноровисто шарившие по сундукам деревенских хат и потрошившие узлы, отобранные у охваченных ступором беженок, сержанту Стафееву совершенно не жаль. Пусть остаются в орловской земле: авось, рожь уродится колосистая на таких удобрениях.
А наверху, неслышима за грохотом боя, все крутится и крутится черная пластинка.
Однажды при сражении Отбит был наш обоз: Малютка на позицию Ползком патрон принес. И он под вражеским огнём Дошел до наших рот Но в спину выстрелил ему Предатель-готтентот…Нет, что ни говори, а германцы вояки серьёзные. Поплюхались в грязь гренадиры, засверкали мокрыми лопатками, прячась в землю, как кроты. Закрутили верньеры наводки фейерверкеры, внося поправки в прицел по новым данным корректировщика, углядевшего, наконец, откуда бьют русские пулемёты, с лязгом закрылись замки готовых к залпу орудий…
И вновь — залп за залпом — чугун и огонь обрушились на окраину города.
Да, час настал, тяжёлый час для Родины моей. Молитесь, женщины, за нас, За ваших сыновей!..Тяжёлый снаряд с гулом влетел в кухонное окно, со всей своей крупповской дури вломился в печную стенку. Огонь, взрыв, грохот…
Разжались пальцы старого слепца… Выпал и покатился по полу рубчатый корпус английской гранаты…
А внизу, у подвальной амбразуры, все также стояли у пулемёта сержант Красной Армии Колька Стафеев и его товарищи.
— Но пасаран, с-суки!
Глава 30
8 октября 1941 года,
рабочий поселок Нарышкино
На окраине Нарышкино за сложенным из списанных шпал сарайчиком расположилось боевое охранение: шестеро бойцов и мотоцикл производства таганрогского завода, с креплением для пулемёта на вилке руля. Сам пулемёт ДП в поросшей сухим бурьяном канавке хищно принюхивался раструбом пламегасителя к ведущей на юг дороге. Немногим левее чадили дымной горечью раскуроченные германские панцеры, возле одного из которых копошились фигурки русских танкистов. Приказ поставить максимальное число единиц трофейной техники на ход соблюдался неукоснительно. Отброшенные внезапным танковым ударом гитлеровцы откатились на полтора километра, закрепившись на высотке, но оставили на поле боя много своих убитых и раненых. Немецкую калечь, ясное дело, позабирали в плен, наскоро перевязали и собрали в пристанционном пакгаузе. Валяющиеся же тут и там трупы уже освободили от оружия, боеприпасов, энзе, а кое-кого — и от сапог.
В нарушение всех уставов бойцы охранения негромко переговаривались «за жизнь», дымили самокрутками и трубкой. Ни тебе стрельбы, ни тебе начальства рядом, только капли дождя шуршат по траве, стекают с касок, пропитывают плащ-палатки и танкошлемы… Нечасто на переднем крае случается эдакая благодать…
Гр-рах! Тах-тах-тах-тах-тах! Так! Так! Тах-тах-тах!
Взрыв и суматошная пальба прервали фронтовую идиллию.
По раскисшему проселку, разбрызгивая веера грязи и вихляясь от обочине к обочине, шустро катил трехосный крупповский грузовик-тягач. В открытой кабине, пригибаясь к рулю так, чтобы над бортом кузова торчал как можно меньший фрагмент штальхельма, виднелся водитель в промокшей почти дочерна шинели. Судя по всему, ему категорически не хотелось останавливаться для объяснений со своими сослуживцами, которые лихорадочно посылали пули в сторону удирающей машины. Когда Kfz-69 преодолел почти половину расстояния до окраины, откуда-то выскочила пара немецких мотоциклов и устремилась в погоню за машиной-беглянкой.
Красноармейцы споро залегли и изготовились к стрельбе. Возившиеся у подбитого панцера танкисты также исчезли в мокрой траве, лишь один, стоявший за башней, словно гимнаст, нырнул в отдраенный люк.
Метрах в ста сорока от сарайчика беглый фахрер, выдернув из-за пазухи шинели некогда белое кашне, вскинул руку с импровизированным флагом капитулянта, но грузовик тут же рыскнул, чуть не сорвавшись передним колесом в неглубокий кювет, и немец вновь судорожно вцепился в руль.
Кто отдал команду «Огонь!» и отдал ли её кто-либо — неизвестно. Но забился стальным телом «дегтярь», забухали винтовки. Один из мотоциклов погони, скользя и заваливаясь в грязи, развернулся, стремясь умчаться обратно. Второй же, с пробитым очередью бензобаком, грохнулся поперёк дороги, всем своим весом вдавливая в русскую колею труп своего седока.
Грузовик на максимально возможной скорости обогнул пересекающую дорогу канавку и резко остановился позади сарая. Шофёр выпрыгнул, сжимая в руке винтовку и кинулся было прочь от машины. Но тут же, остановившись, выпрямился, отбросил оружие, с ожесточением содрал с русой шевелюры штальхельм и остался стоять с поднятыми руками, судорожно сжимая в левой грязное кашне.
— Die Kameraden! Schiessen Sie bitte nicht! Ich möchte, sich zu ergeben. Ich bin Arbeiter, kein Nazi! Kameraden! Ich der ehrliche Soldat, mich nicht der Deutsche, der Serbe! Ich nicht der Nazi! Nazis sind Schufte, keine ehrliche Soldaten. Sie töten Zivilisten, Frauen und Kinder! Ich habe das gesehen in Kromi! Ich bin Serbe, kein Deutscher. Ich heisse Handri Nawka! Ich bin mobilisiert, habe aber kein Wunsch, fuer Deutsche kampfen! Die Serben sollen zusammen mit den Russen gegen die Nazis kampfen[4].
— Вот-вот, насчёт руки в гору — это ты, ганс, правильно придумал. Тут дергаться не надо, тут народ нервенный и категорически бдительный…
Младший сержант, подойдя к перебежчику, чуть повозившись, расстегнул и уронил на землю чёрный ремень с обвесом и принялся деловито охлопывать карманы то ли немца, то ли серба. Бойцы, за исключением продолжающего наблюдение пулемётчика, столпились рядом: понятное дело, пленного немца встретишь нечасто, а такой, чтобы сам собой в плен прикатил, — и вовсе редкий экземпляр. А на редкость как не поглазеть? Ребята все молодые, живых врагов вблизи не видавшие.
— Ich nicht Hans! Mein Name Handry, Handry Nawka![5]
— Ну, нихт ганс так нихт ганс, — покладисто ответил сержант, не прерывая своего занятия. — Все одно: чудно. Вот сдался бы ты под Кёнигсбергом или, там, Бременом, когда мы наступать начнем, — это я бы понял. А чтоб под Орлом, да по своей воле…
— Na swom wole, tako e, drugar! Ja nisam ja sam pohsten srbin! U kamionu su kutije sa bombama. Uzeti[6].
— Гм… Почтенный сербин, говоришь? А с виду — ганс гансом. Володьк, глянь-ко в машину. Чё там у него за бомбы? А ты, — сержант, усмехнувшись, обратился к сербу, — руки-то опусти. Нечего небо поддерживать, не упадет. Хенде нихт, говорю. Нидер, ясно?
Из открытого грузовичка выпрыгнул боец с торчащими из-под ремня новехонькими немецкими гранатами-колотушками. Ещё пара длинных рукояток высовывалась из-за пазухи.
— Там гранат до хренища! Ящиков под тридцать будет, если не тридцать пять. Несколько пулями пробило, но, видать, во взрывак не попало.
— Tak, su kutije sa bombama! Ja srbin, ja nie pucao, vozio kamion. Jag a doveo do vas, ubiti nemce[7]!
— Убить немцев — это правильно. Воздух чище будет. Так что за подарок — благодарствуем. Пригодится. Но вот тебе тут делать нечего: не ровён час — прибьют. Потому вот что сделаем… Володьк, ну-ка, сади парня в коляску да мухой в штаб. Сдашь там под расписку, всё, как есть, доложишь — и живой ногой в обрат.
В то время как перебежчик с мотоциклистом уселись на ТИЗ-АМ и в клубах сизого дыма с треском укатили в тыл, сержант подобрал брошенную винтовку, клацнув затвором, выбросил тускло-желтое тельце патрона, который тут же и подобрал, обтерев о рукав:
— Ну что ж, парни! А мы, пока есть возможность, попользуемся богом данными боеприпасами! Будем встречать немчуру, если полезут, ихими же гранатами. Вытаскивай, да разбирай!
Глава 31
8 октября 1941 года,
Орёл
Тоска зеленей зелёного. Зеленей, чем ряска в пруду. Стоячая вода воняет противно, тиной и дохлой рыбой. Маринка и жареную-то не ахти как жаловала, даже когда привередничать не приходилось, а тут…
Тут — муторно. От стен от этих вот зелёных разит нестерпимо. Вроде хлоркой, но куда как тошнотворней, аж в горле саднит, будто огнём опалило.
Маринка не без труда — откуда-то из нутра вверх ползет мерзкий колючий ком — нашаривает взглядом стакан. Вода чистая-чистая… ну да, Лида только после обхода принесла, — а всё равно провоняла мерзейшей зеленью. А в книжках, куда ни глянь, пишут: дескать, зелёный — цвет жизни и всё такое прочее. И в песне, вон: «Все стало вокруг голубым и зелёным»… в хорошей песне, про любовь…
В окне — кусок неба, не голубого, не синего, не чёрного, а коричневато-серого, как плохо выполосканная половая тряпка, звезды прилипли соринками. Раз есть звезды, значит — погода. Значит, девочки сегодня опять полетят. А все ли вернутся?
Маринка чувствует, как против её воли жалостно кривятся губы. И закрывает глаза, крепко-крепко, — авось слезы удержатся, не прольются. Не реветь — невмочь. А реветь — стыдно. И вообще стыдно. Перед девочками, кому сегодня лететь. И товарищами, которых уже нет. Перед Клавой, и перед Катюшей, и перед Полевым с Селезнем. Они на войне погибли, хоть и непонятная она, эта война, не как в книжках или в кинохронике, а… Себе — и то не объяснишь, как ни силься. Может, потому, что голову распирает изнутри болью, какой Маринка никогда прежде не знала, а может, и в здоровой голове нипочем не уложится, как это так: вроде все обычно, лети себе, держи курс… ну, ещё сбрасывай вниз какие-то железяки и стекляшки, похожие на хлам из дедова чулана (до сих пор не верится, что они на земле превратятся в огонь, дым и жуткие осколки), но ни на минуту, ни на секундочку не забывай: тебя могут убить. И убить тебя ненамного труднее, чем тебе — сбросить эту вот страхолюдную бурую чушку на головы тех, кого ты и разглядеть-то толком не успеваешь. Это в кино враги — злые, надменные баре с чудными очочками-моноклями или мрачные дуболомы. А тут выходит, враги — это те, кто убил Клаву, и Катю маленькую (на целых полтора года младше неё, Маринки!), и доброго дядьку Селезня… Других врагов военлёт Полынина и не знала…
Да какой она, к чёртовой матери, военлёт? Ткнулась носом в землю, будто на ровном месте споткнулась, на подлете к городу. Хорошо хоть, Галочка ногу только потянула да бок отбила. И того лучше, что в этот раз был боевой вылет, а не работала Маринка, как сказал однажды дядя Гриша Селезень, «воздушным извозчиком» у командующего, а так бы… страшно подумать! Немец ломится в город, а оборонительный район — без командующего?!
Маринка никому и нипочем не признается, что думает о старшем майоре Годунове во вторую очередь, а в первую — о немолодом, не особенно и красивом, усталом… но самом замечательном человеке из всех, кого она встречала. Не потому, что он командующий, а потому…
Стыдно!
Стыдно, что упала (Галочка говорит, мотор забарахлил, но толком объяснить не может, путается и глаза прячет). Стыдно, что нескоро вернётся к девчатам… да и вернётся ли вообще? (врач говорит, время нужно и тоже куда-то в сторону смотрит… может, у него просто манера такая, но кто ж его знает). Стыдно, что она думает о командующем так… так, как ни о ком не думала. Нашла время, да и вообще…
…А дверь здесь скрипит хорошо, тихонечко так, будто напевает себе во время работы. Лида пришла. Она почему-то всегда приходит, когда Маринке совсем тоскливо, будто чувствует. Может, учат их этому?.. Да ну, разве можно такому научить. Просто Лида добрая, понимающая…
— Спит? — полушепотом спросил кто-то смутно знакомый.
— Нет, — чуть громче отозвалась Лида. — Мариш… Мариша, к тебе тут…
Маринка зачем-то сначала посмотрела сквозь едва приподнятые веки, а потом… потом, наверное, просто неприлично вытаращилась. В крошечной Маринкиной выгородке старший майор Годунов смотрелся ещё выше, чем обычно (или все дело в том, что обычно Полынина глядела на него с высоты своего «метра с кепкой», а сейчас — чуть не от самого пола?). Ну да как бы ни смотрелся, странно не выглядел — это точно, пусть даже в каждой руке у него было по букету — один из блёклых октябрьских астрочек, другой из налитых, тугих гроздьев рябины с листьями.
— Здравствуйте, Марина.
— А вы как тут?.. — ни к селу ни к городу ляпнула она — и почувствовала, что вспыхнула ярче спелой рябины.
— Шёл в комнату, попал в другую, — непонятно объяснил он и улыбнулся. И Лида за его спиной улыбнулась одобрительно, с пониманием.
А Годунов разом протянул Маринке оба букета и спросил:
— Какой вам по душе?
— Этот, — если бы можно было сгореть со стыда, уже вся выгородка пылала бы от Маринки, как от оброненной свечки. Мало её учили, что пальцем показывать некрасиво!.. А как прикажете себя вести, когда вот так вот — два букета? Этому не учили вообще. В голову никому не приходило. И куда девать охапку рябиновых гроздьев, когда валяешься поленцем, сырым от горючих слез, но всё равно, вот жалость, негорючим, — тоже не учили.
Выручила умница Лида. Забрала оба букета — один с негромким «спасибо» из рук Годунова, второй у Маринки, со словами: «Пойду в воду поставлю».
Командующий заговорил не сразу. Прошелся до окна — как раз два не самых длинных его шага. Задумчиво и значительно, как, наверное, делал все на свете, поколупал давно посеревшую краску на подоконнике. Поглядел на небо и, будто бы не найдя ничего достойного внимания, старательно расправил светомаскировочную штору. И только после этого вымолвил:
— Я зашёл попрощаться.
Уж неизвестно, что он там высмотрел в Маринкином лице, но пояснил торопливо, как никогда:
— Госпиталь завтра эвакуируют. Вы не беспокойтесь, Орёл никто сдавать не собирается…
(«По крайней мере, не завтра и не послезавтра», — явственно увидела в его глазах Маринка и сама удивилась своей догадливости).
— А мне как ехать? От девчонок, от дома, от… — Полынина осеклась.
— Поездом, Марина, санитарным эшелоном, — без тени улыбки ответил Годунов.
— А вы… вы-то как? — ну что ж это такое! Сразу повелось и не отведешь-не выведешь: что ни скажет она при командующем, всё не в лад!
— Как всегда — где по плану, а где по обстоятельствам, — командующий пожал плечами: дескать, чего спрашиваешь об очевидном?
И Маринке подумалось: они говорят не о том.
Вернулась Лида. Принесла банку с рябиновыми гроздьями, и рассохшаяся, когда-то белая тумбочка сразу стала нарядной и как будто бы даже чуточку поновела. А вот выручить Маринку снова у Лиды не вышло: так они и молчали, все трое, минуту, а то и две.
— Ну, семь футов вам под килем, девчата, — наконец, проговорил Годунов.
— До свидания, — слегка растерянно ответила Лида.
А Маринка промолчала: у неё снова перехватило горло, да так, что глаза слезами заволокло. Когда проморгалась, они были уже вдвоём. Две бледные — наверное, в свете чахлой лампочки — девчонки. И яркий рябиновый букет.
— А от астр почему отказалась? — вдруг невпопад спросила Лида.
— У нас когда Полевой с дядей Гришей с вылета не вернулись, девочки цветов нарвали и возле коек поставили, — рассказывать Лиде было почему-то легко. — А рябина у нас возле школы росла. Мы, когда нас в пионеры принимали, посадили. Как раз возле кабинета географии, — Маринка кончиками пальцев погладила ягоды — тёплые, живые. — Я хотела учительницей географии стать. Интересно, да и мои всю жизнь при поездах… тоже, вроде как, география.
— А я библиотекарем работала в Туле, — Лида тоже потянулась к рябине, да отстранилась, будто вспомнила, что этот букет — только Маринкин и больше ничей. — А как Митя добровольцем ушел… это муж мой, вернулась в Орёл, думала… — и замолчала.
Поглядели друг на друга — и вдруг разревелись разом, каждая о своем и об одном на двоих.
* * *
Всё было в высшей степени странно и непонятно. Всё — это вообще, то есть абсолютно. Начиная с того, что Годунов ещё в отрочестве накрепко затвердил по книгам и, что важнее, по рассказам отца и дедов: на войне не болеют. После войны — сколько угодно, а на войне… С какой стороны ни зайди — не до того! Так какого ж черта повылазили все эти аритмии с тахикардиями, болезни гиподинамийного будущего, стёганых халатов и тапочек со стоптанными задниками? Мартынов (вот уж тут не к месту его энкавэдэшно-писательская наблюдательность!) погнал до эскулапов, попеременно взывая то к совести, то к чувству ответственности. А прижало нешутейно, вот грозный командующий и позволил погрузить себя в «эмку» и… А по дороге всезнающий Матвей рассказал, тоже со значением, что нынче рано утром кто-то из «валькирий» упал чуть ли не в прямой видимости аэродрома, но обошлось, отлежится пару дней в госпитале, и… Новость врезала по мозгам с деликатностью маргинала из бывших боксёров (был у Годунова в прошлой жизни такой малоприятный эпизод, вспоминать о котором он вполне закономерно не любил), зато сердце вдруг перестало дурить. «Поехали!»
Ну, и поехали.
Домчались за десять минут.
На одиннадцатой Годунов уже точно знал, что Марину Полынину обещают надёжно поставить на ноги. Правда, не через пару дней, а через пару месяцев.
На двадцатой Матвей с хитроватой улыбкой приволок неведомо где добытый букетик астр. К этому же времени командующий, не особенно смущаясь (как-никак в сумерках фиг его разглядишь) и не примериваясь, наломал веток с рябины у госпитального крыльца. Не цветы, конечно, но в ситуации тотального торжества абсурда над здравым смыслом…
Сумбурный разговор с Мариной, ещё более путаное, «не хиляющее за отмазку», как сказала бы язвительная юнармейская начкарша, подобие разъяснения Мартынову — и ретирада. На войну. Где — правду говорили отец и деды — всё проще и понятнее, чем в мирной жизни. Пусть даже эта война и успела закончиться за полторы дюжины лет до фактического рождения Саньки Годунова.
* * *
А Марина спала, глубоко и тревожно. И видела себя на неоглядном поле, сплошь заросшем цветами. И знала: надо поле перейти, во что бы то ни стало надо. И поскорее. Перебежать бы. Да нельзя наступать на цветы. Потому что они выросли в память о погибших.
Глава 32
9–10 октября 1941 года,
Орёл
Всё-таки советское детство — с «Зарницей», пионерлагерем, пыхтящим керогазом в бабушкином дворе — это навсегда. Сколько бы лет ни прошло, руки помнят порядок действий. И хотя сейчас в медном тазике — не переспелая вишня для варенья, а ржавая вода (водокачка ещё утром повреждена шальным немецким снарядом) — трёхфитильное чугунявое чудо техники производства завода имени Воровского разогрело её до приемлемо-помывочной температуры минут за семь.
На притащенной бойцами в подвал широкой лавке возле комсоставской портупеи с кобурой аккуратной стопочкой возвышались свежие байковые портянки и полотняное исподнее. Чёрный кирпичик мыла рядом с назначенной на роль мочалки ветошкой так и просился сотворить облачко пены для умащения нещадно зудящей кожи.
Впервые за время «в прошлом», Годунов сумел выбрать момент, чтобы привести себя в порядок. Не поскрести торопливо щеки и подбородок тупым лезвием, предварительно покрыв растительность на них разведенной из фляжки толикой «Хозяйственного», за недосугом оставляя все более заметные усы над верхней губой, не обмахнуть короткой щеткой грязь с легчайших довоенных сапог тонкого хрома на белой подкладке, способных в свернутом виде уместиться в одну противогазную сумку, не прихватить наскоро суровой ниткой новый подворотничок из двух десятков приобретенных в «Военторге», а устроить подручными средствами банно-прачечный час.
Так что вдумчивая помывка носила не только гигиенический характер, но и была неплохим методом снятия стресса, в котором Александр Васильевич так или иначе пребывал с того самого момента, как осознал своё появление в этом новом-старом времени. Командир обязан показывать подчинённым пример во всем. А какой пример показывает неряха? То-то! Ладно бы — бой, аврал, «гром пушек, и дым, и стенанья, и судно охвачено морем огня» — тут за пот и грязь спросу нет. Да и то с какой стороны смотреть: на русском флоте капитаны и в бой при белоснежных манжетах и накрахмаленных воротничках хаживали. Потому коль уж выдалась минутка — хоть как, а в порядок себя командир привести обязан. Лопни, но держи фасон, как гласит древнее моряцкое правило! Раз уж герр Гудериан, получив с разгону по сусалам и не сумев продавить оборону защитников Орла силой инерции наступления, предоставил кратковременную передышку, грех не воспользоваться.
Ух, до чего же хорошо соскребать с усталой кожи мыльной ветошкой въевшуюся грязь, омываться горячей водицей! Серебрятся на теле капли, перекатываются мускулы, словно бы шевелиться на ветру Военно-Морской Флаг под клотиком вытатуированного через всю грудь АПРК «Орёл». Не жизнь — сказка!
Впрочем, сказки долгими не бывают. В приоткрывшеюся дверь сунулось растерянное лицо Серёжи Дёмина.
— Товарищ старший майор! Тут к вам!
Ну вот… Никак невозможно, чтобы удовольствие длилось подольше. Обязательно кто-то припрё…
Ё!..
Чуть пригнувшись, чтобы не чиркнуть щегольской фуражкой о притолоку — хотя там оставался ещё запас сантиметров в пятнадцать, — и придерживая шейку приклада свисающего поперёк груди ППД, в подвальный отсек шагнул незнакомый полковник в присыпанном побелкой и пылью габардиновом кителе. Профессиональным взглядом окинув обстановку, он тут же сместился на пару шагов в сторону, освобождая проход. Следом за ним во временное обиталище Годунова стремительно, чуть раскачиваясь при ходьбе, почти ворвался, иначе и не скажешь, человек, чье лицо Александр за свою жизнь видел тысячи раз на портретах, на фотографиях и в кинохронике. Спутать этот целеустремлённый взгляд, характерные нависающие брови, а главное — всемирно известные огромные усы, уже давно потерявшие первоначальный цвет и ставшие пегими от седины и желтого табачного дыма, было никак не возможно, даже если бы на красных петлицах и не сияли бы золотые разлапистые звезды…
Мокрая ветошь полетела в таз с водой, босые пятки заученно, на вбитом в подкорку рефлексе стукнули друг о друга, рука было дёрнулась к виску, но тут же застыла ладонью на бедре:
— Товарищ маршал Советского Союза! Части и подразделения Орловского оборонительного района и ополчение занимают оборону на вверенном участке! В настоящее время личный состав занят приведением себя в порядок и подготовкой к отбитию следующих атак противника. Докладывает командующий оборонительным районом ка… старший майор госбезопасности Годунов!
— Вольно, товарищ старший майор, — хмыкнув в усы, проговорил Будённый. — Гляжу, мы тебе слегка помешали? Что поделаешь, минуты дороги, так что приводите-ка себя в приличный вид и пообщаемся, как принято в Красной Армии…
Вот же ж позорище! Сказать кому, что легендарного маршала чуть не голяком довелось встречать — стыда не оберёшься! Со скоростью, приближающейся к рекордной, Годунов вздел нательную рубаху, поверх — гимнастерку, чуть задержался с портянками и сапогами: непривычны они бывшему моряку, обтянулся кожснаряжением, на мокрые волосы — фуражку, привычно проверил рукой параллельно нахождение звёздочки над переносицей, вновь чётко повернулся к высокому гостю:
— Товарищ маршал…
— Довольно-довольно, — махнул рукой Будённый. — Накозыряешься еще, служба, поди, большая. А я излишнего фрунту не люблю. — Помолчал, вгляделся. — Так вот ты какой, товарищ Годунов? Не ждан не зван явился, да к делу пригодился! Что сказать, удивил ты всех. И нас удивил, и немец от того удивления никак не очухается. Вот мне на верху, — указал взглядом в потолок, — и поручили разобраться, что да как. — Снова помолчал, наблюдая за самозваным старшим майором, видать, ничего интересного не углядел, вот и поторопил: — Ну, что скажешь?
— Так вышло, товарищ маршал, — не самая лучшая фраза, зато правдивая. И голос не дрогнул: ты ведь, Годунов, давно к подобному готов был. — Город сдавать нельзя, отсюда до Москвы — всего ничего дистанция. А прежний командующий, говоря откровенно, сбежал…
— Ну-ну… — чиркнул пальцем по усам Будённый. — Что же, по большому счету твоя диспозиция верна. Ну да ладно, об этом попозже подробнее побеседуем. А сейчас, товарищ Годунов, покажи-ка мне, что и где конкретно у тебя происходит. Карту давай!
— Есть, товарищ маршал! Но давайте пройдём на НП, там не только по карте, но и на местности покажу. Оттуда весь город — как море с клотика линкора видно!
— Ну что же, дело хорошее. На линкорах пока что бывать не доводилось, так хоть погляжу, какой оттуда вид открывается, — первый конник Союза ССР улыбнулся каким-то своим мыслям. И, повернувшись в сторону полковника с ППД, распорядился — Пётр Павлович, будете нас сопровождать до наблюдательного пункта.
Полковник вполне ожидаемо оказался не один: у лестницы обнаружилась полудюжина автоматчиков. Впрочем, далеко сопровождать маршала не было необходимости: годуновский НП уже второй день располагался тут же, пятью этажами выше, на чердаке здания, которое в прошлом-будущем Александра Васильевича привычно именовали Домом Победы.
В открытом ветрам, а главное — осколкам и пулям небольшом бельведере держать наблюдателей смысла не было: двое девчат из ополчения при телефоне и рации да арткорректировщик-сержант с толсто перемотанной бинтом шеей укрывались от излишнего внимания противника под железными скатами крыши.
Расстелив склейку карты Орла и окружающей местности на здоровенном круглом столе, притащенном из чьей-то опустевшей квартиры, Годунов принялся излагать боевую обстановку. Вроде и кратко, а всё равно получилось долго, не меньше получаса ухлопал. Но маршал слушал спокойно, не перебивал, разве что за это время медленно, кажется, даже стараясь топать потише, обошел несколько смотровых отверстий, внимательно оглядел в протянутый адъютантом мощный бинокль местность, одобрительно хмыкнул. Посмотрел на Александра Васильевича: всё, мол? И обратился не к Годунову, а к полковнику:
— Пётр Павлович, вот что, дорогой: берите-ка машину, найдите товарища Игнатьева и пригласите сюда. Нужно будет посовещаться с местным партийным руководством. Ступайте!
— Слушаюсь, товарищ маршал! — Козырнув, адъютант исчез в чердачном лазе.
Годунов напряженно ждал, что же будет дальше. Ведь не зря прибыл сюда один из самых знаменитых советских полководцев? Будет приказ сдать город? Это вряд ли: в Ставке не могут не понимать значения Орла как транспортно-промышленного узла. Да и приезжать маршалу ради отдачи такого приказа смысла нет: достаточно послать делегата связи с пакетом, продублировать по радио или ВЧ: благо линия немцами пока не нарушена. Да и, кроме того, по всем годуновским воспоминаниям о прочитанном выходило: высокий гость в это самое время вроде как должен командовать соседним, Резервным, фронтом, прикрывающим вяземско-московское стратегическое направление, а Орловский ОР напрямую подчинен фронту Брянскому… Куда ни глянь — сплошные непонятки. Да и намёк, походя брошенный Будённым, был более чем прозрачен.
Тем временем маршал, видимо, собравшись с мыслями, обошел стол с картой и, остановившись в шаге от Александра Васильевича, заложил руки за спину. Проникающий сквозь щели в крыше серый свет бросал тень от козырька на лицо Будённого, скрывая выражение глаз.
— Вот что, товарищ старший майор… То, что вы возглавили оборону Орловского обррайона — это, как теперь видно, дело полезное. Ваши войска не только перемалывают наступающие части Гудериана: они держат их! Крепко держат на месте. Как говорили в старое время, дай бог каждому так держаться. Нам удалось вздохнуть слегка свободнее и за счёт маневрирования резервами пресечь попытки фашистов просочится сквозь нашу оборону южнее Вязьмы. Сейчас там идут непрекращающиеся бои на Вадинском направлении. Так что, товарищ Годунов, за инициативу вам благодарность.
— Служу Советскому Союзу!.. — отчеканил Александр Васильевич — и тотчас же сообразил: сколь верёвочка ни вейся, а совьёшься ты в петлю, и завяжешься морским узлом… Знал же, знал наверняка, что здесь и сейчас положено отвечать «служу трудовому народу», а поди ж ты!..
— Хорошо служите, — если Будённый и удивился, то виду не подал. — Вот только есть у нас одно сомнение, товарищ старший майор… — Маршал чуть сместился, глаза из-под козырька взблеснули строго и жёстко. — Откуда ты, такой из себя хороший, взялся, а? Чин на тебе немалый, да и должность занял генеральскую. Так что, сам понимаешь, когда Тюрин, щучий сын, сорвался, а город не сдали, Ставка не могла не заинтересоваться, кто ж тут германцам даёт прикурить. Спросили товарища Берия — товарищ Берия говорит: «Не знаю такого!». В кадрах НКВД поинтересовались — ан они ни сном ни духом… А ведь кадры, как известно, решают все, верно?
— Верно, товарищ маршал, — покаянно вздохнул Годунов.
— Ну вот видишь — верно, — огладил пышные усы прославленный герой Гражданской. — Вот и решили на тебя, такого решительного, вживую посмотреть: что это за человек такой, который на себя чужое звание взял и судьбу чужую принял. Ведь не чекист ты, уж я-то чекистов навидался. Да и сейчас ты мылся — наколка у тебя с морским флагом. А откуда тут марсофлотам взяться? Морей, чай, нету. Одно понятно: не враг. Враг бы оборону налаживать не стал. И не трус: сдристнуть возможностей много было. Ан не сбёг. Так что ясно: человек советский. Вот и отвечай, советский человек товарищ Годунов: откуда ты такой объявился? Или ты, может, и не Годунов вовсе?
А, была не была!
— Товарищ маршал Советского Союза! Разрешите доложить! Капитан третьего ранга запаса Годунов, командир БЧ-5 атомного подводного ракетоносного крейсера К-266 «Орёл», год рождения тысяча девятьсот шестьдесят пятый. В настоящее время — командующий Орловским оборонительным районом. А как тут оказался — хрен его знает. Хотите верьте, хотите — нет…
* * *
Пулемётная строчка искристо пролязгала по стальным дискам трамвайных колёс. Причём, судя по звуку очереди, немцы явно где-то надыбали советский ДП. Для усиления огневой мощи, так сказать.
Плохо дело. Если так и дальше пойдёт, парашютисты вскоре выдавят остатки обороняющихся в пятиэтажке с трёх верхних этажей на крышу и смогут перещёлкать защитников баррикады на Красном Мосту, как мишени в тире.
И времени это займёт самое большее — минут пять.
Нет, это ж надо, какая невезуха: ведь только шесть часов как уехал из города маршал, оставив на добрую память пятерых крепких ребят из своего сопровождения с приказом беречь командующего как зеницу ока, а ему, Годунову, строго-настрого велев не подставлять умную башку под пули. До этого весь вечер и полночи допытывался Семен Михалыч у Годунова о ходе войны. Но что мог тот поведать? Только то, что знал по книгам. О трагедии Ленинграда. О Ржевской и Харьковской мясорубках. О Сталинградской эпопее, которой могло бы и не быть, не допусти советское командование — и лично комфронта Будённый непростительных, трагических ошибок. Вспомнил он рейды конницы Белова и Плиева (старый кавалерист довольно подкрутил усы, тут же заставив показать на карте примерный район прорыва и оперирования по вражеским тылам Первого гвардейского кавкорпуса). Рассказал о том, какой кровью и каким напряжением сил пришлось отбирать обратно у закрепившихся на захваченной русской земле оккупантов все «пяди и крохи» от тульского Алексина до Буга, Прута и Десны, как дрались на Орловском направлении весь 1942-й и половину 1943-го… Вспомнил и об освободительном походе от советской границы до Эльбы, когда местные жители встречали танковые колонны цветами, а затаившиеся бандиты из различных АК и кайтселитов, не говоря уж о жовто-блакытной нечисти, стреляли в спины бойцов тыловых частей и резали на ремни кожу с захваченных командиров. Рассказал вкратце и о том, как Красная Армия меньше чем за месяц вышибла японцев почти со всей континентальной части их колониальной империи, и о том, как янки бомбили атомными зарядами злосчастные Хиросиму с Нагасаки, и о том, как сразу после совместной победы наши доблестные союзники превратились в заклятых врагов…
Особых подробностей, дат, цифр численности наших и вражеских фронтов Годунов, разумеется, толком не помнил. Но и то, что он успел рассказать, весьма и весьма впечатлило знаменитого героя Гражданской. Потому-то он и оставил Орёл, пообещав на прощанье:
— Ты вот что… командующий оборонительным районом… Все, что ты понарассказал, конечно, на данный исторический момент — пока не разведданные, а, к примеру сказать, пророчества навроде поповских. А мы, большевики, обедни не служим. Но я тебе так скажу: продержись тут в городе ещё суток двое, покомандуй, раз уж взялся. А там — пришлём тебе толкового человека на замену… И резервов подкинем, так уж и быть! Вот тогда дела сдашь — и марш-марш в Москву! Там к тебе вопросов, чую, будет мно-ого! А пока — держись… товарищ Годунов! Удачи!
Хлопнули дверцы посеченной осколками легковушки, плесканула грязь из-под колёс — и умчался вдаль легендарный маршал…
И ведь хорошо, что уехал!
Иначе бы… Ох, беда была бы!..
— Дёмин!
— Я, товарищ старший майор!
— Вот как хочешь, но дуй до наших. В торговых рядах найдешь сапёров. Пока немцы нас не задавили, но к тому идёт. Так что пусть готовятся рвать мост. Как будут готовы, от них сигнал — три длинных свистка. Понял? Три свистка. Чтобы мы отойти успели. А потом — рвать к баталерной матери! Давай, пошёл!
— Товарищ старший майор!..
Ух, только вот не надо патетических сцен, не ко времени!
— Сержант Дёмин! Исполнять!
Поняв, что любимый командующий настроен более чем серьёзно, Сергей подобрался, пригибаясь, к площадке вагоновожатого, чуть постоял, собираясь с силами и рассчитывая оптимальную трассу — и рванул к южному берегу, то и дело кидаясь то к правой, то к левой стороне моста. Метров через сто пятьдесят, запнувшись о рельс, сержант грохнулся оземь, но тут же, вскочив на четвереньки, юркой ящерицей вновь заспешил вперед, прикрытый от флангового огня чугунными перилами.
Ну вот и славно… Авось сумеет парень добраться, и сапёры не подведут.
А то ведь если тутошние гансы переправятся через Оку и ударят в тыл нашей обороны, ситуация может стать совсем печальной. Вот же черти надоумили немчуру устроить тут десант! И не побоялись же планеры погробить, сажая их в городе! Дотянули, небось, до Орла «юнкерсами», а потом отпустили в свободный полет. Вот и принялись они один за другим заходить на посадку поперёк Оки, на площадь аккурат у Дома Победы, протаскиваясь вдоль по улице Сталина. Конечно, когда раздался треск первых ломаемых крыльев, часовые и на крыше, и у входа подняли тревогу, но поздно: гитлеровцы, покинувшие первый удачно севший планер, уже успели рвануть под защиту домов, прикрывая десантирование остальных и отсекая огнём находящихся внутри здания командиров и бойцов штаба.
Да уж, дела — как сажа бела. Прямо как в кино про Чапая: враг нанес удар по командованию, а главные наши силы — «вдали за рекой»… Ока, конечно, не Урал у Лбищенска, но положеньице сложилось хреновастое. Уже когда рассвело, стало видно восемь приземлившихся целехонькими аппаратов и ещё штуки четыре — повреждённых, так что немцев вокруг штаба «паслось» около роты, причём не бедной такой роты: одних пулемётов засечено десятка с два, плюс малокалиберные миномёты, которыми гансы упорно долбали крышу, не давая использовать чердак для ведения огня. И ведь явно у них сработала агентура: и на штаб вышли аккуратно, и проводную связь обрубили напрочь, и синхронно с атакой десантников, буквально через десяток минут после начала высадки, устроили общее наступление по всему периметру. Да, товарищ капитан третьего ранга Годунов, переиграл тебя герр генерал-оберст Гудериан, красиво переиграл… Вот только тут на карту не фишки или купюры брошены: жизнями приходится расплачиваться. То-то и оно…
Одно хорошо: вовремя сообразили устроить рывок на прорыв. В предрассветной полумгле Годунов, с дюжиной своих бойцов да с маршальскими, молча, без выстрелов кинулся через площадь на Красный мост. Гитлеровцы, не ожидавшие такой дерзости, среагировали не сразу, упустив несколько важных в бою секунд. Только метрах в тридцати от берега ударило с тыла и в лицо огнём, кто-то из бегущих попадал, но уже полетели за баррикадную стенку гранаты. Вслед за взрывами в последнем уже рывке уцелевшие красноармейцы лезли через заграждение, будто форсируя «стенку» на занятиях в огневом городке. Заслон из нескольких немцев выбили подчистую, сами же повалились рядом с трупами, тяжело дыша и норовя унять колотящиеся судорожно сердца.
Теперь нужно было продержаться на этом рубеже до момента, когда мост будет готов к подрыву, по возможности дождаться подхода оставшейся в штабе группы прикрытия и лишь после этого отступить на южный берег, уничтожив за собой переправу. Ничего не поделаешь: командовать из заблокированного здания, с обрезанными проводами и разбитой радиостанцией никак невозможно, а основная часть обороняющихся войск — как раз за Окой… ну, то есть перед ней.
Но как только Годунов привстал, выглядывая в незаделанный проход в центре баррикады, чтобы оценить обстановку, пулемётная очередь пролязгала по стальным дискам колёс трамвая, остановившегося после прекращения подачи электротока прямо на мосту…
Эх, сюда бы перископ… Но, как говорится, на нет — и суда нет… но ревтрибунал имеется! Трибунал — не трибунал, но разбирательство и оргвыводы воспоследовать должны точно, куда без этого. Впрочем, при одном условии: если удастся как-то выбраться из этой заварухи.
— Товарищ командующий! Лезут! — встревоженный полувскрик кого-то из бойцов. Распластавшись на асфальте, Годунов вновь выглянул из-за края баррикады, изготавливая к бою презентованный мотострелками Кочеткова немецкий карабин. Точно, лезут. Вот же ж блин горелый! Короткими перебежками, попарно и поодиночке гансдесанты форсировали простреливаемый участок, скапливаясь для броска под прикрытием фанерного киоска «Книги-Газеты» и покоробленного фюзеляжа неудачно приземлившегося планера. В гости, значит, намылились? Идите-идите, встретим со всем пролетарским радушием. Насколько патронов хватит — столько и погуляем напоследок. Вот пенёк мушки совместился с торчащей из-за планерного киля каской. Ровно, как учили когда-то, выбираем спуск. Выстрел, толчок в плечо. Каска вдалеке дёрнулась и пропала из виду. Вот и славно: нам такие гости ни к чему, и пусть ганс не обижается: сказано же не раз было — не ходи на Русь…
Что было дальше, Александр Васильевич помнил нечётко: движения затвором, вылетающие гильзы, бегущие размытые фигуры на фоне чётко отпечатанной на сетчатке глаза мушки, перекатывания, перебежки, кувырок в сторону от катящейся по асфальту шипящей гранаты, чье-то падающее на спину тело, новые перебежки, расцветающие цветными зонтиками в небе купола, десятками отделяющиеся от крестоносных самолётов, сыплющиеся на голову горячие пулемётные гильзы, прошитая очередью жестяная стенка трамвая… И лишь одна картина отпечаталась в памяти, словно протравленная кислотой на медной пластине: высунувшийся по грудь за баррикадой чумазый белобрысый немец, руками в светло-серых перчатках направляющий на Годунова трубу брандспойта, и вылетающая из этой трубы чёрно-красная огненная струя. И боль, начисто отрубившая все воспоминания. Это потом он сообразил, что рефлекторно дёрнулся в сторону и, перевалившись через перила, ухнул в тёмные воды Оки. Слегка опамятовался тогда, когда глотнул воды и начал захлебываться. Тут уж изо всех сил заработал руками и ногами… получалось плохо. И всё равно — сам ли выплыл, течение ли вынесло на бережок аккурат там, где через время (вот уж ирония судьбы) будет маленький пляж, притулившийся к парку культуры и отдыха.
А ещё то ли случилось, то ли почудилось… Сидит он, Годунов, за столом в полутемной комнате, а перед ним — раскрытая картонная папка. Он с трудом разжимает сведенные судорогой пальцы, и поверх бумаг ложится удостоверение…
И снова — беспамятство на много дней. Не помнил Годунов, как его, чуть живого, нашла и подобрала там шестнадцатилетняя Зоя Бартенева, как прятала в сарайчике у своей бабушки Анны Марковны в закутке за старыми лопатами и ведрами, как выхаживали орловчанки обгоревшего командира. Даже очнувшись через неделю, он не мог увидать их лиц — веки опухли и не открывались, — лишь слышал тихие, заботливые голоса…
В двадцатых числах ноября бывший командующий бывшим Орловским оборонительным районом сумел оправиться от ран настолько, что однажды ночью, распрощавшись сердечно со своими спасительницами, покинул город. Без документов (куда подевалось удостоверение, предположить было несложно, хоть и удивительно, а вот часы… впрочем, без часов тут тоже, наверное, не обошлось), с изуродованным следами огня лицом, в одежде с чужого плеча, он размеренно шагал на юг через памятное по первому бою у окраины Орла поле, хрустя валенками по снежному насту. Карманы короткого чёрного пальто оттягивали две найденные хозяйственной Зойкой лимонки и широкий листовидный нож для чистки и потрошения рыбы. В укрепленном верёвкой за плечами рогожном мешке мирно уживались несколько десятков патронов, россыпью и в обоймах, к немецким и русским винтовкам, зажигалка, школьная карта Орловской области, полдюжины луковиц, крупа-сечка в жестяной банке и десяток картошин.
Капитану третьего ранга в запасе не было смысла пробираться на северо-восток, чтобы пытаться перейти фронт, намертво вставший на Мценском рубеже. Кто он, Годунов? Без документов, без формы, с трудом узнающий сам себя в маленьком Зоином зеркальце… Александр Васильевич прекрасно понимал, что если и удастся добраться до расположения Красной Армии, то любой встречный командир тут же направит его в Особый отдел: время-то суровое, к благодушию не располагающее. А там, коли повезёт, «молчи-молчи» сочтут его изовравшимся с перепугу окруженцем и направят бойцом на пополнение потрепанного в боях подразделения. Но скорее всего — не повезёт. И выведут свежеразоблачённого дезертира, а то и шпиона перед строем в недальнем фронтовом тылу, зачитают приговор, хлопнет выстрел — «и ага»… И даже если судьба снова подфартит: удастся добраться пусть не до Сталина, как в книжках, но до Будённого, — что там? От хваленого послезнания толку уже мало, а жить за семью замками ради сомнительной возможности разобраться в самом настоящем чуде… нет уж, увольте! Выбирая между двумя вариантами: превратиться в подопытного кролика или погибнуть от советской пули, с клеймом труса или предателя, Александр Васильевич выбрал третий. Вечно никто не живет, а на русского человека пусть враги патроны тратят. Ну а заставить их потратиться мы сумеем…
Бывший старший майор госбезопасности Годунов ушел из дважды родного города. Всё-таки надеясь однажды вернуться.
Через день рванула над капотом немецкой машины установленная на Старо-Киевском большаке растяжка.
А через месяц был первый бой партизанского отряда «товарища Орлова» с полицаями…
Из сообщений на форуме «Академия альтернативной истории» в теме «Оборона Орла: что могло пойти не так?»
Сообщение от: Домашний Кот
Ранг: Миротворец
Возраст: 27
Откуда: Город-герой Орёл
Отправлено: 3 октября 2011 — 15:39:27
Привет академикам!
Коллеги, мне тут подумалось: а как развивались бы события в Орле в 1941-м, если бы дела пошли чуточку не так, как случилось на самом деле?
Вот смотрите, от чего иду.
Бабушка сохранила дневниковые записи моего прадеда, школьного учителя, в то время — ополченца. Я в ближайшие дни обязуюсь их набрать или отсканить, как посоветуете, и разместить на форуме, в реальноисторической ветке. Вообще там много интересного, такого, что он сам наблюдал, пишущим коллегам пригодится. Ну, и про оборону, само собой. Так вот, в конце сентября были, вроде бы, какие-то окопы на юго-западной окраине. Но, судя по тому, что он описывает, говорить о какой-то линии оборонительных укреплений не приходится. Держать на таком рубеже длительную оборону, как я понимаю, анриал. А в районе Семинарки и Лужков, через которые фрицы ломанулись, когда на Кромском шоссе их как следует встретили, вообще чисто поле было, там работы начались, судя по записям прадеда, в тот же день, когда по радио передали обращение к жителям города от лица Штаба оборонительного района. Я в сети порылся — это было 30 сентября. Если не ошибаюсь — давно уже читал, кто из коллег в теме, поправьте меня — как раз 30-го «Дмитровскую Мышеловку» создавать начинают. А в Орле в тот же день — мобильную милицейскую кавгруппу. Это точно помню, ещё со школьных лет, у нас дружина шефствовала над ветераном, который в той группе служил.
Идем дальше. До того, как в Орёл был переброшен 1-й гвардейский стрелковый корпус, защищать город было, по сути, некем и нечем.
Чтобы переломить ситуацию, понадобился человек, которому Ставка дала особые полномочия. Плюс хитро применённая, партизанская по своей сути, тактика «орловской улитки», позволившая выгадать время.
Если без Годунова и без «улитки», как, по-вашему, изменился бы ход Великой Отечественной войны?
Сообщение от: Танкист
Ранг: Постоянный участник
Возраст: 35
Откуда: Москва
Отправлено: 3 октября 2011 — 16:01:15
Коллега, а не подались ли вы в агенты абвера? Нафига отыгрывать войну, добавляя немцам везухи и щедрой рукой отсыпая ништяков?
Сообщение от: Домашний Кот
Ранг: Миротворец
Возраст: 27
Откуда: Город-герой Орёл
Отправлено: 3 октября 2011 — 16:23:02
Танкист, чего, сезон охоты на ветряные мельницы открыт? Я не пойму, ты такой смелый или такой дурной? Попробуй в реале собеседнику намекнуть, что он фашик, — добавь работы доблестным пластическим хирургам.
Для тех, кто в танке, объясняю: бывают в истории такие моменты, когда шансы приходится взвешивать на аптекарских весах, плюс-минус грамм — уже принципиально. Так и с обороной Орла: изыми из этих событий одного человека и одну его идею — и… А вот что «и», я и моделирую. В том числе и для того, чтобы ещё раз стало очевидно, какой подвиг совершили орловские чекисты и ополченцы, задержав врага на дальних подступах.
Так понятно?
В том, что немцев всё равно остановят, сомнений нуль. Вопрос — где и как?
Сообщение от: Танкист
Ранг: Постоянный участник
Возраст: 35
Откуда: Москва
Отправлено: 3 октября 2011 — 17:00:08
«Ой, а я и не знала, что коты такие умные бывают. Я думала, они только на деревьях кричать умеют» (С).
Котик, а ты не задумывался, о скольких человеческих жизнях идёт речь? Врага остановят. Даже если не под Тулой, то до Москвы он всяко не дойдет. Но чего это будет стоить? Ответь-ка мне на такой вопрос. Любая альтернатива — она чревата.
Сообщение от: Капитан Порядка
Ранг: Администратор
Возраст: 42
Откуда: Смоленск
Отправлено: 3 октября 2011 — 17:15:28
Домашний Кот,
Танкист,
дискуссия была жаркой, участники наверняка успели вспотеть. В целях соблюдения личной гигиены добро пожаловать в баню. Пока — на сутки. Что дальше — Мойдодыр покажет.
Сообщение от: Антиквар
Ранг: Участник
Возраст: 19
Откуда: Москва
Отправлено: 3 октября 2011 — 19:23:07
А подскажите: я где-то читал, что возле Орла были сверхтяжёлые танки, каких у немцев тогда не было, и немцы из-за этого ускорили разработку своих «Маусов». Не помню, где. Кто-нибудь знает про их действия? Интересуюсь вопросом, хочу попробовать рассказ написать.
Сообщение от: Полярный Лис
Ранг: Разведчик миров
Возраст: 47
Откуда: Орёл
Отправлено: 4 октября 2011 — 01:17:02
Вынужден Вас разочаровать, коллега, но в реальности таких танков не было. В смысле, у наших не было. Но периодически эта тема всплывает в публикациях краеведов, возможно, даже в более серьёзные источники перекочевала. А ведь ещё в середине 80-х годов, когда был снят гриф секретности с ряда материалов по периоду, непосредственный участник обороны Орла, подполковник КГБ и писатель-документалист Мартынов в одной из своих книг (уточню, в какой, она у меня в бумаге, на компе нет) рассказал о совещании, на котором командующий Орловским оборонительным районом Годунов предложил «изготовить» такие танки на базе тракторов, общим числом три. К тому моменту ещё не было сил, чтобы остановить врага, и уже стало ясно, что Кромы — это в сорока километрах от Орла — сдадут. Как говорит Мартынов, Годунов на том совещании говорил о вероятности удара немцев из района Кром в тыл Брянскому фронту в районе Карачева. Вот и пришлось придумывать разные хитрости. Итог Вам, полагаю, известен.
Раз Вы интересуетесь вопросом, вот вам любопытные факты: были не просто сделаны движущиеся макеты сверхтяжелых танков, но и приспособлены на их башни макеты спаренных крупнокалиберных пулемётов. Когда немецкая авиаразведка (Мартынов не исключает, что и с земли «танки» заметили и расписали в красках) засекла этих монстров, то была впечатлена. Фюрер, надо полагать, тоже, т. к. к 43-му году немцы умудрились наклепать штук двадцать так называемых «маусов», которые, как Вы, наверное, знаете, благополучно разбомбила штурмовая авиация, когда они выдвигались к линии фронта.
А вот ещё забавный момент — у Мартынова сказано, что Годунов на совещании назвал ложные танки «слонами». Как по мне, хороший сюжет для рассказа — как поддельный «слон» трансформировался в настоящего «мышонка». Так что дерзайте, коллега, пишите! А мы, старые заклепочники, от души потапкуем.
Отдыхающему на скамейке запасных земляку. Ну, раз вопрос возник, давайте посмотрим некоторые ключевые моменты.
Тут уже было сказано об «улитке», которая потом столь же успешно использовалась между Орлом и Мценском. Этот момент вошел и в художественную литературу, и в кино (первая часть киноэпопеи «Преодоление»). Реже упоминается другой факт: в начале ноября, т. е. буквально через пару недель после отступления наших частей из Орла, совсем на другом участке фронта, в рамках 2-й Синявинской операции, было использовано тактическое решение, разработанное Годуновым: по узкому коридору, в котором заперли немцев после того как 25 октября сняли блокаду Ленинграда, выпустили 84 тысячи реактивных снарядов, одномоментно нанеся авиаудар. Но куда фатальнее для рейха был тот факт, что группу армий «Север» обокрали и обездолили: фюрер так озверел от неожиданной заминки на магистральном пути к Москве, что чуть ли не сразу, буквально во второй декаде октября, начал снимать с северо-запада войска и перебрасывать в центр.
В центре у немцев ничего хорошего так и не вышло. Стояли они под Мценском, как татаро-монголы на Угре (правда, те, из песни слова не выкинешь, в своё время Мценск прошли и только потом застряли). Но взять Москву Гитлеру, понятно, хотелось ничуть не меньше, нежели Ахмату. Вот и начинает фюрер выдергивать части ещё и с юга — и тоже застопорился, на Ишуньских позициях, а в середине ноября был вынужден даже не приказать, чтобы его войска оставили Крым, а констатировать: оставили. А виноват оказался кто? Правильно, сперва на юге генерал Майнштейн, потом повсеместно генерал Мороз. Ситуацию, которая к этому времени сложилась для группы армий «Центр», можно описать слегка перефразированной присказкой: «Ганс, я русского медведя поймал!» «Так тащи его сюда!» «Не пуска-ает!» И когда 1 декабря началось наше контрнаступление, некоторые немцы восприняли его как избавление от ужаса неопределенности. Ей-ей не вру, кто-то из военных журналистов составил экстракт из дневниковых записей немецких солдат… вот только где я это читал, с ходу не вспомню. Датированы те записи, если не ошибаюсь, в массе своей всё тем же декабрём. А в январе, в почти миллионном Смоленском котле, было уже не «наконец-то началось!», а «камрады, это конец!»
Вот и прикидывайте, коллеги, какой могла бы быть альтернативная история без обороны Орла. А я одно скажу, по результатам собственных выкладок: был бы у нас День Победы не 8 декабря 1944 года, а где-нибудь ближе к середине года 1945-го…
Эпилог
Октябрь 1991 года
Я вернулась домой.
Самые главные слова. Светлые. Как первое младенческое «мама!» и как признание в любви, когда знаешь наверняка, что услышишь ответное.
Марина Алексеевна усмехнулась. Верно Шурка говорит: препод — он и в Африке препод. Ко всему-то он должен подобрать слова, да не абы какие, а самые правильные, самые точные, самые доходчивые.
Правда, сейчас внучка не ехидничает — помалкивает. Смотрит в оконце, серьёзная, сосредоточенная… взрослая. Так уж у них повелось: по пути с вокзала разговаривать только с Городом и слушать, что он ответит, а потом уж делиться друг с дружкой. Задумчивая Шурка очень похожа на деда, хотя так-то все говорят, что она не в них, не в Орловых, а в материну породу, северную.
Зато таксист попался словоохотливый. Притом, что вызывающе молод — хорошо, если года на три старше Александры. Вьюноши — они обычно такие все из себя солидные… ну, вроде, как Шурка сейчас, только наигранно. А у этого и ворот, и душа нараспашку. Ему бы не частить да самого себя не перебивать — заправский бы экскурсовод вышел.
— …а вам наш вокзал понравился? Он всем нравится. Говорят, раньше ещё лучше был… да что говорят! Я сам на фотках видел. Правда, фотки чёрно-белые, неотретушированные, толком и не поймешь, лучше или не лучше. Его во время войны разрушили. А сейчас видели, скверик на Привокзалке переделывают? Говорят, исторический облик восстановят. Интересно, чего там будет? Я его старые фотки в сети искал — не нашел…
— Звать-то тебя как? — неожиданно для себя самой спросила Марина Алексеевна.
— Сергеем.
— А фамилия, часом, не Дёмин?
— Чего это Дёмин? — слегка насторожился парень. — Данилов я.
И вдруг, тоже ни с того ни с сего:
— А мой дед в сорок первом Орёл оборонял.
Будто в мысли заглянул.
Марина Алексеевна поймала своё отражение во внутрисалонном зеркале: ну да была бы нужда молодому человеку мысли читать! Сама ведь только что пальто расстегнула, натоплено в машине так, будто на дворе не бабье лето, пахнущее солнечной пылью и угасающей листвой, а морозное предновогодье. На платье — медаль «За оборону Орла», которую она ещё перед отъездом из Мурманска сняла с «парадного» крепдешинового пиджака. Эту, да ещё «За победу над Германией» с чеканным профилем Верховного и датами: «1941–1944». Сколько всего уложилось в эти годы!
Шурка молчит. Сергей тоже что-то притих. Без лишних вопросов остановился у цветочного павильончика, а потом, даже не дожидаясь просьбы, притормозил у Сквера Защитников Отечества, который Марина Алексеевна по привычке продолжала называть Первомайским. Тут ведь даже деревья прежние, посаженные незадолго до её рождения орловскими комсомольцами, ветеранами ещё не отгремевшей войны. А две боковые аллейки сажали их дети, ветераны Отечественной. Где-то здесь есть и её, Маринки Полыниной, липонька-тридцатилетка. На Доме Победы — наверняка совсем недавно подновленные щиты с портретами. Сталин, Рокоссовский, Берия, Плиев, Черняховский… На площади перед сквером — памятник работы легендарного Вучетича: молодой боец, немножко похожий на Серёжку… не на этого, а на Дёмина, павшего смертью храбрых при штурме Берлина, и средних лет ополченец в рабочем пиджаке. Шурочкин дед. Уж неизвестно, какими путями удалось Матвею дойти до Вучетича, какими словами он убеждал знаменитого скульптора… и как с единственного сильно засвеченного фото, случайно сделанного не то Селезнем, не то Гороховым под Дмитровском, можно было сделать узнаваемый портрет сперва в гипсе, потом в бронзе… Матвей так и не рассказал, лишь улыбался хитро и с гордостью. Одну только фразу и обронил: «Если уж не быть в Орле памятнику Годунову… пусть будет памятник Годунову! Даже в энциклопедии портрета Сашкиного нет, а у нас — есть». Вот уж эти писатели! Не с его ли легкой руки дмитровскую «Валькирию» в просторечье нет-нет да «Маринкой» назовут? Сама слышала. «Где встречаемся?» — «На площади у «Маринки»…
…Шурочка кладёт красные гвоздики на плиту красного гранита. Немножко торопливо, потому что по аллее, звучно печатая шаг, идёт смена Почётного Караула. Орёл — не Мурманск; чёрные бушлаты, которые здесь нечасто увидишь, приковывают взоры прохожих. На рукавах пламенеют красно-золотые шевроны с гербом СССР и словами: «Пост № 1. г. Орёл». И на лентах бескозырок золотом начертано: «Орёл».
В той, другой истории, похожей на измышление упаднического псевдореалиста, Саша служил на АПРК «Орёл». Они редко говорили о той его жизни, и не все в рассказах мужа было Марине Алексеевне понятно, но одно она уяснила чётко: даже в самые тёмные времена были люди, которые служили Родине.
Юные моряки дошагали. Разом повернулись лицом к Вечному огню, вздымающемуся из центра пятиконечной звезды. Разом преклонили колена. Разом поднялись. И одновременно заняли места по обе стороны от постамента, попарно: парнишка-часовой с автоматом, рядом девочка-подчасок, руки по швам. Стоящий поодаль невысокий, ладный майор, наверное, старший над юнармейцами, глядит с одобрительным прищуром, улыбается в седоватые усы. А по аллее навстречу сменившимся с Поста спешит-торопится девчоночка — чёрный бушлат, белые атласные ленточки в рыжих косичках-лисичках, лицо вдохновенно-озадаченное.
— Товарищ гвардии майор запаса, разрешите обратиться! — голос звонкий, далеко слыхать. — Докладывает заместитель начальника Почётного Караула школы номер десять юнармеец Селиванова! Вас ждут в караульном помещении…
Все верно. В эти дни у них всегда много хлопот. Послезавтра — очередная годовщина начала оборонительных боёв на Орловщине, да не какая-нибудь — полувековая. Митинг, возложение… И все внимание — к ним, к мальчишкам и девчонкам в чёрных бушлатах посреди сухопутного Орла. Небось, комиссия какая из гороно или ещё кто припожаловал…
Марина Алексеевна дальше не слушает: она уже идёт к двум стелам позади памятника. На одной — карта-схема оборонительного сражения, которую она может начертить по памяти и чуть ли не с закрытыми глазами, на другой — имена, она помнит их все до единого.
Подполковник Беляев, второй командующий Орловским оборонительным районом, погиб в конце ноября 1941-го. Его Марина Алексеевна знает только по рассказам мужа.
Интендант Оболенский, Почётный гражданин города. Его, уже очень старенького, она видела на приеме у руководителей области. В каком году-то это было? В пятьдесят восьмом? Нет, в пятьдесят девятом. Алешка как раз только-только в школу пошёл.
Игнатов Николай Григорьевич. А его, министра заготовок СССР, только по телевизору видеть и довелось. А муж тогда рад был, будто бы вживе встретился со старым другом. Хороший человек, раз Саша к нему так душой прикипел.
Военный комиссар Одинцов. Один. Дай бог, чтоб и в этом году приехал на встречу ветеранов, Крым — он не сказать что и далеко… дай бог! А Зиночка Ворогушина… то есть давно уже Швецова, давно уже бабушка, но все думается о ней как о Зиночке Ворогушиной, — она наверняка будет, созванивались на днях. Да можно было и не спрашивать, Зиночка ни одной встречи ветеранов не пропустила.
Полевой. Селезень. И знала-то их без году неделя, и прошло-то без недели пятьдесят лет, как их не стало, а всё равно — как родня. Земские — так и вовсе родные, потому что их Валюша — из родни родня, хоть и не по крови. Завтра пойдут Марина Алексеевна с Валюшей и с Лидой на «Батарею Земского» в Дворянском гнезде и на место, где стоял дом Марии, Валюшиной мамы. Помянут и родных Валентины, которых она только по фотографиям и помнит, и пропавшего без вести Лидиного мужа Митю, и всех, кто им родня, кровная или некровная. А пока — вот они рядом, имена. Дядя и племянница, погибшие при обороне Орла. Он — у орудий своей батареи, собранной с бору да по сосенке, она — позднее, помогала людям укрыться от бомбёжки, чужих детей спасла, свою осиротила. И кто её за это осудит?
Имена погибших и живых — рядом. Так правильно.
И первое в списке: «Старший майор госбезопасности Годунов А.В.».
Человек, о котором школьникам известно почти все, историкам — все, а краеведам — все и ещё немножечко. Любой местный гид без труда покажет место, где разбился самолёт первого командующего Орловским оборонительным районом, следовавшего из Орла в Ставку. Возле скромного четырёхгранного обелиска сейчас, наверное, живые цветы. Красные гвоздики, как заведено. И на обелиске, рядом с именами погибших лётчиков, те же самые слова: «Старший майор госбезопасности Годунов А.В.».
Легенда. Так правильно. И нужно для хорошей — несмотря ни на что, хорошей! — большой легенды.
А в Мурманске была своя, местная, житейская. Но тоже героическая. Александр Александрович Орлов, инвалид войны, слепой на один глаз и с плохо действующей левой рукой, двадцать лет проработал в школе учителем труда и попутно создал прославившийся на всю область отряд «Юный моряк». Не делил школяров на своих и чужих, на обычных ребят и детдомовских. В газетах и на радио их часто величали «юнгами Орлова», а в обыденности — просто «орлятами». Вот и вышло, что батей Сан Саныча звал не один только шалопай и умница Алешка. «Наш батя» — это ж ведь ничуть не хуже, чем «легендарный командующий Орловским оборонительным районом», а?
И только два человека знали, что не было ни представителя Ставки Годунова, ни Заслуженного учителя Орлова. А был вышедший в запас капитан третьего ранга, с которым приключилось невообразимое, о чём и в книгах, наверное, не пишут. По крайней мере, учительница литературы Марина Алексеевна Орлова таких книг не знала. А вот мужа своего знала очень хорошо. И никогда не ставила под сомнение ни одно его слово.
Второй — Матвей Матвеевич Мартынов. Лучший друг. А по совместительству — чекист и писатель. Как чекиста его приставили к странноватому, будто с неба свалившемуся старшему майору госбезопасности, хоть никому всерьёз и не верилось, что диверсант может настолько обнаглеть. Как писатель он поучаствовал в создании Легенды. А как друг — просто поверил. Поверил однажды постучавшемуся к нему в дверь смутно знакомому немолодому человеку, который рассказал такое, во что и поверить, наверное, невозможно.
А вот Саша, правильный, логичный, разумный, привыкший во всем докапываться до сути, никак не мог толком объяснить даже по прошествии многих лет, почему принял рискованное решение рассказать истинную свою историю… наверное, потому, что никому не под силу одному тащить такую ношу. А с кем же её разделить, как не с тем, кого уверенно можешь назвать другом? Вот то-то и оно.
И с ней, с Мариной, снова свёл его догадливый Матвей. Как раз здесь вот, в Первомайском. И аккурат первого мая. А поженились они уже в Мурманске. Шестого июня сорок шестого, так уж выпало. Саша тогда ворчал, не то в шутку, не то всерьёз: не многовато ли шестерок? Число, говорил, не ахти какое. Марина посмеивалась. Ну не привыкла она верить в приметы. И правильно, что не привыкла: жизнь прожили, как говорится, душа в душу.
Однажды, много лет спустя, сидя за праздничным — по случаю приезда Матвея — столом (Алешки не было, как раз в армию ушел), Саша обвел их взглядом и сказал весомо: не в приметы надо верить, а в людей. И добавил: а ведь первая встреча с Мариной случилась у него много лет тому вперед, и тоже в Первомайском. Статная пожилая женщина в крепдешиновом пиджаке, а в руках — красные гвоздики. А потом он видел её на Посту, на встрече с юнармейцами, даже фамилию её — Полынина — в книжечку записал. А как встретился с ней в прошлом, так и не сообразил. Уже потом…
Марина Алексеевна кладёт к стеле с именами свой букет и кивает внучке: пойдём. Объяснять ничего не надо, дорога известна: на противоположную сторону улицы Сталина, к церкви Александра Невского, что поставили на месте двух старинных, почти до основания разрушенных во время городских боев.
Неяркий — будто сквозь золотистый покров — свет. Пропитанная запахами ладана и воска сень. Светлая бронза ликов, нарядные оклады. Среди икон Марина Алексеевна безошибочно находит ту, к которой шла: на потемневшей от времени доске размером чуть побольше ладони — светловолосый воин, в руках — поднятый крест и меч вниз остриём. «Заступник орловский, — однажды сказал Марине Алексеевне молодой русоволосый священник, заметив, что она задержалась у этой иконы. — Из прежней ещё церкви. Как уцелел — неведомо. Промысел, не иначе.
Промысел. Едва заметная крепкая нить, связующая времена и людей.
Марину Алексеевну набожной не назовешь, воспитана иначе, но одну молитву она знает накрепко:
— …Молим Тя, приими убо отшедших к Тебе воинов в сонмы воев Небесных Сил, приими их милостию Твоею, яко павших во брани за независимость земли Русския от ига неверных, яко защищавших от врагов веру православную, защищавших Отечество в тяжкие годины от иноплеменных полчищ…
Они не ушли. Они здесь. Она помнит, Мартынов помнит. Алешка… сыну всего и полностью, конечно, не расскажешь, даже и слов не найдешь, но он знает и о Полевом, и о Селезне, и о Земском… А об отце, так выходит, — всего меньше. Матвей в прошлый свой приезд показал рукопись, озаглавленную «Три жизни Александра Орлова».
«Ты, Мариш, получается, мой единственный читатель. Это ж, сама понимаешь, не для публикации. Это для тебя, для Лёшки, для Шурки… Сама решишь, когда и как им показать».
Марина Алексеевна смотрит на внучку: до чего ж всё-таки на деда похожа… светлоглазая.
— Поехали, Александра, и так уж парня задержали. Хороший парень, понимающий.
…Новый жилой квартал местные, не мудрствуя лукаво прозвали «девятьсот девятым», по номеру на плане города. Просторный, с детскими площадками, со сквериками в густой тени многоэтажек, с собственным стадионом… Правда, деревья толком ещё не подросли, так что бабье лето здесь поскромней, чем в центре.
— Фёдор свет мой батькович, ну разве ж это игры? Фу, тоска-тоска, огорчение. Вот «казаки-разбойники» — это да, это и для ума, и для тела пользительно, — восклицает маленькая пожилая женщина в модном жакете и шляпке набекрень. И добавляет, потешно копируя интонацию бабушки Удава из любимого Шуркиного мультика: — А ну, молодёжь, собирайся-снаряжайся, сейчас я вас воспитывать буду.
— Здравствуйте, Марксина Петровна! — в один голос здороваются бабушка и внучка.
Шляпка вздымается над головами сомкнувшей круг детворы всего-то на полметра («Рост мой война съела да подавилась, проклятая»), и чтоб разглядеть, кто ж это поздоровался, Марксине Петровне приходится приподняться на носочки.
— А, Орловы! — радуется она. — Физкультпривет вам, Орловы! То-то, чую, от Лидии запахом пирогов тянет умопомрачительно, и Валя со всем семейством с утра пораньше прибыла.
— Вы заходите, бабушка Мара, — просит Шурочка. — Я вам сто-олько интересного порасскажу!
— Зайду, а как же? Кто ж у вас иначе запевать-то будет?..
Что такое второй этаж для отставного пилота? Пара пустяков, даже и лифт ни к чему.
И вот уже заливается соловьиной трелью звонок, и…
— Ну здравствуйте, дорогие мои, родные!..
Необходимое послесловие
Необходимое послесловие. О невымышленных.
Авицук Николай — слесарь орловского вагонного депо, в реальной истории — подпольщик, руководитель молодёжной группы, переживший заключение в фашистских застенках, погиб в 1944 году на станции Хотынец.
Земская Мария — в реальной истории подпольщица из молодёжной группы Владимира Сечкина, расстреляна в 1942 году вместе с годовалой дочерью Валей.
Игнатов Николай Григорьевич — второй секретарь Орловского обкома ВКП(б) (1941), в реальной истории один руководителей партизанского движения в Орловском крае, в послевоенные годы секретарь ЦК КПСС и министр заготовок СССР.
Катуков Михаил Ефимович — видный советский военачальник, в боях на Орловщине командир 4-й танковой бригады, вскоре переименованной в 1-ю гвардейскую. Впоследствии маршал бронетанковых войск. В Орле ему посвящена экспозиция музея школы № 37.
Мартынов Матвей Матвеевич — корреспондент ТАСС по Орловской области, с 1940 года сотрудник органов государственной безопасности, в рядах которых прошёл Великую Отечественную войну. Впоследствии писатель, краевед, крупнейший исследователь истории орловского подполья и партизанского движения, увековечивший память десятков героев «незримого фронта».
Танасчишин Трофим Иванович — в боях на Орловщине командир 36-го отдельного мотоциклетного полка. Впоследствии генерал-лейтенант танковых войск. В реальной истории погиб в 1944 году погиб в районе города Вознесенск Николаевской области.
Федосюткин Андрей Дмитриевич — председатель райисполкома г. Дмитровск-Орловский, в реальной истории один из руководителей партизанского движения на территории оккупированной Курской области. В послевоенный период на различных руководящих должностях. Почётный гражданин Курска (1982).
Швецова (в девичестве Ворогушина) Зинаида Александровна — в реальной истории боец орловского истребительного батальона, затем партизанского отряда имени Дзержинского. Её фотопортрет военных лет — в экспозиции Военно-исторического музея г. Орла.
Ну и наконец нельзя не сказать о наших современниках: не раз появившемся на страницах книги гвардии майоре запаса Рассоха Сергее Сергеевиче, действующем начальнике Поста № 1 г. Орла, и о Владимире Николаевиче Пискунове, человеке, который стал одним из прообразов главного героя. В.Н. Пискунов — капитан третьего ранга, руководитель клуба «Юный моряк», действующего на базе орловской школы № 10, человек, который не на словах, а на деле трудится во имя будущего нашей страны. На него и его ребят можно взглянуть здесь: http://www.орелшкола10.рф/klub.php.
Орёл — Ростов-на-Дону — Таганрог
2012–2018
Примечания
1
Гремит по миру ее повелительный крик,
На ее следах кровь и смерть
Следуют орды рабства,
Виселицы, разрушение и смерть
(обратно)2
Поэтический перевод Е.Яворский
(обратно)3
«Буря и натиск»
(обратно)4
Товарищи! Стрелять, пожалуйста, не надо! Я хочу сдаться. Я рабочий, не нацист! Товарищи! Я честный солдат, я не немец, серб! Я не нацист! Нацисты негодяи, а не честные солдаты. Они убивают мирных жителей, женщин и детей! Я видел это в Кромах! Я серб, не немец. Меня зовут Андри Навка! Я мобилизованный, у меня нет желания бороться за немцев! Сербы должны бороться вместе с русскими против фашистов (немецк.).
(обратно)5
Я не Ханс. Мое имя Андри, Андри Навка (немецк.).
(обратно)6
По собственному желанию, точно, товарищ! Я сам честный серб! В грузовике ящики с гранатами. Забирайте (сербск.).
(обратно)7
Да, там ящики с гранатами. Я серб, я не стрелял, только водил грузовик. Привез их к вам, убивать немцев (сербск.).
(обратно)
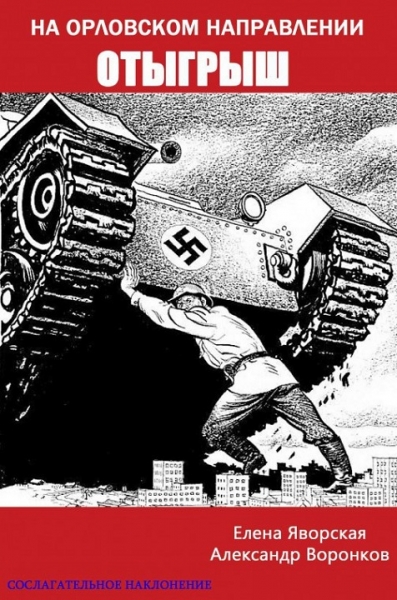


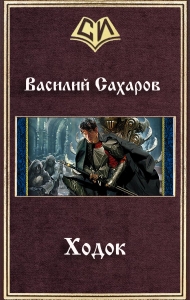




Комментарии к книге «На орловском направлении. Отыгрыш», Александр Владимирович Воронков
Всего 0 комментариев