МАРЧИН ВОЛЬСКИЙ
ПЕС В КОЛОДЦЕ
Marcin Wolski
Pies w studni
superNOWA, 2000
Перевод: Марченко Владимир Борисович, 2019
ПРОЛОГ. КОЛОДЕЦ ПРОКЛЯТЫХ
Стон колоколов вибрирует, отражается от стен крутых улочек, скользит по медным блевательницам водостоков, распугивая с чердаков стаи птиц, которые с шумом крыльев взмывают в солнечное небо, не вызывая ни малейшего впечатления на каменных чудищах, таящихся вокруг башен собора. Спокойствие этих монстров контрастирует с настроем людской толпы: потной, волнующейся, многоцветной, похожей на тушу какого-то древнего дракона. И такой же как он – прожорливой. Чернь что было сил напирает на кордоны, выстроенные из городских стражников и герцогских гвардейцев вдоль дороги, ведущей на Площадь Плача, как если бы этот дракон желал насытиться чужим страхом, болью, смертью. Я хорошо знаю своих земляков; взятые по отдельности, это добрые, почтенные люди, плачуще над каждой издохшей собакой или прибитой мухой. Но в стаде они страшны, безжалостны, безумны. Не раз и не два наблюдал я в битве: пока сражаются мужчина с мужчиной, повернувшись лицами один к другому; в таком бою есть нечто благородное, захватывающее; но как только одна из сторон сдает тылы, строй ломается, все правила и элегантность куда-то теряются, а победители превращаются в орду жаждущих крови вампиров. А лица толпы? Вот куда девается обычное их добродушие, индивидуальная красота? Чернь обладает исключительно гадкими рожами.
Ансельмо, нет ли тебя среди этой толпы? Мой дорогой приятель, прилежный писарь, копиист моих томищ, поверенный в наиболее скрытых мечтаниях, совестливый доносчик, совершеннейший обвинитель, другими словами: мой убийца per procura (со стороны органов управления – лат.). Наверняка ты скрылся в какой-нибудь лоджии или в темной нише, ожидая финала, чтобы наконец-то спокойно вздохнуть, пойти в трактир или bordello и там забыть то, чего забыть невозможно.
Ну а ты, Светлейший Господин, потираешь ли ты украдкой свои короткие пальцы в кольцах, услаждая себя афродизиаком из чудесного кубка мести?
Сквозь дырявый низ повозки, в которой бьется сейчас мое сердце, вижу я деревянную мостовую, засохшие следы конских яблок, а вместе с ними – стебельки зеленой, весенней травки между брусками. Они убегают от меня, словно все те минувшие дни и часы. Сколько раз спешил я этим путем, будучи ребенком, будучи студентом, будучи начинающим художником, в конце концов, будучи самим собою, мастером Альфредо Деросси, прозванный "Il Cane", наш дорогой Фреддино, его приватность…. Пст! Это тайна, все знают, кто.
Эй, вы, наклонные откосы, выступающие из каменных стен словно задницы базарных торговок. Не где-то л рядом с вам видел я Маргериту, когда с кувшином на голове шла она, колыхая бедрами – и всем миром влюбленного шестнадцатилетнего паренька? А Лючия, маленькая, прелестная словно гибкая тростинка, разве это не ей покупал я в ближайших ларьках туфельки, расшитые золотой нитью в азиатские драконы, райские птицы… А Клаудия, сколько же это весен минуло, когда возле Ворот Оружейников вручила мне письмецо, в котором назначалось первое свидание с Марией…
Помню, как ранним летом стоял я вместе с Ансельмо где-то здесь, неподалеку от рядов с антиквариатом, осматривая бенедиктинские манускрипты из Кастелло Бланко, содержащие считавшиеся давно утерянными работы Аристотеля. Мы не заметили двуконного экипажа, пока тот не притормозил. Вороные лошади громко фыркнули. Мы подняли головы, в окошке, между раздвинутыми занавесками мелькнуло бледное, благородное лицо, с карминовыми устами и сросшимися бровями…
- Клянусь брюхом Бахуса, синьор, она нам улыбнулась! – воскликнул мой приятель, поверенный, ученик и предатель.
"Не тебе, а мне, дурачок", - подумал я и тут же вновь пожелал очутиться в ее объятиях, пить наслаждение из ее губ, взобраться на нее, словно на волшебную лошадку и летать над миром.
Моя повозка остановилась, до меня донеслась барабанная дробь. Мы находились на Площади Плача. Еще будучи малым ребенком, я боялся этого места. Там, где никогда не вырастает трава, как правило, разжигали костер для ведьм и еретиков, неподалеку скрипела виселица, из соседствующих бойниц торчали копья, на которые насаживали головы преступников, казненных на здешнем эшафоте; в пяти шагах далее, рядом с громадным котлом, в котором варили фальшивомонетчиков, начинались узкие, крутые ступени, ведущие в сторону двери в стене, за которой открывалась пропасть, предназначенная для того, чтобы в нее бросали детоубийц, на поживу воронам и стервятникам. Да и сегодня эти птички слетелись стаями, явно вынюхав неизвестным мне образом грядущую казнь. В конце концов, здесь же находился Колодец Проклятых, по легенде, ведущий до самого центра земли, и который, вроде как, выкопал сам дьявол по приказу императора Апостата. В давние времена сермяжной веры казалось вполне возможным, чтобы бес мог призвать из адских пропастей армии чертей против набожных христиан. И горожане на полном серьезе, когда заканчивалось очередное столетие, со дня на день ожидали пришествие Армагеддона. Никто из горожан не помнил, когда этой штольней пользовались в последний раз – вполне возможно, что Колодец стоял, не используемый с тех времен, когда Джованни Леоне сбросил в его бездну неверную супругу – Джиневру Галльскую, согласно преданиям, прекрасную, будто весенний день. Зато развратную, словно ночь шабаша. Бывало, в ходе уроков рисования, когда мой preceptore (наставник – ит.) предлагал мне рисовать архитектурные детали, я садился на прохладной, замшелой колодезной обмуровке, и, несмотря на страх перед головокружением, с любопытством заглядывал в мрачную глубину, пахнущую вовсе даже не преисподней, а какой-то старой сыростью с прибавлением таинственного и трудного для идентификации запаха, и потому ужасно беспокоящего. Быть может, именно этот специфический запах вызвал, что городские стражники, нищие и те, у которых вино отобрало сдержанность речи, называли его "Старой Пиздой". Еще рассказывали о безумном монахе, который во времена охоты на катаров, желая доказать, что он не еретик, положился на Суд Божий и, словно Эмпедокл в кратер Этны, вскочил в эту бездонную дыру, и через неделю вылетел оттуда в виде белой птицы.
Неподалеку от колодца чернело окошко подвала, в котором морили голодом должников-рецидивистов, и ход в камеру пыток с пресловутой Железной Девой и ложем Прокруста… Но вот что придумано сегодня для меня? Ох, много хлопот доставил я в последние дни органам правосудия в Розеттине. Знаю, что в Трибунале много спорили о том, как следует меня казнить, ибо, как человека благородного у меня имелось право на эшафот, зато как еретика меня следовало сжечь. Вообще-то, наша iustitia имела множество возможностей – вырывание плоти клещами за святотатство, каменование за разврат молодежи, сожжение за чары… Суд переложил принятие решения в руки эрцгерцога. Клянусь пупком Венеры! По моей причине этот слабый человек, походящий на миногу мужского полу, должен был наконец принять какое-то решение. Какое? На его месте, я бы приказал насадить себя на кол, хотя то и был азиатский обычай и для многих гуманистов считающийся необычным. Но какое еще наказание должен был он выбрать…
Ведь мое главное и единственное преступление не могло быть никогда раскрыто. То, что я писал книги, вдохновленный древними мужами, что проводил запрещенные исследования, что игрался в алхимика и хирурга, философа или шута – это, возможно, и можно было каким-то образом простить. Под напором ханжей осудить на бичевание, потребовать публичного покаяния, изгнать в конце концов… Только ведь не это представляло суть моего преступления.
Боюсь ли я смерти? А разве существует какое-либо создание, которое бы не боялось неизвестного? Вы же видели, как умирает верный пес, когда глаза его затягиваются бельмом, или как умирает смертельно раненная птица, трепещущая в наших беспомощных руках. Да, боюсь И испытываю громадную печаль. Ведь столько чего мог бы я еще совершить. Прежде всего же, страдает мое любопытство, что не узнаю я, что случится через год, через день, через мгновение. Хотя, а разве некто, испробовавший хоть капельку жизни, не знает о ней уже всего? Как там писал об этом мой отец:
Какова ты, Смерть?
- Громадная тишина, черный матовый мрак; холодая, мягкая безмерность, благословенное беспамятство…
Тогда почему же тебя боятся?
Понятно, молодые - перед ними будущее, радость, счастье, по крайней мере – надежда…
Но старцы? Почему боятся те, которые даже надежды не могут уже иметь?
Они боятся Твоей тишины, хотя сами уже издавна глухи; боятся Твоего мрака, хотя издавна уже слепы; опасаются Твоей безмерности, хотя давно ужк утратили чувство измерения; боятся беспамятства, хотя памяти в них давно уже нет.
И, тем не менее… судорожно держатся, отчаянно, искривленными пальцами, беззубыми челюстями жалких остатков существования.
Они словно вонючие лишаи на прекрасном лице мира.
Забери их, Смерть! Убей!
Дай то, что единственно можешь дать:
тишину, мрак, забытье и переход в ничто, раз уж не в состоянии вернуть молодости.
Благословенная Смерть.
ЧАСТЬ I
1. Родившийся в сорочке
Мой отец, Луиджи Деросси, был пьяницей и поэтом. В те времена подобное частенько шло в паре. Вот только, что ни в одной, ни в другой области значительных успехов он не добился. Впрочем, мне не дано было этого познать, поскольку умер он еще перед моим рождением во время исторической осады Сан Анджело, превосходно описанной Пьеро делла Наксиа и Де белло Анджелико. Вот только ошибался бы тот, кто считал бы, что мой старик пал в бою от укола рапиры или пораженный мушкетной пулей. Ничего подобного. На следующий день после взятия города, пьяный не только успехом, он утонул в переполненном до всех разумных границ сортире, что отец Филиппо, душеприказчик Луиджи, отметил короткой надписью, выбитой на надгробном камне, взятым, вроде как, из псевдо-Плутарха: "А жизнь его тоже была говенной". На всякий случай ученый иезуит приказал выбить эту надпись по-гречески, поскольку этот язык не был особо распространенным в Розеттине. Так что пускай орфографическая ошибка в слове "говенной" пускай вас не удивляет.
Но вернемся к штурму Сан Анджело. Смерть моего отца случилась как бы по его собственному желанию. Когда пушки Карло дель Франческо осуществили пролом в южной, ослабленной действием времени стене города, а защитники, за исключением горстки наёмных горцев-монтаньяров, защищавших Палаццо Дукале, показали спины, все из осадных лагерей рванули в город насиловать и грабить, что заняло у них весь вечер, ночь и утро. Отца среди завоевателей тогда не было. Насиловать он не любил, грабить же не умел. Впрочем, он признавал особенный кунктаторский принцип, что и одно, и другое само придет к нему.
Как призванный цирюльник и медик-любитель, пару дней после победы он переживал свои жирные дни. Когда в лагерь возвращались нагруженные всяческим добром триумфаторы, чтобы довольно быстро обменять свою добычу на услуги моего отца – бритье, вырывание зубов, удаление обломков пуль или же впрыскивание катаплазмы против только что подхваченного сифона. Не удивительно, что после похода на Салтону, которая, веря в защиту непроходимых болот, отказала слушать Розеттину, Луиджи смог приобрести просторный, гордящийся своей высотой дом на Крутой улице. На этот же раз он обещал себе купить сельское имение, что позволило бы ему войти в круг нобилей. У него даже был присмотренный участок в Монтана Росса, где как раз открыли античные развалины. Земля в той округе, помимо винограда и оливок, охотно родила древние медали, сердолики, геммы и камеи, нередко инкрустированные драгоценными камнями. Вдоль виноградников шел древний акведук, и роя вдоль него, крестьяне напали на гробницу, наполненную сокровищами и сказочными мозаиками. Гробницу разграбили так, что от нее и камня на камне не осталось, зато сохранился таинственный источник, в котором, как утверждали местные горцы, слишком ограниченные, чтобы что-либо придумывать, по ночам привыкла плавать последняя нимфа. Проблему после многих лет окончательно должен был разрешить падре Филиппо, но об этом позднее, поскольку я не закончил рассказывать о делах, связанных со стратегией отца по вопросу изнасилования.
Как всегда бывает после штурма, в лагере появилось множество пленных женщин, в основном – девиц и молоденьких вдовушек. Поначалу они представляли собой мрачный предмет желания, повод различных поединков и главный выигрыш в карты или кости. Только весьма быстро доступные девки становились привычными, а в дороге домой с каждым днем становились ужасным бременем. Лишь немногим рыцарям хватало отваги привезти такую домой в качестве подарка жене. Луиджи с охотой участвовал в гуманитарной акции обмена пленниц на другие ценности. Обманутых он отсылал в монастыри, а недонасилованных из жалости удовлетворял. Ведь был он человеком добрым, разве что немного не от мира сего, наилучшим доказательством чего была уже упомянутая смерть в клоаке. Что касается этих последних мгновений его жизни, свидетели согласиться не могут; одни утверждают, что, незадолго перед тем, как утонуть, отец мой взывал на помощь римского папу, другие же стоят на том, он лишь просил подтирку для попы.
Как уже упоминалось, я был посмертником, родившись через одиннадцать месяцев после завоевания Сан Анджело. Мать, даже на смертном ложе, стояла на том, что ужасно меня переносила. Злые же языки привыкли обращать внимание на мою схожесть с падре Филиппо, душеприказчиком и утешителем вдовы в трауре. Точно так же, как и у благочестивого иезуита, у меня имеются по шесть пальцев на ногах и родинка ниже левой лопатки. Но долгие годы я считал, что всяческое подобие между нами по сути своей дело чисто случайное.
Впрочем, почтенный монах оказался самым настоящим моим благодетелем, так как несчастная моя мать умерла родами. Так что можно сказать, что еще до того, как издать свой первый крик, я уже был круглым сиротой, так что вопли мои были полностью обоснованными.
Падре Филиппо Браккони, являющийся consigliere (советник – ит.) Совета Семи и в связи с этим ведущий совершенно светский образ жизни имел выданное епископом освобождение от церковных предписаний, позволяющее жить за пределами монастыря; имел весьма конкретные планы, если говорить о доме на Крутой улице (с кухонным выходом в Мавританский закоулок). Он собирался устроить там коллегиум для молодых людей из патрицианских кругов. Но на пути его встал главный и единственный бенефициант последней воли Луиджи, его брат, Бенедетто Деросси.
Сколько его помню, дядя Бенни был небольшим, пухлым типом неопределенного пола. В детстве его похитили берберийские пираты и после краткой, но, как утверждал сам дядя, весьма неприятной операции, продали его как кастрата в южные края. Правда, медик-еврей, так и не решив, должен ли стать окончательным эффектом евнух или кошерный иудей, работу спартачил, так что вышло ни то ни сё. По счастью в несчастье галеру с невольниками встретило христианское патрульное судно "Ее Величество Амфитрита", и после краткой стычки оно забрало весь груз себе. Командир "Амфитриты", капитан Массимо, огромный почитатель оперы и балета, вбил себе в башку, будто бы дядюшка Бенни представляет собой превосходный материал для певца, потому за свой счет послал его в школу кастратов в Кампо Гаэтани, откуда юного адепта быстро выгнали по причине отсутствия слуха и отрицательного отношения к царящим там сексуальным обычаям. Дядя Бенни принял решение, что с тех пор станет петь исключительно во время бритья. Но поскольку сам он щетины не имел, пришлось ему во имя исполнения обета открыть на первом этаже парикмахерское заведение, откуда в теплые предполуденные часы на всю округу выливалось его оригинальное, слегка хрипловатое бельканто. Фоном было характерное постукивание деревянных протезов по брусчатке двора. Это отбивал чечетку капитан Массимо, который, потеряв обе ноги в битве с мусульманами под Акантом, благодарным Бенедетто был принят на работу в качестве мажордома.
Щелканье ножниц, исполнение O santa pecunia фальцетом и деревянные притопы – это самые ранние звуки, которые я помню. Точно так же как запах zuppa di pomidori (томатный суп – ит.) и tortellini a la casa (итальянские пельмени из пресного теста с мясом, сыром или овощами по-домашнему) навечно будут ассоциироваться для меня с беззаботным детством, проведенном в большом, пустоватом доме.
Картина была бы неполной, если бы я забыл про тетку Джованнину, прибывшей помогать во время родов, на которую пало основное бремя заботы о новорожденном сироте. Ведущая свой род из околиц Лаго ди Капра старая дева пользовалась мнением вечно недовольной, злобной мегеры, перед которой дрожали поджилки у всех обитателей Розеттины. Язык у нее был острее, чем бритвы Бенедетто, слух же был более чувствителен, чем у летучей мыши – она могла слышать, как пятью домами далее пятнадцатилетняя дочка ювелира трахается в подвале с молодым гонфалоньером (глава ополчения пополанов во Флоренции и других городах Италии) Риккардо, вопя в момент наивысшего наслаждения, непонятно почему по-немецки: "Ja, ja… gut! Schneller… Achtung. Halt!". Что самое паршивое, тетка все это успевала сделать публичной новостью среди кумушек во время вечерней службы.
Джованнину боялись и отец Филиппо, и дядюшка Бенни, и слуги, и перекупки на рынке. С ее дороги сходил городской собачник, в праздничные дни подрабатывающий органистом. Даже муниципальный герольд, который дважды в день заскакивал в Мавританский закоулок, чтобы прокричать утренние и вечерние известия, увидав тетку, терял резон, заикался, путал прогнозы погоды с рекламными анонсами, а один раз даже обмочился прямо под себя.
Меня она тоже держала на весьма коротком поводке, отпуская не дальше броска туфлей.
- Тетушка, тетушка, можно выйти посмотреть на фокусников, что всякие штуки показывают?
- Иди, иди, Альфредо. Если это цыгане – они тебя украдут. Если евреи – на мацу перемелют!
Со своей склонностью к упрощениям и непосредственности, Джованнине сложно было удержаться где-либо на долгое время. Несмотря на щедрое приданое, ее уже через неделю изгнали из послушниц ордена хранительниц, поясняя подобное решение отсутствием мест и избытком желающих попасть в монастырь. Немногочисленные конкуренты на ее руку сразу же после первого свидания спешно отправлялись на войну, выбирали для себя профессию отшельника или должность в образовательной сфере. Похоже, я был единственным существом, которое не испытывало нелюбви к Джованнине. Почему? Ведь не раз и не два случалось мне получить мокрой тряпкой. Наверное, потому что я детской интуицией чувствовал, что эта ужасная, худая, сварливая баба безгранично меня любит.
Дело другое, что хотя тетка была готова достать для меня Луну с неба, выкормить меня грудью она не была в состоянии. Потому-то сразу она наняла мамку, живущую по-соседски высокомолочную голландку – Хендрийке ван Тарн. Корм у нее имелся круглый год, а груди у нее были громадные, как, без особого преувеличения, купола на башнях церкви Санта Мария дель Фрари. Чрезвычайное обилие корма шло у нее в паре с его качеством. Похоже, ее молоко содержало некие специфические элементы, вызывающие, что у потребляющих его детей быстрее росли зубы, им не докучали поносы, а говорить и ходить они начинали задолго до того, как исполнялся год.
Реноме Хендрийке добралось даже до монументального, возведенного из вулканического туфа и глазированного кирпича дворца графов Мальфикано, откуда вскоре за ней стали посылать с целью подкормить самого младшего своего потомка. Понятное дело, украдкой. Протестантское вероисповедание кормилицы стало помехой тому, чтобы привлечь ее на постоянной основе при дворе архикатолического вельможи. Ведь известно, что можно всосать с молоком? У одного из детей Барццуоли, которого кормила эфиопка, кожа сделалась темной, словно эбеновое дерево. Так что в пору кормления синьора ван Тарн прибывала во дворец конспиративно, через маленькую дверь со стороны реки. Весьма часто в эти эскапады она брала и меня. Хотя мне было уже года два, я беспрерывно требовал сиську и плакал, когда мне в ней отказывали. Бывало, что сидя в кармане обширного фартука мамки, я сосал ее грудь, пока та по крутой лестнице направлялась в дворцовые помещения. Как-то раз в ходе этого, что ни говори, но требующего усилий занятия я заснул. Каково же было мое изумление, когда после пробуждения я замети, что левый, мой любимый сосок кормилицы уже занят пацаном моих лет, обряженным в парчу и атлас.
- Хей, хей, - воскликнул я. – А вы, коллега, здесь не сосали!
Ответом мне был только грозный блеск черных глаз.
Шокированный, я занялся правой грудью, и так вот мы оба кормились, лупая один на другого и выслеживая, кто же из нас будет более быстрым. И вот тут мой соперник захлебнулся, отрыгнул, молоко вылилось у него изо рта. И он пустил сосок. Я признал себя победителем. Потому я непочтительно отстал от кормилицы и спросил:
- Ты кто, придурок?
- Лодовико. Только ты, хам, обязан обращаться ко мне "ваше графское высочество"!
Так я завязал знакомство с графом Лодовико Мальфикано, ставшим впоследствии моим защитником, благодетелем и виновником моей окончательной гибели. Кто знает, быть может, подсознательно он никогда не согласился со своим проигрышем в молочной гонке.
Но однажды случилось со мной гораздо худшее приключение. Дело в том, что, возвращаясь из дворца, Хендрийке застряла на рынке, заметив новую коллекцию кружев из ее родимого Брабанта. Они увлекли ее до такой степени, что она и не заметила, как я пропал. Но когда увидала, добрая женщина чуть с ума не сошла от тревоги, трижды обежала весь рынок, позвала городскую стражу и, в конце концов, потеряла сознание. Сам я толком и не помню, что же со мной происходило. То, что вспоминаю, мне кажется последствием некоего сна. А может это и вправду был кошмарный сон. Подвал, какие-то горящие факелы, странные, опьяняющие запахи; кадка, заполненная густой зеленой жидкостью, фигуры, чьи лица были закрыты капюшонами, и высящаяся над ними женщина, которая, развернув меня из пеленок, заявила:
- Это он, у него шесть пальцев и родинка.
По собравшимся пошел шорох.
- Он тебе предназначен, он тебе предназначен…
Великанша подняла нож. Я же вопил как резаный. Типы в капюшонах протянули над кадкой голые руки. Женщина делала на них надрезы, и капли крови стекали в жидкость. После этого, подняв меня вверх за ногу, женщина трижды погрузила мое тело в парящей жиже. Я орал, плевался, и наконец потерял сознание.
Один из городских стражей обнаружил меня, когда я выполз из мрачного канала: грязный, перепуганный, зато живой…
Не знаю, стал ли причиной этот вот ритуал, молоко голландки-рекордсменки или же особенный климат Розеттины позднего Возрождения, но рос я слишком даже быстро как для сироты. Меня не сломила зараза, что на переломе столетий опустошила провинцию. И громадный пожар, что годом позднее посетил город, по счастливому распоряжению судьбы пощадил дом в Мавританском закоулке. Помню наше паническое бегство, вопли тетки Джованнины, пробивающие нам дорогу в обезумевшей толпе лучше, чем какой-нибудь бердыш.
После того, вцепившись ручонками в сутану дона Браккони, я глядел на город, укутанный в золотисто-черных клубах дыма и огня.
- Глядишь, Фреддино?
- Гля… гляжу, отче-отче.
В то время я переживал период усиленного заикания, хотя оборот "отче-отче" в отношении человека, который наверняка был мне двойным отцом, можно посчитать вполне обоснованным.
- Тогда гляди внимательнее, именно так будет выглядеть преисподняя!
Я глядел, запомнил. И когда спустя четверть века мне пришлось писать фрески в капелле Мудрости божией, это видение я передал, как только мог лучше. Безграничное отчаяние осужденных на вечные муки, недоверие, что нет уже ни обратного пути, ни бегства; зависть по отношению к тем, что подняли головы, отчаяние по причине собственной непредусмотрительности. Позднее, когда работа уже была завершена, я любил вмешиваться в толпу верующих, посещавших капеллу, слушать их откровения, произносимые приглушенным голосом; следить за их суеверными, переполненными откровенным покаянием жестами. Для усиления эффекта преисподней, специально оплаченный мною сторож каждое утро перед открытием сжигал немного серы. Это стимулировало воображение, так что не удивительно, что среди потрясенных грешников на каждом шагу я мог услышать и плач, и зубовный скрежет.
Как я уже упоминал, рос я быстро, словно полевой сорняк, черпая знания отовсюду, но без склада и лада. Лишенный контакта с иными детьми ("А не связывайся с босяками, а то еще чесотку заработаешь!", - нудила тетка), в четыре года я научился читать. Когда мне исполнилось девять, я уже прочел всю отцовскую библиотеку, по тем временам весьма обширную, поскольку насчитывающую двести сорок три тома.
Эти книги нельзя было назвать полностью систематизированным собранием, труд Витрувия об архитектуре соседствовал с руководством "О всесторонних пользах от пиявок", а трактат святого Августина "О добродетели" какой-то глупец-переплетчик свел под одной обложкой с распутными "Житиями куртизанок" Аретино. (Сегодня мне кажется, что он попросту расположил авторов по алфавиту). Правда, в этом была и своя хорошая сторона: Когда, будучи живым и непослушным ребенком, я творил требующую наказания каверзу, к примеру, сам выедал теткино варенье, отец Филиппо спрашивал: "Что хочешь почитать ради покаяния?", я неизменно выбирал "О добродетели".
- Даст бог, священником вырастет, - хвалил меня иезуит.
Жемчужиной коллекции была созданная в темные века "Антология всеобщей литературы", in folio, переписываемая, похоже, безграмотными монахами, совершенно не понимающими, что они вообще переписывают. Потому там сплошняком присутствовали курьезные произведения: греческую литературу представляли "Илиада" и "Обсессия" некоего Гемара плюс кулинарная книга "Жизни сваренных мужей"; римскую – "Медный мор и позы" Ови Д. Ия; франкскую – "Плесень от Роланда"; британскую – пособие по разведению грибов "Рыжики круглого стола", ну а славянскую – "Про Крака, драку и королевну в ванне"[1].
Дополняли мое образование беседы в потемках (тетка из врожденной скупости и страха перед пожаром запрещала использовать дома любые источники освещения) с капитаном Массимо, заядлым болтуном и в чем-то полиглотом. Если, описывая свои странствования, добирался он, к примеру, к путешествию в регионы Счастливой Аравии, то далее свой рассказ он мог вести по-арабски. Благодаря чему, не успел кто-либо и заметить, я тоже освоил все эти языки. У меня еще и усы не проклюнулись – а я уже владел (понятное дело, в маринистическо-эротической сфере) и арабским, и греческим, и французским, и каталонским языками, еще я мог ругаться по-берберски и считать по-еврейски Наблюдая за людьми моря, может сложиться впечатление, что это простые люди, словно судовая швабра. Но вот безногий капитан, с душой сложной, словно астролябия, был истинным художником, и если бы нужно было выискивать в нем какие-то недостатки, то нашелся бы только один – он терпеть не мог воды.
Зато невозможно было отказать Массимо в необычайной способности к сопереживанию его рассказов. Когда он описывал плавание по бурным водам Бискайского Залива во время шторма, он делал это настолько пластично, что слушатели начинали страдать морской болезнью. Как-то раз он забавлял нас рассказом о плавании вокруг Африки, он говорил о страшной жаре, о малярии и о страданиях экипажа, умирающего от цинги.
- Спасения нет ниоткуда, солнце в зените, суши ни клочка, вокруг акулы, а у нас десны исходят гноем… - снизил он голос.
И туи в напряженной тишине раздалось бряцание. Это у преподобного Филиппо выпал золотой зуб.
Легко понять, почему в возрасте одиннадцати лет я хотел стать моряком. Открывать новые земли, заполнять белые пятна на картах, преследовать морских чудищ и знакомиться со вкусами шоколадных женщин. Хотя тогда, ясен перец, я еще не имел понятия, в чем эти вкусы должны были заключаться. Другое дело, что в те щенячьи годы я трижды в день мог менять решение, кем желаю стать – утром я вполне был уверен, что хочу быть священником, как дон Филиппо; в полдень - медиком, это уже по желанию тетки, которая мечтала, чтобы кто-то надлежащим образом занимался ее здоровьем на старость, а под вечер – моряком, как Массимо.
Тем временем судьба постучала в наш дом и в мое воображение с совершенно неожиданной стороны. А в роли Ананке – мой богини рока – должен был выступить Маркус ван Тарн, кузен моей голландской кормилицы.
2. Широкая палитра возможностей
На время карнавала у всех в Розеттине крыша съезжала. Почтенные в течение целого года обыватели вели себя словно ососки поросячьи, а весь город, казалось, забывал, что век безумств уже прошел, и что настала дисциплинированная эпоха контрреформации. Словно спущенные с цепи собаки или дорвавшиеся до меда медведи, целую неделю горожане предавались истинному безумию, чтобы затем вернуться к сдержанной будничности. Несмотря на зимние холода, город охватывала горячка, фронтоны дворцов вдоль головного Корсо и на площади над Изумрудной Лагуной покрывались волнами драгоценных тканей, галеры выстилались парчой; отовсюду доносились звуки музыки, а улицы заполнялись толпой переодетых типов. Несмотря на то, что, по словам святого Мерилле: "Люди богатые развлекаются, когда хотят, а бедные – когда их к этому принуждают", во время festa carnevale чрезвычайно демократическим образом плебс смешивался с патрициатом, атаманы разбойничьих шаек, переодевшись в восточных принцев, соблазняли представительниц старой аристократии, неоднократно переодетых монашками. Общаясь с масками Коломбины, Пульчинелло, Арлекино или Панталоне, ты никогда не мог знать, то ли ты лично разговариваешь с послом какого-нибудь королевского двора, то ли с кем-то из еще бодрящихся пиратов, то ли с отпущенным на вольные хлеба подмастерьем-текстильщиком.
Когда же наступала кульминация карнавала, безумие достигало хмурого неба. На городских стенах зажигали факелы; барки, гондолы и мосты сияли сотнями светильников; люди пили, танцевали и пели, словно всему миру осталось, самое большее, недели три существования…
Пока я сам не стал заботиться о себе, тетка не позволяла мне принимать участие в этом гадком празднестве разврата. В полдень она забирала меня в церковь, и как бы случаем по дороге я мог видеть выступления циркачей и фокусников. Иногда со ступеней базилики напротив Лоджия дель Пополо, она разрешал поглядеть на приготовления к Большому Параду. И сразу же после того бесцеремонно, не обращая внимания на все мои просьбы, она тащила меня домой. Точно так же было и с казнями – если на Площади Плача кого-нибудь колесовали или варил в масле, Джованнина вечно держала меня дома.
По данному вопросу случались даже полемики с отцом Филиппо, который считал, что наблюдение за наказаниями преступников прекрасно служит формированию юных характеров. Тетка же этого мнения иезуита никак не разделяла. Пока могла, она защищала меня от мира насилия и преступлений, обостряя тем самым мое воображение. Дело в том, что в библиотеке отца я нашел богато иллюстрированный кодекс De iustitia et concordia, и множество времени я потратил, рассматривая гравюры, изображающие насаживаемых на кол, разрываемых лошадьми или же, по ориентальной методе, попросту каменованных преступников. Через какое-то время картинки начинали вибрировать у меня перед глазами и оживать так, что я почти что чувствовал запах крови, пота, жареного мяса, а из-за пергаментных страниц до меня доносился животный вой страдающих. Но как было мне представлять карнавал во всей его разнузданности и безумии?
Есть у Платона диалог о рабе, прикованном к стене в пещере, который только лишь на основании теней, проходящих перед входом, может догадываться о формах внешнего мира. В моем контролируемом познании реальности я испытал подобные впечатления. Дружелюбный микрокосм находился в стенах дома, чуждая внешняя вселенная – снаружи. Но однажды зимой мне удалось открыть, что если подняться на чердак в маленькую эркерную башенку, которую строитель нашего дома возвел явно в приливе вдохновения, и если соответствующим образом выставить тело и наклониться, то можно увидеть просвет между Палаццо Беневентури и Тора Леоне, благодаря чему прослеживать отрезок Пьяцца д'Эсмеральда где-то в семь локтей.
Чего не видели глаза, дорисовывало воображение. В просвете мелькали флаги братств и цеховые знаки, на лошадях ехали гонцы в цветах самых замечательных родов, а потом – сплошная куча повозок и – наконец – переодетые люди. В фантастическом хороводе двигались толпы масок, как будто бы извлеченные из кошмарных снов мастера Иеронимуса Босха – всяческого рода грифоны и кентавры, гиперборейские медведи, двуногие псы с чудовищно распахнутыми пастями, элефанты и жирафы, различнейшие стриги, крылатые лошади. Многие бестии носили маски, на которых зафиксировано было лицо великих мира сего: императора, римского папы или хотя бы только подесты. В мгновение ока прокатился пышущий огнем дракон в окружении роя девиц в прозрачных одеяниях, предназначенных на поедание чудищу… Вот только, как рассказывал мне Массимо, девиц этих изображали клирики из духовной семинарии, и это, к сожалению, было видно. Чем сильнее смеркалось, тем больше появлялось огней, а звука звучала все громче и настойчивей.
Я напирал на окошко и вдруг почувствовал, что рама поддается. То ли ее небрежно вставили, то ли раствор от старости выкрошился? Я осторожненько вынул окно вместе с рамой и высунул голову наружу. Под эркером расстилалась пропасть, но вдоль окошка шел солидный карниз. Вот если бы встать на нем…
По этому карнизу я вылез на крышу, а с нее спустился на террасу. Потом по стене и по наклоненному дереву добрался на зады контор, потом обнаружил незакрытую калитку, и дорога на улицу уже была открыта. Я побаивался тетки и Господа Бога, хотя Творца и чуточку поменьше, поскольку отец Филиппо, будучи исповедником, приучил меня к дисконтному тарифу. Впрочем, возвращаться я собрался тем же образом.
Ноги сами понесли меня в сторону Корсо. И уже через мгновение я был в толпе, я плыл вместе с нею, несся на парусах, словно меня увлекала могучая прибойная волна. Эта волна вздымалась в местах, в которых соединялись проходы, выплевывающие все новые и новые толпы людей; разливалась по ступеням святынь, вновь отступала… В том месте, в котором Крутая улица соединяется с Променадом, еще догасал яростный бой на конфетти, которые метали горстями или же в искусно склеенных яичных скорлупках. Именно такое яичко взорвалось у меня на лице, и град колких шариков засыпал мне глаза и рот. Наполовину ослепленный, закашлявшись, я чуть не попал под колеса какой-то изукрашенной повозки с осмотрительно опущенными занавесками, возница которой в костюме бородатого Борея с яростью обкладывал бичом лошадей, пытаясь вырваться из толпы. Не знаю, чем он разъярил чернь, поскольку та напирала на экипаж и раскачивала его, требуя выхода некоей Беатриче и ее клиента. Парой лет позднее я имел честь лично познакомиться с содержанкой имперского посла в обстоятельствах… Но не будем опережать событий. Между ног зевак я пробрался на открытое пространство. Вокруг церкви святой Эвлалии велись стычки на маколетти[2]. Я бы сказал, тысячи бешеных светлячков вступили в беспардонную битву. Участки этого развлечения различными способами защищали длинные, зажженные свечи и пытались погасить огоньки свечей своих соседей. Смеху, шуткам и подколкам не было конца. Собственной свечи у меня не было, потому быстро протолкался через ряды перекупщиков к набережной. На Пьяцца д'Эсмеральда люди танцевали у костров, на которых сжигали зимние остатки и лишнюю мебель. Потемнело еще сильнее, я направился в сторону Кастелло, привлеченный призывами со стороны театра марионеток. Никто не обращал на меня внимания, пока я не столкнулся с Принцессой в розовой пелерине обшитой кроличьим мехом. Увидав меня, она отклонила маску. Покрытое белилами лицо перечеркивалось карминовой раной губ. Я пялился, словно окаменел. Принцесса это заметила.
- Что-нибудь нужно, малышок? – спросила она, раскрывая плащ и показывая мне пару громадных, по азиатской моде татуированных грудей. Я бросился бежать, нагоняемый презрительным гоготом женщины. Все еще шокированный, я столкнулся с троицей подвыпивших подростков. Они грубо выругались. Тут я перепугался еще сильнее.
- А ну извиняйся! – заорал один из них, одетый в хламиду древнего грека.
Я извинился, используя максимально изысканные формулы. Но они их не удовлетворили.
- Видится мне, - выкрикнул второй, чье лицо было покрыто сажей под негра, - что этот малец никогда еще мужской метлы в своей sempiterna[3] не чувствовал!
Эти слова сопровождались выразительным, вульгарным жестом третьего типа, загримированного под германского воина с рогами на голове.
Я не собирался проверять, то ли это угроза, то ли просто легкомысленная шутка. Я метнулся в боковую улочку и помчал наверх. Мерзавцы, издавая выкрики словно стервятники, побежали за мной, но костюмы и выпитое вызвали, что они быстро остались позади. Я же мчался будто заяц, которого спугнули с места, и остановился только лишь в каком-то отдаленном закоулке. Сюда не доносился шум празднества, не слышно было и погони. Сделалось уже совсем темно, а свет луны не проникал на дно городского оврага. Я огляделся по сторонам, никто меня не преследовал. Я облегченно вздохнул. И только сейчас до меня дошло, что я заблудился.
Эта часть Розеттины мне была совершенно не известна. Тесные и крутые улочки образовывали настоящий лабиринт. Вся территория была здесь складчатая, тут было полно каких-то лесенок, тупиковых двориков и тесных проходов. Я пытался идти в сторону зарева огней над портом, но дорогу, чуть ли не на каждом шагу, загораживали сплошные стены.
Мне хотелось есть и плакать, как вдруг заметил прямо перед собой мигающий огонек. Я ускорил шаг и быстро очутился в каком-то саду. Но я предпочел никого не звать, пока не увижу лица владельца светильника. Но свет исчез. Я сделал еще пару шагов и натолкнулся на приоткрытую дверь. Из-за них дуло холодом и затхлостью. Тем не менее, я вошел вовнутрь. И только через какое-то время сориентировался, что нахожусь в гробнице Бонавентури. Гробы тесно стояли на полках, некоторые из них совершенно растрескались от старости. Ниже, в крипте горели три огонька и раздавались голоса.
- Ну как, есть? – спросил тот, следом которого я пришел. Голос у него был молодой, звучный, со слегка гортанным северным акцентом.
- А ты сомневался, - ответил брюзжащий и грубый бас.
- Молодка из провинции, - добавил третий, постарше. – Толпа задавила ее возле Альбанских Ворот.
- А ну покажите.
Брюзга зажег факел, а старик одним рывком сорвал черный покров с катафалка, стоящего посредине крипты. На нем лежало обнаженное тело молоденькой, только-только вступившей в пору расцвета девушки. Буквально за секунду в память впечатались ее золотисто-рыжие волосы, не слишком-то еще развитые груди и стеклянистые глаза. Но окрика я сдержать не смог.
- Это кто там? – рявкнул грубиян и, не успел я пошевелиться, как он сцапал меня за горло.
- Шпион? – встревожился старик и блеснул ножом.
Ноги подломились подо мной.
- Оставьте его, - крикнул мой невольный проводник. – Ведь это же еще дитя.
- Инквизиция любит пользоваться и детьми.
- Погодите, так я его знаю. – Мой защитник подошел поближе и взлохматил мне волосы. – Я уверен, малшик, что ты дашь клятву никому не говорить о том, что здесь видел? – Да в этот момент я готов был пообещать совершить пешее паломничество вокруг света. – Сам я художник, - продолжал молодой человек, а человеческое тело до сих пор представляет для нас, людей, наполненный тайнами мешок. Так что иногда, вопреки рекомендпциям наших душепастырей, я обязан в этот мешок заглянуть.
- Так, синьор! – спешно сказал я, так как узнал говорящего. Им был Маркус ван Тарн, кузен моей кормилицы.
- Так что возвращаться в дом, ведь о тебе наверняка уже беспокоятся!
Так что той ночью мне не дано было участвовать во вскрытии останков. Разбойник по имени Бенвенуто провел меня домой. До Мавританского закоулка было гораздо ближе, чем я предполагал. Несмотря на позднюю пору, во всем доме горели огни, а на улице собрались зеваки. Среди людей в сенях я узнал синьора Госпари, медика, понятное дело, здесь же был и отец Филиппо.
- Знаешь, парень, что ты натворил?! – воскликнул, увидав меня, дядя Бенни, у которого удивительным образом было бледное лицо. – Ты убил свою тетку.
- Что?!
- Твое исчезновение она восприняла настолько близко к сердцу, что кровь ударила ей в мозг, и теперь она лежит, словно мертвая, - прибавил капитан Массимо.
Джованнина пережила кровоизлияние. Она лишь утратила речь и не могла владеть одной рукой. Но она прожила еще пять лет, словно птица с перебитым крылом, редко когда сходя с постели и лишь иногда по ночам толклась по комнатам в темноте. И откуда было мне знать, что так вот неотвратимо заканчивается мое детство, что раскалывается опекающий меня плафон, под которым меня растили, и с тех пор мне самому придется искать себе учителей и менторов?
Тем временем, в дом следовало нанять кухарку и попечительницу для Джованнины.
- И откуда мне брать на это деньги?! – рвал волосы на голове мой дядя. – Мы и так в догах, как в шелках: эта проклятая мода на парики разорит меня полностью!
А через неделю Хендрийке ван Тарн договорилась с Бенедетто Деросси по делу съема самого высокого этажа в доме под художественную мастерскую для своего кузена Маркуса.
Нидерландец, высокий, худощавый, со светлыми волосами, словно бы свернутыми из фризского песка, несмотря на свою юный возраст, перед тем, как прибыть к нам, успел увидеть приличный кусок мира и углубить множество наук. Не чужды были ему Лондон с Парижем, а так же странные и таинственные страны к северу от Карпат. Умелый в искусстве миниатюры, в своей коллекции он имел портреты ведущих представителей эпохи. Генрих Наваррский, Сигизмундус III Ваза, Мария Медичи или знаменитый альбионский пират Френсис Дрейк… Так что надвигается вопрос, а чего искал он у нас – лазурного неба, свободной атмосферы юга, развлечений, которых напрасно было бы искать в его протестантском Лейдене?
- Я ищу тайну, - признал он мне как-то раз, когда я трудолюбиво растирал ему краски для группового портрета банкиров из квартала, называемого Юдерией. – Я разыскиваю правду о Земле и о Человеке.
- Неужто ты не находишь ее в Священном Писании? – произнес я с такой убежденностью, что отец Филиппо мог бы мною гордиться.
Маркус засмеялся и в течение нескольких мгновений, когда стоял, задрав остроконечную бородку, он был похож на сатану.
- Эта правда дающаяся через откровение или регламентированная? Или просто собрание сказок, которое должно удерживать в повиновении темную чернь. Или, скорее, подделка чернорясых ради потребностей их бизнеса, который называется Церковью.
- Господи, неужто ты и в Бога не веришь?! – испуганно воскликнул я.
- Не знаю, - ответил Маркус. – То есть, я не знаю, существует ли Бог. Возможно, где-то далеко имеется недостижимый Создатель. Которого невозможно познать, которому мы безразличны. Пра-начало, первичный импульс, но наверняка это не тот мстительный иудейский божок, слепленный из наших собственных страхов и нашего незнания.
- Так что же существует на самом деле?
- Наш разум.
Я не поверил Маркусу. Тогда еще не поверил.
Той же самой весной, имея двенадцать лет, я начал посещать коллегиум, в котором падре Браккони был исповедником и преподавателем основ веры. Оказалось, что в результате своего предыдущего самообразования в некоторых предметах, таких как история войн или география, я значительно превышаю своих учителей, но вот если говорить о математике, то я был зеленее медных куполов на башнях Санта Мария дель Фрари.
Вместе с болезнью тетки я наконец-то освободился от короткой, невидимой цепочки, приковывавшей меня к Дому. Капитан Массимо свои протезы экономил, а дядюшка не покидал свою цирюльню. Так что я самостоятельно шатался по городу, посещал старые церкви, проник в катакомбы. Еще я завязал первые дружеские отношения. Моим самым близким дружком стал Сципио, сын богатого банкира, мой ровесник со светлым лицом херувима. Сложно описать все, иногда весьма жестокие шуточки, которые мы вместе устраивали. Плевать с моста Сан Габриэле на головы влюбленных, проплывающих внизу в гондолах, было самым невинным из развлечений. Еще мы обожали во время церковной службы подбрасывать жаб девицам под юбки и ожидать в воскресной духоте церкви, когда их визг прервет набожное "Кредо" или "Магнификат".
- А не хотел бы ты быть сейчас той лягушкой, Фреддино? – хихикал Сципио, видя, как я обливаюсь румянцем.
Безумным придумкам не было конца. Нам удалось намазать клеем епископский трон в соборе или же напоить рыжего кота чертовым зельем и закинуть его в зал Великого Совета в Палаццо делиа Синьория. И в то же самое время мы тщательно ходили в школу, читали книги, я же после обеда приходил на уроки рисунка к Маркусу.
- Рука у тебя искусная, всем техникам ты обучаешься легко, - заявил мой мастер буквально через пару месяцев обучения. – До совершенства тебе не хватает одного.
- Таланта? – с испугом спросил я.
- Знания жизни, но и оно придет со временем.
3. Первые последствия нимфомании
Прошел первый год моего образования в коллегии. После чрезвычайно сухой весны в средине июня волна убийственной жары хлынула на Розеттину, словно кипяток из перевернутой выварки. Много дней на небосклоне не появлялось ни единой милосердной тучки. Земля стала похожа на золу. Колодцы и фонтаны высохли, а Изумрудная Лагуна превратилась в мелкий и вонючий пруд. Берега отступили, открывая невероятную, много веков нагромождаемую помойку. Отвратительная тина не позволяла подойти к воде. В Синьории даже пошли разговоры об углублении в течение столетий высохшего канала, ведущего через косу Сан Джорджио, чтобы морские воды могли вторгнуться и освежить лагуну наподобие медика, промывающего гноящийся глаз. Вся жизнь подверглась замедлению, люди и животные перемещались по жаре, словно тараканы в смоле, ища лишь тенистые места. На даже самая глубокая тень не гарантировала прохлады. Даже в нашем Высоком Доме было горячо, словно в преисподней, а ночь не приносила успокоения. Потому я с радостью принял решение отца Филиппо, чтобы на время каникул отправиться в Монтана Росса, куда нас пригласила одна из богатых кающихся грешниц, Ариадна Пацци, вдова оптового торговца пряностями. И нужно же было такому случиться, что это было то самое имение, когда-то присмотренное моим папашей-покойником, понятное дело, еще перед тем, как сделаться покойником. Исключительная милость иезуита в отношении меня наверняка следовала из убеждения, будто бы я на прямой дороге, чтобы стать священником. Даже уроки живописи не мешали ему ради будущей службой Господу.
- Да рисуй себе, мой мальчик, рисуй, ведь сам знаменитый Фра Анджелико был набожным доминиканцем, - твердил он.
Быть может, достойный падре посчитал пожертвование меня Богу замечательной формой искупления собственных грехов. И при случае можно было бы доказать, что прекрасная профессия священника может переходить от отца к сыну.
Для прибывшего из душного города закуток, прозываемый Монтана Росса, казался раем. Тенистые рощи даже в самую страшную жару давали приятную прохладу, в реках и ручьях журчала вода, повсюду было множество самых различных цветов и птиц. Ну а вид с перевала Сан Витале! Мне не нужно было ничего придумывать, творя десять лет спустя картуши для гобеленов, представляющих Сады Господа Бога. Эти картины впоследствии повисли в Наибольшем Зале Совета и сгорели до единого в день моего падения.
В деревне дон Филиппо предоставил мне много свободы, так что я шатался по всей округе. В основном, в одиночестве. Дети синьоры Пацци были слишком малы, чтобы быть для меня привлекательной компанией. Я наблюдал за животными, ловил бабочек, но более всего меня привлекали уже упомянутые римские развалины и пруд нимф. Царящая засуха не нарушила подземных запасов источника, бьющего из глубокой дыры. Хрустальная вода дарила охлаждение, а если верить местным легендам – и вечную молодость. Большую часть сведений по данной материи сообщила мне кухарка Аурелия, громадная, жирная баба с лицом, усеянным разноцветными нарослями, придающие ее лицу вид шеи индюка, скрещенной с задницей павиана.
- Когда-то здесь были красивые времена, барич, - рассказывала она. – Серебряный Век, Золотой Век, Век Бриллиантовый… Земля тогда родила сама, люди были красивыми и богатыми…
- Я знаю, это во времена древних римлян…
- Во времена римлян, во времена этрусков и раньше, гораздо раньше, когда мир еще населяли гарпии и химеры, а на горных верщинах появлялись спускающиеся с неба маленькие зеленые человечки
Естественно, я понятия не имел, что Аурелия – колдунья, и что она ведет обширную магическую практику, в прибылях от корой вне всякого сомнения принимала участие и сама донна Пацци. Но все эти байки я слушал весьма охотно. В особенности – о чарах, магии и допотопных временах.
Так что она рассказывала мне о людях, превращенных в деревья, в особенности же – в платаны, из которых, особенно в околицах Кремоны, производят изряднейшие скрипки, способные издавать из себя и детский плач и чувственный женский стон (В своем Словарике Новых Выражений, который я тогда вел, моею рукой было записано: "Выяснить, что означает "чувственный"? Исследование данной проблемы заняло у меня многие годы.).
Затем Аурелия рассказывала про зеркала, способные пожирать высокомерных типов, которые слишком часто в них глядятся, и о кристалликах, обнаруженных когда-то возле местности под названием Баальбек, благодаря которым могли разговаривать друг с другом люди, находящиеся по обеим сторонам пустыни. Она разворачивала передо мной миражи о широчайших возможностях творения добра и зла, обеспечения с помощью магии удачи для себя или же возможности наслать на врагов несчастий, болезней и даже смерти. Но когда я спрашивал, кто может подобное совершать и каким образом, она отвечала, что сама не знает, только что-то слышала, или же, что в ее родной округе все волшебники давным-давно уже вымерли. Меня подзуживало спросить у Аурелии про странный ритуал, которому меня поддали в детстве, про ту зеленую жидкость, про церемонию крови… Чему могла эта церемония служить? Ради каких целей был я избран? Но тут же я прикусил себе язык Даже не знаю, почему. Лишь позднее мне пришло в голову, что та громадная женщина, купающая меня в магической кадке, могла быть сама Аурелия.
Тем временем, по всей стране раздавались мольбы о дожде. В церквях читали новенну[4], Совет Семи выслал молящую делегацию в Аква Альта, где размещалось святилище святой Зиты, традиционной покровительницы всяческих вод, от артезианских до плодовых. И все понапрасну!
Только меня в то время интересовало нечто совершенно иное. Я мечтал увидеть настоящую нимфу и окончательно убедиться в ее существовании или не существовании. Во время длительных каникул мне удалось обнаружить и гнездо ос, и огромную змею из рода посвященных Эскулапу, греющуюся на тропинке, видел я следы когтей редкой в наших краях рыси, видел и тень орла. До полной коллекции юного любителя Гомера и Гесиода не хватало лишь живой нимфы. Я сторожил у источника вечером и на рассвете, но увидал лишь серн, спешащих на водопой, а в мраке замечал светящиеся глаза каких-то хищников. В конце концов, решил я выбраться туда в полночь. Для этого я смастерил хитроумный будильник: свеча, догорая, пережигала натянутую нитку, та запускала рычаг, и горшок с водой выливался мне на голову…
Сработало. Мокрый, зато полностью проснувшийся, я выбежал в ночь. Ярко светила полная луна. Время оборотней. Только что мне оборотни! Дорогу до источника я мог пройти и с закрытыми глазами. Я был уже довольно близко от цели, когда услышал тихое пение. В первый момент мне оно показалось чем-то неземным. На грани шепота оно доходило до меня со всех сторон. Я отпрыгнул в развалины и, продираясь сквозь кусты, вскарабкался на вершину холма и осторожно дополз до самого края террасы возле давнего перистиля. Благодаря отраженному свету луны, прекрасно был виден клочок воды и фигура, окутанная вуалью, что сидела, подогнув колени, над самым краем пруда. Отовсюду шли люди, неся в ладонях маленькие светильники, из-за чего они были похожи на светлячков, сползавших по склонам холмов. Местные крестьяне: старые, молодые и в расцвете сил. Я распознавал их простой, шершавый диалект и узнавал слова.
Госпожа Воды, Госпожа Земли, Госпожа Огня – приди!
Ты, что была, существуешь и будешь существовать – приди!
Мать Великая Богов, Солнца супруга и Звезд сестра – приди.
Убереги нас от смерти, хворей и беспамятства!
Великая Изида, Великая Астарта, Великая Кибела…
Пребывай с нами!
Кибела? Но как среди простого народа сохраниться память о той, имя которой было ведомо лишь немногочисленным ученым гуманистам? После полторы тысячи лет господства христианства? Совершенно непонятно.
Под конец прибывшие уселись кружком над водой. Были зажжены пахучие благовония, и до меня добрался странный, дразнящий, сладко провоцирующий запах. Затем привели белого ягненка и черную курицу… Пение утихло. Сидящая фигура поднялась.
- Прими, Госпожа, знак жизни, знак смерти… Начало и конец. И прояви Силу.
- Прояви Силу! - хором повторили собравшиеся.
Болезненное блеяние барашка, словно ножом обрезанное кудахтание курицы. Жрица сбросила одеяние. Она стояла обнаженная, громадная, толстая, по-особенному корпулентная, со свисающими на живот грудями. Она подняла вверх руки, в которых держала зарезанных животных.
- Время перемены, - воскликнула она и закрутилась с неожиданной легкостью, а сиськи ее раскачивались, словно колокола в Санта Тринита. Я узнал Аурелия. – А нет ли кого-то чужого среди своих? – настороженно спросила она.
- Одни свои, - зашуршали собравшиеся.
- Знаете ли вы, как богини карают измену?
- Знаем, ибо мы – ее рука, ее молот, ее нож…
Я чувствовал как мое сердце стучит в дробленые куски этрусской терракоты, к которым я пытался прижаться как можно крепче.
- Госпожа приближается, я иду ее приветствовать!
Женщина повернулась и прыгнула в воду. Собравшиеся задержали дыхание, было слышно лишь пение цикад и журчание ручья. Сам пруд имел форму конуса. Плескаясь у самого берега, я никогда не пытался достать до холодного дна. Аурелия исчезла. И не возвращалась. Долго! Я считал удары пульса. Наконец вода вскипела. Выплыли длинные черные волосы. Среди собравшихся послышался вздох облегчения. Из воды выплыла фигура. Только это была не Аурелия, а нимфа! Высокая, стройная, длинноногая. Мокрое тело с резными грудями античной Дианы поблескивало в свете луны.
- Богиня! Богиня! – пронесся шепот.
Народ повалился на колени, а она стояла меж людьми, словно прямая тростинка, откинув длинные волосы, открывая божественный профиль и ослепительно белые зубы, оскаленные в вызывающей усмешке.
- Чего хотите, люди малые, люди простые и добрые?
Ответом было всеобщее:
- Дай нам воды!
- Вода – это жизнь, следовательно, вы желаете долгой жизни?
- Да, Госпожа.
- Тогда жертвуйте мне себя без остатка.
Нимфа исчезла в тени разрушенной гробницы. А мужчины шли в очереди за нею, сбрасывая с себя одежду. Шли они медленно, с задиристо торчащими, словно у греческих герм, членами. И слышно было только бряцание монет и драгоценностей, бросаемых в медный котелок. Не знаю, что они с ней делали. Но, судя по отзвукам, там происходили ужасные вещи. До того места, где я лежал, доносились странные стоны и писки, шлепки и урчания, а прежде всего – звуки, издаваемые работающей маслобойкой… И было тех мужчин тринадцать.
Подглядывая, я испытывал какое-то странное чувство. В паху чувствовалось нечто теплое и приятное, нечто вроде шевеление мурашек, попеременные волны тепла и жары. И я лежал, втиснувшись в замшелые развалины, теряя голову от виденного и слышанного, с далеко отставленной от себя рукой (чтобы она не отсохла, как предупреждал отец Филиппо), а душа моя, не осознающая, что с нею творится, уже покинула тело и кружила соколом над языческим закутком. Я и не заметил, как луну заслоняет туча, как срывается ветер. Как вдруг почувствовал под собою влагу, и стыд, и испуг…
Я очнулся. Над горами прогремел гром.
- Гроза, гроза идет! – закричали мужчины.
И действительно, близился ливень. Сразу же люди начали удирать, забыв о нимфе и едва-едва исполненном жертвоприношении. Астарта, нимфа или же волшебным образом преображенная кухарка донны Пацци как будто бы под землю провалилась. Дождь падал все обильнее, громы били в вершины и в деревья с яростью императорской артиллерии. Я боялся за собственную жизнь, ведь неоднократно заслужил удара молнии, тем не менее, любопытство взяло во мне верх. Я переждал с десяток "Аве" и спустился к пруду. Там я не обнаружил ни следа от петуха и ягненка; не нашлись и сброшенные одежды, а ливень смыл кровь.
Промокший до нитки и переполненный амбивалентными чувствами в отношении чудес, магии и поллюции, я вернулся домой.
Лило три дня и три ночи. Если во всем этом и была рука Великой Матери Богов, то просьбу она выполнила на совесть. Сам я все время не покидал дома. К моему величайшему изумлению, на следующее утро Аурелия, болтливая и прыщавая как и раньше, как будто ничего и не было, приготовила нам завтрак и прибралась в помещениях. Я уже не расспрашивал у нее про старые легенды и сказания. Во мне теплилась надежда, что никто и никогда не узнает про мое участие в их шабаше. Но почему я не рассказал об этом священнику? Ведь у меня было самое сердечное намерение. Но я ожидал возвращения в Розеттину, а потом произошло множество других событий…
Дождь закончился так же неожиданно, как и начался, в средине третьей ночи. С рассветом мир обрел все свои краски, раскричались птицы. Меня же некая фатальная сила вновь потянула к развалинам. И к пруду. Пытливая часть моего разума (это же сколько раз впоследствии приходилось мне ее проклинать) требовала рационального объяснения виденных мною явлений, полушарие, ответственное за фантазирование, требовало своей порции сказочности.
Говоря по правде, в свете дня этот уголок утратил большую часть своей таинственности. В священном кругу паслись две абсолютно реальные козы, не обращающие на меня ни малейшего внимания. Я вошел в воду. Та уже устоялась после дождя и была сейчас холодной и хрустально чистой. Бредя по отмели, я вдруг напал на штольню и сразу же потерял почву под ногами. Недолго думая, я решил нырнуть с открытыми глазами. Подводная яма оказалась не глубже десятка локтей. У самого дна я заметил довольно-таки широкую щель и, не думая ни о чем плохом, что было свойственно моему возрасту, я проплыл в нее. По другой стороне я попал в небольшой подземный прудик. Над ним царил мрак, но воздух был свежий, на удивление не затхлый, следовательно, тут имелась какая-то вентиляция. Я всегда ношу с собой огниво, предусмотрительно защищенное от влаги, поэтому, вынырнув из воды, я тут же добыл огня. Уже через мгновение я пожалел о сделанном. Вид был совершенно неприятный. На краю озерца кучами лежали черепа, принадлежащие, скорее всего, таким же как я ищейкам. Пещера была невысокая, но довольно обширная. Под стенкой я заметил логовище, устланное шкурами; рядом находилось несколько масляных светильников, указывающих на то, что проживающее здесь существо никак не является слепым чудищем. И медный котелок, куда в ту памятную ночь бросали пожертвования; рядом стоял солидный сундук. Он был закрытый и весьма тяжелый. Именно в нем Аурелия, наверняка, хранила дары своих почитателей. Без труда я догадался, в чем же состояла суть ее обмана. На глазах деревенских дурачков старуха ныряла и менялась ролями с девицей, игравшей роль Богини. После чего здесь, в пещере, ожидала конца церемонии. Но вот кем была та юная Кибела, и где она пребывала теперь? Не менее волнующим был и другой вопрос: вся ли эта магия была только лишь мошенничеством? Ведь желанной цели им удалось достичь: дождь пролился!
Продвигаясь вглубь пещеры, я напал на пробитый в камне длинный коридор. Я решил выяснить, куда он меня приведет. Говорят, что из трудных ситуаций выводят простейшие выходы, так что я совершенно не удивился, когда тайный проход привел меня в небольшую каморку возле кухни на Вилле Пацци. Выходит, этим путем можно было незаметно попасть в дом! В эту пору все здесь выглядело пустым. Аурелия, собираясь на рынок, забрала малышню с собой, а батраки отправились в поле…
Какой-то шорох. Я превратился в слух. Скрежет посильнее, и нечто вроде вздоха. На досках каморки играло световое пятно, указывая на отверстие в стене. Я поднялся к нему. Огромную спальню донны Пацци заполняли потоки света, попадающие туда сквозь окошко в крыше. Все это позволяло без труда, ведь и занавеси балдахина были раскрыты, следить за подробностями баталии, ведущейся в ложе. Изумленный, я пялился на этот необыкновенный театр. Меж бледных, широко расставленных ног синьоры мерно подскакивала большая багровая задница, переходящая в спину без особых мышц, зато покрытую темными волосами.
- О-о, боже, божечки… - ритмично стонала Ариадна Пацци, закончив хрипло: - Б-б-божечки…
- Не взывай имени Господа понапрасну, - поучающим тоном заметил сидящий на ней верхом всадник, переходя с рыси в галоп.
Мне стало нехорошо. Я узнал голос отца Филиппо.
Кто знает, возможно, этот момент и определил всю мою дальнейшую жизнь. Нет, нет, веры я тогда не утратил. Еще нет. Тем не менее, я решительно вступил на путь греха и безнадзорности. Я уже не мог полностью открывать собственное сердце своему исповеднику. То есть, понятное дело, я регулярно исповедовался ему, признаваясь в полуправдах, попросту обманывая. А чем большие запасы тайн откладывались в моей совести, тем более я удивлялся, с какой легкостью это получается.
Моими каникулярными переживаниями я ни с кем не поделился. Даже со Сципионом. Впрочем, нашими умами овладели уже совершенно другие дела. Тем летом мы оба сильно выросли. В наших беседах начали появляться темы, всеобще признаваемые в качестве табу. Я показал Сципиону вторую часть тома "О добродетели"; он же добыл откуда-то рулон со скабрезными рисунками. Для подобного рода исследований мы забирались в башенку над мастерской Маркуса, в особенности уютной днем, когда тот не рисовал, а только неведомо где пропадал. Скорее всего, пил, потому что, обычно, возвращался через пару дней с набежавшими кровью глазами и опухшим лицом. Так что местечко было самым подходящим, чтобы вести фантастические эротические россказни с собою самим в главной роли. Сын купца фантазировал о горничной, к которой он, якобы, прокрадывался ночью и имел до самого утра; я же нес чушь про дочку ювелира… Вот разговорчики были! Так что руки немели.
Пока одним зимним днем, когда, сняв панталоны, мы не дорассказывали наши истории в четыре руки, Сципио взял меня в рот, после чего предложил, чтобы я сделал то же самое и ему. Я не хотел, поскольку знал, что это означает бесспорное и вековечное проклятие, вот только не сильно мог сопротивляться. И…
Стук деревянных протезов капитана Массимо! Мы перепугано сорвались с места. Если моряк увидит нас здесь голыми, с гадкими рисунками… Движением головы я указал коллеге на окошко. Тот метнулся к нему. Дорога по карнизу была ему известна. Я же, натягивая одежду, направился к двери.
- Куда же ты делся, bambini? Дядя тебя повсюду ищет, - хрипел капитан.
- Что-то случилось?
- Синьоре Джованнине снова сделалось хуже, она зовет к себе…
Он замолчал. Душераздирающий, вибрирующий вопль донесся со двора. Крик и стук, как будто бы кто-то сбросил сверху мешок со свеклой. Сломя голову, мы побежали вниз по лестнице.
После смерти Сципион казался раза в два мельче, чем при жизни. В его глазах застыл нечеловеческий испуг. Представляю, что он чувствовал, когда поскользнулся на сыром карнизе, когда руками отчаянно пытался схватиться за стену, когда планировал к молниеносно близящейся земле… Его панталоны были натянуты навыворот, но я надеялся на то, что в суматохе никто этого не заметит.
- Это что, вор? – допытывался дядя Бенни.
- Нет, это мой соученик. Он поспорил со мной, что заберется на крышу по дереву, по стене и по карнизам.
- И его встретила кара Божья, - прокомментировал случившееся отец Филиппо. – Споры и пари – это ведь тоже смертный грех. Иди, Альфредо, помолись.
Ему не следовало меня уговаривать. В домашней часовне рядом с цирюльней, на полу из нетесаных досок, у основания портрета святого Мерилла, лицо которого вышло из-под кисти Маркуса, а моим участием был фон, наполненный цветами магнолии, я ревностно молился до самого утра. Я просил у Господа милости, прощения гораздо более худших грехов, чем споры на деньги, о том что ввергнул Сципио в преисподнюю. И о желании того же падре Браккони…
Но прежде всего – о милости к себе самому.
4. По образу и подобию
- Вот если бы он был птицей… Если бы был птицей…
Образ падающего мальчика преследовал меня долгие годы. Быть может, именно потому меня отвращало рисование несчастного Фаэтона, который осмелился управлять колесницей Солнца; Беллерофонта, сброшенного со спины Пегаса или неразумного Икара. Иногда мне даже снилось, что Сципио спасают громадные, черные крылья сына ночи, которые на лету вырастают у него из рук и раскрываются, и вместо того, чтобы удариться о мостовую, мой приятель взмывает в небо, словно гигантский нетопырь…
Наяву же о проблемах авиации я рассуждал более конкретно. Маркус неоднократно повторял:
- Придет время, Фреддино, когда человек оторвется от Земли, когда он станет парить в небесах словно Дедал или Магомет на своей кобыле по имени аль-Бурак, пока не увидит сверху Землю лучше, чем святые ангелы.
- Но ведь вы же, мастер, не верите в существование ни херувимов, ни серафимов.
- Но когда я пишу картины, мне они необходимы для моего воображения. Только не об этом я хотел тебе говорить. Хочешь летать? Полетишь! Если мы порвем узы предрассудков, отбросим балласт страха и сомнений в творческое могущество разума, мы станем словно боги. Знаешь, какую мораль следует извлечь из истории о райском Древе Познания Добра и Зла, Фреддино? Попросту твой добрый Господь Бог одубел при мысли о нашем свободном доступе к источникам информации. Ну ладно, не кривись, будто осу проглотил. Выпей со мной… А потом мы полетим в наши мечты.
Много лет спустя, по заказу французского кардинала я уселся за серьезный анализ полета птиц и стал размышлять над возможностью производства машин, тяжелее воздуха. Я чертил схемы, строил модели, проводил вскрытие птиц, прослеживая их костную и мышечную систему, размышляя над тем, как найти привод, который дал бы человеку силу альбатроса при сохранении легкости пернатого великана.
Но вернемся к Фреддино-подростку. Худому и жилистому пареньку с разлохмаченными волосами, с пальцами, вечно измазанными красками, с головой, переполненной совсем даже не подростковыми мыслями. Который, бывало, сбегал с урока, подвергая себя возможности порки, только лишь затем, чтобы послушать в таверне путешественника, прибывшего из Индий, или же отправлялся в самую Буона Рокка, чтобы наблюдать памятное затмение Солнца, предвещающее близящееся время замешательства, катастроф и упадка.
Еще помню, как в одно лето, взяв без спроса любимого ослика донны Пацци, я отправился за перевал Сан Витале, чтобы увидеть сражение. Вот уже несколько дней по виноградникам ходили слухи, что на равнине Аньяни должны столкнуться отряды взбунтовавшегося кондотьера Строцци с императорскими войсками под командованием Бастарда из Штирии. С утра в Монтана Росса я слышал из-за гор уханье пушек. И чувствовал, как кровь пульсирует живее. А двумя днями перед темя видел, как через деревушку Кампино шла наша Зеленая Гвардия, цвет республиканского рыцарства и экстракт мужского запала. Вспомогательные войска из союзной императору Розеттины. Тогда я понятия не имел о политике, не знал, что Солнце, под лучами которого греется старая Республика, уже заходит, а после поражения Строцци мы недолго будет радоваться собственной суверенностью. Как и другие, я считал, что господа из Синьории, из которых наибольшим весом обладали граф Мальфикано, знают, что следует сделать для всеобщего добра. Потому-то хватал меня за сердце и подкреплял дух образ тех великолепных доспехов, жабо или накрахмаленных воротников, носимых по испанской моде. А прежде всего, подкрепляло выражение на храбрых, воинственных и открытых лицах… Внезапно, к моему величайшему изумлению, среди группы офицеров мелькнуло юное лицо моего молочного брата – графа Лодовико. Юноша наверняка отправлялся за своими первыми знаками отличия. Я ему поклонился, но он, похоже, меня не заметил. Над самым настоящим лесом из пик кавалерии развевались флажки, дальше в ногу шагали мушкетеры, крепкие парни с надменным взглядом, безразличные к облаивающим их собакам и высматривающим их из-за заборов деревенских пацанов. Под конец везли орудия с блестящими пастями и огромными колесами, они катились среди скрежета, коротких команд, щелканья бичей и ржания мулов. А потом осталась только поднятая пыль и густой, гвардейский запашок вспотевших мужчин, заряженных адреналином. И это как раз меня удивило, поскольку лично я ожидал, скорее, запаха лавров или ароматического табака.
Через перевал Сан Витале ведет всего одна, наполовину заросшая тропа, так что на другую сторону я добрался только под вечер, никого не встречая. Птицы, похоже, напуганные, молчали; было слышно лишь жужжание медоносных пчел, гудение жуков, серебристое шуршание стрекоз. Я думал, что по другой стороне гор услышу шум битвы, скрежет сталкивающихся клинков, а моим глазам откроется увлекательнейшая батальная фреска. Меня поразила ужасающая тишина поля умерших. На берегу ручья догорала ветряная мельница и скопище деревенских домов; в воздухе ходили кругами стаи хищных птиц. Чем дальше от опушки, тем больше было мертвых тел и лошадей. Они лежали без всякого порядка, одни казались всего лишь уснувшими, других порубили, с вывалившимися кишками, разбитыми черепами, через раны вытекали мозги. Ужасно. Среди луж свернувшейся крови кругами ходили громадные мухи. До пары тел уже добрались собаки. И над всем этим вздымался совершенно непоэтический смрад – вонь пороха, крови, пота и фекалий, гари и распаханной картечью земли. Я глядел на все это в остолбенении. Куда же подевалась героическая монументальность, известная нам из описаний Ливия и Цезаря? Побоище производило самое отвращающее впечатление. Ни малейшего движения, лишь где-то сдавленный стон. Я не мог бы написать всего этого, более того, скорее всего – просто не желал бы. Из кучи тел вопила бессмыслица. Безумная логика смерти.
Среди павших преобладали тела бунтовщиков, но хватало и наших. Похоже, только лишь после отчаянной обороны люди Строцци пошли в рассыпную. А имперские сели им на шею и без пардона резали.
Внезапно я вздрогнул. Среди самого настоящего вала жестоко разорванных, похоже, взрывом картечи тел блеснули серебристые доспехи и светлые волосы, теперь слепленные кровью. Лодовико! На нем лежал, как будто пытаясь защитить юношу, седой офицер в мундире с цветами Мальфикано и огромный негр, которого я частенько видел во время парадов. И тут мне показалось, будто бы я замечаю какое-то движение. Я тут же подскочил к павшим и столкнул тела с парня. Глаза Лодовико были прикрыты, но он еще дышал. Никаких особых ранений я не заметил.
- Ваше высочество граф, синьор Лодовико! – воскликнул я.
Тот открыл глаза, но водил ими бессознательно, попытался пошевелить губами…
Я, скорее, почувствовал, чем услышал движение за спиной. Рванулся в бок, и огромный дротик пролетел всего лишь в дюйме от меня, вонзаясь в торс мертвого чернокожего. Нападавших было трое: грязных, оборванных, нагруженных добычей.
- Прочь! – крикнул я.
Правда, вышло это у меня довольно пискливо. Двое грабителей положило добычу на землю и достали короткие стилеты, применяемые профессиональными убийцами. Третий же двинулся вперед, опираясь на громадный бердыш. Я схватил брошенную офицерскую рапиру. Разбойники лишь загоготали.
- Отодвинься-ка, барчук, - рявкнул их атаман. – Не ты нам нужен, а вот этот…
Я взмахнул рапирой, но в руке бандюги свистнул бердыш, и от моего клинка остался небольшой обрубок. Страшный топор навис над моей головой… Но в этот же момент прогремел выстрел. Лодовико пришел в себя настолько, чтобы воспользоваться бандолетом (кавалерийский пистолет). Предводитель рухнул на землю, извергая кровь. Остальные гиены бросились к нам, только я уже достал нож и метнул его в соответствии с уроками капитана Массимо. Нож по самую рукоять увяз в полуголой груди. Последний из бандитов остановился, дезориентированный, как вдруг из зарослей выскочила ватага грабителей.
"Ну все, хана нам", - подумал я. Лодовико пытался подняться. Ему не хватало сил, и он потерял сознание. Кружок грабителей сужался. Я мог лишь молиться о том, чтобы смерть пришла быстро.
- Оставьте их, - услышал я вдруг знакомый голос. – Добычи с вас достаточно!
Разбойники послушались, словно овечки. Из-за их спин вышла ведьма Аурелия.
- Ах, барич, барич! – воскликнула она. – Ну кто же заставлял вас лезть в такие неприятности?
Я не отвечал, но вместе с тем не спрашивал о том, откуда взялось необычное послушание разбойников. Вдвоем мы подняли юного графа.
- С ним ничего не станется, - профессионально оценила кухарка состояние раненого, - только его необходимо отсюда забрать.
Ослик ожидал там же, где я его оставил. Молодого вельможу мы посадили на него и отправились в обратный путь. Вновь нас окружил тихий, не нарушенный войной и совершенно безразличный к разыгрывающейся трагедии лес.
В Монтана Росса Лодовико пришел в себя. Там же быстро появился и разыскивающий юного графа вооруженный кортеж. Дворяне старого Мальфикано вели по отношению к нам надменно, но на прощание Лодовико обнял меня и сказал:
- Я твой должник, Альфредо. Даст Бог, я еще смогу отблагодарить.
Тогда я еще не знал, что слова сильных мира сего можно интерпретировать двояко.
Поход за перевал Сан Витале был одним из тех уроков, который мог мне много стоить. С остальными таких уж проблем не было. Я был понятливым учеником. А науки впитывал довольно всесторонне – вот только эффекты образования частенько бывали совсем не такими, на какие надеялись педагоги. Случается ведь такое. К примеру, Иона в пятницу хотел рыбки попробовать, а его проглотил кит. Святой Мерилл полжизни провел, разыскивая Святой Грааль, а сарацины взяли и поджарили его на гриле. На том же самом принципе Маркус ван Тарн обучил меня не только лишь тайнам техник рисования на доске и al fresco, искусству создания гравюр по дереву и меди, но, прежде всего, умению мыслить, задавать вопросы, драться аргументами, равно как и на кулаках.
- Мордобой ни в коем случае не может заменить дискуссии, но временами эффектно ее дополняет, - утверждал голландец.
В одной только сфере я не достиг удовлетворяющих его прогрессов – в выпивке. Ван Тарн предпочитал питье в неумеренной манере народов севера, которая приказывает заливать в себя питье так долго, пока спиртное не вытянет наверх всяческое зло, желчь, обиды и слабости… В этой дисциплине я никак не пошел по следам своего учителя. Остался я закостенелым южанином, который пьет ради веселья и живительной расслабленности. Подозреваю, что на самом деле Марк и не желал быть счастливым, а вот я – хотел.
Говоря о моих других наставниках – капитана Массимо до конца жизни я буду благодарить не только за языковую подготовку и базовые географические знания, но и за практические умения, такие как вязание узлов, метание ножа или азартная игра в кости без риска проиграть.
В свою очередь, вопреки собственным ожиданиям, Бенедетто Деросси не обучил меня цирюльному делу, технике пускания крови, промывания желудка и умению ставить клизмы – зато это он стал причиной того, что в приятной компании я могу взять мандолину и спеть парочку живых, хватающих за сердце и колени песенок из окрестностей Розеттины.
Ну а падре Филиппо Браккони? Бедняжка. Как же долго я не выводил его из ложного представления, будто бы ни о чем не мечтаю так, как о карьере духовного лица. В коллегиуме святого Аполлинария я в основном бывал первым учеником. И если получал розгой чаще, чем остальные, винить следует не мою лень, но излишнюю любознательность и постоянный водопад сложных вопросов. Регулярно я исповедовался и специально придумывал мелкие грешки под тематику планируемых проповедей, чтобы доставлять падре удовольствие, и при случае выслушивать поучения, которых пока что никто не слышал. Если запланированная тема проповеди была: "Помни о праздновании дня святого", я признавал то, что колупался в носу во время молитвы. Хуже было, когда приходила пора для "Не пожелай жены ближнего своего", но ведь всегда можно было признаться в том, что следил за копулирующими собаками.
- И больше ничего, сын мой?
- Больше ничего, отче.
- Жаль.
Падре Филиппо часто спрашивал, испытываю ли я к нему благодарность? Я был благодарен ему. И на этот вопрос мог отвечать откровенно. В конце концов, он обучил меня, пускай и невольно, искусству риторики, диалектики и лицемерия.
До всего остального мне пришлось доходить самому.
После смерти Сципио у меня было очень много коллег, но ни единого приятеля. Причем, как в самом широком, так и самом узком смысле этого слова. Ведь трудно назвать моим другом Лодовико Мальфикано, хотя у него во дворце я бывал и часто, и охотно. Молодой аристократ возвращался в форму довольно-таки долго, а компания только лишь из слуг и рафинированных кузенов была для него исключительно скучной. Со мной он мог сыграть в кости, узнать новейшие анекдоты или выслушать необыкновенные рассказы. Даже когда он уже полностью выздоровел, то все равно приглашал меня к себе, делал признания в сердечных приключениях и требовал подобной откровенности. Же инстинктивно сохранял отстраненность. Вплоть до того дня, когда какой-то черт искусил меня рассказать ему про Аурелию и Кибелу.
Ученые генеалоги выводят род графов Мальфикано от самого Нумы Помпилия, а на ветвях раскидистого генеалогического древа висят такие зрелые плоды, как, например, Мальфиканус Мученик, во времена Диоклетиана переделанный в котлету воистину адской машинкой для перекручивания христиан; или же Мальфитекс, выдающийся офицер королевы Амаласунты, не упоминая уже о двух проконсулах и одном антипапе; только каждый более-менее образованный ребенок в Розеттине знает, что история рода гораздо короче. Хотя столь же занимательная. Прадед Лодовико, Дамиано, смолоду был самым обычным пастухом в Тироле, и блеснул там, если верить устной традиции, в качестве не соблюдающего каких-либо условностей или стыда народного художника и музыканта. Как-то раз прямо на глазах ландграфа Альто-Адидже он исполнил потешную шутку с козой, не переставая при этом петь йодли. От процедуры, которую лишенные южного языкового полета немцы привыкли называть "Ficken machen"[5] и пошло прозвище Malficano. И так оно уже и осталось.
Этот же Дамиано, нанявшись на службу к кондотьеру Морозини, сделался его любимым сборщиком налогов и довел это сложнейшее искусство до истинного расцвета. Он добивался стопроцентной уплаты! Вещь, в те времена всеобщего взяточничества, совершенно невероятная! Как он это совершал? Дамиано безошибочно распознавал людские слабости и умел ими пользоваться. Помимо того, беспощадность шла у него в паре с лисьей хитростью. В отношении должников он применял различные стимулы, медлительных он наказывал, платящих досрочно – награждал. Помимо того, повсюду у него имелись доносчики и экзекуторы. Так что не платить было попросту страшно. Не удивительно, что парочка маленьких государств, вечно страдающих от бюджетного дефицита, усиленно настаивала, чтобы он сделался их генеральным сборщиком налогов. Дамиано по-христиански не отказывал, довольствуясь устраивающей всех десятипроцентной маржей. Под конец, по приглашению Синьории он прибыл в Розеттину и всего за пять лет оздоровил общественные финансы. Здесь он взял себе в жены местную патрицианку и сразу же начал возводить собственный дворец. К сожалению, люди бывают завистливыми, и какой-то наемный убийца, а может и оставшийся без средств должник (не известно, так как его порубили, даже не допросив) заколол основателя рода мизерикордией, когда Дамиано во время процессии нес балдахин над архиепископом.
- Боже, тело! – якобы, воскликнул святейший муж при виде падающего блондина из Тироля, и, как утверждают некоторые, отсюда и пошло название июльских торжеств. Summa summarum, смерть основателя рода была подлой, но вот состояние он оставил значительное, так что наследникам было что умножать. Дамиано II, прозванный Concelebrante (Сослуживец – ит.), налогами уже не занимался, у него имелся собственный банк, парочка суден, он приобрел мануфактуры, производящие оружие; еще он торговал с римским папой (брат Дамиано II, Джулиано, получил кардинальскую шляпу) и ссужал императора золотом – материальным эффектом чего стал графский титул. Деловые отношения с троном, пускай и были делом почетным, обернулись серьезным финансовым кризисом, так как Его Величество оказался несостоятельным плательщиком.
Загнанный кредиторами, Дамиано II выбрал бегство в Новый Свет, где, вроде как, умер в нищете, а может, его и вообще съели. Многие предполагали, что с тех пор род Мальфикано станет появляться только лишь в криминальных реестрах. Но нет. Орландо, отец Лодовико, поднял род из временного упадка. Всем кредиторам заплатил, дворец выкупил. Говорят, будто бы он незаконно торговал с турками невольниками, но чего только не выдумывают злые языки. Он вкладывал средства в земельные участки и произведения искусства. И постоянно он входил в состав Совета Семи. Были такие, которые утверждали, будто его мечта – это, по образцу флорентийских Медичи, совершить покушение на Республику и остаться ее удельным правителем. Но это были подозрения, не не имеющие каких-либо оснований.
Тем более, что личные амбиции Орландо сдерживала хворь, о которой мало чего было известно, кроме того, что была она из особо гадких. Хорошо информированные утверждали, что то была разновидность французской болезни, которую вельможа подхватил от собственной экономки. Во всяком случае, вечер жизни он провел внутри дворца, не покидая выделенной ему башни. Многие годы никто его не видел, так что самые различные сплетни сообщали про отпадающую от костей плоть и чудовищной вони, наполняющей донжон. Запах, якобы, глушили с помощью ладана и азиатских благовоний. Тем не менее, у голубей, которые случайно пролетали над резиденцией, голова так крутилась, что они, бессознательные, падали прямиком в пруды. Не удивительно, что все свои надежды дон Орландо вложил в сыновей: старшем, Дамиано III, который заменял отца на собраниях Совет, и младшем, моем приятеле Лодовико.
Когда Маркус ван Тарн переставал пить, он просто горел работой: возвращался к ранее начатым или брошенным холстам, переписывая их, соединяя мрачный фламандский стиль с переполненным солнцем духом Италии. Брался он и за мое обучение. За развивающие занятия, как он сам их называл.
- Искусство находится в нас, - говаривал он, - и единственное, что необходимо художнику, это концентрация, соответствующая сила воли, чтобы поднять наверх существенное, избавляясь от лишнего.
В чем-то мне не нравилось, что он не учит меня всему. Маркус до сих пор держал меня подальше от своих кладбищенских делишек, которые, насколько мне было известно, он втихую продолжал. Как-то раз мне в руки попал пакет его гравюр, изображавших человеческие внутренности: сердце, печень, почки, скелет, а прежде всего – мозг. Почему он не хотел, чтобы я изучал анатомию?
Не допускал он меня, как оказалось, после сговора с падре Филиппо и дядей Бенни, к рисованию обнаженной натуры. Права, я и сам не особо на этом настаивал. После трагедии со Сципио, эротическая сфера представлялась мне грешной и отвращающей. Долго я был глухим к призывам уличных проституток, слепым к прелестям горничных и хромым, когда другие гонялись за прелестными деревенскими девчонками. А если у меня и бывали непристойные сны, частой героиней которых была Маргерита, младшая дочка жившего по соседству мастера по производству самострелов (фирма пользовалась рекламным лозунгом "А на следующий день – будет тебе олень", то просыпаясь, залитый потом, и не только, я обильно поливал себя ледяной водой и, стоя на коленях, читал молитвы, с помощью которых можно было отогнать сатану. Понятное дело, я был непоследователен, мне же было известно, что с первой же лживой исповеди я живу в состоянии смертельного греха, и если бы меня встретит смерть, мне грозят вечные муки. Только я никак не мог с этим справиться. Иногда мне казалось, что было бы лучше, если бы, в соответствии с теориями ван Тарна, Бога вообще не было, а finis vitae походил на задутую свечу. В моей душе углублялся разрыв; перед доном Бракконе я играл кандидата на получение сутаны, а ведь знал, что это невозможно. Разве что свершилось бы чудо. Это если бы я нашел исповедника, который мог бы меня понять и отпустить мне мои грехи.
В тот день я вернулся из школы раньше обычного и побежал в мастерскую мастера ван Тарна, где нас должна была ожидать работа над натюрмортами для некоего купца из Венеции. Двери я застал запертыми. У Маркуса кто-то был? В этом ничего удивительно не было бы. Мне было известно, что многие люди, чьи портреты голландец писал, не желали, чтобы им кто-либо ассистировал. Таких клиентов художник заводил из сада, так что я никогда с ними не встречался.
Я уже развернулся и собирался уйти, когда заскрежетал замок.
- Зайди, парень, - произнес певучий альт. – Маркус выбежал за красками, я же с охотой с тобой поболтаю. Ведь ты же, вроде как, несмотря на возраст, умный и красивенький.
Из темного коридора я вошел в мастерскую; через венецианское окно вливалось столько солнца, что обращающаяся ко мне женщина казалась тенью на фоне светового водопада. Я прищурил глаза.
- Хочешь вина? – спросила дама.
Поначалу я увидал портрет Данаи в струях золотистого дождя. Данаю с ногами, раздвинутыми смелее, чем мне кого-либо случалось видеть. Данаю – не скромную царевну, но искушающую, провоцирующую наложницу могучего божества… Картина была завершена только лишь в нижней части. Лицо было обозначено всего лишь парой мазков кисти. Я обернулся и едва удержался на ногах… Модель стояла в метре от меня, закутанная всего лишь в муслин, скорее, открывающий, чем что-либо скрывающий.
Удар молнии в стог скена, вне всяких сомнений, вызвал бы во мне меньшее впечатление. На расстоянии вытянутой руки находилась таинственная дама из языческого источника.
Кибела! Астарта! Изида!
Она подала мне кубок, наполненный карминовым напитком. Моя рука дрожала так, что несколько капель пролилось мне на руку и запятнало ее муслин.
- О Боже, какой скромный молодой человек, - засмеялась она гортанно, принимая мой ступор за проявление стыдливости. – Ничего, вино сделает тебя более смелым.
Прежде, чем я мог сделать хоть какой-нибудь жест, она склонила голову и слизала эти капли с моей ладони. Я почувствовал охватывающие меня холод и жар и не мог сдержать дрожи.
Тут же ее лицо очутилось на высоте моего. Я увидел темные глаза с расширенными зрачками, выдающиеся уста и дрожащие, словно у коня благородных кровей, ноздри; но более всего она напоминала мне дикого кота, который почуял добычу.
- Bambino, ты когда-нибудь занимался любовью с женщиной? – спросила она. И тут же ее острый ноготок проехал по моей шее до самой ключицы. – Маркус говорил, что ты быстро учишься, так что поглядим.
Я собственными глазами видел, как набухли ее сосцы под муслином. Тут же она резко приблизила свои уста ко мне, но, вместо того, чтобы поцеловать, на что я и рассчитывал, вонзила свои зубки в мое ухо.
- Поначалу ты должен узнать, что любовь – это больно… Я нравлюсь тебе, а?
- Ннну…
- В устах художника не слишком-то изысканный комплимент. А мне казалось, что ты сравнишь меня с весенней зарей, с цветком апельсина… С чем еще?…
- С источником, - вырвалось у меня.
Кошачьи глаза внимательно глянули на меня, зрачки сузились.
- Источник, говоришь…
Тут скрипнула дверь со стороны сада, вошел ван Тарн, навьюченный пакетиками. Увидав меня, он остановился.
- Вижу, Фреддино, ты успел познакомиться с Беатриче, - произнес художник.
5. Не только Беатриче
Насколько мне удалось установить, мать Беатриче, Тереза, была албанкой, одной из тех несчастных женщин, которые, похищаемые из родимых деревушек или попросту продаваемые собственными, страдающими от голода семьями, весьма часто при выдающемся участии агентов Орландо Мальфикано, попадали в гаремы Стамбула и Дамаска или же в бордели Венеции, Марселя или Ливорно. И неизвестно, какая судьба была для них хуже. Терезе из Монтенегро (Черногория – ит.) каким-то образом удалось не попасть надолго ни в одно из подобных заведений. На переломе столетий она вела самостоятельную экономическую деятельность на Набережной Пряностей.
Никто не знает, кто был отцом ее единственной дочери – одни легенды говорили о самом Орландо, другие о папском легате, третьи – вообще о французском короле. Тереза, желая, чтобы Беатриче не повторила ее судьбу, отдала дочь на воспитание в монастырь в Аква Альта, но там девица уже в свои пятнадцать лет соблазнила местного органиста и покинула конвент в бочке от огурцов, погрузив сестер в немалую фрустрацию, из-за чего долго им не хотелось огурцов. Довольно скоро, когда органист с его органом ей осточертели, она сделалась содержанкой двух городских стражников, занимавшихся, в основном, противопожарной охраной Розеттины. Первый каждый вечер орал: "Гасите!", второй: "Свет!", а уж возглас: "Граждане!", они извлекали из себя в унисон. Правда, Беатриче не нравилось заниматься этим при погашенных огнях, даже в треугольнике. Так что она не протестовала, когда через пару дней ее забрал к себе амбициозный capitano delia guardia.
И вот так вот поднимаясь по лестнице постелей, в конце концов Беатриче очутилась в алькове самого имперского посла, одного из тех, более многочисленных, чем семечки в подсолнухе, германских князьков по имени Иоганн фон Кострин. Интересно то, что она связалась с ним надолго и даже родила ему сына по имени Ипполито. Могло показаться, что она угомонится, тем более, как утверждали недоброжелатели, коллекция рогов князька превышала поголовье оленей в Европе. Ничего удивительного, что, узнав о смерти своего старшего брата, тот спешно покинул дипломатическую службу и отправился в свое княжество, меньшее по размерам, чем многие латифундии в располагающейся рядом Польше.
Беатриче недолго оставалась жительницей Центральной Европы. В малюсеньком княжестве фон Костринов ей не нравилось ничего – ни пиво, ни грубые шутки. Более всего ей была омерзительна протестантская мораль, из всех порочных вещей позволяющая лишь тихонечко пускать ветры за столом. Потому при первой же оказии она покинула мужа, ребенка и вернулась в Розеттину, где приобрела небольшой дом в предместье. Чем она занималась, чем зарабатывала на жизнь – неизвестно. Наверняка она находилась под незаметной опекой агентов самого императора. Ее единственная приятельница, донна Пацци, сохраняла в этом плане далеко продвинутую сдержанность. Во всяком случае, несмотря на свои исполнившиеся двадцать пять лет, Беатриче оставалась женщиной манящей и, как сказал Маркус, "достойной того, чтобы взять под кисть".
Чем стала для меня?
Любовью? О, трижды – нет!
Увлечением? Наверное, это слишком сильно сказано…
Просто напросто, я хотел ее иметь. Как и любой из самцов Розеттины. И, что самое паршивое, мне казалось, что это будет делом несложным. Я видел ее в деле в Монтана Росса, мне были знакомы сплетни и слухи, а Маркус, по пьяному делу, утверждал, что Беатриче "дает как Мария Магдалена, прежде чем пойти по тропе добродетели". Но не все сводилось к одной только страсти. Эта женщина казалась мне ключом для понимания мира. Я хотел услышать от нее, действительно ли существуют тайные силы, или же, как считает Маркус, все это было сплошным обманом и замыливанием глаз простым людям. Понятия не имею, откуда во мне взялось иллюзорная уверенность в том, что когда Кибела очутится в моих объятиях, она тут же расскажет мне правду.
Оказалось, что это вовсе даже нелегко. Шельма подцепила меня на свою удочку, но вовсе не собиралась вытаскивать меня на поверхность. Маркус же категорически не соглашался, чтобы я ассистировал ему при рисовании Беатриче в обнаженном виде.
- Это меня отвлекает, Фреддино. А кроме того, ты еще слишком молод.
Возможно, он ревновал. А Беатриче? Мне никак не удавалось встретиться с ней, когда она покидала наш дом. Бывало, что женщина исчезала вечером, в иной раз – оставалась до утра, а мне ведь нужно было ходить в школу. Оставалась церковь, но там она появлялась как иные грешницы или вдовы, завуалированная в несколько слоев, а я же не мог заглядывать под вуаль каждой женщине.
В отчаянии я написал ей пару писем. Их я вручал вознице, всегда ожидавшему в коляске на тылах нашего дома. А к третьему из писем я приложил даже собственноручный сонет.
Когда первый раз увидал я тебя, госпожа,
В сердечко мое постучало светило,
Тобой опьянен был я, словно медом,
Я пил тебя взглядом, и все мне было мало.
Источник уст твоих, и глаз твоих тени
Под занавесками ресниц, пальмам подобных;
Долго, ах как долго гасил бы я жажду
Прежде чем нас разделил бы розовый рассвет.
Все время мечтаю о тебе, всем своим естеством:
Большая готовность и масса надежд на то,
Что когда проснусь, увижу – ты есть.
Новой жизни открываю страницы.
Знаю, что нас ничего не разлучит,
Разве что Мойры изменчивой ножницы.
Возможно, я чуточку пересолил в поэтическом везении, быть может, произведение вышло несколько претенциозным… Во всяком случае, в течение двух недель никакого ответа я не получил. А когда слишком уж настырно требовал ответа от возницы, тот, рассердившись, схватил кнут и хлестнул им меня по лицу, оставляя на нем багровую полосу. Это случилось, как впоследствии оказалось, во время последнего визита Беатриче в нашем доме. Картина была закончена. Ну а ван Тарн, почему-то печальный, в отношении своей прекрасной модели ничего говорить не желал. И вот тогда-то я разъярился. Сонеты, письма, ожидание… В конце концов, это обычная проститутка, а проституток не соблазняют, проституток просто покупают!
Я решил отправиться на учебу к капитану Массимо, базовая жизненная максима которого звучала так: "Все, сынок, в жизни можно иметь за деньги, кроме здоровья и здравого ума. Только ведь тебе и того, и другого хватает".
Говоря по правде, денег мне тоже хватало. За мою помощь в мастерской мастер Маркус вознаграждал меня, говоря по правде нерегулярно, но бывало, что весьма даже щедро. Да и клиенты, которым я в качестве посыльного относил работы ван Тарна, не раз одаряли меня приличными чаевыми. Весьма пригодилось моя сноровка в рисовании. В соответствии с местным обычаем, когда заказывали миниатюру, вместе с ней заказывали и ее копию. Довольно-таки часто богатый Pater familiae одарял своими портретами всех сыновей. А Маркус повторяться не любил. Когда я пару раз доказал, что рисую так умело, что копий нельзя отличить от оригиналов, он охотно возложил эти трубы на мои плечи, как правило, забирая всего лишь треть гонорара.
Старый моряк уже раньше уговаривал меня обрести знаки того, что я мужчина в каком-либо святилище Эроса, не ожидая того, пока дядя Бенни окрутит меня с какой-нибудь глупой телкой, или же отец Филиппо сделает из меня монаха.
- Ничто не придает мужчине уверенности в себе, как опыт в любви.
Все это я пропускал мимо ушей, но в тот день, когда боль и ярость перелили чашу горечи, я решился:
- И сколько это стоит, капитан?
- Сколько? – Массимо расхохотался. – Среди гулящих женщин большая разнородность, чем среди лошадей. А ты ведь должен понимать разницу в цене между клячей, которой место только на живодерне, и императорским конем. Точно так же и среди девок-давалок. В районе порта можно найти "мочалок", готовых подарить тебе небесное наслаждение за пару медяков. Вот только забавляться с ними – дело более опасное, чем голым кататься по муравейнику. Тогда можно воспользоваться услугами candeli…
- Свечей? Я правильно расслышал?
- Так их называют. Может потому, что чаще всего они селятся у свечных торговцев. Зато не нужно свечки, чтобы их там найти.
По выражению моего лица он догадался, что на candeli особого желания у меня нет, так что продолжил цитировать свой путеводитель – и одновременно справочник – сводника.
- Лично я предпочитаю mammazuolo, публичные дома, скрытые под вывеской Заведения Сводничества Служащих. Как инвалид, я имею там пятидесятипроцентную скидку. Ты, в качестве студента, тоже наверняка получил бы там сниженный тариф на треть. Места эти приятные, безопасные, отличающиеся домашней атмосферой. За порядком там следит La Mamma, управляющая, а подобного рода заведениях можно встретить и ученых, и людей искусства, и чиновников, и военных, для которых mammazuolo – это попросту контора, столовка, а заодно и светский салон с ненавязчивой и культурной обслугой.
- И сколько стоят такие, которые… как дамы?
Массимо лишь вздохнул.
- Сынок, здесь верхнего предела нет. Имеются такие, для которых следует быть богатым, как Мальфикано, или же могущественным, как сам император. Хотя и у них имеются свои капризы. Помню, когда еще со мной были обе ноги, в Бари втрескалась в меня некая Наннина. Никогда потом я не встречал женщины с такими достоинствами. Воистину, то было объединение Венеры и Минервы. Рассудка и темперамента. Голос у нее был глубокий и настолько нежный, что она могла бы с его помощью укрощать гиен. Манеры у нее были чрезвычайно изысканные и субтильные. А какие она на себя надевала – а точнее, снимала – одежды! Платья из шелка и бархата, расшитые золотом, драгоценными камнями и замечательными жемчужинами из Персии; под платьями она носила шелковые рубашки с золотой бахромой, на шее у нее было колье, стоящее, самое малое, две сотни дукатов. Боже ж ты мой! Белье у не было белее снега, и настолько пропитано благовониями… Хотя и естественный запах Наннины не имел себе равных. А в этом деле, сынок, я разбираюсь. Ведь запах у гулящей девки – дело самое важное: хороший нос заранее вынюхает и болезнь, и обман, и грабеж, и несчастье.
- И много она брала?
- Да почти что и ничего. Я же говорил, что она в меня втюрилась. Замуж за меня выйти хотела, только бы я море бросил, да на земле осесть пожелал. Только я никак не мог решиться. Тогда она вышла за какого-то ювелира или банкира… Ну а на старость осела в монастыре.
- Не может быть!
- Говорю тебе, Фреддино, всякая блудница в глубине души мечтает о нормальной, богобоязненной жизни. Вот только многие решают отступить, когда уже слишком поздно. Ну да разве мало великих дам начинало карьеру в борделях. Многие императрицы…
- Но как до такой добраться? Здесь, в Розеттине…
- Знаю я парочку самых лучших сводников. Они тебе помогут. Ты еще молоденький, свеженький. Сколько лет той женщине?
- Ей еще нет тридцати…
- Ну, тогда уже она почувствовала вкус в малолетках.
Сводник, пухлый словно перезрелый персик иудей, лишь спросил, кого я имею в виду. Сквозь крепко стиснутые губы я еле произнес, что Беатриче. Он не выглядел удивленным и пообещал заняться проблемой. Уже на следующий день, весь сияющий, он сообщил, что донна соглашается, а принимая во внимание мой юный возраст, готова посвятить мне время всего лишь за сиволические двадцать пять дукатов. То было целое состояние. Но,- подумал я – однова живем.
Сутенер привел меня к ее дому на Западной Дороге, к красивой вилле в античном стиле, окруженной высокой стенкой, сверху посыпанной битым стеклом с торчащими вверх остриями. Из-за них выглядывал стройные верхушки кипарисов и головы расставленных вокруг бассейна статуй. Долго пришлось бы мне штурмовать эту твердыню, если бы не волшебный ключ в форме наличности. Дверь мне открыла черная, словно безлунная ночь, служанка в куцей тунике и повела меня в атриум. Ступая по мягким коврам, я проходил мимо комнат, поражающих своей роскошью. Там были инкрустированные серебром комоды, на стенах висели драгоценные ткани, повсюду стояли порфировые вазы или статуи из алебастра. Негритянка провела меня в ванную, раздела и запихнула в воду, совершенно не стыдясь вида голого мужчины. Вот я стыдился. Но когд она сама, обнажившись до пояса, начала меня массировать и разминать, потом намазывать маслами, я ужасно возбудился и готов был согрешить даже с такой вот "темнотой"…
- Отъебись, блядь старая, - заорал кто-то гортанным голосом.
Я прямо подскочил на месте, но моя банщица только рассмеялся и показала на птицу, огромного и цветастого попугая ара, сидевшего на ветке. И вообще, в доме было полно животных: собачек, кошечек, канареек, что, как я должен был убедиться, для хозяйства проституток довольно типично. Затем Саба (потому что именно так ее звали), переодев меня в легкий пеплум, провела меня в глубины алькова. Здесь было темно, его заполнял густой, интенсивный запах… В полумраке, очень возбужденный, я увидал ложе и лежащую на нем фигуру.
- Беатриче…
Мне ответил шепот:
- Si, si, amore mio!
Тут я прыгнул, а поскольку женщина открылась передо мной, я вошел в нее одним смелым толчком… Ее ноги замкнулись за мной словно два засова. Несмотря на возбуждение, до меня дошло, что что-то здесь не так. Тело, которое я держал в объятиях, не было моей Беатриче; оно было увядшим, расслабленным, чрезвычайно немолодым…
А со стороны атриума до меня донесся издевательский вопль попугая:
- Отъебись, блядь старая!
Но у меня не было достаточно смелости, чтобы крикнуть в ответ то же самое.
Следует сказать, что Беатриче-Два хорошо наработала на свой гонорар. Хотя поначалу у меня не было особой охоты, она убедила меня, что даже путана на пенсии способна прекрасно развлечь молоденького парня. Вино, афродизиаки и чернокожая служанка сделали все остальное. Поначалу микроскопический, словно перепуганная птичка-королек, после ее стараний я почувствовал сбя кондором. На ложе я возвращался четырежды, с перерывами на подкрепляющее угощение. Куртизанка оказалась особой образованной, она прекрасно знала поэзию, интересовалась живописью, ее лицо сохранило следы давней большой красоты, ну а то, что свой период величия минул уже два десятка лет назад… Что же, никто не совершенен! Уходя, я спросил про первую Беатриче.
- Венера из Монтенегро?! Так это ее ты думал застать здесь? У тебя хороший вкус, Альфредо, и ты высоко целишься… Только опоздал ты. На добрых пару лет. Беата ушла из профессии.
- Вышла замуж?
- Она? Нет, она не захотела идти за настоящего принца…
- Так где я могу ее найти?
Женщина молчала, когд проводила меня к калитке. Собачки-недоростки пискляво облаивали нас.
- Не ищи ее, ragazzo, - сказала Беатриче-Два в конце. – Это опасно. Теперь у нее очень ревнивый любовник.
- Кто же он такой? Снова какой-нибудь герцог или князь?
- Хуже. Дьявол!
6. Кризисная ситуация
Лодовико Мальфикано обожал хвастаться. Тут я могу предположить, что дело даже не касалось того, чтобы импонировать мне, бедняку, сколько о том, чтобы делиться удовольствиями. Ведь что означает успех, о котором никто не знает. И этим его дефектом я воспользовался довольно усердно. Когда он говорил, к примеру: "Мы тут купили несколько жеребцов благородных кровей, замечательно сложенных, так не хотел бы ты объездить их со мной?", я без всяких-яких соглашался на это предложение. И вот уже мы мчались за городом по полям, рощам и пастбищам.
Как-то раз во время одной из таких поездок мы забрались до самого района Монтана Росса. Вообще-то донна Пацци и Аурелия пребывали в городе, но управляющий меня прекрасно знал и пригласил развлечься во владениях его госпожи. Я провел молодого графа к руинам, показал священный пруд, а потом, когда мы уже распили бутылку превосходного вина, язык у меня развязался, и я рассказал Лодовико про Аурелию и Беатриче (я лишь пропустил хлопотный сюжет с отцом Филиппо и донной Пацци).
Когда я закончил, глаза аристократа были размером с пару блюдец.
- Как ты превосходно придумываешь, Фреддино, - воскликнул он. – Тебе бы книжки писать!
- Это я… придумал… - возмутился я. – Клянусь честью, да пусть меня громом на месте ударит. Они и вправду здесь собираются, шабаши проводят…
- Сделай так, чтобы я это увидел, и только тогда я тебе поверю.
- Но как… Я же не знаю сроков их тайных обрядов… Погоди… - Тут мне вспомнилась одна из книг из библиотеки отца: в ней упоминалось, что наиболее любимой для почитателей темных сил является ночь с тридцатого апреля на первое мая, которую немцы называют ночью Вальпурги.
- Ночь Вальпурги? Так это же всего через три дня! – воскликнул Лодовико. – Мы приедем сюда вместе, спрячемся в развалинах и увидим все те вещи, о которых и не снилось нашим мудрецам.
С этой его концепцией я согласился, думая только лишь о том: увижу ли Беатриче снова. Тем временем, случилась стычка с отцом Филиппо. Весьма возбужденный, он с самого утра объявил мне, что на следующий день на ужине нас посетит Его Преосвященство кардинал Гаэтано, личный нунций Святого Отца.
- Он тобой весьма заинтересован, мой мальчик. Если ты ему понравишься, он возьмет тебя в Рим и устроит в самую лучшую семинарию.
- Меня, в семинарию? То есть как?
- Но ты же никогда не скрывал желания стать слугой Господа.
- Ведь Ему можно служить самыми различными способами.
- Священничество – это коронование всяческой службы. Рекомендация кардинала, являющегося викарием Священного Престола, и хорошее образование откроют тебе путь к самым высоким должностям. Я дал слово твоей матери, лежащей на смертном ложе, что направлю твою жизнь. И тогда же видел я сон, что ты добудешь великую славу, совершишь необыкновенные деяния, которые весьма будут угодны Богу в Святой Троице Единому.
Вот уже пару лет я опасался этого мгновения. И на тебе, оно пришло.
- Но, мой духовный отче, не готов я к священству! – испуганно воскликнул я.
- Тогда тебя приготовят в семинарии.
- Но ведь во мне нет уверенности в отношении своего призвания. Все молюсь и молюсь, но внутреннего голоса не слышу.
- Продолжай молиться, и ты его услышишь…
- Умоляю дать мне время.
- Его Преосвященство посетит нас завтра, сын мой.
Единственное, что мне пришло в голову, это сбежать и где-нибудь переждать все это нелегкое положение. Я надеялся на то, что кардинал уедет, все пойдет своим чередом без особых для меня последствий. Лодовико предоставил мне убежище в своем дворце. Он разместил меня в маленькой комнатке в мансарде, а слугам, если бы пришли расспрашивать обо мне люди дона Филиппо, приказал говорить, будто бы не видели меня целую неделю.
- Извини лишь за то, что не буду сопровождать тебя нынешним вечером, - сообщил Лодовико. – Мне обязательно следует идти на ужин к дону Гверани, который изо всех сил сватает за меня свою дочку, Кларетту. Вообще-то она ходит словно утка и лицо у нее даже сильнее покрыто веснушками, чем индюшачье яйцо, только ведь каждая ее веснушка стоит тысячи флоринов, так что не обращать на нее внимания я не могу.
Никогда до сих пор я не оставался один в громадном дворце Мальфикано, с сотнями помещений непонятного предназначения, с десятками ведущих, казалось бы, в никуда коридоров. Рядом с крылом, в котором я пребывал, возносился тот самый центральный донжон. Я размышлял над тем: неужто и сейчас, за узкими окнами, закрытыми толстыми и дорогими занавесями, может скрываться мифический дон Орландо, потому что никакого смрада не чувствовал. Молодой граф не поставил мне каких-либо ограничений в отношении посещения комнат, а пользоваться библиотекой прямо побуждал, так что я быстро спустился на второй этаж и начал осматривать располагающиеся анфиладой стеллажи, превращенные в замечательнейшую галерею статуй и картин. От собранных здесь богатств кружилась голова. Без особого труда я высмотрел одного Леонардо и два Рафаэля, а уж Тицианов, Веронезе и Тинторетто невозможно было и сосчитать. Но более всего меня увлек средних размеров холст "Рай", приписываемый Босху; он висел в отдельной, довольно укрытой комнате, похоже, предназначенной под рабочий кабинет, поскольку в ней стоял громадный глобус и секретер, украшенный драгоценными камнями… Заходящее солнце заливало помещение пурпуром, так что казалось, будто картина гори. Никогда до сих пор не видел я этого живописного произведения, но и сейчас трудно было поверить, что его создала людская рука, поскольку картина эта переходила все границы фантазии. Рай изображал нагих, сильно волосатых людей среди громадных, словно собор змей, настолько тонко отделанных в мелочах, как будто бы мастер Иеронимус рисовал их с натуры. Чудища были гадкими, покрытыми чешуей, с маленькими головками, тонкими шеями, переходящими в гигантские туши, снабженные необыкновенными гребнями на спинах. И там же находилось Древо Познания Добра и Зла – безлистое, зато из него вырастали громадные, округлые чашами, похожими на металлические уши. Над деревом же вздымался серебристый диск с маленькими окошечками, из-за которых выглядывали зеленые глаза малюсеньких созданий… И в саду этом было все – кроме Бога. Где что-либо подобное мог видеть мастер Иеронимус – во сне, в воображении своем, или он и вправду прибыл не из мира сего…?
И тут я услыхал шаги и голоса, они делались все ближе. Я несколько перепугался, ведь здесь я был гостем, скорее, непрошенным. Пытаясь спрятаться за занавесью, рядом с нарисованным шедевром, я выявил небольшую, приоткрытую дверь и тут же спрятался за нею. Успел. К сожалению, комнатушка оказалась ловушкой, из которой не было другого выхода, не пришлось долго раздумывать над те, какой цели она служила, так как в ней имелись небольшие отверстия, благодаря которым можно было слышать, что творится в окружающих помещениях и даже этажом выше или на первом этаже, в прихожей. Неужто это было рабочее место шпиона?
Голоса приблизились. Судя по доходящим до меня звукам, идущий спереди затянул шторы на всех окнах.
- Но, отче, как не могу сообщить я Синьорию об этой встрече? – спрашивал молодой голос.
- Я понимаю твои сомнения, Дамиано, а твоя праведность все время остается причиной моей гордости, - ответил ему другой голос, несколько скрежещущий, но наполненный особой силой, - ведь ты же сам лучше всех знаешь, как обстоят дела. Синьорию спутало бездействие, давно уже она не способна на что-либо толковое и эффективное. Там только лишь перемалывают красивые слова о Республике, которой уже практически и нет. Она тонет, словно галера с дырявым дном. А на палубе постоянно ведутся споры и ссоры, никто не собирается договариваться даже в момент угрозы. Следовательно, мы обязаны ее спасать. И не какую-то там абстрактную республику, но Розеттину, наш край. Только мы не можем осуществить этого без союзников. А с кем мы можем заключить союз? Папа нам не верит, он выслал шпионить заместителя Великого Инквизитора. Король Франции слишком слаб. Англия слишком далека, а султан по очевидным причинам в союзники никак не годится. Короче, остается лишь…
- Но можно ли доверять императору, отче? Это вероломный человек и грешник, сам занимающийся безбожной алхимией…
- Я никому не верю. Тем не менее, на кого-то необходимо опереться. Когда, с Божьей помощью, наш план увенчается успехом, мы откажемся от союзов и вытолкаем тевтонцев за Альпы. И не только ради добра Розеттины. Ради добра Италии. Как мечтал Макиавелли: будущей объединенной Италии.
- А если не увенчается?
- Оставь это мне. Теперь же иди, покажись гостям в столовой, я же переговорю с маркграфом.
Молодой Мальфикано удалился. Его отец минутку постоял перед картиной, которую в темноте осматривать не мог, и что-то тихонько урчал под носом. Потом вновь раздались шаги.
- Император передает вам свои поздравления, достойный граф, - произнес прибывший. В его голосе был слышен чужеземный акцент.
- Я склоняю чело перед Его Величеством, ваша милость. Прости, что разговариваем во тьме, но мои глаза… Вот уже много лет меня преследует тяжкая немочь, не допускающая дневного света. В последнее время глаза режет даже огонь масляной лампы. Так что я вынужден жить в полумраке и слушать, как мне доносят о том, что одни люди начинают меня вомпером прозывать, другие же считают меня жертвой особо злостной проказы…
- Его Величество знает о вашей болезни. И желает вам много здоровья.
- У вас имеется письмо для меня?
- У меня имеются полномочия для устных договоренностей. Если Розеттина покинет Антиимперскую Лигу, к которой, после поражения Строцци, ее подтолкнула безумная дерзость Синьории, она может быть уверена в милости императора и в серьезных территориальных приобретениях.
- Приятно это слышать, тем не менее, я должен быть уверен, что когда я начну свои действия, Его Императорское Величество меня не покинет. И что исполнит данные мне обещания…
- Мне позволили заверить особую милость к вашему семейству, достойный граф.
- А это означает?
- Поначалу вам следовало бы своими силами подчинить себе этот город.
- Это как раз сложным не будет. Народ ужасно возмущен бедностью и царящим беспорядком; он ожидает только лишь искры.
- И кто же ее высечет?
- Возможностей для этого немало, один идиот в подобной ситуации наделать больше вреда, чем пять манипул армии. Огонь в черни можно развести без труда, когда она высушена бедностью.
- Вы хотите вызвать бунт?
- Управляемый. Ведь перед лицом беспорядков и анархии аристократы и состоятельные люди обязательно обратятся ко мне за помощью, поскольку я один не впутан в предшествующие родовые междоусобицы, помимо того, у меня есть достаточно сил и средств, чтобы подавить движения. Моего сына, Дамиано, выберут на должность Великого Защитника. А потом…
- А если бунт не вспыхнет?
- В отношении этого можете быть спокойны, все уже готово, и наши враги сразу же очутятся в серьезных неприятностях, хотя так никогда и не догадаются, почему так…
Тут Орландо Мальфикано зашелся неприятным, старческим смешком.
- Когда это случится?
- В любой момент. Но я обязан иметь гарантии. Это низкая цена…
- У вас есть мое слово, Ваше Графское Сиятельство.
- Я желаю услышать его вслух!
- Митра. Наследуемая княжеская митра, на все время существование вашего рода…
Раздался вздох облегчения, голоса удалились, оставив меня в странном замешательстве мыслей. Я мало чего понимал из этой беседы, но из того, что понял, следовало, что отец моего приятеля только что продал свободу Розеттины.
Когда тебе шестнадцать-семнадцать лет, большую политику не замечаешь. Разве что та сама войдет в тою жизнь. Кризис Розеттины начался доброе столетие назад. Хотя сложно замечать перемены, когда те неспешны и со дня на день попросту не видимы. Хотя, если заглянуть в хроники да мемуары, люди вечно говорили о кризисе. Если верить запискам и жалобам стариков, молодежь становилась все хуже, нравы все более портились, ну а погода вообще не была такой, какой бывала…
Закат Розеттины был заметен уже с тех пор, когда открытие Нового Света перенесло взгляды и карманы всего человечества к Атлантике, а европейские витрины: Флоренция, Генуя, Венеция или же моя Розеттина неожиданно превратились в задние комнаты лавки. Великолепная победа под Лепанто вовсе не отвернула турецкой угрозы; в результате пиратства торговля замирала. А великие державы: Франция, Испания и Империя, вступившие теперь на полуостров, были словно те Божьи мельницы, в жерновах которых старые республики превращались в порошок. Республиканские правления чуть ли не на каждом шагу заменялись деспотиями, выплыли креатуры самого подлого масштаба, каждая из которых, начитавшись Макиавелли, видела себя новым Чезаре Борджиа. Ведь мало кто из таких имел отцом папу римского, а это было условием sine qua non, чтобы мечтать про объединение полуострова. Обеднела Флоренция; даже Серениссима не была уже такой, какой была, несмотря на то, что дворцы вдоль Большого Канала, казалось, отрицали очевидные факты своим избытком и роскошью. Розеттина, благодаря плодородной округе, удобному порту и развитым ремеслам, довольно долго справлялась весьма даже неплохо. Равновесие между дерущимися за власть фракциями приводило к тому, что у нас намного реже доходило до человекоубийств, и если кто и пользовался стилетом или ядом, то, скорее, чтобы избавиться от возненавиденной тещи или наказать бесчестного компаньона, чем для того, чтобы подняться на вершины власти. Сохранение же состояния разумного равновесия между императором, римским папой и французскими королями позволяло Республике находиться в состоянии хрупкой временности.
Тем не менее, начиная с памятной засухи, многие знаки доказывали, что фортуна повернулась к Республике задом; на следующий год пришло страшное наводнение, после него – нашествие саранчи. Я помню такие дни, когда тучи насекомых полностью заслоняли небо. Зато зимой наступили небывалые морозы, так что дети могли кататься по льду лагуны. В свою очередь, как раз перед сбором урожая случился такой страшный голодомор, что в провинции бывали случаи людоедства, а матери, по причине отсутствия пищи, должны были убивать собственных детей. Саму Розеттину еще защищали запасы в амбарах и золото, за которое закупали зерно на Севере и по морям сплавляли его к нам. Но старые люди говорили: что идут, мол, последние дни, предсказанные святым Иоанном Евангелистом на острове Патмос, они запирались в церквях и, бормоча беззубыми челюстями литании и антифоны, выглядывали скорого пришествия Господа. Впрочем, множились знаки и на земле, и на небе, которые даже рационалиста Маркуса переполняли беспокойством. Статуя Марии Девы в соборе заплакала кровавыми слезами, и ничто не могло этих слез остановить; молния разбила памятник Джулиано Гранде, основателя города; на южном небе появилась огромная комета, с каждым днем становящаяся все больше, так что ночи стали походить на день. Мне рассказывали, что у жителей Сицилии и Пелопоннеса от ее жара кожа начала темнеть гораздо сильнее, чем до того. Так что в страшной тревоге ожидали удара этой звезды в землю, что и по правде могло бы привести к уничтожению человечества, по мнению одних – по причине перемещения всяческих вод, другими словами, речь шла о новом всемирном потопе; по мнению же других – по причине сожжения всего воздуха в ее огне, так что все попросту задохнутся. Многие развратные богачи распродавали свое имущество и отправлялись в глушь, чтобы жить там отшельником. Хотя иные, наоборот, желая перед концом света испытать всяческие утехи, предавались неумеренному извращенному разврату. Говорят, что на западе пару монастырей его обитатели превратили в дома разврата, чему я особо не верил, потому что, хотя о том и много говорилось, никто как-то не мог привести названий этих монастырей. А последней зимой стадо громадных дельфинов, прозванных ионами, в огромном количестве выбросилось на пески Лидо ди Сан Джорджио, где – несмотря на все уговоры и усилия монахов, сталкивающих их назад в воду – животные предпочли остаться на суше, где все и подохли.
Не удивительно, что все чаще случались голодные бунты. Простой народ роптал на богачейЮ и все вместе задумывались над способом умолить разгневанного Творца. Ожили давние конфликты различных партий.. Гуэрани искоса глядели на Пацци, Урбини – на Гривальди, а наемные убийцы Барцуолли убили сына Торрелли возле Соляных ворот в самую Страстную Пятницу. Ко всему еще появилась новая хворь, одни говорили, что вызванная интимными контактами, другие – будто бы разносящаяся даже через поцелуи. Трудно было в это поверить, поскольку дядя Бенедетто, который через какое-то время заболел ею и отдал Богу душу осенью, когда меня уже не было в Розеттине, давным-давно уже ни с кем не целовался, а телесные вожделения остались для него в далеком прошлом. У заболевших начиналась горячка, настолько ужасная, что из всех пор у них исходил кровавый пот, после чего они умирали, а те немногочисленные, которым удалось выжить, в основном, очень молодые люди, теряли зрение.
Так что нет ничего удивительного, что все, за исключением, возможно, только меня, поскольку я был занят поисками Беатриче, задавали себе вопрос: "Кто во всем этом виноват?". Сомнений не было у отца Филиппо, а еще больше – у Джузеппе, его молодого ученика, который только что прибыл из Испании.
- Все эти бедствия – кара за грехи наши!
Здесь следует поместить пару слов про Джузеппе ди Пьедимонте. Никогда мне не удалось углубиться в душу этого монаха. Чрезвычайно худой, с глазами, горящими словно два вулканических кратера, казалось, он совершенно был лишен искушений и чувств, представляя собой людское воплощение архангела. В иное время предупредительно вежливый и чрезвычайно скромный, в выгоревшей, заплатанной сутане, стоя на амвоне, он преображался в пророка родом, скорее, из Ветхого, чем Нового Завета. Было нечто в его взгляде и в голосе, что лишало тебя воли, вызывая в аудитории напряженность, возбуждение, что заставляло слушать его и соглашаться с тем, что монах говорил. Лично меня он раздражал, но вот находящимся в состоянии фрустрации горожанам он казался воскрешенным Савонаролой.
- Жители Розеттины! – вопил он. – Сатана со своими отрядами приближается! Испорченность достигает дна, но кара будет неизбежной и чудовищной. Город вскоре истечет кровью, женщин отберут от их мужей, а все девицы будут изнасилованы. Все святилища рухнут, не останется камня на камне от дворцов ваших, в которых дикий зверь устроит берлогу свою!
И горожане, побледневшие, перепуганные, слушали его. И я сред них.
Сравнивая Джузеппе с Савонаролой, биографию которого я прочитал впоследствии, я заметил знаменательное различие между ними. Наш монах не призывал к отречению от богатств, не настаивал на строительстве Царства Божия на земле. После пережитого в ужасном XVI столетии иллюзий в отношении к эффективности подобного рода призывов сомнений у меня не было. Зато Джузеппе призывал к бдительности и к крестовому походу против врагов – как видимых, так и невидимых. А среди видимых противников были: еретики, художники, колдуньи и евреи.
Помню ужин в Высоком Доме, когда началась касающаяся монаха дискуссия между доном Филиппо, дядюшкой Бенни, капитаном Массимо, Маркусом ван Тарном и доктором Гаспари, который пришел обследовать Джованнину и остался на ужин. Маркус спрашивал у иезуита:
- А не опасаетесь ли вы того, что колесо страхов и подозрений, запущенное в движение этим монашком, вы уже не будете в состоянии остановить?
- Господь Небесный говорит через уста Джузеппе, - ответил мой "отец-отче". – Он пробуждает нас и призывает опомниться, представляя громаду наших грехов и невыносимую легкость бытия.
- Но ведь этот монах играет с огнем, - поддержал ван Тарна Гаспери. – Вчера в своей проповеди он нападал на Вавилон, говоря об очаге беззакония и жажды власти… Одни видели в этом наступление на Синьорию, но другие понимают, что он имеет в виду всяческую власть: императора, папы римского…
- В то время, когда судно нашей отчизны постепенно идет ко дну, - вздохнул Бенедетто, - необходим кто-то, кто спасет его, и если Господь посылает нам такого человека…
- Только ведь горе будет всем, если безумие опередит рассудок, - отозвался Массимо.
- Нет безумия в случае человека Божия.
Точно так же, как и у нас за столом, так и во всем городе царило огромное возмущение, тем временем же, тридцатого апреля, утром, Лодовико, я и слуга по имени Рикардо, ничего никому не говоря, покинули Розеттину, направляясь в сторону темнеющего горного массива, у подножия которого располагалась Монтана Росса.
7. Ночь дьявола, дни сатаны
Проклятое любопытство. Иногда я подозреваю, что оно у меня сильнее инстинкта самосохранения. Сегодня мне кажется, что без него я мог бы прожить спокойную жизнь в качестве не последнего живописца, преподавателя или даже священника… Тогда почему оно вечно заставляло меня гоняться за неведомым, закрытым, опасным?
До Монтана Росса мы добрались на закате, еще до того, как пурпурные рефлексы охватили западную часть небосклона. Лошадей и слугу мы оставили в миле от развалин. Я повел молодого графа по известной мне тропке, окружавшей пруд и вытоптанной, наверняка, спешащими на водопой сернами и муфлонами. На всякий случай Лодовико захватил с собой два кавалерийских пистолета, я же – чтобы спастись от дьявольских искушений, небольшой крест, принадлежавший когда-то моей матери-покойнице. Мы пробежали через оливковую рощу – тихую и сонную – не встречая ни пастуха, ни пасущей гусей девчонки.
Добравшись до места, мы спрятались в густо обросшем кустами гроте, сформированном из завалившихся стен восточной части виллы. До священного пруда тут было раз плюнуть.
- Здесь, синьор, мы можем подождать.
- Ты командуешь, - усмехнулся Лодовико.
До полуночи была куча времени, поэтому ожидание мы сокращали, играя в кости (я выиграл!) и попивая вино из баклажки. А потом меня сморил сон.
Разбудила нас музыка флейт и удары барабана. На сей раз никто не пел. Высунув головы, мы увидали священный круг, залитый лунным светом. Вокруг источника ритмично, словно собственные тени, плясали фигуры в масках: птиц, животных, змей. Танцующих, судя по движениям, было более двух десятков человек разного пола. Я бы сказал, в Монтана Росса вступил карнавал. Но Аурелии я нигде не мог заметить… Зато когда музыка достигла крещендо, из пруда, с плеском, появилась Беатриче, нагая и прекрасная как и когда-то. Все ей кланялись, целовали в зад и в естество, как на шабашах привыкли почитать сатана и его представителей.
- Вот если бы у меня имелась какая-нибудь маска, я обязательно спустился бы туда, - шепнул мне в самое ухо Лодовико. Дыхание у него было горячим, глаза горели, словно у молодого волка.
- Они могут быть опасны, граф. Если бы они тебя распознали…
- Обожаю опасность!
Музыка усилилась, ритм подвергся ускорению, флейты совершали шумные тремоло, как вдруг Беатриче выбралась из круга обращенных к ней рук и вскочила на поваленную колонну.
- Эуохе! – приказывающим тоном воскликнула она.
- Эуохе! – ответили ей участники церемонии.
И они начали сбрасывать с себя одежды, быстро, словно фасоль чистили.
- Eviva l'amore!
И тут одежды посыпались, словно снег, обнаженные фигуры стали кружить возле пруда. Там были мужчины, но и множество женщин с замечательными формами. И вот тут я подумал, что это не живущие поблизости крестьяне собрались ради древнего обряда. Совсем наоборот, судя по украшениям, поблескивающим на обнаженных телах, это элита Розеттины встретилась на порочной оргии.
Объятия (которые следовало бы назвать лапанием) танцующих делались все смелее; кто мог, тот хватал избранницу и тащил в сторону. Прямо мимо нашего укрытия пробежала молоденькая девица с распущенными волосами, а ее догоняли два возбужденных сатира. Один из них, брюхатый словно сам Бахус, споткнулся о выступающий корень и рухнул лицом вниз. Мальфикано ни секунды не раздумывал, он высунулся из-за кустов и стукнул упавшего пистолем в заднюю часть головы. Потом сорвал с него маску козла и натянул себе на лицо. Разделся донага он всего за секунду.
- О Боже, что ваше сиятельство вытворяет?! – шепнул я.
Присоединяюсь к этим играм. А как только найду еще одну подобную маску, возвращусь за тобой.
Он сбежал вниз и прильнул к Беатриче, которая ритмично поворачивалась на сваленной колонне. Лодовико схватил ее в объятия…
Свист! Один, другой, третий. И сразу же сделалось тихо. Танцующие замерли. Со всех сторон круга выдвинулись фигуры в капюшонах. Одни их них несли с собой зажженные факелы, у других были заряженные мушкеты. Ими командовал Лино Барццуоли, capitano delia guardia, с непокрытой головой. Рядом с ним, неся крест, шествовал в белой рясе Джузеппе ди Пьедимонте. И тут же загремел его громкий, острый будто стекло голос:
- Бери колдунов!
Гвардейцы направились вниз. Танцующие, одурманенные вином, музыкой и похотью, безоружные, позволяли вязать себя, словно бараны. Одни сдавались, другие предлагали все свое имущество, чтобы иметь возможность себя выкупить. Весьма немногие, а среди них и Лодовико, пытались защищаться. Мой приятель вырвал рапиру у одного из гвардейцев и нанес тому укол. На его лице все так же была маска козла. Он повалил очередного из нападавших, третьего и скачком направился в сторону руин. Я схватился на ноги. Черт подери! А ведь ему могло и удастся. Лодовико брал уроки фехтования у наилучших миланских мастеров. Это же поняли и нападавшие. Кто-то прицелился из бандолета. Грохнул выстрел, и пуля пробила юноше плечо. Он пошатнулся, но перехватил оружие левой рукой и пришпилил очередного гвардейца. Между ним и оливковой рощей стоял всего один солдат с нацеленным мушкетом. Целился он прямиком в грудь молодого аристократа. И промахнуться никак не мог.
- Сдаюсь! – завопил неожиданно Мальфикано и резким движением сорвал с себя маску. Похоже, мушкетер его узнал и остолбенел, потому что оружие он опустил. Тут просвистела брошенная рапира и вонзилась в грудь гвардейцу. Мгновение, и темнота деревьев укрыла Лодовико.
- Ага, попался, - прошипел у меня под ухом чей-то голос. Кто-то схватил меня за плечо. Инстинктивно, я вырвался из рук нападавшего и побежал прямо перед собой, не обращая внимания на вопли гонящегося, затем встал на краю стены и прыгнул в темноту, в спасительную глубину пруда. Слава Богу, я попал прямиком в колодец. Вода замкнулась за мной. Еще мгновение, и я нашел тайный лаз. Выплыл я уже с другой стороны, в тайной камере. И сразу же высек огня.
- Браво, Фреддино, - донесся до меня шепот Беатриче из темноты. – Пока что нам удалось, но ведь это только начало.
Понятное дело, я сразу же хотел удирать. Куртизанка удержала меня.
- И куда ты хочешь бежать, парень? Гвардейцы повсюду. Мы попали им прямо бы в руки.
- Так ведь и здесь они тоже сейчас будут. Они же видели, как я прыгнул. Меня станут искать. И наверняка догадаются, где я спрятался. А у меня нет ничего, кроме этого вот ножа.
- Сомневаюсь. Скорее уж они посчитают, что ты утонул. Слишком уж они суеверны, чтобы ночью нырять в поисках твоего тела. Впрочем, мы усложним их задание… Пошли, поможешь мне.
В подземном пруду находился кусок камня, идеально прилегающий к отверстию; он явно был приготовлен для такого вот случая. Совместными усилиями мы заткнули проход.
- И что теперь? – спросил я.
- Подождем, пока твоя одежда высохнет. Опять же, мне так кажется, что ты очень хотел встретиться со мной, так что у тебя появился случай.
Она села рядом со мной: нагая, влажная, близкая. Я тут же почувствовал возбуждение. И смущение. К счастью, она не имела никаких причин сопротивляться. Девушка коснулась губами моих плеч, прикоснулась пальцами к моему… Я извергся.
- О, bambino, - весело шепнула Беатриче. – Я и не знала, что ты настолько готов. Но подожди.
Долго ждать не пришлось. Ее гуды совершали со мной удивительнейшие вещи, уже через малое время, насыщенный силой, истекающей из ее тела, я вновь был готов! О, чародейское мгновение, в ходе которого каждый из нас кажется себе Колумбом и Орфеем! Я вошел в нее сильно. Резко… Беатриче погрузила свои ногти в кожу на моей спине, из ее уст исходило урчание страстной волчицы. Урчание это, по мере того, как мы вместе стремились выше и дальше, удивительнейшим образом сплетенный из боли и наслаждения, становилось все более и более высоким. Девушка подавила крик, погружая зубы в моем плече. Не без причины искусные в любви франки называют любовное исполнение сладкой смертью. Для меня оно означало возвращение на землю; как только я кончил, возбуждение тут же куда-то улетело. Я почувствовал себя на удивление глупо. Как будто бы, проснувшись, я внезапно вспомни, что был всего лишь одним из ее любовников. Поцелуи перестали доставлять мне радость. Ей же – наоборот. Беатриче была ненасытна.
Когда мы немного отдохнули, она стала меня расспрашивать, как я сюда попал. Тогда я рассказал ей о том, что видел над прудом много лет назад, признавшись, как сильно мне хотелось увидеть ее еще раз. Тогда, обеспокоенная, она спросила, кто еще знал о нашем походе.
- Если не считать графа Лодовико и слуги семьи Мальфикано – никто.
Тут Беатриче ненадолго задумалась.
- Меня предупреждали, что готовится засада. Я не верила… А ты видел, кто конкретно командовал нападением?
- Capitano Барццуоли.
- Porca madonna! Я же могла это предвидеть, тем более, если учесть, что в забаве участвовали Торелли, Пацци и Гривальди… За ними могли шпионить ищейки, служащие другой партии. Ну а того сумасшедшего видел?
- Кого?
- Брата Пьедимонте. Я его боюсь. В предсказаниях Аурелии сказано, что по его причине придет страшное несчастье. Море огня, море крови.
- А вы не можете его удержать?
- Как?
- Колдовством!
Беатриче расхохоталась.
- Ты веришь в колдовство, парень? Я – нет. Аурелия – дело другое, она разбирается в травах, умеет лечить и ворожить. В ее семействе сохранились, переносимые из поколения в поколения знания древних авгуров и гаруспиков[6], только она не умеет ни чудес творить, ни прибегать к помощи сатаны, которого она, как сама мне клялась, никогда не встречала.
- Но я же сам видел, как в результате ваших предприятий полил дождь.
- Так ведь он и так должен был пойти. Аурелия, а в особенности, ее ревматические кости, прекрасно предсказывает перемену погоды.
- Ну а та церемония… Ты как Кибела?
- Для меня то было игрой, для Аурелии – заработком. Ведь запасы человеческой наивности бесконечны. А вот сегодня… Неужто ты считаешь, будто бы видел настоящий шабаш? Разве прилетал кто-нибудь на метле или петухе? Или появился сатана собственным лицом? Нет! Паре десятков уважаемых граждан захотелось потрахаться на пленере и пережить чуточку языческого ужастика… Хотя теперь, как я подозреваю, у многих теперь мурашки по коже бегают.
Через пару часов, отвалив плиты, маскирующие вход во второй туннель, иы выбрались наружу через руины этрусской гробницы. В возбуждении я совершенно позабыл с места своих любовных возбуждений какую-либо памятку, а к тому же я потерял нож, полученный от капитана Массимо. Возвращались мы по горам, подальше от людского жилья. Под самой Розеттиной мы разделились. Беатриче жарко поцеловала меня.
- Прощай, ragazzo! Мы уже никогда не встретимся.
- Почему?
- Вскоре я покину этот город. Помни, верь в себя. Аурелия, которая довольно неплохо умеет ворожить, утверждает, что тебя ожидает большое будущее. Что ты изменишь судьбы мира.
- Я?
- Повторю только то, что говорила она.
Был уже почти что полдень, когда я очутился в Розеттине. Город кипел. Возбужденные люди, забросив работу, собирались в кучи и говорили только об одном: о ночной операции городской стражи и об утренней проповеди фра Джузеппе.
- Схватили, якобы, два десятка колдунов и столько же ведьм.
- Да не два десятка, а две сотни.
- И среди них представители наилучших семейств.
- Сама донна Гривальди с сатаной спаривалась!
- А потому что лишь сатана мог желать иметь эту бабищу.
Наибольшая толкучка царила перед Palazzo delia Guistizzia, куда доставили арестованных, и где трибунал отцов доминиканцев под председательством самого кардинала Гаэтани начал свое расследование. Как говорили, в них участвовал и Пьедимонте. Среди черни я видел и перепуганных представителей родов, из которых были арестованные, они пытались хоть что-то пытались узнать про ожидавшей их близких судьбе. Некая толстая торговка, увидав адмирала Торелли, высокого мужчину с благородным лицом, который пришел расспросить о задержанном сыне, грубо заорала ему:
- Отец колдуна, отец колдуна!
И на вельможу посыпались куски грязи и конского навоза.
У нас дома я застал атмосферу наивысшего напряжения. Цирюльня была закрыта, а капитан Массимо, который стерег закрытые ворота, выглянул через маленькое окошко.
- Господи, сынок, куда же ты подевался? Вот уже два дня тебя все разыскивают; твой дядя Бенедетто весь на нервах, а у донны Джованнины был очередной приступ.
- И…
- Язык у нее совершенно отобрало, она лежит словно колода, медик говорит, что никаких особых надежд у нее нет.
- Бегу к ней!
Массимо раскрыл створки, а впустив меня, тщательно закрыл их на засов.
- Падре Браккони станет спрашивать, где ты был. Станет, - с нажимом повторил он.
К этому я был готов.
- Граф Мальфикано взял меня с собой на охоту, - сообщил я.
Тетка лежала на кровати, и была она белее простыни. Казалось, она уже и не жива. Но, слыша наши шаги, женщина открыла один глаз. Меня она узнала. Уголок губ в левой, не охваченной параличом части лица, дрогнул в эрзаце улыбки.
- Я тут, тетя, - сказал я. – Целый и здоровый.
Она протянула мне худую, высохшую руку… Я осторожно взял ее, начал ласкать. И рассказывал про свой поход в горы, описывая красоты природы, прелесть солнечного заката. Я ще долго говорил что-то и после того, как она заснула.
Потом я побежал в мастерскую Маркус. Он не работал; сидел бледный, запухший, с бутылкой в руке.
- Хочешь? – протянул он ее в мою сторону.
- Я не стал отвечать, просто сделал хороший глоток огненной жидкости, так что глаза чуть не вышли из орбит.
- Учитель, можешь ли ты объяснить, что происходит? – спросил я.
- Начинается охота.
Я не понял.
- Охота на ведьм. Как в Аррасе в средине пятнадцатого века, как еще совсем недавно в Камбрезисе, как во Фриуле. Всегда это проходит одинаково: одни и те же, иррациональные обвинения, пытки, суд, костер. И безвинные жертвы.
- А если схваченные докажут свою невиновность, если окажется, что то был не настоящий шабаш, а только лишь глупая забава…
Маркус внимательно поглядел на меня.
- Святая простота; они ведь давно уже осуждены. Этот тощий доморослый Торквемада давно уже готовился к этой операции. Народ же почуял кровь. А когда простонародье почует кровь, в особенности, если это кровь людей богатых и влиятельных, до сих пор неприкасаемых, оно делается еще более заядлым, чем гончая, идущая по кровавому следу. Сам подумай, это событие очень многим будет на руку. Оно отвращает внимание черни от реальных проблем, усиливает имперскую партию в Синьории. Вот, погляди, у меня здесь список схваченных. Как-то так случилось, что в него включены люди, ассоциируемые с папской партией. Если бы у меня юыла хотя юы тень доказательств, я сказал бы, что это очередная интрига Мальфикано…
Тут я чуть не захлебнулся.
- Пей, не спеша, жаль содержимого. – Ван Тарн отобрал у меня бутылку. – А кроме того, сейчас тебя начнет расспрашивать падре. Нужно быть очень внимательным…
- Почему вы, учитель, считаете, будто бы я должен быть очень внимательным?
- Чтобы не ляпнуть какой-нибудь глупости. Я ведь знаю, что ты там был.
Мне показалось, будто бы он разговаривал с Беатриче, только Маркусу и не нужно было с кем-то говорить, чтобы узнать правду.
- На твоих сабо до сих пор красная пыль из Монтана Росса, к колету прицепились ягоды боярышника, из-за того, что ты продирался сквозь заросли. Но не бойся, я тебя не выдам. Впрочем, знаю я их эти невинные забавы. И даже знаю, как станут описывать их на пытках.
- Рывком он сорвал покрывало на мольберте. Я замер: там был изображен знакомый античный круг, пруд; изогнувшиеся в танце обнаженные женщины. Некоторые из них били поклоны громадбному дьяволу на козлиных ногах с мордой то ли змеи, то ли насекомого; а над развалинами вздымались десятки созданий, настолько страшных, что я окаменел, видя их.
- Ты видел все это, учитель?
- Выдумал, - рассмеялся тот. – Но на пытках нечто подобное выдумает даже человек, човершенено лишенный фантазии.
Падре Филиппо появился только к ужину. Усталый, он едва лишь меня заметил. Только за супом гневно рявкнул:
- Ты меня ужасно подвел, Альфредо. Его Преосвященство спрашивал о тебе, а ты…
- Мы с молодым графом заблудились во время охоты.
- И на что же вы охотились в эту пору, потому что, насколько мне известно… - перебил он меня. Но не закончил, так раздались громкие удары в дверь. И тут же мы услышали отчаянный женский крик:
- О Господи! Да пропустите же меня к моему священнику!
Иезуит вздрогнул. Точно так же, как и я, он узнал голос Ариадны Пацци. Священник нервно сглотнул слюну и обратился к Массимо:
- Откройте, капитан.
Женщина вскочила в вестибюль, словно перепуганная куропатка. Одежда и волосы женщины были в беспорядке. На пухлых щеках были видны следы слез. Она сразу же упала на колени перед священником и завела:
- Спасите меня, падре. Они уже чуть было меня не схватили, но я сбежала. Они повсюду разыскивают Аурелию… Мою кухарку… Только я ни о чем не знаю, клянусь. Я сама была в городе, а шабаш состоялся в моем имении. И теперь меня подвергнут пыткам, О Боже, Боже…
- Успокойся, женщина. – Никогда еще я не слышал, чтобы голос моего "отца-отца" звучал столь бесстрастно. – Если ты невиновна, как говоришь, в что я горячо верю, с тобой ничего не случится. Давай пройдем в соседнее помещение, ты откроешь мне сердце…
И они вышли.
- Дура-баба, вместо того, чтобы приходить сюда, ей следовало бы бежать из города, - прокомментировал случившееся Бенедетто. – Помню, что лет десять назад случилось в Аквилее. А ведь там нашли всего одну ведьму, а не целое стадо.
Какое-то время все молча ели. У меня аппетита не было.
- Альфредо! – Из-за двери часовни показалась голова дона Филиппо. – Если перед тем он был бледен, то теперь его лицо налилось багрянцем. – Побеги к брату Джузеппе и попроси незамедлительно прибыть сюда, еще сообщи капитану Барццуоли, что у меня имеется свидетель, готовый дать показания. – Видя мою нерешительность, он прибавил: - Я должен сделать все, чтобы спасти бессмертную душу этой женщины.
Несмотря на позднее время, толкучка перед церковью Санта Мария дель Фрари была немилосердной. Хотя, судя по человеческим лицам, в них напрасно было искать милосердия – наоборот, была заметно некое рвение, за которым скрывался страх. Здесь молились, а точнее – перемалывали молитвы в ожидании очередного указания монаха из Пьедимонте. Когда я прибыл туда, он как раз вышел на ступени церкви. И тут же сорвался вопль, словно дуновение вихря в ветвях перед бурей, и он же мгновенно замер, когда frater выбросил руки вверх, застыв с прикрытыми, словно в трансе, глазами. А толпа, словно послушный дирижеру оркестр, замолкла и замерла в ожидании.
- Братья. Вспомните слова: И вошел змей похабный в город наш, и отложил свои отравленные яйца. А из каждого нарождается тысяча новых змей, что оплетут нас, ведя к проклятию вечному. Ибо велика предательская сила сатаны. Только позор слугам его, а мир – правоверным и набожным. Только помните, милейшие мои, сегодня овцам стоило бы завести рога, а ангелам – меч. Необходимо выжечь каленым железом, вырубить святым мечом все больное, дьявольское, гадкое.
Он заставил, чтобы слова его повисли в воздухе, а отовсюду раздавались крики восторга, словно горячий воздух из кузнечных мехов. Слушатели казались единым телом и единой мыслью, хотя то и была мысль, порождающая ужас. Я подошел к фра Джузеппе после того, как тот закончил речь и, обессиленный, оперся на балюстраду, как будто вот-вот собирался упасть. Монах казался полумертвым. Но, почувствовав, что я приближаюсь, он открыл свои пылающие глаза, а пара монашков образовала перед ним живую стену. Джузеппе отодвинул их.
- Я знаю тебя, сын мой, с чем ты приходишь?
Я шепнул ему, что падре Филиппо ожидает его, поскольку нашел важного свидетеля. Монах оживился, как будто бы вся усталость куда-то испарилась, и пообещал, что скоро придет. Естественно, с капитаном Барццуоли.
- Ты же, сын мой, возвращайся к падре Филиппо и передай, что я мигом.
Мне ужасно не нравилось, что он называет меня сыном, так что только притворился, будто бы целую его бледную, скользкую ладонь, и вернулся в Мавританский закоулок. В часовне рядом с вестибюлем я застал синьору Пацци. Женщина была уже гораздо более спокойной; она стояла на коленях, положив голову на Библию, а услыхав меня, повернула голову и шепнула:
- Этот святой человек отпустил мне все грехи, несмотря на то, что их у меня было много.
Я хотел было что-то ей сказать, но тут отец Браккони вышел из алькова, служащего ризницей, неся небольшую коробочку для святых даров, с которыми он привык ходить к больным и умирающим. Давно я не видал его в таком возбуждении. Он вынул облатку, поднял ее и со словами "Се тело Христово" вложил ее в рот Ариадны Пацци.
Когда он завершил молитву, я сообщил, что просьбу его выполнил.
- Благодарю, сын мой, - коротко ответил патер, а потом угостил вдову вином, не переставая успокаивать ее теплыми словами:
- Помни, если признаешь правду, ничего плохого с тобой не случится, наоборот, огромную награду получишь на небе; но ты должна поступать строго по моим указаниям, ничего не скрывая.
Вскоре пришли capitano и брат Джузеппе. Падре Браккони приветствовал с надлежащим уважением, после чего указал на донну Пацци:
- Вот, несчастная вдова, невольная очевидица дьявольских шабашей, языческих мистерий и других злодеяний. И она готова добровольно дать показания.
- Благодарим вас, отче, - заметил на это Барцуолли. – Сейчас мы заберем ее в Palazzo…
- Останьтесь на минутку. Как consigliere Совета я считаю, что эта женщина сейчас обязана дать предварительные показания.
- А это зачем?... – удивился capitano.
- Боюсь, что если мы не поспешим, сатана со своими поклонниками могут пожелать помешать ей дать показания. И подозреваю я, что в городе имеется множество не раскрытых еще слуг дьявольских, даже среди стражи.
- Ну да, лишний допрос не помешает, - согласился брат Джузеппе. – Хотя, надеюсь, что сатанинская сила не способна проникнуть вовнутрь Дворца Правосудия…
И как же он ошибался. Признания донны Пацци, сделанные в Высоком Доме, имели первоочередное значение для того, чтобы начать все процессы. Впоследствии я слышал их содержание, зачитанные в ходе Большого Процесса. Несчастная женщина описывала преступления Аурелии, которая, якобы, подвергла ее воздействию сатанинской силы, лишая ее сил и склоняя к послушанию. Она рассказывала про чары, осуществляемые Братством Сатаны – призываемых карах небесных, сглазах и болячках. Она рассказывала, что одни почитатели зла в виде ликантропов, то есть, принимая внешность волков, шастают по округе, разыскивая невинные существа, дабы возложить кровавую жертву на алтаре из женского тела. Довольно часто жертвой были детки, зачатые в грехе, но простыми людьми в воде крещенных, ибо известно всем, что жертва из невинных младенцев более всего радует князя тьмы. Полностью пропуская сексуальный характер собраний, она говорила про Вальпургиеву ночь как о величайшем жертвоприношении всей Розеттины дьяволу. Весьма живописно описывала она женщин, танцующих вокруг Великого козла, который спаривался с ними самыми разнообразными способами, обильно орошая их своим неисчерпаемым семенем, как всем ведомо, холодным будто лед…
Ну совершенно как на картине Маркуса ван Тарна.
В этом месте в протоколе стояло, что фра Джузеппе прервал допрашиваемую и спросил, как может она столь подробно описывать церемонию, в которой сама она участия не принимала. Донна Пацци поначалу глянула на отца Филиппо, а когда тот кивнул, заявила, что злое могущество Аурелии столь велико, что держит ее саму в послушании даже на расстоянии, позволяя ей видеть картины из весьма отдаленных мест… Рассказ вдовы занял почти что час времени. Лично мне он показался весьма похожим на описания из Liber demonicum, книги из библиотеки моего отца, читаемой чаще всего, поскольку дон Браккони исключительно охотно рекомендовал ее своим ученикам. В показаниях синьоры Пацци, понятное дело, не было ни слова о двузначных отношениях, соединявших вдову лично с ее исповедником.
Потом госпожу Пацци отвели в подвалы Дворца Справедливости, не делая ей никакого зла, наоборот, защищая от агрессивных нападок толпы. Вдова, явно от усталости и возбуждения, сильно тряслась, и на ее лице выступили синие пятна.
Утром охранник обнаружил ее в камере мертвой. Тело женщины опухло и почернело.
- Вот вам и доказательство того, что у сатаны длинные руки, а коварство его бывает небывалым, - прокомментировал это кардинал Галеани, прибыв к нам в дом на завтрак. Для инквизитора он странным образом был смущен ситуацией, в которой ему довелось допрашивать, в основном, собственных сторонников.
- Отрубим мы эти чертовы лапы, ой отрубим… - заверял его отец Филиппо.
Сатанинские лапы?! И тут страшная мысль пронзила мой мозг: до меня дошло, что во время того, как падре Браккони подавал вдове причастие, на его руках были тонкие шелковые перчатки.
8. Большая охота
Вспоминая события последующих дней, у меня постоянно складывается впечатление, все все это происходило не наяву, но было неким жестоким спектаклем или последствием сонного кошмара. Словно в легенде о ларце Пандоры, все гадкое, скрытое в самых черных закоулках души, вылезло на верх, залило улицы, по коврам вползло в Palazzo delia Giustizzia и залило всех нас словно помои и содержимое клоаки.
Признания донны Пацци привели к тому, что никто из пойманных не мог уже отпереться от своей роли в "шабаше". Потому одни лишь уменьшали ее, иные взваливали вину на других, считая, будто бы таким вот образом спасут головы себе и своим ближним. Говорили, что уже готовы последующие списки обвиняемых. Тем временем, из Венеции и Неаполя прибыли прославленные палачи, умелые в искусстве вызывать боль и извлекать правду на свет божий, при одновременном сохранении подозреваемого при жизни. Следствие вступило в новую фазу, тем более, когда Арнольф Гривальди на пытках сознался, что видел евреев, которые при помощи дьявольских штучек отравляли колодцы, тем самым приведя заразу в город. Той ночью загорелись дома в Юдерее, и там начали твориться страшные вещи, толпа осквернила синагогу, детей убивали прямо на улицах, женщин же, согнав их в здание старой миквы, спалили живьем. Только лишь с рассветом Дамиано Мальфикано во главе центурии войска, от имени Синьории положил край этой геенне.
Наиболее разумные мужи замечали неконтролируемое нарастание безумия, но они не видели, как всему этому противостоять. Отрицать наличие чар означало встать в рядах виноватых. А что еще могли они делать? Беспомощен был и сам кардинал Гаэтани. Видя, что дело выскользнуло из его рук и, что самое паршивое, бьет оно, в основном, по сторонникам папы римского, перепуганный, он слал письма в Рим с вопросами: что же делать? Вот только Святая столица молчала. А вот епископ Розеттины, Агосто, свойственник Торрелли, мог только лишь взывать к умеренности. Он даже посылал фра Джузеппе письма, приглашающие того к себе во дворец, на диспут, но тот, опасаясь за свою судьбу, предпочитал просто благодарить за подобную честь. Создав себе штаб-квартиру на колокольне церкви Санта Мария дель Фрари, окруженный гвардейцами Барццуоли и десятком молодых и, как он сам, одержимых монахов, он руководил толпами, утверждая, что для контакта с Господом никакие посредники ему не нужны.
- Вот если бы у Агосто был темперамент Пьедимонте, - вздыхал практически не трезвеющий в эти дни Маркус.
- И что мог бы он сделать, чтобы удержать фра Джузеппе?
- Да хотя бы предать его анафеме за то, что он главенствует в самосудах, и тем самым проколоть пузырь ненависти и болезни.
- А если бы монах обвинил епископа?...
- А он, наверняка, и сам его обвинит…
Опасаясь за судьбу Маркуса, я неоднократно уговаривал кго сжечь или, п крайней мере, спрятать свою картину с демонами. Тот отказывал, но как-то раз схватил нож и в ярости начал кромсать свой шедевр, рвать его на кусочки, после чего отправился сжечь его в камине.
Тем временем, по явному указанию Орландо Мальфикано, Лодовико покинул Розеттину, направляясь в Венецию, откуда он должен был перебраться к императорскому двору. Дважды он уговаривал меня ехать туда вместе с ним.
- Никто не знает, что мы там были, только лучше быть подальше отсюда, когда начнется процесс, - убеждал меня юный граф. – Похоже, дела идут к худшему.
Меня так и подмывало спросить, насколько же дела пошли вопреки первоначальным замыслам дона Орландо. Но я сдержал себя. Мне хотелось, чтобы никто не знал, что я подслушал переговоры старого графа, и что мне известно об интриге, в которой Пьедимонте должен был стать всего лишь слепым орудием..
- Езжай со мной, - повторял Лодовико. – Даст бог, все успокоится, тогда мы и вернемся. Отец утверждает, что к осени все завершится.
Я отказался. Не мог я покинуть тетку Джованнину. Ведь уж это я был ей должен. Хотя ни в чем помочь не мог. С отчаянием глядел я, как гаснет в ней жизнь, как водит она за мной своим единственным здоровым глазом, пытаясь выговорить простейшее слово: "Фре… ддино, Фре… ддино!".
Тем временем, повсюду велись усиленные поиски Аурелии и Беатриче, имена которых чаще всего повторялись в признаниях допрашиваемых. Только ведьмы словно бы под землю провалились. У меня были причины судить, что обе они спрятались за могучими стенами дворца семейства Мальфикано. И если бы они еще там и оставались. Великую куртизанку погубила, о ирония судьбы, излишняя самоуверенность и набожность. В день Нисхождения Духа Господня она отправилась в церковь, где, вся в черном, заняла место среди иных вдов. Никто ее и не распознал бы. Так нужно было случиться несчастью, или это был, как считают некоторые, перст судьбы, что во время молитвы от свечи загорелась ее вуаль. Она, конечно же, молниеносно затушила огонь, на миг открыв лицо.
Ее узнала соседка из семейства Урбини. И развопилась во все горло:
- Колдунья! Колдунья в храме Божьем!
Тут же монахи из свиты Пьедимонте схватили демаскированную женщину, которая от страха потеряла сознание, и поволокли ее через толпу, бросающую камни и оскорбления, во Дворец Правосудия. С нее содрали одежду и наверняка бы растерзали на клочки, если бы не фра Джузеппе, который успокоил чернь, поучая ее о том, что не стоит дарить Беатриче быструю смерть, поскольку для ведьмы предписаны долгие пытки и неспешный костер.
Его послушали. Я же, наблюдая все эти события с высоты Лоджиа дель Пополо, бессильно плакал, видя попрание красоты.
Еще в тот же день капитан Барццуоли, большой приятель семейства Мальфикано, прибыл в тюрьму с полномочиями от Пьедимонте, чтобы забрать синьору де Монтенегро и поместить ее в отдельной башне, где бы она могла выздороветь, не давая ни малейшего шанса какому-либо мстителю. Начальник предварительного заключения обратился к кардиналу. О чудо, Галеани отказал в выдаче.
- Ее место среди других, - распорядился он. – Разве ее не разыскивали как одну из наиболее известных stregantes (волшебница, колдунья – ит.)?
Говорят, что такое авторитетное заявление весьма смешало капитана. Но уверенности он не утратил.
- Донна Монтенегро – известная личность, ваше Преосвященство, она была представлена императору…
- Да разве мало прелюбодеек и блудниц отирается при дворах?
- Тем не менее, она мать вельможного бастарда фон Кострина, что в родстве с имперским домом. Применение к ней пыток, а потом и казнь могут вызвать гнев светлейшего императора Священной Империи.
- Над законом родов имеется еще справедливость, а над императором – Господь, - уверенным тоном возразил князь Церкви. – Синьора Беатриче де Монтенегро должна остаться в Palazzo delia Giustizzia под опекой моего личного медика.
Так что ничто не могло спасти Беатриче, лишь ее тяжелое состояние временно защищал ее перед пытками.
И что же творилось со мной в те дни. Моя слабенькая, но все же тлеющая вера угасла. Пережитое мною потрясение было слишком огромным. И уж полностью я усомнился в авторитетах. Ведь кем они оказались? Орландо Мальфикано ради своих личных интересов приготовил подлую провокацию; мой "отче-отец" из простейшей трусости и опасения за свою голову поначалу уговорил синьору Пацци дать лживые показания под присягой, а потом, чтобы женщина случаем не отказалась от своих показаний, отравил ее, осквернив святое причастие. И даже Великий Инквизитор не пожелал искать правду, предпочитая мстить сторонникам императора. Если Справедливый Бог и существовал, то теперь ему было самое время заговорить. Но Он молчал. Молчал он и последующие дни и ночи. Дни и ночи, наполненные муками одних, преступлениями других и развлечением для черни. Напрасно тихие и спокойные люди всматривались в небо, ожидая громов. Небо молчало. Неужто и вправду небо было всего лишь вихрем лишенных духа раскаленных камней, как убеждал меня Маркус, а до него – Протагор?
Первого июня собрался Большой Совет Республики. Падре Браккони взял меня с собой в качестве собственного секретаря, так что я мог участвовать в том важнейшем событии, которое должно было сильно повлиять – в соответствии со всеми знаками на Небе и Земле – на будущее Розеттины.
Зал был огромный, светлый, вот только на время заседания на окнах повесили конские чепраки, чтобы вопли черни не пятнали серьезности собрания. Под старым антаблементом, помнящим еще времена крестоносцев, поставили лавки, за столом президиума сели семеро Старейших – самых влиятельных граждан Розеттины. На лицах патрициев была выписана неподдельная забота, подавленность и – я бы сказал – беспомощность.
После нескольких выступлений, столь же красноречивых, что и ничего не значащих, выступил Дамиано III Мальфикано. Он был выше брата, красота его была зрелой, его мужественность и силу лишь подчеркивал шрам на щеке, полученный им в стычке с гельветами.
- Синьоры, братья, - сказал он спокойным, мужественным и звучным будто лютня голосом, - сам я не разбираюсь в вопросах чар и чертей так, как Его Преосвященство или же вы, достойные отцы. Сам я – солдат. А задача солдата – защищать родину и порядок в ней. И потому, более чем выслеживание проказ с дьяволом, меня беспокоит состояние безопасности нашего города. Может ли вот уже какой день править чернь, могут ли нарушаться законы, можно ли убивать невинных людей, даже если они не признают Иисуса Христа своим богом?! – Среди патрициев разошелся шорох понимания, а молодой вельможа продолжал: - Относительно виновности и наказаний обвиняемых, пребывающих в Palazzo delia Guistizzia решение примет суд, я не сомневаюсь, оно будет справедливым. Этот же трибунал поручит выполнение этого приговора светским властям. Но, прежде чем наказание осуществится, синьоры братья, давайте подумаем о том, что мы имеем дело с особыми материями. Даже в лоне Церкви, нашей Матери, нет полной ясности взглядов. Имеются голоса, утверждающие, будто бы магия и чары – это исключительно собрание иллюзий, следующих из наивной веры простого народа, другие же уверены, будто бы те являются свидетельством вмешательства сатаны в наши земные дела. Тем более мы должны быть осторожными в отношении доказательного материала…
Патриции из имперской партии слушали все это с легким удивлением, ведь до того им казалось, что Маьфикани весьма заинтересованы в том, чтобы максимально раздуть дело. Неужто даже членов этого рода обеспокоил размах аферы?
- Вы скажете: доказательств немало… Не стану отрицать, свидетельств собрано много. Но, за исключением единственного добровольного признания синьоры Ариадны Пацци, которая практически сразу же отдала Богу душу, что само по себе весьма подозрительно, все остальные признания были получены посредством пыток, а на пытках практически каждый готов признаться во всем.
- Это к чему же он ведет? – обеспокоенный капитан Барццуоли склонился надо мной к уху падре Браккони. Отец Филиппо лишь пожал плечами. А Дамиано продолжал:
- Суд должен состояться, преступления должны быть доказаны, а реальные преступники понести примерное наказание, но, благородные граждане Розеттины, только не на условиях, которые диктует нам улица! Не в атмосфере, которой постыдились бы даже басурмане.
- Мудро говорит, - раздались голоса в зале.
- Нам известны примеры несчастий, когда возмущения не были вовремя остановлены, так что плебс пожелал судить господ лишь за то, что те богаче или умнее их. Если мы не введем порядка сейчас, завтра всех нас привяжут к позорному столбу и обвинят в различнейших преступлениях только лишь за то, что мы – патриции…
Воцарилась волнующая тишина, поскольку нельзя было с Мальфикано не согласиться.
- Так что ты советуешь, граф? – спросил председатель Совета Семи, Микеланджело Урбини.
- Здесь советуете и правите вы, - покорно склонил голову граф. – Я всего лишь слуга Республики, готовый выполнять все ее приказы.
Тут сорвался с места капитан Барццуоли.
- Ваша графская светлость, да мы за тобой – как в огонь! Пять сотен бравых гвардейцев ожидают ваших приказов.
Раздались громкие аплодисменты. Не хлопал, возможно, один только кардинал Галеани. Если бы сейчас прозвучало заключение о том, чтобы передать власть в руки Мальфикано, а Пьедимонте сжечь или хотя бы изгнать, оно встретилось бы с шумным одобрением. Но тут раздался тихий кашель. Все затихли, поскольку кашляющим был сам кардинал.
- Сердце радуется, слыша подобные декларации. Я и сам за то, чтобы побыстрее завершить дело колдунов, дабы покой воцарился в любимой нами Розеттине, словно сон на веках дитяти. Но для этого необходима правда, четкая и неделимая, откровенность намерений и действий… - Могу честно сказать, что, похоже, никто в зале не знал, к сему Его Преосвященство ведет. – И как же болит сердце, слыша, как легко обвиняют даже наиболее выдающихся личностей.
- Это кого же обвиняют? – спросил Барццуоли.
- Вчера мы лично допросили куртизанку Беатриче де Монтенегро. Она заявляет, что когда весь город разыскивал ее и ведьму Аурелию, она нашла убежище у одного из наиболее выдающихся семейств Розеттины.
- У какого же? – рявкнул Барццуоли. – Кто осмелился?!
- Да можно ли верить клевете блудницы, когда ее растягивают на ложе Прокруста, - переполненным иронией тоном спросил граф.
- То же самое подумал и я сам, - не смутился кардинал. – Что такое слова проститутки в отношении истин благородно рожденных. Но, тем не менее, сегодня ночью случился факт, поставивший все дело в совершенно новом свете. А именно, монахи, стерегущие Соляные Ворота, задержали слугу, который спешил сюда с важными письмами. Введите его.
По залу прокатился шумок, а стражники, скорее приволокли, чем привели, людскую оболочку, но не человека. У него не было одного глаза, с пальцев у него содрали все ногти. Я остолбенел, поскольку узнал Риккардо, слугу юного графа Мальфикано. Я перевел взгляд на Дамиано. На его лице не дрогнула ни единая мышца, лишь на мгновение веки тяжело упали на глаза.
- Как зовут тебя, сын мой? – спросил кардинал.
- Риккардо, Ваше Преосвященство, - простонал слуга.
- Кому ты служишь?
- Синьору Лодовико Мальфикано.
- Откуда ты сейчас прибыл?
- Из императорского лагеря под Бергамо.
- Что ты привез?
- Письма достопочтенного графа Лодовико его брату и отцу.
- Давайте почитаем их.
В смертельной тишине, которая, могло показаться, подавила, Большой Зал, прозвучали слова из письма, которое читал Галеани. Письмо было написано по-немецки с многочисленными латинским вставками, но Его Преосвященство переводил их a uista (изустно – лат.).
Высокоученый Синьор, Любимый Отче мой и Господин! Прибывши, как звучало desiderio (желания – лат.) Высокоученого Господина Графа recta et tutum (надлежащим образом и безопасно – лат.) в лагерь sub (под – лат.) Бергамо, с Наимилостивейшим Императором, по правде говоря, я не виделся, но сам dux (герцог, князь – лат.) von Kostrin оказывал мне большие фаворы, спрашивая про salus (безопасность – лат.) донны Беатриче. Удовлетворенный сообщениями, manu proprio (собственноручно – лат.) выписал он заявление о предоставлении митры для Высокоученого Синьора Графа, а, собственно, уже Милостивого Герцога Хотя, пока что дышит Fakcja Romana (римская партия – лат.), Светлейший Повелитель, имея ligatus manus (связанные руки – лат.), ни auxili (вспомоществования, дополнительных войск – лат.), ни armae (вооружения – лат.) дать не может.
Interim (между тем – лат.), оставаясь в Лонгобардии, молюсь я за здравие Высокоученого Синьора Графа, дабы все malevoli (злонамеренные – лат.) на костре пропали, куда наверняка frustratus dominicanus (здесь – скользкого доминиканца – лат.) с помощью, что предоставляет ему наш asinus cardinalis (осел кардинал – лат.), их заведет.
Tandem (в конце концов – лат.)…
Раздались быстрые шаги. Это Дамиано Мальфикано не выдержал, направившись к двери. Он отпихнул отца Филиппо, желавшего его задержать и рванул к лестнице.
- Измена! Измена! – одним голосом вскрикнули все собравшиеся. Капитан Барццуоли желал побежать за удиравшим, но тут все набросились на него, прижали к полу, несмотря на то, что он орал, будто желает изменника собственной шпагой пронзить.
Тем временем, граф сбежал по Ступеням Титанов на первый этаж, а затем, не желая продираться сквозь толпу, заполнившую все подходы, спрыгнул с террасы в средину внутреннего садика, откуда изо всех сил помчался к задней калитке. Никто не мог его удержать, ведь в руке у него была обнаженная шпага, а пулять в него из пистолетов, когда вокруг было полно народу, никак не годилось. Тут к окну бросился председатель Урбини. Он что-то кричал, только голос его не мог пробить царящего шума.
- Ну вот, Альфредо, получили мы войну, - шепнул мне падре Браккони. – Если граф прорвется к своим людям, горе нам всем.
- Не прорвется, задняя калитка заперта, - триумфально воскликнул кто-то из чиновников.
- Это его не сдержит.
- И правда, добежав до калитки, Дамиано выстрелив в замок из бандолетов и, сбив его одним ударом, уже бежал по узкому, пустому пассажу в сторону Корсо.
Люди в масках появились совершенно неожиданно. Один из них запрыгнул графу на спину, прижимая того к земле, двое же других мужчин в черном с ужасной ожесточенностью стали колоть его стилетами. Только клинки щербились на кольчуге из мелких ячеек, поддетой графом под колет. Мальфикано, рыча словно зверь, сбросил с себя нападавших. Истекая кровью из множества ран, он убил одного из подосланных убийц, затем, слоняясь на ногах, пошел дальше. К сожалению, он спутал направления, вышел прямиком на Пьяцца делия Синьория, где и скончался. Тем временем, до собравшегося народа стали доходить вести из дворца. Начальное остолбенение сменилось бешенством. Ну а уж крики: "Измена! Измена!" стали звучать по всему городу.
Какими же изменчивыми бывают настроения людей, как легко любовь к недавним объектам поклонения сменяется ненавистью. Голову графа заткнули на пику; тех людей, кто не успел скрыться, порубили, а множащаяся с каждой минутой толпа двинулась ко дворцу Мальфикано, словно прорвавшая дамбу вода. Оборона замка продолжалась считанные минуты, несмотря на солидные стены. Атаки никто не ожидал, в самом же дворце находилось с полдесятка вооруженных людей и малая горсточка слуг. Вырезали всех, включая женщин и детей. Тело старика Орландо, который пытался покончить с жизнью посредством яда, выбросили в окно; на земле же его разорвали на клочки, и эти останки народ таскал по городу до самого утра. Аурелию обнаружили в тайном помещении, расположение которого выдал мелкий писарь графа, что, правда, не уберегло его самого от гадкой смерти.
Я к тому времени уже был в пути. Здесь следует отдать справедливость падре Филиппо: мой "отче-отец" позаботился обо мне: дал коня, кошелек и заставил бежать. В Розеттине меня ничто не держало, ну а признания Аурелии и Беатриче могли еще и обременить. Вернувшись домой из Синьории, я застал Джованнину мертвой. Она лежала на постели исхудавшая, маленькая, наверное, я мог бы поднять ее одной рукой. Когда я целовал ее в лоб, увидал корявую надпись на стенке, похоже, умирающая сама нацарапала ее перед смертью: "Помни о Боге".
Если она предназначала это предупреждение мне, то слишком поздно; мой старенький Бог умер вместе с синьорой Пацци, с Дамиано, с графом Орландо и с Беатриче…
Захват дворца Мальфикано был всего лишь пароксизмом, но никак не концом дней Великой Неразберихи. Сразу же после моего побега широко разлилась очередная волна безумия. Обвинения, аресты, пытки и казни расходились все более широкими кругами. Несмотря на то, что интрига семейства Мальфикано, которое и спровоцировало охоту на ведьм, чтобы захватить власть в городе, перестала быть тайной, невозможно было удержать разогнавшиеся жернова ненависти. Даже кардинал Галеани утратил всяческий контроль над Джузеппе ди Пьедимонте. Я даже подозреваю, что он его просто боялся. Ну а сам Джузеппе должен был действовать, если не желал, чтобы его считали слепым орудием в руках имперской фракции. Так что сразу же: обвиняемые из папского лагеря - внимательно вслушиваясь в то, что им подсказывали – рьяно начали обвинять в колдовстве людей их имперской партии. Наиболее умные бежали из города, бросая свое имущество и посты. Синьория, как только могла, подлизывалась к самозваному пророку. Четырнадцатого августа, среди множества других, сожгли на костре Беатриче. Ей не помогло, а даже, скорее, повредило, письмо герцога фон Кострина, министра при императорском дворе. Умирала она достойно. Не как гулящая девка, но как мученица, высмеивая палачей и поддерживая дух осужденных вместе с нею на смерть женщин.
- Отваги, сестры, ад – он только на земле!
Тем временем, пятнадцатого августа, в день Богоматери, заговорила Аурелия. До сих пор устойчивая ко всем мукам, после смерти сообщницы она сломалась, пообещав указать сатанинского любовника. В большой зал Дворца Правосудия пришли громадные толпы народу.
- Я покажу вам лик сатаны, - сказала Аурелия судьям и инквизиторам, найдя в себе огромную силу и вытягивая культю руки, подвергаемой самым искусным пыткам, указала на падре Филиппо Браккони. – Это вот он и есть!
- Сумасшедшая, - воскликнул иезуит. – Нет никакой причины…
- А мы эту сумасшедшую все же выслушаем, - перебил его фра Джузеппе. – Какие имеются у тебя доказательства, порочная женщина?
Аурелия весьма дельно рассказала про грешную связь священника с донной Пацци и про яд, который он когда-то заказал у нее. Про тот самый яд, который можно было дать под видом причастия. Инквизитор приказал провести обыск в Высоком Доме. Дон Филиппо, не ожидая его результатов, проглотил камень из собственного перстня, и вскоре умер после страшных мучений.
К сожалению, во время обыска нашего дома обнаружили порезанную, но не сожженную до конца картину Маркуса "В сатанинском кругу". Для судей она была живым доказательством участия художника в дьявольских церемониях. Так что арестовали и его. Ван Тарн не обвинил никого. После многократных пыток, он умер от сердечного удара, не дождавшись смерти на костре.
Правление Джузеппе ди Пьедимонте длилось два года. Собрав после отъезда кардинала Галеани и бегства Микеланджело Урбини полноту власти в своих руках, он начал строительство Царства Божия на земле. Монах планировал аннулировать частную собственность, превратить жилые дома в монастыри, а прежде всего: нести огонь священной революции в иные земли. Как будто в издевку, своим знаком он установил Голубицу и Оливковое Дерево. В наглости своей, он довел до того, что фанатический мятеж начался и в Бьянкино. И это переполнило меру для соседствующих небольших княжеств. При негласной поддержке императора они учредили Лигу Рассудка и Умеренности. Четвертого числа сентября месяца под древними стенами Террастро разыгралась решающая битва, проводимая вопреки всем принципам военного искусства. На регулярные батареи имперских артиллеристов Пьедимонте бросил ватаги босых фанатиков. Их разгром был ужасен. На подмокших полях пал цвет молодежи Розеттины. Перепуганный фра Джузеппе намеревался утаить размеры проигрыша перед своими сторонниками. Только это превысило его возможности. Через пять дней, когда все бросили монаха, его повесили на виселице, стоявшей рядом с Колодцем Проклятых. Труп сожгли на костре, на который он столь охотно посылал других. А после того направили прошение императору. Тот торжествовал, но совершенно не собирался возвращать розеттинские вольности. Одиннадцатого сентября эрцгерцог фон Кострин вошел в Розеттину в качестве – по воле императора – удельного суверена города. Народ приветствовал его как спасителя. Составленная из оставшихся при жизни вельмож Синьория склонила головы перед наместником, передав ему полноту власти. Эрцгерцог открыл двери тюрем и аннулировал конфискации. Остатки сторонников Пьедимонте сбежали. В ходе всей этой операции по усмирению рядом с Иоганном все время стоял граф Лодовико. Но только лишь как дворянин, советник, наушник. Ничего не осталось от мечтаний Орландо о могуществе и самостоятельности. Лодовико согласился на роль коллаборациониста. Он вел жизнь грешного сибарита, умножал возвращенное ему имущество. После пары лет перерыва мы даже начали писать один другому. Граф, как и раньше, с огромным любопытством расспрашивал про новые течения в искусстве.
Сам же я узнавал их из первых рук. Почти что два десятка лет кружил я по Европе, выполняя заказы королей и епископов, ведя дискуссии с учеными, осуществляя различные исследования, переписываясь с ведущими умами эпохи. Со временем я обрел славу и уважение. Можно сказать – я был счастлив. Хотя и одинокий. Так я и не встретил женщины своей жизни. Под конец, со своим любимым слугой Ансельмом, чрезвычайно понятливым во всяких расчетах, которого я выкупил у бандитов в Неаполе, я осел в Розеттине. Помимо чисто сентиментальных соображений, на мое решение повлиял тот фат, что по предложению дона Лодовико меня признали почетным гражданином Розеттины, с чем была связана немаловажная привилегия не платить налоги. Тем не менее, я все так же много путешествовал. Во время одного из таких путешествий до меня дошло известие о смерти эрцгерцога Иоганна, которого по эту сторону Альп называли Джованни. Трон после него, в соответствии с волей императора, должен был унаследовать его единственный сын, бастард Ипполито. Что спешно утвердила Синьория.
И так вот, в один из зимних дней в золотом зале Кастелло Неро на троне уселся единственный сын Беатриче Монтенегро. Мой рок, мое предназначение.
ЧАСТЬ II
9. Просто-напросто любовь
Ансельмо подлил масла в лампы, не переставая уговаривать, чтобы я отложил в сторону реторты и наконец-то отправился отдыхать, когда прибежала Франческе только лишь в платке, наброшенном на рубашку, сообщая, что прибыла лектика графа Мальфикано, и что signore Лодовико уже спешит наверх.
Я приказал своему ученику занести все подсвечники в салон и подбросить дров в камин, сам же вышел на встречу своему покровителю. С графом я не виделся с прошлогодней поездки в Рим. Но на вид он был таким же жизнерадостным и крепким, как и в молодости. Только лишь в бороде, более темной, чем волосы на голове и элегантно подстриженной, появились серебряные прядки.
- Приветствую тебя, приятель, - воскликнул он, обнимая меня. – Но почему же ты не посетил меня сразу по приезду?
- Работы много, - ответил я, опуская глаза. – Трактатом занялся… - указал я на разложенные на столах и подставках инкунабулы.
- Ага, так ты вернулся к Summa uniwersalae[7], о которой все время мечтал, - с явным интересом поглядел на рукопись граф. – Bravissimo! Только вот о старых приятелях забывать нельзя. Вот и новый герцог, да хранит его Господь, упрекает меня за то, что самый выдающийся живописец Розеттины, а может и всего полуострова, до сих пор как-то не удосужился написать портретов ни его самого, ни его супруги.
- Вообще-то говоря, кисти я не беру в руки вот уже пару лет. Времени все меньше и меньше, поскольку оно, по мере своего ухода, вытекает все более немилосердно.
- Я тебя хорошо знаю, равно как и переменчивость твоих увлечений; сейчас тебя поглощают медицина и алхимия, через год придет пора для астрономии… Но, говоря по правде, заказ на картины – это всего лишь предлог, по сути же ты мне нужен как врач.
Тут он недоверчиво глянул на Ансельма, который вошел с целой охапкой дров. Я отправил слугу назад, выразительно глянув на него. Тот ушел с неохотой, будучи по природе своей весьма любопытным существом, как моя тетка Джиованнина, покойница. Я и сам испытывал любопытство и… беспокойство. Лодовико уселся на табурете и, смочив губы в кубке, в который я налил наилучшего вина со склонов Монтана Росса, начал:
- Дело весьма деликатное, дорогой мой приятель, и оно имеет государственную важность. Тебе, возможно, известно, что, несмотря на трехлетний брак, эрцгерцогиня Мария так ни разу и не забеременела. Хотя, по местному обычаю, наилучшей терапией считаются молитвы святой Зите и порошок из бивней элефанта, мой кузен, дражайший Ипполито, услышав от твоем трактате "О бесплодии", в котором ты утверждаешь, что многие проблемы прокреации берутся не от дефектов тела, но от дефектов мозга, пожелал, чтобы ты осмотрел его жену. Розеттине необходим наследник…
- Неужто при дворе мало медиков? – вздохнул я, мечтая о том, чтобы Лодовико как можно скорее ушел и не отрывал меня от гораздо более увлекательных для меня дел.
- У Его Светлости медиков достаточно. Но он гораздо больше верит твоей славе философа и алхимика.
- Магией я не занимаюсь. Что же касается прокреации, в ходе своей грешной жизни я больше старался не иметь детей, чем их иметь. Я даже разработал соответствующий календарь, а еще множество предохранительных средств, что лишь обратило на меня гнев Церкви, которой в особенной степени важно, чтобы прихожане не вымерли.
- Меня тоже мучает факт, что ты не завел семьи, ведь для человечества не может быть безразличным то, что кретины размножаются в избытке, а человек, подобно тебе обладающий такими достоинствами ума и тела, не оставляет потомка.
- Возможно, синьор граф и прав, только до сих пор я не встретил соответствующей матери своих возможных детей. Женщины, которую я бы полюбил, а не только вступил в брак…
- Проказник, а как же твои знаменитые романы… Твои похождения во Франции, Испании?
- Я отдал бы их все за единственное переживание, подобное тем, что окрылили Данта или Петрарку.
- И даже если бы за сильное чувство пришлось заплатить наивысшую цену?
- Что там говорить о цене, если уже много лет я не встречал подходящего товара…
- Давай вернемся к делу, Фреддино. Когда ты придешь?
Вот честное слово, отправляться ко двору у меня не было ни малейшей охоты. Мои последние приключения в Лондоне не позволяли испытывать симпатий к аристократии…
- Может на следующей неделе.
- Завтра! Завтра к обеду, - решительно заявил приятель.
Этот тон был мне знаком. Тон людей, считавших себя лучше других, болезненно припоминающий, кто я такой, и какая пропасть отделяет меня от вершин социальной лестницы. И в такие моменты ничем была моя слава, ничем – изобретения и корреспонденция с первейшими умами Европы, словно они были подарками от сильных мира сего. Вновь, несмотря на признание за границей, я был человеком, родом из черни, наемным богомазом, светским развлечением, умником, открытия которого должны были служить исключительно забаве. Помню, как люди лорда Р., того самого лорда, у которого я гостил целый год, и с которым мы совместно вели исследования над природой химических соединений, высекли меня как собаку, когда стало известным чувство, которым дарила меня дочь вельможи, Генриетта… И мало помогло то, что благодаря заступничеству мадам де В. (это же сколько самоотречения стоил мне роман со старой кокоткой, называвшей меня "Mon petit-chien" (мой песик – фр.)), я получил во Франции патент на дворянство. Для людей из высшего общества я оставался homo novus. А наш Ипполито, сын проститутки и немецкого kleinе prinze (здесь, князька – нем.), мог сделать со мной все, что ему было угодно: вызвать в качестве поверенного, обсыпать милостями или же изгнать из Розеттины.
- Ладно, пускай будет завтра, к обеду, - махнув на все, сказал я.
Понятное дело, сложно назвать мою беседу с регентшей исследованием: физический контакт ограничился поцелуем кончиков ее пальцев, удивительно удлиненных, алебастровых, с просвечивающими голубыми жилками.
Мария была родом с севера, из края долгих зим и бородатых зубров, своей наполовину детской красотой она напоминала Венеру Боттичелли, для которой, как известно, моделью служила любовница самого Лоренцо II Великолепного.
Эрцгерцогиня могла похвастаться всего лишь двумя десятками весен и во всех отношениях представляла собой противоположность мужа, Ипполито, который от своего швабского папаши унаследовал красоту… скажем, умеренную: низкорослый, с короткой шеей, полноватый, зато на чрезвычайно худых ногах. Образ нашего повелителя дополняли выпученные обезьяньи глаза и тонкие, жестокие губы. Если бы я увидал где-нибудь в городе, то принял бы за простолюдина, но никак за суверена Розеттины и всего Предгорья. Воистину, раз уж это должен был быть сын Беатриче, то архангел, управляющий жизнью людской, отличился чрезвычайно желчным чувством юмора. Ипполито приветствовал меня чрезвычайно вежливо:
- О тебе, почтенный Альфредо, говорят, будто бы ты в городе самая крутая кисть!
- Стараюсь как можно лучше исполнять свою профессию, Ваше Светлейшество, - ответил я.
- Слышал я, маэстро, что ежели собаку нарисуешь, так нужно беречься и не касаться холста, ведь тварь и укусить может, - загоготал хозяин.
Мария покрылась багрянцем стыда.
- Вся современная Европа высоко ценит синьора Деросси как художника и философа, сказала она. Эрцгерцог несколько остепенился.
- Ну что же, шутки у меня, скорее, солдатские, - признал он, ковыряя у себя в ухе. – Короче, я тут задумал, что ты изобразишь меня как Марса, Бога Войны, что же касается супружницы моей, выбор оставляю тебе. Может быть Минерва или Веста, потому что для Венеры слишком уж она худа…
Лично я с охотой поспорил бы с этим его мнением. У принцессы была восхитительная фигура юной газели. Но свое место в ряду я знал. Потому, вместо того, чтобы спорить, я вежливо заметил:
- Если можно заметить, Ваше Светлейшество, то мне приходит на ум Диана Охотница, которая была известна грекам как…
- Артемида! – продолжила мою мысль Мария. – Я читала в вашей брошюре "О давних богах", что удивительнейшим образом культ ее через храм в Эфесе соединяет почитание, оказываемое Богородице, которая именно в этом городе и упокоилась, с традицией древнейшей Матери Богов, о которой упоминает Геродот, и вавилонской богини Астарты…
- Ваше Светлейшество читала Геродота? – изумленно воскликнул я.
- По-гречески только лишь в отрывках, полный же текст – в латинском переводе.
- Моя женушка человек ученый, - хвастливо вмешался Ипполито. – Хотя, как сказано в Писании: "Нет ничего хуже, чем умная книга в руках глупой женщины".
- Что-то не вспоминаю я подобной цитаты, - сказал я. – Это, случаем, не святой Павел в послании к эфесянам?
Ипполито покраснел, словно воришка, которого схватили на горячем.
- А ты, любезный, не цепляйся за слова, а только скажи, сколько времени займет у тебя работа над портретом, чего тебе для этого нужно, и сколько все это будет стоить?
Тем временем, по незаметному знаку, данному герцогиней, вошли распорядители, приглашая нас на обед. Черт подери, похоже, я сильно был необходим повелителю Розеттины и его супруге, раз светлейшая пара решила, что есть мы будет лишь втроем. Даже граф Мальфикано остался в прихожих. За столом эрцгерцог накинулся на еду, словно бы обедал впервые в жизни; зато Мария лишь символически ковыряла вилочкой жаркое, развлекая меня беседой. Меня чрезвычайно изумило то, что еще в Вильно она читала выдержки из моего труда "О природе человека".
- То был лишь предварительный подход к теме. Весьма далекий от совершенства.
Эрцгерцогиня поглядела на меня своими удивительными, цвета Mare Balticum, глазами.
- Неужто вы и вправду считаете, будто бы люди равны друг другу, несмотря на происхождение, положение и пол, а все тайны в мире можно углубить и разрешить людским разумом?
- Уже древние так твердили.
- Ты веришь всем тем Гераклитам, Протагорам или Демокритам, что желали видеть мир не в качестве творения богов, а только как комбинацию стихий, и они даже твердили, будто бы звезды – это всего лишь раскаленные камни?
- Тьфу, - Ипполито выплюнул под стол какой-то хрящик, к радости ждущих там собак. – А для меня подобные задумки отдают серой и адским огнем! – рявкнул эрцгерцог.
- Трудно сказать, будто бы я некритично им верю, моя госпожа. Мышление, как я его себе представляю, это постановка вопросов, и единственный путь к истине ведет через критическое сомнение, которое вовсе не должно означать отрицания, но согласие через синтез.
- Хорошо, но в мире, являющимся объединенным комплексом машин, разве нашлось бы место красоте, совершенству, любви? – спросила герцогиня.
Ансельмо ожидал меня с ужином, хотя и знал, что вернусь я после пира у эрцгерцога. Его пожирало любопытство. Похоже, он заметил мое возбуждение, потому что, едва лишь снял с мен обувь, спросил:
- Что-то произошло, учитель?
- Ничего особенного, - ответил я, подавляя толкучку мыслей. – На завтра приготовь краски, палитру, мольберт; мы возвращаемся к живописи.
Похоже, этот ответ никак не удовлетворил моего ученика, и он стал дальше расспрашивать про эрцгерцога, двор, наконец – о герцогине.
- Так какая же она, учитель? Одни говорят, будто она похожа на летучего эльфа, другие – что, скорее, на бесцветную пещерную рыбу.
- Она чрезвычайно интеллигентна для такой юной женщины из далекой северной страны. Весьма начитана, ты не поверишь, но ей известны даже "Десять писем о хирургии души", приписываемых Парацельсу, хотя мне казалось, будто бы инквизиция выследила и сожгла все экземпляры.
- Люди говорят, будто бы она красива какой-то особой красотой.
- Красива? Слабо сказано! Она восхитительна, дорогой мой Ансельмо! Хрупкая, словно утренняя сладость в оливковой роще, таинственна – словно сияние предутренней заезды на розовеющем небе, юркая – словно козочка, скачущая по скалам… - Тут я уловил себя на том, что болтаю слишком уж много, поэтому неожиданно сменил тон: - Принеси-ка мне вина!
Черт подери, что же это со мною делалось! Еще утром мне казалось, будто бы период жарких страстей давным-давно за мною, что я уже вступил в возраст стабильности и серьезности, за пределы полосы тени, за которой располагается уже все более обрывистый склон разочарованности, все более скорого погружения в старость. Мечтания о женитьбе на Генриетте, молодой дочери лорда, я признавал последней серьезной попыткой постоянного союза, после которой оставалась лишь платная любовь и почтенная, грудастая Франческа, которую я выкупил их некоей остерии в Штирии, постоянного готовая и лепешку испечь, и ложе согреть. Но что же ввело меня в состояние подобного беспокойства? Спать я не мог, а чтобы хоть как-то успокоить бешеный стук сердца, я шатался голышом по открытой галерее собственного дома, дыша ночным воздухом. Неужели я заболел? Какие это странные флюиды охватили меня в освещенной сотнями свечей столовой Кастелло Неро? Хотя, собственно, ничего и не случилось. Воспитание требовало не глядеть слишком нагло в глаза хозяйки – герцогини, зато с деланным интересом слушать казарменные шуточки эрцгерцога, от которых смеялся только лишь он один. Тем не менее, в ходе этого вечера случился особенный момент, когда под конец пира Ипполито удалился вывернуть избыток поглощенных мясных блюд, а Мария, обратив ко мне свое красивое, хотя и печальное лицо, процитировала на искусном греческом языке:
Луна и Плеяды скрылись, Давно наступила полночь, Проходит, проходит время, — А я все одна в постели.
Это стихотворение Сафо я знал, так что не оставалось ничего другого, как ответить на него старым латинским поэтическим пустячком от Сатурнала:
Подумай хорошенько
Уж раз напился пьяный:
Запретно Актеону
Глядеть в глаза Дианы.
Вместо комментария прозвучал лишь жемчужный смех, так что я испытал во всем теле тревожную дрожь, ускоренные удары сердца, туман в глазах…
Рисовать я должен был начать на следующий день. Выходя, в Зеленом Вестибюле я наткнулся на Лодовико Мальфикано. Похоже, он меня ожидал. Граф начал расспрашивать о моих впечатлениях от встречи, о психическом состоянии герцогини. Считаю ли я ее больной?
- Нисколько, они лишь производит впечатление печальной.
- Печальной? А о причине ты не догадываешься?
- Быть может, она тоскует по своей северной родине, - уклончиво ответил я. – Но мне кажется, что, имея во время работы возможность наблюдать за нею длительное время, вскоре я смогу сказать что-нибудь больше.
- Но ведь кузен Ипполито станет выпытывать у меня про рекомендованное лечение.
- Пока что я могу заявить: primum non nocere (в первую очередь – не навреди лат.)!
- Этого мало.
- Хорошо. Я подберу травы для горячих ванн. Но ни вкоем случае я бы не рекомендовал кровопускания или пиявок.
В общем, тогда я писал их обоих: ее – с восхищением, его – с отвращением, когда же придворные обязанности заставляли их идти на приемы, у меня была куча времени, чтобы просматривать библиотеку, унаследованную от Совета Семи. При случае, я загнал библиотекарей за работу и показал им, как провести инвентаризацию, как составить каталог и выписки из важнейших книг.
А дворцовое книжное собрание было богатейшим, здесь было полно редкостей, истинных rara avis (редкая птица – лат.), среди которых попадались папирусы из вроде как сожженного Серапеума в Александрии. Мне сложно было скрыть изумление, когда увидал вклеенные в обложку от какого-то травника листы из произведений самого Герона, где упоминалось о том, какие выгоды можно получить при использовании паровой энергии. Еще более изумил меня древнегреческий свиток из египетской Бандеры, рассказывающий о великой силе, таящейся в потираемом янтаре, называемом по-гречески электроном. Во времена фараонов Древнего царства эту силу, якобы, умели добывать и хранить так, что она освещала коридоры внутри пирамид, так что там было светлее, чем днем. Мне не очень-то хотелось в это верить, хотя древние египтяне обладали множеством удивительнейших умений, впоследствии забытых, такими как полеты в воздухе или же применение машин для счета… Говорят, что одну из таких машин построил для критского Миноса знаменитый Дедал. До сих пор я все это считал баснями. Но вот тут имелось доказательство, что подобными устройствами пользовался творец первой пирамиды, Имхотеп, а еще – конструкторы гробницы Хеопса.
Эрцгерцог в искусстве не разбирался, и когда парный портрет властителей, живущих в первой половине XVII столетия, стал принимать свои формы и краски, он хвалил меня, сравнивая меня то с Леонардо, то с Эль Греко, что говорило только лишь о том, что ни разу видел ни единой картины этих столь различных творцов.
Эту картину мне пришлось заканчивать без главного натурщика. Где-то в марте, когда сошли снега в Предгорье, император начал созывать христиан в новый крестовый поход против зарвавшегося турка, который все серьезнее стал угрожать христианской Европе. Говоря по правде, на занятых бусурманами землях процветала большая религиозная терпимость, чем имперских странах. Тем не менее, это не мешало провозглашать священную войну для защиты прав меньшинств против дискриминации и этническим чисткам. В апреле отправился на войну и сам Ипполито, передав администрирование Великим Герцогством Розеттины графу Мальфикано.
- Надеюсь, мастер, что когда я вернусь и насажу голову великого визиря на стену Кастелланума, твоя картина будет готова, - сказал он, гремя своими воронеными доспехами и прохаживаясь по моей импровизированной мастерской, устроенной в западном крыле резиденции.
А за ним ходил ординарец, молоденький, чрезвычайно красивый, я бы сказал: уж слишком красивый для мужчины. Если бы я еще раз писал "Бунт ангелов", то воспользовался бы этим вьюношей в качестве модели Люцифера для первой части триптиха, когда не был он еще князем тьмы, но возлюбленным архангелом Господа нашего. На мгновение мне вспомнился мой приятель дней молодости, и почувствовал я болезненный укол в сердце. Но, говоря по правде, если бы Сципио жил, сейчас он, наверняка, был бы толстым и лысеющим типом после сорока…
- Когда мы вернемся, нарисуешь меня вместе с Джанни, - распорядился Ипполито. – Скажем… в одеяниях Кастора и Поллукса. А еще лучше, - тут он потрепал ординарца за щечку, - как Ахилла и Патрокла на соревнованиях в Олимпии, нагих и быстрых.
В один миг понял я то, что должно было дойти до меня с первой же встречи. Делу обеспечения наследника Розеттине никак не могли помочь ни ванны, ни травы. Склонность Ипполито к молоденьким пажам была чем-то большим, чем мимолетной увлеченностью. Демонстрируемая мимолетно, но постоянно, нелюбовь к женщинам выглядела такой громадной, что я не удивился, если бы оказалось, что герцогиня Мария – это virgo intacta (девственница – лат.). Я поделился этим наблюдением с Лодовико.
- Господи, ты уверен? Повелительница – девственница? – изумленно воскликнул он. – Такого в Розеттине еще не бывало. Придется мне повлиять на дражайшего Ипполито, чтобы он хотя бы разок преодолел свою слабость и подарил отчизне наследника или, хотя бы, перевел на кого-нибудь другого ius prima noctis (право первой ночи – лат.). Но, понятно, это после возвращения из похода.
- Не считаете ли вы, синьор, что на время войны мне следует приостановить работу над картиной? – спросил я.
- Ни в коем случае. Ты же знаешь волю нашего светлейшего повелителя. Портрет должен быть готов ко дню его возвращения.
Так что я работал. Ежедневно, в течение пары часов. Время уходило быстро, а наши диалоги с Марией представляли собой настоящий интеллектуальный пир. Разговаривали мы много, тем не менее, учитывая свидетелей, равно как и общепринятые обычаи, никогда мы не переходили тонкой границы, которая всегда обязана отделять художника и его модель, вассала и суверена, замужнюю женщину и холостяка, мужчину и женщину. Говоря по правде, придворные дамы нам не слишком мешали, поскольку диалоги мы вели, преимущественно, по-гречески. Герцогиню очень интересовал мир, который был ей известен, в основном, из книг, и который она видела, чаще всего, из окон кареты. Так что разговаривали мы об астрономии и экономике, я читал ей прекрасные сонеты, присланные мне с Альбиона, написанные неким Шекспиром, и переправляемые исключительно доверенным людям (поскольку они попали в index librorum prohibitorum (индекс запрещенных книг – лат.) произведения Галилея о механике, падении тел и вращении небесных сфер.
- В этом плане Галилео лищь развивает более ранние работы одного из моих земляков, каноника Миколая, - сообщила Мария. – Вы не нашли, синьор, его любопытный трактат о том, что худшие деньги всегда вытесняют деньги лучшие, Monetae cudendae ratio[8]?
Сегодня, когда я вспоминаю тот канун весны, понимаю, что во всех тех наших встречах, совместных обедах и ужинах скрывалась одна громадная недомолвка, некая тайна, с каждым днем становящаяся все больше. Дни же мчались галопом, словно молодые жеребцы, я же, хотя и не позволил себе никакой фамильярности, чувствовал себя все более близким для этой несчастной женщины. Понятное дело, я любил ее, мечтал о ней по ночам, но то было лишь немое обожание. Ведь по отношению к этой даме я был чуть ли не старцем, к тому же – ее подданным… Так что во мне нарастало опасение, что когда я работу закончу, м расстанемся, чтобы уже никогда не увидеться. Тем не менее, профессиональная порядочность не позволяла мне поступать как Пенелопа, которая попеременно то ткала, то распускала ткань.
Тринадцатого апреля я сделал последние мазки кистью. Картина была готова. В окно врывались запахи цветущих деревьев в дворцовых садах, мы же стояли, глядя на пару античных богов в ходе подготовки к охоте. Ипполито в этой сцене был украшен гораздо более того, чем позволяют приличия. Он выглядел столь мужественно, благородно и пропорционально, словно бы в темперу я добавил парочку фунтов вазелина.
- А не кажется ли вам, что моему изображению можно было бы более польстить? - спрашивала герцогиня, беря меня под руку. – Неужто на самом деле губы у меня не такие выдающиеся, а глаза – веселые? Я понимаю, что они не слишком подходили бы для изображения Охотницы в гневе. Но тогдв ты мог бы изобразить меня как Афродиту. Неужто ты считаешь Венеру кем-то худшим?
- Нет, синьора, лично я ставлю Афродиту на первое место, и она, как говорят некоторые, сильнее Зевса и Хроноса вместе взятых, ибо еще перед ними пояилась она из Хаоса, подобно давней азиатской Матери Богов.
- Тогда почему же для меня ты выбрал Артемиду, а не Кипрскую Повелительницу? Только ответь откровенно.
Я сглотнул слюну. А собственно, почему бы не сказать ей правду. К этому времени все придворные дамы убежали на внутренний двор, следить за выступлением медвежатников, прибывших из Чехии.
- Извини, синьора, но богиню любви я должен был бы написать нагую.
- И что тебе мешает…?
- Ваше высочество, твой достойный супруг, твое положение…
- А мне кажется, будто бы Ипполито приказывал тебе выполнить все мои желания. А я этого хочу. У Лукреции из Модены множество подобных изображений, а она ведь кузина Святого Отца…
- И все же, как-то это недостойно…
Мария топнула ножкой:
- Нарисуй эскиз.
Я склонил голову.
- Хорошо, синьора; постараюсь найти натурщицу с подобной твоей фигурой, после чего пририсую ей твое лицо.
- Натурщицу, - рассмеялась герцогиня. А разве я для тебя недостаточна?
Тут ее пальцы начали бегать по пряжечкам и завязочкам… И одежды спадали с нее, словно осенние листья, пока не встала она передо мной, словно Киприда, поражающая снежной белизной тела. Груди у нее были небольшие, зато крепенькие, подобные полушариям, розовым бутонам, все пропорции были просто совершенными, худощавые ножки, плоский живот…
Альбом для эскизрв выпал у меня из ног; Мария наклонилась, подала мне. Я почувствовал ее головокружительный запах. И в этот же миг с галереи донеслись возгласы, смех и топот ног возвращавшихся фрейлин.
- Рисуй меня! – приказала Мария с упрямой усмешечкой на своих чудных устах.
- Умоляю, нет, извини, синьора…
Я разволновался, словно подросток. Слишком мало было времени, чтобы ее одеть, так что схватил лежащую одежду и почти силой потянул Марию к дверям склада красок. В алькове царила темнота, я же лишь пытался герцогиню одеть. Но почувствовал на шее ее руки, худенькие и пахнущие словно розы, ее уста на своих устах, ее язык…
- Что же ы делаешь, синьора? – шепнул я.
- Ничего особенного. Просто я люблю тебя и хочу тебя, мой мастер!...
Как она обманула фрейлин и гвардейцев, навсегда останется тайной. Еще в тот же вечер гонец доставил мне записочку, призывающую меня в белую беседку, располагающуюся в садах, стекавших по южному склону Кастелло Неро. К записке прилагался ключ от давних Водных ворот, представляющих эвакуационный выход из замка. И как должен был я поступить? Струсить?
Не будя Ансельмо, я умылся и тихонько выбрался из дома. Словно воришка пробежал я по сонным улицам Розеттины. И еще до того, как пробило полночь, я очутился в садовом павильоне, в объятьях Марии.
Вместе мы пережили ту ночь словно роскошнейший пир, начав сразу от неспешной, можно сказать: ленивой дегустации закусок; затем через более живое поглощение супа, до безумия первого основного блюда, прерванного коротким вскриком и слезами счастья, памяткой чему стал кровавый цветок на простыне… Когда она ушла, я стыдливо стирал эту ткань в бочек у беседки, а небо розовело надо мной, словно вода в сосуде; пели птицы, и гасла на небосклоне утренняя звезда госпожи Венеры.
А потом помчались бегом последующие дни, наполненные ожиданиями, и ночи, загустевшие от упоения.
После ошеломительной весны наступило жаркое дето; корпуса Ипполито, изрядно прореженные на полях Паннонии и под стенами Белграда, возвращались домой. Император заключил мир, не слишком беспокоясь судьбой пленных, из которых многие попали на рынки рабов от Бухары до Марракеша. Великий герцог Розеттины въехал в город через специально возведенную триумфальную арку, провозглашая славу перемирию и оплакивая своего фаворита, Джанни, который, когда в него попали отравленной стрелой, умирал долго и болезненно. Демонстрацию вдов и сирот, оставшихся от павших солдат, эффективно разогнали.
А мы? Наша любовь с каждым днем делалась все больше… Даже после возвращения Ипполито мы продолжали встречаться в маленьком домике на Петушиной улице, соединенном тайным переходом с часовней монастыря францисканок, настоятельница которого, сестра Марии, пускай и без особой охоты, но глядела сквозь пальцы на наши свидания.
Подозревал ли нас герцог? Пару раз встретившись с ним, я получал исключительно доказательства его благоволения. Мне даже было стыдно за собственную неверность. Другое дело, что место Джанни уже занял нумидийский юноша, словно выточенный из благородного эбенового дерева.
Где-то под конец августа меня пригласили во дворец. Там организовали большой бал для самых лучших розеттинских семейств, но эрцгерцог нашел время исключительно для меня. Так что мы встретились втроем в низкой готической комнате за библиотекой: он сам, Лодовико и я.
Ипполито цвел и пах, с самого начала он нежно обнял меня, так что я испытал отвращение, и стал говорить так:
- Мы хотели еще раз поблагодарить вас, мастер, за работу. Картину все признали изумительной. Наши изображения просто превосходны, да и порядок в библиотеке просто образцовый.
Я не мог понять, к чему ведет это предисловие. Поздравительное письмо я уже получил, вознаграждение – тоже.
- Здесь у меня письмо его величества вице-короля Новой Испании, в котором вас приглашают в Мехико, где возникла потребность украсить новый собор. Мой кузен в особенной степени желал, чтобы вы нарисовали ему сцену преисподней, такую же страшную, как фрески в нашей часовне Мудрости Господней. Людям из Нового Света ежедневно необходимо напоминать образ ада, где полно проклятых грешников, изменников, колдунов и соблазнителей…
Тут я глянул на Лодовико. Его лицо было каменным. Так может, за странными словами герцога никаких аллюзий не крылось. Вот только выезд за океан мне никак не улыбался.
- За предложение благодарю, но как раз сейчас у меня такой завал заказов на месте, взять хотя бы проект витражей для Его Благочестия… Их я до Рождества не закончу.
- Значит выедете на Новый Год. – Слова Ипполито не оставляли места для споров. – Так что поспешите...
- Да, и еще одно, - вступил в беседу Мальфикано. – Примененные по твоему совету травы и ванны чрезвычайно помогли.
- Не может быть, - воскликнул я, удивляясь про себя, что Мария, которую я видел всего лишь неделю назад, ничего мне не сказала. – Неужто Ее Светлейшество…
- Да, да. Она беременна. Вскоре Розеттина будет иметь наследника. Так что благодарим вас, мастер.
Походило на то, что разговор был закончен, я отступал спиной к двери, когда взгляд Ипполито перехватил мой взгляд, а на узких губах повелителя появилась кривая улыбка.
- Я ваш должник, маэстро, - произнес герцог.
10. Попросту смерть
В архиве тайной полиции Розетты сохранились все доносы Ансельмо. Написанные тщательно мелким, зато каллиграфическим почерком, они регистрировали всяческие события, начиная с первой ночи нашего романа. Мой слуга, который стольким был мне благодарен, только делал вид, будто бы спит, когда я выскальзывал на свидание. Он пошел за мною, и все, что видел, описал.
Из первого доноса:
И они сношались в той беседке. До отвращения нагие, в лунном сиянии, посреди стонов, всхлипываний, криков и бесчестных поцелуев. Я уверен, что для того, чтобы добыть взаимность, подлый прелюбодей наверняка воспользовался коварной хитростью, и он призвал все секретные знания, опаивая Ее Светлейшество любовным напитком, дабы, не взирая на стыд и срам, она подчинилась ему во всем. И после того лично выстирал простынь, на которой совершился грех, и вернулся домой, напевая себе под нос веселые песни…
Из одиннадцатого доноса:
Этой ночью встречались они, как и ранее, в домике, прилегающем к монастырю францисканок, аббатиса которых, сестра Ее Светлейшества, явно по причине злых сил, и на этот раз предоставила убежище преступным любовникам.
А ниже:
Даю расписку в получении (прописью): двух флоринов и двадцати пяти денариев.
Секретный сотрудник "Ученик"
Вот этого я предвидеть не мог. Ансельмо – доносчик. Хотя и так достаточно было предупредительных знаков; по городу кружили сплетни на мою тему, даже рифмованные пасквили… Ну почему я не принял предложения из Мексики, почему не покинул Розеттину в тот же день, когда узнал, что Мария беременна? Неужто виной всему моя спесь? Впервые я почувствовал себя великим и надлежаще оцененным. Мое словечко, сказанное шепотом герцогине, означало для протеже деньги и блеск. В чувство безнаказанности вводила меня уверенность, будто бы эрцгерцорг-пидор является, просто-напросто, трусом. Это Мария была истинной повелительницей этой страны, всеми любимая, как аристократами, так и простонародьем. Немалым влиянием отличалась в державе и семья ее матери, родом из Чехии, но давным-давно чувствующей себя как дома по этой стороне Альп; дядя Земан командовал армией, кузен Джорджио – полицией, а свойственник Ладислао восседал на епископском престоле.
Так что нашему милостивому правителю, несмотря на очевидные доказательства и умножающиеся доносы, сносить походы женушки в монастырь на вечерние "молитвы", разрешать проводить наши симпозионы у себя во дворце с участием ученых мужей и людей искусства, в ходе которых Мария неоднократно оказывала мне свою любовь, а эрцгерцог обнимал меня и восхвалял, называя своим приятелем.
Я же чувствовал себя всемогущим, ценимым и уважаемым. У меня были различные ученики и верный Ансельмо, записывающий каждое мое слово. В "Коллегиум Мерильянум" я без каких-либо помех преподавал новую философию, в которой, по образцу древних ионийцев, я отбрасывал веру во вмешательство Бога или богов в земные дела. Подвергал я сомнению и естественное природное право, утверждая, что оно – выработанный много веков назад компромисс, контракт, предупреждающий хаотическую войну всех со всеми. Скажем – общественный договор.
Лишь изредка, когда я преподавал перед массой заслушавшихся студентов, у меня в памяти возникал образ Маркуса, который говорил подобное, хотя и более наивно, и лишь временами, словно неприятный скрежет, возвращалось воспоминание о его чудовищном конце. Только кто, находясь на вершине успеха, думает о смерти. Я был счастлив, и мне хотелось, чтобы и другие были счастливы. Мария, Розеттина, все человечество, и даже неудачник Ипполито.
- Разум, - говорил я, наслаждаясь собственным тембром голоса, - наш разум является единственной меркой всех вещей в мире. Это он причина того, что наши действия обладают целью, что, видя собственную выгоду, мы притормаживаем страсти и выбираем наилучшие пути.
- А если мы ошибаемся? – как-то раз спросил у меня студент, худощавый, нервный, в колете, покрытом слоем перхоти. – А вдркг иллюзии мы принимаем за факты, а наши желания – за реальность?
- Мы ничего не должны принимать на веру. Англичанин Бэкон, а за ним и многие другие, утверждает, что основой всяческих утверждений обязан быть повторяемый опыт.
Студент не уступал.
- Любой опыт предполагает, что мир таков, каким мы его видим. А вдруг имеется другой? Мы же не можем коснуться звезд, ни тех пылинок, из которых, по словам философов, сложена материя.
- Но когда-нибудь мы сможем! Мы овладеем Землей и достанем до звезд! – убежденно воскликнул я. Потому что я верил в это. Верил в прогресс человечества, освобожденного от ограничений суеверий и темноты, в которые заковали его светские властители и священники.
- А в этом мире всеобщего счастья смерть тоже исчезнет? – пытался задавать свои вопросы бедняга, но остальные его затюкали.
Я чувствовал себя триумфатором. То были замечательные дни. Я беспечно критиковал устоявшиеся мнения, и мне аплодировали дворяне. Прелаты мне улыбались, хотя и криво, когда я рассказывал о звездах и планетах, утверждая, будто бы все они – громадные шары, движущиеся в космической пустоте, и что всяческая жизнь берется из основных, невидимых и смешанных стихий; человек же – это ничто иное как большая цивилизованная обезьяна, которая поднялась на задние лапы и начала создавать орудия труда.
- То есть как это? – робко отзывались спорщики. – Вы, учитель, отрицаете сотворение света во всей его разнородности?
- Разнородность – это последствие неспешных преобразований. Точно так же, как заводчики облагораживают породы собак или скота, так и природа сама сформировала свое бесконечное богатство.
- Ну а где доказательства ваших концепций? Выдумать ведь можно все, что угодно.
- Я и не хочу, чтобы вы принимали мои тезисы на веру. Присмотритесь к головастику и к лягушке. Наблюдайте за развитием животного плода. Пару лет назад у одного медика в Базеле я видел в банках все фазы развития человеческого эмбриона: поначалу похожего на маленькую рыбку, потом на пресмыкающееся, в конце концов: на покрытого мехом грызуна. Вывод предполагается сам собой: в каждом моменте истории плода записано развитие вида, что, по причине отсутствия лучшего названия, я определяю словом evolutio. Следовательно, если Творец и существует, то где-то далеко, в мире ином. Возможно, он осуществил первый импульс, привел вселенную в движение, но сейчас ею не занимается.
Слушатели поглощали всю эту ересь, словно гуси, которым бросают корм. В свою очередь, на иных семинарах я рассказывал о естественном равенстве людей, которое должно быть фундаментом закона и справедливости.
После одной из таких лекций, к которой она прислушивалась из скрытого помещения, герцогиня поделилась со мной волнующими ее возражениями.
- Равенство, дорогой мой, в теории вещь красивая, - сказала она. – Его подтверждает Священное Писание, равными мы рождаемся в боли и крике; одинаково умираем в страданиях; тем не менее, на практике, неужто ты требуешь, чтобы мы с бездельниками, которые ни часа не поработали честно, делились нашим дворцом, а на амвон в церкви допускали иудея? Вот подумай, что будет, когда слова и определения кто-то пожелает обратить в действие. Неужто разрушение извечного порядка не принесет больше зла, слез и крови, чем его существование? Ибо сегодня малые, соглашаются со своей судьбой, поскольку им не ведомо, что может быть иная; но когда до них дойдут твои мысли – а ведь когда-нибудь доберутся – разве не возжелают они стать равными нам?
- И они должны иметь на это право!
- Но ведь никогда все люди не будут по-настоящему равными, ведь одни с рождения умные и стойкие, а другие глупые и ленивые, одни сильные, другие слабые… Так что, даже если ты всех их сделаешь равными силой, что из этого будет. Треснет извечный порядок, исчезнет их простенькое счастье, зато появится горечь, едкость, зависть, и никто уже и никогда не будет доволен своим положением.
- Они станут стремиться ввысь.
- Ты уверен? А может быть, вся их активность направится не на то, чтобы совершенствоваться, но чтобы что-нибудь отобрать у других, которые достигли большего? Тем более, если допустить, что они сами сделались судьями в своих делах, тем самым заменяя Бога, которого у них отберешь.
Бог! Воистину, это был тот пункт, который разделял нас диаметрально. Я, уже множество лет атеист или, скорее, агностик, Марию понять не мог. Из своей северной колыбели она вынесла глубинную веру, которая имеется только у детей и святых. Иногда мне казалось, что она попросту видит, чувствует своего славянского Господа Бога, доброго, словно весенний дождь, и прекрасного, будто рассвет. И тут ей не мешали никакие книжные мудрости, научные открытия. Ведь как раз то, что меня в религии отталкивало, ее как раз и притягивало.
Когда я кричал о преступлениях Торквемады, вспоминал о развратности Борджиа, призывал память о Джордано Бруно и его мученической смерти на Кампо дель Фиори, Мария отвечала:
- Церковь, она как люди, среди которых существует. Она может ошибаться, как они, грешить, как они, но так же великой и святой, как они. Ибо, разве блуждающий человек, не остается все так же человеком, неужели лишается он своей бессмертной души? Так и Рим, прежде всего, он является указателем и хранителем Доброй Вести, ну а поскольку божественный огонь подпитывают разные люди, иногда пламя, вместо того, чтобы согревать сердца, поджигает костры, на которых сжигают.
- А знаешь ли, дорогая, что инквизиторы сожгли бы тебя, слыша твои еретические тезисы?
- Это не тезисы. Это вера. Это покорность. Это согласие с собственным несовершенством. В конце концов, это любовь. К Богу во всем свете и в тебе.
- Во мне? – рассмеялся я. – Если Бог и был, он давно уже пошел искать себе иное место.
- Он наверняка есть, Альфредо. О есть, и когда-нибудь ты его почувствуешь. Я молюсь за это.
Тут она пронзительно глянула на меня, как-то не так, как обычно.
Неоднократно я спрашивал ее о том, как соглашает она свою веру с нашим грешным союзом.
- Я дала тебе обет в душе, - отвечала она. – У меня нет, и не будет иного мужа, кроме тебя. И Господь об этом знает.
Иногда же, бросив философствование, мы говорили о нашем ребенке, которого, как обещала Мария, Ипполито должен будет признать своим.
- И ты его воспитаешь. Чтобы он сделался самым умным и мудрым властителем эпохи.
Пришли осенние холода, слякоть. Ничто не предсказывало несчастья. В связи с состоянием герцогини, мы виделись реже. Зато своим персональным шифром писали друг другу письма, которые передавал неутомимый Ансельмо.
При родах я не мог присутствовать, зато не спал всю ночь. Вскоре после полуночи по всей Розеттине стали бить колокола, стреляли из аркебуз; люди высыпали на улицу с песнями и танцами, ведь рождение наследника трона означало стабилизацию, а ведь простонародье не желает ничего более, как покоя. И я танцевал вместе с людьми.
А на второй день побледневшая настоятельница францисканок рассказала мне о злокачественной лихорадке, которая неожиданно проявилась у роженицы.
- Что с нами будет? – хлюпала она носом. – Без защиты Марии нам конец.
- Перестань плакаться, синьора, твоя сестра выздоровеет, вызвали самых лучших медиков.
- А если не…
- Когда будешь у нее, дай ей вот это, - подал я монахине коробочку.
- Что это такое?
- Чудесный порошок, полученный мной от одного монаха, когда я посещал монастырь святой Катарины на горе Синай. Он лечит злокачественные горячки и воспаленные раны. Мне удалось установить, что он взялся из определенного вида плесенного грибка, прозванного penicillium.
Я не мог предвидеть, что настоятельницу перед встречей с сестрой обыщут, и и что лекарство у нее на глазах Ипполито высыплет в окно. Тем временем даже Ансельмо не советовал мне дольше оставаться в городе.
- Не мое это дело, учитель, - бурчал он, - только я на вашем месте как можно скорее удирал.
- Это почему же? – удивился я.
- Слишком уж много накопилось вокруг вас людской зависти и неприятия. Церковь и богачи боятся ваших учений; и страшно даже подумать, что бы с нами случилось, если бы не стало нашей светлейшей защитницы.
Только никаких предупреждений слышать я не желал. Переодевшись монахом, я пробрался во дворец. И увидел Марию, еще бледнее обычного, обессилевшую и гаснущую на глазах. Увидав меня, она жестом отослала фрейлин. Я упал на колени у ее ложа.
- Альфредо, Альфредо… - шепнула она. – Ну что ты тут делаешь?
- Я рядом с тобой, Мария Я здесь, и буду всегда.
Герцогиня в беспокойстве отрицательно покачала головой.
- Ты должен бежать, любимый, должен! Мне ты уже не поможешь. Я умираю.
- Ты выздоровеешь моя дорогая. Ты приняла мой порошок?
- Дорогой, пока есть время, уходи. Как только я умру, ты погибнешь.
Я остался в городе, плакал… Я просто не знал, что делать. Словно заводной пес, от которого родом мое прозвище, кружил я вокруг герцогского замка, вокруг собора. Бывало так, что я останавливался перед порталом, где драконы, грифы и кентавры склоняют головы перед Пантократором, и грозил ему кулаком.
- Если ты есть, если существуешь, излечи ее. Вы ты, говорят, всемогущий!
- Поначалу тебе следует уверовать, а потом просить, - буркнул мне безногий нищий, качающийся на своих костылях. Я же был в таком отчаянии, что совершенно не узнал в этом несчастном капитана Массимо.
Мария умерла на третий день, перед утром. Возможно, мне так только казалось, но, не спя в нанятой комнате напротив ее комнат в Кастелло, я вдруг всидал целую стаю белых чаек, которые, непонятно откуда, поднялись вдруг над крышей дворца.
На следующий день слуга Лодовико принес мне сообщение о том, что было принято решение о моем аресте; он же передал мне коня и кошель с деньгами. Я спрятался на отдаленном винограднике, в месте, о котором было известно лишь Ансельмо. Оттуда наемные убийцы эрцгерцога выволокли меня через неделю, забрали с собой в город и бросили в подземелье под Торре Нера. Я был совершенно один. Старые друзья пропали, Лодовико как раз отправился в паломничество в Рокка Папале; родные Марии делали вид, будто бы меня не знают, а настоятельницу перевели в другой монастырь, где-то с другой стороны Альп.
Только ошибался бы кто-то, рассчитывающий на длительное судебное разбирательство, болезненную добычу правды с помощью пыток, на старательно отрежиссированные роли обвинителей и защитников. Даже в этом мне поскупились. Восемь малоразговорчивых, пожелтевших словно гусиный кал юристов составило вердикт на основе признаний всего лишь несколько тщательно подобранных свидетелей. Не удосужившись хотя бы допросить меня, тут же они вывалили обвинение меня в ереси, в колдовстве, развращении молодежи и даже в смерти нашей светлейшей синьоры. Коробочка с остатками синайского порошка была доказательством моего участия в отравлении.
Так почему же так случилось? Похоже, не только лишь потому, что Ипполито не желал разглашения. Отбирая у меня жизнь, он решил отобрать у меня и то, что было для меня дороже самой жизни: мои творения, мою славу! Со дня моей поимки его люди кружили по всей Европе, выкупая подписанные мною картины, статуи, гобелены. И вот их уничтожали у меня на глазах, хотя и без посторонних свидетелей, как произведения, вдохновленные самим дьяволом. Эрцгерцог не щадил ни усилий, ни средств. В библиотеках всего континента выкупали или воровали мои работы, не внося их, правда, в индекс запретных книг, что было бы, по мнению моего мучителя, уж слишком хорошей рекомендацией. А мои ученики? Обнаружилось с три десятка студентов, открыто признававшихся в том, что они учились у меня, либо таких, которых только лишь обвиняли в контактах со мной. Под предлогом приглашения на дебаты с участием папского легата, их выслали на корабле еа Исолу ди Сан Исидорио. Корабль так никогда и не добрался до места назначения. Затонул. Люди герцога распространяли слухи о гневе Божьем, тюремные стражники сплетничали о том, что кто-то специально подложил огонь к пороховым бочкам в трюме. От Альфредо Деросси не должно было ничего остаться.
А повелитель, когда мы виделись с ним в последний раз, рассказал мне обо всем этом с полнейшим удовлетворением.
На время аудиенции остальных осужденных из камеры вывели. Я валялся в пыли один, полуголый, прикованный цепью к столбу, а наш синьор герцог, разодетый, словно на бал, стоял в паре шагов, освещая подвал фонарем, который он изволил собственноручно держать.
- А ты не оценил вовремя моей милости, - говорил Ипполито, наслаждаясь собственными словами. – Я предлагал тебе выезд и деньги, и это несомненно избавило тебя от массы неудобств и от неизбежной смерти.
- Неужели так сложно выслать в Новый Свет наемного убийцу? – спросил я.
Эрцгерцог захихикал.
- Может я бы и выслал, а может и не выслал, Альфредо. Я бы игрался твоей неуверенностью. Я играться я ой как люблю! Но ты не спрашиваешь, зачем я пришел? Ну да, мне донесли, будто бы ты желаешь публичного суда, что мечтаешь о пытках инквизиции?
- Я желаю доказать лишь то, что невиновен в том, в чем меня обвиняют.
Ипполито скорчил гадкую гримасу.
- Возможно, ты и не виновен в колдовстве, лично я в этом не разбираюсь, но уж наверняка ты виновен в вероломстве и прелюбодеянии. Ты столь сильно желаешь, чтобы это сделалось явным? Чтобы запятнать память моей любимой Марии. Женщины, которую ты так бесстыдно опозорил.
- Это была любовь!
- Любовь? С ее стороны – то, скорее, был государственный интерес. И потому, с благодарностью за оказанные услуги, мы предлагали тебе выезд. Мы желали иметь сына. Мы желали, чтобы он был красивым, здоровым и способным. Лодовико, мир его душе, предложил в отцы тебя.
- Граф Мальфикано мертв?
Ипполито с деланной печалью вздохнул.
- Какие-то подлые убийцы закололи его кинжалами, когда граф возвращался из паломничества. Что поделаешь, мир жесток. Самое важное, все сделали все, что было нужно. Поступили так, как вам поступить следовало. Наследник у меня имеется, жены мне иметь не нужно. Бедная Мария не предусматривала лишь собственной смерти.
Что-то стиснуло мне горло.
- Мария? Она знала…
Ипполито вновь рассмеялся.
- Да она сама все это выдумала, бедняжка. И согласилась с твоей кандидатурой. Я предлагал кого-нибудь из гвардейцев, а она с Лодовико предпочитали философа, художника… По счастью, художники умирают точно так же, как и обычные люди. И во второй раз, когда умрут их творения.
Возможно, мне следовало его просить. Умолять сохранить не, сколько, собственную жизнь, как бессмертную славу, которая исчезала сейчас на внутреннем дворике вместе с сжигаемыми картинами и книгами. Но я не сделал этого, лишь спросил:
- Если ты постановил покарать меня психологически, зачем тебе тогда моя смерть? Потому что Мария полюбила меня?
- Ты умираешь, потому что нам не нужны свидетели.
- А что с Ансельмо? Наверняка вы его замечательно вознаградите за верную службу?...
На лицо герцога наползла туча.
- Пропал куда-то, пес, - гневно выпалил он. – Наверняка укрылся в какой-то дыре. Но мы его найдем! И сотрем в порошок!
Тут я испытал мелочное удовлетворение. Ансельмо предал всех с редкой последовательностью. Про себя я желал, чтобы его бегство оказалось успешным.
- А мой сын? – спросил я. – Что с ним, его тоже казнишь?
- Это мой сын, маэстро! – в глазах Ипполито вспыхнул гнев. – Мой, единственный и первородный. Он никогда не узнает о тебе, равно как и потомство, на которое ты так рассчитывал. Будь уверен, философом он не станет, обучать его я получу самому глупому капралу своей гвардии.
Разговор был закончен, герцог направился к двери, но вдруг остановился и обернулся.
- В своей бесконечной доброте, несмотря на громадность твоих преступлений, я, Фреддино, позволю тебе самому выбрать вид смерти. Так что уже сейчас ты можешь начать рассуждать. Только это никак не может быть смерть от старости.
И он вышел, оставляя меня в отчаянии, более глубоком, чем до того. Ведь ниоткуда не мог я ждать никакого утешения. Люди меня покинули, в бога я не верил.
Случилось так, что в мою камеру попал крестьянин Антонио, готовящийся встретиться с виселицей. Он убил собственного отчима за то, как он сам утверждал, тот насильно неволил его сестру, всего лишь двенадцатилетнюю. И мачеха, и младшие браться на судебном заседании дали показания против убийцы. Этот вот Антонио импонировал мне своим спокойствием. Молясь, он доверчиво ожидал смерти и справедливости Божьей. Как же я завидовал этому его спокойствию. Завидовал той инстанции, к которой тот мог обратиться. Меня же раздирали горечь, отчаяние и неуверенность. Мне не хватало веры. Ибо чем были все мои знания по отношению к тайне умирания. Многократно я спрашивал сам себя: чем же должна была стать смерть? Мгновением боли и провала в небытие или же началом бесконечного блуждания по бездорожьям Тартара, Шеола, чистилища? В преисподнюю, которую час рисовал, с ее чертями и огнем, я поверить никак не мог.
А в Бога? Я и хотел, но не мог. Слишком долго доказывал я себе и другим людям, что он излишен. Хотя сейчас я ужасно желал, чтобы он был. Мои замешательства были Антонио чужды. Уходя на собственную казнь, он пожал мне руку и сказал:
- Я буду молиться за вас!
Меня это изумило. Как этот человек, в мгновение собственного ухода, мог еще думать о ближнем, беспокоиться о моей судьбе.
В последнюю ночь я увидел во сне свою Марию. Не песальную, скорее, возбужденную.
- Жду тебя, по-настоящему ожидаю.
Я проснулся. Светало. Кто-то стонал в соседней камере после вчерашней пытки. Начинался мой день. Я исповедался какому-то воняющему чесноком безграмотному типу в рясе, жалел о собственных прегрешениях, даже получил их отпущение и, поцеловав кровоточащие ноги Христа, ожидал… Вот если бы еще я мог поверить, что там, за брегами Стикса, я встречу Марию, а прежде чем выпить воды из Леты, реки забытья, услышу ее смех, коснусь волшебной ямки на ее лбони, почувствю жар уст на своих губах…
Барабаны. Барабанная дробь. Вот и Площадь Плача. Конец моего путешествия. Прямо напротив – трибуна для аристократов и богачей, зеваки в окнах домов, на улочках, на крышах…
- Трибунал, заседавший под председательством Его Светлейшества (всегда я считал, будто бы официальный титул длится долго, сегодня он прозвучал короче жужжания пикирующего комара), признает Альфредо Деросси, прозванного "Il Cane", виновным во всех преступлениях, в которых его обвиняли (далее пошел перечень, длинный, словно меню пасхального ужина) и присуждает его к смерти. (Барабанная дробь. Недолго. Что, еще не конец?). В своей наивысшей милости Наш Светлейший Синьор Эрцгерцог Ипполито Первый Справедливый позволяет осужденному самому избрать для себя вид смерти.
Я поднял голову. На узких губах властителя играла усмешечка. У его ног его чернокожий фаворит сосал его кривой, обнаженный палец. Тут же мне захотелось устроить ему какую-нибудь штучку, чтобы хотя бы в этот последний момент лишить его удовлетворения.
- Это я сам должен выбрать?
Голос звучал хрипло, чуждо.
Ипполито кивнул. Еще раз я повел взглядом по окружавшим меня аксессуарам смерти. Кол, эшафот, виселица. Собственно говоря, я мог выкрикнуть всего одну фразу, прежде чем палачи заткнут мне рот: "Я невиновен!", "Да здравствует свободная Розеттина!" или "Это я трахал эрцгерцогиню, так что Карло – мой сын!" (только эта слишком длинная). Во всяком случае, следовало поспешить, так как я боялся, что потеряю сознание или, что еще хуже, не сдержу содержимого кишок.
Кто-то сказал: "Колодец Проклятых!" . И только лишь когда два широкоплечих, одетых в красное и в капюшонах на голове, палача, схватили меня под руки, до меня дошло, что то были мои слова.
ЧАСТЬ III
11. Отверженный
Сырость, холод, страх, сырость, холод, страх. Путаница мыслей, поначалу вращающихся без цели, вроде водоворота, затем сгущающихся, словно туманность. (Туманность, а разве я знаю такое слово?) Затем осознание: я существую. Живу. Никуда не лечу. Я в темноте. Где? Разве преисподняя может быть сырой? Колодец. Колодец? Ну да, я же в колодце! Я не упал, не разбился в аморфную массу, зацепился за что-то и повис… Нет. Скорее всего, я застрял в какой-то липкой пакости, и совершенно голый. Черт подери, неужели в полете я потерял всю одежду? Щупаю рукой… Мокрая, обложенная камнем стенка. Кричу вполголоса: "Ха!". Отраженное эхо: "Ха, ха, ха…". Подо мною пропасть! Если я пошевелюсь, то упаду. Ну да, это же колодец!
Через мгновение вернулось прошлое. И последняя мысль, прежде чем меня поглотил мрак: Ну почему, вспоминая всех святых, я не падаю равномерно ускоренным движением? Sic! И теперь вспоминаю даже лучше – я летел, с трудом сдерживаясь, чтобы не закричать. Я летел и летел. Каждой своей клеточкой ожидая удара, чудовищной, раздирающей, окончательной боли; перелома костей, разрыва тканей… А вокруг меня клубились испарения, похожие на дым… Быть может, это благодаря ним я и потерял сознание, перед тем как долететь до дна? Или же, в результате этого опьянения мне казалось, будто бы я лечу все медленнее и медленнее. Все это не важно. Я жив! Я в колодце. Причем, не на дне. Тогда где же? С трудом я выдавил каплю слюны из пересохших уст. Меня ужасно тошнило, будто бы я прибыл не из тюремного подземелья, а с банкетом, на котором подали чрезвычайно много вина. Я сплюнул, ожидая всплеска. Ничего! Выходит, я находился далеко от дна. Все вокруг смердело; помимо затхлости, слышен был запах гниения, сероводорода и черт знает каких еще фекалий, лишь через какое-то время я сориентировался, что застрял на небольшой полке рядом с дырой, из которой сочились нечистоты…
Только сейчас меня охватил самый настоящий страх. Неужто я выжил только затем, чтобы умирать здесь долго и неблагородно? Неужто мне было уготовано чистилище на земле? Принимая во внимание время полета, а это я превосходно помнил, я должен был находиться ужасно далеко от поверхности. Даже ящерице сложно было бы выбраться отсюда. Тут через мысли проскочила отчаянная концепция: чтобы сократить свои страдания, выбраться из этого шлама и прыгнуть в штольню. Хорошо, так и сделаю! И тут же перед глазами встали сцены смерти Джованнины, Маркуса и Марии. И покорно склонившаяся перед крестом фигура идущего на смерть Антонио. Неизвестно почему, я подумал о Боге. О том самом, от которого я отрекся, отказался, вычеркнул из собственных мыслей, только мне так никогда и не удалось доказать, что Его нет. И вот тут появилась некрепкая мыслишка, что, может, в моем несчастье, в моем нынешнем подвешенном состоянии, была некая высшая цель. Что мне дан еще один шанс. Вы не поверите, но я, Альфредо Деросси, Il Cane, безбожный пес, перекрестился. Подвигнутый непонятным импульсом, я начал молиться, чувствуя, как нисходит на меня спокойствие… И случилось чудо. Луна, похоже, остановилась точнехонько над отверстием колодца, потому что холодный свет залил шахту. Блеснули неровно уложенные каменные кольца. Боже Всемогущий! Да от края сруба меня отделяло десятка полтора футов. Может, все это было иллюзией, сном? Вернулась чудовищная головная боль, месиво мыслей, бессвязные слова, образы, которых я никогда в своей жизни не видел.
Я стиснул зубы, повторяя сам себе: "Ты должен!". Я немного приподнялся, пытаясь одной рукой найти какой-нибудь выступ над собой. Только пальцы беспомощно скользили по сырым камням. Что же это за пытка: знать, что недалеко находится воздух, город, жизнь. И тут я нащупал крюк, вбитый в раствор. Я повис на нем; должен выдержать, подумал. Я высвободил ноги из шлама и подтянулся. Каким же я был ужасно слабым, неуклюжим. Мне мешало мое приличных размеров брюхо; я и не знал, что у меня выросло подобное на тюремном харче. Потом нашлась какая-то не совсем крепкая опора в виде дыры после выпавшего камня. А что дальше? И вновь оказалось, что мой ангел-хранитель заботится обо мне. Ведь только лишь я оторвал ногу от первого крюка, сразу нашел другой… И тут в голову мне пришла идея. Прижавшись к облицовке, словно муха к стеклу, я терпеливо стал раскачивать первый крюк, пока тот не остался у меня в руке, после чего сунул его себе в зубы и начал ощупывать стену, разыскивая что-нибудь, способное послужить мне в качестве молотка. Через какое-то время удалось найти выступающий из раствора камень. С помощью вытащенного крюка, его удалось извлечь. Теперь оставалось лишь одно. Забить крюк и подтянуться на нем. Вынуть второй… И da capo, al fine… (по-новой и до конца – ит.).
Уходили часы, но когда я схватился за каменную закраину и подтянулся, небо только-только начало розоветь.
Совершенно обессиленный, я свалился на мостовую. Меня начало рвать.
Ну что же! Блюю – значит, живу, - мелькнула мысль. Рядом с колодцем я увидал крышку, которую явно сняли на время казни, а потом – к моему счастью – на место не поставили. Я огляделся по сторонам. И тут же в окружавшем меня городе заметил странность. Площадь Плача, казалось, была подозрительно просторной и пустой. Неужели ее сразу же после казни убрали? Не было видно лавчонок, куч мусора, не чувствовал я запаха лошадей, дерьма и мочи. Ни следа от водосточной канавы. Исчезли все торговые постройки между ратушей и собором, колокольню покрыли белой штукатуркой, да и сам купол на ней, весь покрытый патиной, как-то не походил на старый.
Что произошло? Неужто у меня галлюцинации? Или это я сплю наяву? Тогда я повернул взгляд влево, к котлу, в котором варили фальшивомонетчиков. Но никакого котла не было. Вместо него вздымался высокий постамент, а на нем располагался памятник типа тех, которых во множестве можно встретить в Риме, вот только это был не напрягший все мышцы герой, но мужчина в старомодном кафтане, который много лет назад так любил носить дядюшка Бенни. Этот мужчина одной рукой прижимал к груди книгу, а во второй, поднятой вверх, держал масляную лампу в этрусском стиле. На голове у него была странная шляпа пастуха овец, а вот лицо – и более всего, окружавшая его испанская бородка – кого-то мне напоминала. Я подполз под постамент и прочитал надпись маюскулом[9], выполненную из золотых букв:
АЛЬФРЕДО ДЕРОССИ "IL CANE"
МУЧЕНИКУ ПРОГРЕССА – ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
Даже если бы небо упало на голову, это не произвело бы на мне большего впечатления. Я поднялся на ноги. Ну да, то был я. Изваянный где-то бездарно, но я. "Il Cane"! Только ведь я жил! Ну да, сейчас я был голым, грязным, пальцы содраны до крови, а на покрытом щетиной лице свернувшаяся кровь из глубокой раны на лбу.
Добрый Боже, да что же это со мной приключилось? Быть может, я в том колодце погрузился в некий сон или летаргию? Я лично был свидетелем того, как после вскрытия склепа в церкви Санта Мария дель Фрари, мы увидели труп некоего монаха, похороненного живьем. Ему удалось покинуть гроб и выползти по ступеням наверх, но вот каменную плиту ему приподнять уже не удалось. Но как долго я в колодце пребывал? Наверняка долго, раз мне успели возвести памятник. А может это некий переворот смел с трона Ипполито и его камарилью…
Я огляделся по сторонам. Площадь, похоже, обновили недавно, так как на всех стенах были видны следы свежей штукатурки. Возле самой колокольни цвели магнолии, за моим памятником тянулся газон и цветники. То есть, должно было пройти не меньше пары дней. Куда-то исчезли эшафот, виселица, жерди под головы преступников; колодец был окружен цепями, зато остались ступени для женщин-детоубийц. Вот только в месте давней двери светлел выход. Я направился к нему. Я же прекрасно знал, что увижу за ним: обрыв, дальше гора отбросов, луга над рекой, пристань… Высунул голову. И меня поразил свет. Как будто бы солнце посреди ночи направило свои лучи на старый город. Я отвернул голову. Видел залитые холодным светом надо мной собор и замок. Освещенные подобным образом, они создавали впечатление театральной декорации.
Ну а передо мной? Что это был за город? Над стиснутой каменным корсетом Фьюме дель Флори (Цветочная река – ит.) я увидал десятка с полтора Вавилонских Башен, достигавших неба, в которых было полно осветленных окон, словно бы там бушевал пожар; между ними, словно щупальца осьминога, вились освещенные улицы, переполненные повозками без лошадей, с горящими буркалами, движущихся со скоростью пантеры и невероятным грохотом. Повсюду пульсировали огни. Надписи, то загорающиеся, то тут же исчезающие… Названия, выполненные, похоже, на каком-то европейском языке, звучали странно и чуждо: "ГурбиКола", "Пицца Гранда", "Банко Анзельмиано"… Так где же, о Господи, я пробудился? Неужели преисподняя должна была выглядеть именно так?
Я стиснул веки. Раз, другой. Образ не исчезал. Нет, явно было необходимо быстро прийти в себя, собраться с мыслями, да просто умыться. Я подумал про реку. Неподалеку от террасы, на которую я вышел, были ярко освещенные ступени. Я побежал к ним. Но только лишь я на них запрыгнул, лестница ожила под ногами. Я испуганно вскрикнул, упал и покатился по ней кубарем, а ступени стекали, словно река, и под конец выплюнули меня на металлическую платформу. Со стонами, я попробовал подняться.
- Ну тебя и обработали, братан, - донесся до меня хриплый голос.
Я поднял голову и увидел нищего. Выглядел он привычно, хотя одет был странновато, в панталоны, словно бы предназначенные для верховой езды, и какой-то бурый, весь в заплатках, дублет; такой себе малюсенький, толстенький гном с совершенно лысой головой, с лицом, похожим на мордочку поросенка, покрытым, правда, седеющей щетиной. Воняло от него ужасно, но тоже привычно.
- Подняться можешь? – спросил он. – Ты поскорее, а то тут опасно. Эй, Рикко! – этот призыв был предназначен его товарищу, худому, словно щепка, мужчине, с копной волос до плеч, который чего-то выискивал в небольшом металлическом ящике, стоявшем в паре шагов.
- И какого черта я бы орал, Тото? Я тут две бутылки нашел. Блииин… Мусора! Валим отсюда! Хватай этого голого мудака, пока его не взяли за жопу.
В нашем направлении с бешенным воем стремилась повозка без лошадей. Не теряя ни минуты, оба оборванца потащили меня в проход между какими-то заборами и бараками. То была стройплощадка. Тут я хотел пояснить им, что у меня нет причин скрываться, поскольку я и есть чудесным образом воскресший Альфредо Деросси, которому в их городе ставят памятники, но еще смолоду я усвоил принцип, что если народ куда-то убегает, нужно бежать с ними, а только потом спрашивать: а зачем.
- Быстрее, братан, быстрей, - подгонял длинноволосый.
Мы свернули под какие-то опоры, все покрытые отвратительной мазней, все меньше было светящихся шаров на жердях вдоль дороги, пока нас вдруг не окружила сплошная темень. Мы остановились. Я слышал металлический скрежет, это Тото поднял какую-то металлическую плиту.
- Грузись, - буркнул он. – В канализацию эти держи-хватай за нами не спускаются.
По металлическим полукружьям ступеней, вбитых в стену, мы спустились до самого края клоаки, по которой плыла всяческая гадость. Мы шли по узкой тропе по самому краю откоса, ничего не говоря, слушая только хлюпанье нечистот и капель воды, стекавших со свода. Из пальцев Рикко вдруг вышел луч света, более яркий, чем десяток свечей, без дыма и запаха.
Так мы продвигались довольно долгое время, пока не увидали отсвет костра. Возле него ситдел другой мужчина, в возрасте, весь покрытый волосами, словно обезьяна, со столь же неаппетитной внешностью, как и остальные.
- Ты погляди, Лино, кто к нам пристал, - сказал Тото. – Такого полнейшего голяка я еще и не видел.
Меня подтащили к огню. То, что поначалу я принял за костер, оказалось всего лишь языком пламени, исходящего из какой-то вонючей трубки, над которой висела кастрюля. Я потянул носом.
Они используют для подогрева болотный газ, хитроумно, - подумал я.
Рядом с этой "кухней" я заметил два логовища, массу мусора, банок, бутылок из странного, мягкого стекла, клочьев бумаги и не известных мне предметов.
- А ты, болван, откуда вырвался? – спросил хозяин, к которому остальные нищие относились с исключительным уважением. – Из тюряги или из дурки? – Я молчал, но атаман не сдавался. – Ты хоть говорить умеешь? Или вообще не врубаешься?
Я кивнул в знак того, что понимаю.
Язык, которым они пользовались, напомнил мне мой родной язык, только сильно деформированный, он был лишен изящества грамматики, времен, склонений и спряжений. Он был ближе к жаргону наших крестьян, правда, он был перенасыщен выражениями, значения которых я не понимал.
- Потянешь?
Толстячок вытащил коробочку с удлиненными белыми палочками, похожими на палочки ванили. На всякий случай, я отрицательно покачал головой. Зато бородач взял одну и воткнул ее себе в рот. Никакой трубки у него не было.
Гном поднес свою палочку к огню, чмокнул, подождал какое-то время и окутался облачком ароматного табачного дыма. Рикко в это время вытащил из мешка потрепанную рубашку и панталоны.
- Оденься, - сказал он, бросая одежду мне. – Понятное дело, эти тряпки не от Версаче, но лучше это, чем светить голым задом.
- Благодарю! – ответил я.
Лино присел рядом, внимательно приглядываясь к моему лицу и рукам.
- Тебя кто-нибудь ищет? – спросил он.
- Не предполагаю.
- "Не предполага-а-аю". Ты глянь, выражается, словно типичный интеллигентик, - нахмурился бородач. – Меня подобные типы бесят, потому что напоминают меня самого долбаных лет пятнадцать назад.. Ладно, пускай высохнет, чего-нибудь погрызет, но потом пускай валит. Мы тут не богадельня.
- Погоди, Лино, - смутился Тото. – Ты же видишь, мужик едва жив. У тебя Бог в сердце есть?
- И ты говоришь это мне, бывшему студенту теологического факультета? Ты же знаешь, куда я могу сунуть Бога. Я не люблю неприятностей. А с чужаком неприятности могут быть всегда.
- Могут, но ведь не обязательно.
Тем временем Рикко вытащил из бумажного пакета какую-то металлическую круглую коробочку, на которой был нарисован обедающий кот, разрезал крышечку ножом и подал мне со словами:
- Твой кот тоже купил бы вискас.
В средине находилась какая-то субстанция, пахнущая довольно-таки аппетитно. Я сожрал все и немедленно. Даже не помню, когда у мен во рту было хоть что-то съедобное. Наверное, весьма давно. Мои хозяева глядели на меня испытующе.
- А ты откуда взялся на Обрыве? – спросил наконец Тото. – Это наш район. А тебя никогда как-то и не встречали.
- Тут я даже и не знаю, как вам ответить. Мне кажется, с моей памятью что-то случилось.
- Это ты, похоже, свалил с реабилитации. После их долбаных процедур, гипнозов и электрошоков с катушек съехать можно запросто, - оживился Рикко. – Это мы проходили. Так я и попал сюда. А ведь когда-то на телевидении работал.
Я не знал, что могла означать эта склейка из греческих и славянских слов, как я полагаю, речь шла о дальновидении, но по уважительному тону, с которым Рикко выговаривал это обозначение, я сделал вывод, что речь идет о каком-то учреждении, пользующемся огромным уважением.
- Чесслово, у меня к рекламе такое чутье было и рука, что не было ни одной киски в городе, которая бы не тащила меня к себе в берлогу, лишь бы ее записали на пробные съемки.
Я перестал его слушать. Мне хотелось только лишь спать. При этом я испытывал чудовищную усталость, так что закутался в потертый коврик, который мне выдали, и заснул как ребенок. Последним образом, который я был способен зарегистрировать, был пожилой Тото, который сунул себе в уши какие-то кружочки, соединенные проволокой с маленькой коробочкой, и начал ритмично двигаться, как будто бы изнутри его подбадривала музыка.
Разбудил меня солнечный свет, падающий прямиком на нос. Я открыл глаза. Свет проникал сюда через какую-то решетку. Неужели я вернулся в свою камеру в подземельях Кастелло Неро? Вот это был бы банальный конец столь необычного сна. Но уличные шумы, доходящие снаружи, свидетельствовали о том, что цикл галлюцинаций продолжается. Нищие куда-то запропастились. С собой они забрали большую часть своего и так несчастного имущества. Либо они были из числа канализационных бродяг, перемещающихся в течение дня, либо великодушно уступали мне данное помещение вместе со спальным местом и небольшим ящиком, изготовленным из неизвестного мне материала, который им служил в качестве стола. Кроме того, в самом углу я обнаружил целую кучу запечатанных текстом листков, похожих на наши листовки. Я тут же схватился за эти бумажки, надеясь, что хоть чего-нибудь узнаю из них про мир, в котором очутился. Предчувствие меня не обмануло. Заголовок гласил: "Il Giornale delia Rosettina" и дата: 25 июня 2001 года. Тут у меня закружилась голова, и мне снова показалось, будто бы я проваливаюсь в колодец. Со дня моей казни прошло около четырех столетий!
Долгое время я сидел неподвижно. По счастью, этот неожиданный шок сыграл благотворную роль. Он поставил меня на ноги. Даже если все вокруг и было иллюзией, мираж этот подчинялся определенным правилам. Мир у меня в голове начал упорядочиваться. Я старательно прочитал все оставленные здесь запечатанные текстом листки. На паре из них я видел цветные изображения, представлявшие людей разного, а то и одного пола, бесстыдно занимавшихся любовью. Картинки были настолько тщательными, словно бы вышли из-под руки злого духа, а не человека. Дальше я увидал многочисленные снимки безлошадных экипажей, приводимых в движение тайной силой. Еще мне попалась затрепанная книжка, предназначенная, скорее, для осмотра, чем для чтения, в ней было полно картинок одежды и оснащения вместе с их ценами. Костюмы, по сравнению с одеждой моих времен, мне показались скромными, неброских цветов, наверняка, удобные и быстрые в одевании, но вот показанное оснащение походили на алхимические аксессуары. От постоянного перелистывания у меня заболела рука.
- Спокойно, Альфредо, - повторял я сам себе. – Не вникай пока что, каким образом все это произошло, определись со своей ситуацией. Ты очутился в XXI веке. В Розеттине, в Европе, похоже – объединенной. Что ты узнал? За последние четыре сотни лет человечество осуществило небывалый прогресс: самоходные экипажи, сверхъестественный свет, движущиеся лестницы… И в то же самое время все так же существуют нищие, и, как следует из донесений "Розеттинской Газеты", в мире есть множество убийств, грабежей и других преступлений.
Среди немногочисленного оснащения, оставленного в берлоге нищими, я обнаружил ту самую коробочку с наушниками – их каталога я узнал, что она носит название "walkman". Подражая действиям Тото, я сунул наушники в уши и нажал на какую-то пуговку.
Пронзительная какофония звуков отбросила меня к стенке. В коробочке сидел самый настоящий демон музыки. Хотя, а была ли это вообще музыка? Мне удалось приглушить демона, покрутив одно из колесиков. Звучание оставалось таким же варварским, зато качество было таким совершенным, что лучшего невозможно было и представить. Там должен был играть целый оркестр, так как я слышал и стук барабанов, звуки вроде как бы рогов и органа. Воистину, если должно было стать верным мнение Платона, что упадок мира берет свое начало в вырождении музыки, будущее XXI столетия интересным никак не выглядит.
Тем не менее, ко мне вернулось какое-то живое настроение. Тем более, когда нашелся кусок засохшего хлеба и остатки того \самого "вискаса". Говоря объективно, разве мое приключение не было поразительным? Я жил и мог успокоить любопытство собственного будущего в такой степени, о которой Аристотелю или Эразму Роттердамскому и не снилось.
- Ну что же, воспользуемся этим! – воскликнул я сам себе.
И мне вдруг ужасно захотелось очутиться в солнечном мире, умыться в реке, найти какую-нибудь академию или библиотеку, где я наверняка бы нашел массу людей, с которыми смог бы объясниться.
И эта мысль настолько увлекла меня, что я совершенно позабыл об осторожности. Весь вчерашний путь я прошел обратно и сразу же очутился под опорами моста, покрытыми надписями, выглядящими весьма гадко, хотя их смысла я и не мог понять, ибо что могли означать все эти различные "Fuck off", "Розеттина – круто" или "Парма - жиды" или же переломанные кресты, в прагерманских религиях означающие солнце? В поросшей сорняками канаве я напал на одно из металлических судищ. Лишенное стекол, без колес, с распоротыми сиденьями оно не возбуждало ужаса, скорее – жалость. Внутри него разбойничала целая куча детей, которые, увидав меня, тут же разбежались, обзывая меня самыми оскорбительными словами. Я заглянул вовнутрь. Экипаж походил на повозку или даже сани с небольшим рулевым колесом, словно на судне. Спереди, под поднятой крышкой, я увидал множество искривленных трубок и проводов, заставляющих вспомнить брюшную полость живого существа. Поскольку с механикой я достаточно ознакомлен, быстро пришла догадка о том, что сердцем устройства должен быть небольшой чугунный котел. Вот только что в нем сжигали? Выветрившийся запах говорил о каком-то масле или земельном выделении, из которого в Иллирии варили смолу для крыш и дорог. Но времени для дальнейших исследований у меня не было. Идя дальше, какое-то время я присматривался к проводам, ведущим от одного фонаря к другому. Лампы находились слишком высоко, чтобы их мог зажигать человек, а провода были слишком тонкими, чтобы по ним мог подаваться светящийся газ. Тем временем, среди куч мусора стал виден берег Фьюме дель Флори. Еще мгновение – и я очутился на каменной набережной. Склонился над водой… В нос ударил отвратительный смрад химикалий. Река, и в мои времена не слишком-то чистая, теперь сделалась истинной сточной канавой. Но мне просто необходимо было обмыться. Пускай и в сточной канаве. Что поделать! И я погрузился по пояс…
Чудовищный рев. С ошеломительной скоростью появилась лодка без парусов. Мужчины с тупыми рожами живодеров затащили меня на борт. Было видно, что моя борода, свернувшаяся кровь и раненные пальцы не возбуждали их доверия.
- Документы, - рявкнул черный как смола негр, к моему изумлению, он явно командовал белыми. – Документы! – повторил он, видя, что я никак не реагирую на его вопли.
- Что?
- А что угодно. Паспорт, полис, кредитная карточка, водительские права.
- Не понимаю, о чем вы говорите. Я утратил память.
Тут я заметил, как служащие обменялись многозначительными взглядами.
- Сгодится, немного раненный, но вообще-то на нарика не похож, - сказал негр. – то нам с самого утра подфартило.
Лодка с оглушительным ревом развернулась, и мы направились вверх по течению. Мне на руки надели металлические браслетки. Я сопротивлялся, утверждая, что ничего плохого не сделал. Инстинктивно я чувствовал, что у них в отношении меня самые гадкие намерения. Ударом головы я повалил чернокожего, желая прыгнуть в воду. Тут белый со сломанным носом вытащил палку. Я-то думал, что он нею замахнется. Но тот ею меня только коснулся. И тут меня поразило чудовищное сотрясение, доходящее до самых концов всего моего естества. И я потерял сознание.
12. Ангельский пациент
Абсолютная темнота. Звуки. Тик, так, тик, так – неужели некое алхимическое устройство? Я снова попал в колодец? Или вновь вижу тот самый незавершенный сон? Шаги! Шаги вокруг меня. Мужские туфлищи, женские туфельки. Голоса. Отдаляются, приближаются… Постепенно я начинаю их распознавать. Я живу. Но почему же не могу даже пошевелиться… Паралич? Нет! Под пальцами я чувствую ткань. Еще могу шевелить пальцами ног. Чувствую все больше. На глазах нажим бинтов. Во рту металлический, неприятный привкус.
- Это точно, что у номера четыреста тридцать пять не было никаких документов? – бубнит мужской, властный голос.
- Нет, ничего не имелось, - отвечает женский голос, деловой, спокойный, с легкой хрипотцой (когда-то я обожал такую вот чувственную хрипотцу!).
- А в картотеке пропавших без вести проверили? Его никто не разыскивает?
- Директор Рандольфи заявил, что все было проверено. На это у них было два дня. Впрочем, и без проверки видно, что это законченный алкоголик.
Шаги приближаются еще больше, разговаривающие находятся рядом со мной. Голоса делаются тише.
- Спит?
- Как ангелочек. Можно сказать, ангельский пациент.
- Но состояние, я вижу, довольно паршивое.
- Это только на первый взгляд, синьор доктор. ЭКГ замечательная. Давление лишь чуточку повышенное. Сердце тридцатилетнего мужчины. Почки, судя по анализам, тоже.
- Прекрасно, Моника. Сделай еще послойный УЗИ, все по очереди: печень, поджелудочная, селезенка, ну и почки. Сколько ему может быть лет?
- Хромосомный анализ говорит, что сорок с лишним.
- Довольно старый.
- Молодые бывают намного худшими донорами. Помните, пару недель назад привезли двоих подростков. И что? Оказалось, что абсолютные анатомические отбросы. Потроха как у стариков. К тому же, оба серопозитивные.
- Будем надеяться, что этот ничего не подцепил.
- Я отослала кровь в лабораторию, вскоре будет ответ на ВИЧ и на реакцию Вассермана.
- Хотелось, чтобы на завтра был весь комплект данных… - Небольшая пауза. – Ты что-то заметила, детка?
- Мне кажется, он просыпается.
- Так вколи ему усиленную дозу снотворного. Не люблю я, когда доноры просыпаются перед операцией. Что ни говори, они ведь люди.
Более тяжелая обувь удалилась. Я услышал шелест. Кто-то поправлял ткань, которой я был прикрыт. Снова я попробовал пошевелиться, но не мог. Мои ноги, руки и голова были весьма тщательно закреплены к основанию. Гипс? Нет, что-то более эластичное. Признаюсь, я был весьма обеспокоен собственным статусом. Говоря по правде, относились ко мне деликатно, мне было тепло, все же интуиция подсказывала, что моей ситуации не позавидуешь. Раз у меня ничего не болело, тогда зачем меня приковали к кровати, почему мне завязали глаза, зачем меня усыпили, а теперь собирались усыпить еще и повторно. Я пытался подать голос. Дева Мария, мне заклеили рот чем-то липки. Но женщина, похоже, заметила мое шевеление.
- Спокойно, бедняжка, это уже недолго… - в ее голосе прозвучал сочувственный тон. – Боже мой, а ведь тебя до сих пор даже порядочно не помыли! – Она подняла голос: - Кларетта! – Раздался быстрый стук совершенно других туфелек. – Нам следует привести его в порядок. Но вначале он должен снова заснуть.
- Вот шприц, сестра, - отозвалась вторая женщина.
Я почувствовал прикосновение тонких пальцев к плечу, потом укол и онемение, расходящееся по всему телу.
Тут же у меня с глаз сняли повязку. Я прищурил веки, так глаза были поражены интенсивной яркостью света. Я почувствовал осторожные прикосновения губки, стирающей у меня с лица грязь и свернувшуюся кровь. Осторожно открывая глаза, я заметил симпатичную мордашку блондинки со слегка курносым носиком.
- Черт подери… - в голосе женщины прозвучало неожиданное удивление. – Только ведь это, наверное, невозможно.
- Что случилось? Тебе помочь, Моника…? – спросила сбоку женщина по имени Кларетта.
- Нет, нет. Я и сама справлюсь! – Свет исчез. Вновь мое лицо покрыла ткань. Нк знаю, почему, но я съежился в ожидании боли. Мне хотелось вопить, но я не мог, из горла издавалось какое-то невнятное бульканье…
- Зачем же я тебя усыпила, нам ведь нужно переговорить, потому что если ты… - услышал я шепот Моники. – О, знаю, я сделаю тебе инъекцию кофеина. Это должно притормозить действие люминокса.
Снова укол, более слабый. А может, просто усыпляющее средство уже начало действовать. Образы расползались, звуки я слышал с эхо, словно бы доносящиеся из пещеры…
Тут возвратился тип, которого называли доктором.
- В первую очередь мне будут нужны анализы печени. В Иоганнесбурге уже ждут с операцией. Сердце, в свою очередь, утром полетит в Тель-Авив. Да, кстати. А пациент был обрезанным?
- Нет.
- Жаль, тогда цена была бы выше…
- В протоколе вскрытия трупа я могу записать, что был.
- А вы, Моника, быстро учитесь. Сколько это вы у нас?
- Два месяца.
- А перед тем?
- Проходила хирургическую стажировку в Вероне. Но тут у них случилось сокращение штатов… Должностей не было даже для женщин-добровольцев. Тут я увидала ваше объявление и послала свое резюме с рекомендациями.
- Так что там с анализами крови?
- Мне должны выслать на электронную почту. Сейчас сяду за компьютер. Вот только…
- Слушаю.
- Его личность и вправду не установлена?
- Вы сомневаетесь в решениях доктора Рандольфи? Если бы имелись какие-либо сомнения, его не поставили бы в линейку приоритетов. Или вы его когда-то видели?
- Ни разу в жизни, - открестилась девушка, возможно, уж слишком быстро.
И тут я потерял сознание. Но, похоже, ненадолго. Очнулся я, чувствуя надвигающуюся волну рвоты. Мелочевка! Вы когда-нибудь блевали с кляпом во рту? Приятного мало. Я чувствовал, что мне нечем дышать, что в любой момент задохнусь. Похоже, Моника заметила мою отчаянную борьбу. Одним движением она сорвала со рта клейкую ленту. Рвота выплеснулась фонтаном.
- Прошу прощения, - выдавил из себя я.
- Ничего страшного. Мне следовало предусмотреть реакцию на противоядие.
- Где я нахожусь?
- А может лучше я начну с вопросов… - на мгновение девушка замялась. – Это ты тот, кого разыскивают?
Я перебил Монику:
- Понятия не имею, кого разыскивают!
- Но ведь тебя зовут Аль…
- Аль. Иногда меня называли и так. Хотя сам я предпочитал не сокращение, а полное имя: Альфредо.
- Ладно, не время препираться, Альдо…
- Альдо?
- Вот уже неделю все только и говорят о твоем исчезновении. Средства массовой информации, Интерпол… Обещают крупную награду. Как я поняла, эти идиоты из речной полиции приняли тебя за бездомного бродягу. Следует признать, выглядел ты не самым лучшим образом… Вот только я не пойму, почему не применили обычных процедур по проверке. Директор тебя даже не осмотрел.
Я не понимал и половины слов, произносимых девушкой. Но до меня доходило, что по какой-то причине она желает мне помочь.
- А может… - тут она замялась, - кто-то решил избавиться от тебя? Вот скажи, что, собственно, произошло с тобой во время Festa d'Amore? Тебя похитили?
- Не помню, - отказался я от попытки дальнейших объяснений. Кем бы ни был тот Альдо, с того момента, когда девушка приняла меня за него, ее отношение ко мне изменилось диаметрально. Возможно, в этом был мой шанс.
- Но ведь ты же, похоже, знаешь, кем являешься. Кем ьыл неделю назад…
- Неделю, неделю назад… Альдо? Ну, может и Альдо…
- Покажи ногу… - рванула Моника простынку. – Ну конечно! Знаменитые шесть пальце Альдо Гурбиани…
- Альдо Гурбиани… - По-моему, я уже встречался с этим именем в газетных обрывках, вот только в каком контексте? – Ну да, - буркнул я. – Гурбиани. Что-то такое вспоминается.
- Слушай, возможно, ты только строишь из скбя сумасшедшего, а может у тебя и вправду амнезия. Времени на то, чтобы это проверить, у меня нет. Только мы должны хоть что-то предпринять, пока тебя не покроят на детали.
- Не понял. Что они хотят со мной сделать?
- Я и сама не имела понятия, что такое возможно, пока не начала здесь работать…
Тут скрипнула дверь. Моника быстро накрыла мне лицо какой-то тряпкой, после чего принялась очищать кровать и пол.
0 Что произошло, Моника?
Снова тот же мрачный тип, которого называли il dottore.
- У пациента была рвота. Не надо подходить, dottore, можно поскользнуться.
- На каком фоне рвота?
- Я не совсем уверена. Быть может, аллергия к луминоксу.
- Ладно, об этом не будем. Что там с лабораторными анализами?
- Боюсь, что сообщения неутешительные. Тесты дали положительный результат. А это означает, что четыреста тридцать пятый является носителем.
- Наркоман хренов!
- Понятное дело, анализы мы повторим, но пока что я должна забрать его в диагностику.
- Чтоб он сдох! – Врач был явно рассержен. – И как мне все объяснить начальству? Они ведь обещали контрагентам экспортную поставку.
- Думаю, мы справимся, вы же сами вспоминали, что завтра приходит подводная лодка с балканскими сиротами. Материала для трансплантации выше крыши.
- Ладно, делайте, что вам положено.
Он вышел. Моника переждала минутку, после чего кровать дрогнула и с тихим скрипом выкатилась в коридор.
- Синьора, не снимете эту тряпку с моего лица? – попросил я шепотом.
- Исключено, а вдруг тебя кто-нибудь узнает, - ответила Моника тоже шепотом. – И помни, это я тебя спасаю, а не кто-либо другой.
Девушка закатила кровать со мной в какое-то помещение без окон. Только лишь здесь она вновь открыла мне лицо. Наконец-то я мог приглядеться к ней более тщательно. Девушка была худощавой, с мальчишеской фигурой, какую в мое время предпочитали розеттинские бисексуалы. Распахнутый халат открывал весьма непристойно экспонированную грудь, натягивающую плотно прилегающую к телу ткань; когда же Моника халат сбросила, я увидал коротенькую кожаную юбочку и пару невероятно длинных ног. Медсестра не скрывала волнения.
- Слушай, Альдо, хочу, чтобы все было ясно, - сказала она. – Я не безмозглая дурочка. Отсюда тебя вывезу. Но я должна быть уверена, что ты меня не бортанешь. Ты же, надеюсь, понимаешь, как сильно я рискую. Для докторишки и его дружков убить человека – все равно, что клопа раздавить.
- Я вам чрезвычайно обязан, синьора, тем не менее, не могли бы вы освободить меня от этих неприятных уз, привязывающих меня к кровати?
- Все в свое время. Когда я получу то, что захочу.
- А чего синьора себе желает?
- А чего еще можно желать? Бабок! Я вывезу тебя отсюда в безопасное место. Приведу юриста. Ты подпишешь соответствующие бумаги и можешь возвращаться домой.
- Понял. Из ваших слов, синьора, следует, что синьора считает меня…
- Меня зовут Моникой.
- Что синьора Моника считает меня достаточно обеспеченным гражданином.
- Ой, Альдо, только не строй из себя сиротку. Любому дураку известно, что ты богатейший человек Европы.
Вместе с кроватью Моника закатила меня в ярко освещенную комнатку и нажала на какую-то пуговку. Снова желудок подкатил к горлу. Мы спускались вниз. Через мгновение блестящие створки разошлись. Мы находились в низком подвале, походящем на пещеру, где рядами, ровненько, словно поросята у сосцов хавроньи, стояли безлошадные повозки. Моника подкатила кровать к заду одного из таких экипажей; снизу что-то скрежетнуло, и одна лишь верхняя часть кровати со мной и постельным бельем вкатилась вовнутрь. Ногами вперед, что – как известно – является не самым лучшим знаком. Моника закрыла крышку, сама же заняла место за рулевым колесом. Подо мною раздался рев машины. Мы поехали. Я преодолел страх. Впрочем, гораздо сильнее сейчас меня беспокоила мысль относительно принципов, на которых такой экипаж мог действовать. Когда-то я анализировал возможности постройки паровых машин, но здесь не было ни следа от пара. Между мной и передним отсеком я заметил приоткрытое окошко, благодаря чему можно было разговаривать друг с другом.
- А скажи мне, синьора, - отозвался я, мучимый любопытством, - что приводит этот твой экипаж в движение?
- Ты так смешно говоришь, Альдо, совсем как иностранец. Тебя интересует, ездит моя тачка на бензине или на дизельном топливе?
- Ну, именно.
- Это старый дизель!
Мы выехали на открытое пространство, через полупрозрачные стенки я видел ровные ряды деревьев и небо. Какое-то время мы ехали по аллее. После чего нас остановили запертые ворота. Я нигде не видел ни привратника, ни охранника, Моника лишь вытащила небольшую коробочку, вытянула перед собой, и створки начали раздвигаться. Я вернулся к нашей беседе.
- А скажи-ка мне, благородная синьора, говорит ли тебе что-нибудь фамилия Деросси и прозвище "Il Cane"?
- Естественно, кто же не знает жертву невежества и нетерпимости, казненную в семнадцатом столетии за свободу провозглашения собственных убеждений.
- А вам известно, синьора, что осталось из его наследия? – продолжил я расспросы.
Моника задумалась.
- Скорее всего, нет.
На обочине я увидал огромную картину, изображавшую голую женщину на крыше безлошадного экипажа. Картина была снабжена надписью: "Мыслю, следовательно, нахожусь в альфа ромео".
- А ведь это мое! – хвастливо заявил я.
- Знаю. Ты же контролируешь десять рекламных агентств, опять же – монополия на бигборды.
- Нет, я имел в виду формулировку, использованную мною в падуанских лекциях: "Мыслю - следовательно, существую".
- Не заливай, Альдо, - рассмеялась девушка. – Даже ребенку известно, что это цитата из Декарта.
Я не стал полемизировать с женским невежеством, придя к выводу, что хотя везущая меня девица и желала выглядеть ученой, но такой умной как моя Мария, она не была. Тем временем, кроме рокота машины, до меня донесся другой звук, пискливый, несколько следующих один за другим тонов, потом какая-то довольно приятная мелодия.
- Паоло, вот только не притворяйся, будто бы тебя нет дома.
- Непонятно откуда, но ей ответил мужской голос:
- Тогда представь, будто бы звонишь, малышка. У тебя какая-то проблема?
- Мне нужна твоя хата. Самое большее – на пару дней.
- Любовь или бизнес?
- Бизнес на все сто.
- Тогда все в порядке. С тебя должок. Я возвращаюсь на будущей неделе.
- И куда это тебя забросило?
- Я в Нью-Йорке.
- Желаю хорошо развлечься. Спасибо за хату.
- Па!
- Синьора разговаривала с кем-то, в настоящее время пребывающим в Англии? – отозвался я, не сдерживая изумления.
- В Америке. Мой приятель сейчас в Нью-Йорке. - Моника произнесла это таким тоном, словно для нее было очевидным, что всякий обязан знать этот Новый Йорк, о котором, сколько живу, никогда не слышал. – Надеюсь, - прибавила она, - что нас не станут разыскивать раньше, чем через пару часов. Но тогда все уже будет кончено.
У меня было желание спросить: "Что будет кончено?", но не хотелось портить себе прекрасного настроения. Тем временем, движение по дороге, по которой мы передвигались, существенно уменьшилось: мы свернули направо, затем еще раз, тоже направо. Все здешние дороги, по сравнению с нашими, отличались невероятно гладким покрытием, да и сам экипаж должен был сконструирован как-то так, что – несмотря на сумасшедшую скорость – я практически не чувствовал сотрясений. И вот тут на доске у дороги я увидал доску с надписью: "Монтана Росса", которая заставила мое сердце сжаться от волнения, а уже через миг мы очутились перед рядом небольших домиков, по городской моде поставленных тесно один возле другого, но возле каждого имелся маленький садик. Мы въехали на участок; машина по наклонной плоскости скатилась в подвал.
- Сейчас я тебя развяжу, - сказала Моника. – Сможешь двигаться. С одним маленьким ограничением! – Тут же на щиколотках замкнулись стальные кольца. – Это, чтобы тебе не пришло в голосу сбежать.
- Синьора! – возмутился я. – Твоя осторожность излишня, ведь я дал слово. Кроме того, хочу подчеркнуть, что я не привык уходить, не прощаясь, тем более, с кем-то, спасшим мне жизнь.
- Комплименты можешь пропустить. Я тебе ни Мать Тереза, ни Флоренс Найтингейл. Спасла я тебя ради денег. А бежать не советую ради твоей же безопасности. У меня имеются основания подозревать, что кому-то чрезвычайно важно, чтобы ты не вернулся на старое место…
Дом имел приличные размеры, но более всего меня изумило отсутствие слуг. Кухня соединялась со столовой, что – честно признаюсь – наполняло меня отвращением и сочувствием к хозяевам, которым приходилось завтракать, видя готовку блюд и подвергаясь общению с кухарками. Зато уборная, до которой я добрался, изо всех сил сжимая колени, была из разряда наиболее славных, в которых мне доводилось проводить время. Она заставляла вспомнить изысканнейшие римские времена. Отдельная уборная с проточной водой! Искусные краны, после вращения ручек на которых из кранов текла или холодная, или горячая вода. В первый момент я даже налил кипяток себе на голову. Зато потом я нежился в сказочно теплой жидкости, которую пришлось дважды спустить, чтобы наконец-то помыться. Мне удалось открыть принцип включения освещения. Ничего сложно: свет зажигала кнопка, даже обезьяна могла бы этому обучиться. Повсюду я разыскивал бритву, чтобы избавиться от щетины, но, не найдя, попросил помощи у Моники.
- Что, забыл как пользуются электробритвой? – рассмеялась та, но вручила мне округлую шкатулочку с вращающимися зубцами, которая, подобно хищному зверьку, быстро справилась с растительностью на моем лице.
Девушка подумала обо всем. Когда я выходил в купальной простыне, она дала мне уже приготовленную одежду, мягкую и прилегающую к телу.
- Что, не знаешь, как надеть треники? Погоди, я освобожу тебе ноги.
Легкие, но прочные кандалы упали на пол, но когда я склонился, чтобы помассировать щиколотки, Монику этот жест должен был весьма обеспокоить. Она подбежала ко мне, схватила за руку и перекинула над собой, после чего обездвижила меня на ковре.
- Что ты делаешь, синьора? – промямлил я.
- Больше и не пытайся делать подобное, у меня черный пояс по айкидо, - бросила та. – А сейчас можешь надеть штаны.
Понятия не имею, что этот черный пояс означал. Хотя, можно было опасаться, что вновь мне попалась какая-нибудь колдунья.
А перед тем я вновь пережил шок. В туалете висело зеркало на всю стену. Так вот, мужчина, которого я увидал в его совершенной глубине, был не я. То есть, кое-что совпадало: шесть пальцев, черты лица, да и – более менее – вся фигура. Только Альдо был выше меня, где-то на половину локтя, у него был больший живот, и лысина выдавалась сильнее. К тому же, в нижней части живота у него имелся шрам после какой-то серьезной операции, а еще округлый шрам величиной с денарий на предплечье. Зато я не обнаружил дырки на груди, памятки о поединке в Париже с одним из знаменитых мушкетеров де Тревиля.
Так кем же я был на самом деле? У меня было сознание Альфредо, но тело Гурбиани. Что это означало? Мне вспомнилась беседа, что была у меня когда-то в Лиссабоне с неким путешественником, бывавшим в Индии. Он говорил о распространенной среди тамошних язычников вере в переселение душ, называемое метампсихозом. Неужто я был материальным доказательством правдивости того суеверия? В таком случае, почему я вылез из колодца, в который меня когда-то сбросили? Почему я ничего не помню из прошлого Альдо? И что, собственно, произошло с тем богачом?
Рядом со столовой я набрел на опрятную библиотеку и, получив разрешение от девушки, бросился к полкам. Книги были изданы на исключительно гадкой бумаге, зато они были невероятно качественно иллюминированы[10]. Имена большинства авторов мне ничего не говорили: Джойс, Дюрренматт, Набоков, Умберто Эко… Зато с радостью я заметил сонеты Шекспира (выходит, его читали и через много столетий) и "Декамерон" Боккаччо. Забыв обо всем, я набросился на толстенный том "История мира – новое время". Я поглощал его в течение лавры часов с воодушевлением, которого, думаю, не познал никто из читателей. Даже палачи Ипполито не смогли бы оттянуть меня от этого чтения. У кого еще имелась возможность узнать историю последних четырех сотен лет после собственной смерти?
Это была история великая и ужасная, гораздо более богатая неожиданными поворотами, чем мифы древних греков и римлян. Я читал о быстром крахе Испании, который и сам предвидел, о необыкновенном развитии английских колоний в Новом Мире (а я ведь совершенно не обратил внимания на то, как они появились), совместно основанные британскими ссыльными, проститутками из Саутворка, польскими угольщиками, французскими гугенотами, ирландскими голодающими, которые всего лишь через полутора века заявили о себе: "Мы – народ!". (И ведь этот девиз откуда-то мне был известен) Я прослеживал историю британского владения на морях, до самых дальних уголков, которое началось с известного мне по рассказам капитана Массимо поражения Непобедимой Армады. Изучая далее всеобщую историю, я сочувствовал бедам моей лишенной надлежащего ей положения Италии. Страшно дивился я глупости французов, проигрывающих наилучшие исторические шансы в очередных неразумных революциях и войнах. Видел я, как у немцев, этого народа пивохлебов и эстетов, вырастают стальные зубы и кулаки. Я плакал над судьбой Польши, отчизны любимой моей Марии, которую разорвали на части соседи-чудовища. Я сопровождал идущих на эшафот Карла I, Людовика XVI и Марию-Антуанетту… И всякий раз меня охватывало все большее изумление, когда я чуть ли не на каждом шагу встречал собственные мысли, цитаты, bon mot'ы, приписываемые другим людям. Мой термин "Общественный договор" присвоил себе некий Руссо, формулу "Человек человеку – волк" – Гоббс, "Свобода, равенство, братство" – французские революционеры… В конце концов, теорию эволюционного образования видов забрал Чарлз Дарвин. В другой книге, в третьем томе энциклопедии, я обнаружил краткую биографию Альфредо Деросси. Вот что там было написано:
Художник, философ и вольнодумец. Жертва контрреформации в Розеттине. Из его произведений в частной коллекции сохранился "Портрет шотландского юноши" и пара стихотворений в антологии, изданной в 1632 году в Лиссабоне.
И это все. Так что не меня мир должен был благодарить за небывалый прогресс техники, который начался с предсказанных мной пароходов и шаров, наполненных разогретым воздухом, а довел до посадки на Луне. Электроэнергия, о существовании которой я всего лишь подозревал, теперь освещала города и вспомоществляла умы. Были открыты бактерии, исследованы полюса, были изобретены вакцины, так что никто уже не умирал от воспаления дурацкой слепой кишки. Были побеждены послеродовые горячки (penecillium!), а борьбу с безумием отобрали у экзорцистов, передав ее психиатрам. Просто невероятно, до чего же дошел освобожденный разум!
Но вот когда я раскрыл страницы, относящиеся к двадцатому веку, ужас заставил волосы встать дыбом. Человечество, достигая все более замечательного цивилизационного уровня, сумело высвободить из своего лона такие силы жестокости и преступлений, о которых и не снилось Гелиогабалу, Атилле или Тамерлану.
В кандалы заковали целые народы, в том числе и собственные. Да, Луна была завоевана, но перед тем в одну секунду было уничтожено сотни тысяч японцев. Была отравлена земля, вода и воздух… И как раз в такой мир я попал.
Я отложил книгу, разрываемый самыми противоречивыми чувствами, размышляя над тем, как такое могло произойти, несмотря на победу над такими бедствиями как голод, неграмотность, эксплуатация и власть Церкви. Почему? Где же совершили ошибку?
Пришла Моника, а вместе с ней молодой, встрепанный человек с колечком в ухе, в голубом потертом костюме, заставляющем вспомнить сельского работника. Тем временем, это был знаменитый, якобы, юрист, синьоре Проди. Он пожал мне руку настолько мягко, что я его чуть не поцеловал в верх ладони.
- Мы тут размышляли с Анджело, какую форму должен принять наш с тобой договор, - начала девушка.
- Говорите, чего вы желаете, - ответил на это я. – Если я и вправду являюсь тем самым Гурбиани, и с вашей помощью смогу вновь обрести свой статус, вас встретит награда.
- Мне кажется, - сказал синьор Анджело, а по мягкости его голоса я сделал вывод, что он из тех, кто любит иначе, - что наиболее выгодной формой будет брачный договор.
- Брачный договор! – даже подскочил я и, повернувшись к своей сиделке, воскликнул: - Так я – что – должен на синьоре жениться?!
- Да, и при случае такая романтическая версия пояснила бы общественному мнению твое долгосрочное исчезновение, - сообщила Моника. – Опять же, я не желаю беспокоиться о будущем, а моей наилучшей гарантией будет запись, что в случае развода я получу одну четвертую всех твох активов.
- Но Церковь?... Разве она согласится на развод?
- Мы заключим гражданский брак, так как Церковь не подпустила бы Гурбиани на сотню метров рядом с любым из своих храмов, - засмеялась девушка. – Понятное дело, нам и не обязательно жить совместно, а после того, как договор вступит в силу, мы ради приличия переждем какое-то время, и только лишь потом возьмем развод. Такое тебе подходит?
- Это весьма разумное предложение, - поддержал Монику Анджело. – Я бы согласился, не раздумывая.
- Признаюсь, я весьма изумлен.
- А ты предпочел бы вернуться в больницу в качестве живого банка органов? Помимо всего, ты страдаешь от амнезии, и кто-то уже пытался избавиться от тебя, и он может захотеть сделать это снова, так что тебе будет хотеть иметь рядом дипломированную медсестру.
- Естественно. Но, прежде чем мы предпримем такое решение, мне хотелось бы узнать… а точнее, я должен вспомнить, кто такой этот Гурбиани.
Они поглядели на меня, как на сумасшедшего. А может, говоря по правде, я таким и был.
13. Новый, великолепный мир
И во второй раз приснился мне сон: странный, нереальный, страшный. Трудно сказать, когда я видел этот сон в первый раз. То ли в колодце, то ли в клинике по трансплантации органов, то ли ночью, проведенной среди нищих? Но сейчас он повторился с самыми мельчайшими подробностями. Так вот, я очутился в преддверии преисподней. А может, это ад и был. Выглядел он словно Розеттина, новая, наложенная на ту старую; Розеттина, охваченная горячкой, не то карнавала, не то пляски смерти. И тут шли по городу когорты дьяволов обоего пола под ритм странной, безумной, буквально разрывающей барабанные перепонки музыки. Лица у них были ужасным образом обезображены, покрыты сумасшедшей окраской, у них были кольца в носах и губах; тела их были покрыты гадкими татуировками, прикрыты кусками шкур с шипами, гвоздями и когтями. Все они несли свои знаки и знамена. Их сопровождали нагие женщины, разрисованные в разные цвета, у одних головы были выбриты по иудейской моде, у других груди были переделаны под рыбьи головы. У других из срамного места бил световой луч. А кроме них тут же плясали, явно выставленные на глумление, вьюноши, переодетые в священников и монахов, в шапках с чертовыми рогами, и в монашенок на котурнах, с отверстиями для вымени-грудей, в куцых рясах до половины бедра. Тут же тащили живую карикатуру на наместника Христова с павлином и попугаем, у которого на голову натянут был кондом, а вместо посоха пилигрима держал он кадуцей, оплетенный двумя гигантскими фаллосами. А над улицей развевались транспаранты: "Да здравствует терпимость!". На газонах, на лавках и тротуарах копулировали всякий с каждым, не обращая внимания на возраст, пол или нацию, да еще и устраивали конкурсы копуляции на скорость. И все, казалось, были одурманены какими-то препаратами, в особенности – несовершеннолетние дети, поскольку зрачки у них были расширены, речь бессвязная… Взрывы неконтролируемого смеха смешивались со спазмами изумления и плача.
И я там был, принимая знаки необыкновенного почитания и уважения от окружения, словно бы я был королем или покровителем всего этого безумия. И я был им. Ибо у меня было тело Люцифера. Я стоял на поднятой трибуне с вилами в руках рядом с нагой женщиной с формами Афродиты в венке из черных роз, а проходящие подо мной приветствовали меня: "Ave diavolo, ave diavolo!".
Я желал проснуться, поскольку одновременно давили меня страх и глубокое отчаяние, только кошмар все продолжался и продолжался среди грохота и фейерверков, в конце концов я и сам погрузился в водоворот черного наслаждения и был всего лишь частицей того Левиафана, заполняющего своей тушей широкую аллею. Как бы стремясь к самоуничтожению, пил я самые разнообразные напитки, потягивал предлагаемые мне самокрутки. Мысли мои путались, картины смазывались. Тут же пустился я в пляс с девицей, лет, возможно, тринадцати, в муслине, более прекрасная, чем сама олимпийская Геба. Я давил в поцелуях ее розовые уста и жадно искал ее только-только расцветающие грудки.
- Не тут, в машине… - шептала та, тоже трясясь, вне всякого сомнения – от возбуждения. Мы прошли на стоянку. И там неожиданно пал на меня мрак, что-то накрыло мне башку, заткнуло рот. Незнакомый голос хрипло воскликнул:
- Мы его схватили!
Я и хотел проснуться, но не мог. Я западал в глубину, в самого себя, в какой-то провал, в бездонный колодец.
Согласно легенд, распространяемым подчиненными ему средствами массовой информации, Альдо Гурбиани был ребенком улицы, жуликом, членом молодежной банды, неудачником, контролирующим сам себя, который много чего попробовал в жизни, сделавшись, в конце концов, экспертом как по сточным канавам, так и по Парнасу. Во всем он благодарил самого себя, у него не было ни образцов, ни учителей, а к успехам пришел трудом и врожденным умом.
В действительности же был он родом из типичного среднего класса. Альдо был розеттинского адвоката и оперной певицы, которая через десять лет после рождения сына сошла с ума, сбежала в Катманду, где предавалась платному разврату со всем и каждым, не исключая йети. Отец Альдо, по имени Джироламо, ценя для себя прежде всего покой, посылал сына в самые лучшие школы, от Гштаад до Тринити Колледж, где юный Гурбиани попробовал всего: от травки до педерастии, хотя – как утверждал сам – больше всего любил играться в лесбиянку.
В обучении ничем особенным он не отличался, его же тогдашние коллеги заметили лишь одержимую нелюбовь Гурбиани к закону божьему и демонстративное избиение коня на уроках по воспитанию. Впоследствии я заказал более тщательное исследование генеалогии типа, которого не могу называть иначе, как актуальным коконом собственного сознания. Результат был поражающим.
Карло Розеттинский, сын мой и Марии, принял власть над герцогством после смерти Ипполито, который удавился куском жаркого, пожираемого во время великого поста 1649 года от Рождества Христова.. Наследник трона, воспитанный, как мне это обещал эрцгерцог в подземной тюрьме, в казармах, особых способностей не проявлял. Даже в качестве военного. Тем более, что во время войн в Нидерландах (тогда ему было восемнадцать лет) французская картечь оторвала ему руку, так что ему не дано было испробовать свои силы ни в живописи, ни в музыке, ни в литературе. Несмотря на этот дефект, жил он долго. Женившись на германской княжне, потомков он наплодил столько, что и теперь нет, похоже, ни одного титулованного семейства в Европе, которое бы не вело род от него, следовательно, от меня. В свою очередь, приятно осознавать, что я мог бы говорить всем этим Бурбонам, Виндзорам, Габсбургам и Романовым: "Мои вы внучки дорогие". Из всех его наследников никто особо не выделился, так чем можно выделяться в территориально обкорнанном, из года в год разоряющемся государствишке, живущем в тени имперского гегемона.
Последний из повелителей Розеттины, Карло IV, погиб уже после своего отречения, случайно взорванный вместе с сундуком фейерверков, которые запускали в честь вступающего в город революционного генерала Бонапарте, обещающего восстановить республику. Понятное дело, никакую республику Наполеон не вернул, а сокровищ, награбленных из музеев, мы не получили назад даже после венского конгресса. Зато после Карло IV осталась куча охотничьих трофеев, поскольку охотником он был урожденным, и за всю свою жизнь истребил столько зоологических экспонатов, что ими всеми можно было загрузить новый Ноев ковчег, предварительно превратив его в холодильник. А кроме того, он оставил после себя дочку, Каролину, рожденную в неформальном союзе с красивой еврейкой из Алжира, полученной в подарок от султана, с которым он охотился то ли на львов, то ли на крокодилов.
Каролина, подобно как и ее прапрабабка Беатриче, еще ребенком отданная в монастырь, что никак не было вершиной ее мечтаний. Так что в ходе революционного балагана она с охотой перестала быть послушницей с помощью молодого, многообещающего генерала Луи Футулона, наверняка питая надежду на то, чтобы сыграть роль если не Полины Боргезе, то, по крайней мере, мадам СанЖен[11]. Только ничего из этого не вышло, и не понятно даже, почему, так как красотой она отличалась небанальной, а темперамент вообще был необычайным. Другое дело, что она слишком требующая любовница во время военных походов может быть весьма сложной частью снаряжения. Совершенно не так, как это было в случае Беатриче или византийской императрицы Теодоры, которые, начиная от постелей индивидуумов самого подлого сословия, вознеслись на троны, Каролина сделала своеобразную антикарьеру. Генерал через пару месяцев уступил ее своему полковнику, полковник – майору, майор – капитану… Во время испанской кампании женщина принадлежала всего лишь сержанту. И лишь смерть этого последнего уберегла ее от того, чтобы скатиться в еще более низшую сексуальную лигу.
Самое паршивое, что она попала в руки испанских партизан. Командир отряда герильяс, некий Мигель Фраганес, был не только дворянином, но еще и добрым католиком. В связи с этим, он спас честь Каролины от требований своих подчиненных, сохраняя ее саму и ее девственность (в отношении которой, как набожный испанец, он был абсолютно уверен) лично для себя. Впрочем, довольно скоро, в ходе битвы за Мадрид он потерял ногу, так что бежать от невесты ну никак не мог и, недолго думая, вопреки семье и приятелям, взял маркитантку в жены. В самом общем расчете это не было его самой большой ошибкой. После нескольких лет хозяйствования в своем имении в Леоне, "старобрачные" отправились в путешествие по Европе, о котором давно мечтали, в ходе которого Мигель проявил особое предпочтение к посещению современных казино. Там он спустил все свое состояние и даже дуэльные пистолеты, так что ему нечем было даже покончить с собой. Осень его жизни была исключительно печальной, поскольку на жизнь пришлось зарабатывать в должности ночного портье при казино в Баден-Бадене. Его любимейшим занятием стало гоняться в местном парке за нищими и блудницами, за что и заслужил у них прозвище "Одноногий Бандит".
Сама же Каролина, когда-то Южная, потом Западная, а под конец, наверное, Центральная, подрабатывала стиркой в гостинице. Поворотным моментом в ее жизни стал день, когда она стырила у одного итальянского туриста целую пачку банкнот, оставленную им в кармане брюк, которые он отдал для постирушки облив их в казино мельбой или чем-то подобным. Огненно-кровный итальянец, взбешенный потерей выигрыша, уже собирался избить прачку, но тут в углу подвальной комнаты краем глаза заметил девочку удивительнейшей красоты. То была двенадцатилетняя Долорес, которую сокращенно звали Лолитой, единственное неоспоримое достижение Мигеля с Каролиной.
Умберто Гурбиани, преподаватель риторики и профессор Реальной Школы в Турине, карабкаясь на вершины своего искусства, в течение трех лет убеждал семейство Фраганес, что только он один может обеспечить совершенное будущее аппетитной нимфетке. Неоднократно угощаемый черной похлебкой, он возобновлял свои предложения с настойчивостью дипломированного педагога и страстного педофила. Дважды в год он прибывал в Баден-Баден, писал романтические письма и помогал семейству Фраганес мелкими сувенирами.
В конце концов родственники сдались, сама же Лолита слова и не имела. Какое-то время лишь искали епископа, готового дать освобождение от церковных предписаний малолетке. Все удалось устроить в Трире. Свадьба была тихой, если не считать звона колоколов и драматического события вскоре после церемонии. Так вот, когда молодожены вместе с родителями возвращались после венчания, пьяный извозчик Ян Пыра (родом из Познанского воеводства) чуть не совершил серьезную аварию. Дело в том, что прямо под его экипаж попал молодой иудей с Талмудом в руке, который появился ну прямо словно призрак. По счастью, парень сильно не пострадал, разве что лошадь приложила его по голове копытом.
- Бли-и-ин горелый, это что тут за призрак бродит по Европе, а? – завопил Пыра.
Весьма разволновавшийся по причине инцидента Мигель Фраганес бросил счастливо ушедшей с жизнью жертве золотую монету в рамках компенсации, когда же студент колебался: принять ее или не принять, извозчик пьяно заорал:
- Бери, жид[12]! Когда-нибудь это может стать капиталом.
- Ja, ja das Kapital, schone Wort! Я саппомню… - ошалело произнес студент. После чего спросил, а откуда родом новобрачные.
- Из Испании, - ответил Фраганес. Когда же юноша, наверняка из вежливости спросил о национальности извозчика, Ян Пыра икнул и решительно заявил:
- А у извозчиков нет национальности!.
Тут Лолита заметила, что иудей эти слова записал. После чего выбросил Талмуд в мусорную корзину и с полученной монетой отправился в ближайшую книжную лавку, где на витрине красовалась надпись: БЕСТСЕЛЛЕР – Адам Смит "Исследования над природой и причинами богатства народов" – издание полное и с исправлениями. Удивительно, но ни одна из многочисленных биографий юного Карла Маркса этого эпизода не отметила.
Из Трира семейство Гурбиани перебралось в Турин, где в течение ста пятидесяти лет жили последующие поколения, не отличавшиеся ничем особенным: ну так, кто-то был городским советником, кто-то другой – местным фашистским иерархом, еще кто-то – активным деятелем Итальянской Коммунистической партии.
Альдо, прапраправнук Умберто и Долорес, был чрезвычайно хитроумным. И сверх всякой меры циничным. Даже из официального портрета выглядывает до боли прагматичный тип, лишенный принципов и каких-либо чувств. Изгнанный из высшего учебного заведения за отсутствие усердия, на какое-то время он зацепился в журнальчике, издаваемом розеттинским архиепископством, затем охотно сотрудничал с Красными Бригадами, в конце концов он попал в многотиражную прессу для женщин. В это же время, как и многие другие журналисты, он совершил удивительное открытие, что печатное слово, чем оно будет глупее и примитивнее, тем более говорит читателю, а люди охотнее всего читают о том, что и так уже знают. Приблизительно в то же самое время он познакомился с единственной любовью своей жизни – с деньгами. Более того, он обнаружил патент, как деньги добывать. Италия в то время была довольно-таки консервативной страной, и могло казаться, что человек с идеями, которые пришли в голову Альдо, крыльев никогда не развернет. Но на все имеются способы.
Неподалеку от Розеттины с позднего средневековья существует суверенное микро-государство Сан Стефано, д сих пор известное лишь немногочисленным туристам и коллекционерам почтовых марок. Как-то раз Гурбиани, самозабвенно изучая висевший на гвозде в общественном туалете в Равенне путеводитель по Сан Стефано и окрестностям, заметил, что законодательство этой малюсенькой страны не осуждает expressis verbis (в прямой форме – лат.) азарт и порнографию. Недолго думая, он отправился на место, окрутил бедствовавшего герцога, ходившего в дырявых носках, и получил от него carte blanche на "вспомоществование туристического сектора". Как он этого добился, до конца не понятно. Папарацци носами чуяли скандал. Гурбиани, якобы, знал о герцоге нечто, о чем тот сам желал как можно скорее забыть. Быть может, их объединяли отношения, более интимные, чем допускаются между издателем и его покровителем. Но никто так и не узнал, какими были те отношения, и были ли они вообще.
При казино и вскоре возведенном в его тени шикарном публичном доме еще в восьмидесятых годах Альдо учредил воинственно-непристойный журнальчик "Minettio", и довольно скоро еще и нонконформистскую телевизионную компанию SGC (Stefano Gurbiani Corporation), которая первой начала показывать пип-шоу и демонстрировать конвейерное ток-шоу под названием "Трах на ковре".
Итальянские элиты, Церковь, в конце концов, власти Италии, сопели от бешенства и хватались за самые различные методы, лишь бы укротить все эти начинания. Вот только руки у всех них были связаны. Гротескное Сан Стефано было суверенным государством, субъектом международного права, а попытки отключения электричества, наложения превентивной цензуры или хотя бы начисления налогов закончились рядом процессов в судах общей юрисдикции и в Страсбургском Трибунале, которые порномагнат в конце концов выиграл, завоевывая вдобавок представление как о бескомпромиссном бойце за свободу высказываний и права человека. Тем временем, благодаря скандалам, всегда являющимся наилучшей форой рекламы, станция SGC расширилась до нескольких десятков европейских и неевропейских каналов, расширяя, а как же, свои предложения программами, посвященными искусству, природе и политике.
Помимо того Гурбиани инвестировал в компьютерную и моторизационную отрасли, возводил гостиницы, строил шикарные трансатлантические лайнеры. Его частые романы давали пищу желтой прессе. После французской герцогини, которую он проиграл в карты победителю Уимблдона, недолгое время он появлялся с неким диктатором моды, якобы, "любящим ну совершенно иначе", потом предпочел "японский садик", в основе которого был женский смычковый квартет из Киото, для которого сам он был первым смычком. К тому же он постоянно снимал актрис. В перерывах между регулярными романами он засчитал в свою коллекцию двух лауреаток Оскара, трех – Сезара, одного лауреата Серебряного Медведя и половину Золотой Раковины (половинку, потому что в ходе любовных игр с русской трансвеститкой их застала врасплох дежурная по этажу). Как будто бы ему всего этого было мало, Гурбиани, которого католическая пресса называла антихристом, спонсировал всевозможные левацкие движения, художественные эксперименты, и довольно короткое время исполнял должность министра по информации в левоцентристском правительстве. Его пресс-конференции, в ходе которых министр ругался как сапожник, оскорблял авторитеты и безжалостно издевался над слабыми противниками, перешли в историю гадкого воспитания в качестве вершинных достижений эффективной манипуляции.
Только это я и узнал из брошюр и фильма, который Анджело запустил мне на видео. Я был потрясен. Материала было достаточно, чтобы возненавидеть собственную оболочку! Я пытался выявить в Гурбиани хоть что-нибудь от себя. Напрасно, помимо любопытства к окружающему миру ничто не соединяло меня с этим индивидуумом. Еще я пытался хоть что-нибудь узнать о последних приключениях медийного магната. Ведь его исчезновение так и оставалось тайной. В бульварной прессе много говорилось об угрозах, которые в течение длительного времени он получал от правой молодежи из организации "Прогнать Антихриста". Само исчезновение напоминало невероятную историю, который в мое время можно было выдумывать и рассказывать другим в долгие зимние вечера…
Festa d'Amore – предшествующие Купальской Ночи три дня безумия, спонсированного SGC на том же принципе, по которому проводили свои Дни парижская "Юманите" или польская "Трыбуна Люду", на первый взгляд нечто вроде летнего карнавала. Но только на первый взгляд, поскольку более всего они походили на глобальный шабаш, слет сил зла, манифестацию испорченности, триумф цивилизации наслаждения над культурой умеренности.
Наряду с фестивалем порно, визитной карточкой которого являются живые, копулирующие статуи на Пьяцца Гарибальди, со всего света в Розеттину прибывают всяческие артистические и эстетические извращенцы – здесь проводится Ярмарка Освобожденного Искусства, конгрессы и симпозиумы геев, лесбиянок, трансвеститов и содомитов. Но не только. Здесь же встречаются и обмениваются опытом представители различных сект. Анархисты избирают чемпионов Хаоса. Сатанисты назначают друг с другом свидания вслепую. Бешеные деньги делают торговцы наркотиками. А вход бесплатен для всех, разве что за исключением агентов Интерпола.
- И власти Розеттины все это терпят? – изумленно спрашивал я у Моники, осмотрев рекламную листовку праздника.
- А что они могут сделать? Кто может, отсылает на это время детей куда-нибудь подальше на каникулы. Духовенство запирается по церквам, моралисты просто не выходят на улицу.
- В фильме я видел, что главный парад на Виа Иллюминационе открывает сам мэр, передавая нимфам и фавнам из команды Гурбиани ключи от города. Как такое возможно?
- Бизнес, - разложила девушка руки. – За три дня феста город зарабатывает больше, чем на фармацевтическом производстве в течение года. Впрочем, поначалу все было не так жирно. Игрища, в гораздо меньшем масштабе, проводились в Сан Стефано. Но вот уже четыре года, после победы левых… О! Погляди сейчас, большой парад… Видишь себя в костюме Люцифера?
Я вздрогнул. Наяву я еще раз видел свой же сон.
Неужели я запомнил похищение Гурбиани? Разве ловушка выглядела именно так? И кто же ее поставил? Быть может, нападающие заманили магната в засаду, планируя убить его в Колодце Проклятых? Версия выглядела правдоподобной. Хотя мотивы и были мне неизвестны, сложно было сочувствовать жертве. Осознание того, что вот я, "Il Cane", тонкий художник, проницательный мыслитель и благородный человек, мог воплотиться в столь отвратительное чудище, пробуждала во мне неподдельный испуг.
Но не обману, когда добавлю, что меня возбуждало еще и природное любопытство.
О чем я тогда думал? Имелся ли у меня какой-либо план или хотя бы слабое представление о том, что придется мне делать в следующие дни? Наверное – нет. Я был словно потерпевший кораблекрушение на неизвестной, чуждой суше, к тому же полностью зависимый от моей медсестры и ее финансовых амбиций. Но без нее я бы просто погиб, скорее всего, в качестве "вторичного сырья". Но были ли у меня хоть какие-нибудь шансы с ней? Я посчитал, что, прежде чем что-либо предприму самостоятельно, необходимо вначале научиться пребыванию в этом мире. Научиться понимать его. Вопреки кажущемуся, это было сложнее, чем обслуживание аудио-видео аппаратуры (это, как раз, заняло у меня четверть часа). Или обучение базовой работе на компьютере… (час!). Программа Windows 2001[13] продумана была таким образом, что с ней справился бы и безграмотный неандерталец. Гораздо труднее мне было понять перемену в нравах, в ментальности, перемену иерархии ценностей, а точнее, ее полнейшую анархизацию.
Я смотрел телевизор и никаким образом не мог понять, почему люди, имея в своем распоряжении столь чудесное изобретение, используют его так бездарно. Банальные сериалы о любовных перипетиях бразильцев, совершенно идентичные мордобои и автомобильные гонки, казалось, заполняли телеэкран без остатка. Гораздо худшими были беседы с людьми, которые без стеснения раскрывали самые тайные закоулки души. Впрочем, а разве хоть где-нибудь осталось место приватности: телекамеры вскальзывали в спальни предводителей крупных держав. Фотографы, которых называли папарацци, могли до смерти загнать политиков и людей искусства, совершенно не обращая внимания на то, а имеет ли хоть какое-то отношение к честной политике или искусству все то, что показывалось на первых страницах газет. Но самое паршивое, что из всей этой горячечной погони за сенсацией выглядывала пустота, отсутствие глубоких мыслей, каких-либо размышлений.
- Телевидение – это, прежде всего, жевательная резинка для глаз, - поясняла мне Моника.
Я мог бы с ней согласиться, если бы знал, что такое жевательная резинка.
- Но как все эти станции могут передавать эту чушь круглые сутки?! – раздраженно восклицал я. – Ведь это же пустая трата времени. Неужто никто не помнит, что жизнь так коротка? Ужас!
- Вовсе нет, как раз это и есть демократия. Телевидение дает людям именно то, чего те желают.
- Но как можно желать столь скучных, повторяющихся, схематичных программ, из которых невозможно узнать ничего интересного?!
- А если люди ничего и не желают узнавать?
- Тогда, зачем они это глядят?
Моника на минутку задумалась над ответом.
- Возможно, чтобы не быть одни…
Одиночество – любопытное дело. В мое время я принадлежал к редкому виду одиночек по выбору. Здесь одиночество было правилом. Одинокой была Моника, точно так же и ее приятель, предоставивший нам убежище, и педик-юрист (но без постоянного партнера, в связи с чем он был обречен на частые поиски новых симпатий в клубе или через Интернет). И это еще не конец. В домиках по соседству жили либо одинокие пенсионеры, либо мамаши-одиночки, воспитывающие детей… В основном, тоже без братьев или сестер.
- А где же бабушки всех этих детишек? – спрашивал я.
- В домах престарелых. У них там по-настоящему комфортные условия.
- А где семья?
- Семья – это бремя, обязательства, необходимость отречений, ограничений, а люди не желают отказываться и отрекаться от чего-либо.
На третий день, вскоре после того, как моя попечительница согласилась снять с меня наручники, я предложил ей совместную поездку в город. Моника начала возражать:
- Это слишком рискованно, тебя узнают. Рандольфи и его люди наверняка тебя разыскивают.
- Купишь мне седой парик и бороду, я же сыграю старичка на прогулке. И не бойся, от тебя я не сбегу. Ведь в этом нет никакого смысла. Все козыри у тебя в руках. Ведь ты же могла бы напустить на меня своих трансплантологов, и они ликвидировали бы меня как свидетеля их деятельности.
- И меня при случае.
- Потому давай договоримся: вплоть до момента, когда я вернусь на публичную сцену как Гурбиани, действовать будем совместно. Да, кстати, я счмиаю, тебе необходимо позвонить в эту трансплантологическую мясную лавку.
- Ты с ума сошел? Зачем?
- Чтобы прекратить их поиски. Скажи, что эта их работа тебе уже надоела, что ты сохранишь полнейшую тайну, но вот если с тобой что-нибудь случится, тогда в газеты и на телевидение попадет очень много скандальных фактов про них.
- Отличная идея. Вот только лучше будет послать им письмо. Телефон они могут и вычислить.
- В таком случае, как там с нашей прогулкой?
- Поедем, поедем.
На всякий случай, мы взяли машину Анджело. За час доехали до центра, ежеминутно застревая в остановившихся потоках автомобилей. Моника называла такое состояние движения пробками. Я отметил, что в экипажах, предназначенных для нескольких лиц, сидел, чаще всего, один человек.
- Неужели всем этим людям необходимо одновременно отправляться в центр, ведь покупки они могут сделать и в своих кварталах, дела устраивать через Интернет, а культуру черпать из телевизора? – спрашивал я.
- Они не обязаны, но любят это, - ответила моя гидесса.
- А почему они не собираются в группы?
- Поезда в одиночку дает им чувство свободы.
- Тоже мне свобода – быть извозчиком самого себя.
Машину мы оставили на громадном, двухэтажном паркинге неподалеку от Корсо, на лифте спустившись на тротуар. Наконец-то мы очутились в хоне меньшего шума. Следует признать, что – по сравнению с моей эпохой – современный мир казался царством визга и скрежета. Шумели повозки, из каждой лавки доносилась музыка, молодые люди выступали с наушниками на голове, подергиваясь в такт музыки, словно тишина была для них чем-то ненавистным, или же словно они желали заглушить всяческую мысль о мысли. К счастью, на Корсо, если не считать извозчиков, никакого другого транспортного движения не было, так что здесь было поспокойнее. Неожиданно мне вспомнилась та же самая улица, но когда-то, охваченная безумием карнавала. Я подумал о своих коллегах, упокоившихся несколько веков назад, о всех тех смеющихся девушках, обнаженные черепа которых давно уже заполняли катакомбы кладбищ.
- И куда ты желаешь пойти? – спросила меня спутница.
Не говоря ни слова, я свернул на Крутую улицу. Мне было интересно, что со старым домом. Он стоял. Похоже, недавно отреставрированный, он выглядел гораздо лучше, чем в мое время. Над окнами краснели цветастые маркизы, а над входом со стеклянными, а не деревянными дверями горделиво висела надпись: "Banco Anzelmiano" – год основания 1649" – Год смерти Ипполито! Случайность? Любопытно. К сожалению, старинное здание оказалось муляжом. Все старинные интерьеры были удалены, вестибюль соединили с внутренним двориком, устраивая здесь же огромный операционный зал и лестницу на этажи повыше. На лестничной клетке красовался портрет в золоченой раме. Добрый Боже, неужели это был Ансельмо? Ну да! Мой слуга – облагороженный, в буйном французском парике, с кучей свернутых пергаментов под мышкой, он выглядел словно аристократ! Ха, неужто все это состояние было рождено удачно вложенными сребрениками Иуды? Над портретом блестел золотом любимый девиз моего ученика: "Миллионером никто не рождается".
Мы вошли на галерею, окружавшую зал. Там висели портреты мужчин в одеяниях различных эпох и с подписями на табличках: "Наши великие клиенты: Рене Декарт, Блез Паскаль, Исаак Ньютон, Жан-Жак Руссо, Вольтер, Огюст Конт, Стюарт Милль, Адам Смит, Алессандро Вольта, Луиджи Гальвани, Томас Джефферсон, Бенджамен Франклин, Чарльз Дарвин". Эти имена не были мне чужды. Ночью я изучил книгу "История важнейших открытий и изобретений". И тут меня осенило. Ансельмо! Ансельмо, в тайне перед наемными убийцами эрцгерцога спас мои заметки, мои рукописи, мои замыслы, после чего он сам и его наследники успешно торговали ими в течение пары столетий. Мои размышления относительно соотношения тел были тем самым яблоком, которое упало на голову Ньютону. Мой доклад о связях между энергией, заключенной в янтаре и посмертными судорогами мышц животных оплодотворил воображение Вольты и Гальвани, ну а идею громоотвода развернул уже Франклин. Не говоря уже о моем трактате о субъективности человека по отношению к истории, начинающемся так же, как Декларация Независимости Джефферсона: "Мы, народ…"[14]. Браво, Ансельмо! Твой банк осуществил величайший интеллектуальный грабеж в истории!
- Нам здесь что-то надо? – спросила Моника, не зная о тайфуне, бушующем у меня в душе.
- Сегодня еще нет.
И тогда у меня в мозгу открылась цель. Дело, придающее смысл моему возвращению. Необходимость вернуть достижения мастера "Il Cane" человечеству. Помочь ему подняться на надлежащее ему место между Леонардо и Шекспиром, а то и выше. Я был уверен, что хранилище Банко Ансельмиано содержит мои рукописи, и, кто знает, что еще. Ансельмо знал, где находится тайник в Базеле; ему было известно, что я закопал в Фонтенбло. Если роль Гурбиани могла облегчить мне восстановление самого себя – то я был готов стать даже Гурбиани.
Последующие пару часов мы шатались по городу. Опираясь на зонтик, я посещал старые уголки, хотя не мог избавиться от впечатления, что перемещаюсь среди сценических декораций. По сути своей, это был совершенно другой мир. Более всего меня изумлял царящий в нем культ молодости. Нигде я не видел серьезных и достойных мужей, гордящихся своим статусом; все пытались строить из себя юношей. Старики затемняли краской свои волосы, на лицах женщин мой глаз медика-любителя находил следы многочисленных операций. Когда же Моника рассказала мне про скорректированные носы и силиконовые груди, мое изумление перешло все границы. В бульварах и парках можно было видеть запыхавшихся, высохших стариков в тренировочных костюмах, пытающихся догнать давнюю молодость; здоровенное, достойное брюхо, казалось, было чем-то непристойным. Других проявлений стыда я как-то не заметил. Женщины, одетые в мужские панталоны и коротенькие одежды, прилагающие к телу, вели себя намного свободнее, чем наши куртизанки. На улицах обменивались поцелуями и интимными жестами; в парке, на газонах, несмотря на то, что праздник любви закончился несколько дней назад, народ бесстыдно занимался любовью, без крохи стыда или боязни божьей. А нахальство гомосексуалистов? Греческая любовь цвела и в мои времена, только никто бы не осмелился демонстрировать подобную склонность на улице, среди бела дня. А кроме того, из всех этих молодых, хорошо одетых и довольных людей обоего пола, крикливых и развязных, исходила столь небывалая самоуверенность, такое отсутствие уважения к старшим…
Неподалеку от Санта Мария дель Фрари, у монастыря, превращенного в музей современного искусства, случился инцидент. Из церкви вышла седоволосая, ухоженная старушка. Очень осторожно она спускалась по ступеням. И тут, неизвестно откуда, появились два парня на роликовых досках. Один подрезал пожилую женщину, так, что та упала, второй же вырвал у нее сумочку; оба шугнули мимо нас. Но не до конца успели, реакция у меня хорошая – я молниеносно выставил зонтик и ручкой захватил щиколотку разбойника. Тот вылетел в воздух, словно из пращи, полетел над тротуаром и грохнул головой в лавку с воздушной кукурузой. Сумочка упала рядом с ним. Я полнял ее и вручил заплаканной старушке.
- Осторожно! – крикнула Моника.
Предупреждение прозвучало весьма вовремя. Дружок вора завернул, соскочил с доски, в его руке блеснул нож.
- Ну, и какого черта ты вмешивался, старый перец!?!?...
Я схватил зонтик за ручку, вспоминая указания парижских учителей фехтования. Стойка, вольт, атака. En avant! Выбитый нож зазвенел, упав на тротуар. Я прижал острый наконечник ombrello к шее ошеломленного малолетки.
- На колени! – громко приказал я. – На колени. И запомни, ragazzo, с сегодняшнего дня ты станешь уважать старших. Повтори!
Тот пробормотал, что от него требовалось. Случайные прохожие начали мне аплодировать.
- Пошли уже, - старчески закудахтал я Монике, которая, раскрыв рот, присматривалась к случившемуся. Она взяла меня под руку и потянула в сторону стоянки.
- Ты не можешь быть Альдо Гурбиани. Тот сукин сын никогда ни на что подобное не отважился бы, - шепнула девушка, когда мы уже остались одни.
Из скромности я ничего отрицать не стал.
Другое дело, что у меня и самого в голове был ералаш. Одно не подлегало никаким сомнениям: мне был дан шанс, одному-единственному из всех людей. Вторая жизнь. И все сильнее становилось чувство, что такой подарок растратить зря нельзя. Потому я обрадовался, когда Анджело привел своего знакомого со столь же ангельским именем Габриэль по фамилии Закс. Старше юриста на два десятка лет, он был сухощавым, седеющим типчиком с лицензией частного детектива. Именно он должен был заняться нашей безопасностью. Я представился ему как Гурбиани, у которого, в результате похищения и после последующих событий появились провалы в памяти. Я попросил предоставить парочку услуг. Не знаю, купил ли он версию с амнезией, во всяком случае, по нашей просьбе, в первую очередь отправился на разведку в Центр по Трансплантации.
- Паника, мои синьоры, паника, - сообщил он нам после возвращения. – За сутки после вашего бегства Центр был ликвидирован. Персонал и "пациентов" эвакуировали на трех вертолетах, ну а в здании кто-то устроил пожар. Так что все сгорело полностью.
Вывод надвигался очевидный. Рандольфи и его люди прекрасно знали, кого они должны были четвертовать, и кто от них сбежал. Не какой-то анонимный бродяга, показания которого были бы для кого-то важны… Но за этим вставали серьезные осложнения. В первую очередь, все это свидетельствовало о заговоре. Кому-то крайне важно было ликвидировать Гурбиани – Габриэль даже предполагал, что на самом деле похищение могли совершить одни люди, а другие, которым было весьма удобно исчезновение магната, были готовы сделать много чего, лишь бы не допустить воскрешения шефа SGC. По моей просьбе детектив взялся за наблюдение ключевых глав Консорциума. Ничто не говорило о том, будто бы кто-то получил частное сообщение относительно возможности быстрого возвращения шефа. Хотя… Через два дня после нашего бегства средства массовой информации объявили, что награда за информацию, способную способствовать обнаружению Альдо Гурбиани, выросла до десяти миллионов евро. Но, возможно, то было совершенно случайным совпадением. А вот интерес к родственникам и знакомым моей медсестры случайным никак не казался. Как проверил Габриээль, дом ее тетки был на подслушке; перед ее квартирой в Кампино все время стоял припаркованный фургон. Странные печального вида типы расспрашивали о ней ее коллег и знакомых. При чем, эти люди сотрудниками полиции никак не были.
- Ты уверена, что они не найдут дом Паоло?
- Я познакомилась с ним случайно, на лыжах в Доломитовых Альпах, про наш короткий роман никто не знал…
- Дай Бог, чтобы ты не ошиблась.
14. В империи мерзости
Никем не ожидаемое публичное появление главы SGC, причем, на собственном бракосочетании, вызвало, по определению Моники, "эффект петарды, брошенной в курятник". Понятное дело, что данное entre было нами тщательно приготовлено. Местом моего воскрешения мы выбрали ничем не примечательное здание магистрата в Монтана Росса. За полчаса до церемонии информация о том, что Моника Мазур и Альдо Гурбиани намереваются вступить в брак, проникла в Интернет, вызывая истинное безумие в средствах массовой информации. В качестве свидетелей мы выбрали Анджело Проди, нашего доверенного юриста, и школьную приятельницу Моники – Софию Ринальди, которая, заманенная Габриэлем, только лишь на месте узнала, в чем же будет участвовать.
Приготовления заняли у нас целую неделю. Прежде всего, я должен был научиться быть Гурбиани. Я осмотрел тысячи фотографий и съемок с его участием (при случае, я изучил основы пользования видеомагнитофоном), тренировал жесты, позы, способ артикуляции, старался и в шутках быть таким же, как он, циничным и язвительным. Я научился узнавать около полутысячи наиболее важных личностей из окружения медийного магната; на основе его автографов я выработал его подпись; слава Богу, в этом новом воплощении рука у меня оставалась твердой и умелой, как когда-то. Одного лишь мне не удалось: полюбить Альдо. С каждым мгновением он мне казался все более отвратительным типом, слепленным из единого куска позорной мерзости. Но почему я согласился быть им? В конце концов, несмотря на похвальбу синьоры Мазур и ее "черный пояс", я наверняка бы с нею справился.
Ну а какой у меня имелся выбор? Я, пришелец из прошлого, брошенный в самый центр преисподней XXI столетия? Быть может, мне вновь следовало стать бездомным, на органы которого в любой момент могли полакомиться безжалостные трансплантологи? Роль Гурбиани, несмотря ни на что, казалась для меня улыбкой удачи, шансом на возврат надлежащей роли для святой памяти Альфредо Деросси. А кроме того, я считал, возможно – и наивно, что как только пожелаю, мне можно будет из этой игры выйти.
Габриэль собрал для меня немного информации относительно Banco Anzelmiano. Это было почтенное учреждение, в течение многих поколений являющееся собственностью богатого семейства Заккария, которое с банком совершенно не намеревалось расстаться. Небольшим количеством акций владели и другие люди, но даже скупка их всех не дало бы контрольного пакета. Так что простейший метод, которым могло стать использование деньжищ Гурбиани для выкупа тайн Ансельмо, реальным никак не выглядел.
Тем временем, если медийный набоб становился для меня все более гадким, то Моника, при ближайшем знакомстве, делалась все более привлекательной. Эта хитроумная девица оказалась не только миловидной, но и весьма симпатичной. Как и моя эрцгерцогиня, родом она была из Польши – ее дет, тяжело раненный в тяжелых боях польского корпуса за Анкону, Болонью и Розеттину, познакомился с ее бабушкой, когда в качестве выздоравливающего проживал на одном из виноградников. Происхождение и славянская красота оставались единственным связующим звеном Моники Мазур с ее северной отчизной. Она не была сентиментальным человеком. С разоружающей откровенностью девушка рассказала мне, как пополняла свою студенческую "кассу", работая в качестве сиделки за пожилыми, то есть, дамы, которую имеющие средства пенсионеры нанимали для известных целей.
- И ты смогла решиться на нечто подобное?! – потрясенно воскликнул я.
- Бизнес есть бизнес, - отвечала Моника. – Впрочем, я всегда выбирала таких, которые, собственно, ничего уже и не могли, разве что поболтать, потрогать, полизать…
Без ложной скромности – это наилучшее определение характера синьорины Мазур. Хотя мне кажется, что это было характерным для времен, в которых ей пришлось жить. Женщины вели себя словно потаскухи, за исключением феминисток, которые пытались вести себя словно мужчины. Моника вела себя чрезвычайно свободно. В жаркие дни конца июня – начала июля она крутилась по дому в прозрачных трусиках и в микроскопическом лифчике, приводя к тому, что мое тело довольно-таки настойчиво напоминало мне, что я являюсь мужчиной, у которого почти четыре сотни лет не было женщины. И девушка быстро сориентировалась, какие мысли приходят мне в голову.
- Хотел бы меня? - спросила она как-то вечером, глядя мне прямо в глаза с вызывающей усмешкой. А радужки у нее были, как у моей герцогини: синие. – Номер не пройдет!
- Но почему? – пробормотал я, багровый как рак. – Я возбуждаю в тебе отвращение?
- Вовсе даже наоборот. Я могла бы в тебя влюбиться. Только не люблю смешивать любовь с бизнесом.
Я не стал это комментировать. С какого-то времени у меня складывалось впечатление, что девушка пытается играть более жесткую и циничную личность, чем была на самом деле. Но, похоже, именно такой стиль в этом столетии был просто обязательным.
Местные журналисты появились еще перед началом торжества. В ходе его проведения начали прибывать следующие. Еще перед тем, как мы сказали: "Да", с грохотом винтов приземлилась крылатая птица (похожий на машины, концепцию которых я когда-то выдумал, поглощая рисунки Леонарда) – вертолет с эмблемой SGC. Когда его пассажиры появились в дверях зала мэрии, я без труда всех их идентифицировал. Худощавый, нервный коротышка – это, должно быть, генеральный директор, Эусебио Розенкранц. Длинноногая красотка – это, вне всяких сомнений, моя секретарша и одновременно глава отдела по маркетингу, американка Лили Уотсон. Красивая сучка, которая, в соответствии со всеобщим мнением, жаркое тело модели (дебютировала она на развороте "Минеттио") соединяла с холодным мозгом типа жесткого компьютерного диска. Ну а мускулистый тип с взглядом ротвейлера соответствовал начальнику охраны, Луке Торрези.
В ходе церемонии вся троица всматривалась в меня с величайшим напряжением. Они как будто не верили собственным глазам. А ведь выглядел я именно так, как должен при подобной оказии выглядеть Гурбиани: белый костюм в полоску, пурпурная роза… Сотрудникам я послал улыбку. Те ответили кривыми гримасами. Ежесекундно срабатывали вспышки, что я старался принимать с естественной самоуверенностью. После завершения церемонии, когда все бросились ко мне, я остановил их, подняв руки.
- Уважаемые, - сказал я. – Это тихая и приватная церемония. На все интересующие вас вопросы я отвечу завтра, в конференц-зале на Пьяцца Гарибальди.
После чего мы удалились по эвакуационному маршруту, то есть через небольшие служебные двери, предназначенные для сотрудников магистрата.
Понятное дело, но встречи с моими ближайшими коллегами по корпорации избежать я не мог. Их я подождал в кабинете, предоставленном мне мэром. Лили покрывала меня поцелуями, ежесекундно вытирая глаза, как будто любой ценой пыталась выжать из них слезы. У Розенкранца была глупая мина кого-то, кто уже привык к мысли о скорейшем присвоении всего бизнеса, а теперь видит, как варенье исчезает из-под носа. Он обнимал меня, подскакивая, словно малыш ротвейлер, приветствующий своего хозяина. Чудо, что он хвостом не вилял. А вот Лука Торрезе всего лишь пожал мне руку и рявкнул:
- Черт, шеф, и куда это синьор подевался?
- Были у меня определенные неприятности.
- Это я предназначен для решения проблем синьора. По крайней мере, синьор мог дать знак, что жив.
- Поговорим об этом позднее, Лука. Сегодня я вступил в брак. И хочу побыстрее оказаться дома.
- А собственно, Аль, откуда ты выкопал эту попку? – шутливо начал Эусебио.
Закончить он не успел. Я схватил его за отвороты пиджака, приподнял вверх – ничего сложного, весил он всего сорок семь с половиной килограммов – и швырнул о стену.
- Это никакая не попка, а моя жена, direttore, и я требую, чтобы ты проявлял к ней надлежащее уважение!
- Ну да, конечно, извиняюсь, - мямлил тот.
Когда я его ударил, он, похоже, прикусил себе язык, так что из губ сочилась кровь, придавая его худощавому лицу вид физиономии карликового вампира.
- Шеф, если вы хотите отсюда валить, - предложил Торрезе, - вертолет прогревает двигатели.
- Все нормально.
Я направился к черному ходу. В коридоре мне встретился седеющего мужчину в костюме, к которому все относились весьма уважительно.
- Прошу прощения, Альдо, что морочу тебе голову в такую минуту, - произнес этот тип, заступая мне дорогу, - но мне кажется, что нам необходимо переговорить.
Я понятия не имел, что ему ответить, не знал, что это за человек. Но, раз он обращался ко мне по имени…
- Да, слушаю.
- Не знаю, известно ли тебе, но премьер назначил меня лично контролировать ход следствия по вопросу твоего похищения.
- Я нашелся сам, без чьей-либо помощи. Так что никакого дела нет.
- Дело имеется. Средства массовой информации этого не сообщили, но пару дней назад твои похитители раскололись…
- Похитители?
- Ну, те самые говнюки их группы "Прогнать Антихриста". Играли в молчанку, но у нас имеются свои методы. Так что они рассказали, как с помощью наколотой малолетки затащили тебя в машину. Как дистанционно рванули резервуар с газом в этом автомобиле, лишая тебя сознания, как, в конце концов, убежденные в том, что смертный приговор над тобой исполнен, бросили твое тело в Колодец Проклятых… Они и не предполагали, что ты можешь выйти с жизнью. Даже мне сложно было поверить, что ты выжил. Исследуя колодец, мы обнаружили следы твоей крови на обмуровке. Но эксперты были уверены, что ты оставил их, падая вниз.
- Откуда вам известно, что то была моя кровь?
- Анализ ДНК. В банке крови больницы у тебя имеется собственный образец на случай переливания.
- Ну, естественно… А тела не искали?
- На дне не обнаружили ничего. Но там протекает подземная река, так что у нас было право предполагать, что тебя потащило течение… В связи с этим, сам понимаешь, мне придется задать тебе несколько вопросов. Ну и устроить очную ставку с теми щенками.
- Это необходимо делать обязательно сегодня?
- Конечно же, не обязательно. Но вот завтра, например, после полудня…
- По срокам договорись с моей секретаршей. С Лили.
Дружески улыбаясь, он протянул мне руку.
- Я рад, что ты вернулся… Да, при случае, не мог бы ты дать мне автограф для моего сына. Он просто обожает твой канал "Приключение".
- Вот я тебя и подловил, сукин сын, - подписал я ему визитку с печатным текстом: "Министерство юстиции, заместитель государственного секретаря Сандро Вольпоне. Тебе нужен мой автограф и отпечатки папиллярных линий, чтобы подтвердить, что я – это я. Делаем!
Во время перелета на вертолете Моника прекрасно играла роль влюбленной женщины. Уткнувшись в меня, ласково всматриваясь мне в глаза, она все время целовала меня, то в ухо, то в щеку, эффективно изолируя меня от летящих с нами "диадохов" Гурбиани. Тех это никак не радовало. А Лили была по-настоящему в бешенстве.
Я видел, как Эусебио пару раз пытался завести беседу, но после моего срыва, похоже, не желал рисковать новым конфликтом, так что закрывал рот, не успев его хорошенько открыть. Только лишь после того, как мы приземлились на крыше небоскреба Консорциума, он промямлил:
- Состояние, в котором находится сейчас фирма – просто превосходное, а твое исчезновение, как это ни странно, лишь увеличило интерес к нашим предложениям. Мы открыли новый канал в Индии, а продажа по Восточной Европе только за последний месяц выросла на двадцать процентов.
- На завтрашнее утро мне нужен краткий рапорт обо всех сферах нашей активности, - продекламировал я заранее выработанную формулу. Директор побледнел.
- Но, Альдо, до завтра я никаким образом не успею…
- А ты постарайся. – Теперь я повернулся к Лили. – Завтра приеду к девяти, просмотрю материалы, подготовленные Эусебио, в одиннадцать хочу встретиться со всеми шефами, а в двенадцать – пресс-конференция. После ланча устроишь мне встречу с министром Вольпони. Все остальное определим уже завтра. А ты… - поглядел я на Луку.
- Я лечу с тобой, шеф, - решительно заявил тот. – Нам следует поговорить. И вместе определим, перед чем и кем я должен тебя защищать.
- Ни перед кем, обычных средств безопасности будет достаточно.
- Не думаю, - склонился охранник над моим ухом. – В ходе брачной церемонии я потребовал провести техническое обследование вертолета… Вот это я нашел у основания ротора, - показал он мне небольшую коробочку со свисающими проводами. – Взрывателем можно управлять даже посредством сотового телефона.
- Знаешь, кто это мог сделать?
- Понятия не имею. Некто, знающий, что ты вернешься, хотя все были убеждены в твоей смерти. Так когда мы переговорим?
- Завтра. Сегодня я устал.
Мы сошлись на компромиссе: я согласился с тем, чтобы Лука сопровождал меня в полете до резиденции, он же отказался от того, чтобы задавать вопросы, пока я не отдохну. Во время полета я не отказал себе в удовольствии осмотреть на небольшом телевизоре фрагменты десятка телевизионных выпусков новостей. Во всех программах сообщения о моем воскрешении из мертвых опередили драматические сообщения с кашмирского фронта и о волнениях в Украине. Вечерние газеты вышли с чрезвычайными выпусками, переполненные фотографиями меня самого, Моники, вертолета и т.д. Огромные заголовки вопили: "Альдо и девушка ниоткуда", "Куда пропал Великий Гурби?", "Кто такая таинственная bella bionda (прелестная невеста – ит.)?", "Уволенная по сокращению стажерка из клиники в Вероне очутилась в объятиях Маркиза де Сада XXI столетия!". И наиболее красноречивый заголовок: "Порномагнат вернулся в свою империю мерзости!".
Гурбиани проживал в суперсовременной резиденции, возведенной на Рокк Диаволо, крутых, почерневших скалах в тридцати километрах к западу от Розеттины. Въезд в нее походил на въезд в Сезам из известной сказки Семирамиды[15]. Первый импульс пульта дистанционного управления открывал ворота, нейтрализуя колючую проволоку и другие неожиданности, ожидающие возможных нежданных гостей, второй заставлял громадные блоки базальта сдвинуться, открывая въезд в автомобильный лифт, который в течение полутора десятков секунд доставлял машину и ее пассажиров на стоянку под закрытой скалами террасой. Там же находилась и вертолетная площадка. Именно на ней села в тот самый, переходящий в историю вечер наша стальная птица.
С террасы можно было войти в просторный дом, расположенный на краю обрыва, либо же в экокупол, в котором магнат расположил круглогодично функционирующую копию тропической лагуны с пальмами, сказочно цветастыми попугаями и прирученными леопардами. Этих хищников я слегка опасался, поскольку не был уверен, привязаны ли они к телу Альдо, которое осталось, или же к душе, как известно, замененной другой, моей. Но огромные кошки, увидав меня, тут же начали ластиться и урчать, что я принял за добрый знак.
В центре дома размещался обширный салон, отважно выдвинутый над пропастью, с громадным панорамным окном, снабженным пуленепробиваемым стеклом, через которое можно было видеть всю долину реки и Розеттину, как старую часть с ее доминантами: собором, Кастелло Неро и башней Palazzo delia Guistizia, так и Citta Nuovo с кустами небоскребов. Далее можно было видеть корабли в лагуне, горная цепь на горизонте закрывала перспективу.
Я поздоровался со слугами, насчитывающими дюжину человек, в том числе – пять охранников. Полную дюжину дополняли: повар с помощником, садовник, техник-консерватор домашнего оборудования, пара официантов и две красавицы-горничные, из которых одна подала мне руку таким образом, из которого я сделал вывод, что с шефом ее соединяли довольно интимные отношения. Благодаря Господу и Монике, я осмотрел парочку репортажей о частной жизни Гурбиани, так что расположение внутренних помещений мне было, более-менее, известно. В спальне царила громадная гидрокровать с переменной геометрией, на потолке блестело увеличивающее зеркало, в рекреационных залах имелись джакузи, ванны для массажа, оборудование для физических упражнений… Было видно, что Альдо ни в чем себе не отказывает. На гигантском телеэкране напротив ложа можно было одновременно просматривать тридцать шесть программ или любые картинуи из внутренних помещений резиденции, равно как и из многочисленных бюро фирмы. Это помещение мне никак не понравилось, поэтому приказал послать для себя и супруги в двух прилегающих одна к другой спальнях для гостей. Помимо того, я потребовал, чтобы оттуда убрали все средства для мониторинга. Приказ выполнили без слова. После того я принял ванну и собрался идти спать.
Вошла Моника, кутаясь в прозрачный, ничего не скрывающий пеньюар.
- Ты же не предполагаешь, будто бы я откажусь от первой свадебной ночи? – шепнула она, видя мое изумление.
- Но ведь ты сама заявляла, что не смешиваешь бизнес и любовь.
- Но вот пренебрегать супружескими обязанностями мне нельзя…
Она была красива, близка, горяча и благоухала, словно волшебный цветок. Ну кто бы не пожелал его сорвать? Тем более, после столь долгого поста.
Прямо у моего ложа Моника задержалась. Сомнения?
- Обещай мне одно… - прошептала она.
- Да?
- Ты расскажешь мне, кто же ты на самом деле?
- Расскажу. Только чуточку позднее. – Я потянул Монику к себе. Нас объединил поцелуй, руки самостоятельно начали избавлять тела от одежды… И, к сожалению… Следовало ли это объяснять неожиданностью или же некоей отстраненностью, которую я всегда испытывал к новобрачной? Я ничего не мог… Несмотря на все внутреннее возбуждение. Неужели король порно скрывал перед общественным мнением стыдливый дефект?
- Спокойно, наверняка все это по причине эмоций, - шепнул я сам себе. – Девушка просто восхитительна, спешить не обязательно. Дело ведь здесь не в любви. Дай чувствам успокоиться.
Признаюсь честно, в давние времена у меня было много любовниц, услугами проституток я пользовался крайне редко. Более частые контакты с ними мне не позволяла любовь к самому себе, а так же страх перед гадкими болезнями. Но вот никогда у меня не было проблем с…
- Альдо, что с тобой? – в голосе Моники прозвучало изумление, смешанное с беспокойством.
- Честное слово… не хнаю… никогда до сих пор…
- Я тебе не нравлюсь?
- Нравишься. Возможно, даже слишком сильно…
- Так что же?
- Похоже, я не готов. Все это так неожиданно…
- Понимаю. – Моника поднялась и накинула пеньюар. – Истинный Гурбиани, согласно распространенным о нем слухам, был сторонником неограниченной, веселой забавы в постели. А ты, вижу, остывшего секса не любишь.
- Это ты сказала.
- Думаешь, когда-нибудь это может измениться?
- Мне бы хотелось…
Еще мгновение, и Моники уже не было. Я провалился в сон. Мне снилась Мария, и это должен был быть весьма реалистичный сон, так как за пятна на простыне утром мне сделалось стыдно. Но я не жалел, что с моей официальной супругой ничего не вышло. Помня о ее расчетливости, все-таки я испытывал к Монике слишком сильную сдержанность, чтобы терять ради нее голову… Да и у моего тела, похоже, имелся свой собственный ум.
Без нескольких минут девять я добрался на вертолете до собственной конторы. Там меня ожидали как Лили Уотсон, так и составленные Розенкранцем сопоставления. Самого Эусебио я застал в комнате отдыха рядом с кабинетом, где он спал в кресле.
- Кофе со сливками, как обычно? – сахарным голоском спросила синьорина Уотсон.
Отработав домашние задания, я искусно обошел расставленную ловушку.
- Ты же знаешь, радость моя, что я пью исключительно черный. И без сахара!
- Мне показалось, что ты мог и сменить пристрастия. Ты так поменялся, что трудно и узнать.
Самая лучшая защита – нападение, так что я изобразил возмущение и нетерпение.
- Две недели я провел между жизнью и смертью, меня похитили, разбили голову, у меня провалы в памяти… Трудно заставить, чтобы сейчас же я начал функционировать, словно после отпуска, проведенного на Сейшелах.
- Ну конечно же, поросенок.
Она подошла ко мне и жарко поцеловала, засовывая языку глубоко-глубоко, до самой двенадцатиперстной кишки. Мне едва-едва хватило воздуха.
- Откуда ты выкопал эту телку, и как она заставила тебя расписаться.
Лили присела передо мной и уже умело расстегивала ширинку. Тут я локтем сбил хрустальный вазон, с грохотом разбившийся на полу. Секретарша отскочила, храпение Эусебио прекратилось.
- Давай поговорим об этом как-нибудь в другой раз, Лили, - сказал я, поправляя гардероб.
- Ну ты, Альдо, и пунктуален, - заявил, открывая двери и заходя, Розенкранц.. – У меня здесь все, о чем ты просил, и я с охотой поясню тебе лично…
- Если у меня возникнут какие-либо сомнения, я попрошу помощи. А теперь, благодарю.
Парочка покинула кабинет, обмениваясь многозначительными взглядами. Неужто они подозревали, будто бы кто-то подменил им шефа? Сам же я засел над бумагами.
Сообщником Гурбиани должен был быть сам дьявол. И это, вне всякого сомнения, было общество с ограниченной ответственностью. Фирма цвела и пахла. Все ее отделения приносили доходы, баланс прибылей превосходил доходы не одного средней величины государства. Но из-за всех этих оптимистических колонок, в которых рядом друг с другом соседствовали числа, отображающие размеры поступлений от рекламы, от издательской и концертной деятельности, от производства гаджетов, от салонов игровых автоматов и домов свиданий, нахально вылезала другая картина. Образ одурачивания и деморализации. Черт подери, сколько же за каждым из этих чисел должно было скрываться разбитых семей, обманутых талантов, банального извращения и необыденного свинства. Никогда я не был ханжой, но бессовестность и сверхнаглость SGC вызывали во мне отвращение.
Только ведь все это было не моим делом. Мне только необходимо было найти свои рукописи.
Всю безбрежность одиночества мне пришлось почувствовать, в особенности, тогда, когда пришлось встать перед правлением Консорциума. В Большой Круглый Зал прибыло около пятидесяти председателей акционерных обществ и директоров. Удивительнейшая компания. В основном, это были молодые люди спортивного типа, загорелые и довольные собой. Меня приветствовали аплодисментами. Когда же я прикрыл глаза, у меня сложилось впечатление, словно очутился в вольере среди диких хищников. Глава телестанции "Эротикон", Лео Бьянки, со своими выступающими красными щеками походил на линялого павиана; финансовый директор SGC глядел на меня исподлобья будто урожденный шакал; директор казино выглядел словно громадный критский бык, которому не хватает лишь кольца в носу. Рядом вертелась главная редакторша "Минеттио", Летиция Ромеро, худая змея с оскалом крокодила. А дальше клубились остальные гиены, пресмыкающиеся, стервятники… Тогда я раскрыл глаза пошире. Вернулись людские формы. Ну да, они были здесь все хором: эффективные, безыдейные, с небывалыми инстинктами самосохранения и талантами делать деньги. Сомневаюсь, чтобы кто-либо из них был приятелем Гурбиани, но все были связаны с Альдо ой как тесно. А интересно, остался бы кто-либо из них с ним в беде? Единственной фигурой, не похожей на остальных, был стоящий несколько в стороне, возле опорной колонны, пожилой мужчина, похожий на печального гнома с растрепанными седыми волосами – профессор Уго Кардуччи, председатель научно-исследовательских групп.
- Дамы и господа, - сказал я. – Спасибо, что заскочили (дружелюбные перешептывания). О своем приключении много вам не расскажу, потому что сегодняшних газет еще не читал (смех, аплодисменты). Перед теми, кто рассчитывал, будто бы я не вернусь, прошу прощения. Тех, которые рассчитывают на то, будто бы ничего не изменится, разочарую. У меня имеется парочка идей, как ускорить нашу деятельность, и я рассчитываю на то, что вы мне в этом поможете (крики "браво"). Еще одно. Тут у меня небольшие неприятности с персональным компьютером (тут я значительным жестом постучал себя по лбу), так что если я должен кому-либо какие-то деньги, предупреждаю, я ничего не помню…
Принесли шампанское. Я начал кружить по залу, здороваясь с каждым, скорее, слушая, чем разговаривая. Честно признаюсь, что большинство аллюзий и намеков я не понимал. Ну а приписать большую часит имен к лицам было возможно только лишь благодаря бейджикам. Таким вот образом я совершил полный круг и вернулся к Эусебио.
- А где же Сальваторе Липпи? – спросил я достаточно громко, чтобы меня услышало побольше присутствующих, а не только Розенкранц. Direttore смешался.
- Он не принял предложения встать во главе Восточного Региона, - опередила Эусебио синьорина Уилсон. Поэтому, три дня назад я приняла его отставку. Выходное пособие он получил царское.
- Жаль! Он показал себя превосходным главой канала "Природа и культура", - заметил я. - Некжто во время моего отсутствия случилось нечто такое, что сделало невозможным ему занять предложенный пост?
- Углубляющиеся расхождения по программной политике, - буркнул Розенкранц.
- Я хотел бы переговорить с ним после полудня, - сообщил я Лили.
- Не знаю, найди ли я его, - довольно-таки нагло ответила та.
- В таком случае, поищи себе новую работу, - сказал я. И сразу же сделалось тихо.
Неужели пересолил? Ну что же. Я не из тех безумцев, которые прыгают с вышки в бассейн, не проверив предварительно, а налили ли в него воду. Я тщательно изучил биографию Гурбиани. И разыграл сцену в точности так, как тот поступил пять лет назад, разогнав все руководство Западного Региона. Другое дело, что синьорина Уилсон уже много лет была в фирме священной коровой…
Пресс-конференция доставила меньше хлопот. Постоянно шутя, я все прикрывал провалами в памяти. Вспоминал, что во время празднества сел в машину какой-то охотницы за автографами, практически сразу услышал не слишком сильный разрыв, после чего потерял сознание. В себя я пришел только лишь в глубинах Колодца Проклятых. Весьма живописно я обрисовал то, как выбирался из колодезного ствола, расписывал о переходной амнезии, о том, как бродил по канализации и мусорным свалкам, и о руке помощи, которую протянула мне медсестра Моника Мазур. На всякий случай, я утаил эпизоды с моим арестом и пребыванием в клинике. Еще я рассказывал о том, как память ко мне постепенно возвращалась. И о том, как из сочувствия и нежности, которой меня окружила Моника, родилась любовь. Все были тронуты или сделали вид, будто бы это их тронуло. Еще я упомянул о продолжающемся следствии по делу моего похищения, обещая, что средства массовой информации обязательно будут ознакомлены с его результатами. Не желая, чтобы лирическое настроение полностью начало преобладать в зале, я рассказал парочку сальных анекдотов из приготовленного в печать новейшего номера "Минеттио". А в ответ на вопрос, собираюсь ли я отдохнуть или сразу же вернуться к работе, таинственным голосом ввернул, что готовлю парочку неплохих проектиков.
- Иногда, когда близко столкнешься со смертью, это поднимает интеллектуальную потенцию…
- Слушая синьора, - сказала худая журналистка из "Иль Корьере делиа Сера", - можно прийти к выводу, будто бы вы начинаете верить в Бога.
- Успех был бы полным, если бы Он поверил в меня и выкупил пакет спутниковых программ SGC.
Всеобщий взрыв хохота дал прекрасный шанс эффектного завершения пресс-конференции.
В кабинете меня ожидал Лука Торрезе. Он сидел прямо на моем столе и бесцеремонно копался в каких-то бумагах.
- Шеф, так что с тобой такое? – взорвался он. – Пустил побоку все мои предостережения во время Festa d'Amore, и поглядите что случилось. Вот уже пару месяцев я сигнализировал, что мы не полностью контролируем все структуры SGC, только ты не доверял.
- А ты знаешь, кто организовал мое похищение? – спросил я, глядя ему прямо в глаза.
- Подозрения имеются, но мне не хватает доказательств.
- Тогда найди эти доказательства, иначе я дам заказ кому-нибудь другому.
Было заметно, как нервно дернулась его челюсть.
- Тут другое дело. Синьор Амальфиани звонил час назад. Он беспокоится за свои деньги. Требует указать сроки и теряет терпение.
Я понятия не имел, как отреагировать. Что-то мне подсказывало, что попытка схватить Торрезе за задницу и выкинуть за двери, не была бы самой лучшей идеей. Гораздо хуже, что я совершенно не знал, кто такой этот Амальфиани. Оставалось тянуть время.
- Слышишь, старик, а может заскочишь вечером, тогда и поговорим, а сейчас у меня встреча с этим фертом из министерства.
Охранник неохотно слез со стола.
- Я собрал досье на Монику, то есть, на твою жену, - сообщил он. – Та еще пройдоха. Если у нее есть чем тебя шантажировать, мы это можем быстренько прекратить.
- Ничего прекращать не будем. И прошу тебя: не суй свой нос в мои семейные дела.
- Заскочу в восемь вечера.
Когда он вышел, я взял в руки "Who is Who", перелистал справочник пару раз но никакого Амальфиани не нашел. Никого с такой фамилией я не обнаружил и в телефонной книге. Что за черт? Проблему прояснил короткий разговор с Габриэлем Заксом.
- Синьор и вправду не знает, кто такой Амальфиани? – спросил тот, снизив голос.
- Понятия не имею.
- Его истинного имени не знает никто, но многие утверждают, что под этим псевдонимом скрывается глава объединенных Ндрангеты, Каморры и Коза Ностры[16].Многие подозревают, будто бы у нас с ним имеется некий договор. Нехорошо, что как раз этого ты и не помнишь.
Я вздохнул. Теперь мне было известно наиважнейшего из дьяволов, с которыми Альдо должен был заключить договоренность.
Вице-министр Вольпони забрал меня в камеры предварительного заключения муниципального следственного ареста, размещающиеся в современном комплексе низких бетонных параллелепипедов, расположенных за городской чертой. Вначале, благодаря подглядывающим камерам, я мог присмотреться к троице активистов ПА, моих похитителей. Меня застала врасплох их молодость. Австрийцу, хорвату и итальянцу, всем вместе не было и пятидесяти с лишним лет. Хилые, с юношескими прыщами и перхотью, они были похожи на старшеклассников средней школы, набедокуривших во время пикника. Показывая их, Вольпони упомянул, что сообщница этой симпатичной троицы, некая Андреа, после попытки самоубийства путем вскрытия вен находится сейчас в тюремной клинике. А вот ее сестра, тринадцатилетняя Николь, сыгравшая роль эротической наживки, пребывает дома под полицейским надзором.
- И эта детвора по-настоящему хотела меня убить? – недоверчиво спросил я.
- Не обманывайся внешностью этих ангелочков, Альдо, - на тонких губах министра появилась ироническая усмешка. – Эта детвора является членами крайне опасного фундаменталистского движения. Точно так же, как и их гуру, прозываемый брат Раймонд, они считают, что пришло время начать действенное сражение со злом. Так что они нападают на тех, кого считают безбожниками и растлителями, поджигают магазины с порнографией, публикуют списки крупных чиновников, пользующихся услугами проституток, пикетируют абортарии и институты генной инженерии, наконец, наголо бреют звездочек пип-шоу. К счастью, официальные церковные власти их эксцессы не поддерживают.
- А этого Раймонда вы схватили?
- Он скрывается где-то в Швейцарии. Тип довольно-таки таинственный. Бывший участник собрания в Тезе[17], впоследствии ярый лефеврист[18]. А сейчас… Некоторые говорят, что его финансируют арабы. Во всяком случае, сбитая с толку молодежь считает его воплощением Мессии. Рассказывают о его стигматах и пророчествах, люди верят в осуществление им чудесных оздоровлений…
- Раймонд Пристль… - непроизвольно произнес я.
- Понятное дело, что вы должны были о нем слышать, - оживился Вольпони. – Ваше телевидение даже анонсировало специальную программу, разоблачающую этого шарлатана.
- Анонсировало…
- Ну, где-то месяца два назад. Хит столетия. Вот только я удивился, почему в самый последний момент программу сняли с эфира.
- Почему… - на мгновение я почувствовал удар жары. Со мной происходило что-то нехорошее. Откуда пришла эта невообразимая волна страха? Откуда мне было известно это имя?
- Что, Альдо, плохо себя чувствуешь? – спросил министр. – Может воды?
- Нет, нет, - я зачерпнул побольше воздуха и сменил тему. – А с этими ребятами можно буыло бы поговорить?
- С нашей стороны никаких проблем нет. Вот только сомневаюсь, что они на это согласятся. До сих пор нам удалось сломать только их сообщницу, Андреа. Да, дружков она сдала, но тут же попыталась покончить с собой.
- А если я заявлю под присягой, что это не они покушались на меня? Вы их выпустите?
Чиновник недоверчиво поглядел на меня:
- Это как?
- Скажем, у меня в отношении них… свои планы. Тот какое-то время задумчиво потирал ладонью лоб.
- Думаю, такое устроить можно. В аресте они не слишком нужны нашим следственным органам, а вот на свободе, они могли бы, возможно, привести нас к Раймонду. С момента твоего похищения он как будто сквозь землю провалился.
- В таком случае, если ты можешь, устрой мне встречу с ними.
- Сейчас? Это рискованно.
- Но, похоже, возможно. Но вначале пускай узнают, что их выпускают на свободу.
Вольпони усмехнулся. Не было никаких сомнений, что еще раньше они с Гурбиани оказывали друг другу различные услуги. Какие? Все мои знания относительно большинства контактов магната все еще были совершенно ничтожными.
С юными похитителями я встретился часом позднее на заднем дворе следственной тюрьмы. Я попросту пошел к ним, когда те покинули свои камеры и теперь щурили глаза, отвыкшие от солнца; ребята были совершенно сбиты с толку неожиданным освобождением.
- Привет, детвора, - ласковым тоном обратился я к ним. – Те ощетинились, словно мыши при виде змеи. – Хотел лишь сказать, что я к вам никаких претензий не имею. И даже считаю, что ваш поступок был вполне оправдан. – Те не отвечали, наверняка предчувствуя провокацию. – Мне очень бы хотелось с вами побеседовать, понятное дело, не сейчас. Через какое-то время. Это когда вы придете в себя. Пока же желаю: "Да поможет вам Господь"….
Ворота тюрьмы начали раздвигаться. Самый высокий из освобождаемых фундаменталистов, совершенно лишенный растительности на лице альбинос (из документов, которые я успел просмотреть, следовало, что зовут его Вук Иванович, родом из Загреба), немного отстал от остальных и в тот момент, когда проходил мимо меня, успел выдавить из себя:
- Зачем синьор это делает?
- Может мне так хочется, а может, я не тот, за кого вы меня принимаете, - шепнул я ему на ухо и удалился.
15. Планы и усложнения
Возвращаясь со встречи с вице-министром, я связался с Габриэлем Заксом и попросил его как можно больше разузнать о троице похитителей, о всей группировке ПА и Раймонде Пристле. Потом попросил своего шофера, короткошеего, нелюдимого сицилийца по имени Франко, чтобы тот свернул в старую часть Розеттины. Лили Уотсон уже нашла Липпи в марине на Лагуне и вызвала того в мою контору. Только я поменял ее план: в бюро у стен имелись уши. Я позвонил на сотовый телефон Сальваторе и предложил ему в качестве места встречи Площадь Плача. Мне хотелось переговорить с уволенным директором на нейтральной территории, а при случае еще раз бросить взгляд на Колодец и свой памятник. Тот без особенного желания согласился на мое предложение; вместе с семьей он готовился выйти в море, планируя рейс на острова Додеканеса[19]. Тем временем, с помощью моего вспомогательного ноутбука я ознакомился с досье на молодого менеджера. Мало что в современном мире изумило и восхитило меня более, чем этот маленький электронный мозг, помещающийся в небольшом чемоданчике – письменная машинка, библиотека, склад игр – который, благодаря соединению с Интернетом через спутник, предоставлял совершенно неограниченные возможности. Кроме того, он эффективно защищал мою приватность, его можно было запустить, только лишь коснувшись клавиши, снабженной устройством считывания папиллярных линий владельца.
Согласно данным из картотеки персонала, Сальваторе Липпи было тридцать два года, родом он был из Генки. Получил высшее образование в области философии и журналистики. В молодости он был известным экологическим деятелем. Его фильм о смерти коралловых рифов получил награду на фестивале в Розеттине, его результатом стало появление Мировой Программы по спасению. Сальваторе обрел приличный опыт в сфере маркетинга, какое-то время управляя итальянским отделом канала ЕСО. Подкупленный Гурбиани три года назад, он эффективно работал на Консорциум, будучи, при случае, его фиговым листком. В каналах, которыми руководил Липпи, невозможно было обнаружить ни следа порнографии, коммерции и глупости. Если говорить о личной жизни, то у него была жена и трое детей. На снимке он выглядел как худощавый брюнет с довольно-таки приятным взглядом. Таких ребят и в мои времена можно было без особых церемоний пригласить домой или, без малейших колебаний, приобрести от них не слишком подержанную карету или наложницу.
Водителя я хотел оставить на подземной стоянке, но Франко лишь отрицательно покачал головой.
- Синьор Торрезе приказал мне приглядывать за синьором, - красноречиво заявил он, отведя полу пиджака и показывая импозантных размеров пистолет, заткнутый за пояс. – Понятное дело, я постараюсь быть незаметным.
На лифте я поднялся на площадь и недолгое время приглядывался к собственной карикатуре на постаменте. Только сейчас я отметил издевательскую усмешку на каменных губах. "Il Cane", - казалось, говорил памятник. – Ну ты и влип, парень, не лучше ли иметь сердце из камня?". Было жарко, я испытывал легкое головокружение, присел на лавочку и на миг прикрыл глаза…
Образ появился совершенно неожиданно. Я шел по пробитому в камне коридору. Передо мной нарастало световое пятно. Внезапно дорогу мне загородил мужчина, которого я должен был откуда-то знать. Огненно-рыжий, одет он был в белое одеяние, когда он поднял руку, я увидал, что его запястье кровоточит.
- Раймонд Пристль! – воскликнул я. – Это вы?
- Альдо, ты заснул? Альдо!
Я очнулся, над моей лавкой склонился Свльваторе. Я поглядел на часовую башню. 16:00. Липпи появился пунктуально. Он пожал мне руку и, вытащив из кармана бумажный пакетик с зернышками для голубей, присел рядом со мно прямо напротив памятника Альфредо Деросси.
- Если ты полагаешь, что я поменяю свое мнение, то сразу должен заявить: тебе не на что рассчитывать, - решительно начал он.
- Поначалу хотелось бы узнать о сути расхождений между тобой и Эусебио.
Липпи поглядел на меня, не скрывая удивления.
- Так ведь мы разговаривали об этом уже пару раз, Альдо. Я был против внедрения программы "Психе".
- "Психе"? Извини, Сальваторе, но после случившегося у меня страшные провалы в памяти. Как-то не мог вспомнить…
- Ты не помнишь? – Изумление собеседника нарастало. – Ведь то был твой любимый конек, твоя мечта об абсолютной власти над людьми. Да, аморально, зато насколько чертовски увлекательно. Я тебе сказал, что никогда на это не соглашусь. Что все это переходит… В конце концов, даже у самого изобретателя программы, Уго Кардуччи, имелись большие сомнения, а должна ли SGC приступать к ее внедрению. И даже у тебя самого, когда мы разговаривали в последний раз, у меня складывалось такое впечатление, будто ты колеблешься.
- В последний раз? И когда это было?
Липпи поглядел на меня, словно на безумца.
- На моей яхте, за два дня до твоего похищения. Тогла ты меня весьма удивил.
- А кто еще был тогда с нами?
- Только Лука Торрезе. Впоследствии приехала Лили. По какой-то причине она была взбешена. К этой проблеме мы должны были вернуться после Festa d'Amore.
Какое-то время я молчал, думая над тем, сколько правды о себе могу открыть Липпи. А даже если бы рассказал ему все, не посчитал бы он мои откровения за провокацию или, в самом лучшем случае, не посчитал бы, что у Гурбиани шарики за ролики закатились?
- Я понимаю, Сальваторе… - весьма осторожным тоном сказал я. – А если я тебе сообщу, что навсегда отказываюсь от "Психе"…
- Коллеги тебе не позволят. Ставка слишком высока. У Кардуччи, он ведь мне приятель, тоже имеются определенные сомнения; он считает, будто бы продал душу дьяволу, но отступить не может.
Меня так и подмывало спросить, а в чем же заключается вся эта программа "Психе", но посчитал, что пока что не время.
- Но позволь тебя спросить вот что еще. Если я откажусь от внедрения "Психе" – вернешься?
- Нет. Когда я, наконец-то, принял решение об отставке, то почувствовал себя по-настоящему свободным. Не хочу я больше работать на Консорциум. Не обязан.
- Иногда я и сам чувствую, что он мне осточертел, - вздохнул я. – После всего пережитого необходимо много о чем передумать. Возможно, я сменю программную линию SGC, откажусь от большей части выдаваемой в эфир дешевки. От всего порнохлама. Благодаря нашему финансовому положению, мы можем себе это позволить.
- Ты серьезно? – на лице Липпи появилась тень заинтересованности.
- Я ищу такого, кто мне в этом поможет.
- Просто не верится! И ты надумал, что таким стану я. Интересно, в какой роли?
- Моего советника. А потом… кто знает. Мне все сложнее становится договориться с Эусебио.
- Мне придется подумать. – По тону его голоса я понял, что крючок он заглотнул. – Дай мне какое-то время, Альдо.
- Только слишком долго не раздумывай. Давай договоримся на завтра, в полдень, только не у меня. Скажем… в бюро адвоката Анджело Проди на Пьяцца д'Эсмеральда. Ага, и возьми с собой профессора Кардуччи, мне бы хотелось переговорить и с ним.
Тот не отвечал, продолжая задумчиво кормить голубей, слетающихся все более плотной кучей. Я уже собрался с ним попрощаться, когда их ризницы собора вышел связенник в литургичном одеянии. Его сопровождал маленький министрант. Оба сильно спешили, похоже, их вызвали к умирающему. Увидав их, я по привычке перекрестился. Краем глаза я отметил безграничное изумление на лице Сальваторе, который тоже осенил себя крестным знамением.
Никакой революции делать я не хотел.. Прежде всего, мне хотелось обеспечить для себя минимальную безопасность. Липпи создавал впечатление личности, на которую можно опереться. По крайней мере, до того момента, когда я доберусь до хранилища Банко Ансельмиано. А мог ли я рассчитывать еще на кого-либо еще?
По дороге домой я пытался извлечь из компьютера какие-нибудь сведения относительно Луки Торрезе. Но, если не считать даты рождения в каталоге персональных данных, ничего найти не удалось. Я даже не выяснил размера выплачиваемой ему заработной платы.
Не обнаружил я нигде ни малейшего следа программы "Психе". Хотя в сводке, приготовленной Розенкранцем, я нашел рубрику "Эмиссионная Инновационная Программа – исследования, испытания, установка". За весь последний год он поглотил, мелочь, полтора миллиарда долларов кредитов, а в течение последних буквально двух недель – еще восемьсот миллионов. Что могло столько стоить, и какие сказочные прибыли должно было принести? Придется Кардуччи все это мне пояснить.
Еще меня заинтриговала небольшая иконка в углу экрана – палец, прижатый к губам. Неужто дополнительное предохранение? Я навел на нее курсор и кликнул. Появилась команда: "введи пароль". Мне трудно было поверить, чтобы Гурбиани, запуская доступ посредством дактилоскопического сенсора, предохранялся еще и перед самим собой. А может он принимал во внимание риск того, что кто-то пожелает отрезать ему палец?... Благодаря системной информации о жестком диске, я сориентировался, что закрытые паролем файлы представляли собой около трети памяти компьютера. Неплохо!... Вот только как добраться до них, не зная пароля?
Торрезе ожидал меня на краю двора, в тени платана, и, если бы он, увидав меня, не сделал ни малейшего движения, я бы, скорее всего, его и не заметил. Жестом я пригласил его зайти в дом, но тот отказался.
- Давайте лучше пройдемся, предложил он, указав на хорошо утоптанную дорожку среди мелких скал. – Похоже, вас кто-то весьма опасается… - вполголоса начал он, когда я с ним поравнялся.
- Это не новость, пожал я плечами. – Лучше скажи мне, кто у тебя во главе списка этих перепуганных?
- Сейчас не время для шуток. Я обнаружил три буквально только что установленные подслушки. В вашей спальне, в вертолете и в автомобиле. Работа профессиональная. Это ужасно раздражает, но, к сожалению, я не могу быть уверен во всех своих людях. Кто-то на самом верху явно ужасно боится того, что ты можешь сделать.
- Вся суть в том, что у меня нет еще точно определенных намерений.
- Вы вернулись. Этого достаточно. Пара человек моги уже привыкнуть к мысли, что вам хана.
Я испытал некую тень симпатии к своему суперохраннику.
- А ты можешь выяснить, для кого мое исчезновение было наиболее важно?
Торрезе скорчил рожу, поднял с земли какую-то ветку, осматривая с любопытством фитолога.
- Может и никому, а может и всем, - таинственно буркнул он.
- Хорошо, а вот так, между нами, я завещание составлял?
- Из того, что мне известно, нет… - вновь он глядел на меня с осторожностью, словно желая удостовериться, что я – это, все-таки, я.
- И кто бы в таком случае унаследовал все имущество?
- Шеф, кузенов у вас вагон и маленькая тележка. В основном, голозадых. Всю компашку до сих пор удерживали на расстоянии. Но как только вы исчезли, и дня не было, чтобы они не расспрашивали, когда вас признают покойным, когда же Лили сообщала, что должны пройти месяцы и даже годы, разочарование с их рож можно было ложкой соскребывать.
- И ты считаешь, что кто-то из семейства мог макать во всем этом пальцы…
- Кишка тонка. Интел-ли-гэнция. Но пока суть да дело, они уже начали брать в долг на счет наследства.
- Так что мотив, выходит, имеется…
- Еще до того, как они отщипнули бы хоть что-то из наследства, правление выкупило бы их активы за гроши.
- Правление, говоришь? А кто конкретно?
- Не стану ни на кого показывать пальцем, пока не найду подтверждения.
- Ну да, конечно, конечно. Но вначале я хотел бы осмотреть и прослушать записи моих последних встреч и заседаний. Скажем, с тех, которые состоялись дня за три до моего похищения.
- И не вы один. Полиция тоже желала бы начать с этого.
- Желала?
- В ту самую ночь, когда ты пропал, в архиве вспыхнул пожар. Все пошло на угольки.
- А твои люди?
- Все были заняты поисками тебя. Охранник, у которого было дежурство в тот самый день, погиб в огне.
- Понятно. Могу предложить тебе еще один след. Я имею в виду другой сгоревший объект.
- Клиника в Ферджовии? – глаза Торрезе блеснули.
- Ты слышал когда-нибудь о типе по фамилии Рандольфи?
- Естественно. Пьетро Рандольфи – вице-президент фонда "Новая Жизнь".
- Нам необходимо найти на него крючок и насадить его.
- С радостью. Я знаю, что там синьора хотели ликвидировать.
- Откуда знаешь?
- У меня есть свои ходы в речной и муниципальной полиции. Так же мне доложили, что без особого шума, по просьбе Рандольфи, были проведены розыски их исчезнувшей сотрудницы, некоей Моники Мазур, и пациента, чье описание соответствовало вашему. Ну а когда еще вспыхнул тот пожар, и когда полицейский катер ночью столкнулся с буксируемым танкером, достаточно было только сопоставить факты.
- Тебе известно, где сейчас можно искать тех орлов от трансплантации?
- В игру входят либо Липарийские острова, либо Сардиния… Но оставьте это мне. Это Рандольфи доставить нарезанным или целым?
- Нет, нет, - усердно замотал я головой. – Я думаю о зрелищном разоблачении всей их бандитской деятельности. Хотелось бы сделать телерепортаж о полицейской акции. В прямом эфире.
Торрезе сочувствующе улыбнулся.
- Похоже, шеф, с памятью у вас и правда паршиво. Ведь фонд входит в сеть синьора Амальфиани, мы тоже входим в число соучредителей и имеем свою долю в прибылях.
Тут мне сделалось настолько неприятно, словно кто-то сунул мне за шиворот огненную саламандру.
- Чертова моя память, - простонал я. – Вот что с ней творится? Все больше и больше походит на швейцарский сыр.
Охранник затушил окурок в ладони и – в соответствии с навыком профессионала, не оставляющего после себя никаких следов – спрятал бычок в какую-то коробочку.
- Шеф! – еще раз он внимательно поглядел мне в глаза. – Если у вас и вправду такие проблемы с собой, я тем более должен заранее знать, во что вы хотите влезть? Тем временем, еще со вчерашнего дня вы делаете какие-то странные движения!
- Я? Не думаю.
- Вот не понимаю я, почему ты выдавил из полиции освобождение тех говнюков из ПА. Это же фанатики. Все шепчутся, что тот их Раймонд выписал на тебя приговор, как на антихриста. Что тебя следует исключить любыми методами. Если вы считаете, что тем самым вы откупитесь от них, то вы ошибаетесь.
Сам не знаю почему, я начал объясняться:
- Сандро Вольпони не верит в вероятность следующего покушения; зато он считает, что после того, как эти террористы будут выпущены, полиция, идя по их следу, доберется до брата Раймонда. Я всего лишь пошел властям на руку. Впрочем, осторожность я сохраню. И я верю в твои способности.
- Моя задача – защищать вас, - сухо ответил Торрезе. – От всех и каждого. Если случится необходимость, даже и от себя самого. Да, при случае, эта демонстративная встреча с Липпи тоже не была нужна. Эусебио и без того паникует. А людям, находящимся в состоянии паники, в голову могут прийти самые различные глупости.
Многое я бы дал хоть за горстку информации о Луке Торрезе. Кем он был, откуда взялся? Какие отношения по правде соединяли его с Гурбиани? Он был его приятелем или всего лишь наемным кондотьером? Или человеком Амальфиани, делегированным для слежения главы SGC? На это указывал хотя бы тот факт, что мафиози контактировал с Гурбиани исключительно через Торрезе. Вот если бы у меня имелась какая-то уверенность, если бы знал о нем хоть чуточку больше и если бы мог ему полностью доверять… Дилемма: найти для него роль в собственных планах или же как можно быстрее от него избавиться? К сожалению, оставалась лишь бдительность. Как и в отношении всех…
- Что касается досье синьоры Моники, то я переслал все по электронной почте в твой компьютер. Особых неожиданностей там нет, разве что кроме одного…
Я перебил Торрезе.
- Если ты и вправду хочешь помочь, составь мне отчет другого вида. Ты же наверняка прослеживаешь за договоренностями внутри SGC. И мне хотелось бы узнать, как мое исчезновение повлияло на расположение сил в правлении. Для кого мое возвращение особо невыгодно? Кто из властей консорциума за последнее время контактировал с Рандольфи? У кого из них имелась возможность заказать ему мою физическую ликвидацию?
- Вот, наконец-то вы начали говорить как шеф. Понятное дело, что такой отчет я уже подготовил. Вот вам дискетка. А теперь самое главное: Амальфиани снова звонил и спрашивал, ничего ли не поменялось, может ли он быть спокоен в том, что план будет реализован.
- Если для него это так важно, почему он не позвонит непосредственно мне?
- Что? – вырвалось у охранника. Какое-то время он глядел на меня, словно на сумасброда. – Вы и вправду потеряли память. Никогда я не верил во все их амнезии, но в вашем случае…
- Да нет, все вещи вспоминаются, вот только происходит это крайне медленно.
- Но чтобы вы так позабыли процедуру… Ни у кого из нас нет непосредственной связи с Амальфиани. Для меня он всего лишь голос в телефоне. Это вы встречаетесь с его резидентом в Розеттине…
- Ну да, - произнес я, делая вид, как будто только сейчас припомнил.
- Вы можете помочь своей памяти, - посоветовал мне Лука. – Достаточно просто заглянуть в компьютер. Вы же весьма скрупулезно все записывали в секретных файлах.
- Понимаешь, все не так легко. Я забыл код доступа, - простодушно признался я.
Торрезе с жалостью поглядел на меня.
- Что с тобой происходит, Альдо? Я знаю тебя пятнадцать лет, но никак не могу избавиться от впечатления, что вижу тебя впервые.
- Ты сомневаешься в том, что я – это я?
- Как раз это я уже проверил. Начиная с папиллярных линий, заканчивая запаховыми следами. Вот только размышляю вот над чем: что эти уроды с тобой натворили? Прополоскали тебе мозги?
- Не пересаливай, Лука. Приглядись ко мне.
- Кого-нибудь другого ты, возможно, и обманешь. Меня – нет. Ты Гурбиани, но вот ведешь себя не как Гурбиани. Понятное дело, мне это никак не мешает, я работаю на тебя и выполняю твои приказания, но вот другие… Если бы синьор Амальфиани начал подозревать, будто бы что-то не так… Тебя не спасло бы даже все твое состояние.
- Знаю.
Мы стояли одни на самом краю скального обрыва, залитые сиянием заходящего солнца. С левой стороны вздымался покрытый лесом холм с триангуляционной вышкой. Под нами темнела долина. Если бы Лука хотел столкнуть меня вниз, более подходящего случая у него просто не было бы. Но он всего лишь усмехнулся.
- Шеф, чуть побольше доверься мне.
Неожиданно он прыгнул на меня, свалил на землю и прижал к земле. Сделал он это так неожиданно и с такой силой, что я не мог и вздохнуть. При этом я ожидал удара, укола, боли. Но ничего подобного не произошло.
- Отступаем медленно и на четвереньках, - сказал он, не ослабляя объятий.
- Но что случилось?
- Минуточку. – Из воротника он вытащил тонкий прут, законченный головкой, словно у шпильки. – Джанни, возьми Франко, и просмотрите холм Деи Импиккати. Похоже, я видел кого-то неподалеку от триангуляционной вышки. Потом доложите.
- Я там никого не видел, - сказал я, отступая на коленях. – Опять же, то мог быть просто какой-то турист.
- Иногда лучше перебдеть, я видел четкое световое отражение. Возможно, то был только бинокль, но мог быть и оптический прицел… Можно подниматься. Я провожу тебя домой, Альдо.
Я молчал, погрузившись в собственные мысли. Не верил я ему так сильно. Инцидент мне казался подстроенным как по заказу. Как будто бы Торрезе желал быстро доказать свою лояльность и пригодность. Тем временем, этот случай еще сильнее углубил мою отстраненность к нему. По дороге я еще раз задумался над тем, что, собственно, случилось с Гурбиани. Я принимал во внимание, что даже если похищение и вбрасывание в Колодец могло быть спонтанным действием фундаменталистов, то попытка порубить его на органы указывала на сознательное действие кого-то из близкого ему круга. Какие-то его враги из SGC, Амальфиани, власти? При всей его доброжелательности, Вольпони я не доверял. Глубочайшее недоверие, вынесенное из опыта предыдущей жизни, заставляла меня быть чрезвычайно осторожным. В особенности же, по отношению к тем, которые казались такими дружелюбными. Если я хотел пережить, то не мог исключить никого и ничего. Даже того, что мое чудесное спасение Моникой могло быть элементом мастерской игры.
Ее я встретил возле искусственной лагуны. В своем закрытом купальнике она выглядела исключительно манящей.
- Выкупаешься, Альдо? – спросила девушка.
- Возможно, позднее.
Торрезе свернул к лифту, который вел к гаражу, я же вошел в дом. Там поднял телефонную трубку и позвонил Габриэлю. Тот все так же не отвечал.
В кабинете я открыл компьютер и просмотрел высланные мне файлы. Поначалу открыл рапорт об отношениях внутри Консорциума. Не знаю, насколько Торрезе представил ситуацию объективно, но из отчета следовало, что исчезновение Гурбиани открыло существование двух сражающихся друг с другом фракций. Одну – желающую сохранить status quo – образовывала группа, концентрирующаяся вокруг Розенкранца и Лили Уотсон; во вторую, стремящуюся получить большую автономию всех теле- и радиостанций, киностудий, фотоателье, печатных изданий, типографий и сети клубов, входящих в состав империи, входили люди Леона Бьянко из "Эротикона" и свора Летиции Ромеро из "Минеттио" и Клубов Веселого Поросенка. Между ними лавировали прагматики, к которым Лука причислил Липпи, вот только эта группа таяла на глазах. Сам Торрезе располагался над фракциями, представляя самого себя как функционера, безусловно преданного Гурбиани. Впрочем, возможно, что он таким и был. Рапорт не содержал заключений, но давал понять, что фракция Розенкранца и Уотсон обрела определенный перевес.
Уроки одного из моих учителей, Макиавелли, приказывали стать союзником более слабого.
Затем, с некоторым опасением, я заглянул в файл, касающийся моей жены. Биография Моники была краткой. Подтвердилось все то, что она о себе рассказывала: школа медсестер, начатое и прерванное высшее медицинское образование, стажировка в хирургической клинике в Вероне. Лука прибавил еще и выписку из полицейских отчетов о ее заработках на жизнь в течение последних двух с половиной лет в качестве дамы для компании. Затем я нашел распечатку с ее банковского счета. Удивительно малого. Проблему, однако, решили переводы. Все в частную неврологическую клинику под Неаполем. Зачем? Благодаря сведениям со следующей страницы, все сделалось ясным. Три года назад в тамошнее реабилитационное отделение попал пятнадцатилетний Джованни Мазур. После неудачного прыжка вниз головой со скал в Пиккола Марина на Капри у него был поврежден спинной мозг. Парень был парализован. Интенсивные и дорогостоящие реабилитационные процедуры вернули ему частичное владение одной рукой. Добрый Боже! Неужто я так ошибся в собственных оценках? До этого момента я считал Монику современной куртизанкой, хладнокровной, расчетливой, бессердечной… Тем временем, всю свою жизнь она посвятила спасению брата…
Я почувствовал себя совершенно глупо. Неожиданно захотелось переговорить с собственной супругой. Без свидетелей и без подслушивающих устройств.
Монику я застал над крытой лагуной, над которой, несмотря на приближающиеся сумерки, ярко светило искусственное солнце. Я предложил ей ночную прогулку, что Моника приняла с восхищением. На лифте мы спустились на нижний уровень. В гараже тут же появился Франко, мой первый шофер. Я хотел его отправить, никакой угрозы не чувствовал. Никому ведь не могло прийти в голову, что Гурбиани пожелает именно сейчас покинуть собственную твердыню. Шофер начал протестовать.
- Синьор Лука приказал мне…
- Я отменяю его приказ, Франко, сегодня ты мне не будешь нужен, - сказал я и попросил Монику сесть за руль "ламборджини".
- С удовольствием. А куда ты хочешь поехать? – с легким изумлением спросила та.
- Прямо перед собой.
Я уверен, что охранник поехал за нами, но нам удалось от него оторваться. Моя жена на автостраде ехала со скоростью более двухсот километров в час. А потом молниеносно свернула в лабиринт улочек какого-то городка, а уже там свернула в сторону Розеттины. А потом мы съехали на обочину пустой деревенской дороги. И обождали там с четверть часа. Никто не показался. Если даже кто-то преследовал нас, то делал это чрезвычайно умело. Весьма оптимистически я предположил, что мы обманули всех тех, которым хотелось бы помешать нашей интимности. Мы были одни: мы, автомобиль и ночь. Мотаясь из стороны в сторону, постоянно меняя маршрут, в конце концов мы добрались до Монтана Росса. Я попросил Монику остановиться на боковой улочке.
- Мы возвращаемся домой к Паоло? – с удивлением спросила та.
- Чуточку дальше.
Еще вчера, когда мы отправлялись на церемонию заключения брака, я заметил дорожный указатель и рекламу Археологического Парка. Судя по карте, он включал в себя все давнее имение донны Пацци с акведуком, прудом и священным кругом. О таком месте для нынешней ночи можно было только мечтать. Пешком мы спустились к воротам парка.
- В это время здесь все давным-давно уже закрыто, - сказала Моника. – Впрочем, ты и сам видишь вывеску: "Chiuso".
- У меня постоянный пропуск на вход в любое время дня и ночи, - ответил на это я.
И с моей стороны это не было пустой похвальбой. За две сотни евро мы не только прошли на территорию раскопок, но еще и получили от охранника бутылку вина, путеводитель и заверение, что во время прогулки нам никто не станет мешать. До самого утра..
Солнце давно уже скрылось за горизонтом, но ночь была не темной, все небо усеяно звездами. Дорогу я знал. Место не сильно изменилось, над ним все так же вздымался смолистый запах пиний. Значительная часть сорняков выкорчевали, мусор с тропинок убрали. Одно крыло римской виллы отреставрировали, в священном кругу установили прожекторы и динамики, предназначенные, как сообщила мне Моника, для даваемых по выходным представлений типа luce e suono (свет и звук – ит.). Пара гигантских кипарисов должна была расти на этих склонах еще в мои времена.
Священный источник засыпали еще в XVII веке, так что воду в пруд сейчас подавали из водопровода. Цикады орали как сумасшедшие. Мы сидели в тени уцелевшего угла атриума, в том самом месте, где Беатриче когда-то предавалась культовому разврату.
- Насколько я понимаю, мы здесь не напрасно, - сказала Моника.
- Ты просила, чтобы я рассказал тебе о себе. Сейчас я исполню твою просьбу, - торжественно пообещал я. – Так вот, на самом деле меня зовут Альфредо Деросси. С того момента, когда, по желанию французского монарха, я создал железного пса, двигающего головой и глазами, пускающего пар из пасти, ко мне пристало прозвище "Il Cane".
- "Il Cane"? Не надо так шутить, человека, о котором ты говоришь, казнили три с половиной столетия назад. Ты должен был быть его духом…
- Или же его повторным воплощением. К тому же, перенесенным в тело собственного прапрапраправнука. Но, если ты желаешь узнать правду, то выслушай меня, по мере возможности не перебивая, история будет довольно длинная, но, похоже, занимательная. Мой отец, Луиджи Деросси, был пьяницей и поэтом. В те времена подобное частенько шло в паре…
Моника не перебивала. Я рассказывал ей, самое малое, два часа. Слушала она с удивлением, тихая, иногда только из нее вырывалось коротенькое "Ох!" или обычный вздох. Тем временем взошла Луна: громадная, щекастая, так что я прекрасно видел прелестное лицо своей супруги, то испуганное, то веселое. Дополнительное освещение обеспечивало зарево огней над Розеттиной.
- Я прекрасно понимаю, что все это звучит словно литературная концепция. И не могу объяснить, каким образом мое "я" переместилось в тело Гурбиани, вытесняя его собственное сознание, - пытался объяснить я. – Замешана ли во всем этом магия Колодца Проклятых или же некий высший замысел провидения? Во всяком случае, я здесь, с тобой, отверженный иным временем, изумленный, почти что, как ты… И уж наверняка тут и останусь.
- Бедняжка, - Моника прижала меня к себе, поцеловала. И в этом поцелуе было сочувствие, нежность, а возможно – и нечто большее. Я тоже обнял ее. На вкус Моника была словно зрелый плод. От нее пахло персиком, нежным и сочным. Я расстегивал ее пуговки, целуя чудные груди, она же выгнулась дугой, чтобы я мог снять ее трусики. Я был полностью готов, но не спешил, чувствуя, что здесь нечто большее, чем минутное телесное желание или неожиданное извержение, оставляющее после себя лишь остывший кратер. Добрый мой Боже! Неужто в моем сердце, высохшем, словно верблюжья колючка, еще раз родилась надежда на любовь…
Совершенно неожиданно вернулось осознание реальности. Я тут же прекратил ласки и положил палец на губы Моники. Некое чувство подсказало мне, что мы не одни. У меня чуткий слух человека, побывавшего в массе неприятностей. Сложно было сказать, что обеспокоило меня в этом случае. То ли то было изменение тональности в треске цикад, упавший камушек, сломанная веточка… Нечто, то ли человек, то ли зверь, очутилось неподалеку от нас. И оно старалось, чтобы мы не заметили его присутствия. Тут же вспомнился Торрезе, его сконцентрированное, чуткое лицо. Я посчитал, что нам как можно скорее необходимо покинуть эту пустошь.
- Я обязательно должен прочитать тебе свой сонет, посвященный Беатриче… - громко произнес я. – Дай-ка я его вспомню… - говоря все это, я потянул Монику за собой. На коленях мы ползли в сторону аркады, ведущей к давнему cubiculum (спальня – лат.). Вокруг царила ничем не нарушаемая тишина. Может я ошибался, быть может, это давало знать о себе чрезмерно впечатлительное воображение художника? Подул ветер. Мой обостренное, чуть ли не животное обоняние позволило мне сразу же почуять ненавистный запах людского пота. Некто враждебный мне, ведь не случайный же турист, прятался где-то справа и выше нас. Быть может, он таился на том самом месте, с которого мы вместе с графом Лодовико когда-то наблюдали за оргией… Ползя среди крапивы и колючек, прораставших через щели между каменными плитами, мы успешно минули давнюю спальню. До безопасных дебрей оливковой рощи осталось буквально несколько шагов, к сожалению, по ничем не прикрытому пространству. Я надеялся на то, что если внимание чужака удастся сконцентрировать на пруду, мы сможем перескочить это пустое место.
- Беги за мной, - шепнул я Монике на ухо. – По моему знаку.
Она кивнула. Я взял камушек и бросил его в сторону пруда. Всплеск. Мы метнулись вперед, один скачок, второй, третий…
Тишину нарушила очередь рвущих листья выстрелов. Я вскочил в чащу деревьев. Моника за мной. И тут же она споткнулась, издав вскрик боли. Я схватил ее на руки, моя дорогая упала словно срезанный цветок. Я чувствовал липкость вытекающей крови. Дыхание Моники сделалось свистящим. Боже! Ранена… В легкое… В правое!
- Убегай, Альдо… Нет… Альфредо! Беги! – шептала она.
Я не мог ни бежать, ни оставлять ее здесь. Самое паршивое, у меня не было оружия. Даже сотовый телефон потерял, ползя среди развалин. Что делать? Искать помощи у старичка-смотрителя? Если тот еще жив… Я осторожно приподнялся. Снова затрещали выстрели. Сукин сын должен был видеть в темноте как кот! (Уже намного позднее я узнал, что такое ноктовизор). Рядом брякнуло разбитое стекло. Ага, склад археологических находок. Сам я до сих пор в темноте этого барака я и не заметил. Ползя словно уж среди кустов, я добрался до выбитого окна; к счастью оно не было закрыто решеткой, и вскочил вовнутрь. На ощупь я разыскивал что угодно, способное послужить мне в качестве оружия. Вазы, кубки, височные кольца, фибулы… Через какое-то время обнаружил нож. Для античной памятки – в очень даже приличном состоянии. Я стиснул пальцы на рукояти и нащупал характерный узор листьев аканта. Господи Иисусе! Да ведь это был мой собственный нож, подарок капитана Массимо! Его я оставил в подземелье после безумной любви с Беатриче.
Тем временем снайпер вышел на открытое пространство. Наверняка он знал, что я не вооружен, так что ему не нужно было быть преувеличенно осторожным. Убийца направился в сторону стонущей Моники, поднял оружие…
Нож я не метал уже давно. Только некоторые умения, такие как плавание, верховая езда или занятия любовью никто не забывает. В замах я вложил все свое умение. Лезвие свистнуло словно пуля. И я попал. Слава Богу, сукин сын не носил пуленепробиваемый жилет. Он заорал, упустил оружие и упал на колени, пытаясь вырвать убийственное железо из своей плоти. Я подскочил к нему, наступил ногой на автомат. Убийца умирал. При падении очки для ночного видения упали с лица. У него было гадкое, все в оспинах лицо и выступающие скулы. Монгол, кореец, представитель какой-то из восточных наций, проживающих в России…
- Кто тебя наслал на меня? – рванул я его. – Говори, и спасешь жизнь, я вызову врачей.
- Поздно, - оскалил тот зубы и скончался.
Я подбежал к Монике и поднял ее на руки. Моя супруга почти потеряла сознание, но была жива. В античной спальне я нашел выпавший телефон, зеленоватый экранчик поблескивал в траве. Я позвонил в скорую помощь. Ожидая приезда медиков я стал размышлять над тем, кого следует предупредить еще. Луку Торрезе? А вдруг азиат действовал по его приказу?.. Столь же вероятным вдохновителем покушения мог быть кто-либо из Консорциума или фонда "Новая Жизнь". Наименее вероятной была версия того, что убийцу нанял кто-то из ПА. Во все эпохи фанатики привыкли устраивать свои делишки самостоятельно, не привлекая наемников. Хорошо, ну а Амальфиани? Похоже, тоже нет. По словам Торрезе я до сих пор был ему для чего-то нужен.
Еще раз я позвонил Габриэлю Заксу. К сожалению, телефон детектива молчал. Не имея никакого другого выхода, я решился связаться с Вольпони. В конце концов, это же он был вице-министром.
- Понятия не имею, кто мог выслать этого наемника, - оценил сановник. – Ченг – это наемный убийца, разыскиваемый Интерполом. Только никакой не туз, скорее, третья лига. Кто-то явно спешил.
Мы находились в коридоре госпиталя, в который привезли Монику. Рядом, за закрытой дверью, продолжалась операция. Ее результат до сих пор был неопределенным.
Мчась с включенной сиреной на карете скорой помощи рядом с увешанной капельницами жены, я позвонил Луке. По его голосу можно было сделать вывод, что я вырвал его из глубокого сна. Или, возможно, это он так замечательно притворялся. Но в госпиталь прибыл через четверть часа после министра. Вообще-то он страшно на меня злился.
- Так не делают, шеф! Убежал от собственной охраны, подставил себя и жену. Или я преувеличиваю?
Я удержался от комментария и только спросил:
- Лука, ты не догадываешься, кто это мог сделать?
- Понятия не имею!
То ли мне показалось, что он сказал это уж слишком быстро, или это я был таким перевозбужденным. Ситуация усложнялась. Кто-то явно потерял терпение и начал на меня охоту.
- Альдо, познакомься с Матеотти, - Вольпони подошел к нам ведя с собой человека, по сравнению с которым Лука, на что уже здоровяга, казался карликом. – С этого момента Матеотти будет твоим ангелом-хранителем.
- Минуточку, погодите-ка, - возмутился Торрезе. – Это я отвечаю за безопасность синьора Гурбиани.
- Уже нет. По крайней мере, до момента выяснения обстоятельств последнего покушения, - возразил ему Вольпони. – Кстати говоря, Матеотти уже взялся за работу. Покажи им, что ты нашел.
Великан приблизился к нам пошатывающейся походкой моряка и продемонстрировал нам таблетку, похожую на мятную конфету.
- Замечательный клопик. Был прикреплен к шасси. Позволял следить за вами с расстояния в полкилометра, - пояснил гигант.
Торрезе выхватил у него микропередатчик и в ужасном волнении стал его изучать.
- Сделано в Китае, - сообщил он через мгновение. – Мы пользуемся исключительно немецкой продукцией.
Вольпони, совершенно не обращая на него внимания, обратился ко мне:
- Матеотти полетит с тобой домой, осмотрится там и на какое-то время останется при тебе.
Из-за поворота госпитального коридора появился хирург. Он сильно устал, но, увидав меня, попытался улыбнуться.
- Signore Гурбиани. Ваша жена будет жить, - объявил он. – Она потеряла много крови, состояние серьезное, но сейчас ее жизни никакая опасность не угрожает.
16. Империя наносит ответный удар
Дом я застал тихим, пустым, могло показаться – совершенно лишенным жизни. Лука Торрезе провел меня в спальню, в то время как Матеотти занялся систематической проверкой гаражей, комнат, мониторинговой инсталляции, одним словом, всем тем, как он сам выразился, “электронным дерьмом”, которым была нашпигована резиденция. Только ничего, кроме наших собственных приборов, которые я и так приказал отключить, он не нашел.
Торрезе, который в течение всей дороги не произнес ни слова, начал мне выговаривать:
- Шеф, ты делаешь ужасную ошибку, доверяя Вольпони. А вдруг, весь этот заговор – делишки людей из министерства… Это же самое коррумпированное ведомство.
- У тебя имеются какие-то конкретные улики, или это всего лишь гипотеза?
- У меня масса гипотез, - лаконично ответил тот. – Мне было бы легче, если бы ты сказал, что, собственно, произошло? Если бы трансплантация мозга была возможной, я бы заявил, что в голову Гурбиани пересадили чей-то другой разум.
- Откуда такое предположение?
- Буду с тобой откровенен. Я вижу все больше различий между моим шефом до похищения и после него. Да Альдо с трудом порезал бы перочинным ножиком пиццу, и мне сложно представить его в роли метателя ножей, способного справиться с профессионалом, причем, с расстояния в три десятка шагов.
- Так ты был в Монтана Росса?
- Телевидение было.
Я тяжко вздохнул, как может вздыхать лишь тот, кого безосновательно обвиняют.
- Быть может, Лука, ты меня просто недооцениваешь. А может, просто ранее я никогда не должен был бороться за свою жизнь. Это правда, последний раз я метал нож очень и очень давно. Но в детстве я был в этом деле мастером.
Не знаю, убедил я его или нет, но наверняка заставил задуматься над осмысленностью собственных подозрений.
- Возможно, ты и говоришь правду. Но зачем по дому шастает этот мясник Матеотти?
Я улыбнулся и решил быть откровенным.
- Послушай меня, Лука. После моего возвращения здесь начали происходить странные вещи. То, что я принял помощь Сандро, совсем не означает, будто бы я доверяю ему, а не тебе. Я очутился в такой ситуации, что какое-то время не буду верить никому. Что же касается моей тождественности, то мне казалось, что ты ее всесторонне подтвердил.
- Даже и не знаю, что обо всем этом думать. Раньше сказали бы, что это чары.
- А сейчас?
- Что бы с тобой не творилось, я работаю на тебя, Альдо. Разве что найду доказательство того, что с настоящим Гурбиани что-то случилось, а ты макал в этом пальцы. Вот тогда берегись!
- Спасибо, что ты честно говоришь об этом.
Вошел Матеотти, докладывая, что все в наилучшем порядке, а охранники все находятся на своих постах. Я угостил обоих стаканчиком вина и приказал обоим идти спать. Сам я еще какое-то время поборолся с компьютером Гурбиани, пытаясь угадать код доступа – я подставлял самые различные слова, соответствующие, как мне казалось, фигуре магната, названия всяческих сексуальных отклонений, наиболее популярные ругательства. Неизменным ответом было: "В доступе отказано". Corpo di Bacco! Я был уверен, что ознакомление с частными данными Альдо позволило бы развеять мрак, в котором я двигался. Точно таким же недоступным оказался и личный сейф. Но эту проблему мог бы помочь мне решить Габриэль. Уже ранее, когда я спрашивал его о возможности проникновения в хранилище Банко Ансельмиано, он хвастался знакомством с самыми лучшими медвежатниками… Хорошо еще, что в ящике письменного стола нашлась целая коллекция кредитных карт, ведь иначе, являясь крезом, мне пришлось бы начать брать деньги в долг. Перед тем, как отправиться отдыхать, я еще позвонил в госпиталь. Моника все еще спала после операции. Вольпони обеспечил ей охрану, так что мне нечего было опасаться. После того я набрал телефон Закса. Но у детектива все так же отвечал лишь автоматический секретарь. Около двух ночи я дотащился до кровати и молниеносно заснул.
Мне приснилось обширное, плохо освещенное помещение. Я стоял в двери, едва доставая до засова. На щеках я чувствовал слезы. Почему я плакал – не знаю. А надо мною гудел бас.
- Ты заслужил наказание?
- Да, папа.
- Тогда попроси его.
- Очень прошу назначить мне справедливое наказание, папа.
- Ремень принес?
- Да, папа.
- Ложись и считай…
Под заплаканными щеками я чувствовал плюшевое покрывало дивана, пахнущее пылью и нафталином. Меня переполнял страх. Страх и ненависть. Откуда-то сбоку донеслось хихиканье; это, наверное, служанка, не могла сдержать проявления таким образом злорадной сатисфакции. Свистнул ремень и…
- Так что ты наделал? Снова обдулся, урод?
- Да, папа.
- Ты знаешь, что теперь должно произойти?
- Да, и я прошу прописать мне двойное наказание.
Сон был идиотским, он ни с чем для меня не ассоциировался. Только ведь не в состоянии управлять своими снами, так что я не должен был иметь к себе претензий, впрочем, в сценах моего видения произошла перемена. Я бежал. Бежал, но вовсе не убегал. Меня несла чистейшая радость. Мои ступни перемещались по невероятно красивому лугу, где было полно разноцветных цветов. Ну где еще теперь существуют такие вот луга? В небе? Я размышлял над тем, а куда я бегу. И тут увидал маленький силуэт в белом, практически на линии горизонта. Мария? Я перескакивал цветастые коврики, выкрикивая ее имя… Вот только эхо отвечало: "Моника! Моника!..." Я был все ближе, уже притормаживал свой бег. А радость постепенно превращалась в неуверенность, в беспокойство, в конце концов – в страх. Находящаяся передо мной фигура постепенно поворачивалась. И вдруг я увидал, что это низкий, рыжеволосый мужчина в белой рясе. Раймонд Пристль!
- Но как же я могу вас узнавать, раз никогда вас не видел, - выкрикнул я. И проснулся…
"Дайте мне точку опоры, и я переверну землю" – хвастался Архимед много столетий назад. Я мог ему только завидовать. В том мире, в котором я очутился, у меня никакой опоры не было. Я был как тот, описываемый в древнем египетском папирусе потерпевший кораблекрушение Синухет, один на неведомом острове, среди диких зверей и жестоких туземцев.
Понятное дело, страх подсовывал относительно простое решение: а именно, пользуясь богатствами Гурбиани, сбежать куда-нибудь, укрыться в какой-нибудь дали, там предаваться исследованиям нынешних времен, оставаясь в надежде, что меня никто и никогда не найдет. Но, мог ли я поступить таким образом? Я не был трусом, который уступает перед первым-встречным вызовом. Не был я и агнцем, покорно подставляющим шею под нож. Помимо всего, будто читателю криминальной новеллы, мне было интересно, кто же за всем этим стоит, и как эта история закончится.
Утром, в компании Матеотти и Торрезе (мне хотелось не спускать глаз ни с того, ни с другого), на собственном вертолете я полетел в госпиталь. Моника уже пришла в себя и, увидав меня, легонечко улыбнулась. В своей постели, бледненькая, со своими покрытыми ресницами глазками, она была такой хрупкой, такой несчастной, такой моей… Врачи не разрешали ей разговаривать, но полагали, что лечение закончится удачно.
Рядом с Моникой я провел около четверти часа и пообещал заскочить к вечеру. Меня подгоняли обязанности. В полдень у меня была назначена встреча с Липпи и Кардуччи в офисе Проди. Это я готовил веселую штучку для органов власти SGC. Желая избежать неприятных неожиданностей, до девяти утра я забрал адвоката из его пригородной виллы и привез в его контору на Пьяцца д'Эсмеральда. Матеотти обеспечил присутствие пятерки своих лучших охранников. Лука прибавил к ним троих своих.
- Шеф, что вы задумали с этим Проди? – спросил меня Торрезе.
- Я собираюсь составить некий документ.
- О, завещания – это моя специальность, - обрадовался Проди, узнав о том, что я имею в виду.
Его гладкие и розовые щеки еще больше покраснели при виде здоровенных супермужиков, которые должны были охранять его бюро.
- Завещание? Лично я суеверен, - признался Матеотти, - и потому завещания никогда составлять не стану.
Я не видел причины, чтобы выявлять моим опекунам, что совершенно не собираюсь прощаться с жизнью. Совсем даже наоборот. Завещание должно было защитить меня от последующих покушений. Я закрылся с Проди в его кабинете, оставляя охранников снаружи. Базовая запись была простой: В случае неожиданной смерти Альдо Гурбиани, фирма SGC должна была быть ликвидирована, а мои личные активы следовало незамедлительно вывести. В соответствии с положениями предбрачного договора, Моника Гурбиани должна получить четвертую часть состояния, в том числе, всю мою недвижимость, мою океанскую яхту, владения на Сейшелах и в Белизе. Все оставшееся доставалось католическому благотворительному фонду "Tertio Millenio".
Проди нервно сглотнул слюну.
- Ты уверен в своем решении? – с трудом выдавил он из себя.
Я не был ни в чем уверен, возможно, лишь в том, что основанный отцами доминиканцами фонд "Третье Тысячелетие", которому – помимо хосписов и убежищ для бездомных – подчинялись многочисленные католические университеты, теле- и радиостанции, религиозная пресса, был объектом, подвергавшимся наиболее яростным атакам со стороны средств массовой информации, подчиненных SGC. Эпитеты типа: "заговор святош", "братство белых катабасов[20]", "новая инквизиция" или "педобратцы" были наиболее мягкими из тех, которыми фонд обзывали. Один из епископов, которого репортеры Консорциума буквально затравили, покончил с собой после того, как пара активисток-феминисток обвинила его в их изнасиловании.
- Я не имею права задавать вопросы, - промямлил адвокат, - но почему ты решился на именно такую вот запись последней воли?
- А потому, чтобы никому не пришло в голову лишить меня жизни, - ответил я на это. - Надеюсь, что, зная о таком завещании, всем было бы важно, чтобы я жил долго и счастливо.
- Тебя объявят невменяемым.
- А пускай попробуют. Лично я готов пройти все обследования.
- И ты опубликуешь информацию о своих намерениях в средствах массовой информации?
- Нет, пока что о них узнают лишь те, которые должны это будут узнать. Сколько времени займет у тебя подготовка документа?
- Обычно это требует…
- Не "обычно", а для меня?
- На завтра.
- Я хочу все закончить сегодня, к полудню. Три часа – это же куча времени.
Проди лишь кивнул.
Не знаю, каким образом, но эту мою беседу с адвокатом сумел подслушать Торрезе. Возможно, в кабинете Проди у него был установлен клоп… во всяком случае, как только я вышел из кабинки туалета, он насел на меня.
- Альдо, ты с ума сошел. Считай, что только что ты совершил самоубийство.
- Наоборот, Лука. Только что я как раз подписал замечательный полис страхования жизни. Не понимаешь? Подумай, только без эмоций. После подписания завещания, если кто-нибудь из SGC или наш дорогой Амальфиани захочет устроить мне гадость, он раз пять подумает. В случае моей кончины, практически все бабки переходят в руки самого худшего противника Империи.
Тот понял идею, рассмеялся и, расслабившись занял место у соседнего писсуара.
- Если я все хорошо понял, все это завещание – сплошная липа.
- Естественно, я собираюсь жить очень долго, и последнюю волю изменить еще не раз.
- Ффу, тогда мне стало легче, - сказал мой охранник, застегивая ширинку.
На обратном пути в мой небоскреб я провел краткую телефонную конференцию с Липпи. Сальваторе согласился приехать в канцелярию точно в полдень. Я же предупредил и Кардуччи. Ему я про завещание ничего не вспоминал, но подтвердил свое желание, чтобы тот реформировал SGC.
- В каком направлении?
- В приличном. Да, Сальваторе, еще одно. Я много размышлял над тем, что ты мне в последний раз сказал. Ты упомянул, что в ходе последней беседы перед моим похищением у меня и самого были сомнения относительно программы "Психе".
- А мне показалось, что это было нечто большим, чем только сомнения. Как раз сейчас мне вспомнилось, что же меня удивило сильнее всего.
- Что же?
- Твое спокойствие. Ведь последние пару месяцев ты был самым настоящим клубком нервов. И только после поездки в Швейцарию…
- Я был в Швейцарии?
- Два дня. Вернулся ты на третий день, в полдень. Впрочем, можешь спросить у Лили. Или у Торрезе. Он же был с тобой.
- Короче, я лечу в контору, поговорим на месте.
Я отложил мобильный телефон на полку. Торрезе, занимавший в кабине вертолета кресло рядом с моим, глянул на него.
- Шеф, тут имеется непринятое сообщение.
Снова я взял телефон в руки. Честно говоря, я не знал, как прослушать записанные сообщения, к счастью, аппарат сам высвечивал соответствующие команды. Сообщение было принято еще вчера, в шесть вечера. Я услышал возбужденный голос Габриэля.
- Альдо, у меня для тебя масса любопытных вещей. Я связался с коллегой из полиции, который разнюхивал про ПА. Так эти твои красавчики, за исключением Вука Ивановича, к движению, в принципе, и не принадлежали. Твое похищение было их первой операцией. И, что самое интересное, в последние дни, что не слишком похоже на идейных деятелей, которым деньги не важны, они слишком разбрасывались бабками. Что-то тут подванивает, Альдо. Ладно, позвоню вечером.
- Больше новых сообщений нет, - закончил голосовую информацию телефон.
- Планы меняются, - крикнул я Матеотти, когда очередная попытка созвониться с детективом не удалась. – Летим на виа Эмилия, рядом с Венецианской Лестницей.
- Там нет площадок, плотная застройка. Ближе всего можно сесть возле реки, неподалеку от эстакады, - ответил охранник.
- Хорошо.
- В таком случае, я вызову твой мерседес туда, - предложил Торрезе.
Я согласно кивнул.
- Пускай сразу же едет на виа Эмилия, мы этот отрезок и пешком можем пройти.
Охранники не выглядели восхищенными этим предложением. И в чем-то были правы. Дорога через закоулки заняла у нас с четверть часа, так что мы изрядно запыхались, тем более, что я лично тащил свою сумку с ноутбуком.
- Может, я возьму компьютер, - предложил Торрезе.
- Я справлюсь, Лука.
- Ну ты и умеешь меняться.
Эти слова меня удивили. Пришлось задать вопрос.
- А что, я когда-то уже, по-твоему, менялся?
- За последние два месяца… чертовски. А после той поездки в Швейцарию, тебе вожжа совсем под хвост попала.
- Ты был там со мной?
- Был, но в Сионе ты от меня смылся.
- А я не говорил, зачем я туда отправился?
- Догадываюсь… - Лука замолк, потому что с нами поровнялся Матеотти.
Мы вышли в сквер. У фонтана Трех Тритонов я увидал знакомый полноватый силуэт. Выходит, сегодня тут бизнесом занимался нищий Тото. Я решил, что когда мы будем возвращаться, дам ему щедрую милостыню. Сейчас же мне хотелось как можно скорее встретиться с Габриэлем Заксом.
А вот и Виа Эилия, 27. Мы неоднократно нажимали на кнопку домофона, но на звонки никто не отвечал. В конце концов, Лука воспользовался отмычкой. Агентство Закса размещалось на четвертом этаже. Без лифта. Двери мы застали выломанными, небольшая контора выглядела так, словно бы по ней прошел ураган. Я уже собирался уходить, когда Матеотти указал на неплотно прилегающий к стене шкаф. Подойдя поближе, я увидал, что он закреплен на петлях и скрывает за собой проход в жилые помещения.
- Santa puttana! – выругался Торрезе.
Габриэля мы обнаружили в ванной, голого. По словам Матеотти, детектив был мертв уже часов двенадцать. Мы нашли бритву, которой он вскрыл себе вены, но мой охранник, проведя поверхностный осмотр, выявил здоровенный кровоподтек на затылке.
- Его оглушили, раздели, сунули в ванну, а потом… - остальную часть лекции заменил красноречивый жест. – Похоже, он кого-то неслабо достал.
Возвращаясь через спальню, за внутренним окном я заметил какую-то тень, промелькнувшую по галерее.
- Осторожно! – завопил Торрезе и потянул меня за массивный письменный стол.
Оба профессионала тут же вытащили стволы. Окно не было закрыто, но Матеотти выбил его ногой. Мы услыхали перестук шагов. Кто-то очень и очень спешил. Великан-телохранитель выскочил на деревянную галерею, окружавшую внутренний дворик.
- Стой, стой! – вопил он вослед удиравшему. Через какое-то время звуки погони затихли вдали. Торрезе поднялся, обошел комнату и осторожно выглянул через окно, выходящее на улицу.
- И где этот кретин Франко поставил машину? – рявкнул он.
Я приблизился к балкону. И правда. От ворот дома Габриэля до нашего бронированного мерседеса нас разделяла добрая сотня метров залитой солнцем улицы. Лука вытащил из кармана сотовый и набрал номер. Потом ждал.
- В машине его нет. Как обычно, за мороженым подался, сладкоежка чертов, - злился Торрезе. – Вот никогда не способен не поддаться аппетиту. Ладно, сиди тут и не отсвечивай. Я поставлю машину поближе. Когда вернется Матеотти, пускай проводит тебя вниз. Только осторожно. – Он направился к двери. Тут же обернулся, сделал пару шагов назад, вытащил из-под штанины на щиколотке небольшой пистолет. – Это на всякий случай, - сказал Лука, вручая мне оружие. – Помнишь, как мы тренировались в тире?
Я кивнул, хотя, Бог мне свидетель, последний раз огнестрельное оружие держал в руках во время одной дуэли в Вене, которая кончилась тем, что обе пули пошли в молоко. Торрезе вышел. Я остался один в перевернутом вверх дном жилище, с трупом в ванне и бешено тикающими часами. Но перепуган я не был. Наоборот, чувствовал, как в меня вступает дух воина. Я желал сражения. Мне хотелось стереть в пыль и прах заговорщиков, кем бы те ни были. Я буквально мечтал о том, чтобы расправиться с Консорциумом Зла. Мне даже пришла в голову совершенно безумня концепция: а что если обернуть его в сторону добра?!
Один басовый удар часов. Половина двенадцатого. Много времени не оставалось. Через окно я поглядел на улицу. Мерседес стоял на своем месте под лавкой с сувенирами, рядом со стойкой, на которой висели маски и паяцы. В паре метров дальше было небольшое кафе. Быть может, водитель-сладкоежка укрылся в нем?... Я увидел Торрезе. Он шел кошачьим шагом профессионала, держась поближе к стенам домов, осторожный, готовый к действию. Дойдя до лимузина, огляделся. Похоже, ничего подозрительного он не увидел. Протянул руку к рукоятке двери. Похоже, водитель оставил двери не закрытыми. Неизвестно, почему, я завопил: Не-е-е-т!!!
Взрывная волна выбил из окон все стекла; мерседес превратился в огненный шар, завыли сигналы тревоги других машин, припаркованных на улице. Ноги подо мной подломились. На галерее раздались чьи-то шаги.
- Матеотти?
Ответа не было. И тут же меня охватил страх. А вдруг Матеотти участвовал в заговоре? А вдруг моим противником был ни кто иной, как Вольпони? С пистолетом в руке и с сумкой с ноутбуком на плече я выскочил из квартиры и помчался в сторону неосвещенной лестницы.
- Стой, Альдо, не будь идиотом, - прозвучало за спиной и откуда-то сверху. Я узнал голос Вольпони. Откуда он тут взялся? Понятно! Заговор! Заговор!!!
Я только прибавил скорости. И вот я уже на первом этаже. Тут в двери со стороны двора увидал мускулистую фигуру. Да, это был Матеотти. Он протягивал ко мне руку… Дорогу загораживает! Я выпалил: раз, два, продолжая стрелять, пока обойма не опустела.
Чувство реальности я утратил совершенно. Внезапно на всей лестничной клетке загорелись лампы, я увидал, что во всех дверях стоят люди и приглядываются, как я стреляю в не известного им человека. Тут я пришел в себя. Лишь теперь до меня дошло, что в руках у охранника никакого оружия не было. Боже милосердный, я убил безоружного! Я повернулся в сторону сбегавшего вниз Вольпони. Только Сандро не бежал, он летел! Некая сила выкинула его за перила площадки четвертого этажа. Размахивая руками, он рухнул прямиком на фигуру гнома, стоявшую посреди фойе. Удар. Вопль вице-министра затих. Сделалось тихо. Я видел взгляды людей, пригвождающих меня к месту, они были полны немого обвинения.
- Убийца! – пронзительно взвизгнула растрепанная старушка.
Больше я ждать не стал и выскочил на улицу. Толпа прохожих собралась возле взорванного автомобиля. Под моими ногами валялась искривленная в гримасе отчаяния оторванная голова тряпичного паяца со стойки. Я пнул ее и побежал против течения набегавших отовсюду зевак. Выли сигналы карет скорой помощи, в любой момент можно было ожидать полицию. На Венецианской Лестнице я притормозил и спрятал пистолет в карман. На плече все так же была сумка с ноутбуком. Похоже, я схватил ее инстинктивно… На Виа Фаринария я вмешался в толпу туристов, пригладил волосы… В своем светлом костюме я походил на серьезного бизнесмена, который как раз вырвался из офиса на ранний ленч.
Тысячи мыслей пролетали через голову. Лишь сейчас до меня дошло, что я очутился в самой настоящей западне. Моника в госпитале. Торрезе и Вольпони мертвы, Матеотти в приступе паники застрелил я сам. И теперь-то я никогда не узнаю, были ли у него в отношении меня какие-то нехорошие намерения.
- Только спокойно, только спокойно, - повторял я сам себе. – Какой-нибудь выход найдем. Врачи докажут, что ты был в состоянии шока, пережил очередное покушение на себя, опять же, был свидетелем страшного убийства…
Из телефонной будки на Пьяцца дели Тритони я позвонил Проди.
- Привет, Анджело, все немного затянулось, - говорил я максимально спокойным голосом. – Можешь дать трубку Липпи?
- Его еще нет, - сказал Проди, - зато уже прибыл тот профессор… как его там… Кардуччи, сейчас приглашу его к телефону.
- Так ведь Сальваторе с тобой, - сообщил Уго, удивившись моему вопросу.
- Со мной? Откуда такое предположение?
- Звонил твой водитель, Франко, так он сказал, что они вместе едут за тобой в Старый Город. Или что-то случилось? – в голосе Кардуччи можно было слышать беспокойство.
Я не знал, рассказывать ли ему о том, что произошло, как в друг в перспективе улицы увидел тормозящие с писком шин две полицейские машины, заблокировавшие всяческое движение. А быстро как действуют, подумал я, как будто их предупредили, будто бы что-то может произойти. В любой момент они могут подъехать и к Проди.
- Дай-ка мне еще адвоката, Уго, - попросил я, когда же Проди взял трубку, я выпалил: - Все еще хуже, чем просто паршиво. Если тебе дорога жизнь, никому не вспоминай про завещание. У нас была встреча по вопросу какого-то подарка Монике…
Тот еще пытался что-то сказать, но я уже повесил трубку. Полицейские, вышедшие из патрульных машин, направились вверх по улочке, систематически заглядывая во все магазины и лавчонки. Стараясь обуздать нарастающую панику, я вышел из будки и повернулся к ним спиной. Передо мной был фонтан, группка осматривающих старый город монашек, пара пенсионеров, играющих на лавке в шахматы. И мощного телом нищего, изображающего из себя слепца, надписью на картонке: "Ветеран Иностранного Легиона просит вспомоществования".
Со стороны улочек, идущих вверх, тоже доносились сирены патрульных автомобилей. Петля стискивалась. Выхода у меня не было. Я подошел к нищему. Тот повернул ко мне лицо в черных очках.
- Помоги мне, Тото. Пожалуйста, - сказал я, стаскивая с запястья золотой "патек".
ЧАСТЬ IV
17. Подземелья Розеттины
С огромным трудом работающие дворники не справляются с удалением потоков воды, заливающих лобовое стекло. Вижу руки, судорожно стиснутые на руле. Ежесекундно резкие движения: тормоз, газ, тормоз, газ… (Я за рулем? Погодите! Но ведь у меня даже нет прав!) Нечто кричит внутри меня: "Притормози, придурок!" Очередной поворот, снижаю скорость до тридцати километров в час. Все равно – очень быстро. Машина чуть ли не трется о барьер. А внизу обрыв. Слава Богу, у меня имеется ABS (А что это такое. ABS?). Снова вверх… В проливном дожде мало чего видать, какие-то ровные зеленые кустики. Виноградники! Где же я нахожусь? Сноп света из фар вылавливает дорожную таблицу: "Анзер – 7 км. Кран-Монтана – 24 км". Кран-Монтана. Черт подери, так я в Швейцарии? Чего это меня сюда занесло?
Отрезок прямой дороги. Резко ускоряюсь. Слышу какой-то голос, повторяющий: "Ты должен быть на рассвете!". Сколько там еще до рассвета…
И тут на обочине вырастает какая-то фигура в капюшоне. Ч-ч-черт! Вжимаю педаль тормоза до пола. Удалось. Фигура махает руками. С дороги! Никогда не подсаживаю едущих автостопом. Чувствую, что у меня трясутся руки. Голова лопается. Похоже, я ехал целую ночь. Дождь прекращается, включаю дальний свет. Фары через пару витков серпантина вылавливают в темноте светлую фигуру. Высокий, горбящийся мужчина в белом. Идет медленно. На плече несет крест. Я что, сплю? Рууки отпускают руль, машина срезает поворот…
Я просыпаюсь. Вокруг смрадный мрак. Где это я? Слышу низкое похрапывание и высокое воркование. Понятно, это Тото и Рико. Я что, отскочил назад во времени? Или на очередном уровне сна? Щиплю себе руку, возвращается порция воспоминаний: небольшая площадь с фонтаном Трех Тритонов. Моя просьба. Молниеносное решение Тото. Он сбрасывает черные очки и, ковыляя на одной ноге (вторая искусно подвязана, чтобы походить на культю), тащит меня в ближайший храм. Через неф и ризницу попадаем на внутренний дворик, правда, там дорогу нам преграждает закрытая калитка, но у готового ко всему Тото к ней имеется ключ. Канализационный колодец… Несколько секунд моего колебания. Тото глядит на мой замечательный светлый костюм.
- Оно и правда, жаль пачкать такой пафосный сьют, - бурчит он себе под нос. – За него мы могли бы иметь курево и бухло до самой осени.
Голоса и стук сапог доносятся уже изнутри церкви. Мусора!
- Нечего жалеть костюмы, когда за человеком идет погоня, - произносит тираду нищий и вскакивает в колодец. Я за ним. Засовываем за собой крышку. Тото зажигает фонарик. Какое-то время мы бодро маршируем. Поворот, перекресток. Нищий сопит от усилия и не реагирует, когда я пытаюсь его поблагодарить. Похоже, со мной он разговаривать не желает. Где-то через час похода останавливаемся. Тото указывает на ступеньки, ведущие наверх.
- Так ты попадешь на парковку супермаркета, - без лишних слов инструктирует он меня.
- Но я не могу выйти. За мной гонятся.
- А мне на это насрать, - отвечает Тото. – Нам известно, кто ты такой, синьор Гурбиани! Самая паршивая свинья из всех тех, - указывает он головой наверх, - что превращают мир в преисподнюю.
- Так я же не Гурбиани, я…
- Вот не пизди! Вали отсюда.
- Но ведь час назад ты мне помог.
Тото вытаскивает из-за пазухи "патек", освещает его лучом фонарика.
- Красивые часики.
- Ладно, предлагаю бизнес. Я могу сделать так, что ты станешь богат. Никогда не будешь ни в чем нуждаться. Бросишь эту жизнь.
- А тебе известно, хочу ли я этого? – спрашивает он меня. – А вдруг я уже был богатым. Это перед тем, как моя старуха ушла от меня, а я начал пить… Теперь-то я, по крайней мере, свободен.
- Так что, ты мне не поможешь?
- Разве я сказал, что не помогу. Только ведь нас трое.
- Нормально.
- А что ты можешь нам дать?
Он освещает меня, я же перетряхиваю карманы, вытаскиваю бумажник. Наличности немного. Но тут взгляд нищего вылавливает блестящий пластиковый прямоугольник. Тото изумленно свистит.
- Бриллиантовая карта Евробанка. Блин горелый! О чем-то таком я слышал только в легендах. Так ты и вправду король.
- Я никогда ею не пользовался, - откровенно признаюсь я. – И, честное слово, даже не знаю, что она мне дает.
- Не знаешь? – Тото с подозрением присматривается ко мне. – Э-эх, богачи. Все дает. А она не заблокирована?
Карта не была заблокирована. Это я проверил, выбравшись наверх. В ювелирном магазине я наделал покупок миллиона на два евро. Крутящиеся вокруг меня продавцы не видели во всем этом ничего подозрительного. Из средств массовой информации лицо Гурбиани, современного набоба, им было известно. Один только продавец, с чувствительным обонянием, подозрительно обнюхивал меня, чувствуя, похоже, вонь канализации. Меня это достало.
- Каждому случается пернуть, - заявил я, глядя ему прямо в глаза.
Направляясь к лифтам, мне нужно было пройти мимо витрины с телевизорами. Я сразу же почувствовал себя будто в кабинете с зеркалами. Со всех экранов на меня глядело лицо Гурбиани. А диктор возбужденно рассказывал о преступлении, случившемся в Старом голоде. Я молниеносно свернул к лестнице, ведущей в гаражи.
Голову давит твердая сумка с компьютером. Не слишком пригодный в качестве подушки предмет. Я и не знаю толком, а зачем я вообще с ним таскаюсь. Код доступа к секретным файлам мне все так же не известен. Но в данный момент, этот ноутбук – это единственное связующее звено с личностью, которой я был в течение последней недели. Ну, возможно, еще распирающие мои карманы драгоценности. Я пытаюсь заснуть. Только бы до утра. Будем надеяться, что небольшая группа нищих, принявших меня в свое убежище рядом с теплоэлектростанцией, не надумает, что если отвернуть мне голову, то без проблем можно забрать все.
И насколько они мне поверили?
Когда мы встретились с Рикко, тот ощетинился, словно кот, увидевший пса.
- Пошел вон, дерьмо, - прохрипел он, игнорируя мою протянутую руку. - Вали отсюда нахрен или я выпущу тебе кишки. Это из-за тебя и тебе подобных я здесь.
- Я хочу это исправить.
- Пиздеж!
- Мы можем заключить с ним сделку, - Тото показывает полученные от меня бриллиантовые сережки. – Он желает заплатить за то, что мы его спрячем.
- Давай лучше пришьем его…
- Спокуха, ragazzi, не надо дергаться! – Из темноты появляется Лино, и нищие затихают, увидав своего гуру. – Ну, если он желает заключить с нами сделку…
- А ему хватит бабла расплатиться со всеми теми, которых он сам и его СМИ уничтожили, которым промыли мозги и лишили идеалов.
- Я думаю над этим, - импульсивно ответил я.
- И как ты хочешь это сделать? Раздашь все имущество, словно какой-нибудь святой?
- Возможно, я начну с того, что перестану травить мир продуктами SGC, меняя программную линию.
- Шутишь, парень?
- Говорю абсолютно серьезно.
- Не верю. – Глаза Рикко излучали ненависть. – С каких это делов, после трех десятков лет распространения разврата Альдо Гурбиани превратился в святого Франциска?
- Может быть потому, что я не Гурбиани.
- Заливаешь! – Все трое одновременно вскакивают. – И кто же ты тогда, черт подери?
Я задумался, следует ли рассказать им историю про Деросси. Сдерживаюсь – ведь не поверят. Тут же выдумываю историю про клона, пару дней назад я что-то читал по этой теме. Выдаю версию, что пятнадцать лет назад Гурбиани, желая обеспечить себе бессмертие, приказал провести клонирование собственной личности.
- И мы должны поверить, что тебе всего пятнадцать лет, пиздежник?
- А что, никто из вас не слышал, что клонированное существо чуть ли не молниеносно доходит до возраста прототипа?
- Ну ладно, перебивает меня Лино. – А потом?
- А потом так же молниеносно стареет. Так что у меня, самое большее, лет пять.
- Кислое дело. - Впервые в их голосе я чувствую какое-то сочувствие. – Теперь понятно, почему ты все хочешь повернуть назад. А что с настоящим Гурбиани?
- Его убили. Бросили в Колодец Проклятых.
- А ты сам, карась, откуда взялся?
- Альдо вызвал меня на парад во время Festa d'Amore. Я сопровождал его, загримированный под негра-невольника. И не отступал от него ни на шаг. В определенный момент он желал смыться с праздника, я же, после снятия грима, должен был заменять его до утра. Я сам был свидетелем похищения и убийства. Все видел, когда же эти фанатики избавились от тела, мне пришло в голову заменить Альдо…
- Блин горелый!
- И ведь все могло пройти как по маслу; у нас с Альдо абсолютно одинаковые родинки, папиллярные линии, голос… Для храбрости залил в себя с поллитра, избавился от одежды и грима. Ну, немного поцарапал лицо и лоб камнями колодца. И, похоже, головой бил слишком усердно, потому что, когда вас встретил, сам не знал, на каком живу свете.
- Ну, блин, и хохма! – бормочет Рикко.
- Единственное, чего я не принял во внимание, что заговор против Гурбиани возник в его ближайшем окружении. Что "друзья" не допустят его воскрешения. Поначалу они пытались переработать меня на вторсырье, потом ликвидировать… Теперь же впутали меня в убийство. И я один-одинешенек. Кроме вас у меня никого нет.
- Спокуха, дружбан. – Я чувствую на плече лапищу Лино. – Быть может, что-нибудь удастся и придумать. Тем более, если все, что ты нам тут рассказал – правда.
- Вы мне не верите?
- Ведь всего ты нам, похоже, и не говоришь. Например, кто твой основной враг, и как ты собираешься с ним выиграть?
- Сам не знаю.
На рассвете Лино выползает на разведку. Вернувшись, бросает на ящик, заменяющий шкафчик, еще связанную стопку утренних газет, которые он свистнул возле какого-то киоска.
- Все тебя разыскивают, паря, - с уважительной ноткой говорит он. – А кстати, хлопец, почему ты в первый раз не сказал нам, что ты только двойник Гурбиани?
- А разве тогда вы бы мне помогли?
- На верху ты просто шмат паршивой свинюки, на которую не стоит даже плюнуть, - морализаторским тоном заявляет Рикко. – А здесь ты всего лишь человек, который удирает, один из нас.
Заголовки всех газет сообщали о моем преступлении. Имелись фотографии, биографические заметки, комментарии. Несмотря на различия в названиях, тон статей совпадал. Медийный магнат в результате переживаний, перенесенных в ходе недавнего похищения, впал в параноидальное состояние, что очевидцы (в этом месте практически все издания поместили снимки лестничной клетки на Виа Эмилия с накрытыми простынками телами Вольпони и Матеотти) подтверждают, и в приступе безумия застрелил безоружного служащего полиции и стал причиной смерти нескольких человек, в том числе, вице-министра юстиции, который пытался ему помешать. Ни слова о попытке покушения на меня, об убийстве Закса, о нападении на меня в Монтана Росса. Сообщение о подрыве моего мерседеса помещено только в рубрике городских новостей: речь идет об автомобиле, в котором, в результате взрыва паров бензина умер один человек. Даже инициалов Луки Торрезе не поместили.
Все сообщения заканчиваются описанием моей внешности и обращением к общественности с просьбой помочь схватить опасного безумца.
- Врут, - с трудом удерживаясь от того, чтобы не порвать газетенку в клочья, кричу я . – Здесь нет ни слова правды.
- А чего же ты ожидал, - усмехается Рикко. – Что, веришь в гарантируемую конституцией свободу прессы?
- Я верю в журналистскую жадность к деньгам. Ведь моя афера для привыкших к сплетням средств массовой информации – громадная лафа, возможность увеличить тиражи и заработать еще большие деньги. Так что логично предположить, что одни должны писать так, а другие иначе. Откуда в таком случае такое единомыслие? Почему все пишут одинаково лживо?
- Похоже, дело тут в значительно больших бабках, - предполагает Лино.
- Но ведь эта вот газета – это правительственный орган, а вторая – это из концерна Хайнеманна…
- Быть может, в твоем конкретном случае гешефты власти, финансистов и мафии совпадают.
- Все они одна шайка-лейка, - сплевывает Лино. – Одни только мы находимся вне этого дерьма, сидя в дерьме по шею. А теперь, скажи-ка честно, зачем ты пришил всех тех типов?...
Голова трещит, вечером мы выпили банку медицинского спирта, едва-едва разведя просроченным соком. Душа болит еще сильнее. Я вернулся к исходному пункту – снова являясь добычей, на которую ведется охота. И я не знаю, что делать. Очередные вылазки, осуществляемые моими приятелями-клошарами, приносят только плохие вести. Полиция следит за моей находящейся в госпитале супругой. Они же не отступают от Проди. На чрезвычайном заседании наблюдательный совет SGC передал полноту принятия решений Управляющей Группе, и это решение должно положить конец борьбе фракций; триумвират образуют: Розенкранц, Бьянки и Кардуччи.
А вот в это последнее имя я никак не могу поверить. Кардуччи, на которого вместе с Сальваторе мы возлагали столько надежд… Понятное дело, теперь уже не имеет особого значения купили ли его, запугали или же он всегда работал на два фронта. Кардуччи – это четкий сигнал для меня (никаких мечтаний, Альдо!) и вместе с тем – важная информация. Приготовления к внедрению "Психе" ведутся на полную катушку. Если бы я еще знал, в чем суть этой программы…
Я чувствовал, что он представляет собой ключ к пониманию всего, что произошло в SGC. Уже начинала формироваться наиболее вероятная концепция течения событий, хотя мне в этой конструкции не хватало пары-тройки существенных элементов. Понятное дело, вся штука была в "Психе". По непонятной причине, совершенно неожиданно, возвратившись из своего таинственного путешествия в Швейцарию, Гурбиани меняет отношение к своему любимому предприятию. Похоже, именно это и вызвало принятие решения о его отстранении. Было решено воспользоваться христианскими фундаменталистами, чтобы все выглядело правдоподобно. А тут Альдо взял и вернулся. Какая же паника должна была начаться среди заговорщиков. Было решено ликвидировать его еще раз, порезав на трансплантаты. Не удалось. Альдо выжил и вернулся на давнее место. Правда, с огромными дырами в памяти… Только ведь через какое-то время он мог все вспомнить. И что тогда? Так, события складывались в логическую последовательность. Вот только мне, может, не нужно было искать небольшую группку заговорщиков: против Гурбиани могли быть все – обе фракции SGC, Амальфиани, коррумпированная юстиция. Тех немногих, у которых было иное мнение – просто ликвидировали.
Если моя гипотеза была правдивой, ситуация представлялась кисло. Предыдущий план рухнул. Теперь, даже если бы я и желал публично представить реальный ход событий, их бы признали выдумками человека слегка не в себе. Если бы же я составил завещание, оно бы не имело никакой юридической силы.
Целый день я не высовывал носа из подземелий, анализировал открытые файлы компьютера, время от времени, с помощью различнейших паролей добраться до засекреченной информации. И ничего! За то без каких-либо сложностей я мог через спутник подключиться к Интернету, попытаться заблокировать счета SGC или же объявить всем свою собственную версию событий, но мне не хотелось рисковать тем, что могут вычислить мое месторасположение.
Несмотря на все мои попытки, мне так и не удалось выяснить, что же случилось с Липпи. Он был мертв? Его похитили? Сбежал? Мои желающие помочь нищие узнали от соседей, что в последнюю ночь две машины по перевозке мебели вывозили имущество Сальваторе, а такси забрало его жену и детей в аэропорт. Выходит, он сбежал.
Некоторые надежды я полагал на встречу с кем-нибудь из троицы моих похитителей. В особенности я рассчитывал на хорвата. Лино, располагавший собственной сетью информаторов, выяснил, что тот по вечерам бывает в ирландском пабе неподалеку от кладбища.
И я решил нанести ему визит. После наступления темноты, в безупречно подобранных лохмотьях я добрался до Порто Неро. Там нужно было подождать. Рикко, которому удалось добыть более-менее порядочный костюм, зашел в бар.
Вук Иванович сидел в одиночестве на высоком табурете и пил пиво. Рядом на стойке уже были две пустые кружки. Наверное, хорват с кем-то договорился встретиться, потому что время от времени поглядывал на часы.
Рикко занял место на табурете рядом с ним.
- Слышь, парень, кое-кто желает с тобой переговорить, - бесцеремонно буркнул он хорвату в лицо и отпил гиннеса прямиком из кружки Вука. – Он за углом ждет.
- Кто?
- Она не представилась. Ничего такая девица. Блондинка.
Хорват заглотнул крючок и вышел, не допив свое пиво.
Рикко повел его в глубину улочки. Там его уже ожидал Лино с моим стволом.
- Surprise, - сказал он.
Вук хотел было повернуть назад, но дорогу ему заступил здоровенный Тото.
- Вам нужны деньги, - проблеял парень. – Я без бабла, мне только обещали заплатить.
- Я же, парень, всего лишь сказал, что кто-то желает с тобой переговорить, - разъяснил Рикко. – Он с другой стороны ждет, - указал он на кладбищенскую ограду.
В глазах Ивановича блеснула тревога.
- Что вы от меня хотите, я ничего не знаю…
Лино снял с предохранителя оружие, в котором, кстати, не было ни единого патрона. Затем Рикко, встав на спину Тото, забрался на стену. Он вытащил наверх белого, словно мел, хорвата, затем Лино. Тото даже и не пытался повторить их номер. Я ждал всех их возле гробницы Барцуоли. Парень, несмотря на все лохмотья, узнал меня сразу.
- Это вы? – промямлил он.
- Я же обещал, что мы когда-нибудь еще встретимся. Вот и случай представился.
- Но чего вы хотите знать, я ведь все рассказал в полиции.
- Не все. Ты ведь не сообщил имени заказчика.
- Это было уже самостоятельной задумкой нашей ячейки.
- Чушь. Никакие вы не боевики! До сих пор вы всего лишь листовки разбрасывали. И заказ должен был поступить от кого-то снаружи. Так что не пудри мне мохги и говори. Кто заказал вам мое похищение? Кто разработал план? Кто заплатил?
Парень молчал.
- Слушай, пацан, - сказал я, беря его за борта пиджака. – Я очутился в безвыходной ситуации, так что на мою доброту не рассчитывай. Например, могу закрыть тебя в этой вот гробнице, чтобы ты остался здесь до самого Страшного Суда. Или же кто-нибудь из моих приятелей продемонстрирует на твоей шейке принцип действия гарроты.
В этот самый момент Лино вытянул петлю из проволоки и многозначительно махнул ею.
- Я… я… я его не знаю! – выдавил из себя парень.
- Это Раймонд Пристль?
- Да вы с ума сошли, я слишком маленькая сошка, чтобы контактировать с Пророком. Я его лично никогда не видел. Опять же, его учение исключает причинение смерти. Крестосиние – это же слабаки. Впрочем, мы ведь изображали из себя фундаменталистов только для прикола…
- Тогда вернемся к вопросу: Кто и когда вас нанял?
- В самый день Festa d'Amore. За три часа до того, как… Ну, вы понимаете.
- Кто это сделал?
- Я же сказал, что его не знал. Перед тем видел только раз, он искал тринадцатилетку, чтобы побаловаться, мы устроили ему Николь. Низкий такой, плотный самец, смуглая рожа.
- Этот? – из заранее подготовленных материалов я вытащил портретик шофера Франко.
- Si, signore.
- Ты рассказал об этом Вольпони на допросе…
- Вовсе даже нет. Даже когда мы уже раскололись, все время я держался версии, что это наша собственная инициатива. Тот мужик обещал, что если даже нас и зацапают, он нас быстро вытащит. Но если начнем сыпать, то вскоре очутимся на дне лагуны.
- Но сейчас ведь ты сыплешь…
- Если я ничего не скажу, вы меня пришьете, а тому типу еще нужно узнать, что я что-то говорил. – Это звучало логично. – Если бы там, в пабе, вы подождали, он уже был бы у вас, - прибавил Вук по собственной инициативе.
- Ты должен был встретиться с Франко?
- Он должен был принести остальные бабки. Черрт… - Он прервал сообщение, наклонился, и его начало рвать. Еще немного, и парня начало трясти. – Боже, как больно… - стонал Иванович. – У пива был такой странный вкус. Спасите!
Сотрясаемый конвульсиями, хорват упал на землю. Я присел рядом с ним и прижал пальцы к артерии. Парень был мертв.
- Похоже, остаток платы он уже получил, - вздохнул я и поглядел на Рикко, который перепугано держался за живот. – А с тобой что…
- Отпил глоток того пива. Святая Дева, спаси!
- У тебя что-то болит?
- Еще нет.
- Тут рядом есть приют для бездомных, - вмешался Лино. – Подойди к ним, пускай тебе сделают промывание желудка…
Издали послышался скрежет открываемых ворот. Потом мы увидели свет фонариков.
- Это за нами пришли, - заныл Рикко. – Валим отсюда.
Мы бросили остывающее тело Вука и помчались в глубину кладбища. К счастью, оно было обширным, ну а нищие знали его словно свои пять пальцев. Где-то на средине дороги Рикко начал стонать.
- Вот и меня зацепило… Боже, оставьте меня. Дайте сдохнуть здесь…
- А ты сам дал бы такое сделать?
Я закинул его себе на плечо, и так мы добежали до ограды. Еще несколько усилий, и вот мы уже на стоянке приюта.
- Давайте я его туда занесу, - предложил Лино. – А ты бери какую-нибудь машину и вали. Встретимся в нашей берлоге.
Я действовал словно в трансе. У третьей машины, в которые я пытался проникнуть, было неплотно поднято дверное стекло. Никаких устройств против взлома тоже, вроде бы как, не было. Я замкнул провода зажигания. Двигатель завелся. Я выехал из плотно заставленной стоянки, не зацепив ни единого автомобиля. Еще мгновение, и я уже был в потоке машин на Виа Иллюминационе. Я спокойно менял полосы движения, останавливался на светофорах. И только лишь когда добрался до теплоэлектростанции, до меня дошло, что я совершенно не умею водить машин.
- Ты не можешь оставаться с нами, - сказал Лино, когда мы вновь встретились где-то через час. До полного набора не хватало лишь Рикко – врач задержал его в приюте. К счастью, порция яда оказалась слишком небольшой, чтобы его убить.
- Мусора уже знают, что мы помогаем тебе. – Тото беспомощно разложил руки. – Они прочешут все норы и канализацию. Это как четыре года назад, когда разыскивали "Вампира с бритвой".
- Так мне что, сдаться им?
- Спокуха! – рявкнул Лино. – Я знаю одного мужика, который подделывает документы, ну и при случае занимается тем, что берет барахло в залог. За одну из твоих цацек будет у тебя и новая личность, еще и на карманные расходы останется. Из страны сорвешься, вот тебя и не достанут.
- Мне еще необходимо закончить пару дел на месте.
- А кто тебе запрещает вернуться, когда шум притихнет? Наш аппарат насилия – самый слабый и самый коррумпированный во всей объединенной Европе. Ну, разве что за исключением стран Восточной Европы.
- И куда, по-вашему, я должен сбежать?
- Лично я бы мотал в Швейцарию, - не раздумывая выпалил Тото. – Это последний более-менее нормальный капиталистический островок в безграничном, объединенном море еврократии.
В голове прозвенел резкий звоночек: Швейцария? Было ли это случайностью, то ли сама судьба направляла меня туда, где я могу встретить Раймонда Пристля и, возможно, найти ключ к загадке Альдо Гурбиани?
18. Еще одна личность
А на рассвете гончие пошли по следу. Жители Розеттины в один голос утверждали, что такой облавы не видели со времен поисков в 1945 году сокровищ, спрятанных зятем Муссолини. С тем только, что никаких сокровищ тогда не нашли, но вот на этот раз… Несколько тысяч полицейских перекрыло все ходы в канализационные подземелья, а специализированные патрули, снабженные собаками, тепловыми детекторами и ноктовизорами начали обыскивать лабиринт под городом. Задержали несколько сотен бездомных, алкоголиков, нищих и наркоманов. Полицейские информаторы двоились и троились, пытаясь хоть что-то узнать о Гурбиани и людях, предоставляющих ему помощь. Были объявлены высокие награды за любое указание, пускай дажеи поданное анонимно. После проверки такой информации сексот должен был получить индивидуальный код, позволяющий при помощи самой обыкновенной телефонной карточки снять из банкомата тысячу евро премии. Для бродяг и городских низов это было целым состоянием. А кроме того, никто ведь Гурбиани не любил, и если бы кто только мог, то сдал бы его с потрохами только ради удовольствия.
Мышь не имела права выскользнуть из Розеттины.
Около семи утра Лино Павоне (как оказалось, у бородача все же имелась какая-то фамилия) прослушал свежие новости по транзисторному приемнику, после чего переключился на полицейские частоты.
- Они повсюду, ищейки! – буркнул он. – Привлекли помощь даже из других городов.
- Тогда нам хана, - простонал Тото. – Мы не выберемся ни верхом, ни низом.
- Секундочку! Один шанс все же имеется. Электростанция располагается ближе к границе города, поиски наверняка начнутся со Старого Города, потом прочешут весь центр. Прежде, чем они доберутся сюда, пройдет какое-то время.
- Ну и что мы можем сделать, пытаться пробиться? – спросил я.
- Это в самом крайнем случае. У меня есть другой план. Я знаю одного из здешних охранников, когда-то мы крутили кое-какие делишки; деньги он любит сильнее мамы родной.
- И что нам охранник? Даже если он и выпустит нас на открытую территорию, там нас схватят еще быстрее.
- Тут дело не в том, чтобы выпустил, а чтобы дал доступ к складам.
- И чего такого на этих складах имеется? – заинтересовался я.
Лино, который с какого-то времени позабыл про нищенский сленг, представил мне свой план. Тот был совершенно сумасшедшим, но лучшего мы придумать не могли.
- Бегите сами. Я не справлюсь, - честно признал Тото.
- А я тебя во внимание и не принимал, - сказал Лино. – Когда мы уже отсюда выберемся, ты пройдешь по каналам как можно дальше отсюда и объявишься у карабинеров с информацией. Признаешься, что это ты вывел Альдо у Фонтана Тритонов, откроешь все убежища, после чего вспомнишь даже про электростанцию. Но, не забудь: ты понятия не имел, кому помогаешь. Сообщи, что если бы знал, что это Гурбиани, первым бы вонзил ему перо в брюхо.
Следует сказать, что в течение последних дней, я ужасно зауважал нашего бородача. В отличие от бомжей, которых на социальное дно столкнули алкоголизм и наркомания, Лино Павоне был, по его собственным словам, "нищим по выбору". Его жизненная философия не позволяла ему работать, а моральное чувство – воровать, ну, разве что за исключением мелочей, необходимых для выживания, таких как телевизоры, аудио- и видеомагнитофоны или фисташки, которыми он охотнее всего и питался. Приводом всех его действий, утверждал он, была неудержимая любовь к свободе. Впервые он спрятался в канализационной сети, сбегая от призыва в армию, затем – опасаясь ареста. Будучи превосходным компьютерным хакером, он взломал доступ в Европейский Центр НАТО и запустил "красную тревогу", приведя в состояние готовности ядерные силы по обеим сторонам тогда еще существующего Железного Занавеса.
- Я был молодым, глупым, считал, что таким образом покажу всем бессмысленность гонки вооружений.
После этого номера он скрывался еще пару лет, после чего даже собирался вернуться к нормальной жизни. Только уже не мог. Выдержал год в браке, потом у него было собственное судно на Сардинии, на котором он возил туристов, жаждавших познакомиться с глубоководным дайвингом. Вот только стабилизация была не для него. Вторая жена его бросила, сообщник обворовал, судебный исполнитель забрал корыто, а от пацифизма излечили письма брата, который пал, служа в качестве миротворца в Боснии. Оказалось, что у жизни клошара не было альтернативы. В подземельях Розеттины он был бесспорным моральным авторитетом среди подобных ему лузеров. И здесь был покой.
Для реализации плана нужно было ждать вечера. Затем пришлось пожертвовать очередную бриллиантовую цацку, получив взамен два набора оборудования для подводного плавания: комбинезоны, маски, ласты, пояса с балластом, баллоны, фонари, регуляторы давления и манометры, даже компьютеры с компасом. В электростанции это оснащение применялось для сезонных обследований основания плотины.
- Так я же никогда ни с чем подобным не плавал! – перепугано воскликнул я.
- Это проще, чем подниматься по лестнице, и уж наверняка – легче, - успокаивал меня Павоне. – У меня только один вопрос: ты клаустрофобией не страдаешь?
- Наверное, нет…
- Боюсь, что все же начнешь.
Тренировки на сухую заняли около получаса. Потом мы попрощались с Тото.
- Вы с катушек съехали, ragazzi, - сопел тот. – Я бы ни за что в жизни так не рискнул.
- А другой выход у нас имеется?
- А не было бы лучше переплыть водосборник за плотиной?
- Берега слишком крутые, а по берегам патрули прямо-таки роятся.
Еще раз Лино разложил помятую карту.
- В пятистах метрах за электростанцией мы добираемся до ливневого коллектора; он соединяется переливным каналом со сточным коллектором Монреале. Таким образом, мы выходим из акватории Фьюме деи Фьори.
- И что дальше? – вспотев от эмоций, спросил я.
- Нам нужно добраться до нового коллектора. Это труда диаметром девяносто пять сантиметров и длиной около трех километров. Через нее выводятся стоки из Нуово Монтреале в очистные сооружения на берегу Фьюме деи Люмини. Если мы туда доберемся – значит мы выиграли. Ты, Тото, дашь наколку Фариначчи, чтобы все уже было приготовлено, а как только мы выберемся, я позвоню ему на мобильный.
- Дай Боже, чтобы вам все удалось.
- Еще одно, - сказал я, вручая ему свою сумку. – Было бы лучше, если бы ты до моего возвращения спрятал этот ноутбук, мне бы не хотелось, чтобы он попал в ненужные руки.
- Все будет, как в банке!
В течение дня мы с Лино капитально поменяли внешность. С помощью Тото мы оба постриглись налысо. При чем, "нищий по выбору" пожертвовал и своей импозантной бородой; я же остался с трехдневной щетиной, надеясь на то, что даже маленькая бородка затруднит мою идентификацию.
Вышли мы в одиннадцать вечера. Поскольку я уже успел немного привыкнуть к царящей вони и закалиться для путешествий по подземельям, первый отрезок пути не доставил мне сложностей. Около часа ночи мы дошли до громадного резервуара. Овальное помещение заполняла дурно пахнущая жижа.
- Ну, и где твоя труба? – спросил я.
- Где-то там. – Павоне указал на противоположную сторону бассейна. – Как мне кажется, где-то метрах в трех ниже поверхности; найдем. Я поплыву первым. Помни, ныряй спокойно, воздух набирай ровным, глубоким дыханием.
- Воздуха нам точно хватит?
- Абсолютно. Это погружение на малую глубину; в хорошие времена я на одном баллоне мог выдержать полтора часа. Самое важное, что мы плывем по течению, это должно нам помогать. Да, еще одно; повернуть ты можешь только после первых паре десятков метров – в трубе повернуть не удастся.
Я кивнул.
- Знаки помнишь? – Он соединил большой палец с указательным, образуя кружок. – Это значит, что все в порядке. Вот так… - тут он ударил краем ладони по второй раскрытой ладони, - осталась половина запаса воздуха. Вот так… - Лино стиснул кулак, - давление оставшегося воздуха сто бар. А вот так… - Павоне провел ребром ладони по горлу, - нечем дышать.
- И что тогда?
- Тогда будем беспокоиться. Но я не думаю, чтобы до такого дошло. Ага, в случае каких-то других проблем, можешь стучать фонариком по баллону. Пока же что – разминка.
Мы надели оснащение и пояса с балластом, затем ласты с масками и прыгнули в жижу.
Меня окутал непроницаемый мрак, пришлось зажечь фонарь. И все равно, ничего не было видно. Я повернулся и увидел маячащие передо мной оранжевые ласты Лино. Жижа была холодная и густая. О ее составе я предпочитал не думать. Мой проводник доплыл до стенки, осветил ее фонарем, затем свернул направо. А я снижался и уже почувствовал нарастающую вибрацию в ушах. В соответствии с инструкцией, пошевелил нижней челюстью с целью выравнивания разницы давлений. Ничего. Я зажал пальцами нос, пытая продуть его. Напрасно. Только лишь после того, как я сглотнул слюну, помогло. Давление выровнялось. К сожалению, я продолжал опускаться. Слишком я был тяжелый. Что делать? Я нервно разыскивал клапан, пропускающий воздух через спасательный жилет, но никак не мог его найти. В отчаянии, я задергал ластами. Выплыть наверх. Наверх! Лино появился рядом со мной через пару секунд. Он добавил воздуха в жилет и потянул меня наверх. Через мгновение мы уже находились у входного отверстия. Боже! Ну совершенно будто лаз в бочку! После того мы выплыли на поверхность. Я сбросил маску и жадно заглатывал воздух.
- Спокуха! – сказал Лино. – Все пошло нормально. Это была разминка. Через три минуты отправляемся. Разве что ты откажешься…
- Плыву, - решительно заявил я.
- Теперь уже сложностей с обнаружением впуска не было. Сначала Павоне, а потом и я заплыли в трубу. Я напрягся, максимально вытянул руки вперед и старался работать ластами ритмично. Поначалу все шло ужасно; то я скользил животом о осклизлому дну, то баллоны цеплялись за выступы в соединениях трубы. С каждым метром я чувствовал углубляющееся чувство тревоги. Ты еще можешь повернуть! – колотилось в голове. Нет! Я прикрыл глаза, стараясь думать о чем-нибудь приятном.
Я представил Пруд Русалок и свою встречу с Беатриче… Немного лучше. Равномерные движения выпрямленных ног. К сожалению, с закрытыми глазами я зарылся с головой в ил. Я поднял веки… Огонька моего проводника практически не было видно. Нужно поспешить. По счастью, все получалось уже лучше: подкачивая и выпуская воздух в жилет, я добился такого желанного равновесия.
А может нам и удастся?
На дисплее часов я отметил, что прошло полчаса. Манометр показывал, что расходована половина запаса воздуха – я постучал по баллону и, подплыв поближе, показал его Лино. Ответом был знак "все в порядке".
Мы плыли дальше. Я был уверен, что три километра мы преодолели уже раза два, только ничего не указывало на то, что труба собиралась заканчиваться. Неожиданно Павоне остановился. Мое сердце подпрыгнуло к горлу. Неужели какая-то решетка? Я включил фонарь. Замаячила высокая помеха в виде нагроможденного мусора, над которой остался небольшой проток для воды. Боже дорогой! Я видел, как Лино в узеньком проходе пытается совершать чудеса акробатики, пытаясь достать нож, закрепленный на щиколотке. Я подплыл и отвязал его. Лино взялся за работу. Он забрался в нечистоты и что-то резал, что-то раскапывал. Все это продолжалось, могло показаться, целую вечность. Наконец, когда в мутной жиже уже ничего было невозможно видеть, я почувствовал, что его ласты снова шевелятся, а сам он отдаляется от меня. Я отправился следом за ним, какое-то время потратив на то, чтобы протиснуться сквозь гадкий ил, трепеща при мысли, что могу тут и застрять. Потом сделалось свободнее, туннель, вроде как, слегка пошел вверх. Я испытал невообразимое облегчение. Глянул на часы: прошло пятьдесят пять минут. Потом на манометр. Санта Мария, стрелка давно уже прошла критическое значение в пятьдесят бар и теперь находилась в конце красного сектора. Воздух кончался. Я постучал по баллону. Павоне повернул голову. Я сначала показал кулак, потом провел им по горлу. Он понял. Махнул фонарем, чтобы я подплыл поближе. Я поднял манометр, направляя на него сноп света.
Лино кивнул, после чего жестами приказал мне отстегнуть пояс и жилет. Я не понимал. Он показал еще раз и закончил знаком "все в порядке" и показал мне на второй загубник на длинной трубке, отходящей от его регулятора. Я понял. Павоне хотел, чтобы мы дышали воздухом из его баллона. Но как он это себе представлял…
Я сделал последний глубокий вдох и избавился от акваланга. Затем подплыл под Лино, задевая за дно трубы животом; руками выискивал загубник. Был! Я сунул его в рот. Вкус нечистот… Вдох. Чудный воздух, жизнь!
Обнявшись, будто пара любовников, мы возобновили наше продвижение. Только теперь перемещались очень медленно. У нас путались ласты, цепляясь то за верхнюю часть трубы, то за ее дно… Как еще долго, как долго…
И вдруг очередной вдох не принес желанного воздуха. Повторная попытка. Ничего. Парализующий страх. Я почувствовал, что Лино отпускает меня. Я беспомощно взмахнул ластами. Дна не дотронулся. Стенок тоже не было. Я поднял голову. Во мраке что-то проблескивало. Я почувствовал, что ладонь Лино выталкивает меня вверх. Снова я пошевелил ластами. Свет приближался. Казалось, что это длится целую вечность, но вот моя голова вынырнула из воды. Я находился в резервуаре под открытым небом, в очистном бассейне, над головой висела огромная, щекастая луна. Удалось!
Я поискал Лино возле себя. Ни следа! На поверхности жидкости никаких пузырьков. Два глубоких вдоха. Я набрал воздух в легкие и нырнул. Ничего! Еще раз. И я его нашел. Павоне висел, запутавшись в сети, предназначенной для фильтрования крупных отходов. При нем не было ни фонаря, ни ножа. Зато все это имелось у меня. Махнув пару раз ножом, я освободил бывшего бородача… И потащил безвольное тело за собой.
У него во рту был клапан от своего жилета. Лино хотел выжить, используя последние резервы воздуха, имеющиеся в снаряжении. Я вытащил Павоне на берег. Повсюду горели фонари, в любой момент мог появиться охранник. Только мне на все это было плевать. Я стал делать Лино искусственное дыхание, ритмично нажимая на грудную клетку… Помогло. Он закашлялся, отрыгнул и открыл глаза.
- Спасибо, Альдо, - буркнул. – Первый этап мы прошли.
- Если можешь, обращайся ко мне: Альфредо, - предложил я.
Чтобы добраться от резервуара до берега реки у нас заняло четверть часа. Мы остались в надувных жилетах, баллоны и остальное оснащение предусмотрительно затопили в резервуаре. Оказалось, что Лино спас половину наших драгоценностей, остальное осталось в моем пропавшем в тоннеле мешке. Но не это было главным. С какой радостью бросились мы в чистую глубину Лумини. Не нужно было даже плавать. Благодаря надувным жилетам, мы позволили, чтобы быстрое течение несло нас прямо в море. Как можно дальше от Розеттины, от наших преследователей и блокад.
Неподалеку от морского побережья, возле моста, мы вышли из воды. Бредя среди растений высотой в пару локтей, мы добрались до чьей-то заброшенной дачи. Выбитые стекла говорили о том, что там никто не проживает. Автострада отрезала домик от других застроек деревни, ну а дикие свалки дополнили все остальное.
- Отдохнем здесь, - решил Лино.
Убалтывать меня было не нужно: я уже спал.
На этот раз мне приснился другой сон. Большая погоня. Я находился один-одинешенек в какой-то громадной квартире. Я свободно помещался под столом, а чтобы достать до дверной ручки, приходилось становиться на цыпочки. В руке, а точнее – в ручонке – я держал водяной пистолет. Топ, топ, топ, топ, топ, топ! Жертвой, за которой велась охота, был огромный желтый кот, живущий на крыше, который неосторожно воспользовался открытым окном. Я его захлопнул, и теперь шла ну просто фантастическая забава. Кот удирал, а я гонялся за ним, когда же животное оказывалось на мушке, я направлял в него струю прохладной жидкости. Кот фыркал, строил рожи, удирал; как же все это было забавно. Иногда ему удавалось прятаться так, что я терял его с глаз. Но он совершал катастрофическую ошибку: чувствуя мое приближение, кот грозно рычал, словно раненный тигр. Я же его не боялся – у меня же был пистолет, и я сильно не приближался, осознавая остроту кошачьих когтей. Снова он молнией высочил из-под дивана, сбил вазон и забрался на занавеску. Струя воды догнала его на подоконнике! Кот мяукнул и прыгнул прямо на меня, я уклонился, кот проскользнул между ногами и вскочил в коридорчик. Я погнался за ним. На поворотах котяра смешно кувыркался по линолеуму, а я радовался, зная, что маршрут побега заканчивается тупиком. Ну, не совсем. Ведь я же приготовил ловушку: приоткрытую дверь прачечной.
Уличный кот ею и воспользовался и забежал в узкое помещение. Единственным местом, где он мог спрятаться, была открытая, словно пасть громадной змеи, дверка автоматической стиральной машинки. И как раз в эту дыру он и нырнул! Тут уже он был мой. Я захлопнул дверку и какое-то время удовлетворенно всматривался в свою добычу, чувствуя, как колотится мое маленькое сердечко. Потом я протянул руку к программатору и врубил отжим. Поглядишь, котик, что оно такое, быть космонавтом… Машинка запустилась. Крутящаяся желтизна. Долго это не продолжалось, стиралку я отключил и вновь открыл дверцу. В нос ударил чудовищный смрад фекалий, мочи, возможно – рвоты. "Космонавт" в барабане попросту обделался. "Кис-кис-кис", - сладеньким голоском позвал я. Какое-то мгновение кот не шевелился, потом вывалился, будто пьяница, упал на пол, поднялся, снова упал. У него не было уже ни воли к борьбе, ни сил для бегства. Он только мяукал. И это его дурацкое мяуканье меня просто взбесило. Что, на жалость меня хотел взять? "Ну, давай, кошара! Забава ведь не кончилась!" – кричал я. Потом пихнул его палкой от половой щетки. Кот не отреагировал. Я был в бешенстве. Не так все должно было быть, это ведь только игра! Я включил воду, чтобы прополоскать машинку. Эмоции уходили, остался стыд и страх. Разбитый вазон, порванная занавеска, под холодильником разливалась лужа. Я открыл окно. "Ну, вали уже, - крикнул я. – Дарю тебе свободу". Кот, вроде как, понял ценность предложения, потому что неуклюже забрался на подоконник, затем перелез на внешний карниз. Вот только он не принял во внимание собственное состояние и потерял равновесие. Когда я высунулся наружу, в первый момент его и не заметил. Меня застал врасплох городской шум, запах выхлопных газов и цветущих олеандров. А кот? Теперь он был лишь желтоватым пятном на тротуаре, в шести этажах подо мной. Похоже, на четыре лапы он не приземлился. Я расплакался. Ну как он, каналья, мог мне устроить нечто подобное?! Погоди, погоди, это какую же дурацкую кличку дала ему соседка? Сципио или как-то так…
- Альдик, Альдик, я уже вернулась, - прозвучал из глубины квартиры старческий голос.
- Иду, уже иду, синьора Вероника, - крикнул я в ответ и проснулся.
Тото все провел на пять с плюсом. Когда он указал мусорам наше предыдущее убежище, и там обнаружили светлый костюм Гурбиани, благодарность чиновников не имела границ. Нищий получил благодарственную выплату, а после допроса его перевезли в самый лучший приют города. Ведущим облаву казалось, что мы у них в руках. Более ошибочного положения нужно еще было поискать.
Домик, пускай и выглядел заброшенным, уже ранее должен был служить Павоне в качестве убежища. Под полом огородного сарая находился тайник. Он сразу же достал оттуда какие-то консервы, пистолет, мобильный телефон, пару комплектов одежды, футляр с надписью "Поляроид", бинокль.
- Нам нужны фотографии на документы, - сказал Лино. – Ну, лысенький, сделай приятное выражение на физиомордии.
После этого он сел на старый, поцарапанный велосипед и уехал, приказав не высовывать их халупы носа. А я и не собирался.
Встал летний день, несколько туманный, парной. Я сидел один в заброшенном помещении, следя за ящерицей, прогуливающейся по фрамуге. Только подумать, каким совершенным была она существом, это же насколько Творец предусмотрел ее пропорции, ее функции. Ящерица повернула голову, и мы начали меряться взглядами. Я вспоминал сегодняшний сон. Чтобы сделал маленький Гурбиани сейчас? Бросил бы в ящерку куском кирпича, попытался поймать… А я? Я напитывался ее красотой, гармонией, грациозностью, солнечными рефлексами в каплях росы на листьях дикого винограда. Неожиданно она рванула в мою сторону и начала карабкаться по руке: маленькая, гибкая, живая… И вот ее уже нет. Я почувствовал странную сырость на щеке. Я плакал, почему, зачем?
Затем снова вернулся мыслями ко сну. Этот меня беспокоил гораздо сильнее, чем предыдущие. Беспокоили меня и другие вещи, к примеру: почему это я, Альфредо Деросси, знал, как нужно управлять автомобилем. Почему я угадывал, какой телевизионный канал включу, нажимая определенную цифру на пульте дистанционного управления. Почему лица телеведущих казались мне знакомыми… Неужели ко мне возвращалась память? Неужто в теле Гурбиани осталась часть его души, со временем способная проснуться и доминировать надо мной? Сама мысль, что я, пускай отчасти, мог бы стать Альдо, переполняла меня ужасом. Мне вспомнились доктор Джекилл и мистер Хайд Стивенсона, рассказ о двух "я" в одном теле. Стоп, стоп, минуточку, но ведь я никогда не читал эту книжку!!! Да и не мог прочитать. Она ведь была написана через два века после моей смерти!!! А откуда я об этом знаю? Господи Боже мой, да что же со мной творится?
Я встал, попил кипяченой воды.
- Успокойся, - повторял я сам себе. – Ты – Альфредо Деросси, а та сволочь Альдо не имеет к тебе доступа. Ты веришь в добро. Ты веришь в Бога!!! Даже если тебе что-то и вспоминается, даже если тебе вспомнится все, у тебя личность, характер, сознание Деросси. Так что не бойся. Отче наш, иже еси на небеси…
Сразу после полудня я услышал скрежет послужившей свое велосипедной цепи. Вернулся Лино, лучащийся оптимизмом.
- Я был в деревне, - крикнул он с самого порога. – Мусоров ни следа. Мы за пределами петли облавы.
- А что там с нашими документами?
- Спокуха, Альфредо, мы договорились встретиться в пять вечера в паре километров отсюда. Вот, глянь, имеются свежие булочки, деревенский сыр и бутылочка вина из Монтаны.
С наголо бритой головой, в чистой одежке он ни в сем не был похож на босса нищих, скорее, на опытного сотрудника охранной фирмы. На мгновение я задумался, правильно ли делаю, безгранично доверяя ему. Вот только другого выхода у меня не было. Впрочем, мы оба спасли друг другу жизнь. А это сближает людей. Около четырех вечера мы вышли из дома. Жара была немилосердной, к счастью, Павоне предусмотрел все, у нас имелись фирменные бейсболки конторы Globtrotter, ну а рюкзаки придавали нам вид типичных туристов. Шли мы наискось, приближаясь к автостраде, слушая нарастающий шум проезжавших машин. После получаса пешего похода мы забрались на насыпь и через дыру в сетке прошли на придорожную стоянку. Похоже, никто не обратил на нас внимания: ни обедающее венгерское семейство, ни два водителя-дальнобойщика, игравшие в карты за деревянным столом, ни угощающиеся пивком наездники на "харли-дэвидсонах".
- Ага, а вот и наша тачка, - Лино указал на неновую "альфа-ромео" с римскими регистрационными номерами, о краже которой хозяева узнают лишь через пару недель, когда возвратятся из отпуска. У моего спутника имелись ключи к этой машине. В бардачке нашлись два комплекта документов. Там были оригинальные паспорта с мастерски подмененными фотографиями, водительские права, страховки и кредитные карточки. Меня теперь звали Эрнесто Верания, я был агентом по торговле недвижимостью "Veranio & Pesco" из Рима, проживающим на Виа Кавур 35b. А вот Павоне был моим финансовым консультантом, и звали его Лино Хагелем. Я размышлял над тем: а что же сталось с оригинальными синьорами Верани и Хагелем, но Лино меня успокоил: после ДТП они пребывали на излечении в госпитале в Абруццо, и никакие паспорта, не говоря уже про водительские права, им долгое время просто не будут нужны. Из штампов о пересечении границы следовало, что синьор Веррани путешествовал много и часто. Только в этом году он уже был в Штатах, в России и в Израиле…
- Ты поведешь? - спросил Лино, усаживаясь на кресло рядом с водителем.
- Так я же в жизни машину не водил…
- А позавчера? – рассмеялся он. – Смываясь с кладбища, ты самостоятельно проехал весь город. Так что не рассказывай мне всякую чушь про амнезию. Технические умения не забываются. Даже если ты всего лишь клон.
- Ладно. Попробую.
Я уселся за руль, инстинктивно застегнул ремень безопасности, отрегулировал положение сидения, повернул ключ зажигания, сразу же глянув и на указатели. Бензина под горлышко. Кондиционер работает. Завелся двигатель. Тут же заиграл радиоприемник. Я плеснул воды на лобовое стекло и запустил дворники.
- Можем отправляться, - весело заявил я.
Мы поехали на юг, направляясь в сторону Рима. Где-то километров через пять нас ждал первый блокпост. Несмотря на работающий кондиционер, мне сделалось жарко. Полицейские казались усталыми и скучающими. Контроль проходил рутинно: "Остановитесь … документы … откройте багажник". Все бремя разговоров взял на себя Лино.
- Домой возвращаемся? – спросил полицейский, осматривая наши паспорта.
- Всю жизнь в Венеции не проведешь, - с улыбкой ответил Павоне. – Тем более, когда у тебя ревматизм.
- В Розеттине синьоры останавливались?
- А зачем, синьор начальник, - Лино оскалил исключительно замечательные, как для нищего, зубы. – По объездной проехали. А что, там что-то любопытное происходит?
- Можете ехать, - полицейский захлопнул крышку багажника.
Через пару часов, не доезжая до Рима, мы очутились на перекрестке с А1 – Автострадой Солнца.
- Куда теперь? – глянул я на своего спутника.
- На север!
19. Перевал святого Бернара
И действительно, время вовсе не является, как казалось мне когда-то, математическим значением. Это живое существо, злорадная река, протекающая в одном направлении все более и более быстрым потоком. Сравните, хотя бы, ночь молодого человека с ночью старца. В этом случае выступают два совершенно различных времени. В молодости каждая ночь долгая, словно декабрьская, кажется, что она не кончается и несет за собой необыкновенные события. У старца же она походит на пару коротких часов в июне, около полуночи. Едва-едва стемнеет, как уже встает новый день, приближающий нас к вечности. Вот если б еще эта быстрая ночь несла с собой обилие вкусов и запахов истинной июньской ночи, набухшей безумием и верой в себя… И надеждой! Напрасные эти печали. Не наполняет старческие ночи пени птиц, не завершится она головокружительной пробежкой по росе, когда все вокруг новое, свежее и чистое, а граница между сном и явью незаметна.
Так что я должен благословить свой случай, во всей мировой истории единственный, сравнимый с удачным прыжком с самой вершины водопада, и всего лишь в одно мгновение перескочил четыреста осеней и зим.
Что самое главное, я чувствовал себя почти что так, как той весной в Розеттине, когда еще жива была Мария, когда я любил ее словно зеленый юноша, но сознание имел зрелого мужа. Сейчас, сидя за рулем, я тоже не испытывал усталости или обреченности, мне хотелось жить, и похоже было на то, что мне это удастся. Каждая миля или, как тут теперь считают, каждый километр отдаляли нас от преследователей. Мы же мчались со скоростью антилопы по дороге, которая без труда пересекала высокие горы, смело углублялась в тоннели, как бы не обращая внимания на милы природы и насмехаясь над помехами, когда-то считающимися непреодолимыми. И эта дорога, казалось, была вызовом самому Богу, явной демонстрацией могущества рода людского, который в мои годы едва-едва ползал на четвереньках, а теперь обрел проворство орла, силу слона и мудрость компьютера.
Павоне, с которого, словно с повешенной на ветру пеленки, окончательно испарились остатки стиля клошара, был прекрасным спутником, он предоставлял мне массу сведений об этом новом мире, диагностируя его решительно, очень точно и без излишней болтливости:
- Во всем виноват Декарт со своим желанием сделать человека и его самосознание мерой всех вещей, - говорил он, а я не протестовал (желая доказывать собственные авторские права, мне пришлось бы рассказать ему слишком многое, да и обвинить Декарта в воровстве). – Человечество попало в просвещенческую ловушку на злость давним представлениям, будто бы мир неустанно портится.
- Aurea prima… (Поначалу был век золотой… - лат.) – процитировал я Овидия.
- Ну да, человечество априори приняло, будто бы золотой век только наступит и начало его строить. Даже ценой холокостов, гулагов, а сейчас – политкорректности. Такая операция весьма походит на перемещение мужского достоинства с переда на зад, что, возможно, жизнь и облегчает, хотя трудно контролировать, кого на самом деле имеешь. Поверь, Альфредо, будучи молодым, я брезговал консерваторами сильнее, чем шпинатом. Я считал их экскрементами разума. Сегодня же я и сам один из таких отходов, но обязан покорно принять, что человек по природе вещей – существо несовершенное и не способное к самореформированию…
- Неспособное, говоришь?
- Без стимула снаружи, человек, оставленный на съедение голой биологии и потребительству, должен дегенерировать, теряя все то, что было в нем лучшего. Раньше или позднее, он возвратится на дерево или, скорее всего, в пещеру, поскольку, в результате его радостной деятельности, деревьев уже не будет. Чтобы он мог совершенствоваться, ему нужны – точно так же, как живая изгородь нуждается в секаторе садовника – моральные нормы, авторитеты, традиции… другими словами – вера, ибо все, в конце концов, сводится к фундаменту, каким было Откровение.
- Выходит, ты не веришь в собственную динамику прогресса?
- Я верю в ограниченность человеческого разума. Послушай, Альдо, или, как ты сам того хочешь, Альфредо, хотя ни того, ни другого имени ребенку при крещении я бы не дал: человек видит всего лишь долю солнечного спектра, слышит небольшой диапазон звуков, его чувство обоняния – это всего лишь одна миллионная часть возможностей любого глупого пса, тогда почему же априори предполагать, будто бы он все способен понять и осознать? Тем временем мы, самонадеянно полагаясь на, якобы, разум, совершенно избавились от какого-либо смирения. В отношении природы и в отношении Бога.
- Так ты веришь в Бога? – спросил я, глядя на странный амулет в форме солнца, болтающийся на шее у Лино.
- Я верю в то, что он необходим. Современная физика доказывает, что вселенная находится в постоянном состоянии энтропии, распада, стремления к хаосу. Только лишь импульс снаружи способен ее упорядочить. Меня смешат все нынешние левые интеллектуалы, устанавливающие моральные принципы и права человека без Бога. Без четкой границы между добром и злом. Ведь это же то же самое, что и возведение обелиска на плавуне. Произвольность принципов приведет к тому, что будут уничтожены они все. Без Абсолюта остается лишь ничто. Я не последователь какой-либо из общепринятых религий, но я верю в пропитывающую всю вселенную великую силу, на которую сам я повлиять не могу, но которую уважаю, хотя и не умею ей молиться.
Все, что Лино говорил, было исключительно близко моим размышлениям. К его доказательствам я мог бы подкинуть и собственные наблюдения. Ибо, что дала мне конфронтация людских свершений после столетий развития – громадное разочарование фактом, что прогресс цивилизации не идет в паре с прогрессом культурным, и даже его выпирает. Что с того, что все пользуются гигиеническими туалетами, когда газеты, которые можно там почитать, делаются все более глупыми? Как же мне радоваться тому, что механизмы чрезвычайно экономят время, когда потом мы его беззаботно растрачиваем. Ну а человеческая свобода – разве она, случаем, не является всего лишь более тонкой и хитроумной формой порабощения?
Глядя на Лино, я размышлял над тем, кем мог бы стать этот человек, если бы его жизнь сложилась иначе. И не был ли его выбор жизненного метода продиктован амбициями: не имея возможности быть первым на земле, он предпочел стать королем канализации.
На ужин мы заехали в Ассизи. В тот самый город, которым я когда-то восхищался, проведя здесь одну осень с целью пополнения фресок Джотто и изучения некоторых книг, касающихся траволечения, которые в других местах были просто утеряны. Мы задержались на стоянке неподалеку от собора, который, оплетенный лесами, только-только приходил к жизни после разора, вызванного недавним землетрясением. Похоже, проклятие Ипполито достало меня и здесь: ибо фрески верхней церкви, в росписи которых я принимал участие, были безвозвратно утеряны. В бараке неподалеку от помещений, занимаемых реставраторами, я мог осмотреть фильм, снятый на любительскую камеру каким-то туристом во время предпоследнего катаклизма. И вот теперь у меня имелся ответ: насколько же святотатственными были мои восхищения всемогуществом человека. Перед лицом даже небольших тектонических сотрясений, мы были всего лишь жучками на этой земле, а наши шедевры – всего лишь крошками кирпича, штукатурки и краски.
Задумавшись, я вернулся к автомобилю. Павоне, который пошел разведать какую-нибудь спокойную, не бросающуюся в глаза квартирку, еще не вернулся. Не желая тратить времени, я протер фары и стекла. И вот тут что-то подстегнуло меня по образцу Луки Торрезе заглянуть под машину и проверить, а не прячется ли где на шасси шпионское устройство. И я обнаружил его, несмотря на хитроумность размещения и на пыль, что его покрывала.
Приклеенный параллелепипед был меньше коробка спичек. В первый момент у меня возникло желание оторвать клопа и раздавить ногами в пыль. Затем придержал себя. Пока подслушивающие не сориентируется, что я знаю об их существовании, я буду иметь над ними перевес. А кроме того, сам факт того, что за мной следили, вместо того, чтобы убить, указывал на то, что, кем бы эти люди ни были, я представлял для них какую-то ценность. Кроме того, нужно было определить, а какую роль во всем этом играл Павоне. Был он посвящен? Или его только использовали втемную… Та легкость, с которой он добыл оснащение, документы и автомобиль, уже ранее пробуждала во мне нехорошие подозрения. Но нудно было добыть точные факты. Опять же, расчет подсказывал мне, что будет лучше, если границу мы пересечем вдвоем, в соответствии с планами.
Вернулся Лино и веселым тоном начал рассказывать мне про недорогой пансионат рядом с охраняемой стоянкой.
- Я передумал, - перебил я его.
- Не понял?
- Мне кажется, что было бы ошибкой понапрасну тратить здесь время на ночлег. Раньше или позже, наши преследователи сориентируются, что мы выбрались из Розеттины, и облава охватит всю страну. Поехали дальше. Я не чувствую себя уставшим. Опять же, мы можем вести машину попеременно, а чем скорее мы очутимся за границей – тем будет лучше.
Было видно, что я застал его врасплох, но он послушался, только сказал:
- Ну, если ты считаешь, что так будет лучше…
На отрезке автострады до Болоньи за рулем сидел Павоне, я же дремал, чтобы потом сменить его. Я был рад тому, что не обязан разговаривать с Лино, не чувствовал я себя столь хорошим актером, чтобы мочь скрыть свое изменившееся настроение. Ночь была темной и парной. Одни только указатели напоминали нам о городах, через которые мы проезжали: Модена, Парма, Кремона, Пьяченца… Сколько воспоминаний, событий, романов, созданных произведений и минувших дружб связывало меня с этими местами, теперь ограничивающимися синими дорожными знаками, мимо которых мы проносились с головокружительной скоростью, и которые сообщали нам о съездах и въездах. Полночь давно уже наступила, но движение на автостраде ни на секунду не уменьшалось, мы обгоняли громадные грузовики, туристические автобусы, легковые автомобили, с трудом тянущиеся кемпинговые прицепы. Время от времени, словно рой шершней, мимо проносился отряд безумных мотоциклистов.
Между Миланом и Турином в свои объятья нас захватила неожиданная буря. Суеверные люди наверняка бы назвали это зрелище истинным пандемониумом. Гром валил словно пушки под Сан Анджело, а молнии раздирали занавеску неба будто огненные мечи архангелов. А потом полил дождь, настолько обильный, что ничего не было видать, кроме не успевающих вытирать водяные струи дворников.
Я довольно сильно снизил скорость и даже подумывал о том, чтобы съехать на обочину, но Лино меня успокоил: благодаря ABS, нам не страшны даже самые ужасные лужи. Впрочем, гроза прекратилась так же неожиданно, как и началась.
Возле Кастелламонте мы остановились на заправке, чтобы пополнить запасы топлива и выпить кофе. Честно признаюсь, постепенно я уже начал привыкать к этому напитку, в мои времена считавшемуся турецкой диковиной. Только лишь мы заказали эспрессо и две порции pasta con frutti di mare, Павоне сообщил, что идет подумать и отлить, хотя мог бы вообще об этом не сообщать. Раньше подобной информацией я бы пренебрег, но теперь, всматриваясь в стекло, отражающее интерьер кафе, я заметил, что вместо туалета Лино свернул к телефонной будке. Я горько усмехнулся про себя. Выходит, все-таки… Интуиция – штука неглупая.
Вновь мы поменялись за рулем. Автострада нырнула в долину Аоста, окруженную монументальными альпийскими вершинами. Вскоре мы очутились на перекрестке – шоссе вело прямиком к туннелю святого Бернара, а старая местная дорога – по серпантину на перевал.
- Не могли бы мы поехать верхом? – спросил я.
- Естественно, - ответил Лино. – Только это займет больше времени.
- На это наплевать. Но я надеюсь, что наверху никто не станет особенно проверять сумасшедших туристов, к тому же, я бы с удовольствием встретил восход Солнца на перевале.
- Никаких проблем.
Крутыми извилинами, извлекая остатки сил из двигателя "альфы ромео", мы добрались на вершину. Мимо нас проехала всего лишь пара автомобилей. Время от времени, я поглядывал в зеркало заднего вида. Никаких фар. За нами никто не ехал. Все это соответствовало моим планам. Сонные охранники, увидев нас, только махнули рукой, не выходя из своей будки: "Ехать, ехать…".
Едва только мы проехали перевал, Лино, по моей просьбе, остановил машину на небольшой стоянке, образованной поворотом шоссе. Я предложил ему пройтись пару сотен метров до скального края, откуда вид мог быть наиболее обширным. Небо розовело, воздух был свежим, прозрачным. По левой стороне высилась окутанная снегом пирамида массива Монблан, ниже густели безбрежные туманы… Мы остановились. Со стороны дороги никто нас не мог заметить. У самых наших ног расстилалась бездонная пропасть.
- Я и не знал, что ты такой любитель природы, - пошутил Павоне. – Лично для меня все это – всего лишь громадная куча камней.
- У тебя телефон есть? – спросил я, игнорируя тему.
Лино вытащил мобильник из кармана и подал мне.
- Что, хочешь позвонить жене в госпиталь? – И тут его улыбка сменилась гадкой гримасой. – В чем дело, Альфредо?
Я снял с предохранителя заранее вытащенный их тайника пистолет и держал своего проводника на мушке.
- На кого ты работаешь, Лино? – жестко спросил я. – Откровенный ответ облегчит жизнь нам обоим.
- Альфредо, у тебя от бессонницы шарики за ролики заехали? Понятия не имею, о чем ты…
- У меня нет ни времени, ни желания шутить. Я знаю про клопа в машине, о твоих звонках с заправочной станции. И я умею связывать факты.
- Я не знаю ни про какого клопа, что же касается телефона, то я звонил нашему дружку Тото.
- Ответ неправильный, приятель. Когда, закончив разговор, ты и вправду направился в туалет, я прошел к телефону и нажал кнопку повторного набора номера. Это с каких же пор Тото приветствует всех словами: "Фариначчи, слушаю"?
- Так Фариначчи – это наш связник, - пытался выкрутиться Лино. Ты же знаешь, что у Тото телефона нет. То есть, я боялся звонить на твой мобильный, потому что его могут прослушивать.
Врал он довольно-таки складно, но я ведь могу отличить откровенность от выкручивания.
- Придумай чего-нибудь другое, а то я и вправду теряю терпение.
- Убери пистолет, поглядим на восход солнца, поговорим…
На это предложение я не мог согласиться. Я понимал, что у него могло быть где-то спрятано оружие.
- Не опускай руки, Лино.
- Старик, я просто не верю, что ты можешь меня застрелить. У тебя на это не хватит смелости. – И он медленно направился ко мне….
- Правда?
Выбора мне он не оставил. Я выстрелил. Пуля раздробила ему стопу. Павоне с руганью свалился на землю.
- Ты чего творишь? Я же спас тебе жизнь, сволочь!
- Потому что такое у тебя было задание. Говори, кто тебе его поручил, пока я не занялся твоей второй ногой. А в пистолете, насколько мне известно, девять патронов.
Лино понял, что я не блефую, и сменил тактику.
- Ты понятия не имеешь, во что лезешь. Альфредо, у тебя с ними нет ни малейшего шанса, - процедил он сквозь зубы; лицо было искажено гримасой боли.
- Но мне, по крайней мере, хотелось бы знать, с кем это у меня нет шансов, - не уступая, давил я. Тот задумался. – Только не просчитайся. Ну, так кто дал тебе поручение?
- Люди Амальфиани, - промямлил тот наконец.
- Так я и думал. Те что из SGC желают меня попросту прикончить. У Амальфиани более сложные планы. Надеюсь, ты мне расскажешь, какие это планы.
- Они хотят знать, что ты сделаешь. С кем встретишься. Действуешь ты сам, или это тебя кто-то накрутил…
- А когда бы ты уже все узнал… Что ты должен был со мной сделать?
- Я не убийца! – возмутился он. – Ты можешь мне дать что-нибудь, чтобы остановить кровь?
Я бросил ему платок. Со стоном Лино пытался обмотать рану. Я не спускал его с глаз.
- Ты разочаровал меня, Лино. Ты, философ, апологет традиционных моральных ценностей; так как же тебе удается соединить теорию с практикой?... Давно ты работаешь на Амальфиани?
- Не работаю я на Амальфиани. Мы просто не переходим друг другу дорогу, и все! – взорвался он. – Я не зависимый философ, не гангстер. Вот только мир таков, каков он есть. От компромиссов не уйти. Иногда ему нужны были какие-то сведения, вот я ему их и продавал.
- А в этот раз продал меня… Замечательная сделка.
Павоне ничего не сказал, затем, помешкав, заявил:
- Я и вправду не хотел этого, тем более, с того момента, как узнал тебя получше. Но меня заставили. У них моя дочка, Мими. – Из бумажника он вытащил снимок красивой девочки-подростка. – Контактов мы друг с другом не поддерживаем, но я ее люблю, и им об этом известно. Мне погрозили, что если я им не помогу с тобой, то… Боже, что теперь с нею будет, - голос Лино чуть ли не перешел в рыдания. И я ему почти что верил. Но нужно было продолжать расспросы.
- Собственно, чего они от меня хотят?
- Не имею понятия. Они на тебя имеют зуб, ты, вроде как, им чего-то обещал, потом хотел выйти из дела, а Организация уже потратила на это дело миллионы.
- Имеется в виду программа "Психе"…
- Пси… чего[21]? Понятия не имею, что им нужно. И предпочитаю не знать.
Я предполагал, что Лино и в этот раз говорит правду, хотя это не приближало меня к ней даже на миллиметр. И мне даже сделалось жалко этого неудачника. Ведь, говоря по правде, в жизни его ничего не удалось, даже совершенная жалкая попытка обвести меня вокруг пальца. Но мне следовало продолжить свой допрос.
- Ты лично контактируешь с Амальфиани?
- Откуда? Я? Такая маленькая пешка? Впрочем, никто и не знает, кто это такой. Фармначчи связан всего лишь с капо Организации в Розеттине, а сколько еще ступеней иерархии до самой верхушки лестницы не знает никто.
- Ну а кто является этим самым капо Розеттины?
- Послушай, меня же убьют.
- Если им необходимо это сделать, они и так сделают. Я не скажу, что узнал это от тебя.
Павоне еще какое-то время мялся.
- Никколо Заккария.
- Что ты говоришь? Владелец "Банко Ансельмиано"?
- Вполне возможно, в банковском деле я не разбираюсь. Ты лучше давай, вызови какую-нибудь помощь, пока я не сдох от потери крови.
- Не умрешь. Сделай себе жгут из подтяжек. До будки охранников как-нибудь доберешься.
- Не оставляй меня здесь, Альфредо. Умоляю!
- Вообще-то, из практических соображений, тебя требовалось бы убить, но ведь я, что ни говори, гуманист.
Оставив стонущего Павоне на краю обрыва, я вернулся к машине. Дорога все так же была пустой, а небо делалось все светлее. Со швейцарской стороны подъезжал мерседес с двумя велосипедами наверху. Я залез под свою машину, мерседес остановился. Клопа я оторвал и держал в ладони.
- У вас все в порядке? – из мерседеса выглянула пара любителей велосипедного спорта.
- Я уже все сделал, - спокойно ответил я им. – Ой, погодите… - Я склонился перед их машиной. – Случаем, не слишком ли мало давление в левом переднем колесе? – Прежде чем "спортсмены" вышли, я сунул им передатчик под крыло. – Впрочем, нет, прошу прощения, показалось. Удачного пути!
20. Возвращение в Сион
В Мартиньи я оставил машину на стоянке в гостиничном районе, а сам побежал на железнодорожный вокзал. В 7.35 я хотел перехватить "Интерсити" из Женевы. Слишком много идей у меня не было. Собственно говоря, имелась только одна. И то, похоже, не самая лучшая. Отыскать Раймонда Пристля. И, похоже, в этом я не был одинок. Его искали власти, журналисты, сторонники. И, наверняка, еще парочка типов без чувства юмора. К сожалению, в день после исчезновения Гурбиани, пророк и сам как будто сквозь землю провалился. Толпы пилигримов, с которыми я встречался на замковой горе в Сионе, неожиданно остались без пастыря. Больные и страждущие напрасно ожидали своего целителя. Он пропал.
Несмотря на все это, я поехал в Сион. От лагеря громадной кучи людей осталась лишь помятая трава, несколько брошенных кемпинговых прицепов, наглухо заколоченные торговые лавки. Лишь в одном действующем киоске с предметами культа я за бесценок приобрел несколько брошюрок на тему Раймонда: "Стигматы брата Рея", "Девять благословений", "Вызовы конца времен", "Поднимается новая Божья церковь".
- Он вернется, - заявил мне продавец, сухощавый и настолько морщинистый, словно его лицо перепахал ледник. – А вот тогда все это снова будет продаваться как горячие булочки.
Я присел на камне в тени единственного дерева и углубился в чтении. Кто же ты такой, святой брат Раймонд?
Пристль вовсе не был старым, ему было тридцать три года, и был он родом из Америки. То есть, он должен был быть типичным ребенком того поколения вьетнамской войны и уотергейтского скандала, детей-цветов, сжигания бюстгальтеров и повесток на военную службу. Некоторые утверждают, что именно тогда окончательно и умер мир морали девятнадцатого столетия, а триумф обрел призрак релятивизма[22]. Собственно, можно даже сказать, что Рей в буквальном смысле был ребенком Маркса и кока-колы, поскольку нашли его в холодную рождественскую ночь на бруклинской свалке в ящике из-под кока-колы, а единственным капиталом, которым он располагал, было одеяльце, в которое малыш был закутан. Теоретически, ничего выдающегося из него вырасти не могло; мальчика усыновила бездетная семья: отец – полицейский, мамаша – официантка. Оба они, точно так же, как и пуэрториканский священник по имени Алонсо из местного прихода, признавали мелкобуржуазные идеалы, и все они ужасно обрадовались, что после блестящего окончания средней школы их приемный сын решил стать не маклером, не компьютерным программистом, не юристом и не гангстером, а священником.
Семинарию он закончил, скажем, прогрессивную. Занятия здесь велись в духе New Age и деликатного бунта в отношении Ватикана в таких вопросах как предохранение беременности, аборты или безбрачие священников. Некоторых семинаристов это вывело за рамки Церкви (причем, довольно-таки далеко), другие попали в многочисленные секты, деятельность которых усилилась в ожидании двухтысячного года, но ослабела, когда новое тысячелетие наступило, а вот ожидаемый Армагеддон так и не наступил.
Рей, интересовавшийся во время учебы проблемами экуменизма, решил соединить практику с теорией и, не получив рукоположения, выехал в Европу, где сделался волонтером в экуменическом Тезе. Там, после очередного года, в его душе свершился очередной перелом. Он ушел из общности, присоединился к лефевристам[23] и вскоре начал период покаяния в некоем монастыре с чрезвычайно суровым уставом неподалеку от Лозанны. Он утверждал, что среди традиционалистов намеревается искать истинную Церковь – интересно, верил ли он уже тогда, будто бы с Господом можно разговаривать исключительно на латыни?
В монастыре он выдержал пару лет, пока с ним не начали твориться странные вещи; поначалу, в результате постов, он впал в странную спячку, продолжавшуюся сорок четыре дня. Некоторые врачи из клиники в Веве, куда его перевезли, считали брата Раймонда умершим – многократно у него полностью останавливался пульс, а энцефалограф вычерчивал ровную линию, при жизни его поддерживало реанимационное оборудование. Как вдруг, на сорок четвертый день он поднялся и начал разговаривать на странном языке – привезенные языковеды определили, что это арамейский язык. Через пару дней вернулось знакомство современного языка, зато на теле стали появляться кровавые стигматы – на лбу выступили капли крови, словно после уколов тернового венца, полосы на спине, словно следы бича; не заживающие раны на запястьях и, наконец, глубокий шрам на левом боку. Врачи и местные священники приняли все эти явления весьма критично. Они даже допускали возможность, будто бы неуравновешенный Пристль сам себя калечил. Так что за ним тщательно следили, стараясь не допустить распространения слухов. Однако, несмотря на интенсивную терапию, раны монаха не заживали, а вместо гнойного смрада от них исходило благоухание роз.
И вот как-то раз, Раймонд, бесцельно бродя по больнице, зашел в отделение интенсивной терапии, где без сознания, после инсульта, лежал епископ Лозанны. Пристль встал возле его кровати и громким голосом приказал епископу подняться. Согласно брошюрке, церковный иерарх, до сих пор парализованный и немой, встал с кровати, пал на колени и вслух возблагодарил Господа.
Это событие не удалось сохранить в тайне. Сообщении о чудесном целителе мигом облетело все католические кантоны Швейцарии. Кто-то даже начал говорить о возврате Мессии. Пристль энергично отрицал все эти слухи.
- Я всего лишь знак времени, - говорил он. – Я – слуга людей.
Он не желал шумихи, потому сразу же после выхода из госпиталя сбежал в Альпы, укрылся в пастушеской хижине над озером Тцейзье, где постился и молился, прося у Господа указаний.
Но его нашли и там – больные и жаждущие утешения, но так же и ненавистники, желающие разоблачить "Мессию". И мог ли он отказать прибывшим? Так что Пристль молился вместе с приезжими, утешал и помогал. И слепые обретали зрение, а глухие – слух. Отступал рак, капитулировали Альцгеймер и Паркинсон.
Многие медицинские авторитеты пытались доказать, будто бы Пристль – мошенник, но напрасно. Церковная иерархия, как обычно в подобных случаях, набрала воды в рот, не поддерживая брата Раймонда, но и не осуждая его. Многие пытались подражать ему, в особенности, молодые руки из кругов харизматиков. Только никто не был способен сравниться с этим наиболее странным из пророков.
В эпоху гонящихся за известностью проповедников, шоуменов, увлекающих за собой голосом и экспрессией, Рей представлял собой их совершенную противоположность. Он был тихим, робким, и только лишь, когда его буквально заставили проповедовать, он начал делиться своими размышлениями с людьми. Время от времени он спускался с гор и читал свои простые и несколько наивные проповеди на склонах замкового холма в Сионе, который весьма скоро стали называть Новым Сионом. Поначалу он гласил слово Божье раз в неделю, затем чаще, а слова его, словно расходящиеся по воде круги, распространялись среди людей и среди них же набирали силы. Исцеленные и обращенные разносили Живое Слово. Обеспокоенные церковные власти были бы рады запретить ему проповедовать, но посланники Конгрегации Веры не обнаружили в его проповедях ничего безнравственного. Что же проповедовал пророк с гор, а его сторонники, называемые по синему кресту, который пришивали себе к одежде, "крестосиними", разносили по всему свету?
В принципе, Пристль делал всего лишь три указания: серьезно относиться к заповедям, давать свидетельства собственной веры и не поддаваться релятивизму. Добро – это добро, а зло – это зло. Ну а терпимость не означает признания. Иноверец, извращенец или святотатец – всех их следует называть по имени их. Крестосиние не подавали руки растлителям, не дружили с лжецами, не глядели сквозь пальцы на воровство. Простить можно было и самые крупные грехи, условием было покаяние. Для борьбы с абортами, порнографией, святотатством никто не искал поддержки закона – достаточно было морального осуждения.
Через год после первого публичного выступления Пристля количество задекларированных крестосиних не превышало нескольких тысяч человек, зато они были повсюду; в самых различных слоях общества. Такие появились даже в кругах, издавна считающихся полностью лишенных моральных основ. Известный актер мог отказаться сниматься в фильме, в котором рядом с ним должна была выступить бывшая порно-звезда; европейский писатель вернул диплом почетного гражданина некой нидерландской метрополии, когда там была легализирована эвтаназия. Не удивительно, что присутствие сторонников Пристля ужасно пугало организаторов дискуссий в прямом эфире (многие редакции приняло негласный запрет допуска сторонников синего крестика в свои студии). В отличие от предыдущих, истерично-крикливых правых деятелей, которых легко можно было скомпрометировать или сделать смешными, единственным оружием крестосиних было спокойствие, основанное на непреодолимой вере и верности принципам. Крестосиним нельзя было нарушать закон, но и в то же время они не имели права молчать в отношении зла. В ходе бурной дискуссии в швейцарском парламенте их назвали "самой грозной сектой современной Европы". Планировался даже референдум относительно возможности удалить их с территории Швейцарской Конфедерации. Беспрецедентное событие в стране, считаемой столпом демократии. В Германии ведущие интеллектуалы собирали подписи под открытым письмом, требующим принудительного психиатрического лечения для религиозных экстремистов.
Аналитики, которые до сих пор в качестве единственной альтернативы гибнущей христианской Европе видели усиливающийся ислам, изумленно терли глаза. Появилось движение своей силой и свежестью подобное первым христианам. Доказывающее, чего можно достичь индивидуальным примером. Другое дело, что все опиралось на Пристле. Какая сила могла быть у конструкторов Нового Царствия Божьего, оставленных без присмотра? А пророка не было уже целых две недели. Про его учеников средства массовой информации даже и не вспоминали. Неужто движение крестосиних должно было оказаться ничего не значащей эфемеридой?
Я расспрашивал окрестных жителей про обстоятельства исчезновения монаха. Мне отвечали неохотно, подозрительно приглядываясь к моему лысому черепу и небритой щетине.
- Вы хотите его найти? – как-то раз спросила ухоженная дама в черном, что вышла из небольшой гостинички, фасад которой выходил прямо на замок.
- В первую очередь, хотелось бы узнать, что с ним случилось.
- Он попросту исчез. Он не прибыл к утренней молитве, к Благовесту, к вечернему бдению. Не появился он в палатке, куда приходили болящие; не посетил хоспис. Его ассистенты совершенно ничего не знают об этом неожиданном изменении планов; его автомобиль стоит под палаткой, в которой он проживал. В свою хижину в горах он тоже не возвратился. Не оставил никакого знака. Полиция тоже не напала на его след.
- А что говорят люди?
- Одни считают, будто бы его похитили и убили безбожники; другие, будто бы он скрылся в ожидании преследований, кое-кто говорит, что он вознесся в небо. Я верю, что он вернется. И жду. Сняла в гостинице комнатку с видом на замок до самого конца года… Вы не желаете поглядеть, какой у меня оттуда замечательный пейзаж?
И она пригласила меня в свою комнатку в мансарде. Если не считать креста, я не увидал там никаких священных изображений; пара книжек: Катехизис, Черная книга коммунизма и "Чума" Камю.
- Вы не поверите, месье, еще месяц назад я была совершенно неверующим человеком, хуже того, воинствующей атеисткой, многолетним членом Французской Компартии.
- Откуда же такая перемена?
- Мой сын умирал от СПИД. Он сам в этом был виноват, а точнее: мои методы воспитания без стрессов, наркотики, случайные любовники. Сориентировалась я ужасно поздно, уже не было надежд хотя бы на то, чтобы притормозить развитие болезни. Только вот скажите это матери. Я искала помощи у всяческих шаманов, биоэнерготерапевтов…
- И посчитали, будто бы Пристль никак не повредит?
- Я была в отчаянии. Рационально уже не думала. Я приехала сюда и предложила ему деньги за чудо. И знаете, что я услышала в ответ?
- Ну, не знаю. Что чудес не бывает?
- "Мне не нужны деньги. Пожертвуйте собственную душу".
- "Вам, господин?" – спросила я.
- "Да, Господу Наивысшему".
- "Но ведь это же невозможно, я не верю в что-то такое же смешное, как душа".
- "А в вечную жизнь своего сына мадам верит? Прошу вас, попробуйте!"
- "Да ведь это же отвратительный религиозный шантаж!" – воскликнула я, бесясь на то, что какой-то попик собирается сломить мою свободу вероисповедания.
- "Так ведь я ни к чему мадам не принуждаю. Мне кажется, тут произошла ошибка, вас направили не туда – я ведь никакой не чудотворец. Исцеляет вера. Я же, самое большее, могу молиться за мадам и за Армана…". Он сказал "Арман", месье слышит, а я ведь и не сообщила ему, как зовут моего мальчика.
- Выходит, ваш сын выздоровел? – спросил я.
- Нет, умер, - вздохнула женщина. – Тогда во мне не было достаточно веры.
- Тогда почему же вы остались здесь?
- Наш парижский врач сообщил мне по телефону, что как раз в тот момент, когда я беседовала с братом Раймондом, Арман попросил встречи со священником. А он ведь даже не был крещеным.
- Это могло быть случайностью.
- Конечно, могло быть. Вот только что-то слишком много таких случайностей. Я видела метаморфозы такого количества людей, которые очутились в зоне влияния брата Раймонда. Насмешники, которые со слезами признавались, что приехали сюда только лишь затем, чтобы сделать его смешным. Богачи, отдающие свое состояние на благотворительные цели. Пристль ничего не хотел для себя. Я видела детей с поражением работы мозга, которые начинали говорить, и мужчину с перебитым позвоночником, который обрел чувствительность в руках. Вскоре я и сама начала молиться. Поначалу несколько бессмысленно, повторяя то, что говорили другие, а потом уже и самостоятельно.
- И за кого мадам молилась?
Щеки женщины зарумянились от смущения.
- За глупых матерей… И прошу мне поверить, где-то недели две назад Раймонд сам направил на меня свой взгляд.
- "Клер, - сказал он, - ты пробыла долгий путь, я горжусь тобой. И потому осмелился иметь к тебе покорнейшую просьбу. Если я уйду, ожидай…".
- "Куда ты хотел бы уйти, Рей?".
- "Я говорю… если. А ты жди. Здесь появится мужчина, итальянец по имени Альдо, и тогда повтори ему слова: чтобы дойти, нужно идти дальше".
Я вскочил на ноги. Если это не было ловушкой, случилось нечто совершенно невероятное.
- Я – Альдо.
- Знаю. Иначе и не заговорила бы с вами.
- Он больше ничего не сказал? Где я должен его искать?
- Нет. Он сказал, что этого месье будет достаточно.
Пророк явно переоценил мою интеллигентность. Я понятия не имел, что делать дальше. Несмотря на все мои расспросы, мадам Клер стояла на своем, что Пристль ничего больше не передавал. Зато мне удалось довольно много узнать о самом Раймонде. Он был мелким, мальчишеским – таким хрупким – говорила женщина. Он был похож на тростинку, готовую сломаться при более-менее сильном порыве ветра; говорил он вполголоса, робко, иногда ему не хватало слов.
- За то у него были глаза…
- Самые обычные, ласковые, как будто затуманенные.
- Тогда где же скрывалась его сила? Чем очаровывал он людей, что те были гттовы бросить все и пойти за ним?
- Нас он завоевывал добротой и правдой. Нельзя было его не любить. Он был… Он есть, - поправилась мадам Клер, - словно сам Христос.
Должно быть, портрет был приукрашен, но я объяснил это экзальтацией пожилой дамы, в мыслях которой Пристль, явно, заменил покойного сына. Кроме того, вы начерченном ею силуэте одни свойства, казалось, исключали другие: мягкость и сила, доброта и бескомпромиссность.
- Если бы вы его только послушали, все сразу же стало бы ясным. Помню, в самом начале моего здесь пребывания, я участвовала в его беседе с женщиной. И не я одна; тогда перед замком нас здесь были тысячи. То была итальянка, мать пяти детей, и она ожидала шестого. Женщина была бедная, муж ее бросил. И она представляла рациональные аргументы в пользу абортов. Раймонд отвечал ей просто: "Женщина, не надо мучиться проблемой, которой нет. Ты избегнешь внутреннего разрыва, когда посчитаешь нечто неизбежным. Если ты принимаешь в качестве своей заповеди "Не убий", то будешь знать, что нет никаких условий, оправдывающих убийство; и ты станешь думать не о том, рожать ли дитя, но как им заняться". И он смог ее убедить. Брат Раймонд утверждал, что больше всего проблем у людей по причине избытка свободы, которую сами себе дали. Если поглядеть на жизнь в категории обязанностей и повинностей, если почаще думать о вещах неизбежных, но поменьше – о преходящей легкости…
И вот тогда я взяла голос, в нашем распоряжении было тогда множество микрофонов. Я страстно выступала к сведению роли женщины только как инкубатора, против лишения ее права на принятие решений… Говорила я весьма импульсивно.
Брат Рей парировал мое выступление деликатно и коротко:
- "Клер, а ты когда-нибудь говорила со своими родителями на тему: дискутировали ли они перед твоим рождением по вопросу: ребенок или новый автомобиль?".
Я замолкла.
- И люди принимали все это без возражений? – спросил я.
- В этом-то и заключалась его магия…
Наш разговор протянулся до полуденного времени. Потом я еще разговаривал с местным священником, который, рискуя отлучением от церкви, присоединился к крестосиним. Подобно сотрудникам Пристля, он казался потерянным. Работник стоянки выразил мучащие всех опасения:
- Его могли убить.
Я много размышлял над выражением: "Чтобы дойти, нужно идти дальше", только никак не мог этих слов интерпретировать. Вот что, черт подери, хотел он мне сообщить таким образом? Я снял частную комнату на краю города, опасаясь того, что люди Амальфиани наверняка будут меня разыскивать, и ожидал какого-нибудь знака. Еще я приобрел кассету с записями. Они не были профессиональными; в фоне были слышны отзвуки городского шума, свист ветра. Голос Пристля же звучал слабо, иногда на самой границе слышимости. Но было в нем нечто притягательное. В особенности мне понравился один псалом:
Высоко в горах мы к Богу ближе,
Между нами только тучи, солнце, ветер,
Ибо жизнь – словно путь крутой,
И каждая миля – словно много лет…
Озарение пришло во сне. В нем вернулся образ поездки на автомобиле в дождливую ночь по серпантинам дорог, руки, сжавшие руль. Дорожный указатель: "Анзер, 7 км".
Я сорвался с постели, за окном ночь, еще не начинало светать. По телефону я заказал такси.
- Вы отвезете меня в Анзер? – спросил я у таксиста с покрасневшими, как будто он только что поднялся с кровати, глазами.
- Если заплатите за обратную дорогу.
Я догадывался, чего искал в той округе Гурбиани. Высоко в горах располагался старый скит Пристля. Понятное дело, я не обманывал себя, что он мог в него вернуться, очень многие проверили это еще до меня, но раз мне нужно было "идти дальше", то куда… Там я, по крайней мере, найду какое-нибудь указание".
В Анзере из-под небольшой гостиницы неподалеку от станции канатной дороги на Секс Руж я украл горный велосипед. Вообще-то говоря, взял на время. У меня было огромное желание его вернуть. Все еще было довольно темно, но я упорно крутил педалями в сторону массива Равильхорн. После доброго часа поездки, как раз с восходом солнца я добрался до небольшой силовой станции на берегу озера Тцейзье. Я объехал здание и оставил свое транспортное средство в том месте, где тропа начала круто карабкаться под гору. Там я даже заметил выполненный любительски дорожный указатель с надписью "Cabana Priestl" (кабинка для переодевания Пристля – ит.). А утро делалось просто прелестным, на траве и альпийских цветах лежала роса, время от времени отзывались сурки. Нигде ни следа туристов. Поднимаясь выше, я услышал коровьи колокольцы. Это швейцарские "милки" выходили на свои горные пастбища. От хижины Раймонда остались только опаленные камни и куски сгоревшего дерева. Кто-то поджег скит добрую неделю назад. Но на валунах стояли поминальные лампады и лежали свежие цветы, доказывающие наличие человеческой памяти. А между камнями посетители втыкали, словно в иерусалимскую Стену Плача, листочки с просьбами и молитвами. Я отыскал пастухов. Они говорили только лишь по-французски, а мне, несмотря на несколько лет, проведенных в Париже, этот язык давался с исключительным трудом. Понятное дело, ничего они не знали, и Пристля не видели уже две недели.
В соответствии с переданным указанием, я пытался идти дальше, но после того, как был пройден очередной километр, тропа закончилась у скальной осыпи. Я вскарабкался и на нее. И вот там уже беспомощно остановился. Дальше тянулось серое каменное бездорожье, а за ним высилась покрытая снежной шапкой глыба горы Вильдштрубель. Куда ни глянь, ни следа человека, шалаша, тропки или какого-нибудь указания. Я чувствовал себя побежденным, беспомощным.
Тут я решил отдохнуть и возвращаться. И вот тут на безоблачном небе я увидел огромного орла. Он планировал с распростертыми крыльями словно покрытый перьями дельтаплан, затем сложился, словно ныряльщик для прыжка, и пикировал куда-то среди камней. После этого он взмыл вверх с пустыми когтями и снова начал свое парение, чтобы возобновить свою атаку… Когда он сделал это в третий раз, так и не поймав добычи, я посчитал, что это не может быть случайностью и знаком не пренебрег. Я направился по краю обрыва. После того совершил головоломный переход через гребень, в любую секунду рискуя свернуть себе шею. И вот тут я увидел заслоненную каменную полку. И мертвого барана, нанизанного на жердь… Это он, должно быть, приманил хищную птицу. Рядом с животным я увидал узкое отверстие. Прохладное дуновение указывало на то, что пещера проходная. Благодаря собственной предусмотрительности, я имел в рюкзаке фонарик. Я вошел в грот, сухой, но настолько тесный, что иногда приходилось передвигаться на четвереньках. Слава Богу, никаких развилок не было. Так я передвигался достаточно долгое время, как вдруг вновь забрезжил дневной свет. И еще я увидел человеческую фигуру, стоящую на фоне окна в скале. Она казалась громадной. Фигуру окружал яркий ореол, так что черт лица я видеть не мог. За то прозвучал голос: тихий, сладостный, не знаю почему – знакомый.
- Добро пожаловать, Альдо. Выходит, тебе удалось вернуться. Возблагодарим же Господа.
Я с трудом сдерживал снисходительную усмешку. Пророк Пристль явно был излишне разрекламирован, что же это за чудотворец, который не способен отличить фальшивого Гурбиани от настоящего. Кроме того, уже с самого начала меня стал раздражать его дружелюбный тон в отношении человека, которого, даже значительно менее набожные люди считали воплощением антихриста. По сравнению с учением о свидетельствовании веры это звучало до отвращения двузначно.
- Присаживайся, ты же выпьешь молока. – Он подал мне глиняную кружку. Вблизи Пристль оказался мелким, буквально маленьким, а его огненно-рыжие волосы, известные по портретам, теперь были выцветшими и редкими. – Вижу, мои слова тебя удивили. Что же, ты ведь мало чего помнишь из своей предыдущей жизни, правда? Иногда во снах возвращаются какие-то образы, какие-то слова, только все это в целость никак не складывается…
- Откуда вам это известно? – вырвалось у меня.
- Не знаю, откуда я это знаю, но знаю, - тихо ответил тот, осторожно касаясь моей головы, словно мать, ласкающая собственное дитя. Его лицо я помнил по фотографиям – но сейчас он не походил на самого себя: исхудал, черты лица заострились. – Ты голоден? Спросил Пристль. Я отрицательно покачал головой. – Итак, Альдо, наверняка бы сначала ты хотел вспомнить, что с тобой случилось в последний раз…
- Был бы весьма благодарен.
- История долгая, но времени у нас достаточно… Ну что же, три месяца назад в сионском замке появилась твоя лучшая женщина-репортер, Мейбел Финжер. Знаменитая "Сумасшедшая Мейбел", которая сумела переспать с наследником британского трона и провести для SGC репортаж он-лайн. Ты был уверен, что меня она превратит в тряпку. Осрамит фальшивого пророка, раздавит псевдосвященника, демаскирует мнимого целителя. Когда она позвонила, что возвращается с материалами, ты был уверен, что передача станет хитом. И объявил ее в программных анонсах SGC…
- Не помню, ничего не помню.
Брат Раймонд усмехнулся.
- Возможно, что для тебя это и лучше. Хотя как раз это я и обязан тебе напомнить.
Он протянул руку, словно Бог-Отец в сторону Адама на фреске Микеланджело в Сикстинской капелле, и коснулся меня кончиками пальцев. Меня пронзил электрический шок, свет неожиданно погас, но потом вспыхнул вновь. Я увидал свой кабинет в Центре SGC и Гурбиани, помешивающего пальцем лед в стакане со спиртным.
21. В поисках утраченной памяти
- Пришла Мейбел, - анонсировала синьорина Уотсон, и в ее голосе прозвучала приличная доза ненависти к более молодой и способной сотруднице.
- Пускай заваливает, - ответил Гурбиани, глотнул две таблетки и запил виски, разведенным колой. Чертовская головная боль. Раньше похмелье проходило, словно его рукой снимало после одной таблетки аспирина или быстрого утреннего минета. Сегодня не помогло ни то, ни другое.
Мейбел Финжер была рыжей и веснушчатой, но у нее все было к месту и, вроде как, в постели она тоже была хороша. Альдо не трахнул ее до сих пор по той простой причине, что терпеть не мог рыжих и веснушчатых.
Тем не менее, приветствовал он журналистку от всего сердца.
- Привет, жопка. Чего выпьешь?
- Малибу имеется?
- Глупый вопрос. У меня все имеется. – Посредством пульта дистанционного управления он призвал автоматический бар, после чего вынул молоко из холодильника. – А что у тебя для меня?
- Тринадцать часов записей скрытой камерой, но качество даже ничего. Вот только, - тут Мейбел выгнула губы подковкой, - сейчас, наверное, ты не будешь мною доволен.
- Это почему же?
- Я так и не нашла на него крючка.
- Как это? – Палец, помешивающий кусочки льда, замер. – Что, никакого? Ведь столько дней?
- Если постараться, то этих записей хватило бы на пять процессов по беатификации. Говорю тебе, шеф, он и вправду как святой. Бабла за свои услуги от людей не берет, со своими сторонницами не спит, не колется, не бухает, никем не притворяется. Только молится и… исцеляет.
- Да не пизди!
- Уже в первый день какая-то женщина при мне благодарила его за то, что метастазы рака груди бесследно исчезли…
- Эх, Мейбел, ты что, вчера родилась? Что, не знаешь, как это делается? Баба наверняка была подставой. Такая себе "святая клакерша".
- Я ее тоже в этом подозревала. Потому и проверила. Добралась до ее больницы, до ее истории болезни, до врачей. Перед приездом в Сион ей давали всего месяц жизни.
- Вот только не рассказывай мне таки обсосанные вещи. – Альдо терпеть не мог вещей, которых не понимал. – А может, и тебя кто-то подкупил?
- Тут ничего не поделаешь, шеф, я и вправду видела десятки событий, которые не помещаются в голове. Разговаривала с людьми, что собираются там. И я не выявила никаких подвохов, никакого промывания мозгов; они и вправду от всего сердца молятся там и верят, что это им помогает. И некоторым это действительно помогает.
- Если ты сейчас скажешь, что этот фокусник обратил в свою веру еще и тебя, это будет чудо из чудес.
- Успокойся, Альдо. Ты же меня знаешь. И понимаешь, что хороший репортаж я могу сделать из дерьма. Средства массовой информации навесили на Пристля репутацию колдуна для безграмотных. То есть, люди получат то, чего ожидают. Может это и не будет нокаутом, но на ринг я его повалю. Выберу самые дурацкие высказывания паломников, примеры неразумного обожествления, интервью с разочарованными, исцеления которых не произошло; с перекупщиками, что доят пилигримов, вычищая их карманы… Смонтирую слова и картинку. Глянуть будет можно. Только я не об этом хочу сейчас говорить. Он обо всем догадался!
Гурбиани чуть не упустил стакан.
- Ты чего пиздишь?! Когда же?
- Подозреваю, что с самого начала. Ну а вчера, перед самым моим отъездом, он лично посетил меня в гостинице, в Анзере.
- И что?
- Я как раз сортировала пленки, их едва удалось сунуть под одеяло. А он, прямо с порога: "Прости меня, дочь моя, но я обязан был прийти. Было бы бесчестным, если бы вас не предупредил".
- "Каких это вас?", - спросила я.
- "Тебя и Гурбиани".
- Он произнес мою фамилию?
- Да. А потом демонстративно приоткрыл одеяло. Но к плегкам не прикасался. Только глянул мне прямо в глаза, как-то чертовски странно, и сказал:
- "Скажи ему, что, хотя это и приходит с трудом, я молюсь за него. Времени мало. Боли станут усиливаться…".
- "Какие еще боли?" – спрашиваю.
- "Головные! Потом начнут появляться локальные состояния онемения, то исчезающие, то опять повторяющиеся… Передай ему, я советую, чтобы он, как можно скорее, связался с доктором Рендоном…".
- Вот зараза! Назвал имя моего личного врача… Похоже, у него повсюду имеются шпики.
- Наверняка это так. Во всяком случае, я обещала, что передам тебе все то, что он мне говорил; если он пожелает, то передам ему и твой ответ. А он на это: "Не передашь, не передашь, - и печально так усмехнулся. Хотя, если бы ты могла быть более внимательной…".
- Но пленок не отобрал?
- Пускай бы только попробовал, я такого мозгляка одной рукой бы… А теперь, если позволишь, я поеду домой немного освежиться, потом срочно берусь за монтаж.
Минут через пять я забыл об этой беседе. Впрочем, несносная головная боль полностью прекратилась. Только лишь во время просмотра вечерних известий все вернулось. По интонации в голосе диктора почувствовал, что произошло нечто важное:
- Репортер со всемирной известностью, много лет связанная с SGC, Мейбел Фингер, проезжая с большой скоростью по Виа Романа, на повороте наехала на бордюр и утратила контроль над машиной. Ее автомобиль столкнулся с ехавшим с противоположной стороны мерседесом. Журналистка не была пристегнута ремнем безопасности. Она вылетела через лобовое стекло прямиком под колеса грузовика…
Боль под черепом резко вернулась. Альдо выругался, поднялся с кресла, отставил стакан с выпивкой, пару раз прошелся по пушистому ковру, а потом начал искать номер телефона доктора Рендона.
Все обследования мы сохраняли в тайне. Даже Луке Торрезе, который сопровождал его по дороге в клинику, Альдо признался в старинных проблемах с носовыми пазухами. (А в онкологическое отделение из отоларингологии прошел по подземному коридору) Ему не хотелось никаких сплетен относительно собственного здоровья именно сейчас, когда программа "Психе" шла на коду.
Приговор прозвучал быстрее, чем он ожидал. В первый момент Гурбиани просто остолбенел.
- Эй, докторишка, ты не издеваешься? – воскликнул он. – Что это должно означать: небольшие шансы? Я располагаю неограниченными средствами.
- Средства не играют здесь никакой роли, - снизив голос, ответил Рендон. – В определенных ситуациях медицина бывает все еще беспомощна. Опухоль обширная и неоперабельная. Ее расположение в мозгу исключает возможность использования лучевой пушки. Понятное дело, что мы станем замедлять ее развитие, обеспечим всяческие средства для снижения боли…
- Может, следует повторить обследования, пригласить других специалистов…
- Альдо, по данному случаю я уже собирал три консилиума.
Только сейчас вся правда дошла до него во всей своей грубости. Он хотел подняться, но не мог, придавленный испугом.
- И сколько… доктор? – промямлил он. – Сколько у меня времени?
- У тебя здоровый, сильный организм, Альдо. А мы сделаем все… До полугода.
Той ночью он не спал. И еще пару следующих. Совершенно неожиданно, возводимое с такими трудами здание его карьеры начало валиться. Медийная империя и небывалые возможности не имели никакой силы в отношении пары клеток, в которых какое-то время назад начался процесс неконтролируемого размножения. Говорят, будто бы после завершения тридцать пятого года жизни человек хоть раз размышляет о смерти. Гурбиани вскоре должно было исполниться пятьдесят, но над смертью он ни разу не задумывался. Деньги, гормоны, шунтирование должны были обеспечить, как минимум, столько же лет классной жизни. А потом… Кто знает, на что будет способна наука? Дисней, вроде как, приказал себя заморозить. Другие составляли свои генетические копии. Через полтора десятка, самое большее, через несколько десятков лет электронная копия отсканированного мозга подарит бессмертие… Пол года! Какой же дьявол все это вызвал?! И откуда тот шаман обо всем догадался?
Гурбиани просмотрел на видео свои телевизионные выступления. Между теми, что состоялись год назад, и нынешними никакой разницы он не заметил. Тогда откуда Пристль мог знать?
Целые сутки он глушил себя спиртным, но в соединении с принятыми лекарствами это дало плачевные эффекты. Среди ночи он вышел на террасу над собственным домом. На горизонте мерцали огни Розеттины, над головой горели звезды.
- Это же какой я один-одинешенек, - сказал сам себе пьяненький Альдо и расплакался.
А ведь и правда, одиноким он был как мало кто. Друзей у него не было. К женщинам относился как к безмозглым игрушкам. Родственники? Вот уже много лет он не поддерживал контактов с этой бандой вечно голодных бездельников. Впрочем, он брезговал ними. Единственного ребенка, что мог у него быть, Лили удалила на втором месяце… Может ей не следовало этого делать…
Он глядел на огни города. За каждым из них имелось какое-то окно, жилище, люди… Долбанные муравьишки, не стоящие того. Чтобы их растоптать, но у этих муравьев, в основном, имелась какая-то цель в жизни. Что-то после себя они оставляли… детей, внуков или хотя бы память. Гурбиани вернулся в салон и начал просматривать свои самые лучшие программы. И через четверть часа разбил экран. Дерьмо! Дерьмо! Сплошное дерьмо!
Прибежала перепуганная горничная.
- Что случилось, шеф? Я нужна?
Альдо с руганью прогнал ее. Для него она была ненужной. От страха вот уже пару дней у него вообще перестал вставать.
Он отправился на чердак, где лежали чемоданы и ящики, не вскрываемые с последнего переезда. Пробираясь сквозь занавеси паутины, он нашел сундук со львами, выдавленными на массивной крышке, удивляясь тому, что никто до сих пор не сжег старую рухлядь. Открыл… Его удивил странный запах. И он не мог даже оценить, был это запах детства или смерти? Обнаружились снимки матери в сценическом костюме. Собственный школьный диплом за первое место в художественном конкурсе. Награду Общества Свободной Прессы для выдающегося студента. Несколько папок с машинописью юношеского, так никогда и не законченного романа… На самом дне пальцы нащупали какую-то крупную, запыленную рамку. Гурбиани протер стекло и увидел дитя, которого ангел ведет по самому краю мрачной пропасти. Подпись гласила: "Память о Первом Святом Причастии".
Истеричный смех звучал долго, пока не перешел в рыдания.
Прошло, должно быть, месяца два, чтобы Гурбиани дозрел до принятия решения. Для посторонних наблюдателей он мало в чем изменился. Все так же он был авторитетным, уверенным в себе, въедливо остроумным. Хотя он и забросил большую часть утех и забав, когда в этом не было необходимости, он не выходил из дому. Самым ближним сотрудникам сообщил, будто работает над чем-то крупным. И действительно, когда в резиденцию заглядывал то ли Эусебио, то ли Лили, то ли профессор Кардуччи с сообщениями относительно продвинутых работ над маскирующими декодерами, они неизменно видели его, склонившимся над ноутбуком. Что он писал, им не удалось установить, поскольку по какой-то причине эту информацию он оставлял исключительно для себя. С какого-то времени он требовал присылать ему всяческие вырезки, касающиеся Раймонда Пристля. Так же он попросил доставить ему все пленки, записанные Мейбел Фингер. Было известно, что он их просматривал, но вот что сделал потом? Ни одна кассета в архив так и не вернулась.
В какой-то день он потребовал для себя вертолет. Лететь должен был только лишь он и Торрезе. Этой поездки не было ни в каком из ранних планов, вылет напрасно было искать в расписаниях работы фирмы. Лука, как обычно, вопросов не задавал. Он лично взял управление на себя, и они направились в сторону кантона Вале. Над Альпами безумствовали грозы, но Альдо настоял на том, чтобы лететь, что удивляло охранника; до сих пор его хозяин безумной отвагой как-то не отличался. Прибыв в Сион к вечеру, они сняли номер в самой лучшей местной гостинице. Большой толкучки не было. Целитель должен был спуститься с гор только лишь через два дня. Среди ночи Лука проснулся от какого-то сумбурного сна и, ведомый интуицией, побежал к дежурному администратору, где узнал лишь только то, что двумя часами ранее его патрон сел во взятую напрокат машину и удалился в неизвестном направлении.
- И он прибыл к вам? – допытываюсь я у Пристля. Тот кивает головой. Мы сидим на пороге пещеры, угощаясь овечьим сыром и лепешками, испеченными Раймондом собственноручно на углях. – И как вы его приняли?
- Нормально.
- Но ведь в соответствии с вашей системой ценностей лн был воплощенным злом.
- Для меня он был исключительно больным, перепуганным человеком. Разве не помнишь?
- Нет.
- Тогда вспомни.
Снова меня пронзает электрический импульс, снова совершается перемена в сценах моего видения. Дождливый день, а владелец SGC стоит грязный с головы до ног на пороге шалаша пророка. Я вижу его как бы немного со стороны, сверху, сбоку…
- Ты записывался? – останавливает магната бородатый цербер, словно бы живьем взятый из комикса про Астерикса.
- Пускай войдет, - слышен тихий голос изнутри. – Благословенны блуждающие, ибо будут выпрямлены пути их.
Целитель не подал руки Гурбиани, лишь подвинул ему алюминиевый рыбацкий стульчик, сам же уселся на лавке из не струганных досок, откуда присматривался к прибывшему.
- Итак, вы приехали ко мне, в основном, за тем, чтобы спросить, откуда мне стало известно о вашей болезни, и каким образом я предвидел смерть синьоры Фингер? – говорит он, еще до того, как Альдо успевает открыть рот. Изумленный магнат лишь кивает. Этот хитроумный маг смог застать его врасплох уже первыми словами.
- Все просто, я могу видеть ауры людей. Впрочем, я их всегда видел, только когда-то не мог их правильным образом распознавать, теперь же чувство замечания их у меня несколько обострилось.
- Я понимаю, излучения биотоков больного человека отличаются от тех, которые выделяет здоровый человек, но не могу представить возможности предвидеть смерть человека в дорожной аварии. Вот это уже в голове не умещается.
- Вы когда-нибудь были в Африке? – звучит вопрос, вроде бы совершенно не по теме.
- Естественно. И не раз.
- Тогда вы должны были видеть, как по следу больного животного идут гиены. Они чувствуют добычу. И они тоже.
- Кто это – "они"?
- Я их не назову, хотя у них множество наименований. Таятся днем и ночью. Иногда ближе, иногда – дальше. Когда чувствуют, что время приходит, обкладывают душу, словно волчья стая, не допуская к ней света. И вот тогда-то делаются видимыми. Для меня, но не только…
- Вы видите дьяволов? – Альдо хочет рассмеяться, но его пронзает дрожь.
- Я вижу концентрирующуюся тьму и чувствую зло. Бедная Мейбел… Они были рядом так близко. Помочь я ей не мог, но каждодневно молюсь за нее.
- То есть, вы хотите сказать, что мою самую лучшую сотрудницу после смерти утащили в преисподнюю* - Гурбиани испытывает ярость, поскольку в этой беседе позволил заставить себя защищаться.
- Ничего подобного я не утверждал. Ибо никто не знает ни Той Стороны, ни приговоров Отца. Я лишь чувствую боль ее души, страх, страдание, по ночам слышу ее вопль из глубин… Но я не знаю, является ли ее проклятие окончательным и вечным.
- Ну ладно, святой синьор. – Альдо решает сменить тон. Я выслушал кусок проповеди, приписанной на нынешнюю дату, а теперь поговорим откровенно. Могут ли ваши биоэнерготерапевтические способности справиться с моим раком?
- Не знаю.
- Это что: уклонение или приглашение к финансовой торговле?
- Все зависит от вас.
- Тогда назовите сумму.
- Мы неверно поняли один другого. Я не торгую человеческой жизнью. Я должен знать, действительно ли вы желаете жить.
- Так кто же, мать его, не желает. Да, мир – штука паскудная, но это еще не причина, чтобы покидать его до пятидесяти лет.
- Синьор Гурбиани, каждый врач скажет вам, что обязательным условием лечения является акцептация его организмом. Нельзя помочь больному, который опустил руки и согласился со смертью.
- Так ведь я не соглашаюсь.
- Согласились вы очень давно, будучи еще ребенком, переложив ненависть к отцу-садисту и бросившей вас матери на целый мир, и обидевшись на Бога за то, что он вам не помог. А потом вы лишь ухудшали это состояние, всякий день уступая собственным слабостям, заменяя собственные страхи гордыней и наглостью. А деньги стали со временем единственным мерилом вашей собственной ценности.
- Кто вам об этом наболтал?
- Вы знаете, в языке футболистов имеется определение: "постоянные элементы игры". Пускай каждый человек и является неповторимым существом, как и все на этом свете, но когда выслушаешь тысячи исповедей…
- Я не собираюсь перед вами исповедоваться, ни сейчас, ни когда еще либо. Не позволю одурачить себя чарами и базарными фокусами. Если вы способны меня вылечить, прошу: сделайте это, в знак благодарности я даже могу построить для вас какой-нибудь монументальный храм, сравнимый с тем, хотя бы, что возвели в Польше, в какой-то провинциальной дыре, называющейся, по-моему, на "Л"[24], только прошу: не надо никаких обращений моих взглядов.
- Тогда будет лучше, если мы распрощаемся.
- Ну, естественно, хитрожопый.
Гурбиани вскакивает.
- Но я знаю, что вы и так вернетесь.
- Ты каждому это говоришь?
- В тебе столько ненависти, и столько же пустоты, ожидающей любви.
- Все это херня на палочке!
- Я буду ждать тебя и буду молиться. Не знаю, удастся ли мне исцелить твое тело, но душа важнее. Если ты сможешь найти в себе покаяние за собственные грехи, то найдешь силы и на покаяние, и на удовлетворение.
Альдо уже не хотел слушать всего этого. Он выбежал из шалаша. Дождь как раз кончил лить. Горы во всем своем величии сушились под солнцем, и половину неба перепоясывала громадная радуга.
- И вы ни на миг не усомнились в шанс переубеждения Гурбиани? – спрашиваю я Раймонда Пристля.
- Мне нельзя было. Я знал, что засеял зерно. И чувствовал, что оно глубоко запало. Гурбиани, пускай обиженный и взбешенный, вышел отсюда другим человеком. Хотя, возможно, он и сам того не понимал. Впрочем, прошу припомнить самому.
В Сионе он очутился уже к вечеру, уставший, с раскалывающейся головой, злой оттого, что зря потратил время. К тому же, пророк привил ему дополнительное беспокойство в душе… Они. Ждущие, окружающие его все более тесным кругом. Дьяволы? Слуги сатаны? Эринии? Полнейшая чушь. И что этот чертов монах сделал такого, что даже сейчас Альдо чувствовал их присутствие… Могущество долбаного убеждения!...
Он поставил магтнку на стоянку и возвращался в гостиницу через мост на Роне. После недавних дождей река вздулась, только, погруженный в раздумья, он не обращал на это внимания. Тут же подумал, а вот тот звук, который услышал, это отражение собственных шагов по каменной балюстраде или же… Из задумчивости его вырвал вопль:
- Au secours, au secours!
Гурбиани поднял голову. На помощь звала пожилая женщина, бегущая по набережной: во вспененном течении была видна светлая головка совершенно маленького ребенка, пытающегося удержаться на поверхности.
- Люди, ради Бога, помогите хоть кто-нибудь! – кричала старушка.
Гурбиани огляделся: и на мосту и на берегу было множество зевак, только не спешил на помощь. Тут ребенок пропал под водой. Похоже, там был водоворот. По приказу неожиданного импульса, Альдо сбросил туфли и прыгнул с моста. Через мгновение он уже был рядом с малышкой, это само течение подтянуло его к ней. Он нырнул, нашел маленькое тельце, вырвал его из пучины и потащил к берегу. И он не знал, откуда в нем столько сил… Тут же появилась какая-то лодка, их обоих затащили в нее. Люди на берегу аплодировали. После того, как они прибились к берегу, все внимание сконцентрировалось на девочке, кто-то делал ей искусственное дыхание, подъехала скорая помощь. Альдо же сбежал. Он был весь мокрый, без обуви, правда, до гостиницы оставалась всего пара метров.
- Боже, что же это с вами случилось?, - воскликнула, увидев его, женщина-портье.
- Лило слишком, - ответил он ей и потащился к себе в апартаменты, где сразу же переоделся в халат.
Через минуту прибежал возбужденный Лука Торрезе.
- Шеф, куда же вы подевались? – начал он. – Черт! Ну и пересрал же я из-за вас.
- Совершенно напрасно, это я устроил себе небольшую экскурсию.
- Так нужно было меня предупредить… Да, тут вам кто-то посылку прислал.
- Посылку?
- Похоже, это какая-то книжка, я не открывал, но детектор на наличие металла не указывает.
- Хорошо. Принеси мне выпить пару глотков.
- Когда Лука вышел, он распаковал посылку. Там и вправду была книга: Священное Писание Ветхого и Нового Завета.
- Кто ее принес? – спросил Гурбиани у вернувшегося охранника. – И когда?
- Около одиннадцати. Рыжеватый такой, худой мужчина, лет около тридцати, с очень милым голосом.
Альдо не стал это комментировать. Хотя, согласно широко распространенным слухам, Пристль мог быть в нескольких метах одновременно, сам он в эти бредни верить не собирался. Одно хорошо, головная боль прошла. Кладясь в постель, он машинально взял присланную книгу и открыл в первом попавшемся месте. Это был фрагмент Деяний Апостолов. И он начал читать вполголоса:
"Савл все еще сеял ужас и жаждал убивать учеников Господних. Он отправился к верховному священнику и попросил дать ему письма в синагоги Дамаска, чтобы иметь возможность пленить там и привести в Иерусалим мужчин и женщин, сторонников того пути, если каких обнаружит. И вот когда уже приближался он к Дамаску, неожиданно ослепила его ясность с неба. Когда же упал он на землю, услышал голос, говорящий: "Савл, Савл, за что же ты меня преследуешь?". "Кто ты, Господи?", - спросил он. А Он: "Я – Иисус, которого ты преследуешь. Встань и войди в город, а там тебе скажут, что тебе надлежит делать"…
Это последнее воспоминание совершенно ошарашило меня. Когда я прервал путешествие в собственную память, то увидал на лице Раймонда улыбку довольного собой человека.
- Только я не знал, что твоя перемена начнется так быстро, - сказал он и спросил: - Что было дальше, помнишь?
- Не столько помню, сколько мне удалось определить. После возвращения Гурбиани сильно изменился. Вроде как, он даже думал о реформировании SGC, во всяком случае, об отказе о программе "Психе"… Да, кстати, вы знаете, что это такое?
- Догадываюсь, что нечто весьма гадкое. А сам ты вновь не помнишь?
- Помогите, пожалуйста, тогда вспомню.
С разлохмаченной гривой седых волос, под доской, заполненной математическими формулами, профессор Кардуччи и вправду выглядел клоном Альберта Эйнштейна. Кто его знает, а вдруг он и был им на самом деле. Во всяком случае, небольшая группка людей, собранная в подземном, "безопасном кабинете" небоскреба SGC, всматривалась в него, как в оракула.
- Несмотря на обязательные запреты, исследования над крипторекламой, то есть такой, которая незаметно проникает в человеческий мозг и вызывает желаемые результаты, велись уже с давнего времени, - сообщает ученый. – Были известны процедуры по монтажу отдельных "невидимых" кадров в фильмы и им подобные простые методики. Все они обладают тремя основными слабостями: они требуют довольно длительного времени воздействия; они не являются эффективными на все сто процентов и, что самое худшее, могут быть легко выявлены. Современный научный прогресс позволяет обойти эти препятствия. Миниатюризация в электронике приводит к тому, что компьютеры, которые в шестидесятых годах прошлого века занимали сотни шкафов, в восьмидесятые годы превратились в небольшие кубики, а в девяностые годы появились процессоры величиной с булавочную головку. Сегодня уже имеются прототипы устройств, не больших частицы гемоглобина. Представим себе, что, введенные в человеческий мозг, они станут там действовать как своеобразные декодеры импульсов, посылаемых передающими станциями. Эти импульсы для проверяющих нас органов и наших конкурентов представляли бы незаметную часть передачи, лишь декодеры преобразовали бы их в определенные реакции в мозгу, превращая предложения в безусловное принуждение. Реклама "Пейте гурби-колу" в сопоставлении со скрытым импульсом запустит незамедлительное чувство голодного желания по данному напитку, жажду, сравнимую, разве что, с желанием наркотика.
- Гениально, - потирает руки Розенкранц. – С помощью подобного устройства можно будет продавать любое дерьмо.
- Скажи им о возможностях стимуляции высших потребностей! – вмешивается Альдо Гурбиани, восхищенный, словно ребенок, которому пообещали новую, замечательную игрушку.
- Действительно, - сглатывает слюну Уго. – При наличии соответствующей программы, мы способны вызвать акцептацию любой идеи или поддержку назначенного нами человека.
- Наконец-то закончатся эти дурацкие избирательные кампании, - хлопает в ладоши Лили Уотсон.
- Но ведь тогда люди должны иметь у себя в башках наши декодеры. А это, наверное, сложно, - сомневается Эусебио.
- Но исполнимо. Даже в масштабах всего человечества, - сообщает Альдо, а Кардуччи кивает.
- Вот только как вы представляете операцию по добровольной прививке миллиардам людей? – спрашивает Лили.
- Это, как раз, проще всего; микропроцессоры могут находиться в продуктах питания, к примеру, в фирменных шоколадках, которые, в качестве праздничных сувениров, мы разошлем всем абонентам наших телевизионных станций. Процессоры устойчивы к действию желудочного сока, вместе с тем, они способны проникать сквозь слизистые оболочки, так что попадут в кровь и, несомые ее током, застрянут в мозгу, в тонких сосудах…
- А какова цена такой операции… - интересуется Эусебио. – Если будет слишком высокой…
- В случае массового производства, стоимость одной "шоколадки" не превысит сотни евро.
- Тогда нам и так необходимы миллиарды даже на эксперименты в каком-то регионе страны.
- Затраты возвратятся сторицей, - заверяет Гурбиани.
- У нас нет столько средств, - вздыхает Розенкранц.
- Этой проблемой займется мой банк, - заявляет вышедший из-за опоры мужчина.
Уго и Эусебио изумленно глядят на шефа. Кто, черт подери, этот человек, который прислушивался к их тайному совещанию? Лили, похоже, его знает, поскольку удивленной не выглядит.
- Ах, правда, забыл представить, - нервно смеется Гурбиани. – Это синьор Никколо Заккария, владелец Банко Амальфиа… Ансельмиано. Главный компаньон нашего замечательного предприятия.
Очередная смена в сценах моих воспоминаний. Похоже, это уже после возвращения из Сиона. Лаборатория SGC. За окном ночь. Всматривающийся в компьютерный монитор Кардуччи.
- Мы близимся к финалу, шеф. Через три недели прототип будет готов, мы можем запускать производство. Заводы в Малайзии только и ждут…
- Я как раз пришел об этом поговорить, Уго. У некоторых имеются сомнения относительно нашего предприятия. Я говорил по данному вопросу с директором Липпи.
- Сомнений только у коровы нет, - соглашается Кардуччи. – В направленном вам рапорте я сигнализировал о слабом пункте, которым является поддержание контроля над передатчиками. Если кто-то их захватит или накроет наши волны более сильным импульсом, людская орда с привитыми им процессорами станет слушать команд кого-то другого.
- Я думаю о еще большей угрозе. Мои размышления касаются вот чего: а имеем ли мы право на подобное вторжение в людские умы, на такие манипуляции?
Уго поднимается, срывает очки с носа.
- И это говорите вы? Вы, кто много лет поддерживал мои исследования, устранял мои сомнения.
- Ну а если я скажу тебе, что изменился? Что обдумал кое-какие вещи, и что теперь охотнее всего бы желал отступить.
- Можете на меня рассчитывать, а то с некоторого времени я чувствовал себя словно ученик волшебника. Охотнее всего я бы вернулся к работе над своими микропроцессорами для потребностей медицины. На этом ведь тоже можно заработать.
- Я рад, что м думаем одинаково. Только пока что пускай это останется между нами. Нам следовать действовать крайне осторожно. SGC уже потратила на это кучу денег. У нас серьезные долги. Я уже не говорю о миллиардах недавнего кредита от Банко Ансельмиано…
- Следовательно…
- А кто-нибудь кроме тебя мог бы контролировать подготовительный этап?
- Исключено. Целость концепции у меня в голове, сотрудникам известны только лишь детали, головная схема имеется лишь в зашифрованных файлах в моем компьютере. Ну, и вы тоже когда-то получили дискетку…
- Я ее скопировал и, на всякий случай, уничтожил.
- Это хорошо. Тогда ожидаю инструкций.
- Пока что, Уго, мы должны потянуть время. Пускай появятся непредвиденные трудности в работе над прототипом, конструктивные ошибки. Я хочу, чтобы внедрение программы запаздывало. Пускай даже и до полугода. А если бы со мной что-то произошло…
- Вы чего-то опасаетесь?
- Все мы смертны, Уго. Так вот, если со мной что-нибудь случится, ты отправишься в Швейцарию, в Сион. А там отыщешь человека по имени Раймонд Пристль.
- И это обещание Кардуччи не исполнил, - говорю я Раймонду, в значительной мере уже уставший от беседы и придавленный множеством фактов.
- Возможно, он не мог. Возможно, он оказался в чем-то вроде домашнего ареста. Может, его шантажировали.
- Такое возможно. Чем больше я вспоминаю себя из тех дней, тем больше вижу, каким я был наивным…
Через пробитую пробку в плотине беспамятства вливаются очередные образы. Беседа с Липпи на яхте. Настроения Лили Уотсон. Неопределенное беспокойство Торрезе, которое я недооцениваю. Потом странная встреча в SGC… В полночь у себя в кабинете я застаю Розенкранца, Бьянки и Лили Уотсон. Изумленные моим прибытием, они оправдываются, будто бы дорабатывают мелочи завтрашнего открытия Festa d'Amore.
- Мне бы не хотелось участвовать в гран-параде, - говорю я им. – Что-то я паршиво себя чувствую.
- Но парад без Великого Сатаны будет полным провалом, - восклицают все хором.
Уступаю им.
- Ладно, ладно. Буду я Великим Сатаной. – Но про себя добавляю: Это уже в последний раз! Не могу же я давать им поводов для подозрений. Особенно сейчас, когда мой план кристаллизуется. Мне необходимо отодвинуть нынешних сотрудников от рычагов власти. Если все хорошо приготовить.
Под утро принимаю звонок от Заккарии. Он настаивает на встрече. Допытывается, все ли в порядке с программой.
- Синьор Амальфиани выложил очень большие деньги, - неоднократно повторяет он.
- Все будет в порядке, - успокаиваю я его. И задумываюсь над тем, а вдруг беспокойство мафиози – это нечто большее, чем интуиция.
- Тогда он хотел сделать точно то же, что делаю сейчас, - говорю я Пристлю. – Но был весьма неосторожен, не принял во внимание, что за ним следят на всех уровнях, а ближайшие сотрудники готовы нанять убийц. К тому же вам захотят приписать роль вдохновителя преступления.
- Потому-то я здесь и укрылся, - поясняет Раймонд. – Я прекрасно понимаю, что они меня разыскивают точно так же, как и тебя, Альдо.
- Я не Альдо, - восклицаю я. – И не желаю им быть. Но боюсь, что вместе с обретением памяти Гурбиани может подавить Деросси.
- Даже если, брат мой, это будет уже новый Гурбиани?...
- Новый или старый, ненавижу их обоих. Не будем себя обманывать, ведь это же каналья, которая повернулась к добру исключительно из трусости.
- Не подходи к этому столь эмоционально, - очень тепло говорит рыжий монах. – Ведь кто-то из нас – не трус.
- Например, вы!
Раймонд горько усмехается.
- Ты даже не знаешь, как часто я боюсь. Как прошу у Предвечного отца, чтобы тот отвел от меня боль и страдания, что приписаны мне в будущем. А Гурбинани… Вопреки кажущемуся, не следует судить его слишком сурово. Чем он отличался от других людей своего времени? Возможно, масштабом деятельности, предприимчивости, отсутствием ханжества. Прошли ведь те времена, когда ханжество считали дань порока, сложенную добродетели… Разве не следует видеть тебя, Альдо, в качестве наиболее представительного продукта этого мира. Порожденный по образу его и подобию. Ты – его последствие и его отчаяние.
Молчу, ибо тогда придется сказать, что оправдывая Гурбиани, тем самым он еще сильнее осуждает меня, Альфредо Деросси, прозванного "Il Cane" – праотца торжествующего зла, демиурга этого великолепного мира.
- Не терзай себя, брат мой, - угадывает мои мысли пророк. – Воистину говорю тебе: были и во стократ большие грешники, но пришли они к святости в Господе.
22. Время апокалипсиса
Солнце достигает зенита, пещера, освещаемая до сих пор через восточный выход, погружается во мрак, так что мы выходим на скальную полку, прищуривая глаза и поглощая чистый, будто хрусталь, воздух.
- И что мне далее делать? – спрашиваю я у Пристля.
- А что бы ты хотел?
- Наверное, ты рассчитываешь на то, что я возьму на себя роль Гурбинани, прогоню тех бандитов из правления SGC и превращу эту машину разврата в орудие новой евангелизации:
- Если желаешь и можешь, сделай это.
- А ты дашь мне отпущение грехов? Ведь мою исповедь ты услышал?
- Этого я сделать не могу, поскольку епископ Сиона отказал мне в праве совершать таинства. Правда, я мог бы сослаться на высшее благословение…
- От кого?
Долю секунду он колеблется, отвечать ли.
- От Святого Отца. Я был у него, прежде чем спустился, чтобы проповедовать. Он страдал мучительными болями, от которых никакой медик не мог найти лекарства. Мы встретились в Ватиканских садах, я избавил его от страданий, а потом мы долго разговаривали, откровенно и сердечно. Я сообщил ему, что совершенно не желаю заменять собой ни Церкви, ни иерархов, но всего лишь облегчать людские страдания и давать свидетельство веры.
- Так продолжай это делать, - сказал мне тогда римский епископ. – Вслух я поддержать этого не могу, Конгрегация по вопросам доктрины веры работает крайне медленно, но я даю тебе свое благословение".
- "Спасибо, Отче!", - воскликнул я, целуя кольцо Рыбака, а он продолжал говорить, наполовину сам себе, наполовину светлым и темным фигурам, которых было полно в садах, но которые один лишь я мог почувствовать.
- "Возможно, уже и время, возможно, время и пришло".
- "Время чему, Святой Отец?".
- "Новой Церкви. – Я задрожал, поскольку прозвучало это словно чистой воды ересь. Тем более, в устах наместника Христа. – Много знаков говорит о том, что наша миссия исполнилась. Мы зависли между ритуалом и попыткой идти в ногу с новым временем. Народу надоели мистерии, интеллектуалы слишком горячо пытаются склонить детей божьих к новым течениям в каждой их сфер науки, искусства, политики. Одни хотят искать подтверждений в науке, другие предполагают, что натура веры и науки разделена. Что материя и абсолют не имеют точек соприкосновения. Только ведь нет веры без чуда, ибо откуда бы она взялась; без откровений пророков, без Сына Божия, без свидетельств мучеников вера превратилась бы в литературную фикцию. Нам нужны чудеса. Множество чудес. И кто же их вызовет? Наша церковь превратилась в организацию, которую сложно поддерживать, а еще труднее – реформировать. А человечество, как никогда, нуждается в самом простом: в чистосердечной вере, в творческом примере. Если церковь должна пережить третье тысячелетие, ей нужны жертвенные проводники, и ей нужны чудеса. И я верю, что совершить их удастся как раз тебе".
Я хотел еще что-то сказать, но он ушел, не прощаясь, и только входя в стены Ватикана, повернулся на пороге и начертал настолько огромный крест, что я почувствовал его на своей спине словно громадное бремя, превосходящее мои силы.
- Так ты создашь новую Церковь? – спросил я.
- Не знаю, кто ее создаст и кто ее увидит, ибо это не будет скоро. Может, ты, а может, твои дети…
- У меня нет детей.
- Так будешь их иметь. А теперь оставь меня здесь. Я устал.
- Но, оставаясь в укрытии, откуда возьмешь ты верующих, священников, миссионеров? Когда ты исчез, все твои люди разбежались.
- Под крестом толп сторонников Христа тоже не было видно. Но можешь ли ты заглянуть в сердца моих учеников, тех самых, что сейчас сбежали? Знаешь ли ты, насколько они изменились в собственных сердцах? Насколько показывают они пример своему окружению, своей семье? Я знаю, что потребность огромна, ибо без веры человек погибнет, закончится как вид, уступая место киборгам или превращая эту планету в лишенную жизни груду магмы. Только рецептом спасения не может быть новая секта, которых сегодня хватает, но движение снизу, без желания выгоды, нарождающееся в душе каждого человека.
- А не слишком ли наивно такое желание?
- Иногда я вижу, как эти человеческие капельки сливаются в ручейки, ручьи – в потоки, а те – в реки.
- Но кто же направит такую реку без организации, без иерархии?
- Будут новые чудеса, и будут новые мученики. Будут… - он прервался на полуслове. Мрачная тень пала на него. Я поднял голову и увидел несколько мужчин в маскировочной униформе десантников, вооруженных автоматическим оружием.
- Мы нашли их, - доложил самый рослый из них в микрофон у воротника. – Обоих.
Несмотря на нетипичную одежду и лицо, покрытое гримом, я узнал его сразу же. Это был мой водитель Франко. Убийца Торрезе, Габриэля Закса и, наверняка, министра Вольпони… Я хотел отступить, но из глубины каменного коридора доносился стук подбитых железом подошв. Путь к отступлению был отрезан. Я поглядел на Раймонда. Тот побледнел, с прикрытыми веками он походил на человека, стоящего на вершине башни и готовящегося спрыгнуть с нее.
Вошло двое вооруженных мужчин, а за ними толстяк со стальным взглядом. Никколо Заккария собственной персоной.
- Теперь видишь свою ошибку, Альдо? – сказал он, усмехаясь самым низом смуглого лица, остальная часть оставалась неподвижной. – Что за моча тебе в голову стукнула? Пожелал рискнуть всем ради какого-то стукнутого оборванца. Если ты не желал играть с нами, было бы, по крайней мере, лучше спрятаться… А так… - Он вытащил из кобуры пистолет и начал играться ним, словно доморощенный ковбой. – Полный проигрыш. А ты, святой синьор, - неожиданно обратился он к Пристлю, - чего стоишь как столб? Сделай чего-нибудь, какое-нибудь маленькое чудо, прерати меня, к примеру, в жабу или взлети вверх, или, по крайней мере, исчезни, потому что, если говорить про хождение по водам, так воды здесь как раз мало.
Наемники загоготали. Пристль широко открыл до сих пор прикрытые веками глаза.
- Не святотатствуй, человек, ибо еще сегодня ты предстанешь пред Наивысшим Судией.
- Вот этого было слишком много даже для человека со стальными нервами.
- Я пропущу тебя вперед, Мессиишка, - процедил Заккария. И выстрелил. Пуля попала Раймонду в грудь и бросила на камень. Заккария выстрелил еще два раза, после чего огонь открыли его коммандос. Несчастное, маленькое тельце они секли очередями до тех пор, пока оно не превратилось в кровавый фарш. И не произошло никакого чуда, не затряслась земля, не потемнело солнце. Превратившись в камень, я ожидал своей участи, но Франко лишь подтолкнул меня в сторону скального прохода.
- Пошли, - рявкнул он.
С ревом ротора на плоскогорье сел вертолет. Мой водитель сковал мне запястья наручниками, затолкал в средину, после чего сам уселся со мной. Рядом с пилотом устроился дон Заккария.
- Летим, - приказал он и обратился к своим бандитам: - Так, ребята, вы знаете, что делать, рассредоточьтесь, каждый возвращается по отдельности…
Вертолет взлетел, блеснули заснеженные вершины, под нами пролегло черное зеркало озера Тцейзье. Ну совершенно, как будто бы ничего и не произошло.
- А меня не убьешь? – спросил я у Заккарии. – Ждешь приказа от Амальфиани?
- Дурак! – расхохотался тот. – Неужто за все те годы нашего сотрудничества ты так и не понял, что Амальфиани – это я?
Этим он меня уел. Действительно, такое мне и в голову не приходило.
- И только не пытайся притворяться, будто бы ты какой-то долбаный клон. Лино, возможно, на такое и клюнул. Я же знаю, что никакого клонирования не было, что ты – это ты.
- То есть, о себе я уже кое-что узнал, - говорю. – Как я понимаю, ты не спас меня из христианского милосердия.
- У меня для тебя предложение, от которого тебе никак не отказаться, - расхохотался банкир. – Если будешь вести себя разумно, сохранишь жизнь и приличную часть состояния. И уже совершенно бесплатно могу подкинуть тебе твою женщину, за которой в госпитале следят мои люди.
- И какова же цена?
- Продолжение программы "Психе" под нашим контролем.
- Но зачем я вам нужен? – удивленно спросил я. – А Уго Кардуччи?
- Он оказался конченным идиотом, - сообщил мафиози, и в первый раз я услышал в его голосе что-то вроде печали.
Я поглядел на свою одежду, на ней еще была кровь Раймонда Пристля.
Можно лишь приблизительно воспроизвести, что же той ночью произошло в небоскребе SCG. Все, что я знаю, это сообщения Лили Уотсон, которой повезло, а точнее, не повезло очутиться в самом центре событий.
Та легкость, с которой я справился с Лино Павоне, породила замешательство в рядах заговорщиков.
- Мы его найдем, - обещал Заккария на импровизированной встрече с триумвиратом, управляющим SGC, в составе: Розенкранца, Бьянки и Кардуччи. Совещание происходило ближе к вечеру в "безопасном кабинете" офисного здания. – Выслеживаемый властями, подозреваемый в убийстве, к тому же, с серьезными провалами в памяти, Альдо никак не может нам в данный момент помешать. Самое главное, чтобы Уго вложился в сроки. Когда заводы в Куала Лумпуре получат прототип?
Глаза присутствующих направились в сторону Кардуччи.
- Мы делаем все возможное, но появились мелкие сложности… - пробормотал профессор.
Выглядел он совершенно нехорошо, у него были красные от бессонницы глаза, руки тряслись.
- Сроки необходимо выдержать, я уже вбухал в этот проект целое состояние, - в голосе Заккарии прозвучала угроза.
- Корпорация тоже в долгах, - вмешалась Лили Уотсон.
- Вот если бы мы могли добраться до активов Альдо. – Эусебио нервно кусает чубук трубки. – На Кайманах и в Белизе у него припрятана куча денег.
- Его поимка – вопрос нескольких дней, - успокаивает всех президент Банко Ансельмиано. – Правда, Лино он не проболтался, но мы и так знаем, куда он направляется. Он желает найти того чудотворца, который так намешал ему в голове и довел до нынешнего состояния вещей. И это очень хорошо. Мои парни уже идут по следу. Пускай он отыщет "пророка", и тут мы прихлопнем их обоих. Я вылетаю в Швейцарию на рассвете. Ситуация находится под контролем.
- А вдруг Сальваторе начнет болтать, - беспокоится Бьянки. – Правда, мы отослали его в самую Австралию…
- Ах, да, вы же еще не знаете, - скалит зубы Эусебио. – Коллеги, совершенно забыл вам сообщить. Тут у меня мэйл из сегодняшнего "Брисбейн Джорнел". Сами можете прочесть: Страшный пожар опустошает южный Куинсленд. Известный итальянский телевизионный менеджер вместе с семьей стал жертвой огня…
Лицо Кардуччи делается мелово-белым.
- Вы его убили? – шепчет он. – Но ведь мне обещали…
- А ты, профессоришка, занимайся своими делами, - Розенкранц стучит головкой трубки по краю бронзовой пепельницы. – В бизнесе симпатий к кому-либо не бывает.
- Но ведь, Господи!...
- Успокойся, Уго, не надо вопить. Одним из первых экспериментов, которые мы проведем с помощью "Психе", станет избавление от этого Старого Синьора, - смеется Бьянки. – В течение пары тысяч лет библейские бредни замусорили человеческие умы. Наша программа уничтожит его точно так же, как конкурентов гурби-колы или SGC Production.
- Тут самое главное, координировать наши действия. Было ошибкой, что в первый раз мы доверили устранение Гурбиани любителям. Я и не знал, что у нас сотрудничество сложится так здорово. – Лили Уотсон подмигивает Никколо Заккарии. – Да, при случае, а не останетесь ли вы у нас на ночь? Я приготовила апартаменты на наивысшем этаже. С эскортом…
- Если оно будет на столь же высоком уровне, - отвечает мафиози, - "нет" не скажу.
Ужинает он вместе с Бьянки и Розенкранцем в компании красивых девушек, после чего три наиболее красивые из них, в воздушных, словно из белого лета сотканных одеяниях, под веселый смех ведут его в помещения на верхнем этаже, называемые "садом наслаждений".
Расставаясь, никто не имел понятия, как скоро придется им встретиться вновь. Через четверть часа после полуночи Розенкранца, проживающего, подобно коллегам из правления в шикарных апартаментах на двадцать девятом этаже SGC Center, будит телефон из помещения охраны. Датчики на высших этажах указывают на высокую концентрацию дыма в воздухе…
- Пожар? Где?
- Мы подозреваем, что это в лабораториях. Двадцать первый и двадцать второй этажи. К сожалению, там датчики и аварийная сигнализация не работают, но с улицы виден огонь.
- Огонь? Невозможно, у нас ведь самые лучшие противопожарные установки.
- Кто-то их отключил. Не сработали ни мониторинг, ни орошающие системы. В самой лаборатории никто не отвечает, камеры слепы.
- Пошлите туда людей!
Через пять минут докладывают о весьма тревожных известиях.
Группам пришлось возвратиться. От двадцатого этажа и выше здание охвачено огнем. Пожар сразу вспыхнул во всем лабораторном комплексе. Вам следует эвакуироваться. Немедленно!
Разнервничавшийся Эусебио натягивает халат.
- Вы не можете установить, где находится этот сукин сын Кардуччи? – кричит он в интерком.
- После ухода остальных сотрудников он остался сам в лаборатории и уже ее не покидал.
Телефон замолкает. Дыма уже все больше. Розенкранц выскакивает в коридор. В холле беспомощно суетятся Лили Уотсон, Лео Бьянки, Летиция Ромеро и несколько других ведущих сотрудников Консорциума.
- Что там с лифтами? – спрашивает главная редактор "Минеттио".
- Не действуют.
- Нам надо убегать по лестницам вниз, - паникует Бьянки.
Все бросаются к дверям. Только это никак не лучшая идея; по всем стоякам валят клубы черного дыма. Похоже, где-то внизу отказали противопожарные двери. Или же их кто-то открыл…
- На крышу! – кричит Эусебио. – У нас же имеются вертолеты.
- Но куда?
На два этажа все поднимаются, обернув головы мокрыми полотенцами. Далее, к счастью, имеются внутренние лестницы. Дует ветер, дыма здесь немного, можно идти без помех. Откуда-то снизу доносятся взрывы. Лопаются громадные, опалесцирующие листы стекла. Глав Консорциума охватывает паника. Летиция Ромеро падает, по ее телу бегут без малейшей жалости…
"Босяки", - думает Лили Уотсон, которой удалось вырваться вперед, - "как мы, собственно, собрали эту банду?". Женщина пытается понять, а что вообще произошло. Все указывает на сознательный поджог. Ей вспоминается выражение лица Кардуччи, когда они прощались. Все так, то было лицо самоубийцы. Понятно, это Уго уничтожил мастерские и компьютеры, забирая тайну "Писихе" в могилу. Вот только, собственно, зачем он это сделал?
Крыша все ближе. Становится слышным грохот могучего двигателя вертолета. Это самое главное. С ужасом она думает о количестве желающих, которые наверняка станут драться за место в вертолете. Кто-то обязан их успокоить, все разъяснить, ведь до ближайшей посадочной площадки на крыше отеля "Шератон" в обе стороны лететь меньше шести минут, два-три курса и всех эвакуируют.
Первые беглецы вбегают на террасу и ошарашено замирают – вертолет уже в воздухе. Он неподвижно завис в трех-четырех метрах над плитой посадочной площадки. Поток воздуха от лопастей чуть ли не сметает людей с террасы.
- Кто же это там? – напрягает взгляд Лили.
Ну понятно, Никколо Заккария. Никколо и три соски из эскорта. За рукоятками управления Лили видит квадратную рожу Франко Пини – "шофера по мокрой работе".
Ниже машины, не имея возможности ее достать, скачет Розенкранц, он размахивает руками, что-то кричит, показывает, чтобы вертолет подождал, ведь в кабине еще куча свободного места.
"Ну что за кретин?!" – думает Уотсон, подбегает к direttore и вопит ему прямо в ухо:
- Ек задерживай их, Франко высадит Никколо и вернется за остальными.
- Вернется? Ты получше присмотрись к этому сукину сыну Заккарии и на его довольную рожу… Не вернется.
И правда. На лице мафиози заметна гримаса мстительного удовлетворения. Он машет рукой в знак прощания, после чего вертолет неспешно облетает крышу.
- Да что же он творит, что творит… - сопит Бьянки. – Мы же сообщники.
- Без Кардуччи мы не представляем для него никакой ценности. Если только он захватит Альдо, то в его компьютере найдет все необходимое, чтобы возобновить программу. Мы же представляем собой ненужную группу, с которой нужно будет делиться добычей.
Похоже, Бьянки этого не понимает.
- Прошу всех успокоиться, - кричит он напирающим сотрудникам SGC. – Встаньте в алфавитном порядке, время у нас еще есть, Франко сейчас прилетит. Два-три курса – и он заберет всех.
Если у кого и имелись иллюзии, тот теряет их, видя, как машина облетает цилиндрическую махину "Шератона", направляясь в сторону Монтанийских Нагорий. Теперь можно рассчитывать только лишь на помощь городских служб. Откуда-то снизу доносится вой первой пожарной машины. Ну а что с вертолетами, вернулись ли они на базу после последнего пожара в Апеннинах?
Оглушительный взрыв. Массы раскаленного воздуха раскалывают световой люк на громадном патио. Люди разлетаются по крыше, словно биллиардные шары. В образовавшейся в результате взрыва дыре все больше накапливается дыма, а вскоре появились и языки пламени. Лили вспоминаются изображения ада из эротического фильма ужасов "Бал у сатаны" (производство SGC, сто двадцать семь миллионов зрителей в течение года). "Это ожидает всех нас", - размышляет она с отчаянием. При таком темпе распространения огня спасательные вертолеты просто не имеют права успеть. Ей хочется плакать, но в этот момент в ней отзывается другая Уотсон, твердая словно камень. "Думай логично, поразмысли, что ты можешь сделать".
Женщина доходит до края крыши, перелезает защитный барьер. Высовывает голову… С северной стороны, если не считать лабораторных этажей, фасад выглядит практически целым. Видны проблесковые маячки пожарных и полицейских машин. Вот только пожарники сильно помочь не могут: их лестницы не доходят выше десятого этажа. На ярко освещенной Пьяцца Гарибальди уже размещаются телевизионщики. Прямая передача с крупного пожара, пускай и посреди ночи, для них это подарочек, отказаться от которого невозможно. Наверняка там есть и наши группы – с горечью думает начальница секретариата концерна. Тут же ее взгляд падает на громадные буквы SGC в нескольких метрах от нее, каждая из которых имеет более четырех метров в высоту. Неоновые трубки, вообще-то, погасли в самом начале пожара, но конструкция выглядит солидно. От здания ее отделяют солидные стальные, негорючие балки. Вот если бы добраться туда… Пару недель назад она видела программу. Три канатоходца, без какой-либо страховки, именно здесь, на буквах с неоновой подсветкой, совершали десятки трюков под "Турецкий марш" Моцарта, заканчивая эффектным стриптизом внутри буквы "G".
Так почему бы мне не попробовать, я молодая, спортивная – Лили стряхивает свои туфли от Гуччи, отбрасывает узкую юбку. Доходит до балки, легко касается ее пальцами ступни, словно прыгун, исследующий место толчка. Балка узкая, но, по крайней мере, прямая и шершавая. Еще девочкой Лили тренировалась на бревне, чувство агорафобии ей чуждо. Тем временем, гул подступающего огня делается все громче. Дальше. Женщина смело входит на опору. "Думай о чем-нибудь другом", - заставляет она себя. Сейчас ты всего лишь в спортзале в Нью-Йорке, десять лет назад, мама и Чарльз где-то тут. Не гляди вниз. Выпрямись, втяни живот, улыбочка! Пять секунд, и вот она уже держится за букву "S". Удалось!
По узенькой подставке она переходит на другую сторону подсвеченной буквы. Для потребностей обслуживания там размещены невидимые снизу захваты для рук. Там можно даже и присесть, переждать. Лили не знает, что крупный план ее напряженного лица посредством спутников сейчас передается на весь мир. Завтра она очутится на обложке "Супермедия". Но пока что длится страшное сегодня.
- Лили, Лили, - доносится сзади пискливый голос Розенкранца. – К тебе пройти можно?
Только его здесь не хватает. Девушка с беспокойством думает о десятках других беженцев, стремящихся вслед за direttore. Выдержит ли неоновая вывеска всех желающих, не станут ли они спихивать один другого. Но что ей ответить? Тем более, ей известно, что с нынешней техникой направленный микрофон способен зарегистрировать даже ее дыхание.
- Смело, Эусебио, - кричит она в ответ. – Это не так сложно.
Розенкранц умирает от страха. И он даже не пытается этого скрыть. Глотает успокоительную таблетку. Ну, если уж той сучке удалось… Direttore ставит ногу на балку. Затем пугливо ее убирает. Нет, разыгрывать из себя Тарзана он не будет. Он садится на балку верхом и начинает передвигаться вперед. Краем глаза он замечает, что к нему присматривается Бьянки; другие же пытаются забраться на тарелки громадных антенн. Идиоты, как будто не знают, что те расплавятся… Потихонечку, полегонечку, но вперед. Немного жалко брюк от Армани… И вот он добирается до буквы.
- Я спасен, - шепчет Розенкранц.
- Сейчас тебе нужно подняться и сделать шаг, - инструктирует его главная секретарша. – Нащупай захваты.
Direttore поднимается очень, очень осторожно…
Взрыв оглушителен; добравшийся на крышу огонь как раз лизнул неплотно закрытый резервуар с топливом для вертолетов. Струю горящего бензина заливают окружающее пространство. Волна жара добирается до Эусебио. Тот пытается удержать равновесие. Кончики пальцев дотягиваются до края красной буквы "S". Но не хватают его. Ступни теряют опору на балке. Некрупное тело генерального директора совершает удивительные эволюции и летит к неизбежной встрече с землей.
Окаменевшая от ужаса Лили, прижавшись к верхней дуге буквы "S", следит за разыгрывающимся на крыше инферно. Сцены превосходят самые смелые фантасмагории Иеронима Босха. (Операторы телесъемки получат за эти кадры специальную награду на смотре документальных материалов в Венеции). Человеческие тела скручиваются в огне, будто шкварки на сковороде. С нечеловеческим воплем охваченный языками огня Бьянки перескакивает ограду и кометой пикирует вниз…
Когда четвертью часа позднее спасательная команда стащит ее с подсвеченной буквы, синьорина Уотсон будет совершенно седой…
Воздушная машина Амальфиани не останавливается в Сионе, но смело направляется в верхнюю часть долины Роны, чтобы возле городка Бриг свернуть в сторону самого высокого горного массива Альп. Мы летим над живописной долиной Маттерваль, внизу расстилаются альпийские деревушки во главе со знаменитым Церматом. Тут же открывается панорама на величественную глыбу Маттерхорна, истинное каменное чудо, черный гигантский обелиск на фоне ослепительной белизны вечных снегов и ледников, потрескавшиеся, застывшие языки которых играют бледными оттенками синего, зеленого и розового.
В отличие от меня, не способного прийти в себя после смерти Пристля, его убийца находится в превосходном настроении, напевая себе под нос старые шлягеры Studio Uno; он охотно дает пояснения, тем более, что ему есть чем похвалиться. По ходу радиоконцерта шлягеров он узнает о трагической смерти большинства занятых в центральной конторе SGC сотрудников Консорциума и пожаре здания. Во мне это никаких особых чувств не пробуждает. Эти люди заслужили подобную кончину. Потом пытаюсь узнать чуть побольше относительно собственной судьбы.
- Вскоре сядешь за своим компьютером и вытащишь из него файлы, переданные тебе Кардуччи.
- Мой ноутбук пропал во время бегства, понятия не имею, где его искать.
- Спокойно, парень, Тото уже передал его Лино.
Пользуясь хорошим настроением Никколо, спрашиваю его про "Банко Ансельмиано". Мне кажется странным, чтобы потомок известного буржуазного семейства был шефом мафии.
- Это исключительная заслуга моего папочки, пускай земля будет ему пухом! Тридцать лет назад, когда янки депортировали его из Штатов, он сделал старому Вито Заккарии, фирма которого дышала в то время на ладан, предложение, которое невозможно было отвергнуть: чтобы тот официально усыновил меня. Мне было тогда восемь лет.
- Неужели у Заккарии не было своей родни?
- Тогда она у него еще была, но радовался он ею недолго, - хихикает Никколо. – А мы, бедные сицилийцы, таким вот способом вошли в круги розеттинской аристократии. Ведь просто, правда?
Я чувствую мороз в костях. Но продолжаю спрашивать дальше.
- Меня всегда интересовала история вашего банка, все эти знаменитые клиенты: Декарт, Ньютон…
- А, вся эта чушь, - мафиози громко фыркает. – Это же твоя идея, Альдо.
- Напомни мне.
- Когда пару лет назад ты прикупил три процента наших акций, у тебя появилась идея замечательной рекламной акции. "Галерея великих клиентов". Понятное дело, большинство их них понятия не имело о существовании банка, они никогда не приезжали в Италию, но кому от этого было плохо?... А потом еще и нарисовал тот портрет.
- Какой портрет?
- Ансельмо Заккарии, вроде бы как учредителя банка. А моделью был мой старший кассир.
В голове у меня сплошной винегрет.
- Так ведь Ансельмо выглядел как две капли воды похожим на него.
- Какой Ансельмо?
- Ну, основатель фирмы. В 1649 году…
- Какой там еще основатель. Банк учредили во Флоренции после крупного кризиса, в четырнадцатом веке, при приходе святого Ансельма, у нас он появился как филиал, а самостоятельным сделался только где-то после тридцатилетней войны.
"Лжец или невежда, - пульсирует у меня в голове. – Если бы он говорил правду, не было бы современного мира, мое наследие не сделалось бы основой для Просвещения".
Под нами показывается обширное Лаго Маджоре, по форме похожее на гигантский кусок колбасы. Вертолет снижается.
- Мы, что, садимся? – спрашиваю я.
- Через минут пятнадцать в Ярезе нас ожидает Лино с твоим компьютером.
Больше никаких иллюзий относительно моего будущего у меня нет. На горе под нами замечаю крест. И начинаю молиться. Раймонд, Раймонд, как бы пригодилась сейчас твоя помощь!
Неожиданное сотрясение. Вертолет начинает просто падать.
- Что там случилось? – раздраженно спрашивает Заккария. – Бензина не хватило?
- Понятия не имею, шеф, индикаторы показывают еще половину бака, - отвечает пилот. – Но мы теряем мощность. Похоже, нужно немедленно приземляться.
- Так приземляйся.
- Нет подходящего места, повсюду скалы.
- Лишь бы где. Вон, хотя бы на той дороге.
Истерические нотки в голосе Заккарии приводят к тому, что я начинаю работать над собственными руками. Они скованы у меня за спиной. И до сих пор я не пытался освободиться, хотя с самого начала заметил, что наручники надеты довольно слабо. Иногда я стыдился своих мелких, чуть ли не женских ладоней. А сегодня это может пригодиться. Стараюсь максимально прижать большой палец, тяну…
Пилот открывает дверь. Это на всякий случай. Под нами виден обрыв и темная поверхность озера. Но и дорога, ведущая по краю обрыва практически рядом. По счастью, она пустая. Из двигателя валят клубы дыма.
- Садись вон там! – визжит Никколо.
- Все будет о'кей!
Пилот направляется к дороге, она на расстоянии всего лишь нескольких метров, но тут из-за поворота выскакивает мчащийся на полной скорости грузовик.
- Осторожно!!!
Желая избежать столкновения, пилот делает отчаянный поворот. Ему это удается. Почти… Малый винт попадает на керамическую опору проводов высокого напряжения. Страшный скрежет. Побледневшая шея Заккарии.
- Господи Иисусе!
Вертолет теряет устойчивость, он дергается будто раненный зверь.
Охранник бросается к двери. Заккария отчаянно рвет ремни безопасности. А у меня уже свободные руки. Среди вращающегося мира замечаю синеву воды. Прыгаю… Лечу. Долго. В воду вхожу ногами, словно бьюсь о бетон. Поверхность захлопывается надо мной. Чувствую боль в барабанных перепонках. Ничего, это не страшно, только бы не потерять сознание. Открываю глаза. Солнечный свет виден едва-едва. Вверх, вверх… Выплываю, захлебываясь. Из носу капает кровь. Я жив! Вода чертовски холодная, но это ничего. Чуть пониже дороги, посреди обрыва, я вижу гейзер огня в том месте, куда вонзился вертолет.
- Adio, дон Никколо! За все большое спасибо.
Рядом со мной, фыркая, будто простуженный морж, выплывает Франко. Он водит по сторонам глазами с полопавшимися сосудами, регистрирует картину катастрофы, потом поворачивается ко мне. "Шофер по мокрой работе" рычит, словно буйвол, и плывет ко мне, распахивая воду могучими ударами мускулистых лапищ.
Сам я неплохой пловец, опять же, у меня небольшое стартовое преимущество, но, проплыв всего лишь полсотни метров, я вижу, что он меня нагоняет. Чтобы сбежать, ни малейшего шанса. А если драться? На правом запястье у меня до сих пор болтаются наручники. Когда бандит подплывает поближе, что было сил бью его по багровой роже, потом хватаю в поясе и тащу вниз. У меня перевес в неожиданности. Перед атакой, я набирал воздух в легкие, а он – нет… Какое-то мгновение питаю какую-то надежду. Так что с того, Франко с детской легкостью освобождается от моих объятий. Он наносит мне удар, после которого мне делается плохо, и выплывает на поверхность. Теперь он перехватывает инициативу. Его лапища гориллы опутывают меня, душат, я теряю воздух… Понимаю, что это конец…
И тут над нами раздается металлический, усиленный эхо голос:
- Полиция! Прекратите борьбу. Черт подери, прекратите драку!
23. Неожиданное изменение в судьбе
Насколько же велика была радость сотрудников полицейского поста в Гиффе, когда оказалось, что один из несостоявшихся утопленников, это разыскиваемый мультимиллионер Гурбиани, а другой – это его шофер, вероятный сообщник преступлений шефа. Радость была огромной, только краткой. Оказалось, что местные функционеры, всю жизнь мечтающие о деле, побольше чем кража козы из сексуальных побуждений или же незаконных занятий нудизмом на диком пляже рядом с кладбищем, не имели права нас даже допросить. Им было приказано незамедлительно доставить задержанных в ближайшую Вербанию, откуда уже нас должны были забрать посланники прокуратуры из Розеттины. В общем, меня закрыли в камере-одиночке, с уважением, надлежащим кому-то типа Ганнибала Лектора или Ли Харви Освальда… А как я себя чувствовал? Был спокойным и согласившимся с судьбой. Все закончилось. Я уже ни от кого не удирал. А кроме того, наконец-то у меня появилось время, чтобы обдумать кое-что, попытаться собрать элементы всей головоломки.
Итак, я был Гурбиани, во всяком случае, становился им во все большей степени. Воспоминания возвращались постепенно, фрагментарно, подобно островному архипелагу, верхушки гор которого постепенно выныривают на линии горизонта перед носом судна (Гурбиани – Карибы, 1999; Деросси – Циклады, 1633). Когда меня везли в полицейском воронке по берегу Лаго Маджоре, неожиданно вспомнилась школьная экскурсия в пятом классе и всеобщая забава, заключающаяся в том, что мы понарошку топили горбатенького парнишку, что давало мне тогда массу гаденького удовольствия, но теперь вызывало лишь чувство стыда. Но тогда, издеваясь над калекой, я видел, что горбун хуже меня, и что преследование его вызволяет меня самого от возможности быть преследуемым. Действительно, все, похоже, заключалось в том, что большую часть собственной жизни Альдо боялся всего и не верил в себя, а все, что он делал: добыча денег, женщин или влияния – было всего лишь попыткой самоутверждения. Так что, стать Гурбиани, даже обращенным к добру, комфортной ситуацией назвать было нельзя, и уж особого утешения не представлял факт, что Гурбиани я останусь недолго, самое большее, пару месяцев, в соответствии с приговором доктора Рендона.
Первого допроса мне пришлось ожидать почти два дня. А ждать я не любил. За стенкой скандалил Франко, требуя соблюдения его прав, но как-то ночью он пропал, и я мог лишь питать надежду на то, что "шофер по мокрой работе" не сбежал. А с внешним миром никаких контактов у меня не имелось.
В камере телевизора у меня не было, тюремщики со всей вежливостью отказывали мне в газетах, как будто бы опасались, что после того, как у меня отобрали шнурки, я могу пожелать покончить с собой, запихнув в рот макулатуру.
А потом – какое изменение в судьбе! Сразу после обеда меня побрили, выкупали и провели в кабинет коменданта, где ожидали кофе, печенье и красивая сотрудница полиции в гражданском.
- Чувствуйте себя, как дома, - предложила она. – К вам гости.
И тут, к моей огромной радости, появился адвокат Проди, улыбающийся и традиционно взлохмаченный, буквально рвущийся чмокнуть меня. А вместе с ним в кабинет вкатился неизвестный мне брюхатый и лысый тип, представившийся генеральным прокурором Республики – Бенвенуто Кальдоне.
- В первую очередь, я от всего сердца хотел бы извиниться за все те неудобства, которые синьор пережил, - сказал он, добродушно тряся мне руку. – Но я надеюсь, что с вами обращались достойно.
- Исключительно хорошо, - ответил я, раздумывая: а к чему он все это ведет.
- Понятное дело, мы еще отнимем у вас немного времени на необходимые в данной ситуации показания; несколько раз вам придется появиться в суде, но, ручаюсь, не чаще, чем это будет необходимо. Да, и с этого момента прошу считать себя человеком свободным, вне каких-либо подозрений.
Если бы сейчас в комнату зашел белый носорог, я был бы не так удивлен. Только лишь Проди дал понять, как обстоят дела.
Собственно говоря, за все я должен был благодарить Лили. Спасенная с крыши горящего небоскреба, опасаясь длинных рук Никколо (она понятия не имела, что в то время он уже представлял собой высококалорийный корм для угрей), она решила всех закладывать. И моя главная секретарша ни в коем случае не делала этого, руководствуясь раскаянием или угрызениями совести, но исключительно холодным расчетом. Лили надеялась получить статус "коронного свидетеля" в так называемом процессе правления SGC и амальфианской мафии (при случае, я наконец-то вспомнил, откуда взялся псевдоним "Синьор Амальфиани": Никколо Заккария, поддерживая фикцию мифического capo di capi, рассказывал о резиденции на юге, неподалеку от Амальфи, куда следовало звонить в чрезвычайных ситуациях; на самом же деле то была заброшенная развалина в Праиано с постоянно включенным электронным секретарем). Лили Уотсон в своих расчетах несколько пролетела. После смерти Заккарии и большинства ведущих акционеров консорциума она осталась, наряду с убийцей Франко Пини, главной обвиняемой. Ее покаяние и поспешные признания привели к тому, что она получила всего лишь десять лет заключения. Зато она сделалась знаменитой – ее признания обошли все мировые средства массовой информации, они были предметом критического анализа, сама она в тюрьме написала книгу "Инферно", права на экранизацию которой приобрела студия Квентина Тарантино. Вскрыв столь много существенных сведений, Лили ни словом не упомянула о наиболее важных вещах (хотя, возможно, именно в этом и заключалась ее договоренность с прокуратурой), ни разу в ее показаниях не прозвучало слово "Психе". Другое дело, что и сам Кальдоне, похоже, об этой программе ничего не знал, поскольку данный аспект дела ни разу не всплыл ни в ходе допросов меня, ни во время судебных заседаний, которые более чем на два месяца обратили внимание всего мира на Розеттину. Говоря по чести, я ведь и сам не рвался сообщать информацию по этой программе.
Установленный во время суда порядок событий представлялся, более-менее, таким образом:
Под угрозой страшной болезни и под влиянием учения брата Раймонда Пристля, Альдо Гурбиани решает изменить репертуарную линию SGC и поменять органы правления фирмы. Члены правления, над которыми нависла угроза, устраивают преступный заговор с целью избавиться от шефа, а при случае – скомпрометировать развивающееся братство крестосиних. Гурбиани похищен троицей нанятых молодых людей, выдающих себя за религиозных фундаменталистов, он избит и вброшен в Колодец Проклятых. Чудом он остается в живых и, пребывая в состоянии амнезии, прячется среди городских бомжей. Второе покушение имеет место после обнаружения его речной полицией. Альдо попадает в клинику доктора Рандольфи, в которой уже долгое время, под покровительством банды Заккарии, ведутся запрещенные законом операции по трансплантации и торговля трансплантатами (Арестованную на Сардинии группу Рандольфи должны были судить в отдельном процессе). Спасенный медсестрой, синьориной Моникой Мазур (она станет главным свидетелем по "Делу трансплантаторов"), Гурбиани вступает с ней в брачный союз, а затем пробует вернуться к исполнению собственных обязанностей. Ответом заговорщиков становятся новые покушения. В одном из них ранят супругу Гурбиани, в другом гибнет частный детектив Габриэль Закс и Лука Торрезе.Кстати говоря, Лука Торрезе как единственный из руководства SGC остался верен своему законному шефу. Лишь его бдительность и недоверие участников по линии SGC – Амальфиани не позволили вывести из игры президента Корпорации.
Перед лицом возможной утраты контроля над ситуацией, Заккария, Уотсон и другие вступают в преступный сговор с вице-министром юстиции, Сандро Вольпони, давно уже являющимся кротом амальфианской мафии в правительственных кругах. В результате, по причине взрыва автомобиля-ловушки гибнет Лука Торрезе, а затравленный Гурбиани убивает охранника Матеотти, у которого перед тем Вольпони забрал оружие. Но это стало последним преступным ходом вице-министра. Франко Пини, по приказу Заккарии, избавляется и от Вольпони, сбрасывая его с лестницы. Казнь Гурбиани откладывается, поскольку дон Никколо вначале желает узнать возможных доверителей своего противника. Так же он размышляет и над тем, чтобы использовать его в розыгрыше с руководством SGC. Следя за Гурбиани, он добирается до швейцарского убежища Раймонда Пристля, и там совершенно варварским образом убивает священника.
Так выглядит базовая реконструкция событий. Самоубийство профессора Кардуччи, пожар в офисном здании SGC или же непредставление помощи отрезанным огнем сотрудникам Консорциума со стороны Никколо, признаны элементом внутренних расчетов среди бандитов. И т.д. и т.п.
Первичные показания заняли у меня три часа. Договорились, что остальные показания я дам в Розеттине. Перед тюремным зданием меня ожидал микроавтобус с конвоем службы безопасности, а в автобусе…. Добрый Боже, Моника!...
Моя жена, бледная и слабая, но очень счастливая, пала в мои объятия. На собственную ответственность ее выписали из госпиталя и разрешили приехать за мной. Вам не понять, как это здорово, когда рядом с вами находится человек, которому можно доверять.
Я уже собрался было захлопнуть дверь микроавтобуса, когда их тени появился какой-то невысокий полицейский с загрязненным чемоданчиком в руках.
- Это, похоже, ваше? – спросил он, подавая мне его.
- Мой ноутбук… - не мог я скрыть изумления. – Откуда это у вас?
- Какой-то оборванец доставил его сегодня утром в комиссариат и говорил, что для вас это весьма важно. Девушка в будке охранника не успела взять его данных, запомнила лишь то, что тот слегка прихрамывал.
Теперь я подумал о Лино Павоне уже теплее и задумался над тем, сможет ли он остаться гуру розеттинских клошаров без поддержки Заккарии.
На ночь мы поехали домой. То есть, в дом Альдо Гурбиани, который до того момента, пока не найдется что-нибудь поменьше и более уютное, должен был оставаться нашим домом. Там я застал полностью обновленный персонал, которым заведовала София Ринальди, свидетельница на нашем бракосочетании, и Кристофоро, брат-близнец Луки Торрезе, которого адвокат Проди вытащил из самого Турина, где Крис работал охранников во дворце епископа. Еще там нас ожидал замечательный ужин, только у нас двоих на него не было ни желания, ни времени. Я поднял свою жену на руки, после перенесенных страданий она была легкой словно перышко, и занес прямиком в кровать.
Любовью той ночью мы занимались долго, хотя и осторожно, но писать об этом не стану, поскольку такие дела должны оставаться наиболее интимной тайной двух человеческих существ, которую нельзя продавать ни за какие деньги.
Но настал момент, о котором я обязан рассказать. Когда сквозь приоткрытое окно в спальню прокрадывался ранний, летний рассвет, когда расшумелись птицы, а Моника уснула, я глядел на ее обнаженное, стройное село, представляющее красивейший набор кривых и округлостей, которые только способны выдумать геометры, как эвклидовы, так и неэвклидовы. Я же спать не мог. Что-то грызло душу.
Разве не обязан я ей сказать, что она занимается любовью с человеком обреченным, не имеющим будущего. Что уже вскоре в этом ложе она останется сама… И я решил оставить нам хотя бы месяц счастья.
Наслаждения медового месяца сопровождались хлопотами иной натуры. SGC распадалась. Стало известно про гигантские долги, необходимо было платить компенсации семьям жертв пожара. Головной пайщик Фонда, Банко Ансельмиано, обанкротился, потянув нас за собой на дно. Благодаря знакомому распорядителю обанкроченного имущества, у меня была возможность прочесать сейфы штаб-квартиры банка на Крутой улице – угол Мавританского Переулка. Среди депозитов и памяток по фирме я не обнаружил никаких следов Альфредо Деросси, никаких произведений искусства, рукописей или хотя бы реестров. Не было никакой переписки с предполагаемыми клиентами. Из того, что мне удалось выяснить, никто из великих творцов нашей цивилизации никогда не переступал порога Banco Anzelmiano.
Корпорация же SGC со дня на день ограничивала свою деятельность. Мы свернули все порно-каналы, прекратили издавать "Минеттио". Без работы, хотя, похоже, ненадолго, осталось полторы тысячи сотрудников "Клубов Веселого Поросенка". Я ликвидировал агентства по организации свиданий, а гостиницы, в которых номера сдавали на несколько часов, передал благотворительным организациям. Казино в Сан Стефано нашло покупателя в лице набоба из Лас Вегаса. Из всей телевизионной империи я сохранил лишь канал Сальваторе Липпи, все остальные растащили между собой соперничающие медийные концерны. Это освободило нас от обязательств перед рекламодателями-подписчиками нашего "розового творчества". Только вот долги все равно превышали доходы. Наш последний канал, канал без секса, убийств, скандалов и рекламы, был, казалось, гирей, привязанной к ногам самоубийцы, собирающегося прыгнуть в морскую бездну. До решения об окончательном банкротстве у нас оставался ровно месяц. Через неделю после моего возвращения домой, без особого шума, в самый прайм-тайм начался показ документального сериала "Свидетельство". Это были пленки Мейбел Фингер, высылаемые в эфир без профессионального монтажа, без технических трюков и манипуляций – записи, представляющие Раймонда Пристля таким, каким он был. Его проповеди и его чудеса, зарегистрированные скрытой камерой. Я считал, что просто обязан сделать это, и ни на какое чудо не рассчитывал.
Но чудо, все-таки, случилось! После первой серии, которую я запускал в эфир, поникнув душой, уверенный в неизбежном поражении, начали массово поступать звонки от зрителей, требующие повторить показ; после второй серии оказалось, что количество зрителей этой программы утроилась. А после третьей… Никто не мог объяснить феномен неожиданной популярности. Социологи несли какую-то чушь про "эмоциональную нишу". Словно мчащийся к победе участник эстафеты, мы перегнали "Дискавери" и CNN, НВО и "Романтику"… Когда сериал закончился, а я, Клер и полтора десятка человек, знавших Раймонда, лично провели прощальную беседу, во всем мире миллионы людей, вместо того, чтобы переключиться на другой канал, просто выключили телевизоры. Люди пошли прогуляться, начали разговаривать друг с другом… У многих появилось чувство пустоты. Что дальше? Неужели все это должно было просто так закончиться?
Не должно было – в течение этих пары недель на улицах городов всего мира, в России и Мексике, в Зимбабве и Японии неустанно росло количество людей, молодых и пожилых, женщин и мужчин, не стыдящихся носить синие кресты. После последней программы многие из них пришли на улицы к закрытым церквям. Агентство Синьхуа сообщило о сотне тысяч новообращенных, которые из всего Пекина сошлись на площади Тяньанмын и, увидев там возле пруда бородатого мужчину в черном, потребовали, чтобы тот их окрестил.
- Но, братья, я всего лишь ортодоксальный хасид, - защищался турист. Но крестил: "Во имя Отца, Матери и Раймонда Пристля". Возвратившись же в Тель-Авив, он пришил себе к одеждке синий крестик.
Ровно через два месяца после убийства Пристля его сторонники встали молчаливой толпой на Елисейских Полях, на площади Святого Петра и на Тайм-Сквер, где владельцы окружающих кафе и ресторанчиков, вместо раздетых девиц, выставили в витринах корзины белых цветов, а три бродвейских театра показали новые, исправленные версии мюзикла "Иисус Христос – Суперзвезда".
Происходили и другие необычные вещи: множество людей, которые хотя бы мимолетно встречались с Пристлем, казалось, пользуются его силой. Громко говорилось о новых чудесах, а прежде всего, о случаях благородного самопожертвования, доброты, милосердия, отваги… Были и жертвы. Боевые группы сатанистов нападали на крестосиних в Берлине. В Лос-Анджелесе случилось несколько убийств. Там в ходе черной мессы были убиты две девушки. А в Польше, во Влоцлавеке, распяли молодого ксендза…
Мои репортеры отправлялись со своими камерами куда только могли, регистрируя события достойным и ответственным образом, исключительно по согласию заинтересованных лиц, без нахальной дидактики или преувеличения сенсационного аспекта событий. Всех тех, кто занимался гангстерской охотой за жареным в стиле папарацци, я выгонял к чертовой матери.
В эти дни с огромным облегчением я принял вердикт Конгрегации по Вопросам Доктрины Веры, признавший проповеди Пристля соответствующими учению Церкви, а движение крестосиних было названо в нем надеждой Третьего Тысячелетия.
Тем временем, либеральные средства массовой информации, относящиеся к этому вот правому ошеломительному движению с нескрываемым отвращением, впервые узнали, что такое отток зрителей. Святотатственный "Апокалипсис от Брайяна", который стали бойкотировать на всех континентах, принесла голливудским дельцам зрелищный финансовый провал. Ряд судебных процессов, доказывающих, что политкорректность является дискриминацией à rebours (навыворот – фр.), принес успех белым гетеросексуальным мужчинам, признающимся в своих национальных корнях. Но, возможно, в своем рассказе я забегаю слишком вперед.
В один хмурый день ранней осени меня по собственной инициативе посетил доктор Рендон.
- Это что с тобой происходит? – спросил он. – Ты поменял врача? Почему не приходишь за болеутоляющими средствами, не обращаешься за проведением процедур?
- Извини, у меня просто нет времени, но, прежде всего, я прекрасно себя чувствую. И вообще забыл о своей болезни.
- Ну, выглядишь ты не самым лучшим образом. Я должен тебя обследовать.
- Хорошо, исполняй свою повинность!
Мы поехали в клинику, сделали томографию и магнитный резонанс мозга, половину дня меня крутили в самых различных аппаратах, кололи, ощупывали, просвечивали…
- Ну и? – спросил я максимально безразличным тоном.
Рендон не улыбнулся в ответ.
- Если ты рассчитывал на самостоятельную ремиссию, то должен тебя разочаровать, опухоль так и торчит на месте. Разве что развивается не так быстро.
- И это значит?
- Вероятнее всего, в прошлый раз я слишком осторожно вычислил оставшееся у нас время. Может быть, у нас имеется год, возможно, даже чуточку больше. Понятное дело, как только выявим метастазы, будем оперировать.
- То есть, не оправдание, а всего лишь отсрочка казни, - спокойно воспринимаю я его слова. – Это больше, чем я мог ожидать. Практически – чудо.
Никогда я не признаюсь, но в глубине души все же питал скрытую надежду…
- Есть еще один аспект, который меня беспокоит.
- А именно?
- Я заметил перемещение. Вскоре опухоль может начать зажимать важные зоны мозга.
- Что это означает на практике? Я перестану ходить, говорить, не смогу заниматься любовью?
Врач колеблется с ответом, ищет подходящие слова.
- У тебя могут быть неприятности с собственным "я", Альдо…
- Тоже мне, новость. Я ведь и сейчас не знаю, кто я такой.
Наконец-то я решил рассказать Монике о своем состоянии. Тщательно приготовился к этому. Я пригласил ее в наш любимый ресторанчик неподалеку от Колодца Проклятых и памятника мне самому. Обслуживающая нас официантка с маленьким синим крестиков в волосах приветствовала нас лучистой улыбкой, которую еще полгода назад Альдо вряд ли мог ожидать. Несмотря на бешеные нападки бульварной прессы и ироничные насмешки салонов, большинство людей поверило в перемену Гурбиани, более того, для многих она являлась доказательством того, что нет такой сточной канавы, из которой нельзя было бы выбраться.
Кстати, о сточной канаве. Практически сразу же после своего возвращения я нанял детективов, чтобы те отыскали Тото, Рикко и Лино. Я пообещал себе протянуть им руку. И такая незадача… Специалисты целую неделю прочесывали подземелья и свалки Розеттины. Клошары исчезли. Может быть, воспользовавшись драгоценностями, которые я им передал на хранение, сейчас они греют сои старые кости на Сейшелах или в Могтего-Бей, покуривая гаванские сигары и наслаждаясь ликером кюрасао либо же виски пятидесятилетней выдержки. Да на здоровье!
Мы с Моникой заказали стейки по-американски, выпили по бокальчику красного вина, естественно, с виноградников Монтана Росса.
- Дорогая, - начал я наконец, одновременно чувствуя, что это будет гораздо туднее, чем мне казалось, - вот уже с какого-то времени я собираюсь тебе сказать…
- Может быть я первой, - перебила меня Моника, - у меня для тебя тоже имеется кое-что очень важное.
С румянцем на щеках, в своем простом красном платье, освещенная мерцающими огоньками свечей, моя жена выглядела просто красавицей.
- Ну конечно, дорогая, хотя…
- До сих пор я тебе не говорила, потому что не доверяла тестам до конца. Но сегодня я пошла к врачу. И теперь сомнений нет, он подтвердил…
- Что подтвердил?
- Ну как это что, дорогой мой недотепа? Весной у нас будет маленький Фреддино или Фреддина.
Я сорвался с места, даже вино выплеснулось на столик. Неважно! Целуя Монику, ее губы и глаза, я испытывал безграничную радость. И тут мне вспомнились слова Раймонда о моих детях.
- А что ты хотел мне сказать? – спросила Моника, оттирая вина с моего жилета.
- Я… я… - Понятное дело, я отступал словно рак. Только не в этот момент. – Я… Просто я тут подумал, а не пришло ли время взять нам церковный брак…
Моника от восхищения даже взвизгнула.
- Честное слово? Мы устроим венчание в церкви? И на мне будет белое платье с фатой?
После возвращения домой, когда Моника уснула, я вышел на террасу, опустился на колени и долго молился, благодаря Господу и Пристлю. Ни о чем больше просить я не осмеливался.
24. Альфредо Деросси
Церемонию венчания, без какой-либо шумихи, мы провели в небольшой каменной часовне высоко над озером Тцейзье. Пару дней назад ее освятил епископ Лозанны. Были только лишь мы вдвоем – ну еще пара местных пастухов. Совершивший таинство брака епископ в тайне сообщил мне, что за Бронзовыми Вратами серьезно рассматривается начало процесса беатификации Раймонда Пристля. "Так быстро, как только это возможно".
Желая наконец-то побыть одним подальше от окружающего мира, мы сняли комнатку под самой крышей деревенского дома в маленьком городке Ан, откуда над виноградниками можно было видеть замок в Сионе. Здесь я решил остаться на целую неделю. Это я мог себе позволить. Ликвидация мерзкой империи продвигалась в быстром темпе. Тому, что у меня осталось, банкротство не угрожало. Благодаря успехам нашей новой деятельности, после выплаты главных долгов и обретении финансовой ликвидности, перед каналом "Свидетельство" – уже в качестве самостоятельной станции, появились неплохие шансы на развитие.
Наступила чудесная осень. Золотистые дни, ностальгические туманы, стаи улетающих на юг птиц. Нас переполняла радость пребывания под одной крышей, утренние вылазки за газетами и булочками, походы в горы, совместно приготовляемая еда, вечера без телевизора, ужины при свечах и ночи…
Когда Моника засыпала, охотнее всего я клал голову на ее животик и прислушивался, не отзовется ли ко мне дитя… Единственной капелькой печали, которая отзывалась иногда в моем сердце, был вопрос, а эта осень? Первая и последняя? Но, прочь заботы и тревоги! Иногда по утрам, когда моя жена еще спала, я садился за ноутбук (я по привычке захватил его с собой) и писал сонет, приветствуя приходящий день, удивляясь тому, как такой сукин сын, циник и гедонист способен извлечь из себя нечто подобное.
Иногда я задумывался над тем, а как сложились бы судьбы множества людей, если бы Альдо не кинули в колодец? Не должна была бы тогда душа Деросси воплотиться в нечто другое, к примеру, в пса или кота. У меня все так же случались неприятности с памятью. Впрочем, признаюсь честно, о многих этапах жизни Гурбиани я предпочитал и не помнить. Хотя иногда, когда я склонялся над ноутбуком, мне приходило в голову, что стоило бы вспомнить пароль доступа и узнать ответы на пару существенных вопросов.
Самое интересное, но в Ан я не видел своих снов. Может потому, что Моника и дитя были теперь моими снами наяву. И все же, этой ночью…
- Читай, - сказал падре Филиппо, сурово глядя на меня из-под кустистых бровей.
В аудитории сделалось тихо. Я взял в руки тяжелую, оправленную в телячью кожу книгу и поднес к лицу, перед глазами заплясали ряды букв, похожих на обезумевших червяков.
- Читай!
- Это… это по-гречески, - проблеял я только лишь через какое-то время.
Ученики грохнули смехом. Даже на узких губах моего "отца-отца" появилась тень веселья.
- А по какому же еще должно быть…? Читай уже, Альфредо, а то и я, и розги потеряют терпение!
Читать! В голове у меня была пустота. Ну да, я различал отдельные буквы, но слово из них составить не мог. Ну что же такое творилось, ведь, черт подери, по греческому я всегда был первым учеником. Не знаю зачем, но я упустил книжку и бросился бежать.
Никто за мной не гнался, словно стрела выскочил я на галерею. Внутренний двор коллегии был пуст. Среди бела дня? Неслыханное дело. На улице меня тоже приветствовала пустота. Ей-богу, она сегодня выглядела крайне странно. Голые стены… Без лавок… Без прохожих. И нет красок. Что произошло? Что с моим зрением? Где я вчера выпивал? Часы на башне Кастелло Неро показывали полдень, то время, когда улочки города переполнены шумом, а тут такая тишина, что даже в ушах не звенит. И внезапно все наплыло: звуки, краски, запахи. На фоне стен, быстро обретающими краски, появились человеческие тени, на старых местах выросли лотки, открыли свои двери пивные. От торговых лавок донесся визг перекупщиц, из мастерских стал доноситься стук сапожных молотков. Где-то в глубине улицы кто-то обкладывал бичом лошадь, немилосердно при этом ругаясь. Лошадь ржала, вокруг кружили зеленые мухи, жужжа и разыскивая для себя места безопасной посадки. Я облегченно вздохнул. Слава Богу, я не сошел с ума. Просто пережил краткосрочное видение, какой-то мираж. Правда, сердце в груди колотилось как сумасшедшее. Язык стоял колом. Я испытывал ужасную жажду, словно пилигрим, выходящий из центра пустыни. Желая ее как можно быстрее погасить, не раздумывая, я забежал в ближайшую тратторию. Там я до сих пор никогда не бывал, верный обещаниям, данным тетке Джованнине, но сегодня у меня не было выхода. Жажда была просто сильнее меня. Я перескочил четыре, может, даже пять ступенек. И снова незадача! В трактире никакого интерьера не было. Кроме стола, видимого с улицы с висящими над ним болонскими окороками, там ничего не было. Ни стен, ни потолка. Нужно было поворачивать назад, но я не мог. Из угла поднялось полноватое сонное видение, сотканное будто бы из тумана, и, все больше становясь материальным, проскрежетало:
- Нельзя тебе дальше идти, барич, остановись.
Я скакнул вперед и побежал, не зная куда и зачем… Но повсюду вокруг меня находилось только ничто. Наконец я обернулся, охваченный пугающей мыслью, что, вполне возможно, мне не удастся вернуться. Только теперь я испытал страх. Розеттины за мной не было, ну да, стояли фронтальные стены, сквозь окна была видна улица, но вот с моей стороны… Все это выглядело словно театральные декорации. С левой стороны не было ни росписей, ни лепнины, ни предметов мебели… Все так же, без малейшего понятия, я бежал дальше, пока, наконец, не очутился на пустом пространстве, в том месте, где должен был бы стоять собор, но я видел лишь тыл романского портала. Я приостановился, тяжело дыша. О мой Боже! Мир догнал меня. Повсюду небытие и неподвижность превращались в реальную жизнь. Собор появлялся вокруг меня словно запоздавший рисунок. Из голой земли, по подобию вырастающих с невероятной скоростью стеблей, рвались вверх готические колонны, соединяясь оребрением на звездчатом своде. Еще мгновение, и между ними возникли стены, словно ковры развернулись вниз живописные росписи, созданные в технике al fresco, а в окнах тысячами стеклышек замерцали чудеснейшие витражи, прославляющие жизнь Девы Марии. Поначалу едва-едва слышимая музыка, вытекающая из органных труб-пищалок, проросших на только что возведенных хорах, усиливалась с каждым мгновением, и уже вскоре билась могучими аккордами в только что застывший у меня над головой свод.
А потом изверглось и многоголосое пение. Самый странный в мире хорал, ведь сначала до меня доносились голоса, и лишь потом возникали раскрытые рты и зубы поющих прихожан, вибрирующие гортани, налитые подбородки и богатство женских чепцов и платков, мужских кафтанов и дублетов, уже из которых вырастали ладони, расцветшие молитвенниками. Или же платочками, если кто желал оттереть лицо от пота. Перед пустым алтарем (которого только что еще не было) поначалу появился поднятый кверху золотистый потир, и лишь потом мягкие, усыпанные веснушками руки держащего его священника.
Клянусь муками Господними, что все это могло значить?
Я выбежал на площадь перед храмом, на ступени, улица выглядела точно так, как должна была выглядеть улица в первой половине XVII века. Под звуки литавр по ней проходила рота гвардейцев. Я подбежал поближе и вот тут-то зарегистрировал глазом просто пугающую вещь: все солдаты были идентичными. Нет, не похожими друг на друга. Совершенно одинаковыми… Словно оловянные мушкетеры, отлитые из одной формы. Но, когда они заметили, что я в них всматриваюсь, прямиком у меня на глазах они стали различаться. Словно бы некий внеземной художник этой действительности спохватился, что опаздывает сдать свое произведение, и, подогнав помощников, наперегонки с ними взялся за исправление собственного труда. У капитана начал расти нос картошкой, покрытый сеточкой сосудов нос выпивохи, вокруг глаз потемнели круги, на щеке выросла гадкая бородавка. У хорунжего, несшего знамя, на тупом и гладком, словно бы кукольном, лице внезапно забагровел незаживший шрам; малолетний барабанщик засмеялся заячьей губой, а у третьего с краю солдата темные волосы сделались русыми, глаза начали косить. Все они бесцеремонно маршировали прямиком на меня, с настолько явным намерением затоптать, что я запрыгнул на стенку, обрамляющую канал. Вот только по инерции потерял я равновесие и упал вниз прямиком в канал, по которому на лодке плыли жених с невестой, наверное, со своей брачной церемонии. Я думал, что, падая, нанесу им немалый ущерб, но когда я рухнул прямиком на них, молодые развеялись, словно дым, а гондольер все так же шевелил веслом, словно случившееся никак его не касалось, к тому же ему заплатили заранее.
Из гондолы я выскочил на Пьяцца д'Эсмеральда. Здесь стояла ужасающая жара. Пот лился с меня ручьями, и вместе с тем меня словно бы схватила какая-то трясучка. Есть ли здесь люди? Таковые были. Только все засели в неглубокой тени стен, откосов и ниш – все какие-то замученные, безжизненные. Конечно, все можно было бы объяснить зноем. Но как только все меня заметили, тут же сделались шустрыми, словно бы им кто иголку в задницу сунул. Два юных кавалера схватили рапиры и устроили дуэль. Щёголь в венецианском костюме, с оживлением размахивая шляпой, начал дискуссию с дамой, обмахивающейся платочком. Носильщики с темными лицами приступили к загрузке барки. Жонглер, за выступлением которого никто, кроме меня, не следил, начал перебрасывать мячики. А вот герольд взялся читать объявления, непонятно почему, но со средины.
- А ведь верно говорит, - комментировали слушающие его горожанки.
- Прошу прощения, синьора, а о чем этот декрет? – спросил я одну из них, у которой прямо на моих глазах на лице вылезла рожа, и под носом просеялись усики.
- А ведь верно говорит, - повторили все три.
Разозлившись, я выкрикнул:
- Ну вы и дуры, настоящие задницы коровьи!
- А ведь верно говорит, - повторили они с той же интонацией.
Я сунул руку в корзину одной из них, наполненную дородными, багровыми словно царский пурпур яблоками, схватил самое зрелое и попытался сунуть себе в рот. Яблоко расплылось в руке.
- В школу возвращайся, в школу, - раздался голос отца Филиппо. Иезуит неожиданно вышел из тени Порта Салария, а за ним уже шли уже швейцаров с розгами.
- Не пойду, - сказал я, хватая рыбацкий багор, что стоял у стены траттории.
- Сын мой, как ты можешь, - вскричал падре, но остался на месте. На лицах двух абсолютно одинаковых швейцаров (у одного, правда, глаз начал заходить бельмом) появилось выражение непонимания. – А может, вернемся домой?
- Никуда я не пойду, пока не узнаю, что здесь разыгрывается?
- Что разыгрывается?... Не пойму я, что ты желаешь выразить этими странными словами.
- Почему все здесь выглядит, как будто понарошку?
Отец Филиппо пошатнулся, словно что-то попало моему наставнику прямо в сердце, а вместе с ним заколебались колокольни и громада замка, будто я видел их отраженными в кривом зеркале.
- Ты только сейчас это заметил, Альдо… То есть, я хотел сказать: Альфредо.
Я бросился бежать, а за мной начали со стен валиться зубцы со звездами.
Я сорвался с постели. Тихая ночь. Звенящие цикады, рядом со мной ровное, спокойное дыхание Моники.
- Сон разойдись, вера в Бога крепись, - вспомнил я старинное присловье, испытывая огромное облегчение, что это был всего лишь страшный сон. Я повернулся на другой бок, но спать уже не мог. Меня удивило следующее: до сих пор я видел сны исключительно о Гурбиани, а этот был про Деросси. Неужели опасения доктора Рендона о возможном распаде сознания должны были найти столь быстрое подтверждение?
В погруженной во мраке комнате поблескивающий экран компьютера работал что твоя неоновая реклама. Странно – я был уверен, что выключил ноутбук, когда ложился в кровать. Я тихонько поднялся, чтобы отключить устройство еще раз, но когда подошел, увидал, что на экране пульсирует проклятая надпись, с которой я уже провел столько сражений:
ВВЕДИ КОД ДОСТУПА
Не до конца, похоже, проснувшись, я сел и положил пальцы на клавиатуре. И они уже выстучали сами, как когда-то делали это каждый день:
АЛЬФРЕДО ДЕРОССИ
Прозвучала тихая музычка "Турецкого марша".
ПРИВЕТ, СТАРЫЙ НЕГОДНИК, -
в знак приветствия загорелась надпись.
Ну вот, я его имею. Компьютер отдался мне после ввода пароля, раскрывая, словно Сезам свои тайны или продажная девка ноги. Заглядываю в меню. Чего тут только нет… Понятное дело, имеется программа "Психе" в своей оригинальной и полной версии. Вместе со схемами процессоров, с модуляторами исходящего сигнала, декодерами… Имеются персональные данные наиболее важных сотрудников, и даже перечень преступлений Никколо Заккарии.
Среди множества позиций одна сразу же бросается мне в глаза – "Дневник". Тысяча двести двадцать две страницы. Нет никаких сомнений, что Гурбиани должен был вести его много лет. Какая радость! Наконец-то у меня появится возможность ближе узнать человека, которым я должен быть. Понятное дело, я поступаю как всякий любопытствующий тип, дорвавшийся до чужих записок: нажимаю "Ctrl" и "End", чтобы сразу же оказаться на последней странице.
…этот паршивый парад. Только жабу необходимо доесть до конца. Чтобы выиграть, нельзя предупреждать противника. Вот будет номер, когда через три дня я проведу с Кардуччи испытания на всем правлении in corpore. Будет шампанское, коктейли, торты. Никто ни о чем и не догадается, дадим этой своре негодяев слопать с пирожными процессоры Уго, после чего я покажу им парочку снимков с Раймондом. Интересно, каким будет эффект? Отправится ли Лили в монастырь? Или, возможно, Бьянки наденет власяницу? Более всего меня бы обрадовал Эусебио, присоединяющийся к флагеллантам[25]. А после того мне даже не нужно будет менять правление… Я покажу тебе, Раймонд, как делается Новая Евангелизация. Через год у нас будет человечество, преданное добру и Господу Богу…
- Ни черта ты не понял из учения Пристля, - вздыхаю я, думая про Гурбиани. – Неужто этот придурок не понимал, что применение "Психе" для обращения человечества было бы такой же самой манипуляцией, о которой мечтал дон Никколо. Всего лишь глупой поправкой Творца, который ведь дал нам вольную волю. Но продолжаю читать дальше:
Лука советует, чтобы я не ходил на тот парад. Эх, этот Торрезе, с его вечной излишней впечатлительностью, везде он чувствует заговоры, измены… Он приказал меня пить исключительно напитки из банок. Сумасшедший. Ну как бы я пережил день без своего кофе по-турецки. Пока они не знают, что мной задумано, я в безопасности. Одна только Лили может о чем-то догадываться, но ведь Лили меня любит. Она обязана мне всем. И ценит это. Как это она красиво может говорить: "Если бы тебе когда-нибудь понадобилось новое сердце, я бы отдала тебе свое". Вот если бы она могла дать мне новую голову… Из старой все хорошее я уже излил в книгу. Эх, Лили, если бы пять лет назад я знал сейчас то, что знаю сейчас…
Было время. Нужно было на тебе жениться… А теперь, наверняка, поздно.
Ладно, в последний раз поиграем в дьявола. Но с завтрашнего дня – ангел!
Вновь вспышка в мозгу. Воспоминание ситуации, видимой словно бы в сиянии вспышки. С совершенной точностью вижу тот вечер, вижу себя, как закрываю ноутбук, попиваю принесенный Лили и уже остывший кофе, протягиваю руку к висящему в шкафу костюму Люцифера…
Погоди, а о какой книжке он писал? О какой книге? Возвращаюсь к реальности, снова возвращаюсь в меню, перетряхиваю каталог файлов, нахожу один крупный под названием "Колодец". Открываю, читаю…
Стон колоколов вибрирует, отражается от стен крутых улочек, скользит по медным блевательницам водостоков, распугивая с чердаков стаи птиц, которые с шумом крыльев взмывают в солнечное небо, не вызывая ни малейшего впечатления на каменных чудищах, таящихся вокруг башен собора. Спокойствие этих монстров контрастирует с настроем людской толпы: потной, волнующейся, многоцветной, похожей на тушу какого-то древнего дракона. И такой же как он – прожорливой. Чернь что было сил напирает на кордоны, выстроенные из городских стражников и герцогских гвардейцев вдоль дороги, ведущей на Площадь Плача, как если бы этот дракон желал насытиться чужим страхом, болью, смертью…
Господи, откуда я это знаю, что должен означать этот текст? Просматриваю очередные страницы, главы. Снова я в Розеттине, узнаю места и людей – Ансельмо, граф Лодовико, Ипполито, Мария…
Господи Иисусе, ведь это его роман! Который он писал с самого детства. Тайное убежище его души. Мой роман!
Спадают последние узы, до сих пор стесняющие мою память.
И вспоминается кульминация парада. Я, Люцифер, Повелитель Тьмы. Стою возле переодетого в Смерть Эусебио на высокой трибуне на Виа Иллюминационе; в руке у меня вилы. С левой стороны от меня голая Лили в качестве богини Афродиты, в венке из черных роз на голове, а идущие внизу участники парада приветствуют меня:
- Ave, diavolo! Ave, diavolo!
Чувствую, как давит меня нежелание и отвращение к этой роли, только кошмар все так же продолжается среди грохота фейерверков и… Что это со мной происходит? Вдруг меня заливают волны жара, словно бы родом из невидимого котла. Все цвета делаются неестественно яркими. Мой маленький дружок каменеет в приливе похоти. Я уже не контролирую свои действия.
- Шеф, не-е-ет! – кричит отделенный от меня кордоном голых гладиаторов переодетый в друида Лука Торрезе.
Я его не слушаю, соскакиваю посреди всеобщих приветственных криков с трибуны, погружаюсь в водоворот черного наслаждения, и я уже всего лишь частица того Левиафана, что заполняет своей тушей всю широкую аллею. Сейчас я знаю, что это не я, это некто, нафаршированный наркотиками, давний Гурбиани в своей последней сцене. Тут же в мои объятия попадает девочка, лет, наверное, тринадцати, невинная как розовый бутон. В своем прозрачном муслине она красивее самой Гебы, что прислуживала на Олимпе. Девица бросается мне на шею. Я же поцелуями раздавливаю ее полные и влажные, по-взрослому умелые губки и жадно разыскиваю едва-едва пробивающиеся грудки…
- Не тут, в машине… - шепчет она, тоже трясясь, явно от возбуждения.
Переходим на паркинг.
- Это машина моего папочки, - шепчет девица и тянет меня вовнутрь. Ну а там неожиданно меня окутывает мрак, что-то закрывает мою голову, затыкает рот. Незнакомый голос хрипит:
- Он в наших руках!
Ну вот и все. Я знаю, что хотел знать. Альфредо Деросси никогда не было, то есть – был, существовал как некий бедняга, забытый Богом и историей, впоследствии разрекламированный антиклерикалами как Мученик Разума. Совершенно случайно когда-то малолетний Гурбиани услышал о нем и написал беспомощный рассказец. Потом преобразил в роман. Он давал герою своего творения все то, чего не мог найти в себе в дни своего печального, подлого и трусливого детства: гениальность и отвагу, благородство и мудрость. Он описал гиганта, творящего Новую Европу и Нынешний Мир, который, даже если и самому мальчишке не казался наилучшим, но был единственным возможным из миров. Дело другое, что он его не любил, а когда вырос, то пытался всеми возможными способами его унизить и сделать еще более гадким. Будучи ребенком, когда только мог, он сбегал из своей реальности в барочную Розеттину, к маэстро Маркусу и капитану Массимо, к прекрасной Беатриче и колдунье Аурелии. Чтобы описывать Розеттину как можно лучше, он изучал историю, моду, обычаи, вчитывался в Макиавелли и Челлини, Аретино и десяток других авторов. Сам он неплохо рисовал, поэтому делал рисунки, которые подписывал "Il Cane". Он жил жизнью Деросси, вместе с ним переживал невероятные приключения и поединки… Это он открывал новые земли и химические соединения, а его создатель даже думал, что позволит своему творению найти в Святой Земле, в Меггидо или развалинах Петры философский камень, чтобы обеспечить Альфредо бессмертие. Но потом вырос. Рукописи отправились на дно сундука, выброшенные за обочину памяти и текущих проблем. Словно минувшая молодость. И он был уверен, что это навсегда.
Лишь болезнь и отчаяние извлекли все это на свет дня, словно рыбацкий невод – затопленное сокровище. С помощью сканера Альдо перенес книгу в компьютер, пытаясь оторваться от мыслей о неизбежном; вновь писал, выбрасывая целые сказочные книги и горячечно творя на их месте новые. Вот только что вместо веселых приключений гения начала нарождаться драма любви и ненависти, отчаяния и смерти. Про приключения и романы писал молодой Альдо; а уже про последнюю, единственную и трагичную любовь – Альдо старый, перегоревший, осознающий близость собственного конца и ожидающей его там пустоты.
Отчаянно разыскивая смысл, высматривая Бога, от которого отказался, Гурбиани не мог предвидеть двух вещей: встречи с Раймондом и покушения на себя самого, а в частности – того, что подобно своему герою, Альфредо Деросси "Иль Кане", он будет брошен в Колодец Проклятых. А уже там, по причине стресса, отчаяния, а может – давления опухоли на мозг, случится настолько невероятное смешение "я", что умрет Альдо и родится Альфредо. А может – и наоборот.
Светает. Пора ложиться. В голове у меня все кружится от писания, от чтения, от размышлений. А завтра необходимо возвращаться. К ежедневной пахоте. В Розеттину. С Моникой и нашим еще не родившимся ребенком. Боже, как бы хотелось слушать его смех, трепещущий по всему дому словно выпущенная из клетки птица, видеть его первые шажки. Учить ездить на коньках и на велосипеде, показывать буквы и читать стихотворения Петрарки. Открывать тайны бриджа и игры в три зеркальца. Слушать о его собственных наивных открытиях, ожидать ночтью его возвращения с первого свидания, увидать в окно, как он мчится, размахивая школьным табелем…
Так много, так мало.
2000
На этом заканчивается первая книга цикла об Альфредо Деросси.
Впереди две других: "Реконкиста" (2001) и "Волк в овечьей шкуре" (2010)
Примечания
1
В оригинале "O Kraku, smaku i o królewnie w wannie" ("О Краке, вкусе и королевне в ванне"). Польская легенда называется: "O Kraku, Smoku wawelskim, i o królewnie Wandzie" ("О Краке, вавельском драконе, и о королеве Ванде").
2
"Маколетти" – это восковые свечи различной величины, и они представляют собой последний соблазн последних минут безумия… Забава заключается в том, что каждый желает погасить свечу ближнего, стараясь удержать огонь на своей. (из А. Дюма "Граф Монте Кристо").
(обратно)3
Здесь – задница. А вообще-то, sempiterma = вечная (лат. и ит.).
(обратно)4
Нове́нна, девяти́на — традиционная католическая молитвенная практика, заключающаяся в чтении определённых молитв в течение девяти дней подряд.
(обратно)5
А вот знаете, как Гугл-переводчик перевел это немецкое выражение? "Сделать ебут"… !!! Второй вариант: "сделать чертовски".
(обратно)6
Авгу́р (лат. augures) — член почётной римской жреческой коллегии, выполнявший официальные государственные гадания (главным образом ауспиции) для предсказания исхода тех или иных мероприятий по ряду природных признаков и поведению животных. Гару́спик — жрец в Древней Этрурии, позже — в Древнем Риме, гадавший по внутренностям жертвенных животных, особенно часто — печени. Лучшими гаруспиками в Риме считались этруски, от которых и был заимствован этот вид гадания.
(обратно)7
Внимательный читатель уже наверняка догадался, что действие происходит в какой-то альтернативной Италии. В нашей латыни нет буквы "w".
(обратно)8
Monetae cudendae ratio — труд Николая Коперника, написанный в 1526 году по просьбе короля Польши Сигизмунда I и представленный сейму Королевской Пруссии, одной из провинций Королевства Польского. В этой работе Коперник изложил свои взгляды на теорию денежного обращения.
(обратно)9
Маю́скул, маю́скульное письмо́ (от лат. maiusculus — несколько больший) — алфавитное письмо, состоящее из прописных букв, то есть из букв, начертание которых располагается между двумя параллельными линиями. Маюскульным было древнее греческое и латинское эпиграфическое письмо.
(обратно)10
Имеется в виду общее художественное оформление книги: заставки, орнаменты, виньетки, дизайн страницы и обложки, а не только иллюстрации.
(обратно)11
Мари́-Поле́тт Бонапа́рт (фр. Marie Paulette Bonaparte; 20 октября 1780, Аяччо, Корсика — 9 июня 1825, Флоренция), более известная как Полина Бонапарт (Pauline Bonaparte), — средняя из трёх и самая любимая сестра французского императора Наполеона I.
Мадам Сан-Же́н (фр. "г-жа Бесцеремонность") — прозвище супруги маршала Лефевра Катрин Юбшер (1754—1835). Катрин, одарённая исключительным характером, прачка и белошвейка, вышла замуж 1 марта 1783 за сержанта Французской гвардии Франсуа Жозефа Лефевра. Когда её муж неожиданно возвысился, став маршалом, то несмотря на бесцеремонное поведение и неизысканный лексикон — попала к императорскому двору и стала придворной дамой.
(обратно)12
В надцатый раз напоминаю: в польском (и чешском) языке слово "жид" никакой коннотации не несет. Это всего лишь название национальности (и пишется, кстати, с большой буквы: Żyd).
(обратно)13
Напоминаю, что вы читаете фантастическую книгу – Переводчик.
(обратно)14
Здесь автор ошибся. Словами: "Мы, народ Соединенных Штатов…" начинается Конституция США, принятая 17 сентября 1778 года.
(обратно)15
Автор еще раз дает нам понять, что и основная история разыгрывается в альтернативной реальности
(обратно)16
"Ндрангета" – крупная итальянская преступная группировка, происходящая из Калабрии – беднейшей провинции Италии. "Коза Ностра" - крупная итальянская преступная группировка родом из Сицилии. "Каморра" - крупная итальянская преступная группировка, происходящая из Неаполя.
(обратно)17
Международное экуменическое сообщество (монастырь?) с проведением совместных молитв под особенные песнопения, основанное в 1940 году в Тезе, Франция, братом Роже. После смерти брата Роже, зарезанного душевнобольной прихожанкой в 2005 году, лидером Сообщества стал брат Алоис, родом из Германии. Деятельность: "распространение основных реальностей Евангелия – простота и доброта сердца".
(обратно)18
Сторонники архиепископа Марселя Лефевра, ратующего за обновление и модернизацию католической церкви в плане фундаментализма (60-70 годы ХХ века).
(обратно)19
Архипелаг в юго-восточной части Эгейского моря. Острова принадлежат Греции.
(обратно)20
Катабас (katabas) – так ученики презрительно называли преподавателей Закона Божьего.
(обратно)21
Лино Павоне, записной философ и не знает слова "психе"? Не верю! © Станиславский.
(обратно)22
Релятивизм - (от лат. relativus - относительный), признание относительности, условности и субъективности познания, отрицание абсолютных этических норм и правил. В познании релятивизм нередко ведет к агностицизму. – Энциклопедический Словарь
(обратно)23
Католические традиционалисты, отколовшиеся от официальной Католической Церкви вследствие неприятия постановлений Ватиканского Собора (1962-1965 гг.). Лефевристы – противники обновления церкви.
(обратно)24
Базилика скорбящей Богородицы, королевы Польши (польск. Bazylika Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski) — католический храм в деревне Лихень Стары неподалеку от Конина, Великопольское воеводство, Польша. Спроектирована Барбарой Белецкой и построена в 1994—2004 годах. Строительство финансировалось пожертвованиями паломников. Имея неф длиной 120 метров и 77 метров в ширину, центральный купол высотой 98 метров и башню высотой 141,5 метра, эта базилика является крупнейшей церковью в Польше и одной из самых больших в мире. Собор посвящён Скорбящей Богородице, королеве Польши, чья икона, вероятнее всего созданная в XVIII веке, выставлена на главном алтаре базилики. Это одно из главных мест паломничества в Польше. В колокольне базилики находится самый большой колокол в Польше под названием "Мария Богородица". - Википедия
(обратно)25
Флагелланты = бичующиеся.
(обратно)


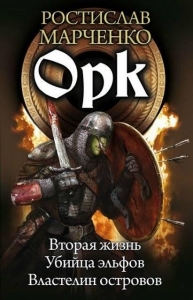


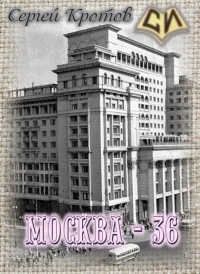
Комментарии к книге «Пес в колодце», Марчин Вольский
Всего 0 комментариев