Вячеслав Рыбаков Гравилет «Цесаревич» (романы)
Полет сквозь миражи (предисловие)
Нас все обмануло —
и средства, и цели, Но правда все то,
что мы сердцем хотели.
Наум Коржавин1
Почти три четверти века назад пятидесятилетняя полуамериканка-полупарижанка Гертруда Стайн нарекла «потерянным поколением» своих младших собратьев по перу — тех, чьи травмированные Первой мировой умы и души так и не смог исцелить шаткий межвоенный мир. Название это не несло в себе никакой негативной оценки: ведь за ним стояли имена Хемингуэя и Дос Пассоса, Фолкнера и Фицджеральда, Олдингтона и Ремарка — писателей, на чьем, с изрядным запозданием пришедшем к нам в пятидесятые-шестидесятые годы, творчестве в немалой мере воспитывалось мое поколение. Стремление как-то объединить и единым выявляющим суть оборотом определить литературную генерацию неоднократно появлялось и позже — в США говорили о «разбитом поколении», в Германии — о «поколении вернувшихся», в Англии — о «поколении рассерженных молодых людей»…
Продолжая эту традицию, я окрестил бы отечественных фантастов, обратившихся к НФ в семидесятые годы и начавших публиковать свои произведения, как правило, уже в восьмидесятых, «растерянным поколением». Как и слова Гертруды Стайн, это определение ни в коем случае не является охулкой. Ведь и за ним стоят писатели, чей талант не подлежит сомнению — петербуржцы Андрей Столяров и Святослав Логинов, Андрей Лазарчук из Красноярска, волгоградцы Любовь и Евгений Лукины… Но, наверное, самым ярким представителем этой плеяды является наш сегодняшний герой — Вячеслав Михайлович Рыбаков.
II
Странное дело: Слава Рыбаков всего на каких-то семь лет моложе — родился он 19 января 1954 года, — и все-таки принадлежим мы к разным литературным генерациям. Я последний среди питерских фантастов, кто может отнести себя к поколению шестидесятых. Еще в сезоне шестьдесят первого-шестьдесят второго годов вошел я в клуб фантастов, собиравшийся в те времена в гостиной журнала «Звезда» — его бессменным председателем был Илья Варшавский, наш светлой памяти Дед, а секретарем — тоже, увы, покойный ныне Дмитрий Брускин, блистательный переводчик Лема, впервые познакомивший нас с «Солярисом», «Эдемом», «Непобедимым», «Крысой в лабиринте» и многими рассказами. Хоть и с трудом — гайки уже завинчивались вовсю — я успел все же дебютировать в шестьдесят шестом. И потом продолжал публиковаться — пусть даже в час по чайной ложке: если за год удавалось напечатать два-три рассказа, уже был праздник души… Разумеется, это не могло идти ни в какое сравнение с теми, кто набрал уже литературный вес и престиж — от Ефремова и Стругацких до Биленкина и Ларионовой. Но ведь перед ними я был совершеннейшим мальчишкой, которому признанные писатели казались чем-то средним между героями и полубогами…
К началу семидесятых все изменилось. Клуб в «Звезде» приказал долго жить, а заседания секции фантастов в Доме писателя носили уже характер куда более официальный, пусть даже и участвовали в них все те же люди; число изданий НФ упало в несколько раз, и теперь ежегодно во всей стране появлялось от силы полтора-два десятка книг. Публиковаться становилось все труднее — даже полубогам. И если в начале шестидесятых к фантастике нередко обращались те, кого соблазняла благоприятная конъюнктура жанра, то теперь ей остались верны лишь безнадежно преданные подвижники — и масса читателей, разумеется.
Именно в это время и возник на моем горизонте Слава Рыбаков. Добрая знакомая, прекрасный преподаватель математики, как-то спросила: «Есть у меня в классе мальчик, фантастику пишет; может, посмотришь?» О чем речь! Двадцатипятилетнему автору десятка рассказов, рассеянных по газетам, журналам да сборникам это не могло не польстить… Смотреть, правда, оказалось непросто: то был роман, написанный от руки во множестве (не помню уж точного числа) общих тетрадей. Зато отдельные его эпизоды помнятся до сих пор. И уже тогда стало ясно: «мальчик» этот — писатель милостью Божией. При том же убеждении я остаюсь и сейчас, двадцать с лишним лет спустя.
После первого романа, не только не опубликованного, но даже, кажется, и не законченного (Бог весть, как он назывался; по-моему, и сам Рыбаков не помнит), появилась повесть «Мотылек и свеча» — уже добротная научная фантастика. Помню, как сидели мы со Славой над ее текстом, как позже — в 1974 году — именно с нею я привел его в недавно созданный при секции семинар молодых фантастов, руководить которым взялся Борис Стругацкий. Точнее, семинар был воссоздан после годичного перерыва: прежний руководитель, Илья Варшавский, был уже не в состоянии заниматься этой работой, а в том же семьдесят четвертом его не стало…
Пришедшим в фантастику в семидесятые пришлось еще туже, чем нам. У них вообще почти не было шансов дебютировать. Тем, кто занимался новеллистикой, было еще чуть полегче. Тем же, кто оказался генетически предрасположен к большим формам, — а с Рыбаковым случилось именно так, — деваться было вовсе некуда. То есть писать-то они, конечно, писали. Обсуждали свои рукописи на семинаре, показывали друзьям. Но этим круг их читателей и ограничивался, хотя порой — и помимо авторской воли — расширялся вдруг самым непредсказуемым образом. Так, например, рыбаковская повесть «Доверие» снискала себе поклонника в лице КГБ — о своих взаимоотношениях с этим ведомством пару лет назад Вячеслав Рыбаков написал очень яркую и живую статью, опубликованную сперва в газете «Литератор», а потом — в более полном варианте — в фэнзине «Сизиф».
Согласитесь, к особой плодовитости время отнюдь нс располагало.
По этой причине — как и по другим, более интимного свойства — Рыбаков встал в позу Колосса Родосского, одной ногой опираясь на литературу, а другой — на науку. Собственно, когда мы с ним познакомились, он был уже не школьником — приятельница моя называла так Славу по старой памяти — а студентом-первокурсником восточного факультета Ленинградского университета, специализирующимся на истории Китая. Привел его туда проснувшийся в старших классах интерес к истории — оборотная сторона гораздо ранее родившейся у Рыбакова увлеченности НФ и ее моделями будущего. Он решил, что всерьез заниматься европейской историей нет резона: об этом можно прочитать вполне достаточно, чтобы получить более или менее ясное представление — книг, в том числе и на русском языке, хватает с избытком. Другое дело Восток — иная цивилизация, иной взгляд на мир, иная планета — что там придумывать марсиан… Да и социальные перспективы открывались тут более заманчивые… Потом, узнав побольше, Рыбаков понял, что история Китая, вдобавок, предоставляет исключительно богатые возможности для сопоставлений и параллелей с историей нашей — социалистической. Он увлекся всерьез — и, окончив в 1976 году университет, поступил в аспирантуру. В результате положенный срок спустя появилась на свет кандидатская диссертация, с приличествующей академичностью озаглавленная «Правовое положение чиновничества в Китае при династии Тан», но читающаяся при этом с не меньшим интересом, нежели фантастическая повесть: тема эта представляется отвлеченной лишь до тех пор, пока не осознаешь кровного ее родства с проблемами родной советской номенклатуры… Рыбаков даже признался как-то, что еще в раннеаспирантском периоде своего бытия мечтал отыскать в китайском административном праве некий секрет, обеспечивший безбедное существование и функционирование бюрократической системы Поднебесной Империи на протяжении полутора тысяч лет — отыскать и поднести на блюдечке с голубой каемочкой благодарному отечеству, дабы наши чиновники лучше трудились на благо страны… Увы, мечты, мечты! Они, разумеется, рассеялись, а вот увлеченность самим предметом — осталась. И я от души надеюсь, что еще придется поздравлять Вячеслава Михайловича и с новыми научными работами, и докторской степенью…
Но это все — о левой ноге Колосса Родосского. Как видите, эта — научная — оказалась мошной. Чего не скажешь, увы, о второй, литературной, которую время поразило сухоткой.
Да, писал Слава. Собственно, фантастикой он увлекся с детства — даже точная дата есть, январь шестьдесят второго, когда во время зимних каникул ему, первокласснику, попала в руки «Тайна двух океанов», эта соцреалистическая перелицовка «Двадцати тысяч лье под водой», вышедшая из-под пера Григория Адамова. А потом были «Звездоплаватели» Георгия Мартынова, его же дилогия «Каллисто» и «Каллистяне»… Затем пришли братья Стругацкие. Прочитав «Страну Багровых туч», десятилетний Рыбаков даже принялся писать собственную «Страну Багровых океанов», где из естественного детского стремления к добру и всеобщему счастью так переиначил конструкцию вездехода «Мальчик», чтобы стала невозможной его гибель, а значит — и смерть находившихся внутри танка героев, так впечатляюще описанная в повести Стругацких. А по прочтении «Далекой Радуги» он не утерпел и послал Стругацким письмо, в котором советовал приписать к повести финальный абзац, в котором все завершалось бы всеобщим спасением…
Реконструируя сегодня собственное детское мироощущение, Рыбаков мотивирует прикипание душою к НФ несколькими соображениями. Тут и неосознанное ощущение неудовлетворительности окружающего мира; и то обстоятельство, что молочные реки и кисельные берега целеустремленно созидаются в фантастике человеком, а не возникают по мановению волшебной палочки, как происходит это в сказке; и, наконец, просто обаяние того светлого грядущего, что вставало со страниц книг Мартынова, скажем, и — особенно — ранних Стругацких, их «Возвращения», «Пути на Амальтею», «Стажеров». Будучи мальчиком домашним и не слишком общительным, Слава довольно долго подозревал, что подлинный мир именно таков и есть на самом деле — в крайнем случае, вскоре станет таким. А когда с возрастом явилось понимание, что дело обстоит, мягко выражаясь, не совсем так — пришло время прибегать к фантастике как форме эскапизма, компенсировать с ее помощью душевное разочарование, искать в вымышленных мирах приемлемую реальность, друзей, подруг, наконец, самого себя… Сперва — читая, а потом — выдумывая их, творя собственноручно, как творится человеком грядущее в НФ.
Вот так оно все и пошло. Рыбаков писал, и в своем кругу был достаточно ценим. Участвовал он — и весьма небезуспешно — в Первом Всесоюзном семинаре молодых писателей-фантастов и приключенцев, что состоялся в Москве зимой 1976 года — семинаре нынче изрядно подзабытом, хотя в нем принимали участие многие достаточно известные сегодня авторы — Геннадий Прашкевич и Виталий Бабенко, Владимир Малов и Ольга Ларионова, Борис Штерн и светлой памяти Виталий Бугров. Ездил потом Рыбаков и на многие последующие — в Малеевку и Дубулты. Но публикаций — главного в писательской жизни — не было.
Собственно говоря, такую ситуацию не назовешь исключительной. Временной разрыв между первым уже не совсем ученическим опусом и литературным дебютом составил у меня шесть лет, а у Славы — семь. Разница, как видите, непринципиальная. Принципиальным было другое — дух времени. Мое было не в пример легче. Впрочем, как писал Александр Кушнер,
Времена не выбирают — В них живут и умирают.Мы убеждали Славу переключиться на малые формы, заняться новеллистикой, поскольку держались все-таки «Уральский следопыт», «Вокруг света» и его приложение «Искатель», «Химия и жизнь» и еще несколько регулярно публикующих фантастику журналов. В конце концов Рыбаков поддался. И в январе 1979 года дебютировал наконец рассказом «Великая Сушь», опубликованным в журнале «Знание — сила». Потом в периодике появилось еще несколько его рассказов — и хороших.
Однако по-настоящему он дебютировал совсем неожиданно — в кино. Два года мучений со сценарием, о которых впоследствии он рассказывал достаточно ярко (но пусть он сам и говорит об этом!) — и вот в 1986 году на экраны вышел фильм «Письма мертвого человека». За сценарий, написанный в соавторстве с режиссером Константином Лопушанским при творческом участии Бориса Стругацкого все трое были удостоены в 1987 году Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, а потом — и нескольких международных призов, в том числе Гран-при и приза Международной ассоциации кинопрессы на кинофестивале в Мангейме (ФРГ).
И тут время сломалось. Фантастика вновь пошла — пусть не так, как в оттепельные годы, во время перестройки ее сильно потеснили и переводная НФ и отечественная публицистика, — но все-таки более или менее активно. В рижском журнале «Даугава» была опубликована рыбаковская повесть «Первый день спасения», в «Урале» — многострадальное «Доверие», дождавшееся наконец, десятилетие спустя, своего часа и в награду за долготерпение получившее приз Интерпресскона-91 (правда, не за ту, «уральскую» публикацию, а за первоначальный вариант, появившийся в фэнзине «Сизиф»)… Стали возникать новые издательства и серии — и вот в серии «Новая фантастика» увидел свет роман Рыбакова «Очаг на башне», отмеченный призом «Старт» как лучший дебют года. В издательстве «Советский писатель» вышел сборник рыбаковских повестей и рассказов «Свое оружие». На глазах произошло чудо — сухая конечность Колосса Родосского превратилась в здоровую и сильную ногу. А теперь вот и этот том…
III
В мои намерения не входит анализировать и оценивать включенные в него произведения — зачем отбивать хлеб у читателей и у критиков, буде последние все-таки отыщутся. А вот поделиться мыслями, возникшими при чтении — точнее, перечитывании — романов, как вошедших, так, заодно, и не вошедших сюда, мне, безусловно, интересно. Тем более, что за текстами «Гравилета…» и «Очага…» проступает эволюция мироощущения целого поколения.
Вот о мироощущении давайте и поговорим.
Представление о том, каким должен быть мир, формировалось у нас с Рыбаковым — невзирая на разницу в возрасте и принадлежность к разным литературным генерациям — одинаково, на одних и тех же книгах, и в первую очередь на «Туманности Андромеды» Ефремова и обширном цикле повестей братьев Стругацких о XXII веке, цикле, начатом «Возвращением». Утопии, надо сказать, жанр донельзя коварный. На первый взгляд, они посвящены исключительно утверждению некоего — и зачастую весьма оторванного от реальности — идеала. Однако на деле являются инструментом социальной критики, ибо описанный в них идеальный мир в читательском сознании невольно сопоставляется с миром окружающим, и возникающая в результате разница потенциалов вызывает нечто вроде духовного электрошока, под воздействием которого резко меняется взгляд на картину мира. Вместе с «Туманностью…» с творчеством ранних Стругацких к нам тогда — в конце пятидесятых-начале шестидесятых — пришло представление, пусть даже отчасти по-советски идеологизированное и социализированное, о тех самых общечеловеческих гуманистических ценностях, о которых мы сегодня так много размышляем, рассуждаем и пишем. Но одновременно родилось и понимание того, насколько же фарисейски фальшив тот мир, который нам с младых ногтей пытались выдать едва ли не за идеальный. Именно болью этого осознания диктовались первые литературные опыты многих из нас. А уж к Рыбакову-то это относится в полной мере.
Правда, защищались от этой боли все по-разному. Одни пытались отделить ее от себя, перенося на бумагу. Другие, не удовлетворяясь этим, выстраивали, вдобавок, вокруг себя некий защитный кокон. Вы, наверное, обратили внимание, насколько гладкой является биография Рыбакова — я имею в виду событийную ее сторону: школа — университет — аспирантура — Институт востоковедения… Это было — неосознанное, быть может — стремление самоизолироваться, закапсулироваться, двигаться по огражденному от мира невидимыми стенами туннелю. Нечто подобное подразумевал Валерий Брюсов, когда писал в «Грядущих гуннах»:
А мы, мудрецы и поэты, Хранители тайны и веры, Унесем зажженные светы В катакомбы, в пустыни, в пещерыЭто путь не единственный, в частности — не мой, но вполне имеющий право на существование и достойный уважения. Тем более, что в какой-то степени нечто подобное ощущал едва ли не каждый из нас…
И потому вполне естественно, что и «Очаг…», и «Гравилет…» являют собой прощание — и с окружающей действительностью, которая с каждым годом казалась все неприемлемее, и даже с самими идеалами, на которых мы выросли, ибо, сохранив всю эмоциональную привлекательность, они продемонстрировали в то же время собственную недостижимость. Впрочем, уход в эти внутренние «катакомбы, пустыни, пещеры» предпринимался и для того еще, чтобы, прощаясь с мечтой, сохранить веру в нее — глубоко сокрытую, но от того не менее искреннюю.
После самых ранних (здесь вы их не встретите) произведений рыбаковская фантастика перестала быть откровенно — и поверхностно — социальной. Авторский интерес раз и навсегда сместился в область нравственных проблем. Каким богам ни поклоняйся, тебе все равно никуда не уйти от проблем этики и морали, совести и долга, наконец, самой по себе веры. Как писал тот же Наум Коржавин,
Да, мы в Бога не верим, но полностью веруем в совесть, В ту, что раньше Христа родилась и не с нами умрет.Прочтите любую из рыбаковских повестей, каждый его роман или рассказ — и убедитесь, что для их героев, как и для автора, естественно, главными являются категории совести и долга. Рыбаков даже определяет чистую совесть, как сознание выполненного долга. Правда, у тех, кто обладает совестью, она никогда не бывает совершенно чистой — в противном случае христианство не пришло бы к идеям исповеди и отпущения грехов. Более того, это едва ли не самый главный из человеческих внутренних конфликтов — стремление жить в соответствии с этическими нормами своего общества и невозможность всегда соблюдать их в реальном бытии.
Конфликт этот осложняется, вдобавок, принципиальной непредсказуемостью последствий человеческих поступков. Как творить добро, если ты никогда и ни при каких обстоятельствах не можешь быть до конца — а то и вообще — уверен, чем твое слово или поступок обернутся вскорости в нашем мире, где действует чудовищно сложный параллелограмм сил? Понятно, что непредсказуемость эта необходима; она являет собой одну из ипостасей тех мутаций, без которых мы и по сей день болтались бы в виде коацерватных капелек в первичном океане. Но как в этих условиях быть все с теми же совестью и долгом? Проблема эта так или иначе проходит сквозь все рыбаковское творчество, особенно ярко, пожалуй, проявляясь в «Очаге на башне».
С переломом, который внесла в нашу жизнь вторая половина восьмидесятых годов, окружающий мир стал меняться. Однако и тот, что еще неуверенно и шатко встает теперь перед глазами, будучи во многом иным, остается столь же неудовлетворительным и неприемлемым. Создается впечатление, будто мир, в полном соответствии с шекспировским тезисом, вывихнул сустав и теперь уже вовек не будет выглядеть, как должно. Где, когда, как это произошло?
С подобным вопросом сталкивается в жизни едва ли не каждый из нас. И пытается ответить себе: вот, женись я тогда не на Маше, а на Наташе, и все пошло бы по-иному, лучше, чище, счастливее; вот, поступи я тогда не в университет, а на курсы скорняков, жил бы я нынче безбедно — и так далее, и тому подобное. Увы, время анизотропно, а потому нам остается лишь бесплодно вздыхать. Но у фантастов возможности иные. Для них время — материя пластичная и податливая.
Альтернативная история — область, любимая многими читателями (каюсь, я и сам из их числа). В просторечии вышеприведенное наукообразное словосочетание означает просто-напросто «если б да кабы…», однако за простотой этой посылки открывается необъятное оперативное пространство. Сколько перьев истерли фантасты, сколько клавиш сбили до основания у своих машинок, сколько тысяч квадратных километров леса свели, излагая граду и миру свои взгляды на то, что случилось бы, выиграй Пунические войны не Рим, а Карфаген; не завершись «проект Манхаттан» в сорок пятом созданием атомной бомбы; образуйся в Крыму врангелевских времен нормальная демократическая республика… Продолжайте сами — этим перечислением можно заполнить не один десяток страниц. Предавались этому странному занятию и ученые — чего стоят хотя бы великолепные эссе Арнольда Дж. Тойнби, из которых, правда, на русский язык переведено лишь одно — «Если бы Александр не умер тогда…»
Подобно Машине Времени, альтернативная история — одна из детских болезней писателей-фантастов. Едва ли не всякий должен переболеть ими — не одной, так другой; а нередко обе эти темы смыкаются, словно сиамские близнецы. Вот и Рыбаков не избежал поветрия. И прекрасно — иначе мы с вами не имели бы «Гравилета „Цесаревич“» — произведения, которое как раз и посвящено тому, что мы потеряли из-за вывихнутого веком сустава.
Да вот беда-то какая: захотелось ему, скажем, посмотреть, что стало бы с нашим отечеством, окажись Сталин, Бухарин, Молотов и иже с ними людьми добрыми, хорошими, совестливыми, благородными и мудрыми (как рассказывал мне Рыбаков, замысел рассказа «Давние потери» родился из сна — что ж, присниться и не то может; Алексей Константинович Толстой утверждал: «Я за чужой не отвечаю сон!» — так ведь и за свои никто не в ответе…). Ну и еще — будь они все долгожителями, что уже не столь важно. И оказывается, все было бы ну просто ах, как здорово.
С младых ногтей нас учили, что роль личности в истории не слишком-то велика: все решает поступательное движение общественно-исторического процесса, смена формаций и так далее. Естественно, по свойственному человеку вообще, а молодости особенно, нонконформизму нам хотелось прямо противоположного. Мы доказывали, что личность решает в истории если не все, то очень многое, и потому так зачитывались этими самыми еслибдакабистскими романами, где лихой американский подрядчик по собственному вкусу и разумению перекраивает Британию шестого века, а простой русский инженер — сперва Францию, а затем и всю Европу столетия девятнадцатого.
В «Давних потерях» оба эти взгляда смешались с дивной неразделимостью. Добрые вожди смогли уберечь страну ото всех мерзостей, через которые прошла реальная наша история; а история в этом случае автоматически привела к торжеству тех самых поступательных общественно-исторических процессов, которые плавно внесли отчизну в преддверие утопии. И, значит, все установки были правильны… Эк! Каюсь, я долго не мог разобраться в странном этом конгломерате, пока не ощутил в рыбаковском рассказе ироническую интонацию, которая расставила все по своим местам. Точнее, интонацию грустно-ироническую — ту, с какой мы прощаемся с детской мечтой податься в пираты, например. Так ведь и весь рассказ — не только тоска о потерянном социалистическом рае, но и прощание с детской мечтою об этаком Эдеме.
Но, пожалуй, наибольший интерес с точки зрения альтернативно-исторического эксперимента представляет собой «Гравилет „Цесаревич“». И не только потому, что здесь детально разработана модель Российской империи, какою могла бы она сегодня стать, пойди история другим путем, подпиши Александр II конституцию Лорис-Меликова, не возникни мрачное подполье «Народной воли»… Разработана не только детально, но и обаятельно, хотя и ощущается за ее картинами привкус жгучей тоски нашего неустроенного сегодня по миру на земле и в человецех благоволению.
Однако главное, разумеется, не в этом. Оно заключается в сути того нравственного идеала, который за этой утопией стоит. И это вновь возвращает нас к разговору об этике, а заодно — и о внутренних, душевных ориентирах, заложенных еще тогда, в шестидесятых.
Прочитав «Гравилет…», Борис Стругацкий заметил Рыбакову: «Вы, Слава, истинный ефремовец… Вы верите в существование властительной этики, и потому относитесь к человечеству, словно девственник к женщине — теоретически он знает, что конкретная женщина может оказаться и обманщицей, и развратницей, и кем угодно еще, но Женщина как таковая для него суть объект поклонения. Вот и вы в человечество верите, хоть и знаете: отдельно взятый человек вполне может оказаться предателем, преступником, садистом… И я, — грустно закончил он, — по идее должен был бы поддерживать в вас эту иллюзию — но очень уж врать не хочется». Что ж, с точки зрения Стругацкого, может, это и ложь. И возможно, многие с таким утверждением согласятся. Но нам с Рыбаковым — и в этом отношении мы едины — представляется, что подобным образом поддерживается в людях то, что только и достойно уважения, что позволяет в наше смутное время удержаться от недопустимых крайних проявлений; не скажу даже «нравственный идеал» — скорее, «нравственная норма».
IV
Творчество Вячеслава Рыбакова — и даже та его часть, что представлена в этом томе, — слишком обширно и неоднозначно, чтобы в нем можно было разобраться с помощью одной статьи. Как ни старайся, все равно многое окажется несказанным, останется за пределами разговора.
Например, было бы очень интересно поподробнее проанализировать одну особенность его творческого метода. Любопытное обстоятельство: многие рыбаковские произведения были рождены не впечатлениями от жизни, непосредственного человеческого бытия, проявлений реального мира, но от проявлений мира идеального — того, в котором обитают Гамлет и Дон-Кихот, Анна Каренина и Веда Конг, капитан Блад и капитан Ульдемир.
Рыбаков признавался, что повесть «Мотылек и свеча» — ранний, двадцатилетней давности вариант нынешних «Воды и корабликов» — родился из впечатления от романа Альфреда Вестера «Человек без лица». Там в нормальном мире существовала группа эсперов-телепатов, для которых окружающие были прозрачны и понятны, тогда как они сами оставались полностью закрытыми. А если наоборот? Если — единственный обычный человек в мире телепатов? Он прозрачен для всех, тогда как они для него — тайны, каждая за семью печатями… Разумеется, потом в повести появилось и многое другое, я веду речь лишь о первотолчке.
Точно так же первичным импульсом для «Доверия» послужил роман Владимира Михайлова «Дверь с той стороны». Причем, как и в первом случае, Рыбаков вывернул его исходную ситуацию наизнанку. А повесть «Достоин свободы» — вернее, первоначальный ее вариант, называвшийся «Самый последний убийца» — родилась как продолжение лемовского «Соляриса», в ней даже действовали поначалу те же Кельвин, Сарториус и Снаут. Правда, этот случай посложнее, так как к впечатлениям от романа Лема добавились и мысли, родившиеся при чтении кларковской «Большой глубины». А рассказ «Пробный шар» явился на свет в качестве контроверзы моей новелле «Могильщик»…
Подчеркиваю, речь ни в коем случае не о подражании, не о заимствовании, не о пении с чужого голоса. Просто каждый раз возникали какие-то новые взаимодействия внутри того идеального мира, о котором я только что упоминал. И в этом смысле Рыбаков — писатель как раз глубоко традиционный и глубоко русский, поскольку именно нашей отечественной литературной традиции подобное отношение было свойственно издавна. Если сомневаетесь — приглядитесь повнимательнее к пушкинскому творчеству (более поздних примеров не стану приводить).
Не менее любопытно было бы поразбираться и с собственно фантастическими идеями Рыбакова, весьма ценимыми поборниками «твердой НФ». А особенно — с его социальными концепциями.
Вот лишь один пример. Как я уже говорил, идея нехватки животных белков, всех этих бесчисленных бифштексов, лангетов и отбивных, появилась в повести «Достоин свободы» под впечатлением «Большой глубины» Артура Кларка, буддистских воззрений Маханаяке Тхеро. В середине семидесятых, когда создавался первый вариант рыбаковской повести, сама эта мысль казалось достаточно условно-отвлеченной. Чисто теоретическая нравственная концепция. Никто из нас не помышлял еще о недавнем отечественном дефиците продовольствия, емким символом которого стала тогда колбаса. Но даже это — лишь некое весьма локальное явление. А вот в общечеловеческих масштабах мы пришли ныне к пониманию жестокой правды теории Мальтуса, которой пока что человечеству нечего противопоставить. И получается, что интуитивно Рыбаков оказался куда прозорливее нас, грешных, не увидев, но ощутив актуальность проблемы без малого двадцать лет назад…
Что ж, остается надеяться: нынешняя статья — не последний разговор о рыбаковском творчестве, и выпадет еще на мою долю возможность порассуждать о том, что и как пишет Вячеслав Рыбаков. Ибо не сказанного остается заметно больше, чем того, чему нашлось место на лежащих перед вами страницах.
V
Но все же — почему я назвал литературную генерацию, к которой принадлежит Вячеслав Рыбаков, «растерянным поколением»? Ведь все они — каждый по-своему — решают поставленные перед собой художественные задачи, и решают, как правило, интересно и успешно.
Попытаюсь объяснить.
Давайте взглянем с птичьего полета.
Действительность развитого социализма обманула дважды: сперва, предавая детскую мечту, обернулась она извращением ценностей, и не снившимся никаким оруэллам, а потом, когда глаз вроде бы научился уже постигать в ее хитросплетениях скрытый смысл и оставалось лишь произнести классическое: «Маска, я тебя знаю!» — вдруг грянула оземь и рассыпалась во прах. Но и восставший из этого праха феникс постперестроечной реальности оказался не менее фальшивым. И выяснилось, что ни в той, ни в другой не сыскать взгляду подлинных, объективных ориентиров. Когда вместо очевидной и логичной, сколь бы сложной она при этом ни была, картины мира — отвратительного или прекрасного, все равно — перед взором лишь клубится туман, а вместо определенности пейзажа сменяются на горизонте перетекающие друг в друга образы фата-морганы, не растеряться трудно. Перед лицом непреходящей изменчивости ложноправд поневоле перестаешь ощущать себя венцом творения, и даже твердая почва начинает колебаться под ногами.
Потому-то многие представители поколения, о котором идет речь, ограниченного с одной стороны генерацией шестидесятых, а с другой — молодыми, так часто создают антиутопии (дистопии тож), стремясь поставить на всем нашем обществе, на всей человеческой цивилизации жирный крест, ибо намного проще перечеркнуть всю картину, нежели отделить реальность от миража. Иные из них почитают адекватным действительности лишь абсурд; другие уходят в изящные дебри постмодернизма; третьи углубляются в формальные изыскания, ставя во главу угла эстетические концепции. Причем все эти эксперименты чрезвычайно интересны. Ведь неочевидность картины мира, если разобраться — для всякого писателя дар Божий. Судите сами: о паровозе, скажем, можно в лучшем случае написать интересную статью, тогда как о пышущем жаром Железном Коне, мчащем сквозь мир и влекущем мир за собой, слагались поэмы и песни…
Вячеслав Рыбаков избрал собственный путь. Изначально воспитанный на фантастике шестидесятых, он впитал ее систему ценностей — ценностей, напомню, общечеловеческих — и этими внутренними, субъективными ориентирами заместил обманчивые внешние. А снарядившись таким образом, отправился в слепой полет.
Впрочем, не совсем: ведь слепым полетом именуется в авиации тот, что совершается в отсутствие видимости, когда ориентироваться приходится лишь по приборам. Здесь же уместнее говорить о полете сквозь миражи. Рыбаков поставил свой духовный гирокомпас на меридиан, вычерченный в системе вечных координат — координат этических. Если ефремовская «Туманность Андромеды» или «Возвращение» братьев Стругацких были утопиями социальными, социологическими, философскими, то рыбаковские повести и романы являют собой новый жанр — нравственную утопию.
Конечно, было бы верхом наивности полагать, будто сами по себе утопии способны изменить мир — литература никогда не оказывала на жизнь непосредственного влияния. Иное дело — область духа: здесь слово исстари было самым могучим, по сути, единственным инструментом. Лишь прибегая к нему и можно поддержать, сохранить, возродить извечные этические ценности — доброту и уважительность, терпимость и благородство, честность, верность и совестливость… Ибо только с их помощью можно попытаться развеять миражи.
Именно это и делает своим творчеством Вячеслав Рыбаков — пребывающий в растерянности перед многоликостью текучей фата-морганы, но сохранивший и укрепивший в себе цельность души. А ведь сделать это было отнюдь не просто, когда вокруг, пользуясь названием одного из рыбаковских рассказов, — только ветер и пустота, в которой пляшут миражи.
Андрей Балабуха
Очаг на башне
Жизнь дает человеку три радости…
Друга, любовь и работу.
А.Стругацкий. Б.СтругацкийЖизнь
1
А как эта травка называется? А куда шмель полетел? А почему шмель мохнатый, а оска гладенькая? Он что, что ли, оскин муж? А можно его поймать? Зачем же, собственно, его ловить, пусть летит себе, ты не находишь, Антон? А он жужжит здорово, как трансформатор. Он тока не вырабатывывает? Нет. Надо говорить: «вырабатывает», изволь запомнить, стыдно. Большой уже. А почему нельзя? Потому что это неправильно, существует общепринятая разговорная норма. А кто первее всех норму придумал? А до него молчали, или тоже говорили, только не так, как он потом придумал? А может, я другую норму придумал! Некоторое время Антошка азартно вопил по-тарабарски. А вы чего не отвечаете, обиженно спросил он затем. Вот именно поэтому, отвечал Симагин, именно поэтому, понял теперь? Затем нормы и создаются, чтобы разные люди могли друг друга понимать, и не было так: кто в лес, кто по дрова. А как же понимали того, кто первее всех придумал? Видишь ли, Антон, такого никогда не было. А как было? Все сразу заговорили одинаково? А ведь правда, человек от обезьяны произошел? А если один человек уже произошел, а другой еще нет, как же они разговаривали? А у обезьян есть разговорная норма? Есть. А у собак есть? И у собак есть. А почему у нас нет собаки? Потому что маме не успеть и нас кормить, и ее. А надо в столовую ходить. Некогда. А пусть домой принесут. Невкусно. А что такое «Обед на дом со скидкой десять процентов»? Это когда несут и по дороге десять процентов на землю скидывают. А процент — это сколько? Это одна сотая.
Они пришли. Симагин начал раздеваться, но увидел, как Ася заламывает руки за спину, чтобы расстегнуть свои две голубые пуговички, и прыгнул к ней:
— Помочь?
Ася с готовностью уронила руки и ответила кокетливо:
— Если тебе не трудно.
Симагину не было трудно. Ася, извиваясь змейкой, вылезла из платья, и Симагин положил ладони на ее смуглую спину, но в этот момент Антошка, хохоча на весь парк, принялся дергать за полуснятые симагинские штаны и вопить: «Помочь?!». Симагин поспешно ухватился, но опоздал. Ну и пусть. Он вышел из упавших штанов. Он был тощий, белесый, словно травинка, росшая без света; сквозь сметанную кожу отчетливо проступали все кости. Ася не удержалась и ткнула ему меж ребер пальцем — Симагин взвизгнул, съежился и сказал перепуганно: «Не тронь мои лебры». — «А тебе можно меня за холку хватать, да? Тебе можно?» — «Мне можно», — уверенно сказал Симагин. «Видишь, Тошенька, — пожаловалась Ася, — ему все можно. А мы — рабы подневольные…» Она поднесла к устам воображаемую чашу с ядом, пригубила и с легким скорбным стоном красиво повалилась на покрывало. Симагин полюбовался ею, но она кожей почувствовала его взгляд, застеснялась, как-то сжалась, прячась сама за себя, и он засмеялся, садясь с нею рядом.
Лес дышал покоем. Между яркими стволами сосен дотаивал туман; в нем плыли, слегка дымясь, косые снопы золотого света. Спокойно теплились искры росы, спокойно перекликались в гулкой тишине птицы. Сверкающее небо летело высоко-высоко.
Дурацкий я все-таки человек, сообразил Симагин. Вот пришел ничего не делать, а не могу. Мечтал, чтоб Антон хоть пять минут не звенел, а вот не звенит — и мне чего-то не хватает. Он оглянулся — Антошка сидел на корточках и внимательно смотрел в траву.
— Антон, — позвал Симагин, — кого ты там узрел?
— Муравьи гусеницу несут, — отозвался Антошка сосредоточенно.
Симагин покосился на Асю. Ася лежала на спине, чуть улыбаясь. Шея какая красивая. Живот ввалился… Купальник. Это же сплошное искушение, а не купальник. Симагин встал и, прихрамывая на шишках, раздвигая машущие влажными листьями ветви кустов, ускользнул от искушения к канаве. Вода текла, умиротворенно журча и помаргивая солнечными переливами. Вернувшись, Симагин достал из сумки Антошкину лопатку и громко сказал:
— Займемся-ка, Антон, трудотерапией.
На краю канавы он вырезал пласт дерна и вырвал из земли. Обнажился песок, мелкий и красноватый, как медная пыль.
— Будем воздвигать Анадырскую ГЭС, — сообщил Симагин и передал лопатку Антошке. — Давай.
Тот, пыхтя, принялся за работу.
— А я пока займусь промерами глубин, — сказал Симагин и, осыпаясь босыми ногами на колких от хвои песчаных склонах, спустился к воде.
— А для чего?
Симагин стал объяснять.
Ася приподнялась на локте и, приставив ладонь ко лбу, чтобы не слепило бьющее в глаза золотое пламя, поискала глазами. Антошки не было вовсе, а от Симагина торчала лишь голова и увлеченно бубнила: «А вот здесь у нас будут шлюзы… Их надо бдительно охранять, чтоб не пробрался диверсант…» Почаще бы такие воскресенья, подумала Ася. А то работает, работает. Сидишь одна. Как в той жизни. И сразу испугалась своей мысли. Кощунство думать так. Грех. Она украдкой, будто за ней следили, поплевала через левое плечо. Интересно, где теперь тот? А нет. Даже уже не интересно. Но пусть бы посмотрел. Пусть бы позавидовал. У него никогда не будет так хорошо. Как хорошо, подумала она и вдруг поняла, что улыбается. Совершенно непристойной, щенячьей улыбкой. Ну и ладно. Симагин вообще вон ГЭС воздвигает. Она достала из сумки книжку, раскрыла и уставилась на страницу. Поспешно свалился откуда-то пытливый муравей и принялся страницу исследовать. Ася аккуратно сдула муравья, но читать не стала. Жалко было читать. Читать можно дома. Она отложила книжку, не закрывая, — вдруг муравей опять придет. Ему там что-то надо было. Муравей не шел.
— Мураве-ей, — тихонько покликала Ася. — Я больше не буду. Читать можно вечерами. Пока Симагин в институте. Как он радовался, когда выхлопотал разрешение работать допоздна. Пойти к тому, кто разрешил, и прищемить голову дверью. Сам, наверное, шпарит домой раньше всех. А Симагину интересно. Ребенок. Был у меня один ребенок, теперь двое. Не миновать и третьего. Сказать? Нет, не пора. Почему-то страшно было сказать. Наверное, рефлекс. У человека рефлексы вырабатываются с первого раза. Вот и выработался. Ой, как хорошо, что сберегла Антошку тогда. На что надеялась? Ни на что. На чудо. И ведь произошло! Ася заметила, что муравей опять ползет по странице, и очень обрадовалась.
— Читай, — матерински сказала она муравью. — Знаешь, какая книжка? Про любовь.
Если бы муравей был Симагин, непременно бы зафырчал. Насчет узости женских интересов. Но муравей не зафырчал, он был муравей, и все. Он молчал и шустро прочесывал страницу. Будто принюхивался своим крохотным черным носиком. Ася встала и пошла к строителям. Симагин все объяснял да объяснял Антошке про плотину, в ход пошли уже уравнения какого-то Бернулли. Фу ты, ну ты — Бернулли. А Достоевского со школы не раскрывал. Ася шумно пошла через кусты. Антошка, завопив: «Диверсант!», пал за пнем, стискивая в руках воображаемый трахтомат. Вообще-то всего лишь лопатку. Ася, грозясь по-иностранному, отскочила за сосну. «Отсекай! — азартно закричал Симагин. — Не видишь, что ли — уходят золотые погоны!» Огонь прекратился не скоро — слышно было, как визжат пули и хрипло бухают разрывы. Потом Симагин скомандовал: «Отбой по отрядам военизированной охраны! Возвращаемся в русло мирного строительства…»
На странице валялась шишка. Ветер уронил. А может, дятел. Ася смахнула ее и вздрогнула. Шишка раздавила ее муравья. Тьфу, проклятая… Стало неприятно на сердце. Пустяк, конечно, муравей — но Ася же сама его позвала. И книга-то, по совести, мура. Посмотрела на часы. Еще рано. Еще много-много дня. Еще не скоро вечер. Чудесный день, подольше бы он не кончался. Чудесный вечер, скорей бы он настал.
Часа в два надо уходить. Бутерброды — не еда для мужиков. Дольше чем до двух Симагин не протянет, супу запросит. Тяжела доля женщины, подумала Ася с удовольствием и опять посмотрела туда, где в спокойном зеленом кружеве, в мягком свечении бликов помелькивали две головы — большая светлая и маленькая темная.
Это отдых, думал Симагин и дурачился от души. Антошка что-то сочинял вслух. ГЭС неожиданно оказалась самой могучей в мире, и на нее из Метагалактики прилетели пришельцы обмениваться опытом. Дно водохранилища уже провалилось в подводный сумрак. Будто вклеенные в темный блеск поверхности, стояли на ней хвоинки и пылинки. Запруда начала подтекать, и Симагин снова объявил тревогу. Вода просачивалась между пластами дерна — шустрые выплески быстро уходили во влажный песок обнаженного дна, а сзади набегали новые. Антошка засуетился, стал сгребать песок горстями и зашлепывать им щели, отпуская нелестные реплики в адрес подхалтуривших пришельцев. «И вы все на дачи растащили? — бурчал он. — Щас вот Гдлян приедет…» Симагин постоял, наблюдая, а потом вылез из канавы.
Ася лежала на животе, спрятав лицо в ладонях. Она будто не слышала, как Симагин подошел, но что-то в ней изменилось неуловимо — она лежала уже не для себя, а для него. Он лег рядом и обнял ее своей длинной, бледной рукой. Удивительно, какой она оказывалась тоненькой, если обнять. На спине ее кожа была горячей и задорной, а на груди — прохладной и нежной до беззащитности. Ася глубоко вздохнула и чуть приподнялась на локтях, чтобы Симагину было удобнее. Прямо под его ладонью билось и звенело ее сердце.
— Наигрался? — тихо спросила Ася.
— Да.
— Теперь хочешь со мной поиграть?
— Хочу.
Она подняла лицо. Губы ее подрагивали.
— Я тоже хочу, — и вдруг погасла: — Смотри, идут. Разобними меня, пожалуйста, — виновато попросила она.
С аллеи на поляну свернули, глазея на Симагина и Асю, трое пожилых мужчин в строгих темных костюмах, быстро посовещались о чем-то и устремились в лес. От канавы доносилось бормотание Антона. Когда он повышал голос, становилось понятно, что он творит разнос снабженцам за поставки некондиционных стройматериалов. «Партия доверила нам великое дело — дать людям тепло и свет!» — гремел он. Точь-в-точь, как вчера в программе «Время».
— Хочешь бутерброд? — спросила Ася.
— Тебя хочу, — тихо ответил Симагин.
У нее опять дрогнули губы. Она взяла его ладони и с силой прижала одну к груди, другую — к утлому треугольничку купальника на животе. У Симагина перехватило дыхание.
— Вот я, — сказала Ася.
В ее голосе светилась та нежность, которой он сначала даже не подозревал в ней — опаленной, скорченной, и которая потом так потрясла его и приворожила навсегда.
— Ты чудо. Я тебя люблю, как сумасшедшая.
На поляну из кустов вылетел Антошка, вопя:
— Она утекает!
Симагин вскочил.
— Не уберег! — воскликнул он трагически. — Эх, товарищи!
Когда Симагин с лету спрыгнул в канаву, на месте оставался лишь один боковой пласт. Остальные раскрепощенная стихия захлестывала и перекатывала там, где только что сохло обнаженное дно. Антошка глядел обиженно, глаза его стали быстро намокать.
— Да, — сказал Симагин, как бы этого не замечая. — На сей раз природа оказалась сильнее. Прощай, плотина. Ты честно служила людям. Салют, товарищи! — и он изобразил несколько орудийных залпов.
Антошка утешился, стал подносить заряды и глядеть в небо, восхищаясь россыпями фейерверка, а потом они вернулись к Асе, слопали по бутерброду и запили холодным чаем.
Симагин лег на спину и закрыл глаза, подставив лицо текущему с неба густому, горячему меду солнца. Под веками было тепло и ало. Возникло странное ощущение, будто жар мягко, но неодолимо припечатал его к земле. Тело отяжелело, отделилось от сознания, и Симагин задремал.
Проснулся он минут через двадцать и обнаружил, что, как маленький, пустил слюни от сладкого сна. Покосившись на Асю — не видит ли она его позора — он плечом утер подбородок и сел.
Бронзовая, сверкающая Ася читала, лежа на боку к нему спиной и подперев голову рукою, и Симагин опять залюбовался летящим изгибом линий ее тела. Антошка что-то благоустраивал в кустах. Симагин зевнул, едва не разорвав рот, и Ася, как раз обернувшаяся в этот момент к нему, испуганно отодвинулась.
— Заглотишь, — сказала она. — Живоглот… Бармаглот.
Да, я такой, — пробормотал Симагин и принялся тереть глаза. — Книжка-то как? — он опять протяжно зевнул, скуля горлом.
— Дрянь, — коротко ответила Ася.
— Эк ты. Никогда не скажешь: по-моему, плохо. Всегда: плохо и баста… В общем, надо прочесть.
— Симагин! Есть замечательные книги, на наших же полках стоят! Но тебе некогда! А эту макулатуру станешь читать потому только, что сидел с автором за одной партой! Смотри — поглупеешь.
— Елкин корень, о чем хоть там?
— А… — она безнадежно шевельнула ладонью. — Что называется, из жизни. Знаешь, как халтурщики для реализьму и психо-логизьму подонка нарочно этак в одном месте чуть позолотят, а хорошего человека этак чуть гноем мазнут… Чтоб были якобы сложные натуры. Вот ты бы мог мне изменить?
Симагин вздрогнул.
Ну… не знаю… — тухлым голосом выговорил он и почувствовал, как в горле, само собой формируясь, заерзало и закопошилось вранье. Невыносимо тошно стало, даже солнце как бы присыпалось золой. Он сглотнул, разорвав уже готовую шевельнуться и зазвучать словами пакостную пелену. Словно из распоротого тюка со старой почтой выпорхнуло пожелтевшее письмо, единственное до сих пор не востребованное адресатом:
— В сентябре я тебе изменил два раза.
Ася окаменела, а потом резко отвернулась.
— Я в нее в девятом классе был жутко влюблен. Так, знаешь, молча… издали. Я рассказывал тебе. Потом они уехали — я даже не знал, куда. И вдруг, представляешь, идет навстречу. Завернула в Ленинград на три дня, из отпуска. Разговорились… И вдруг оказывается, она тогда… я ей… как она мне. Понимаешь?
— Ай да ты, — мертво сказала Ася. Она по-прежнему сидела отвернувшись. — Я же ничего не заметила, — она вспомнила, с каким восторгом встречала его каждый вечер в сентябре. И в октябре. И в августе, и в июле. Кровь бросилась ей в лицо, она затрясла головой. — Ай да ты! Я думала, меня уж не провести.
Она никак не могла прийти в себя. Ей почему-то было нестерпимо стыдно — хоть живой в гроб ложись.
— Ты не могла заметить ничего, — тихо проговорил Симагин. — Я ни на миг не переставал тебя любить.
— Ой, да хватит!
— Да, — настойчиво сказал он. — Да. Но это было так… — он беспомощно замолчал, подбирая слово. Наверное, следовало бы сказать, что там все было случайно и неважно, но он проговорил: — Так светло.
— Мне можно еще спросить? — после паузы выговорила Ася.
— Да.
— Вы переписываетесь?
— Нет.
— Скучаешь?
— Как по юности. По бесшабашности, распахнутости во все стороны… понимаешь?
— Еще бы. А если она снова приедет?
Он не ответил.
— Она любит тебя, — выговорила Ася, и тут впервые в ее голосе прорезалась тоска. — Она любила тебя все эти годы.
— Нет! — ответил он то ли с негодованием, то ли с испугом.
— Откуда ты уверен? Она тебе сказала?
— Да…
Ася, вздохнув, повернулась наконец к нему.
— И ты поверил? — Спросила она совсем уже не гневно, лишь печально.
— Зачем ей врать?
Чтобы совесть твою не перенапрячь, свинья, подумала Ася. Чтобы побыть с тобой хоть три дня. Хоть два раза. Ты не знаешь, что это для женщины. Неужели до сих пор ты не понял, что для приключеньиц не годишься? Что любая дура это видит за сто метров? Уж если тебя любят, то как я.
— Она замужем?
— Нет. И детей нет, она сказала…
Бедная, подумала Ася. Как она теперь, с кем? Уж сколько времени прошло. Девять месяцев. Ее опять обожгло. А если ребенок? Свинья, свинья, даже не пишет ей! Из-за меня не пишет? Ой, что же делать-то? Тут напрыгнул Антошка и затормошил Симагина строить укрепленный вигвам. Ожидался набег расистов.
— Может, еще по булке, мальчишки? — спросила Ася. Антон нетерпеливо некнул, торопя Симагина. Симагин медленно поднялся, все заглядывая Асе в лицо. Потом уступил, побрел строить. Светло. Как он хорошо сказал — было светло. До этого Симагина я даже не знала, что такое светло. Все было. Светло не было.
— Андрей, — чуть слышно, почти стесняясь, позвала она. — Тебе со мной светло?
Но Антошка излагал историю открытия золотых россыпей, из-за которых его племя теперь сгоняли с земель предков, и Симагин ее не услышал.
От кустов он оглянулся. Ася смотрела в небо. Она поняла, подумал он, она все поняла, как всегда. Только зачем она придумала, что Лера без меня будет мучиться? Опять ему отчетливо вспомнился, почти ощутился, мглистый осенний день, налетающая волнами дробь дождя за гостиничным плоским окном и чистый, немного печальный разговор о несбывшемся. Об уже неуместном, но все равно человеческом и поэтому нескончаемо живом. По сердцу будто полоснули бритвой, Симагин задохнулся и едва не заплакал от нежности ко всем. Он бы, наверное, заплакал, но надо было быстро и справедливо распределить томагавки.
Вечер случился очень скоро.
«…Таким образом, в указанных условиях постоянная „ро“ уже не является постоянной в собственном смысле этого слова, а приобретает ряд свойств функции напряженности информационного поля». Лихо, подумал Симагин. И как стройно! С книгой в руке он сидел на скамейке перед домом. Под раскидистой, благоуханной сиренью возились ребятишки. «Я птица, и крылья у меня диаметром двадцать метров!» — объяснял Антошка двум другим мальчикам и девочке. Те завороженно слушали.
— Антон! — позвал Симагин, оторвавшись от статьи. — Можно тебя отвлечь на минутку?
Антошка оглянулся, постоял секунду, размышляя, и опрометью бросился к нему.
— Антон, что такое диаметр? — прямо спросил Симагин. Антошка моргнул. Симагин положил сборник на скамейку и, поискав глазами, подобрал застарелую обгоревшую спичку. Нарисовал на земле круг и провел диаметр. — Вот эта линия в круге так называется, — сообщил он. — Не хочешь ли ты уверить своих друзей, что ты — птица с круговым крылом?
Антошкины глаза вспыхнули звездами.
— Да! — заговорил он так торопливо, что слова запрыгивали Друг на друга. — Я такая птица с круговым крылом, потому что живу в горах, летаю высоко и мне нужны большущие крылья…
— Ничего не выйдет, — сожалеюще сказал Симагин и отбросил спичку. — Ты будешь не маневренная птица, сможешь только парить. А во-вторых, ты будешь не быстрая птица, потому что возрастет сопротивление воздуха.
— А как же? — разочарованно спросил Антошка.
— Давай разберемся. Если бы размах крыльев у тебя был этак втрое больше длины тела, тогда бы все, наверное, получилось. Только помни, что ты не можешь просто взлетать. Крылья длинные, не взмахнуть, сидя. Ты прыгаешь с уступа твоих гор и раскрываешь крылья уже в воздухе. А еще у тебя, как у летучей мышки, ультразвуковой локатор. Так что ты можешь ночью спокойно прыгать вниз, летать и находить гнездо с безошибочной точностью.
Антошкины глаза разгорелись вновь. Собственную безошибочную точность и прочие колоссальные возможности он очень любил.
— А где локатор? Симагин вкратце объяснил.
— Во здорово! — Антошке уже не терпелось бежать к ребятам, но он ждал, что Симагин еще что-нибудь придумает.
— Ну и, наконец, совершенно необходимая птице вещь — руки, — поразмыслив, добавил Симагин. — Лапами да клювом много не наработаешь. Предположим, у тебя сохранились пальцы в изломе крыла, вот здесь, — Симагин похлопал себя по локтю. — Раньше действительно бывали такие птицы. Ты можешь заниматься делом, не занимая рта, и постоянно все вокруг прощупывать локатором, чтобы не подкрались охотники.
— А что, что ли охотники меня боятся?
— А собственно, зачем им тебя бояться? Ты ведь не людоед.
Антон прыгнул с уступа и, плавно размахивая громадными крыльями, повизгивая локатором, полетел в горы. «Я вас вижу! — тоненьким голоском закричал он.
— Ночь, вы меня не видите, а я вас вижу!»
— «Это почему?» — подозрительно спросил Вовка, не любивший новаций. Антон принялся объяснять, захлебываясь от восхищения собой. Симагин послушал: удовлетворительно. Наверное, я через Антошку доигрываю то, что в детстве сам не доиграл, подумал он и обернулся на дом. На их этаже было еще солнечно, часть стены просторной солнечной пластиной вываливалась из синевы неба. Симагину показалось, что он увидел Асину голову, мелькнувшую за стеклом. Подошла Вовкина мама, Симагин никак не мог запомнить ее имени. Они поздоровались. Она стала рассказывать Симагину, какой Антоша фантазер, и спрашивать, не боится ли Симагин столь быстрого развития. Симагин сказал, что боится только медленного развития. Она стала вкрадчиво допытываться, как это Симагину удалось полюбить чужого ребенка — удивительно нудная женщина. В это время детишки начали ссориться. «Я в тебя стрельнул и подранил, подранил!» — въедливо кричал Вовка, размахивая своим невыносимо трескучим пластмассовым автоматом. «Меня нельзя ранить! — возмущался Антошка. — Я самый могучий, я все вижу и летаю быстрее пули, и оружие от меня отскакивает!..»
— Антон! — громко сказал Симагин. Антошка, осекшись, обернулся. — Друг мой, что делают с хвастунами?
Антошка надул губы, поняв, что Симагин принял сторону его противников, но ответил правильно:
— Выкидывают в безвоздушное пространство.
— Не забывай об этом, — мягко сказал Симагин и назидательно поднял замотанный лейкопластырем палец. Антошка умолк и стал мрачно слушать, как охотники обсуждают, куда могла спланировать подраненная гигантская птица и как добраться до нее по кручам, покуда она не очухалась. При этом оба изображали, что смотрят в бинокли. И девочка долго слушала, а потом, очень стесняясь, тихонько сообщила: «А я тоже буду птичка, Тошина сестренка, и его отнесу в гнездышко…» Парни запротестовали: охотники не хотели упускать случай добраться до птицы, Антошка не хотел терять свою неповторимую индивидуальность. Симагин открыл было рот поведать ему о коллективизме и о том, что уникальная птица, как бы она ни была могущественна, в конце концов обязательно достанется охотникам, но сдержался — он и так вмешивался слишком часто. Вовкина мама говорила что-то о том, какой Тошенька послушный. Симагин кивал.
Ася сняла пену с кипящего бульона и подошла к окну. Вкусный завтра суп будет, подумала она с удовольствием. Погруженный в тень зеленый двор со свечками молодых берез и цветными разливами сирени и шиповника был как на ладони. Бегали дети. Симагин, отложив книгу, беседовал с Викторией из двадцать шестой квартиры. Стоит Симагину выйти с Тошкой на улицу, она тут как тут. Ася опять почувствовала мерзкий холод. Симагин, подумала она. Он разговаривал, Виктория слушала. Гусыня рыжая. Ася прикрутила газ под бульоном. Оглядела лежащие в раковине мокрые бурые картофелины, поверх которых жутко скалился окровавленный нож. Симагин вызвался почистить картошку, тут же раскроил себе палец и был изгнан из недоступного ему быта. Стремительно Ася вышла из кухни. В спальне, запустив руку в «свой» ящик, среди колготок, женских таблеток и прочей требухи нащупала припрятанную пачку. Выдернула сигарету. Потом, махнув на все рукой, — вторую. Нелепо боясь, что кто-то — Симагин, кто ж еще! — гневно рявкнет сзади, она затолкала ящик, содрала с вешалки платье, в котором ходила сегодня в парк, и, закрывшись на кухне, бросила платье под дверь, чтобы дым не просочился в комнаты. Торопливо закурила. Долго полоскала легкие отравой. Выдохнула к форточке. Какая узкая форточка! Светящийся в лучах солнца дым клубился безмятежно, не спеша. Его медлительность сводила с ума. Симагин придет — а он тут клубится! Руки дрожали. Прямо кур воровала. Ох, Симагин.
Ася стала прикуривать вторую сигарету от первой и вдруг порывисто, злобно скомкала ее вместе с окурком. Окурок ужалил. Притопнув от боли и досады, Ася ткнула им в мокрую картофелину, а затем кинула всю грязь в ведро и, пустив холодную воду, с полминуты держала ладонь под струёй. Ладонь жгло. Дым клубился. Ася чуть не плакала. Было так стыдно. Будто это она изменила Симагину. Без любви. Такая мерзость — изменять без любви. А с любовью? Симагин — замечательный. Без любви он бы ничего не смог. Я знаю. Та, раз его любит, замечательная тоже. А если опять объявится? Что же мне — постель им стелить? Ася почувствовала, что и губы у нее дрожат. Нервы стали с этим Симагиным ни к черту. Как раньше просто было. Вокруг никого, волки и змеи. А я одна, и надо спасти глупыша Антошку. Не оглядываясь ни на кого. Лишь свой интерес в расчет. Хотела бы так теперь? Как же! На один день вернись такое — пропаду. Голова плыла — давно не травилась. Вспомнила того. Восемнадцать лет, завалила вступительные, д-дура! Девушка-ромашка. Пристроилась в деканат. Думала, на год… И вот. Ухоженный, умный, интеллигентный. Красивый. Перспективный. Комсомольский деятель. Страшно, сладко — не светло. Буря, землетрясение, секунды исступленного восторга, дни и ночи черной тоски. Все было. Сколько всякого потом было. Света не было, счастья. Счастье и свет — теперь. Вот и делай, что хочешь. Изгоняя проклятый безмятежный дым, она помахала руками, наскоро почистила зубы, чтобы отшибить запах, и занялась картошкой.
Посвежело. Вовкина мама поднялась, и Симагин облегченно вздохнул — неловко беседовать с человеком и не помнить, как его зовут. Застенчивая девочка взяла-таки Антона в оборот: она уже высиживала яйца, а невинный Антошка барражировал вокруг гнезда и охранял сестренку от настырных охотников. Те смотрели в бинокли. «По леднику, — солидно говорил третий мальчик, у которого папа увлекался альпинизмом, — до морены, а там разобьем ночной лагерь…» Вовка все размахивал автоматом.
После Леры Симагин никак не мог влюбиться, а окрестные девчата его тоже, что называется, «мелко видели» — чистоплюй, рабочая лошадь, скукотища; но небо вдруг раскололось, оттуда выхлестнуло пламя, сверкая на привольно льющихся по ветру черных волосах. Отблескивая в стеклах светозащитных очков с клеймом «Озма». Он еще успел удивиться, с какой это стати название полузабытого эксперимента по установлению радиоконтакта с внеземными цивилизациями оказалось на очках, пусть даже импортных, — но подкатил автобус, толпа с остановки мрачно поперла в его душные потроха, и он, просто шедший мимо, полез туда же, вслед за хлесткой, надменной девушкой, которая была отдельно от всего. Ее стиснули в заднем углу салона, она отвернулась к окну, излучая презрение — последнее, что остается тем, кто не согласен, но бессилен. Вокруг привычно потели, задыхались, переругивались, пытались шутить и били друг друга сумками под колено те, от кого она была отдельно. Автобус развернулся, выруливая с набережной на Дворцовый мост, все повалились друг на друга, и она обернулась, поняв, что ей почти свободно. Симагин, а ля Атлант, упершись своими не бог весть какими руками в поручень справа и слева от нее, принимал на себя толпу. Она удивленно спросила, что это значит. Он сдавленно ответил, что охраняет ее. Она смерила его гадливым взглядом модных очков, и от этого взгляда погасло желание быть сильным, мышцы размякли — ему едва не сломали спину. «Да перестаньте же». — «Не могу, меня сразу к вам притиснут». — «Вы так боитесь? Я не колючая, я очень даже гладкая. Не хотите разве попробовать?» Он покраснел. «Напротив, — ответил он с отчаянной храбростью, — настолько хочу, что не могу позволить этому произойти из-за давки». Она опять глянула на него, как на клинического, и безразлично отвернулась. Умирая от стыда, он продолжал надсаживаться. Она не выдержала. «Ну, пожалуйста, — попросила она. — Я разрешаю». Он замотал головой. Так они заговорили, но ему понадобился год, чтобы оттаять ее. Она всего боялась, ожидая лишь зла. Не верила ни словам, ни поступкам. Можно было биться головой о стену — смотрела насмешливо… Лишь через одиннадцать месяцев она призналась ему в Антошке, и он понял, что победил — но то была пиррова победа. Еще полгода прошло, прежде чем Ася переехала к нему — просто переехала, так и не приняв предложения. Ты же видишь, я злая, говорила она, давно перестав быть злой. Я уже не смогу любить, клялась она, уже любя. Я жуткая эгоистка, предупреждала она первого человека, о котором думала не меньше, чем об Антошке, и уж во всяком случае больше, чем о себе. Ты со мной не уживешься. Я тебя вылечу, и ты меня прогонишь… И у Симагина возник дом. Здесь он родился, здесь и жил при родителях весь свой век, но никогда не чувствовал так явно и вещественно, что у него — дом. Девочка под цветущей сиренью кормила с ложечки воображаемых цыплят, а Тошка, свирепо рыча, смахивал охотников в пропасть — защищал свой дом.
Симагин опять оглянулся на окна, потом посмотрел на часы. Пора, подумал он и, сладко потянувшись, встал.
Высокий синий купол, отдыхая, парил над миром. Улыбаясь, Симагин глубоко вдохнул сиреневый воздух. Он любил дышать.
— Антон, — позвал он. — Я пойду, знаешь. Ты остаешься? Или, может, айда вместе?
Антон задумчиво присел на край уступа и сложил крылья.
— Мне пора, знаете, — солидно объявил он затем и поскакал к Симагину. Симагин дождался его, и они неспешно, как взрослые, проследовали к дому.
Без Антошки все рассыпалось. У парадного их обогнал вооруженный Вовка. Девочка еще с минуту потютюшкала птенцов, потом тоже ушла.
Войдя, Симагин сразу учуял ненавистный запах. Но Ася встретила их такая лучезарная, такая домашняя и желанная, что он смолчал, лишь сдержанно покрутив носом. Не таков был Антошка. Он с порога принялся дергать Симагина за руку, а когда тот нагнулся, свистяще, оглушительно зашептал: «Она опять! Чувствуешь? Она опять!» Ася помрачнела и ушла на кухню. Приходилось держать марку. Чеканной поступью, неотвратимый, как само Возмездие, Симагин последовал за нею и строго спросил:
— Откуда вонища?
— Мам, — проникновенно сказал Антошка сзади, — ты что, что ли не знаешь, что одна капля никотина убивает лошадь? Курить же вредно.
— Где покорность? — вопросил Симагин. — Муж я тебе или не муж?
Она подняла на него широко открытые, честные глаза и ответила:
— Муж объелся груш.
— Антон, — сказал Симагин твердо, — изволь нас оставить.
— Только не шлепай ее больно, — попросил сердобольный Антошка и вышел, аккуратно притворив дверь.
— Прости, — тихо сказала Ася. — Я что-то переволновалась сегодня.
Она смотрела чуть исподлобья, моляще, и чуть приоткрыла губы, словно ждала. Она стояла хрупко, очень прямо. Она была. Он осторожно положил ладонь на ее гладкую шею, и сердце скользнуло в горячую бездну; стены, крутясь, сухими картонками отлетели куда-то, Ася едва не упала, запрокидываясь, целуя, сразу загораясь в его руках… но вот уходит, отрывается, вот уже стоит у окна и так дышит, будто ныряла за жемчугом… и что-то шипит на плите.
— Ну вот опять… — у нее не хватило воздуха. У нее кружилась голова, все упоительно плыло. — Ведь бульон же убежал!
У двери оскорбленно скребся Антон, бубня: «Вы что, что ли целуетесь, да?»
— Заходи! — позвал Симагин еще чуть перехваченным голосом. Антошка вошел независимой расхлюстанной походочкой, руки в брюки, и некоторое время прогуливался как бы ни при чем. Потом, обвинительно тыча в Симагина указательным пальцем, сказал:
— Вот если бы я курил, ты бы меня уж не целовал!
— Наверное, — улыбнулся Симагин.
— Не знаю, — сказала Ася, — что это на нашего папу иногда находит. Вдруг возьмет и поцелует ни за что ни про что.
— Я ведь уже старенький, — жалобно стал оправдываться Симагин. — Какие у меня еще в жизни радости? Это вы можете летать на крыльях диаметром двадцать метров, а мне…
Антошка победно взревел и запрыгал поперек кухни:
— Ты что, что ли не знаешь, что такое диаметр?!
— …Чай будешь пить? — спросила Ася, отрываясь от книги.
— Буду, — ответил вошедший в кухню Симагин.
— С булкой будешь?
— С булкой буду. И с маслом.
Она встала, подошла к хлебнице.
— Городская есть и бублик.
Симагин сел верхом на табуретку.
— С кр-рэнделем буду, — веско сообщил он и разинул рот в ожидании.
— Уснул? — спросила Ася, намазывая ему бублик маслом.
— Ага. Морского змея половил минут десять, и привет. А змей, между прочим, оказался разумный.
— Тошка так изменился.
— Мы все изменились.
— Что-то еще из нас выйдет… — проговорила Ася. — Что из него выйдет? И что, — она лукаво улыбнулась, — из тебя выйдет? Вот, кстати, это про тебя… Покрепче?
— Покрепче буду.
Она налила ему покрепче, свободной рукой пролистав свою книгу на несколько страниц назад.
— Вот. «Почему самые талантливые натуры в нашей жизни не дают того, что они, наверное, дали бы в Европе? Вероятно, причина в общем низком уровне интеллектуального развития; успех слишком легок, нет стимулов, точек опоры, нет пищи для сравнения, нет ничего, что бы поощряло развитие умов и характеров; вот почему самые одаренные натуры долго остаются детьми, подающими большие надежды, чтобы сразу затем, без перехода, стать стариками, ворчливыми и выжившими из ума». Вот бублик.
— Это что еще за клевета? — деловито осведомился Симагин, принимая у нее кр-рэндель. Ася молча показала ему тертую, трепаную обложку: «При дворе двух императоров», записки А. Ф. Тютчевой, Москва, двадцать восьмой год.
— Болтает баба, — сказал Симагин и слизнул кусочек масла, грозивший сорваться с бублика на стол. — Успех ей легок… Проехалась бы на работу — с работы в «пик». Да через весь город. А потом по очередям! — он разошелся, Ася морщила нос от сдерживаемого смеха. — Неактуально! — вынес Симагин вердикт и даже прихлопнул ладонью по столу для вящей вескости.
— Пей, — проговорила Ася нежно. — Остынет.
Он послушно отхлебнул и обжегся, но виду не подал.
— А Вербицкого ты бросила? — спросил он, отдышавшись украдкой.
— Угу.
— Тебе ж нравилось то, что я раньше давал, — насупился он. — Из школьного… Сама говорила: какой одаренный.
— Он был талантлив, бесспорно, — сухо ответила Ася. — Мне действительно нравилось, Андрей. Но теперь что-то ушло.
— Ребенком быть перестал, — ехидно ввернул Симагин и укусил бублик, испачкав в масле кончик носа. Вытер тыльной стороной ладони.
— Кстати, может быть, — Ася серьезно глянула на него. — Слова, слова, а под ними — скука.
— А это — не скука?! — уже не на шутку возмутился Симагин, тряся обеими руками в сторону Тютчевой. — Того нет, этого нет…
— Да ты что — совсем тупой? — разъярилась Ася. — Сравнил! — она поспешно залистала книгу. — Вот послушай сюда. Какой глаз, какая четкость! Мозгом же думала, а не карманом… Ага, вот. Это про Николая. «Это был худший вид угнетения — угнетение, убежденное в том, что оно может и должно распространяться не только на внешние формы управления страной, но и на частную жизнь народа, на его мысль, на его совесть, и что оно имеет право из великой нации сделать автомат…» Ах, почему мне бог не дал!
— Она славянофилкой числится, да? — спросил Симагин.
— Тьфу! Классификатор! Она умница, и все! — Ася перевернула страницу. — «Отсюда всеобщее оцепенение умов, глубокая деморализация всех разрядов чиновничества, безвыходная инертность народа в целом. Вот что сделал этот человек, который был глубоко и религиозно убежден в том, что он всю жизнь посвящает благу родины, который проводил за работой восемнадцать часов в сутки. Он лишь нагромоздил вокруг своей бесконтрольной власти груду колоссальных злоупотреблений, тем более пагубных, что извне они прикрывались официальной законностью и что ни общественное мнение, ни частная инициатива не имели права на них указать, ни возможности с ними бороться. И вот, когда наступил час испытания, вся блестящая фантасмагория этого величественного царствования рассеялась, как дым». Дай куснуть, тоже хочу. Ты так аппетитно лопаешь…
— Да, — грустно согласился Симагин, протягивая ей остаток кр-рэнделя. — Крымского поражения я этому паразиту все детство простить не могу. — И, совсем ерничая, добавил: — Проливы опять же…
— Да ну тебя, — с готовностью улыбнувшись, Ася аккуратно откусила у него из руки. Нет, подумала она. Сейчас вовремя. Тоже в кавычках — как бы в струю. Упрекнуть прямо она так и не могла. Да и не в чем, не в чем. Не в чем, хоть плачь. Но ведь не только он ее создал. И она его. И когда он распоряжается собой — значит, и ею. Всем, что в нем от нее. А это нечестно. Хотя упрекнуть нельзя. Тогда получится, что она создавала его для себя. Корыстно. А это неправда. Для него. И для всех. И он может делать, что хочет. Но ведь больно — он должен знать. Ведь смертельно потерять ту громадную, главную часть себя, которую он унесет, если уйдет. Но упрекнуть нельзя. Только в кавычках.
— А вот еще мудрая мысль, — сказала она. — Еще более древняя и потому еще более мудрая, — и она на память медленно проговорила из Экклезиаст: «Иной человек трудится мудро со знанием и успехом, и, умерев, должен отдать все человеку, не трудившемуся в том, как бы часть себя, — она, словно заклиная заглянула Симагину в глаза: — И это суета и зло великое».
Обидела, с ужасом подумала она, еще не договорив. Его лицо смерзлось, ушло. Она задохнулась от ненависти к себе. Тщеславная бестактная дура! Симагин спрятался в чашку с чаем — обеими руками поднес ко рту, почти нахлобучил на лицо, шумно прихлебнул и сказал:
— Вкусный какой.
Она хотела что-то нейтральное ответить, но не нашлась. Он опустил чашку и некоторое время смотрел, как млеет за окном белая ночь. Потом попросил вдруг:
— А теперь, Асенька, еще это напомни, пожалуйста, ну — указательными пальцами он растянул глаза к вискам, шутливо изобразив монголоидность. — Про ларцы.
У Аси гора с плеч свалилась. Не то с досадой, не то с облегчением — но уж во всяком случае, с радостью — подумала она, что он ее просто не понял. Отнес ее слова совсем не к тому. Потому что думал совсем не о том. Потому что о той не думал. Ну и слава богу. Смеясь, она метнулась в комнату и уже через мгновение неслась обратно, листая томик древнекитайской философии. Но Симагин сидел нахохлившись. Тут до нее дошло, что, значит, и она чего-то не поняла, попала своими кавычками во что-то больное.
— «О взламывании ларцов!» — театрально объявила она и села у ног Симагина, виском — с трудом удержавшись, чтобы не грудью — прижавшись к его колену. Он положил ладонь ей на голову — но не так. Благодарно, но отстраненно. Он был не здесь. Совсем стемнело, и она едва различала буквы. — «Чтобы уберечься от воров, считают необходимым завязывать веревками, ставить засовы и запирать замки. Это обычно называют мудростью. Однако, когда приходит сильный вор, то он кладет на плечо сундук, ларец или мешок и уходит. Не значит ли это, что называемое мудростью является лишь собиранием добра для сильного вора?» — она вещала с трагической аффектацией, но Симагин был уже вне игры. А когда она мельком глянула вверх, то увидела, что он по-прежнему бесстрастно смотрит в наполненное пепельным свечением окно. — «Между четырьмя границами государства везде соблюдались совершенные, мудрые законы. И все-таки однажды министр Тянь Чэнцзы убил правителя и украл его государство. Но разве он украл одно лишь государство? Он украл его вместе с его совершенными, мудрыми законами. Поэтому, несмотря на то, что Тянь Чэнцзы прослыл как вор и разбойник, правил он в полном покое. Не значит ли это, что государство и его совершенные, мудрые законы, когда он украл их, лишь охраняли его, вора и разбойника? Разбираясь в этом…»
— Спасибо, Асенька, — спокойно сказал Симагин. — Какая ты умница. Как Тютчева.
Она осеклась. Опять заглянула ему в лицо — но он уже улыбался и встречал ее взгляд своим. Уже вернулся оттуда, куда вдруг улетел, не предупредив.
— Что теперь угодно принцу? — спросила она. — Прочесть? Сыграть? Сплясать? В программе танец семи покрывал.
Он не ответил, и молчание опять казалось каким-то неловким.
— Работать еще будешь? — спросила она, вставая.
— Работать… — проговорил он со странной интонацией. — Если все время работать, подумать не успеешь.
Она, снова чуть тревожась, пожала плечами:
— Тогда я стелю?
— Угу, — ответил он. — Посуду я сполосну.
Выходя из кухни, она оглянулась. Он, пересев вплотную к окну, снова уставился наружу. На высоте окон, тяжелыми черными сгустками скользя в серо-синем подспудном свечении, мотались чайки — добывали майских жуков.
Когда минут через двадцать Ася вернулась, в кухне горела лампа, и Симагин, спиной к ослепшему провалу окна, сдвинув грязную посуду на край, торопливо строчил на листке бумаги. Карандаш прерывисто шипел в ночной тишине. На звук шагов Симагин поднял глаза.
— Понимаешь, если «ро» действительно функция, то… это очень интересно. Надо посчитать.
— Чаю налить еще? — спросила Ася спокойно.
— Нет, я скоро.
— Тогда я ложусь.
Три секунды. Прости, Асенька, — с виноватой, но мимолетной улыбкой он снова ткнулся в свои листки. — Вдруг пришло…
— Ты успел подумать, о чем хотел?
Симагин не ответил, не поднял головы — только карандаш запнулся.
Успел? — после паузы повторила она. Он все-таки вскинул беззащитные глаза.
— Ох, Аська, — выговорил он. — Я же все понимаю. Непредсказуемость последствий есть фундаментальный принцип и главнейшее условие всякого развития. Убрать его — все равно, что лишить эволюцию мутаций. Так и плавали бы мы спокойненько в виде органической мути… да и муть бы уже прокисла, ведь что не развивается, то гибнет. Нужны скачки. Но ты не представляешь, — у него даже голос задрожал от волнения и потусторонней тревоги, — как хочется, чтобы… чтобы все было только хорошо!
Нежность и желание затягивали Асю горячим водоворотом. Ребенок мой, подумала она. Любимый мой ребенок. Ну как тебя успокоить? И, помедлив секунду, детским голосочком вдруг запела обращенную к Христу арию Магдалины из знаменитейшего во времена ее детства зонга: «Ай донт ноу хау ту лав хим…» Симагин заулыбался, а потом, даже не выпустив карандаш — тот так и остался торчать из его пальцев здоровенным граненым гвоздем, — раскинул руки и обвис, свесив голову набок, высунув язык и смешно вылупив глаза: распяли, мол. Ася засмеялась, видя, как оттаяло его отрешенное лицо, и пошла из кухни.
2
— Не заходи туда! — крикнул Ляпишев утробно. Вербицкий отшатнулся, вытолкнув из пальцев потертую львиную морду дверной ручки. — Он с Алей.
— Если мужчина не липнет к женщине, оставшись с нею наедине, — вкрадчиво пояснила Евгения, — он ее оскорбляет.
— Жаль, — сказал Вербицкий. — Я говорил о его вещи с Косачевым. Старик подрядился помочь.
— Мы другого и не ожидали, — проговорила Евгения.
— Косачев тебя еще терпит? — спросил Ляпишев. Вербицкий пожал плечами.
Его не любили, и он это знал. То ли потому, что он был здесь, за исключением Ляпишева, единственным профессионалом. То ли потому, что слишком часто просили его помощи, когда надо было дотянуть или пробить рукопись. То ли потому, что за пять лет сам он сумел сделать — и продать! — три повести и десяток рассказов.
То ли потому, что он презирал их.
Одни и те же сплетни, дрязги, замыслы, которые не удаются из-за дефицита времени, редакторского непонимания, а то и личных психологических нюансов — «старик, пока лежу, гениальный текст перед глазами, а за столом все рассыпается…» Раньше не умели писать, какой социализм хороший, теперь не умеют писать, какой Сталин плохой. Проморгали момент, когда подростки в парадняках перестали бренчать «Корнет Оболенский, налейте вина» и стали бренчать «А я съем бутылочку, взгромоздюсь на милочку». Теперь шлют убогие соображения на несуществующий адрес. И не туда, куда направляют издательства. И не туда, где впопыхах перекидывает страницы реальный читатель. В пустоту.
Беспокоить Грига, конечно, не следовало. Не так давно он подобным же манером уединился то ли с журналисткой, то ли с публицисткой, и нагрянула жена. Бывает. Но какой-то шутник, оставшийся неизвестным, направил ее точнехонько. Григ, развлекавший даму тем, что кругами гулял по комнате на четвереньках — на его голой спине, как горбы на верблюде, тряслись два полных бокала, и он на спор старался не пролить ни капли — узнал супругу, нетвердо встал и, заглушая звон и плеск, радостно воскликнул: «Заинька пришла!»
Мысль о том, что пока он, Вербицкий, выламывался перед мэтром и лауреатом, расхваливая пошленькую новеллку приятеля, сам приятель — выпускник двух университетов, работающий кочегаром и посвятивший себя бессрочному вынашиванию грандиозной тетралогии об Ироде Великом — хихикал в это время с Алей, ощущалась, как бальзам. Она была столь обидной, что совесть не посмеет теперь даже пикнуть, если он, Вербицкий, подставит где-нибудь ногу иродствующему кочегару. Совесть у Вербицкого еще пикала, он ненавидел ее за это, частенько цитировал как бы в шутку Твена: «Знаешь, Том, если б у меня была собака, назойливая, как совесть, я бы ее отравил», — но ничего не мог поделать пока и вынужден был, пользуясь каждым удобным случаем, глушить ее вот такими припарками. Ведь даже не волновался, старательно растравлял себя Вербицкий, не бросился навстречу, когда я вошел, — нет, безмятежно увеселялся, уверенный, что не хватающий звезд с неба работяга обслужит его, гения, в лучшем виде… Н-ну ладно.
— Косачев меня не терпит уже давно, — сказал Вербицкий. Косачев меня любит. Как сына.
Евгения, улыбаясь в свечном полумраке, поднесла мерцающий бокал к мерцающим губам, но пить не стала — прикрылась им, как во времена Леонардо дамы прикрывались веерами; эта улыбка в стиле Моны Лизы и этот жест означали: вы не все знаете об отношении вашего покровителя, а вот я, как всегда, знаю все. Дура.
Косачев. Это он вознес обуянного священным трепетом юнца на Олимп, где обитают борцы за Человека. Они же властители дум, целители душ, сеятели Разумного-Доброго-Вечного, превозмогатели непонимания и невзгод, жизнью своею пишущие свой самый лучший и самый светлый роман… Боже, в сотый раз подумал Вербицкий, какой я кретин. Я конченый человек, ведь я даже Косачева ненавижу, и именно за то, за что был ему благодарен по гроб жизни… Он вспомнил дачу, с которой уехал полтора часа назад; два этажа, два гаража… До пупа расстегнутая рубаха. Фиглярский золотообразный крестище на заросшей крестьянским мохом груди. Старый болтун.
— Видите, — сказал Вербицкий, — какой я искренний.
— Вижу и люблю вас за это, — томно произнесла Евгения. — Ведь неискренность — это ненастоящее, рассудочное, искусственное. Вы же знаете, я исповедую даосизм, я даоска до глубины души.
Ну, началось, с тоской подумал Вербицкий. Вот прямо только что от Даодэцзина.
— Мне казалось, вы тоже к нему склонны. Но вы только пишите и бегаете по издательствам. А есть вещи, которые обязан прочувствовать каждый культурный человек.
— Да, конечно, обязан, — сокрушенно признал Вербицкий. Но вот… Дао кэ дао фэйчан дао, — нараспев сказал он, — мин кэ мин фэйчан мин… Вот вы это, наверное, понимаете.
— Я — ни в какую, — Евгения захлопала глазами.
— Наверное, потому что вы читали не по переводам… Кстати, как «дао» пишется?
Евгения опять загадочно, но как-то бледновато, улыбнулась и прикрылась бокалом.
— Бесполезно искать спасения в лабиринтах знакомых систем, — раздался голос сзади, и Вербицкий обернулся. Это был поэт Широков — кареглазый, давно не мытый красавец с вечными напластованиями перхоти на плечах. — Дао не знак. Дао — мироощущение. Единственно творческое восприятие мира. Слияние со всем миром сразу и спонтанное познание всей его самости внутри себя. Человек, осознавший дао, становится тотальным творцом уже непосредственно из акта осознания. Он может сказать о себе: я художник. Пусть я не умею рисовать. Я не срифмовал и двух строк — но я поэт. Я философ, хотя не читал ни одного трактата и читать не умею и не хочу. Понимаете вы?
— Да… — ответил Вербицкий, изображая мыслительное усилие. — Я знатный сталевар, герой социалистического труда, хотя всю жизнь только лазию на Фудзияму и обратно… Правильно?
— Вы идиот, — надменно сказал поэт и удалился. Ляпишев загоготал и показал Вербицкому большой палец.
— Вы действительно нынче не в настроении, — заметила Евгения и улыбнулась с кошачьим коварством. — Что вам все-таки наговорил Косачев?
Вербицкий пожал плечами и побрел к столу.
Доктор наук Вайсброд, вздумавший на склоне лет написать назидательный роман из жизни советских ученых, смирно кушал диетический салат. Его лысина блестела в свете свечей. Вот за это меня не любят, подумал Вербицкий, за то, что сей гриб старый принес рукопись именно мне. Как-то вышел на меня, попросил прочесть и, если сочту возможным, подыскать площадку… Конечно, я ему не скажу, что получился у него пшик. Казалось бы, парадокс — сорок лет старец в своей науке, вроде, без всякого таланта и без всяких выкрутас мог бы просто интересно рассказать. Но нет — розовая вода, и даже не понять, чем они там, в сущности, занимаются. Слишком хорошо доктор знает, сколько неприглядного быта в его, видимо, любимой науке; слишком много острых углов пришлось обходить. Морщинистое дитя застоя…
Где время, когда душа кипела, а первая страница столистовой тетради в клетку молила: возьми! вспаши! И обещала то, чего никто, кроме меня, не знает, и не узнает никогда, если я не увижу и не расскажу; вспыхивали миры, оживали люди, копеечная ручка была мостом в иную Вселенную… Белая бумага! Как вы не слышите, она же кричит: вот я! Укрась меня самым чудесным, самым нужным узором: словами. Драгоценными, звенящими, летящими словами. Спасающими словами. Побеждающими смерть, убивающими боль, знающими мудрость!
А едва дописав главу, бежал через улицу к Андрюшке и читал вслух, а он слушал, разинув рот, и подгонял… и пытался советовать, лопушок… Где-то он сейчас? Переехали мы тогда — и концы в воду, хотя город тот же; город тот же, да мы другие. Наверное, инженерит теперь, телевизор смотрит, дремлет, накрывшись газеткой…
— Вы не заскучали, Эммануил Борисович?
Вайсброд поднял голову — блеснули его очки, челюсти еще двигались, и маленький рот то выявлялся, то западал среди морщин и дряблых, вислых щек.
— Я опоздал, извините, — продолжал Вербицкий. — Как вас тут встретили?
— Чрезвычайно радушно, — ответил профессор, аккуратно и без спешки проглотив прожеванное. — Я очень признателен вам, Валерий Аркадьевич. Я услышал много интересного. К тому же мне довелось познакомиться с вашим другом, поэтом Широковым. Я кое-что читал и с уважением отношусь к некоторым его стихам.
— Приятно слышать, — с мгновенной старательной улыбкой ответствовал Вербицкий. — Смычка физиков и лириков есть давно назревшая процедура…
Какой бред, подумал он и неприкаянно двинулся обратно — но Ляпа, и Шир, и дура Евгения уже шли навстречу. На столике у тахты все кончилось, и троица летела на дозаправку.
— …Провались с концепциями, — договорил Ляпишев и шлепнулся в кресло. Пригубил, потом закурил. — Ты не права, — уже расслабляясь, произнес он и снисходительно поболтал сигаретой. Малиновый огонек выписал сложную петлю, развесив по густому черному воздуху слои дыма. — Просто мировое сообщество закономерно поднялось на принципиально новую ступень организованности. Раньше придумывали богов, потом чудодеев, гениев… Чудо-деи исчезли, гении исчезли… что говорить, Бога и того не стало! А ведь только авторитет божественности служил гению защитой от давления мещанской массы…
— Трепло, — сказал Шир, но Ляпа крутнулся вдруг, чуть не угодив сигаретой ему в глаз, и крикнул:
— Нет, не трепло!
— За всех не говорите! — заорал, тоже сразу заводясь, Шир. — Гениям на вашу экономику начхать!
Ляпишев озверело ткнул сигаретой в скатерть, мимо пепельницы, и размял, размазал ее пальцами. Казалось, он сейчас заплачет. Но он лишь снова закричал:
— Право на самостоятельное осмысление отобрано у художника навсегда! Введение в культуру новых сущностей может производиться только государственной администрацией! Тему дает она!
Слабый, испуганный, голый человечек… Стадо человечков. Им голодно и холодно в вонючих пещерах. Ничего не понимают, всего боятся. Все обожествляют. Это они придумали! Малевать на стенах, высасывать из волосатых грязных пальцев сказки и песни… Зачем? Слабость ли была тому единственной причиной? Уже тогда требовалось обманывать, измышлять нечто более высокое, нежели каждодневное прозябание. Слабость!!! Сон золотой. Духовный новокаин. Позор! Мы не станем больше лгать!
Мы честны. Мы суровы в наш суровый рационалистический век, мы перестали приукрашивать и навевать сон. Даже лучшие из нас — грешники, говорим мы, и худшие из нас — святые… Кто? Моэм. Мы обнажаем в доброте — трусость, в мужестве — жестокость, в верности — леность, в преданности — назойливость, в доверии — перекладывание ответственности, в помощи — утонченное издевательство. Да, но тогда исчезает наш смысл, и мы остаемся в пустоте, ибо вдруг видим: нуждаются в нас не потому, что мы сеем Доброе, а потому, что Доброе мы вспороли, открыв на посмешище и поругание его дурнотное, осклизлое нутро; нуждаются в нас не те, кто нуждается в Добром, а те, кто нуждается в его четвертовании, то есть наши же собственные вековечные враги!
И тогда бросаемся в другую крайность — уже потерянные, растоптанные — придумываем новый смысл и сами объявляем себя винтиками организованного мира, и начинаем снова воспевать, но уже не то, о чем грезим сами, а то, что велят. Веками не могли этого добиться от нас короли, султаны, эмиры… Никто не мог. Только мы сами.
— Валерик, посмотрите, какая лапушка, — сказала Евгения, с намеком в голосе протягивая Вербицкому какой-то журнал.
— Ух ты, — не видя, ответил Вербицкий, — действительно. А другие?
Да где они, другие эти? Отэпилепствовались! Отпневмонийствовались! Отстрелялись! Отпрыгались — в пролеты лестниц! Поразвесились, чистоплюи, по Елабугам да «Англетерам»! Вот все, что от них осталось — не то даосы, не то альфонсы… вот они, вот! Потому я и с ними — не с теми, кто штампует страницы, как шурупы для прикрепления мозгов к доскам почета, со стандартным шагом да шлицем, заранее подогнанным под отвертку… Хотя они-то меня как раз держат за такого…
— Свеженькая, правда? — настойчиво допытывалась Евгения. На обложке сияла молодой улыбкой девочка лет шестнадцати, чистая, как первая страница тетрадки. Ветер трепал ее рыжеватые волосы, зашвырнул за плечико длинный конец пионерского галстука — она была настоящей, точно голубое небо над ее головой.
— Одну вожатую я трахал прямо в пионерской комнате, — сообщил Шир сбоку. — Среди горнов и знамен…
Ах, как сладко подойти и треснуть между глаз! Мышцы Вербицкого свернулись тугими винтами. Он уже видел свой кулак, врубающийся в переносье Широкова, слышал звук удара — и головенка смердящей гниды откинется назад, выломив острый, плохо пробритый кадык. Честный удар по настоящему врагу… Но он же сказал, наверное, правду. Мы честны, мы не станем больше лгать. Поэт, от поспешности давясь, хлебнул из пиалы и, держа ее у лица, забубнил, мужественно рубя слова и строки: «Ты плоть от плоти золотых лесов, ты плоть от плоти деревенской школы, ты плоть моя…» Господи, — ужаснулся Вербицкий, — что за бред? «Благослови звериный чистый зов…» Звериная чистота, думал Вербицкий. Да какой же степени нужно опоганить в себе все человеческое, чтобы мечтать о звериной естественности? Не о человечьей, моральной — о звериной, физиологической… Евгения восхищенно шевелила ресницами, Ляпа издевательски корчил лицо и курил так, будто хотел отравиться никотином, а потом привстал, оттопырив руку с окурком, и злорадно заорал явный экспромт: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда, стреляли бы поэтов без разбора — с бедра, навскидку, ныне и всегда!» Шир, не задумываясь, с холодной ненавистью плеснул Ляпе из пиалы в лицо — тот едва успел заслониться рукой. Окурок захлебнулся, и сразу стало как-то темнее, но было видно, что Ляпишев, шипя матом, выковыривая горячий кофе из глаз, вырос над столом. Евгения с удовольствием завизжала. Вербицкий, хохоча примиряющим хохотом, ухватил Ляпишева за плечи и весело закричал школьное: «Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром так долбанет из-за сарая, что не поднимешься потом!» Ляпишев дергался, нехотя вырываясь, Вербицкий без напряжения держал. Чертов Косачев, думал он, разбередил душу. Из памяти высунулась та же дача девять лет назад — а за нею и вся лучезарная зима непрокуренных надежд. И он, Вербицкий, шел дарить журнал с первой повестью ее крестному отцу. Один этаж там был только, один гараж, а старик весел, бодр, отзывчив… и страстно работал.
— Почему мы так любим именно жестоких, именно равнодушных мужчин? — томно спросила Евгения, когда поэт победоносно дорубил свою ахинею. — Неверных, капризных…
Жестокость — атрибут силы, — немедленно отреагировал тот — Сила — то, что вы вечно обречены искать. Равнодушие, самовлюбленность, подлость, предательство — суть атрибуты силы. Душевность, искренность, верность — суть атрибуты слабости. Слабый несамостоятелен, ему нужно быть при ком-то, и чтобы его, в общем-то ни на что не способного, неинтересного и бесполезного, не гнали, он подкупает сильного, принося ему себя в жертву. Всякий, кто нарушает этот закон природы, обречен на одиночество, он выпадает из круговорота стихий Инь и Ян. Камасутра учит: наслаждениями мужчин являются причинение и владение, но женщины — терпение и отдавание…
А ведь эта дрянь иногда пишет приличные стихи. Уму непостижимо — дрянь пишет приличные стихи! Несправедливо! Ну да, как же, как же, гений и злодейство — вещи несовместные, слыхивали. Очень даже совместные, представьте! Да, но если б я не знал автора, я, как Вайсброд, время от времени восхищался бы… Вздор, я уж забыл, когда восхищался; души нет, а мозг лишь хладно анализирует: мастеровито; замысловато; неумело…
Запретная дверь вдруг распахнулась.
— Всем привет! — раздался веселый, звонкий голос, и Аля — раскрасневшаяся, с возбужденно сверкающими глазами — выступила из тьмы в колышущийся курной полусвет. Прекрасный брючный костюм безупречно сидел на ее безупречной фигуре.
— Не стой, не стой, давай к столу, подкрепись! — хлебосольно закудахтала Евгения. — А собеседник-то твой где?
Все дружно засмеялись. Аля подошла к столу, секунду постояла, выбирая место, и села рядом с Вербицким.
— Дрыхнет, — сообщила она, присматриваясь к тарелкам и бутылкам. — Я ему говорю: резвость, говорю, норма жизни, а он — брык.
— Ну до сердца-то хоть дошел? — с интересом спросил поэт.
— Не-а, — ответила Аля и хлопнула себя по животу. — Дай бог досюда… Валерик, милый, налей.
Общий смех. Аля засмеялась тоже; от нее несло жаром, как от печки. Вербицкий с силой укусил себя за верхнюю губу.
— Да ладно вам, — сказала Аля. — Неинтересно. Валерик, — она уставилась на Вербицкого пылающими, чуть туманными глазами, — ты меня прочитал?
— Что он с тобой сделал? — немедленно встрял поэт. Аля отмахнулась от него, как от мухи. Все опять засмеялись. Кроме профессора. Вербицкий сообразил, что профессор и раньше не смеялся.
— Конечно, прочитал, — пробормотал он. Ему неприятно было смотреть на Алю — на ее живое лицо, на запекшиеся, алые до вишневого губы. Ему казалось — это стыдно. Знаешь, Том… — Ты молодец, Алка. Но, прости, в подробностях — не сейчас.
— Как скажешь.
— Договоримся о встрече. Там есть о чем поговорить.
— А чего договариваться? Заезжай в любой вечер, как домой. Когда-то ты любил бывать у нас.
Любил, подумал Вербицкий. Сосунок, всех меривший по своей мерке, — думал, ты мне и впрямь рада. Как же! Я молодой, я талантливый, удачливый, людей люблю… Красавицу мне! Красавица и талант — какое сочетание может быть естественнее? Кто? Пу Сунлин. Вздор, красавицам доброта да талант нужны, как съеденный хлеб, — нужны им деньги, нужны знакомства в сферах, кубах и многомерных октаэдрах обслуживания. На твою валюту, пентюх, покупают теперь лишь часами нудящих о своей драгоценной персоне недоваренных интеллектуалок, у которых что душа, что грудь — все плоско…
Я оскорблен этим несуразным государством не только как гражданин, но стократ — как мужчина, потому что оно не только вырастило возможностью бесконтрольной власти двух-трех-пятерых Рашидовых, но отнимающим все силы, выматывающим душу скотским бытом, мало-мальски улучшить который можно единственно приближением к той или иной кормушке, поголовно сделало красавиц проститутками, пусть и разных сортов: от толкающихся при интуристах до толкающих в мужнину спину: «Вступай в партию, ученым секретарем назначат…»
Потом он ел и пил. Потом его развезло, как всех. Он прижал в углу Ляпу. Ляпа не понимал, чего Вербицкий хочет, и порывался бить морду, но не мог то ли вспомнить, то ли придумать, кому. Вербицкий домогался: «Почему я не сделал „Идиота“? Почему ты не сделал „Фауста“? Почему, Ляпа?»
В начале первого стали расходиться. На Шира натянули его супермодное пальто до пят, поверх поднятого воротника накрутили, как положено, многометровый яркий шарф; Евгения помогала поэту спускаться, Вербицкий помогал ей. Улицы были пустынны и чисты. Вербицкий жадно дышал, прокачивая целебное молоко белой ночи сквозь клоаку легких, а Евгения львицей металась поперек проспекта, отлавливая поэту такси. Поэт, откинувшись на стену, излагал кредо. Этот мир был не по нему, он не принимал мира и не шел на компромиссы. «Зеленый глаз», хрюкнув тормозами, остановился поодаль. Шофер высунулся, Евгения принялась что-то втолковывать ему, потом оглянулась и замахала руками, призывая. — «Ху-уй!» — заорал поэт и попытался гамлетовски запахнуться в суперпальто, но едва не упал. «Да помогите же ему!» — надрывалась Евгения. Вербицкий с нарочитой незаинтересованностью прогулялся мимо. Маленький профессор подсеменил, протягивая ручки, но поэт, рявкнув: «Кыш, пархатый!», завез ему локтем в лицо — только брызнули импортные очки с переменной светозащитой; если б Вербицкий не подхватил профессора, тот повалился бы, как сноп. Шофера будто всосали обратно в окошко, «Волга» тронулась. — «Стойте!!!» — отчаянно закричала Евгения и, обламываясь на каблучках, загребая руками воздух, бросилась вслед. Аля хохотала — всласть, до слез. Вайсброд белоснежным платком стирал текущую из носа кровь, Вербицкий продолжал его поддерживать, храня в другой руке профессорские очки, которые поднял с асфальта. Очки выдержали. Такси остановилось, Евгения, не сумев затормозить, с размаху врезалась в багажник. «Пусть подъедет!» — орал Широков. На Евгению жалко было смотреть — шофер, видно, тоже встал на принцип. Вербицкий плюнул с досады, бережно вставил очки профессору в лицо и, ухватив поэта сзади за шарф, поволок к машине. Поэт сипел и отбивался, меся руками воздух, потом попробовал лягнуть Вербицкого в пах, но потерял равновесие, упал мордой вперед и повис на шарфе. «Ты его задушишь!!» — истерически крикнула Евгения и рванулась к ним. Вербицкий, как азартный рыбак, подсек за шарф обеими руками, и поэт, уже собравшийся лечь на асфальт в знак протеста, выровнялся. Евгения подбежала. «Отпусти, слышишь?! — злобно прошипела она. — А ну, отпусти! Зверь!» Она подсунулась плечом под поэта. Поэт всхлипывал, хрипя и раздирая шарф на шее: «Сволочи… За что? Топчут… душат…» Евгения впихнула поэта в такси, влезла сама и захлопнула дверцу. — «Вербицкий! — заревел из уносящейся „Волги“ поэт. — Я тебя зар-режу!» Вербицкий некоторое время стоял, глядя машине вслед, потом на нем кто-то повис, он обернулся, но сообразить ничего не успел. Ослепительно горячие губы расплавленным золотом хлынули ему в пересохший рот. Вербицкий замычал, отпихиваясь, его руки угодили в упругое и тоже горячее, и он понял, что это — Аля. В ужасе он забился из последних сил, и она, сжалившись, отступила. Чуть переведя дух, Вербицкий проверил языком нижнюю губу — нет, на месте. Аля ждала совсем близко, и Вербицкому захотелось вновь ощутить горячее и упругое, но он сказал себе строго: не валяй дурака. Аля это поняла. Страстная полуоткрытость ее губ неуловимо сменилась веселой товарищеской улыбкой.
— Ты прелесть, Валерик. Я тебя люблю, честное слово.
— И я тебя люблю, — еще чуть задыхаясь, ответил Вербицкий, — но нельзя же так, без предупреждения…
— Вероломно, — сказала Аля. — Не предъявляя каких-либо претензий. Ну что я могу поделать? Захотелось.
Вербицкий оглянулся. Профессор дожидался поодаль.
— Вас метро устроит? — спросил его Вербицкий. Вайсброд осторожно кивнул. Чувствовалось, он еще побаивается шевелить головой.
— И меня устроит, — поспешно примкнула Аля, а потом честно предложила: — И вообще — поехали ко мне. Поговорим наконец без стихов и матерщины.
— А семья? — подозрительно спросил Вербицкий.
— Какая семья? Галинка в летнем лагере, мужик в госпитале, он после испытаний вечно туда грохочет. Так что я свободна, — она легко и упруго изобразила какой-то канкан.
— Ну кто я буду завтра? — жалобно спросил Вербицкий.
— Спать будешь до обеда, — соблазнительно сказала Аля. — Я специально отпрошусь и обед подам в постель.
— У меня в одиннадцать встреча.
— Деловой, — вздохнула Аля. — Ну, насильно мил не будешь. Проф, как вы себя чувствуете? — она повернулась к Вайсброду. Тот смутился. Аля, улыбаясь яркими своими губами, достала душистый платок, послюнила и принялась, как заботливая мама, стирать засохшую у профессорского носа кровь. — Вот ведь сволочь, — приговаривала она. — Вот бандит…
— Он неплохой поэт мог бы быть, — жмурясь от удовольствия, задумчиво проговорил Вайсброд. — Но очень болен.
— Таких больных стрелять пора, — убежденно сказала Аля. — Профилактически. Не надо благодушествовать, проф, это плохо кончается, — другим углом платка она утерла Вайсброда насухо.
— Благодарю вас, Алла… э-э…
Они двинулись к метро.
— Слава богу, я в стихах не понимаю, — браво сказала Аля. — Никаких противоречий. Навоз — навоз. Милый Валерик — милый Ва…
— Хорошая ты, Алка, баба, — проговорил Вербицкий. Аля, как дружку, доверительно откомментировала профессору:
— Слышите? Приласкал, наконец.
— И умница ты. И пишешь неплохо. И товарищ отличный. И кандидат своих бионаук, я слышал, по заслугам — откуда только силы берутся. И дочка у тебя симпатяга. Но стоит мне подумать, со сколькими ты… м-м… целовалась, так у меня все опускается.
— Да я знаю. Думаешь, ты один такой чистоплюй болотный? От меня приличные люди уже шарахаются, никакие телеса не помогают. Все равно ничего поделать не могу. Вдруг как стукнет! Любовь до гроба, с ног бы воду пила! — она вздохнула. — А через месяц отвращение такое, что на десять шагов не подойти. Сейчас уж притерпелась, а в молодости — ревела-а…
Профессор, с предположением в голосе и просветлением в лице, вдруг пробормотал:
— Плавающий резонанс…. Четная диссипация Хюммеля?
Аля с беспокойством повернулась к нему, но он уже очнулся и проговорил:
— Я весьма благодарен вам, Валерий Аркадьевич, за ваше любезное приглашение. Было очень интересно.
Вот уж не могу поверить, — скривилась Аля. — Гнусные рожи…
— Помилуйте, — вежливо проговорил Вайсброд, — я ведь не сказал, что было приятно. Я сказал, что было интересно.
— А, да, — согласилась Аля. — Простите, не поняла.
Вербицкому стало досадно, что Аля перестала говорить с ним и стала говорить с профессором. Интересно, видите ли, ему. Так он, стервец, изучать нас ходил!
— Не обессудьте, что прерву вашу беседу, — произнес он с изысканной язвительностью, — но хотелось бы узнать, что за вереница ученейших терминов скользнула в вашей речи, уважаемый Эммануил Борисович?
Профессор поправил очки.
— Видите ли, — с академической неспешностью ответил он, — уважаемый Валерий Аркадьевич… Биоспектральный резонанс эротических уравнений чаще является более или менее устойчивым или, увы, еще чаще, вообще не возникает. А здесь я вижу узкое, интенсивное спектральное лезвие, плавающее в весьма широких пределах. Беда… — он опять поправил очки, после травмы они все время сползали. Аля смотрела на него странно. — Андрюша Симагин очень собирается выявить причины подобных неустойчивостей — они возникают, к сожалению, на самых разных уровнях, не только на эротическом — но нас в первую очередь, и вполне правомерно, ориентируют на лечение более распространенных и опасных органических расстройств.
Последних слов Вербицкий уже не слышал — ему показалось, что Аля опять бросилась на него.
— Симагин?! — переспросил он, перебив что-то хотевшую сказать Алю.
— Да, Андрей Андреевич Симагин. Золотая голова…
Андрюшка, что ли, с неожиданным раздражением подумал Вербицкий. Когда это он обзавелся золотой головой?
— Очень дельный ученый, — сказал Вайсброд.
Собственно, что это? Я завидую — кому? Кто мне завидовал все детство? Вербицкий уверенно обнял Алю — она с готовностью прильнула — и удовлетворенно стал впитывать плавное колебание под ладонью. Жар проступал сквозь тонкую ткань.
— Он молод? — спросил Вербицкий равнодушно.
— Приблизительно вашего возраста. Несколько моложе.
— И, разумеется, живет анахоретом — не ест, не пьет, ночует на работе?
— Да, почти. Даже теперь.
— Даже когда?
— Это была чрезвычайно романтическая история, — улыбнулся Вайсброд. — Он горячо полюбил женщину с почти взрослым сыном, лет пяти. По-моему, они очень счастливы…
В метро уже никого не было, и дежурная посмотрела на них с укоризной, когда они, торопливо шагая, встали на эскалатор.
— Так что это за спектры? — спросила Аля.
— Спектр… Ну, как вам…
— Попонятнее, — язвительно сказал Вербицкий, но профессор не понял иронии.
— Я и стараюсь, — произнес он вежливо. — Сверхслабыми взаимодействиями и, в первую очередь, биоспектрами в мире стали заниматься совсем недавно. Их открыли совсем недавно. Это сложнейшая производная психофизиологических состояний. Собственный спектр взаимодействует с окружающими излучениями, главным образом — со спектрами находящихся рядом людей. Наиболее интересным и загадочным из взаимодействий является резонанс. И наиболее мощным. Ну, понятно — взаимная энергетическая подпитка… Причем, поскольку всякий спектр расчленен на целый ряд уравнений, а те, в свою очередь, на регистры, полосы, участки — возможны одновременные локальные резонансы-диссонансы внутри одной пары взаимодействующих спектров… Помилуйте ради бога, я бестолково говорю, я не готовился и… не имею опыта популярных выступлений…
— Ну, мы довольно-таки квалифицированная аудитория, — с раздражением бросил Вербицкий.
— Да, но все же… Ну, например, с чего мы начали. Немотивированные любовь или отвращение, приязнь или неприязнь мы представляем как возникающие на уровнях высших эмоций проявления резонанснодиссонансных эффектов. А болезни? Любое органическое или психическое расстройство колоссально деформирует соответствующие уровни или регистры спектра, и это может быть использовано в целях утонченной безошибочной диагностики. Более того. Мы убеждены, что эти расстройства могут провоцироваться излучениями извне. Рост некоторых заболеваний, в том числе психических, мы объясняем ростом электромагнитного загрязнения среды, который постоянно увеличивает вероятность случайных патогенных резонансов. С другой стороны, возникает реальная возможность лечения непосредственно через спектр огромного числа недугов, от рака до шизофрении, путем подавления патологических участков излучением извне. Вероятно, станет возможной и парирующая иммунодефицит спектральная стимуляция…
На станции было свежо и пустынно, с грохотом утягивался в темноту тоннеля голубой поезд. Ай да старец, потрясенно думал Вербицкий. Ему, видите ли, у нас интересно… Однако забавными штучками они там занимаются, вдруг сообразил он, и хотел сказать об этом, но Аля его опередила:
— А вам не кажется, что ваши исследования безнравственны?
Вайсброд устало усмехнулся.
— Я ждал этого вопроса, Алла… э-э… Нет, не кажется.
— Но высшие эмоции, — пробормотал Вербицкий, — это же…
— Святая святых, — перебил профессор. — Но и святая святых зачастую нуждается в лечении. И необходимость лечения только увеличивается оттого, что это — святая святых.
Из тоннеля повалил шумный, рокочущий ветер. Теперь профессор почти кричал:
— Дефекты воспитания! Личные катастрофы! Длительное унижение! Наконец, случайное попадание в точки, где интерференционная картина на какой-то миг сложилась в патогенную подсадку! Разве человек сам виноват? Не виноват! Нуждается в помощи! Но — опасен! Как заразный больной! Величайшее несчастье, безысходное горе — неспособность к высоким чувствам! Мы вправе предположить теперь, что это — болезнь! Мы хотим ее лечить!
Пустой, сияющий изнутри поезд остановился, и они вошли в мягко раздвинувшиеся двери.
— До этого еще далеко, признаюсь. Мы очень, очень многого не знаем…
— Вы совсем потеряли чувство меры, — повышая голос, в грохоте вновь помчавшегося поезда сказал Вербицкий. — Не вы лично, Эммануил Борисович, а вообще. Вот вы произнесли: святая святых. Но вы совершенно не понимаете, что эти слова значат. У вас не осталось святого. Свято лишь препарирование. Вы ничего не хотите знать, кроме него, а про такую высшую эмоцию, как совесть, и думать забыли!
— В вас говорит эгоизм, — мягко и почти неслышно ответил Вайсброд. — Исследование душ вы считаете своей монополией.
— Это в вас говорит эгоизм! — закричал Вербицкий. — Вы разрушили человека на лейкоциты и биотоки, и человек перестал существовать. Любое надругательство над ним оправданно, поскольку выглядит надругательством лишь над какими-то лейкоцитами. А человек един, нерасчленим и — каждый — бесконечно ценен! Искусственно привносить что-то средненормальное в индивидуальность есть преступление!
— Это не так.
— Это так!
— Грипп есть особенность гриппующего, Валерий Аркадьевич, но она мало чем увеличивает его творческую самобытность. Слепота тоже индивидуальная особенность слепого, но ни один слепой еще не отказался лишиться ее из боязни лишиться индивидуальности. Больных нужно лечить!
— Нужно! — закричал Вербицкий. — Опять это слово! Мы все забыли слово «важно», помним только «нужно»! Но от слова «важно» происходит слово «уважение». Уважать — значит, считать для себя важным то, что другой человек думает, чувствует, делает, хочет, а от «нужно» даже нет слова, обозначающего отношение! «Унужать». Это же почти «унижать»! «Старик, ты мне нужен»! Значит, мне нужно от тебя то-то и то-то, а сам по себе катись ты ко всем чертям. Мы разучились уважать друг друга целиком, потому что нам друг от друга всегда лишь нужно что-то! Нужно строить БАМ — даешь! Построил — живи как знаешь. Нужно врезать по культу — даешь «Один день…» Не нужно — выметайся!
— Помилуйте! Все это так, это и есть синдром длительного унижения, и его тоже нужно лечить! Но сейчас-то речь о другом! Вот пример, хорошо. Простите, если я покажусь вам бестактным, но вы сами именно таким образом заострили вопрос. Возьмем эротический уровень. Бывают люди, у которых он не выражен или замкнут внутрь, и резонансов практически не возникает, — так, блеклый случайный зацеп. Бывает, что при богатой эмоциональной жизни, развернутой в мир, уровень интенсивен и широк, это неизбежно приводит к возникновению одного или даже нескольких чрезвычайно мощных и чрезвычайно устойчивых резонансов. Таков Симагин, по-моему. Но вот иной пример — Алла… э-э… Судя по тому, что я слышал — уровень редкостной интенсивности и концентрации. Лезвие — это термин, не метафора. Отсюда резонансы поразительной силы.
— Мечта поэта, — с неожиданным даже для себя раздражением съязвил Вербицкий.
— Мечта кого угодно, — одернул его Вайсброд. — Но — плывет! Откуда такая беда? Что сломано, когда? Пока мы не знаем. Но разве не хотели бы вы… не хотели бы… — он замолчал, вдруг потерявшись. Аля с помертвевшим лицом смотрела на свое темное отражение, летящее вместе со стеклом поверх тьмы, прорываемой слепящими взмахами ламп. Потом очнулась.
— Следующая — моя, — сообщила она. — Валерик, неужели не проводишь даже?
— Да нет, Аль. У меня действительно завтра трудный день.
— Поздно ведь. Одной идти почти километр, — лукаво пожаловалась она. — Меня же ограбят. Или изнасилуют.
— Ну, этому ты будешь только рада, — улыбнулся Вербицкий. Ему было приятно, что она его просит, но идти он не хотел.
И еще ему было приятно, что разговор стал нормальным. То, о чем рассказывал Вайсброд, было слишком чудовищным. Слишком было больно. Каким-то дьявольским чутьем разгадав рану Вербицкого, он всяким словом нарочито и злорадно проворачивал торчащий в ней зазубренный нож. Аля весело рассмеялась.
— И то! Что мне сделается. Пойду, — она тепло покосилась на Вайсброда, — поплаваю резонансом.
Профессор покраснел и вдруг, пошатываясь от того, что поезд тормозил, неловко поцеловал ей руку.
— Вы мужественная женщина, — выдавил он. Вербицкий удивленно смотрел на них. Аля опять засмеялась и с изумительной грацией молниеносно поцеловала сморщенную стариковскую лапку, которую Вайсброд, опешив, не успел отдернуть. Двери с мягким шипением разъехались, и, продолжая улыбаться, Аля легко скользнула на перрон. Цокая по пустому, гулко шуршащему залу, она пошла прочь — не спеша, не оглядываясь, ослепительно женственная и безукоризненно элегантная.
Поезд помчался с грохотом — снова все смахнул тоннель.
— Что это на вас нашло, Эммануил Борисович? — спросил Вербицкий. Профессор отвернулся наконец от закрытой двери, за которой мчались черные стены и провода.
— Она же очень несчастна, — сказал он.
— Алка? — изумился Вербицкий, а потом захохотал. — Да ну вас! Она самый жизнерадостный человек, какого я знаю!
Вайсброд пожал плечами.
— Странно, — проговорил он. — Вы же писатель… Сейчас моя остановка.
Рассказать ему, скольких эта мужественная перекалечила, подумал Вербицкий. Скольких славных, одаренных мужиков перессорила, гоняясь то за одним, то за другим, а потом в катарсисе самоотдачи рассказывая жалобно каждому про всех. На годы перессорила, если не навечно… Этот малохольный ответит: что ж поделаешь, четная диссипация, плавающий резонанс… будем лечить… Пошел к черту.
— А мне до упора, — сказал Вербицкий.
Работа
1
Поутру Вербицкий хмуро сидел над заезженной своей «Эрикой», выдавливая на бумагу серый, сухой текст, шуршащий, как шелуха, и думал: скучно; и вспоминал, как Косачев некогда добродушно высмеивал его: «Вдохновение? А, ну как же, как же! В форточку влетела муза и, вцепившись в люстру, забренькала на арфе. Литератор Косачев, роняя шкафы, ринулся к машинке. Муза смолкла и хитро прищурилась. Литератор Косачев опустился на ковер и, уныло подперев голову кулаком, замер в ожидании. Так, что ли, вы это представляли? Смешной вы мальчик».
К одиннадцати — это и была та якобы встреча, о которой он вскользь упомянул, открещиваясь от Али — он помчался в Литфонд поклянчить бумаги; это было до тошноты унизительно, но в итоге удалось набить полный портфель, а Вербицкий любил хорошую белую бумагу, на ней даже писалось легче. Чуть-чуть.
То и дело перекидывая из руки в руку тяжеленный портфель, сильно смахивающий на готовый загореться от первой же искры цеппелин, Вербицкий махнул в издательство — там, как на оборонном заводе, все было индустриально, никакой литературщины: пропускной режим, милиционер у лестницы, осоловев, блюл литературнопублицистические секреты; приглушенный стрекот машинок за дверьми, страшно озабоченные бегают взад-вперед люди с какими-то бланками, у окон курят, в кабинетах покрикивают… Атмосфера была донельзя деловой, поэтому ни черта не делалось: зав еще не смотрел, когда посмотрит — вопрос; позвоните в начале августа; нет, лучше в середине; к сентябрю. Есть ряд замечаний. На замечания-то Вербицкий плевал — он их любил, это только по молодости лет он горячился и ругался из-за каждого слова, однажды даже забрал почти принятую рукопись из-за явного, как он теперь понимал, пустяка — концовку требовали другую; на освободившийся листаж тут же юркнул закадыка Ляпишев. Теперь отработку замечаний Вербицкий считал едва ли не самой интересной и значимой частью своего дела: обыграть и себя, и всех в эти дьявольские шахматы, сказать не посвоему, но свое, как угодно, шиворот-навыворот, чтоб ни одна собака не раскусила, но — свое! Все чаще Вербицкому приходило в голову, что возникает некая новая эстетика, согласно которой левое ухо надлежит чесать непременно правой рукой, и всякая попытка называть вещи своими именами воспринимается как неумелость, торчит из страницы, как голая задница: и неприлично, и некрасиво, и смысла нет… Не исповедь, не проповедь — шарада, шизоидная текстологическая игра. Что ж, почешем правой.
Затем он перескочил в БДТ и, поставив на стол недавно узнакомленного администратора бутылку экспортного «Нистру», поболтал о том о сем. Не то чтобы он числил себя в театроманах, однако понимал, что надо, черт возьми, держать руку на пульсе, и ушел, отоварившись парной контрамаркой на весь следующий сезон — парной, хотя кто эту пару составит, он понятия не имел; ну да свято место пусто не бывает.
Последний путь вел в детский журнал, куда следовало доставить трехстраничную фитюльку, подписанную, чтоб не позориться, В. Сидорчук. Час Вербицкий ругался с болваном из правки, болван пытался сократить до двух страниц, а Вербицкий до хрипоты кричал, что это нарушит композицию и порвет художественную ткань, сам прекрасно понимая, что какая к черту ткань! У него отнимали не страницу — живые рубли выдирали из клюва, не то пять, не то семь, пара обедов; он боролся свирепо, как питекантроп на пороге своей пещеры, и победил, текст был урезан лишь на пять с половиной строк. Обычные потери в наступательном бою, Вербицкий и писал с запасом.
Выйдя на бульвар, он плюхнулся на скамейку, рядом обрушил портфель и стал дуть на слипшиеся полосатые пальцы. Болван допек. Когда пальцы раскрючились, Вербицкий достал бумажник, а из него извлек уже сильно потертую записку, навсегда вошедшую в его жизнь полтора года назад, когда он пытался пристроить свой довольно ранний и до сих пор на редкость любимый рассказ. Редактор, жилистый и жизнерадостный работяга, долго толковал ему о неоправданно усложненной форме, о ложной многозначительности, о необходимости писать понятно для широкого читателя, а в заключение предложил зайти послезавтра. Послезавтра его вообще не оказалось и папку он оставил у секретарши, приложив к рукописи рассказа записку с окончательным отказом и пожеланием дальнейших творческих успехов, которая кончалась на редкость доброжелательно: «До новых встречь». С того дня Вербицкий не расставался с запиской и, когда очень уж допекало и начинало казаться, что правы — те, а сам он и впрямь бездарен и не понимает ничего ни в формах, ни в содержаниях, он доставал ее и целовал мягкий знак; то был ритуал самоочищения.
Это было все. Без рук, без ног он добрался до дому, но, стоило войти, затрезвонил телефон — Вербицкий подождал, стоя у порога и как бы еще не придя, но телефон был непреклонен, пришлось поднять трубку. Свет померк у Вербицкого перед глазами — Инна. У нее был удивительный дар всегда звонить и появляться на редкость не вовремя. В двадцатый раз занудным своим голосом — от волнения еще более занудным, нежели обычно, — она стала рассказывать ему, какую фатальную он совершил ошибку. Ты просто не понимаешь, насколько я тебе нужна. Ты поймешь, но будет поздно. Я тебе не нравлюсь, но ты должен себя преодолеть, и я тебе понравлюсь. Наступит момент, когда ты поймешь, что ты один. Ты сейчас не понимаешь, но ты поймешь, когда наступит момент. Так она могла часами. С Вербицкого текло; мысленно проклиная все на свете, свободной рукой он стаскивал прилипшие брюки и рубашку, чтобы, как только пытка закончится, прыгнуть в душ. Он дождался паузы в ее монологе, коротко и корректно ответил и положил трубку.
И лишь грузно горбясь в горячен струе, он понял, что ему мешало, что беспокоило с самого утра. Симагин. И его вивисекторская работа.
Вербицкий вылез из душа, распахнул окна в парную ленинградскую духоту и, остывая, некоторое время ходил по квартире голый. Эти чертовы технари не ведают, что творят, — старательно не ведают, прячась за «нужно». Они не отвечают за последствия, эти слабоумные гении, подобные уже не флюсам, как специалисты времен Козьмы Пруткова, но грыжам, которые наживает цивилизация, поднимая все выше непомерную тяжесть неуправляемого прогресса. Их совершенно не заботит, выдержит ли человечество искушение техникой, искушение ростом искусственных возможностей. Ведь кто хватается за искусственные возможности? В первую очередь тот, кто уже не может сам. Тот, кто не в силах создавать и потому стремится заставлять. «Унужать». А ведь то, что дает тебе кто-то другой, никогда не будет тебе дорого и важно; оно всего лишь нужно, пока его нет. И, значит, подлецы, которые вооружают нас средствами, лишают нас целей. Нас… Неужели я тоже когда-нибудь так устану, что начну «унужать»? Нет, нет! Я человек человечества, и отвечаю за все, что творится на планете. Да, я отравлен, разбит, но права на борьбу у меня никто не отнял и отнять не сможет.
Эти мысли наполняли его силой. Казалось, вернулась молодость. Молодость? Это цель и цельность, это перспектива. Должна же быть главная цель, главный смысл. Вербицкий подошел к столу, где ютились битые литерами страницы бумаги. Взял одну из них. Неужели в этом мои смысл? Единственный, предельный результат меня и моей бездны, моего пламени? Он порывисто разодрал страницу пополам, потом еще пополам и чуть театральным жестом выпустил обрывки из рук. Обрывки, виляя, вразнобой спланировали на пол.
Как бомбардировщик, холодно и гордо пикирующий на цель, он с юга на север прошил город грохочущим тоннелем метро, и в груди его тоже клекотало и грохотало, словно и там неслись поезда, тянулись бесконечные эшелоны к фронту, где готовилось долгожданное наступление. Но пока он летел, на тусклом верху зарядил омерзительный злой дождь. Хмурясь, Вербицкий раскинул зонт — его в свое время привезла ему из ФРГ Инна — и брезгливо вышел в серый вертящийся кисель. Хорошо, хоть ветер ослабел, подумал он и тут же поймал себя: мне остались только негативные радости — не оттого, что есть приятное, а оттого, что нет неприятного.
Вербицкий шел медленно, и в какой-то момент осознал, что идет медленно, и попробовал идти быстро — не вязалась эта бесконечная поступь с той задачей, которую он взял — но сдался. Почему я должен и тут заставлять себя? Даже когда никто не видит? И без того я все время заставляю себя. Спать и то заставляю — не потому ложусь, что хочу, а потому, что, если не лечь, завтра будет тупая башка. Как хочу, так и иду. Затея казалась теперь бессмысленной, он никому и никогда не сможет помочь, лучше бы сидел дома в эту собачью погоду, но ведь дома нужно либо писать, либо читать, что написали другие.
Липкий брызгливый дождь остудил и испачкал воспрянувшую было гордость, наверное, это было предзнаменование, природа не пускала его к Симагину — и снова накатила тоска.
Отчего я мучаюсь так?
О-о, талант! Эта сволочь пострашней всего! Он по определению обращен не к двум-трем-пятерым, с которыми нормальные люди, норовя урвать, что можно, у всех остальных, строят нормальный, жральный и жилплощадный быт, а ко всем! Ко всем остальным! Он так и норовит не дальних употреблять на пользу ближним, а наоборот, двух-трех ближних употреблять на пользу миллионам дальних. Брать из горла у ближних и униженно предлагать дальним, которым, как правило, ничего этого не надо, и самые лучшие из ближних раньше или поздно кричат: вор! И начинаешь, чтобы не сосать кровь из тех, кто дорог, держать их на расстоянии, но они не понимают природы преграды, рвутся ближе, а потом, не прорвавшись, уходят, крикнув напоследок: эгоист! И понимаешь вдруг, что после десяти лет, когда тебя рвали на кусочки, кроили ломтями, каждый себе в индивидуальное пользование, давили виной, выкручивали твою совесть показной, словесной преданностью, рядом-то с тобой — никого, и когда ты будешь действительно нуждаться в помощи, когда подыхать будешь один в пустой квартире, глотка воды никто не принесет.
И все это ради того лишь, чтобы время от времени целовать мягкий знак.
И уже нет ни любви, ни таланта; только боль, боль, живешь будто по привычке, как иногда едят в обеденный перерыв — раз уж время пришло, надо поесть… Раз уж перерыв между рождением и смертью пришел… Не трогайте меня, отойдите, ведь вам же на меня плевать, я знаю, почему же вы обижаетесь, когда мне плевать на вас, уйдите, Христа ради — вот последнее желание, которое теплится едва-едва, но даже оно тщетно, — не уходят. Сто лет здесь не бывал. Лужи, лужи… А если он переехал? Кажется, сюда. Да, здесь мы стояли, во-он там я жил, а вот здесь он, а здесь стояли после школы и болтали по часу, по два о космосе, о коммунизме, о контрольных, о Китае, об учителях, о машинах времени, о лазерах, о рутине, и не могли разойтись. Боже, как разрослись деревья. Вербицкого душило отчаяние. По зонту барабанил дождь.
2
Его «надо посчитать» затянулось до двух. Ася легла, как обещала. Опять ткнулась в Тютчеву, но читать уже не смогла. Зная, что не уснет, погасила свет. Просто ждала. Просто вслушивалась, как губы ждут, как ждет грудь…
Дождалась.
Забылась, казалось, на минуту. Но, когда открыла глаза, надо было вставать. Упоительно тяжелая рука Симагина так и заснула на ней. Сейчас она была трогательной и беззащитной, как у ребенка. Ася осторожно выскользнула из-под нее, а потом, не удержавшись, лизнула ее ладонь. А потом ее локоть. Симагин не просыпался. Даже если поцеловать легонько в затылок. Даже если грудью погладить его острое плечо. Вот спун какой. До чего же я страстная, важничала она, готовя завтрак и радостно прислушиваясь, как Симагин и Антон вежливо пропускают друг друга умываться первым. Скорей бы отпуск, думала она, сквозь ранний солнечный жар несясь к метро. Играть с Антоном и соблазнять Симагина. И больше ничего. Всю дорогу она только об этом и мечтала. И на нее оборачивались, потому что счастливое лицо стояло как-то отдельно в замордованной толкучкой и гонкой каше.
Сейф слева. Несгораемый шкаф справа. Семь ящиков письменного стола. Скрепки, скоросшиватель, печати. Клей. Где-то тут я кинула бланк… Татка, ты бланки у меня не брала? Да погодите, молодой человек. Максим, вы спешите? Гляньте, пожалуйста, сшиватель, он опять заклинился. Девушка, ну не волнуйтесь так. Раз заполняем документы, значит, все уже в порядке. Приняли вас, приняли, вот, черным по белому — и печать. Всего хорошего, Виктор Владимирович… Ай! Нет, ничего, скрепкой укололась… Виктор Владимирович! Почему нам бланки выдают так скупо? Я трижды сегодня бегала в большую канцелярию, и опять все, абитура валом валит. А кого послать — все зашиваются, сезон. Вас? Три ха-ха. Замдекану шутки, а девушки ваши плачут. Паспорт, юноша, что вы стоите? Без паспорта не могу. Вдруг вы шпион — только что из Невы, акваланг под сфинксом закопали. Знаете, я тоже очень далеко живу. Вы завтра приходите еще разок, не горит ведь? Устали и не собирались в город? Ну, что же делать, бывает. В «Баррикаде», между прочим, с завтрашнего дня новый итальянский фильм, все хвалят. Это рядом, через мост. Как раз можно совместить. Эй, очередь, без нервов! С кем хочу, с тем любезничаю. А станете мешать моей девичьей жизни — вообще уйду обедать, по времени сейчас перерыв. Ой, Томочка, лапочка, где ты такое оторвала? Это ж с ума сойти… У кого шить будешь? Ах, частная, из старых… Завидую. Не порекомендуешь при случае? Дай чмокну!! Отойдите от окна, дышать темно! Спасибо, Максик, теперь он не скоро поломается, правда? А почему здесь нет печати? Девушка, милая, ну это же не я придумала, поверьте. По мне провались пропадом все печати и все подписи, они мне уже в печенках сидят. Надо, девушка, надо. Нет, нельзя — сначала я, потом они. Надо — сначала они, потом я. Иначе мир рухнет, понятно? Мор, неурожай, социализму конец. Виктор Владимирович, вы уже уходите? Ага… хорошо. Передам. А если не позвонят? Правильно, и пес с ними. Да-да, не беспокойтесь, все запомнила, как автоответчик. Ой, шоколад очень люблю. Девчонки любят марафет и жить не могут без конфет! Спасибо. Девушка, говорите яснее. О, простите. Что вы, я сама в детстве заикалась. Хотите верьте, хотите нет. А теперь смотрите, как барабаню. Плюйте на всех и не волнуйтесь — все как рукой снимет. Ну, где ваши бумажки? Так… так… все правильно. А теперь — шлеп! Вот как сразу стало красиво. Не хухры-мухры, а документ! Счастливо… Девки, налетай, сообразим на троих. Замдекана от щедрот кинул, с орешками. А я знаю? Наверное, свежий. Как меня не любить, я хорошая. Не хорошенькая, а хорошая, язва ты, Татка! Кто бы говорил! Молодой человек, вы бы хоть побрились. Ах, это будет роскошная корсарская борода? Северный флот? Это замечательно. Такой тельник! Видно, в нем наплавали не одну тысячу ледовитых соленых миль. Конечно, флот надо укреплять. Моряков тоже надо укреплять, согласна. Нет, вечером занята. Таких, как вы, у меня легион. Вот так своим хрупким телом и выдерживаю, всех до единого, такая моя героическая работа, и хамить мне — глупо. Татка, дай сигаретку, не могу больше. Несть им числа… Ну, хоть «Опал»… Тьфу, опять курю, Симагин с Тошкой меня убьют. Как же, не унюхают! Томочка, ты бы шлепала потише, а? Ничего не соображаю под такой аккомпанемент. Пять экземпляров? На нашей раздрыге? Бедные твои пальчики… Нет, за июнь не получили еще, а что? Серьезно?! Ну, до чего перестройка дошла! Порезали сильно, не знаешь? Да, на английском читала, сравню… Татка, ты бланки у меня не брала?
Ф-фу!
В магазинах в этот час кошмар: кроме толпы и духоты, ничего. Все после работы усталые, взмыленные, остервенелые. Ни одного лица — руки и рожи. Асе, однако, повезло. Едва не подравшись с какой-то бронеподобной дамой, лезшей без очереди, она ухватила очень приличную сахарную косточку. Потом всякая мелочь. Симагин ее, конечно, и сам мог бы купить, да специально из-за этого гонять его не стоило — полхлеба, масло, кррэндель. Метро. Пожилой и с виду вполне благообразный мужчина, пользуясь давкой, полез Асе под юбку. Ладонь была мозолистая и мокрая от пота. И по морде не дать — упакованы все, как сигареты в пачке. А по пачке «камаз» проехал. Деться некуда, рук не поднять, сумка пудовая. Ася извернулась-таки и подставила гниде сумку вместо себя. Вот странно, если вдуматься. Чтобы Симагин так потрогал — хоть здесь же, в метро, молча и в сторону глядя, — чего бы только не сделала. А тут как бы такая же мужская рука — пять пальцев, кожа. А тошнит. И злость — убить могла бы… Уже невдалеке от дома кишела, вываливаясь на мостовую с тротуара, очередь за чем-то. Ася приподнялась на цыпочки — не видно. Подпрыгнула и обомлела — на лотке роскошная медовая черешня, может, последняя в этом году. Не встать было нельзя. От лотка доносились вопли — кто-то выбирал, кто-то уличал, кто-то доказывал, что стоял не после, а перед…
Ф-фу!
Стервец Симагин, натурально, опять вечерял. Антон негуляный. Это в такую-то погоду! Учуяв черешню, немедленно стал напрыгивать на Асю. Да погоди, помою! Затем, плюясь косточками, героически вызвался помочь с ужином. Три ха-ха. Нахватался от Симагина. Тот тоже вчера рвался картошку чистить — чем это кончилось? Гулять! Только чтоб видно из окна и чтоб к восьми дома! Антону только того и надо было — Вовка уж дважды свистел снизу и в негодовании трещал из автомата по окнам.
Так. Теперь в душ. Наконец. Симагин придет, а я не благоухаю — криминал! Пять лет строгого режима! С черешней с этой так задержалась… Скорей бы пришел. Ася вертелась и плясала в будоражащем горячем потоке. Любовно выглаживала себя мыльными скользкими ладонями. И сладко знала: здесь будут его ладони. И вот здесь. А я — чистая, гладкая, упругая. Гибкая. Совершенно молодая. Совершенно шальная. Вот здорово — я совсем шальная! Вытираясь, мимоходом кинула в рот сразу несколько замечательно сладких черешен. Не зря стояла. Подбежала к окну и глянула зорко — Антон честно резвился, как сказал бы Симагин, в зоне визуального контакта. Тут тоже порядок. Одеваться не хочу, я так лучше. Набросила халат. Мальчишка. Гений. Приходи скорее, а? Хоть бы ты поскорее пришел. Хоть бы успеть сделать вкусный ужин. Хоть бы тебе было со мной светло.
3
Трехэтажное детище отечественной биоспектралистики громоздилось до потолка. Первый этаж занимали великолепные компьютеры седьмого поколения — любой из них сам по себе мог быть предметом гордости. Выше, напоминая богоподобные конструкции органа, возносились комплексы анализаторов, перекрестные блоки спектрографов — трехмерное кружево блинкетных цепей, каждый кристалл которых, запросто называемый здесь «блином», выращивался специально, в течение недель, с заранее заданными уникальными параметрами, и был неповторим и незаменим. А сияющие рефлекторные кольца! А звонкие винтовые лестницы, уходящие к куполам энергосистемы! Гимн! Честное слово, гимн, застывший в воздухе! Кельнский собор!
— Готов! — доложил со второго этажа Володя Коростовец.
— Тоже! — звонко откликнулась Верочка с самого верха.
— Тогда врубаю, — ответил Симагин.
Врубить было непросто — Симагин в последний раз пробежал глазами по млечным путям индикаторов, бескрайним шахматным полям сенсоров, джунглям тумблеров.
— Кассеты?
— На исходящих.
— Вера?
— Генеральная готовность.
— Вводи, — велел Симагин и перекинул несколько тумблеров.
— Пошла кассета, — ответила Верочка. Зажегся рой индикаторов, и большой овальный экран внезапно пронзила ровная, как бритва, зеленая черта.
— Форсирую, — сообщил Симагин, чуть наклоняясь. Его руки замерли, пальцы растопырились и собрались вновь, примериваясь, и упали на пульт. Едва слышно зашлепали переключатели в недрах машины.
— Отсчет семь и двадцать четыре, — сказал Володя после короткой паузы.
— Блеск, — пробормотал Симагин сквозь зубы. — Матереем. Еще полгода назад как мучились с синхронизацией… Наложение?
— Полное, — восхищенно отозвалась Верочка.
— Блины?
— Разброс нормативный, как на параде…
— Внимание! Раскрываю.
Беззвучно разинулись и тут же снова сомкнулись ирисовые диафрагмы люков. Снова разинулись и снова сомкнулись в убыстряющемся темпе. Скоро они пропали, как пропадает в собственном мерцании пропеллер самолета; по залу лаборатории, дыша сухим шелестом, повеял легкий ветерок.
— Помехи?
— Ноль шумов, — отозвался Вадим Кашинский сбоку.
— Объединение.
Зеленая черта на овальном экране, не теряя безупречной прямизны, поднялась на два деления вверх.
— Есть рабочий режим, — сказал Симагин и встал. — Володя, от греха подальше, последите, пожалуйста, минут пять…
— Угу.
По звонким металлическим ступеням уже спускалась, размахивая полами белоснежного халата, надетого на что-то наимоднейшее и наимолодежнейшее, Верочка — маленькая, удивительно хорошенькая, чуть кокетливая и веселая, как всегда, — и, как всегда, глядя на нее, Симагин невольно заулыбался.
— Веронька, — спросил он, — проф сегодня собирался быть?
— Он звонил, Андрей Андреевич, что приедет ко второй серии.
Симагин покивал. Эммануил Борисович последнее время стал всерьез прихварывать…
— Из биоцентра не звонили?
— Звонили еще в пятницу, но вы так нервничали с перегревом того блина, что я не стала беспокоить. Все равно выходные. Я все записала в журнале, — она стояла в позе пай-девочки, и видно было: сейчас начнет отпрашиваться в читальный зал, чтобы посидеть в мороженице с Лопуховым из техотдела.
Вадик Кашинский, смеясь, поспешно двигался к ним.
— Опять любезничает с талантами! — громко сказал он. — Вера Александровна, я старый тертый ловелас и скажу без обиняков: это безудержный флирт!
Верочка отчаянно смутилась, покраснела даже.
— Да, — храбро сказала она.
— Лучше бы со мной, — трагически вздохнул Вадик. — Или аспирантке Карамышева с такой мелочью флиртовать зазорно?
— Неинтересно, — сказала Верочка. — Ты не душевный.
И, к удивлению Симагина, побежала по звонкой лесенке обратно.
— Достаются же кому-то такие девчата, — со вздохом сказал Вадик, провожая ее масляными глазами. — Я уж и так, и этак…
— Так Лопух же, — удивился Симагин.
— А что — Лопух? Если и было что, так давно кончилось.
— Да перестаньте, будет вам! Как это — кончилось…
Симагин волновался. В некотором роде сегодня генеральная баталия. Он подошел к результирующему блоку и бесцельно потрогал мертвые пока барабаны. Сюда через два-три часа пойдут спектрограммы раковых моделей, построенные совместно с онкологическим центром. Вайсброд не мелочился, он взял сразу рак — хотя на него смотрели как на психа, в министерстве не верили долго, что Машина может быть не только диагностом. А с чего начиналось? Смешно и стыдно вспоминать, с чего начиналось, когда на Вайсброда показывали пальцем и шикали: «Мистик!», и достоверным шепотом сообщали, что он вот-вот попросится в Израиль… а он был один-одинешенек, и как его не зашикали вовсе, просто невозможно понять. И на меня показывали пальцами, когда я писал у него диссер «Подавление патоинформативных участков биологических спектров как метод лечения органических расстройств»… Даже защищаться было негде, и не медицина, и не биофизика, а так, чертовня какая-то из двадцать первого века… Мистика. В этот момент ноздри Симагина уловили запах дыма. Сердце упало, но тут же Симагин понял.
— Володя, — сказал он спокойно, — пожалуйста, не курите совсем уж у пульта. Меня же чуть кондрат не хватил.
— Простите, — раздался сверху покаянный голос. — А с контроля уже можно уйти?
— Да, пожалуй, — задумчиво сказал Симагин, и сейчас же Верочка, перегнувшись через перильца площадки управления третьего этажа, звонко крикнула с головокружительной высоты:
— Я послежу, Андрей Андреевич, хотите?
Симагин освобождающе махнул рукой. И, глядя на спускающегося долговязого парня в стираном-перестиранном халате, произнес:
— Володя, а ведь года через два, может, даже раньше, мы эту вашу вонючую привычку сможем снять на корню. Любую наркоманию, на любой стадии, а?
Володя, держа в желтых зубах «Беломорину», уставился на мертвые пока барабаны.
— И Митьку моего вылечить… — пробормотал он. Симагин положил руку ему на плечо и мягко сдавил.
— Да, — сказал он. — Никаких болезней обмена. На корню.
К одиннадцати стянулись все и стало шумно. Гоняли безропотную Верочку за кофе и бутербродами — в буфете ее тоже обожали и давали без ограничений, а зачастую и без очереди. Представительный, сухопарый Карамышев как вошел, так уселся за свой стол у окна затылком к суете и прямо-таки утоп в вычислениях — только бумажки отлетали. Трясущийся от бешенства Аркадьев крутил на Симагине пуговицы халата: «Опять перерыты все бумаги у меня на столе! Кто?!» Вадим смеялся рядом: «ЦРУ, конечно!» С руганью прошла приемка запасного комплекта микропроцессоров. Считали, сколько часов и минут осталось до отпуска. Рассказывали байки и сплетни, хохотали возбужденно. А где-то в невообразимо сложных недрах Машины раковый пучок — чуть раздвоенный, характерный, как жало — неспешно разглаживался под воздействием подсадочного излучения. Разглаживался. Иначе быть не могло. Через полчаса спектрограф покажет это, выдав на барабаны сотни метров тугой металлизированной ленты.
Симагин волновался.
Но это поверхностное волнение, как плеск листьев на ветру, не могло даже раскачать ветвей — откуда эта глубинная уверенность в неважности, случайности плохого и в грандиозной неизбежности хорошего, он сам вряд ли мог бы толком объяснить.
— …Вы еще остаетесь? — раздался позади несмелый голосок. Симагин резко обернулся. Он думал, все разошлись, и в мертвой тишине звук ударил.
— Да.
— Принести вам кофе?
— Да ну что вы… бегите уж.
— Вы не огорчайтесь так, Андрей Андреевич.
— Я не огорчаюсь. Я злюсь, Вера, — он покрутил пальцем у своего виска. — Чего-то мы опять не поняли.
Она стояла.
— Идите-идите, — улыбнулся Симагин. — Спасибо.
Она послушалась. В огромном безлюдном зале она выглядела особенно маленькой. Казалось, она никогда не пересечет лаборатории. Потом массивная дверь беззвучно открылась и закрылась; гулкий звук докатился с ощутимым опозданием и, рокоча, увяз наверху, в блинкетной вязи.
Первая серия, в общем, оказалась обнадеживающей. Кричали «ура», поздравляли пришедшего Вайсброда, трунили над недоверчивым медиком из онкологического центра. Медик смущался, огрызался — озирая Машину, спрашивал ядовито, сколько же будет стоить такое лечение. Ему, хохоча, втолковывали, что дорого строить подсадки, а лечение — не дороже УВЧ. «Пленки-то мы вам будем присылать. Тиражировать, как кино. На все случаи жизни. А у вас просто картотека и излучатель в каждой поликлинике. Заряжай кассету и лечи». Когда восторги достигли апогея, Машина выдала вторую серию, и она оказалась совершенно неудачной. Медик тут же уехал, Вайсброд принялся глотать таблетки. Еще одна серия была отработана к концу дня. Тоже пшик.
Следовало подумать. Ритм трансформаций в первой серии был сложным, неравномерным. На подсадку загадочно реагировали участки, совершенно, как до сих пор считалось, с онкоскопией не связанные, — в двадцати семи километрах первой спектрограммы компьютеры выявили более сотни таких точек. В других сериях спектр вообще не реагировал, словно все проваливалось мимо, без малейшего зацепа. Симагин, подогнув одну ногу под себя, присел к столу.
Когда он очнулся, то сразу бросился вон. Ася, наверное, клянет его последними словами — оттого и работа не клеится. Привычно все опечатал, на вахту позвонил, чтобы поставили на сигнал — вахта отвечала сухо, не любила она Симагина за его вечера, — и скатился на улицу.
Вот дела, дождик. Душный ветер наволок тучи — мокрое серое месиво заполнило небо, из него сыпал косой и частый душный ливень. Симагин поежился и пошел.
Асфальт холодно кипел. Развешивая по ветру туманные клубы раздробленных капель, проносились мокрые машины. Спешили, пряча лицо и руки, мокрые люди. И Симагин спешил — нелепо открытый дождю и оттого какой-то неуместно солнечный, не разбирая дороги шагал по плещущимся лужам между плащами и зонтами. Не промокла ли Ася, думал он, до дождя успела ли домой?.. Прислонился плечом к серебристой трубе, на которой была вывешена остановка, и поставил тяжелый портфель. Видно, автобус только что ушел. Автобус был вековечным врагом Симагина, год за годом уходил из-под носа. Даже если Ася успела до дождя и сразу выпустила Тошку, все равно тому совсем не осталось времени на выгулеж — дождик хлынул… А когда же он хлынул-то? Теплый, правда… За шиворот текло ручьем, по груди тоже. Волосы мокрой паклей залепили лоб и уши. Вокруг скапливались когтистые зонты. Все-таки я свинья, думал Симагин, зачем не ушел вместе со всеми… Был бы дома пораньше. И главное — зря. Ни черта не понять. Что это за точки, которые реагируют на подсадку сами по себе, мы же их не трогали — значит, между ними и онкорегистром существует какая-то связь… Помаргивая, подкатил «Икарус», народ прыгнул от него, спасаясь от выброшенной на тротуар мутной воды, а потом, наоборот, к нему. Симагин прыгнул тоже, его сдавили, кто-то равномерно, точно колесный пароход, бил его локтем в бок, пропихиваясь вперед, все друг другу мешали и судорожно маневрировали хлопающими, сыплющими брызгами опасными зонтами. Уже у дверей Симагин вспомнил, что при нем был портфель и, ахнув, стал пропихиваться назад. Его крыли, на чем свет стоит, и били, не стесняясь. Симагин извинялся. Портфель был на месте. Симагин обнял его, прижал к себе — с портфеля текло, и тут просевший автобус ядовито зашипел и стартовал, до колен окатив Симагина бурой волной. Симагин покорно вернулся к трубе. Он ругал себя последними словами. Остолоп. Простофиля. Дубина стоеросовая. Разве можно такому жить на свете. Он вспомнил, как, всем затрудняя жизнь, толкался противоходом, и его затрясло от стыда. Ну ведь всех же утром солнце жарило, — вспомнил он, — почему же все догадались взять зонтики, а я — нет? Настроение испортилось окончательно. Как меня Ася терпит? Эта мысль иногда приходила ему в голову, если он долго не видел Асю. Надо скорей ее увидеть. Да, я-то ей обрадуюсь, а она? Симагин побежал к цветочному ларьку. В ларьке еще возился кто-то, Симагин стал клянчить и канючить. Это было до тошноты унизительно, власть внутри ларька не стеснялась показать, что она власть, она, и никто другой, но в конце концов сжалилась, открыла окошко и сунула тройничок обтруханных, последних гвоздичин. Что они обтруханные — это видел даже Симагин, а значит, дело было с ними совсем худо, но не мог он сейчас вернуться домой без цветов.
Нет, думал он, рассеянно глядя, как заливаемый потоками дождя битком набитый автобус отваливает от остановки. Надо обязательно настоять, чтобы после онкоскопии или даже в параллель с нею нам утвердили в плане эндокриноскопию. Если кто и поможет Володиному сыну, так это только мы. Он прислонился к трубе, поставил портфель на асфальт и, подышав на измочаленные лепесточки гвоздик, стал закрывать их собой от дождя и ветра.
Любовь
1
Куда ж они оба подевались, раздраженно думала Ася. Ну, Тошка, наверное, сбоку дома гоняет по лужам, Колчака марсианского ловит. Ладно, дождик теплый. Но Симагин-то где, повелитель-то, горе луковое? Она оглянулась на часы. Шло к девяти. Ничего себе. Ходить одной в невесомом балахончике на голое тело было зябко и глупо. Ну, он обнаглел. Сегодня скажу, решила она.
Вспомнилась предродовая. Стонущей соседке принесли записку от мужа: «Как дела? Если можешь, черкни». Соседка закричала бессильно и злобно: «Чурбан, до писем мне?!» Ей стали сочувствовать — мужики, мол, что понимают, только, мол, о себе… Ася, чувствуя кровь на закушенной губе, молчала и жгуче завидовала. И записке. И всему. И всем. Зависть пропала, лишь когда все неважное пропало. Когда, раздирая мир, нечто непредставимое, с ошеломительной жестокостью выворачивая ее наизнанку, устремилось наружу. И дикий страх, намертво слитый с дикой болью: я умру. Сейчас умру!!! И Антошка. Незнакомый еще. Лысый, мокрый. Красный…
Кто-то вышел из-за угла, и сердце ударило сильней. Но это оказался снова не Симагин. Это никак не мог быть Симагин — элегантный, да еще под зонтом. Ася вздохнула. Ей очень хотелось, чтобы Симагин научился быть элегантным. Хотя бы иногда. Ну и что было бы, вдруг подумала она. И ей представилось, как Симагин вот сейчас вымахнет из-за угла. Стремительный, немножко нескладный, и в то же время как бы парящий в светлом летнем ливне. Вдруг ее словно током ударило. В глаза свирепым клеймом упал опрокинутый на скользкий мокрый асфальт Симагин. Вокруг — кровь, на обочине — сбивший грузовик, зеваки, а она, жена, ничего не знает! И думает бог весть о чем! Симагин! Шорох дождя из умиротворенного сразу стал зловещим. Надо куда-то бежать! Звонить, узнать… Хлестнул дверной «Гонг». Сердце облегченно обмерло, и Ася, еще не веря счастью, полетела из кухни. Как же это я проглядела? Ну, я ему, хищно клялась она, а длинные полы освобождение, крылато бились далеко позади. Ох, я ему — а кожа уже ждала взгляда, который, как полуденная волна, даже не заметив ткани, окатит, огладит упруго и сверкающе каждую выпуклость тела, и в нем снова можно будет плыть. Всегда. Ласкаясь, бранясь, молча… Она распахнула дверь и кинулась в волну…
И в ужасе выскочила, ошпаренная невыносимым морозом, колко чувствуя беззащитность и тщетность наготы на снегу. Это был тот, элегантный. Вежливо приподнял шляпу:
— Добрый вечер. Простите, я не ошибся? Андрей Андреевич Симагин здесь живет?
— Да, — через силу ответила Ася, пытаясь съежиться. Голая! Голая!
— Я могу его видеть? — глядя ей только в лицо, с безупречно вежливой интонацией осведомился незнакомец.
— Пройдите, — ответила Ася, уже почти не соображая, движимая одним порывом: убежать немедленно! — Вам придется подождать. Пройдите. Одну минуту…
Она отпрянула в комнату, захлопнула дверь и придавила ее обеими руками. Прыгнула к шкафу, раскрыла и спряталась за дверцы. Словно дверь комнаты могла стать прозрачной. С ненавистью содрала халат. При одном виде которого глазенки Симагина становились, как у котенка, стащившего сосиску. Которым она так часто дразнила Симагина на манер корриды, хохоча и подзадоривая: «Торо!» Запаковалась наглухо. В самые бесформенные, только для уборок, джинсы. В свитер с высоким воротником. Поверх, успокаиваясь, дотушивая в себе желание помыться сызнова, симагинскую старую рубашку застегнула на все пуговицы. Скомкала халат, швырнула в шкаф и еще прикрыла чем-то. Чтобы, если этот попадет в комнату и если почему-либо откроется шкаф, не мог заметить. Захлопнула дверцы. И, случайно глянув в окно, увидела Симагина.
Симагин стоял у дома напротив. Под дождем. Из какого-то букета целился в небо, упираясь бубнами в плечо. Антон и компания завороженно следили. Под дождем. Симагин азартно ударил по невидимой гашетке раскрытой пятерней. Могучая отдача кинула его плечо назад. Дети с восторгом запрыгали, у Аси обмякли ноги, она нетвердо шагнула к креслу и села. На глаза навернулись едкие, злые слезы. Веселится. В игрушки играет. А я жратву ему грей пятнадцать раз!
В тот момент, когда женщина отпрянула и грудь ее упруго и открыто, словно у бегущей навстречу влюбленной, заколебалась под прозрачным шифоном, горло Вербицкого сжалось от неожиданно возникшего и, казалось, уже давно забытого и давным-давно недоступного чувства желания. Но женщина исчезла мгновенно, вспыхнув перед глазами на миг; с шаркающим звуком дверь глотнула, едва не прикусив отдавший в полете язык черных волос. Бедняга, поспешно догадался Вербицкий, успокаивая себя; родила по глупости, ошалела от хлопот и пошла за первого, кто подвернулся; теперь стирает симагинские трусы, штопает носки, отбирает зарплату и тупо, замужне копит на новую мебель. Вербицкий знал такие семьи; беспросветной тоской, непролазной и уже неосознаваемой скукой, затхлостью укатанной погибели был пропитан самый воздух квартир, где они обитали, — Вербицкий избегал заходить туда и дышать, это выбивало из колеи, все начинало казаться бессмысленным: и честность, и настойчивость, и белая бумага. Ну, на большее Андрюшка вряд ли мог рассчитывать, подумал Вербицкий, вероятно, он доволен… Дверь не открывалась; та самая дверь, в ту самую комнату, где они играли, придумывали, спорили, где я читал ему вслух свои опусы… боже!
Не дожидаясь приглашения, он снял плащ, аккуратно стряхнул его у двери и, повесив на вешалку, прошел на кухню, где раскрыл зонт и по-хозяйски поставил его сушиться. Потом достал сигареты, но, поискав глазами, с обидой понял, что пепельницы не предусмотрено. Стерильная идиллия. Стериллия. Ничего, чистенько — как во всех мещанских гнездышках. На плите булькает. Куда хозяюшка-то делась? Ему хотелось скорее увидеть ее снова и убедиться в правильности того, что понял. За спиной наконец раздались шаги, он обернулся и едва сумел сохранить серьезный вид, как бы не заметив его нелепого преображения, и подумал только: «Она что, с ума сошла?»
— Простите, я вас оставила ненадолго, — сказала Ася. Голос был ледяной и очень вежливый, — Вы правильно поступили, что разделись и пришли сюда.
Она подняла крышку с кастрюли. Пар жестоко окатил руку. В сердцах и это стерпела. Весь выкипает. Ну, и сколько еще ждать? Достала из холодильника сметану, принялась мыть огурцы, редиску. Что за хмырь? Холеный… Впрочем, ощущение безупречной элегантности, возникшее при виде издалека, улетучилось. Холеность была одутловатая. Несмотря на ухоженность, незнакомец имел сильно употребленный вид. Ну, чего молчишь. Расселся и молчит. Нож ее легонько и шустро клацал об изрезанную деревянную дощечку.
— У вас пепельницы не найдется? — спросил Вербицкий.
— Нет, — ответила женщина с непонятным ожесточением. — Здесь не курят.
— Понятно, — сказал Вербицкий. — Я, извините, не успел представиться. Мы с Андреем старые друзья и черт знает сколько не виделись. А тут оказался рядом, дай, думаю, загляну. Вербицкий меня зовут, Валерий. Андрей не рассказывал?
— Ася, — ответила женщина, безжалостно четвертуя огурец, и Вербицкий подумал с привычной тоской: разумеется, таких писателей двенадцать на дюжину, откуда ей знать…
Только этого не хватало, думала Ася. Легок на помине. Лучше бы Тютчева пришла. Хотя нет, женщин Симагину пока хватит, совсем зазнается. Лучше бы пришел Экклезиаст.
А ведь где-то должен еще быть и ребенок, вспомнил Вербицкий, ну, вероятно, гуляет — и пусть гуляет. Хорошо, однако, Андрюшке иметь детей. Можно, пожалуй, позволить себе иметь и чужих детей, если дома только спишь, весь день — на работе; но вот что, скажите на милость, делать тому, у кого работа — дома и только дома? Где, интересно, работает эта женщина? Вербицкий попытался вспомнить, как она выглядела в первый миг, но не смог, и только горло вдруг снова сжалось, и под ложечкой екнуло, словно опять он, восьмиклассник, упившийся портвейном на патлатой вечеринке, в первый раз прижал свой локоть к горячему бедру двадцатилетней соседки, старшей сестры одноклассника Бори, виновника торжества — и в первый раз в своей мальчишеской жизни почувствовал, как женское бедро откликается мужскому локтю. Зачем я это вспомнил, попытался спохватиться Вербицкий, я же не хочу, не люблю, ненавижу это вспоминать. Поздно — мысли покатились; Катя ее звали, точно. Было так тревожно, он болтал не с ней, и она не с ним, но они ощущали друг друга, они загадочно, даже не встречаясь взглядами, взаимодействовали, и уже перемешивались, а потом в комнате стали гасить лампы и зажигать свечи, начинались танцы — танцы делятся на скаканцы и обжиманцы, шутил Боря… И, покуда гремели скаканцы, Вербицкий скакал нещадно, так что глаза лезли на лоб и пот катился градом; позже музыка стала медленной, медоточивой, и в первый раз в его мальчишеские руки небрежно скользнуло нечто и не дрожащее от робости, и не пацански пресное, но — пьяняще женственное… Она вела его, а он лишь одеревенело храбрился, непонимающе шевелил руками, но она, играя им и веселясь, повела его дальше, еще дальше, совсем далеко, и, оставшись с ним вдвоем, похохатывала, когда он — злой, самолюбивый, уже ненавидящий, путался в ее застежках, а потом не умел войти, и снисходительно бормотала: «Да ниже… вот мальчишка неловкий…» Ловкость. Это он запомнил навсегда. Умение, сноровка, навык. Не важно, что чувствуешь — важно, как делаешь. Он пришел домой в два ночи, он совсем не чувствовал себя победителем, в пути его вырвало; он долго вытирал лицо, ладони и забрызганные выходные брюки, заботливо выглаженные мамой пять часов назад, только что выпавшим снегом — брал чистое и отбрасывал грязным, и снова брал и отбрасывал, и снова… И навсегда погасла Настя с параллельной колонки, и глупым, тошнотворным стало то, что вызывало трепет. Она долго не могла понять перемены, даже звонила сама и, запинаясь, как запинался полгода он, просила что-то объяснить по литературе, позвала в кино, сама, и он пошел — он хотел воскресить трепет, без трепета было пусто; в темном зале взял Настю за руку, совсем не стесняясь, со странным и пустым хозяйским чувством, но ее неумелые пальцы по робости ли, по лености были как мертвые. Трепет не вернулся. Он выпустил руку и лишь усмехнулся злорадно, заметив, что рука не ушла — осталась, неудобно свисая с подлокотника, готовая нырнуть в ладонь Вербицкого, если Вербицкий снова захочет подержаться. С какой-то жалостью, но наспех проводив прежнюю сильфиду, он поволокся туда. На звонки не ответили, но теплилось окно, из форточки доносилась медоточивая музыка — Вербицкий, разодрав пальцы о железо, по водосточной трубе вскарабкался и, едва не разревевшись, закусив губу, завис напротив щели в занавесках, и висел, пока там не завершилось…
А потом холодно и свысока любовался пунцовым Андрюшкиным лицом, небрежно объяснял про эрогенные зоны, про безопасные дни, и с чьих-то слов доказывал, что поначалу отвращение для мужчины естественно и физиологично…
Хмырь глядел оценивающе. Стараясь двигаться некрасиво, Ася залила салат сметаной. Посолила. Быть привлекательной для хмыря — Симагина предавать. А он? Она опять вспомнила, и опять на миг стало темно. Наставить ему рога, остервенело подумала она. Пока он в игрушки играет. Она представила себя в ресторане. Дорогой коньяк под носом. Сигаретка. Нога на ногу. Темное облегающее платье, в разрезе недоступно мерцает бедро. На эстраде полупьяные сморчки с голубыми лицами. Виляют сверкающими робами и узкими грифами электрогитар. Неразборчиво орут в усилители. То про честный труд, то про первую любовь. Иногда про демократизацию. Ослепительные улыбки, ударяющиеся друг о друга, как бильярдные шары. Случайные касания. Кафка — Виан — жизнь тяжела — я провожу — не хотите ли подняться, выпить чаю. Неожиданно Асе стало смешно. Фу, гадость какая, искренне подумала она. Симагин. Ну когда же ты придешь. Надо как-нибудь поносить платье с разрезом.
— Андрей всегда так задерживается? — спросил Вербицкий.
— Очень часто, — ответила женщина, не оборачиваясь. Ну, разумеется, Симагин нравится шефу: приходит раньше всех, уходит позже всех, с восторгом делает черновую работу — это ж не голова золотая, ребята, это, простите, золотое седалище; и всегда Симагин был таким, и всегда, видно, будет, бедняга. Тут он заметил сборник со своей повестью.
Он сразу напрягся. Интересно, кто читал, подумал он и нервно спросил шутливым тоном:
— Чья это настольная книга?
Женщина обернулась, и Вербицкому показалось, что углы рта ее презрительно дрогнули.
— Ничья, — ответила она. — Андрей взял почитать, да так получилось, что я успела, а сам он не успел. Но рвется. Он все-таки помнит, что дружил с автором.
— Вот как, — произнес Вербицкий. — Ну, и каково мнение?
Она помедлила и призналась:
— Не очень.
— Вот как, — повторил он и облизнул пересохшие губы. Он знал, что его проза не приводит в восторг тупарей, но от неожиданности растерялся все же, потому что ведь Симагину должно было нравиться!
— Ну, там есть, конечно, эпизоды, которые дописывались с целью… как это было в редзаключении… прояснить позицию автора. Вы же понимаете, иначе повесть вообще не вышла бы.
— Ну и не надо, — просто ответила женщина. Он вздрогнул, как от пощечины. Пол мещанского гнездышка зыбко поехал под ногами. Эта женщина — не простодушная маленькая дурочка, она злобная дура; а ты беззащитен, потому что полагаешь собеседника не глупее и не хуже себя. Сколько раз повторять, заорал себе Вербицкий, думай о них хуже! Еще хуже! Совсем плохо — как они о тебе! Он перевел дыхание.
— Это весьма субъективно.
— Хорошо, — женщина опять нервно заглянула в окно, а потом решительно шагнула к плите и выключила газ под бубнящей кастрюлей. — Тут я не судья. В чем ведущий лирический конфликт? Он и она. У него опасное дело. Он обдумывает, как лучше сделать. Она в угаре бабьей жертвенности бросается и делает его дело благодаря, как затем выясняется, редчайшему стечению обстоятельств, на которое он рассчитывать не мог. Он унижен. Он считает, что все сочтут его трусом, и она — в первую очередь. Разрыв. Занавес. Ваш герой ведет себя, как торгаш. Честный торгаш, я согласна — но трусливый и мелкий. Ему выдали аванс, а он не уверен, сможет ли погасить долг эквивалентным изъявлением чуйств. И позорно драпает, прикрывая высокими словами свою ущербность — чтобы не платить по счету. Любящую подругу он воспринимает как кредитора. Ведь жуть!
От этой уродливой бабы, одетой, как пугало, веяло холодной жестокой силой — над Вербицким будто нависла гусеница танка.
— Это все очень спорно, — беспомощно пролепетал он.
— Это спорно только для тех, — ответила она, — кто никогда не любил. И не был любим. Женщина всегда вкладывает больше в мужчину. А мужчина — в мир. И уж через это — и в женщину, и в ее детей. Чтобы не просто им было лучше, а мир их стал лучше.
Кто не был любим. Она все знает? Иметь хотели, да. Но не любил никто. Вторая пощечина была зверской. Так нельзя! Эта женщина слишком жестока. Если понимаешь все, нельзя быть столь жестокой, мудрость добра! Что же это? Она — жена Андрюшки, который всегда смотрел на меня снизу? Да нет, она не любит его этого муравья, вечного мальчика, нет, она говорит о том, от кого сын — только о нем! Конечно, ей нужен был отдых, тихая заводь на пару лет, и она нашла эту заводь, женив на себе Андрюшку, а теперь честно выполняет взятые обязанности, сама прекрасно понимая, что это — ненадолго…
Резко говорю. Может, ошибаюсь? Помрачнел. А зачем пришел? Опять накатило гнойное ощущение его взгляда. Нет, не ошибаюсь. Но он Симагинский друг ведь.
— Я, наверное, резко говорю, — произнесла Ася. — Но, наверное, знаете почему? Обидно. У Андрея остались многие ваши школьные рукописи, я их читала, простите. Они очень честные, понимаете? Очень чистые. Я говорила Андрею — такое понимание, такая боль за людей, даже странно для мальчика. А тут этакое…
Она, видно, думала, что его успокоила — она его добила. Вербицкий сидел неподвижно, с приклеенной снисходительной улыбкой, ему было страшно, потому что женщина снова оказалась права — как всегда правы враги, как всегда правы накатывающиеся гусеницы танка, и он уже ненавидел ее. Она упивалась его беззащитностью и, сладострастно пользуясь тем, что он рискнул обнажить душу в мире панцырных существ, изощренно точно расстреливала эту душу, хохоча. Понятно, что первый ее сбежал, только беспомощный Андрей, которому не с чем сравнивать, способен выносить такое в собственном доме, да и то — не случайно же он чуть ли не живет в институте; а ведь еще ребенок, который наверняка умен и беспощаден, матери под стать. Ее бесит обреченность жить с постылым ничтожеством, выполнять хотя бы минимальные обязанности перед тем, кто ее приютил. Бедный Андрей! Теперь я просто обязан его дождаться, обязан помочь ему — он должен порвать с нею, еще до того, как она бросит его, ведь она его растопчет. Нет, она не права, эта женщина — как все враги.
Ну вот. Обиделся. Ася не любила обижать. Теперь стало казаться, она и впрямь наговорила лишнего. Не такая плохая повесть, публикуют и хуже. Она смутилась. Как улыбается-то жалко, подумала она с раскаянием.
— Ну, не дуйтесь, пожалуйста, — сказала она. — Вы ярко пишете, только где-то потеряли ощущение настоящего… по-моему. Стали реконструировать от ума и перемудрили, что ли…
— Вы судите чисто по-женски, Ася, — ответил Вербицкий с достоинством и дружелюбно. Ася облегченно вздохнула. Нет, не обиделся. Просто удивился, наверное. Я хороша, конечно. Будто с цепи сорвалась. Повеселевшим голосом она ответила:
— Так я вообще-то женщина и есть.
Вербицкий заметил ее смущение и усмехнулся про себя: видимо, она поняла, что он ее раскусил, почувствовала, что он сильнее — и потерялась. Он молчал и снисходительно улыбался, глядя прямо ей в лицо, и заметно было, как она смущается все больше и больше; он уже знал, она сейчас опустит глаза и постарается любой ценой перевести разговор на другую тему, потому что не победила.
О чем он думает? Расселся и думает. А я развлекай. Да еще психанула, как на грех. Психанешь тут! Полдесятого, Антон мокрый где-то шастает, а затемпературит — кому с ним сидеть? Не скажу сегодня. Она опять вспомнила — томительный горячий шар возник и мягко взорвался в животе, разлив по телу солнечное тепло. Ася прикрыла глаза, потаенно вслушиваясь в себя.
Ну, вот, удовлетворенно подумал Вербицкий и, расслабляясь, откинулся на спинку стула. Сдалась.
— У вас есть дети? — спросила Ася.
И тему сменила — да как неловко! При чем тут дети?
— Нет, — благодушно ответил он и процитировал, подняв палец: — «Ибо дом мой, возникший отчасти против моей воли, уже тогда распался, и, не расторгая брака, который длился два года, я вернулся к естественному для меня одинокому состоянию».
Ася вскинула на него испытующий взгляд и прищурилась на миг, как бы что-то припоминая.
— Переписка Цветаевой? Люблю Цветаеву до дрожи, но… письма читать было тяжело.
— Почему? — поднял брови Вербицкий.
— «Первая собака, которую ты погладишь, прочитав это письмо, буду я. Обрати внимание на ее глаза», — произнесла Ася, чуть завывая. — Н-не знаю. Полтора пуда слов про любовь, самых изысканных, какие только может придумать крупнейшая поэтесса — и не понять, что Рильке умирает. Старикан ей: я, мол, при смерти, а она долдонит: будет все, как ты захочешь, мой единственный, но не станем спешить со встречей, отвечай только «да»…
— У вас прекрасная память, — барски польстил ей Вербицкий.
— А узнав о смерти единственного, пишет шестое, посмертное письмо — исключительно чтобы цикл закончить — и отправляет Пастернаку, которого только что послала подальше… Живой человек — лишь повод для литературы. Бр-р! Знать этого не желаю!
— Но это действительно так, Асенька! Глупо прятать голову под крылышко. Да, закон страшный и болезненный, но непреложный. Он и дает таланту его привилегию — быть жестоким по праву.
— Не знаю. Мне кажется, привилегия таланта — это возможность работать с наслаждением. Думаю, вы даже не представляете, какая это бесценная привилегия. Вот сидеть в канцелярии…
— Вы, как я погляжу, много общались с талантами, раз все так доподлинно выяснили, — сарказм был столь тонок, что женщина, как сразу почувствовал Вербицкий, его даже не заметила.
— Это у меня врожденное знание, — Ася улыбнулась, отвечая шуткой на шутку. Кажется, замирились, думала она. И радовалась.
— Человек, который творит, — заглублен в себя. Он слушает себя постоянно, он живет в себе, а внешнее оценивает лишь по тому, как оно влияет на созидательный процесс внутри.
Ася снова опустила глаза. Созидательный процесс внутри, подумала она. Что мужчины могут знать об этом?
— Талант не просит привилегий. Необходимо и естественно он порождает крайний индивидуализм, и навеки свят тот человек из внешнего мира, который поймет это и примет. Это нужно либо боготворить, либо уходить в сторону, навеки отказав себе в счастье быть сопричастным…
Она не выдержала.
— Вероятно, вы больше интересуетесь привилегиями таланта, чем им самим.
Третья пощечина была нокаутом. Эта женщина… Ее следовало убить.
— По-своему вы правы… — услышал он свой далекий, глухой голос и понял, что сдался. Она нашла его болевую точку и, как Вайсброд вчера, как все враги всегда, била, не подозревая даже, каково это — изо дня в день целовать жирную похотливую мякоть хозяйски глумящегося мягкого знака.
В дверь позвонили.
Асю словно швырнуло с места. Словно смело. На один миг Вербицкий увидел летящее мимо озаренное лицо. Сияние чужой радости прокатилось, опалило и ускользнуло — а в коридоре знакомый, забытый, совершенно не изменившийся голос уже бубнил елейно: «Асенька, я задержался, ты уж пожалуйста… А смотри, какие гвоздички, это тебе…» Вербицкий перевел дух. Этот дурацкий голос помог ему очнуться, он снова расслабился, и лишь где-то в самой сердцевине души тоненько саднило — постепенно затухая, как затухает дрожание отозвавшейся на крик струны.
— Совесть есть? — резко выговаривала Ася. — Я пятнадцать раз разогреваю ужин, ведь сам же будешь ломаться, что невкусно! Конечно, невкусно! Сейчас же снимай пиджак, я сушиться повешу! Куда ты Тошку дел? Он же мокрехонек!
— У Вовки, — вставлял Симагин. — Звездный атлас побежал смотреть. Виктория обещала обоих высушить… Дождик-то теплый, Асенька, от него растут только, а не болеют… Когда же это я ломался, что невкусно, Ась?
— Ах, Виктория?!
Голоса удалились, и Вербицкий усмехнулся облегченно, сразу поняв, что Симагин-то не изменился, остался телком телок, и ни о какой золотой голове речи быть не может. Торговка, заключил он. Они кого угодно переговорят и переорут. Забавно, этакий вот крик, по ее разумению, выражает заботу и ласку; а Симагин, разумеется, благодарен: ругает — значит, любит. Да, улыбочки лучезарные — это на зрителя, разумеется; ох, тоска, с удовольствием подумал Вербицкий, но вдруг словно вновь ощутил щекой горячее дуновение проносящегося рядом солнечного сгустка — и вновь зазвенела проклятая струна. Вербицкий досадливо замотал головой. По скандалам соскучился. Да что я, картошки себе не изжарю?
В ванной грохнуло, и голос Андрюшки возопил: «И ты молчишь?» И вот уже, всклокоченный, в трениках и выцветшей клетчатой рубахе навыпуск, с разинутыми глазами и распахнутыми руками, в дверях воздвигся «золотая голова» Андрей Симагин.
Вербицкий с натугой улыбнулся и встал, пытаясь выглядеть обрадованным — ему сделалось скучно, как сразу делалось всегда, когда он не испытывал эмоций собеседника и вынужден был по каким-либо причинам притворяться ему в унисон; он тряс симагинские руки, хлопал его по плечам в ответ на его хлопанье, и тот нелепо приплясывал на радостях и хихикал, удивлялся, спрашивал. Совершенно не изменился, думал Вербицкий. И в каком виде встречает меня, меня, мы же друзья и двенадцать лет не виделись — да, это уже не благодушие, не инфантильность даже, это неуважение! Как можно не меняться столько лет? Жизнь спокойная; живет себе, и все. Работа, дом, цветов приличных купить не мог. А может, все не так просто, может, он знает свое унижение; может быть, купить вот такой вызывающе облезлый букет — единственная форма сопротивления, которую он еще позволяет себе в собственном доме? Рад мне. Будто я Нобелевку ему принес.
Вот так сюрприз, слегка обалдев от радости, думал Симагин и оглядывался на Асю, ему хотелось, чтобы она тоже порадовалась Но она все еще дулась. Надо же так опоздать именно сегодня, черт… А Валерка совершенно не изменился. Породистый, сдержанный, только усталый. Валерка, собака, где ж тебя носило все это время! Как всегда, прикидывается надменным, знаем мы эти штучки! Одет-то как, паршивец, и лосьоном ненашенским воняет. Зонтик притащил — Аська теперь долго будет ставить мне в пример. Симагин задыхался от счастливого смеха.
Вот его и отняли у меня. Просто. Быстро. Ася стояла, стиснув влажные цветы. Антон в доме, не на улице. Хорошо. Почему я начала браниться? Ведь обнять же хотела! Он так улыбался! И теперь улыбается. Но не мне. Все из-за хмыря. Притворяется обрадованным. Плохо притворяется, лениво. Скользкий, слизистый. Чувство тревоги и близкой опасности нарастало. Я ревную. Ревную, да? Да. К той женщине не ревновала, только грусть и боль за всех. Потому что та Симагина любит. А этот не чувствует ничего. Настолько не чувствует, что даже притворяться не может. Не представляет этих чувств. А Симагин — не видит. Я боюсь. Ревность — это страх?
— Идемте ужинать, — сказала она громко и ровно.
— Да, пошли полопаем. Я, знаешь, есть хочу, обедал в три и с тех пор ни маковки во рту.
— Право? Ну, если хозяйка столь любезна и угостит меня тоже, я с удовольствием подключусь. Только, Андрей, я чертовски хочу курить.
— Конечно! Асенька, ты дай нам что-нибудь под пепельницу. Наконец к тебе собрат пришел, да? Знаешь, Валер, она тут тишком дымит иногда…
Привели мальчика и, как и ожидал Вербицкий, принудили знакомиться с папиным старым другом дядей Валерием. Мальчик немедленно поведал дяде Валерию, что паника, которую мама устроила из-за дождя, — с переобуванием в шерстяные носки и чаем с медом, — совершенно никчемушная. Он говорил это, прихлебывая чай. Вербицкий взялся было посюсюкать в ответ, но понял, что фальшивит, и умолк, благодушно улыбаясь. Мальчик выглядел взрослее отчима — он смотрел серьезно, выжидательно. Мать его быстро уволокла: «Здесь накурено».
Потом они ели и пили. Вербицкий курил, царил. Язвил. Ему было даже хорошо. Посижу немного и пойду, думал он. Симагин тормошил его: а помнишь? а помнишь? Вербицкий, кривясь, поддакивал; он не любил прошлого себя, вспоминать всегда оказывалось либо больно — несбывшиеся надежды, либо унизительно — как с Катей. Не хотелось начинать то, из-за чего он пришел, — бессмысленно было начинать, но Вербицкий знал, что потом месяцами будет глодать себя, что память обогатится еще одним нескончаемо унизительным воспоминанием поражения, капитуляции, если сейчас он даже не попробует подступиться к цели, которая теперь ощущалась как отжившая свое игрушка. Ну, подожду еще, думал он, и одновременно думал: даже не выходит к нам, увела ребенка и исчезла. И опять летела мимо, мимо горячая лучезарная комета, опять звенела вспугнутая струна…
Стемнело. Блекло-синее, похожее на хищную актинию пламя под чайником бросала на стены призрачный, чуть дрожащий свет.
— Злой, желчный, — говорил Симагин, — слушать противно.
— Писатель не может не быть желчным, — говорил Вербицкий. — Не равняй желчность и злобу, это удел глупцов, Андрей. Самые добрые люди становятся со временем самыми желчными.
— Да, — задумчиво ответил Симагин. — Помню, меня потрясла фраза — знаешь, у Шварца в «Драконе»: три раза я был ранен смертельно, и как раз теми, кого насильно спасал… Только, Валер, ты говори потише, пожалуйста. Антошка так чутко спит — как будто в меня, прямо странно…
Блаженный, думал Вербицкий о Симагине, — и это мой противник, ух, какой страшный… уж лучше бы с Широм драться, право слово, из того хоть злоба брызжет — а когда имеешь дело с ничтожеством, все как кулаком в подушку.
Ему, наверное, тяжело живется, думал Симагин о Вербицком. Умницам тяжело живется. Ну, пусть отдохнет сегодня, выговорится… Сейчас чаек заварим покрепче — вот же как вовремя заказы дали — индийский, со слоном. Что я еще могу? Аська так и не показывается. Обидно — она здорово умеет снять боль.
— Не разбужу, не разбужу. Доброта — это ответственность. Когда нет ответственности — легко быть добрым, кормя голубков хлебушком. Захотел — покормил, надоело — бросил. Доброта — это поиски выхода, это нескончаемое чередование ситуаций, в которых долг и ответственность борются со слабостью, эгоизмом, неумением! Когда каждый выбор производится не инстинктивно, а после миллиона самооправданий и самобичеваний! Когда любой поступок, в том числе и самый распредобрый, совершается осознанно, после отбора вариантов. Иначе основа его — не человечность, а трусость, глупость, этому добрячку просто в голову не приходит иное — так он забит и задавлен. Он внутренне несвободен, он запрограммирован, он не человек, по сути дела!
Симагин смотрел на Вербицкого грустно и понимающе, а у того голос срывался от неподдельного волнения:
— Понимаешь? В голову не приходит!
Симагин молча поднялся и стал заботливо заваривать чай.
— А это мне преподносят как доброту. Да я чихать хотел на доброту, которая не закалена ежесекундной борьбой с дьяволом, которая ничего не знает, кроме себя, не побеждает тьму снова и снова… Помнишь, в «Очарованной душе» цитируется притча: бодхисаттва спросил ученика: а лгать ты умеешь? Нет, ответил ученик, я не способен лгать! Иди и научись, сказал бодхисаттва, потому что всякое неумение есть не добродетель, а бессилие…
— Да, — сказал Симагин, когда Вербицкий умолк, — ты прав, конечно. Но как-то странно не на том делаешь упор…
— Нет, ты молчи пока. Я тебе слова не давал.
Симагин улыбнулся и заслонился, как бы показывая: ладно, устраняюсь.
— Существует три уровня реакции на окружающий мир. Первый наиболее простой. То, что в просторечии зовется добротою, а на деле является конформистской ленью. Вот как ты. Я пришел в твой дом, сожрал твой ужин, а когда тебе нахамил, ты уступил мгновенно и без борьбы. И еще подумал: ах, какой я добрый, уступил другу, пусть болтает…
— Чем это ты мне нахамил?
— Тебе даже в голову не пришло — именно! — стукнуть кулаком и сказать: я буду говорить, а иначе брысь пошел из моего дома!
— Валерка, да побойся бога…
— Второй уровень более высокий. Стремление сопротивляться и преобразовывать. Это прогресс. Но выглядит регрессом, ибо по недостатку умения активность такого человека болезненна для окружающих, она разрушает больше, чем создает. Этих людей твои добрячки ненавидят. Только на третьем уровне, до которого поднимаются лишь титаны, происходит синтез. Активность и умение применить ее, не калеча. Доброта действия, доброта вмешательства. А эти твои добренькие… На них и опирается тьма. На таких, как ты! Не ведающие, что творят. Их нельзя переубедить. Доводы разума на них не действуют за отсутствием у них разума, а чувства в порядке: мы же добренькие, значит, все хорошо, жизнь прекрасна… Их нужно брать за шиворот, вот так, — Вербицкий стал показывать, — и бить. По морде! По морде!
— Погоди, о чем ты?
— О чем?! Да все о биоспектралистике твоей! Думаешь, я не знаю, что это за отрава?
— Бога ради, Валер, не кричи… Тошка…
— Да не кричу я!
Он кричал, конечно. Ася сквозь двери слышала каждое слово. Ее била дрожь от ненависти и тоски. Симагин, звала она. Ну Симагин! Зачем же ты это слушаешь. Книга лежала у нее на коленях. Но она не могла читать. Могла лишь звать. И надеяться, что в комнате Антона все же не так шумно.
— Да нет, — говорил Симагин, почти наугад разливая по чашкам чай, черный в темноте, будто нефть. — Ты на бегу просто не так понял Эммануила Борисовича, — поставил чайник на подставку, уселся на свое место напротив Вербицкого, подпер голову кулаками. — Варенье, мед… не стесняйся.
— Не буду.
— Вот… Конечно, бывает тревожно. Когда получаешь в руки принципиально новое средство воздействия на мир, прикидываешь, разумеется: а вдруг из этого выскочит новое оружие? Я об этом много думал, Валера, потому что очень этого не хочу. Ну, казалось бы, чего проще — зарядил в мощный излучатель спектрограмму инфаркта и полоснул радиолучом. Хоп! На сколько глаз хватает — трупы, да? — он прищелкнул языком. — Нет, не получается.
— А тебе жалко? — язвительно спросил Вербицкий.
— Ты опупел совсем. Я рад-радешенек. Конечно, теоретически все возможно, но практически современный уровень знаний не позволяет предположить, что возможно военное применение теории подсадок. Большего и требовать нельзя — ведь терапевтическое применение уже реально достижимо! Уникальный случай! Созидательная функция более достижима, чем разрушительная.
— А почему не получается-то?
— Спектр инфаркта — а он один из самых коротких — пришлось бы крутить семнадцать минут. И все это время расстояние между излучателем и объектом должно быть одинаковым, причем — не более трех метров. Иначе сигнал зашумляется вне зависимости от мощности. Микроискажения. Но с другой стороны, ты подумай только, мы же посчитали: уже сейчас на один кубокилометр приповерхностного слоя атмосферы в среднем пятьдесят четыре раза в секунду спонтанно мелькает раковая подсадка. Через десять лет это число утроится. Это не атомные бомбы, разоружение тут не поможет. Мы не можем отказаться от электромагнитного аспекта цивилизации. Пятьдесят четыре раза в секунду — это немного, вероятность попадания в человека, который отреагировал бы патогенным образом, очень мала. Но она растет! И ведь это только рак — а сколько всего еще!
— Да, об этом Вайсброд рассказывал.
— Вот видишь. Нас ведь даже не засекретили. Хочешь, приходи завтра в лабораторию — я похлопочу с утра, спущу пропуск.
Теперь говорил Симагин. Тихо. Ася слышала только голос, не разбирала слов. Но ясно: о спектрах. Это надолго. Мертвой рукой она отложила книгу и стала стелить. Странно, что Вербицкий слушает. Он ведь говорить пришел. Надо уснуть. Обязательно надо. Он войдет — а я устала. Сплю, и все. Я правда устала. А неделя только начинается. И ведь вчера еще смотрела на свет под дверью и ждала — вот так, лежа… Ничего не жду. Пусть делает, что хочет. Пусть унижается.
— Векторные эмоции — это очень интересная штука, — рассказывал Симагин. — Мы обратили внимание, что на спектрограммах высших эмоций есть пики одинаковой конфигурации, но разных интенсивностей и у разных людей противоположные по знаку. Дело в том, что разум и сознание со всеми их сложностями изначально все-таки рабочий орган. Но, с другой стороны, сознание — субъективный образ объективного мира, помнишь?
— Да уж помню.
— Стремление вывести обратно в мир и овеществить свое представление о нем присуще всем — стоит только взглянуть на детей. Творчество — естественная форма работы развивающегося сознания. Другое дело, что области сознания, через которые наиболее успешно происходит выплеск, у каждого свои. У тебя словесность, у меня вот — биоспектралистика… Мы их называем конструктивными областями. У Аськи, наверное, любовь… Именно конструктивная область связывает личность с миром, через нее срабатывают обратные связи. Но… Я не очень занудно говорю, ты не устал?
— Пока нет, — сквозь зубы ответил Вербицкий, — но скоро.
— Вот. Если, однако, каждое движение, например, руки доставляет боль, в подсознании быстро возникает устойчивый блок: не шевели рукой, нельзя… То же и здесь. Бывает, что внешние факторы долго блокируют творческий выход. Чаще всего он запрессовывается неверным воспитанием, конечно. Не дают творить, хоть тресни! Мы называем это синдромом длительного унижения — СДУ. Тогда, стараясь приспособиться к миру, сознание отторгает конструктивную область. Вокруг нее воздвигается кордон стереотипов мышления и поведения, который подсознание, стремясь уберечься, создает, чтобы убедить сознание в ненужности творческого взаимодействия с миром. Обычно кордон основан на неадекватном занижении собственной значимости: ничего не могу, плетью обуха не перешибешь, оставьте меня в покое. Или, наоборот, завышении: я гений, все канальи, никто мне не судья. Но задача одна и та же, единственная: разорвать обратные связи. Потому что из мира по ним постоянно течет невыносимая боль. А отталкивая конструктивную область, сознание отталкивает мир в целом. Это понятно? Отношения сознания с конструктивной областью мы назвали векторными эмоциями, — Симагин все время деликатно говорил «мы», имея в виду лабораторию, ибо с его легкой руки эти термины действительно прижились, хотя высшими эмоциями он занимался лишь от случая к случаю, вне плана. — Хочу — не хочу, приемлю — не приемлю, интересно — не интересно. Пока есть обратные связи и сознание развивается, доминируют эмоции типа «верю», «интересно», «люблю», которые отражают стремление сознания к расширению деятельности. Когда конструктивная область отторгается, развитие прекращается и личность разом теряет двуединую способность усваивать новое из мира и привносить новое в мир. Остается лишь более или менее беззастенчивое употребление мира. Использование того, что уже в нем есть. Доминировать начинает «не верю», «не люблю»… Интенсивность эмоций субъекта Икс по поводу объекта Игрек — а объект здесь все что угодно: государство, книга, работа, женщина, сын — можно грубо представить в виде отношения изменений, вызываемых в «Я» субъекта объектом, к изменениям «Я» Икса в целом, — Симагин огляделся и, зацепив с подоконника салфетку, торопливо написал на ней карандашом:
L x(y) = Δ Я x(y) / Δ Я x
— Видишь? Здесь числитель всегда меньше абсолютной величины знаменателя, но ни в коем случае не отрицательное число. Во-вторых, знак знаменателя — а знаменатель отрицателен при регрессе сознания — определяет знак всей дроби. И, в-третьих, если знаменатель стремится к нулю, то, каким бы мощным ни было воздействие Игрека, оно не вызовет интенсивной реакции… — Симагин осекся и смущенно махнул рукой. — Черт, я тебя совсем заболтал. В общем, что я хочу сказать-то? Что контакт, например, личностей с разнонаправленными векторами невозможен. Тот, кто развивается, увидит, скажем, в бестактной назойливости — преданность, в злой издевке — дружескую шутку… потому что все накладывается на собственные фоновые процессы, на знаменатель. А тот, чье конструктивное взаимодействие с миром прервано, наоборот, увидит в преданности — назойливость, в шутке — издевку… Именно тут и расцветают всякие комплексы и мании. Если бы научиться раскрывать кордон и вновь менять знак векторов! — Симагин мечтательно уставился во мрак мимо окаменевшего в снисходительной усмешке лица Вербицкого. — Ведь ты подумай, как обидно: чем выше потенциал сознания, тем отторжение вероятней…
Больно, думал Вербицкий. Больно, больно, больно… Сволочи, они и сюда уже добрались со своими формулами. И это омерзительное, привычно-высокомерное ученое «мы». Мы, Симагин, царь всея Руси… Все, пора атаковать.
— И это не кажется тебе подлостью?
— Что? — опешил Симагин.
— Разработка методов механизированного манипулирования психикой… Ч-черт, — сказал Вербицкий, тронув опустевшую пачку сигарет. — Курево кончилось.
Симагин виновато развел руками, а потом с осененным видом вскочил.
— Аська где-то прячет, наверное, — проговорил он и, заговорщически подмигнув, вылетел из кухни. А Вербицкий вдруг представил, как Симагин входит в комнату, а женщина эта — в постели. Ждет. Когда он придет. Когда я уйду, ждет.
— Ась, ты ведь никоциану прячешь где-то, а? — просительно сказал Симагин, войдя и прикрыв дверь. — Я отвернусь, а ты, пожалуйста, подари штучки три. У Валеры кончились.
Ася холодно глядела исподлобья.
— Вы шумите, — сказала она отчужденно. — Он скоро уйдет?
— Да тише, — испугался Симагин. — Там же слышно все.
— Антошке тоже все слышно.
Симагин смущенно помялся.
— Так дашь?
— Когда я чуть подымлю, ты вопишь полдня, что квартира провоняла и ты не ощущаешь себя дома. И я, как дура… А этот твой уже целую пачку…
— Ужас, — признался Симагин шепотом. — Как паровоз. Аж глаза слезятся…
Ася секунду смотрела на него, потом сказала:.
— Можешь не отворачиваться. Я больше не буду никогда.
Она откинула одеяло и тут же вновь резко набросила на себя.
— Нет, отвернись.
— Ася, да что с тобой?
— Отвернись, я сказала. И скорей, Вербицкий заскучает.
Симагин отвернулся. Он стоял лицом к двери и ничего не мог понять.
— Возьми, — раздался Асин голос. Она уже укуталась до шеи, будто мерзла, и на журнальном столике лежала полупустая, покомканная пачка.
Он подошел и сел на край постели. Ася отодвинулась.
— Асенька, — произнес он тихо. — Что-то случилось?
Она взялась за книгу, будто не видя и не слыша.
— Он чем-то тебя обидел, пока меня не было? Да? Нет?
— Симагин, — сказала Ася устало. — Ну кто он мне, чтобы мочь меня обидеть? Это можешь только ты.
— Я? Асенька, ну это правда, совершенно случайно я заработался, сегодня же у нас впервые…
— Андрей! Ты ему рад-радешенек, а у него глаза мертвые, он подлец. Он смеется над тобой, презирает, он враг тебе и нам. Он через труп твой пойдет!
Симагин встал.
— Ася, — сказал он серьезно, — я не знаю, почему у тебя такое идиотское настроение, но либо объясни, либо держи его при себе. Я с ним десять лет не виделся, а ты все портишь! Стыдно! — он захлебнулся негодующе.
— Какой же ты дурак, — потрясенно ответила она, глядя ему в глаза.
Он вздрогнул.
— Мы поссоримся, — отчеканил он.
Он ушел. Она чуть не расплакалась. Он ушел. И в дверях взглянул на часы. Он даже не подозревал, что этим ее добил. Его «Полетик» давно стал символом. Она всегда ловила момент, когда Симагин, ложась, снимал часы. Это значило: сейчас. На миг она словно бы ощущала раздвигающее, пронзительное движение, с которым Симагин входил в нее, — и сердце валилось в звонкую глубину. Она уткнулась в подушку.
Вербицкий презрительно повертел пачку, выщелкнул сигаретку, закурил.
— Дамская травка…
— Что же ей, махру сандалить? — пробурчал Симагин. Вербицкий усмехнулся.
— За это время ты научился разговаривать, — похвалил он. — Поздравляю.
— Да-да, — ответил Симагин, думая о чем-то своем.
— Так вот. Подавление собственных мотиваций — преступно и подло. Ладно, пусть вы не способны создавать людей запрограммированных — хотя не факт, что не научитесь попозже. Но вы научитесь создавать людей одинаковых. Нормальных. А всякая гениальность — это отклонение, уродство. Вы сделаете всех жизнерадостными кретинами без малейшей ущербинки, без индивидуальности, без всякой способности к творчеству!
— Да я как раз хочу, чтобы не гибла возможность к творчеству!
— У кого? У согласных и веселых? Что они могут?
— Погоди. А обычное лечение нервных болезней ты принимаешь?
— Да. Здесь разница. Вы лишаете человека способности выбирать, бороться с собой, побеждать себя…
— Ну, знаешь, есть куда более интересные и нужные занятия, чем постоянная борьба с собой.
— Да-да. Маршировать во славу рейха, например. Электронный фашизм ты предлагаешь. Насилие над сознанием!
— Да ведь к хорошему же!..
— Кто скажет, что хорошо, а что нет? Местком? Партком?
— Да погоди, Валерка, очнись! При чем здесь местком? Если человека лечат, ле-чат, от болезни, если он мучиться перестает — хорошо это или нет?
— Смотря от чего он мучился! Не мучаются только идиоты. Вы лишите человека индивидуальности. Пусть уродливой, больной — но только такие и способны к творчеству!
— Как раз больной-то уже мало способен к творчеству! Он, знаешь, только болячки свои лелеять способен. А если этот твой сильно индивидуальный параноик башку кому-нибудь раскроит кирпичом — это не насилие? Кто ответит за преступление?
— Дело не в преступлении! Дело в том, что этот параноик, как ты говоришь, видит мир так, как, быть может, никто до него и никто после него! И этим он важнее, нужнее миллиона добреньких обывателей!
— И ты еще обвиняешь в фашизме меня?!
— Вы перестанете орать или нет?! — болезненно крикнула Ася из темноты коридора. — Как же можно?..
И исчезла, призрачно мелькнув светлыми крыльями халата. У нее, оказывается, роскошные ноги, смятенно осознал Вербицкий. С побитым видом Симагин встал.
— Сволочи мы… — прошептал он. — Слушай, Валер… малгаб проклятый… прости. Может, мы пойдем, а? Я провожу…
Вербицкий издевательски усмехнулся. Так издевательски, как только сумел — потому что опять звенела проклятая струна.
— Ну, проводи, — разрешил он.
Дождь перестал, но было промозгло, и темень стояла такая, что хоть глаз коли, в белые-то ночи; одно название от них осталось, небо чугунное, а тошнотворный, липкий воздух будто напустили из газовой плиты. Да, не забыть бы, завтра в институт идти, в симагинский институт, а ведь встречаться-то с Симагиным мне больше не хочется; вся жизнь — это далеко не то, что хочется, это всего лишь «надо», и вечно взбадриваешь себя тем, что в результате очередного «надо» может появиться нечто интересное, но интересного не появляется… будь проклято и бетонное «надо», и трухлявое «интересно», не могу больше, не могу, правда.
Дождь перестал, было темно, тепло и душисто, как в южном саду. Симагин с удовольствием вдыхал влажный стоячий воздух, напоенный запахами влажной июньской зелени. С Асей бы выйти погулять на сон грядущий… Ася. Ах, как неладно, и что это на нее нашло? А посидели здорово, как встарь, всласть — только объясняю я неумело. Надо было не горячиться, а сразу оговорить, что потенциал сознания — то есть несовпадение воспринимаемого мира и представления о мире — есть один из базисных параметров личности. Ноль — человеку, в общем-то, несвойственная, чисто животная адекватность, влитость в окружающее. Ни о каком творчестве тут и речи быть не может. Дальше область малых рассогласований, которое встречаются чаще всего, но не обеспечивают выраженного творческого выхода. Еще дальше — область рассогласований оптимальных. Человеку кажется, будто он мыслит и действует единственно возможным образом, а на деле чуть ли не каждым поступком и представлением нарушает стереотипы и создает новое, иногда нелепое, а иногда очень нужное миру. И область патогенных рассогласований. Они настолько велики, что не имеют с миром точек соприкосновения, отвергаются им. Вот тут-то отторжения конструктивных областей неизбежны. Проблема в том, что с ростом экономического перенапряжения и политической централизации нарастает жесткая организованность, регламентированность поведения, а это сдвигает группу патогенных рассогласований все ниже, заставляя ее откусывать от группы рассогласований оптимальных самые лакомые куски. И противопоставить этому жуткому процессу, кроме ахов и охов, пока нечего… Надо было сказать. В следующий раз обязательно скажу. Валерке должно понравиться, раз уж он так за шизиков горой. Сейчас, пожалуй, уже не стоит все сначала — он устал чего-то, вон лицо какое больное…
Они разошлись у остановки — автобус подъезжать не торопился, и Вербицкий милостиво отпустил Симагина домой. Тот почти побежал и сразу пропал в парной мгле между домами. Вербицкий смотрел вслед и думал: к ней, к ней… Обида жгла.
Он круто развернулся и подошел к будке телефона. Этого еще не хватало, с бешенством думал он, шевеля губами и припоминая номер. Никакой хандры, на это у меня ни сил, ни времени. Клин — клином.
— Аля? — спросил он ласково и задушевно, когда певучий женский голос откликнулся на том конце. — Ты меня еще ждешь?
— Я всегда тебя жду! — страстно выкрикнула она.
— Правда? — он вдруг даже растрогался.
— Конечно, — ответила она обычным голосом. — Черт возьми, кто это?
Ты совсем захирел, произнесла она, когда он, весь в мыле, откатился на другую сторону широченной тахты. Потом неспешно, будто была одна, закурила. Он вырвал у нее сигарету, жадно затянулся несколько раз и отдал брезгливо. Тебе всегда мало, хрипло сказал он. Она усмехнулась и для верности спросила: могу считать себя свободной, полковник? Он не ответил, скривился издевательски — так издевательски, как только сумел — и она ушла в душ. А он закинул руки за голову и стал смотреть в высокий, с лепным бордюром и лепной розеткой, потолок. Переносье горело от подступивших слез.
Когда она вернулась, Вербицкий спал. Он утробно, глухо всхрапывал, его веки влажно и как-то гнилостно отблескивали в сочащемся из далекого коридора свете хрустальных бра. Ироничная маска расклеилась на его лице — лицо обвисло и стало тестообразным. Быстро он стареет, подумала Аля, стоя над ним и щурясь. Вербицкий вдруг застонал во сне — тоненько-тоненько, как ребенок, которому приснился Бармалей. Ее передернуло. Бродя по громадной квартире, среди смутно мерцающих глыб помпезной сертификатной мебели, она еще долго курила. Чувство, будто в нее выплеснули целое ведро гниющих нечистот, не удавалось снять — ни душем, ни сигаретами. Хотелось разодрать себя и тщательно прополоскать изнутри. Больше я так не могу, думала она. Нет, нет, нет. Вайсброд. Или как там тебя, не помню, кажется, Андрей. Сделайте что-нибудь, пожалуйста. Сделайте чудо. Ведь нельзя, чтобы это продолжалось — до старости, до смерти, всегда, ничего иного; нельзя, я же ни в чем не виновата, я не могу так больше. Она натянула пижаму на отвратительное безупречное тело, зажгла везде свет и, заглядывая в бумажку, где по пунктам было аккуратно зафиксировано, что просил по телефону муж, собрала сумку на завтра — завтра в госпитале был впускной день. Спать она пошла в комнату дочери.
Задыхаясь от бега, Симагин влетел домой. Свет не горел нигде. Чувствовалось, Ася проветривала, но дымом провоняло все — занавески, одежда… На столе в кухне стояла ваза с аккуратно усаженными в нее гвоздиками, и сердце Симагина подпрыгнуло: помирились! Он босиком пошлепал в комнату, на цыпочках приоткрыл дверь к Антошке. Антошка едва слышно, равномерно сопел. Спит.
Ася спала тоже.
Затаив дыхание от осторожности, он заполз под одеяло. Кажется, не разбудил.
Она была рядом. Даже не прикасаясь, он ощущал, какая теплая и нежная она, та, что рядом. Он долго смотрел ей в затылок, разбросавший по белеющей во мраке подушке непроницаемо черные вихри. Разбудить? Просто сказать, что вернулся, и все. Будто не ссорились. Или она еще сердится, и рассердится, что я не даю ей отдыхать?
Она слышала каждое движение. Как раздевается. Как ходит, заглядывает к сыну. Как дышит — стараясь не дышать. Потом диван оглушительно заскрипел и ощутимо прогнулся под осторожной тяжестью его тела. Ася нелепо позавидовала дивану. Прильнуть хотелось так, что внутри будто бы обозначилась и набухла судорожно скрученная, готовая лопнуть пружина. Она была накалена, наверное, докрасна. Затылком Ася чувствовала его взгляд. Но я же сплю. Сплю и все.
Или повернуться и обнять, будто ничего не произошло?
А он объяснит снова, какой Вербицкий замечательный и какая я эгоистка…
Так они уснули.
2
Ощущение бессмысленности только усилилось после визита в симагинский институт, и совершенно унизительной стала память о вчерашнем припадке альтруизма, о приподнятом чувстве, с каким он шествовал к Симагину в его вылизанный трехклеточный скворечник — чувстве, близком к светлой гордости; боже, какие глупости может подчас вбить себе в голову взрослый, трезвый, умный человек, какие нелепицы. Он снова подбросил на ладони кассету. И была-то она не больше кассеты от фотоаппарата, хотя весила словно отлитая из свинца. Ему снова захотелось швырнуть ее в стену — обшарпанная кирпичная стена тянулась слева, уходя в смрадную хмарь. Мышцы напряглись, в них возникло горькое, исступленное ожидание — когда же мозг, наконец, даст желанный приказ; но мозг, стыдясь истерики мышц, не давал приказа. «Вот и вся твоя любовь, — уже откровенно издеваясь, пояснил Симагин. — Только не говори никому, что я позволил вынести спектрограмму». Он же буквально навязал мне кассету, ему же приспичило добить меня, дотоптать, сначала превратить в подопытного кролика, а затем сделать так, чтобы свидетельство этой роли потянулось за мною через всю жизнь резиновой клейкой цепью. Он мстит мне, мстит за детство, за те благословенные светлые времена, когда в рот мне смотрел, слушал, как оракула; верхом на своем чудовищном механизме, вооруженный киловаттами, байтами, блинкетами, берет реванш у меня, у которого — ничего, кроме израненного сердца и белой, белой бумаги. Два часа в электродах! И Вербицкий повиновался, сам не понимая, отчего он, такой гордый обычно, позволяет бывшему другу и нынешнему врагу унижать себя; все в нем бунтовало, сопротивлялось, требовало ударить наотмашь и исчезнуть с торжествующим медным криком — но он был словно под гипнозом, подчинялся и даже подшучивал в тон кретинически улыбающемуся садисту. «Аппараты для облучения практически уже есть. Применяются они совсем не в медицине, но мы хорошенько подумали, и пишем теперь на унифицированные кассеты. Представляешь — за полгода, с минимальными затратами, можно оборудовать все поликлиники. А вот сам спектрограф стоит не меньше авианосца…» Симагин стал прокручивать спектрограмму — на экране потянулись бесконечные, однообразные кривые. «Думаешь, я знаю, что это за пик? — кричал он, размахивая руками и тыча в экран. — А вот эта серия всплесков? Где-то здесь чувство прекрасного… Но где? Что именно? Как прочесть?» Вербицкого затошнило, когда он покосился на свое чувство прекрасного. Молодой хлыщеватый парень, прислушиваясь, прогуливался рядом. «Вадик, — спросил Симагин, — вам нечем заняться?» И небрежно, выламываясь в роли большого начальника, дал ему какое-то поручение. Зато подклеилась совсем уже юная девчонка, гроза младших научных — губки бантиком, грудки торчком — уставилась на Симагина огромными пустыми глазами, спросила, не хотят ли тут кофе, потом стала встревать в рассказ, подчеркивая личный Симагина вклад; Симагин картинно смущался, махал на хитрую девчонку руками, но было очевидно, что каждое ее слово он принимает всерьез и что грубая эта лесть доставляет ему, как всякому ничтожеству на коне, неподдельное удовольствие. Было очевидно, что сексапилочка из кожи лезет вон, чтобы понравиться Симагину, — это было уже какое-то извращение, и не сразу Вербицкий сообразил, что она просто подлещивается к тому, кто на данный момент в лаборатории главнее всех, а сообразив, даже посочувствовал ей — насчет Симагина это гиблое дело. «Возьми тот же рак, — бубнил Симагин, даже не замечая ее отчаянных потуг. — Дай мне незнакомую регистрограмму, и я сразу скажу, есть рак или нет. Но я не смогу определить, рак желудка это или, скажем, рак матки!» Девчонка отчаянно покраснела, но Симагин видел лишь бегущие кривые. «Разве меня можно подпускать к живым людям? — хныкал он. — Надо каждый пичок отождествить, каждую морщинку. Это ж такая механика, Валера. Ты даже не представляешь, какая это сложная механика — человек. Как в нем все переплетено. И мы туда — со своей кувалдой…» Высоченный парень, проходивший мимо с какой-то папкой, остановился поодаль, остервенело дымя «Беломором». Наверное, ждет не дождется, когда его вылечат спектром от папирос, подумал Вербицкий. Или от рака. От рака матки. «Вот это пичище», — сказал парень. «Да», — согласился Симагин как-то неловко, покосившись на Вербицкого с какой-то виноватостью в глазах. «А помните, какая блямба была здесь у того? — тактично вставила пацанка. — Раза в два повыше…» Симагин облегченно вздохнул. «Еще бы. У чиновников синдром ДУ — профессиональная болезнь». Они засмеялись чему-то своему. Вербицкий чувствовал себя болезненно голым, уродливо голым, синюшным, и поэтому, стрельнув «Беломорину» у верзилы, тоже закурил и стал, кутаясь в дым, снисходительно улыбаться. «Вот здесь где-то садомазохистский регистр, — сказал Симагин угрюмо и оперся обеими руками на пульт. Ссутулился. — Если я буду лечить садиста, мне же надо давать сюда какой-то блик… А куда?» Потом Вербицкий ушел.
Низкое небо снова собиралось пролиться тяжелым нечистым дождем, с Обводного несло какой-то заразной химией, карболкой, что ли — запах был тошный, поганый, означал гангрену. Кассета готова была, казалось, прожечь пиджак; невыносимо тяжелым грузом она моталась в кармане и глумливо вопила оттуда о всемогуществе науки — всемогуществе вторжения металлической шестерни, победитовой циркульной пилы в беззащитную живую плоть, от рождения не знавшую колеса, но познавшую колесо и покатившуюся в пропасть, ибо колесо, как бы ни было оно совершенно, может катиться только вниз. Что они все делают со мной, кричал Вербицкий, идя вдоль бесконечной обшарпанной стены, зачем я-то должен катиться вместе с ними, ведь я твержу: не надо, а он твердит: надо, и слушают его, потому что верхом на его «надо» удобнее, удобнее катиться! А катиться — всем! И мне!
Ведь это иллюзия, это сон золотой: будто мы любим и не любим точь-в-точь как прежде, покуда грохочущие колеса и шестерни исторических процессов перепахивают и перемалывают пространство отдельно от нас, на далекой периферии переживаемого мира — мира друзей, подруг, детей; нет, они медленно мнут нас и плющат, и выкручивают, а мы лишь чувствуем смутно, что любим и не любим как-то иначе. Пугливей, бесплотней, бессовестней. Господи! Да ведь даже рабы, столь же мягкие, слабые, ограниченные религиозной этикой, сколь и их хозяева, одним фактом своего рабства развратили и развалили античность — что же говорить о не знающих ни преданности, ни ненависти, вне добра и зла кроящих любую органику циркульных пилах, которые равным образом может включить кто угодно, зачем угодно! Какой соблазн! Как мы клянем свою рефлексию, как хотим себе действенной тупости нами же созданных орудий! И как привычно требуем от друзей, подруг, детей, а уж подавно от подчиненных и подданных покорности орудий: нужно — включил, не нужно — выключил, забарахлили — с глаз долой, в ремонт, в комиссионку, на свалку, пусть разбирается, кто умеет, а я не мастер, мое дело нажимать кнопки!
И он еще хвастается, недоумок! «Мы не в состоянии отказаться от электромагнитного аспекта цивилизации…» Полтора века играть с магнетизмом, набить атмосферу излучениями, убедиться, что включать и выключать друг друга куда легче при помощи телевизоров, радаров, лучей наведения, помехосистем и помехозащит, вещания и глушения — и открыть, наконец, что беззащитная живая плоть не выдерживает этих удобств! Боже, какой аспект! А еще через полста лет гниющий заживо, пузырящийся обрубок с мозгами набекрень от постоянного лучевого самосовершенствования скажет: мы не в силах отказаться от биоспектрального аспекта цивилизации. Выход один — биоампутация!
А ты, спросил он себя, судорожно стискивая влажными пальцами скользкую от пота и духоты кассету, что можешь предложить ты? Представь, тебе дали власть решать, ну на минутку представь себя снова, как в детстве, справедливым и чутким императором мира — что сможешь ты сказать? Что изначально все пошло наперекосяк? Но это пустые слова. Начало — клубящаяся в темноте загадка, над началом даже ты не властен. Что сможешь ты велеть сейчас — когда есть уже и рак, и ракета, и радар, и регистрограмма в кармане? Пусть все изменится! Пусть все станут иными! Но какими? Как? Не знаю, не знаю, не трогайте меня; литература — не врач, литература — боль… Кто? Герцен… Бо-о-оль?! Ни у кого не болит, а у тебя болит? Барахлишь, машинка? Лечись. До новых встречь.
Поутру не стало лучше. Симагин наспех умял пару бутербродов под кофе с молоком. Отчужденно молчавшая Ася чуток поклевала и ушла из-за стола. Симагин пытался поймать ее взгляд, но глаза она прятала. Когда она чего-то хотела, она всегда умела это сделать, и вот сейчас она хотела прятать глаза. И Антон, который мог бы, наверное, сломать лед, еще спал. Симагин даже начал злиться — короткими наплывами, недоуменно, робко. Уходя, он так и не сказал ни слова, лишь попробовал осторожно обнять Асю за плечи. Она молча, холодно высвободилась.
Запустили Машину, пошла очередная серия. Потом Симагин принялся хлопотать Вербицкому пропуск, дело оказалось волокитным. Он подписывал бумажки и думал: но ведь она же поставила гвоздики в вазу. Голова не работала, все валилось из рук. Только приход Валеры его как-то отвлек.
Приятно рассказывать о любимом деле человеку, которому дело это интересно. Вербицкий снова напускал на себя равнодушие, делал вид, будто скучает, но ясно было, что он страшно заинтересован, чуть ли не потрясен. Еще бы. И забавно — стоило Верочке подойти, как он сразу постарался ей понравиться. И, конечно же, ему, чертяке, это сразу удалось. Бывают же такие — Верочка от него уже не отходила… Ладно, думал Симагин, глядя, как Вербицкий изображает царственное небрежение, пусть притворяется. Смешной. Все равно то, что чувствуешь, скрыть невозможно. Только не залезать в научные частности. Писателю частности маловразумительны и не нужны совсем — он впечатлений алчет… Будет тебе впечатление. Что может быть изумительнее, чем заглянуть в себя? Ведь сам Валера только этим и занимается, у него работа такая — словами срисовывать копии со своих мыслей и чувств. А вот копия, срисованная иначе, посмотри, я ведь знаю, ты за этим пришел. Он предложил Вербицкому снять, чем трепаться беспредметно, спектрограмму с него самого, хотя бы один эро-уровень. Гуманитару любовь, конечно, интереснее всего. Понимая, что уже и так доставил Симагину кучу хлопот, Вербицкий принялся отнекиваться, но Симагин настоял, потому что видел, как загорелся этой идеей Валера. У него даже глаза потемнели от возбуждения. После съемки они стали вместе просматривать спектрограмму. Симагин объяснял и все совестился, что многого еще не понимает. Чудовищно сложен человек… Зато когда по экрану пробегал отождествляемый всплеск, от гордости у Симагина даже дыхание теснило. Подошел Володя, угрюмый и напряженный. Он не просто работал — он воевал. Каждая серия была для него атакой, он боролся за больного сына. Он смотрел, слушал, курил… По молчаливому уговору сотрудников Володя имел право курить прямо здесь. Правда, сейчас он допустил небольшую бестактность: глядя на экран, вслух отметил то, что отметил про себя и Симагин, — чрезвычайно мощный Валерин СДУ. Верочка, умничка, спасла положение, но Симагин вдруг с ужасом сообразил, что вообще никому нельзя было показывать душу своего друга. Он готов был сквозь землю провалиться. Но Валера, как всегда, оказался на высоте. Он ничего не знал про Володю, но, видно, тоже почувствовал его трагическое напряжение, потому что попросил у него закурить и заглянул в глаза, словно говоря: все будет хорошо. А ведь ему самому несладко приходится, судя по тому же пику. Осел я бесчувственный, — грыз и глодал себя Симагин. — Асю чем-то обидел и даже не понимаю, чем; теперь Валеру… Чтобы впредь даже возможности для подобных случаев не могло возникнуть, он тайком от всех отдал Вербицкому кассету. И подарок на память достойный, и уж верная гарантия, что никто чужой не подсмотрит к нему в сердце. Он еще спросил Валеру: «Может, теперь сотрем?» — «Жалко», — ответил тот, подбрасывая кассету на ладони и явно не желая выпускать ее из рук. Вроде обошлось, не обиделся.
Симагин полетел домой, едва дождавшись окончания рабочего дня. Подкатил автобус сразу. Зеленая улица. Скорей. Ну что там, светофор сломался, что ли? Граждане, побыстрее на посадке… Правильно шофер говорит, копошатся, как неживые. Погода замечательная, можно взять бадминтон и — в парк. Воздух влажный, напоенный… Оденемся легко-легко. У нее есть платье, коротенькое и тонкое, как паутинка. В нем она совсем девочка, большеглазая и шальная — но стоит присесть за воланом, невесомая ткань рисует округлые бедра; напевные линии звучат нескончаемым зовом, чистым, как белый бутон в стоячих высверках росы. Там, укрытое платьем и сдвинутыми ногами — солнце. Оно мое.
Дома было тихо и пустынно. На кухонном столе лежал небрежно оторванный клок бумаги. «Картошка на плите. Мясо в духовке. Мы в кино». Рядом письмо — от родителей.
Мама писала, что яблоки и крыжовник в этот год уродились, а клубнику улитка сильно поела; что в реке опять появилась рыба; что у Шемякиных занялся было пожар, но тушили всей улицей и потушили еще до пожарных, так что сгорели только сарай, поленница и часть штакетника, да старая липа («Помнишь, ты маленький лазил, и Тошенька тот год лазил».) посохла от близкого огня; что она, мама, очень скучает по городу, но вернутся они не раньше октябрьских, потому что впятером в квартире тесно, — и тут же, испугавшись, что проговорилась, стала доказывать, что летом и осенью в городе отвратительно и для здоровья не полезно, а в деревне — рай.
Симагин прочел письмо дважды, а потом принялся за еду — еще теплую. Видно, ушли совсем недавно. Кусок не лез в горло, но Симагин послушно сглотал все, что было ему оставлено, потому что не съесть было бы обидеть Асю, она ведь приготовила. Значит, не поссорились? Но ушла в кино, ушла демонстративно, глупо, хлестко, и Антошку взяла… Симагин написал ответ и побрел в парк один.
Здесь тишина не угнетала, а успокаивала. Дымчатый воздух стоял среди темных сосен. Присыпанные хвоей дорожки текли под ногами беззвучно и мягко; в одном месте кто-то разрыл дорожку, и выглянул песок, рыжий, как зимнее солнце. Симагин набрал полную горсть, будто он золотоискатель, а песок золотоносный. Жаль, Антона нет, развернули бы эпопею… Одному играть было неинтересно. Он отвык отдыхать один, один он только работал.
Из-за поворота аллеи выбежала голенастая девочка в коротеньком платье и белых гольфах. Симагин вздрогнул — ему почудилась Ася. Совсем с ума сошел. Девочке было лет двенадцать. Следом, размахивая ушами, катился смешной, как Антошка, щенок; его крохотный язычок светился добрым розовым светом. Потом показалась женщина в синем плаще, она сливалась с сумраком леса. Девочка светлым пятном замелькала в деревьям а щенок задумчиво замер, заурчал и бросился под ноги Симагину.
— Здравствуй, — сказал Симагин. — Ты кто?
Щенок остановился и перевесил лобастую голову на другой бок, пытливо заглядывая Симагину в глаза. Он был такой плюшевый, что просто нельзя было его не погладить. Симагин протянул руку, щенок припал к земле и завилял коротким упругим хвостом.
— Ав! — сказал Симагин, бросая ладонь к курчавой спине то слева, то справа. Щен елозил пузом, играя в то, что уворачивается от страшных ударов, и от удовольствия подпрыгивал, как мячик на коротких лапах. — Рр-р-рав! Съем!
Щенок не принял угрозы всерьез и примялся быстро-быстро лизать Симагину пальцы.
— Белка! — крикнула женщина. — Белка догоняй Марину!
Белка снова задумалась, а потом мотнула головой и поскакала в лес, высоко вскидывая задние лапы. Девочка выглядывала из-за сосны и тоненьким голоском повелительно кричала: «Ко мне!»
— Так ты, оказывается, Белка, — удивился Симагин и пошел навстречу женщине. Они улыбнулись друг другу, и Симагин чуть поклонился, как бы здороваясь. Ей было лет сорок, она прихрамывала слегка, и через левую щеку ее шел старый, тонкий шрам. Симагину захотелось сказать ей что-нибудь приятное, но он не придумал, что. Обрадовать Белку было легче.
Он свернул с дорожки. Подошел к сосне и погладил ее теплую коробчатую кору. Задирая голову, осмотрел ветви, нависшие в серой тишине, и опять улыбнулся. Ему хотелось улыбаться и ласкать. Ему казалось, если приласкать мир, мир станет ласковым. Но это он придумал потому только, что любил ласкать, — так же, как любил дышать.
Он набрел на затерянную в мелколесье скамейку. Такие скамейки были установлены вдоль главных аллей, но их порастащили в укромные места. Кругом набросана была бумага, ржавели пустые консервные банки, колко отблескивали бутылочные стекла. Симагин поддал осколок — тот черной молнией мелькнул в кусты и ударил. Куст шумно встряхнулся.
Симагин сел и достал блокнот. Отыскав свободную страницу, нарисовал инициирующий пик онкорегистра, а ниже по памяти расписал формулы его конфигурации и движения. Все было очень изящно и совершенно не вязалось со следующим пиком. Описать математически область их сопряжения так и не удалось. Тут была какая-то загадка, какой-то странный разрыв, и он, конечно, что-то значил, может, даже многое значил. Дьявольское место. И ведь мелочь, кажется, — но сколько их, таких мелочей, все и состоит из них. Давно и быстро пролетело время первых осмыслений — всеобъемлющих, но поверхностных. Так же давно и так же быстро, как то время, когда Антон на вопрос «Кем ты хочешь быть?» без колебаний отвечал: «Я буду Ленин». Вся динамика психического реагирования укладывалась тогда в интегродифференциальные уравнения второго порядка; Симагин помнил, как в восторге плясал по квартире, когда они вдруг легко сплеснулись на бумагу с его пера — а теперь это детский лепет… Математика! Размашистые прыжки преобразований! Бесконечной спиралью они выворачиваются, выстреливаются одно из другого — непреложно, как прорастает зерно. Лучшие стихи немощными жидкими медузами расползаются в пальцах, дрябло обвисают от вычурности, претенциозности, авторского кокетничания и самообожания — только в чеканных ритмах уравнений мир перекатывает обнаженные мускулы своей предельной, виртуозной реальности, той, где можно нащупать массивные выступы его истинных рычагов, ощутить их твердость в кромешной тьме… Постепенно все пропало. Симагин забыл, где он, окружающее сузилось до листка бумаги, потом угасло совсем, и остался лишь мир атаки — мир, где были только мысль и бесконечная обшарпанная стена поперек ее дороги. Не обойти — надо в лоб. Симагин атаковал, задыхаясь, а все, что он ненавидел, чего боялся, чего не хотел, — все это, обозначенное сейчас, словно всеобъемлющим иероглифом зла, мизерным отрезком кривой, защищалось, отстреливалось, глумилось из-за стены. И уже казалось, что стоит лишь расшифровать этот иероглиф, разом все зло сгинет, покорится, как покоряется дух тьмы тому, кто назовет его истинное имя…
Атака захлебнулась.
Стемнело. Бумага белела смутным пятном. Сквозь черную вязь ветвей теплился лежащий на пасмурном небе красноватый отсвет города. Где-то вдалеке бренчали на гитаре, и молодой надорванный голос истошно вопил: «А ду ю лав э рашн водка? А ду ю лав э рашн водка? О, йес, ай ду! О, йес, ай ду!»
Симагин не успел рук помыть, как звякнул ключ в замочной скважине; задирая мокрые, мыльные ладони, он рванулся к двери встречать, но опоздал — Ася уже входила, надменно глядя мимо.
Зато Антошка сразу вцепился.
— Ты почему на пол капаешь? — спросил он. — Меня вот мама ругает, когда я на пол капаю!
— Не ему ведь мыть, — уронила Ася. Симагин медленно отступил в ванную. Все продолжалось, обшарпанная стена между ними стала еще толще.
— Я только что пришел, — оправдываясь, сказал Симагин Антошке. — И так спешил вам навстречу, что не успел вытереть.
— А мы какой фильм смотрели! — сообщил Антошка. — Две серии! Я так жалел, что тебя нету! Там один наш очень сильный комиссар…
Ася, не переодеваясь в домашнее, стояла у окна строгая и чужая. Симагин смотрел ей в спину, она не могла не чувствовать его взгляда. Но не оборачивалась. Наверное, она хотела курить.
— А он как подскочит и между глаз плюху — бемц!
— Да, — сказал Симагин, — какая жалость, что я не знал про кино. Я бы с вами пошел.
— А я маме сказал, чтобы тебе позвонить, а она сказала, тебе надо работать и ты поздно придешь… А он все равно еще не упал, а выхватил маузер!
— Я сегодня как раз рано пришел. Еще ужин не остыл.
— Ты что, что ли меня не слушаешь? — обиделся Антошка.
— Еще как слушаю.
Она окаменела. Взгляд жег спину. Но обернуться не могла. Днем сто раз набирала телефон симагинской лаборатории. Но сразу вешала трубку. А теперь не могла обернуться. Ей непрерывно мерещился Симагин в толпе, она стискивала руку Антона, готовая подхватить его и броситься навстречу, и сердце сходило с ума. А теперь не могла обернуться.
Ладони Симагина беззвучно и мягко охватили ее плечи. Где-то на границе сознания мелькнуло, тая, «…он обидел…» и погасло. Она запрокинулась, прильнула затылком к его плечу — веки упали. Он.
— Асенька, — сказал Симагин. Его пальцы повелительно и нежно напряглись на ее узких плечах. — Асенька, ну что ты?
— Симагин, — прошептала она, почти не слыша себя. — Что же ты делаешь, Симагин. Вместо того, чтобы сразу меня высечь, мучил целый день…
Послышался звук закрывшейся двери, и приглушенный голос Антона сказал солидно и с пониманием дела:
— Целуйтесь, я ушел.
Симагин проглотил ком в горле.
— Не-ет, — возразил он изумленно и убрал руки. — Что это ты выдумал? Ты же мне фильм не досказал!
Ася беззвучно смеялась, затылком ощущая, как движется его кадык.
Стены не было.
Некоторое время Антошка и Симагин разбирали варианты борьбы комиссара со все возрастающими количествами белобандитов. Когда комиссар в одиночку очень убедительно положил целую дивизию каппелевцев, усиленную десятком британских танков и двумя аэропланами, причем ни одного человека не убил до смерти, а всех только оглушил и взял в плен, Антон, потрясая руками, возопил: «Ну почему они вот так не показывают?!» Глаза у него горели. Время, однако, поджимало, и Ася стала загонять Антошку в постель. Он резонно отвечал, что в переломные моменты мировой истории истинному коммунару не до сна. Ася, не растерявшись, заметила, что долг доблестного борца — использовать для отдыха краткие затишья, иначе в ответственный момент силы могут изменить борцу. Переодевавшийся Симагин подхватил и, прыгая на одной ноге, из коридора привел несколько примеров из деятельности крупных коммунаров Азии, Африки и Латинской Америки, когда они попадали в трудные положения из-за недооценки роли отдыха. Убежденный Антон немедленно дал себе совершенно секретный приказ идти спать и начал вымогать у Аси честное слово, что его разбудят сразу, если произойдет нечто решительное. Ася торжественно поклялась, и через десять минут Антон ровно сопел.
Симагин пил чай с кр-рэнделем. Чай был замечательно вкусный. Симагин удовольственно прихлебывал, опять ощущая непоколебимую уверенность в благополучном исходе решительно всего, и в этот момент в дверь кухни несмело постучали.
Симагин удивленно поднял голову.
— Можно? — спросил женский голос; разумеется, Асин, и все-таки какой-то не Асин, напряженный и робкий.
— Э-э, — ответил Симагин, — конечно…
Дверь медленно отворилась.
Ася была в том белом платье, о котором он мечтал. Она была в белых девчачьих гольфах, на голове ее громадной ласковой стрекозой уселся белый бант. Она стояла, скромно сдвинув щиколотки, и теребила ремешок сумочки.
— Простите, пожалуйста, что я так поздно, — сказала она застенчиво. — Ужасно поздно, да? — она на секунду подняла веки, стрельнула глазами и опять потупилась.
Симагин перевел дух. Начиналась игра, но какая — он пока не понимал. Когда он увидел такую Асю, ему стало не до игр.
Ася терпеливо ждала.
— Нет, вы совсем мне не помешали, только я… тут по-домашнему, простите…
— Ой, это ничего! — поспешно сказала она.
— Тогда проходите, прошу вас. Хотите чаю?
— Благодарю вас, Андрей Андреевич, я не голодна, — скромными шагами она вошла в кухню, и от движения грудь ее, обещая, открыто заколебалась под тонкой белой тканью. Симагин опять на миг позабыл все слова, и Ася, чувствуя прикосновение его взгляда, смутилась не шутя, ее шею и подбородок залила краска.
— А откуда вы знаете, как меня зовут? — спросил Симагин.
— Так я же к вам и пришла. Меня зовут Таня, я учусь в десятом «бэ» классе сто третьей школы — той самой, в которой учились вы. Мы собираем информацию о наших выпускниках, ставших великими людьми.
У Симагина отвалилась челюсть, но он тут же мобилизовался.
— Ну, разве я такой уж великий, — сказал он небрежно. Школьница Таня вся так и подалась к нему, распахивая свои замечательные глазищи:
— Конечно! Я про вас сочинение писала — «Наш современник»! — она осторожно, одним пальцем обнаженной руки тронула вчерашнюю гвоздику. — Какие замечательные цветы, — сказала она благоговейным шепотом. — Это вы купили?
— Я.
Она покивала — бант напряженно замахал полупрозрачными крыльями.
— А ваша жена уже спит?
— Э… — отозвался Симагин. — Знаете, Танечка, ее нет дома.
— Где же она в такой поздний час? — наивно удивилась школьница Таня. Симагин неопределенно пожал плечами. — А она не обидится, если застанет здесь молодую девушку?
— Она не вернется сегодня, — решился Симагин. — Видите ли, они с сыном поехали в гости к ее маме и там переночуют.
— Правда? — с восторгом произнесла прекрасная десятиклассница.
— Правда, — заверил ее Симагин. Он понял свою роль. — А вас не будут ругать дома? — заботливо спросил он. — Ведь уже действительно поздно.
— Я родителям сказала, что мы всем классом идем смотреть мосты. Так что я хоть всю ночь могу… Ой! — она как бы испугалась. — То есть я не то хотела…
Возникло колдовское ощущение — будто все и впрямь впервые. Будто они оба новые, и могут быть такими, какими захотят; или такими, какие они сейчас, вне нажитых опухолей и шрамов; будто позади — ничего, зато впереди — все: неведомое, сверкающее, без рутины и шлака… Воркуя, они перешли в комнату. Симагин зажег торшер, включил магнитофон тихонько. Таня прохаживалась, будто бы осматриваясь, а на самом деле показывая себя — держась очень прямо, грациозно переступая стройными ногами. Платьице туго охлестывало их при каждом шаге.
— Замечательная музыка. Так и хочется танцевать, — остановилась и сказала искусительно: — Я вас так стесняюсь.
— Правда, давайте потанцуем, — вдруг тоже как-то застеснявшись, предложил Симагин.
— А ваша жена? — спросила Таня. — Она вас поймет?
— Не знаю, — честно сказал Симагин.
— Скажите, Андрей Андреевич, — она огладила платье на груди и спросила едва слышно: — А я… вам нравлюсь?
— Очень. Вы же видите, Таня.
— Я красивая, да?
— Да.
— Я же совсем молодая.
— Совсем, — ответил Симагин, все больше волнуясь. Это была еще игра — и уже не только игра, и он опять не понимал, что.
— Вы этого еще не знаете, но вы поверьте мне: я очень нежная и добрая девочка.
— Глядя на вас, Таня, — чуть перехваченным голосом сказал Симагин, — в это нельзя не верить.
— Я в вас влюблена по уши.
Он смолчал. Она глубоко вдохнула воздух и отчаянно спросила:
— Вы бы хотели, чтобы я стала еще другой вашей женой?
У него совсем перехватило горло. А она, мягко и жарко сверкая взглядом ему в лицо, спросила еще:
— Не просто до утра, а надолго? Чтобы и я, и она? Нет, не так, простите, — всполошенно прервала она себя и поправилась: — И она, и я?
— А вы бы хотели? — только и смог спросить он, но она, не давая ему ни секунды передышки, сказала просто и просяще, словно это разумелось само собой:
— Господи, да я бы все за это отдала, я же вас люблю. А вы?
То была не игра — волшебство. Юная фея нашла тон с таким пронзительным чутьем, что в ответ нельзя было ни отшутиться, ни сфальшивить. И Симагин, раздираемый сладкой болью соединения, сказал, как говорят иногда в миг тоски или счастья со случайными собеседниками, но почти никогда — с теми, с кем пылесосят квартиру и считают трешки, оставшиеся до зарплаты:
— Я был бы очень горд, Таня… очень… счастлив. И очень бы всех любил. И… очень много мог бы, гораздо больше… — он с силой провел ладонью по щеке, и вдруг улыбнулся беспомощно: — Значит, хотел бы?.. Но только если бы нам всем не приходилось друг другу врать. А это, наверное, невозможно…
Она смотрела на него с восхищением и печалью.
— А жена вас часто не понимает?
— Случается… Наверное, как и я ее.
— Не сердитесь на нее. Пожалуйста.
— Я никогда на нее не сержусь. Не умею. Только очень страшно и все валится из рук.
Она пошла в его руки.
Сквозь неощутимое платье, лишь усиливающее близость наготы, замерцало в его ладони ее тепло. Перед глазами покачивался огромный бант. Он ласково передвинул одну ладонь ей подмышку, а другой осторожно потянул к себе, как бы поворачивая — она поняла, она удивительно понимала его руки: продолжая переступать в танце, изогнулась гибко и в распахнутую ладонь Симагина преданно вошла прохладная выпуклость, увенчанная твердой, набухшей короной. Симагин потерял дыхание, и Ася не сразу смогла произнести то, что хотела — настолько оглушающим оказалось это простое прикосновение.
— Вы не осуждаете меня?
— Я преклоняюсь перед вами.
— Я очень долго не решалась прийти. Но не смогла не прийти. Потому что любить надо только того, кого любишь, правда? Что бы там ни было. Иначе жить незачем.
— Моя жена часто повторяет одну фразу: люблю — это значит, помогаю, пока не сдохну.
— Эту фразу она впервые услышала от вас. Вы просто забыли.
Он хотел спросить: «Откуда вы знаете, Таня?», но спросил:
— Мне можно поцеловать вас?
Она засмеялась тихо, как мама подле засыпающего ребенка, и плотнее вжалась грудью в его ладонь.
— Вам все можно.
— Все?
— Таким, как вы, должно быть можно все. И я жизнь положу, чтобы этому помогать. Чем больше вы сможете, тем лучше будет людям. Всем-всем.
Ослепительной алой молнией касание губ распороло тьму в закрытых глазах. Мир закружился, закачался, как сверкающий колокол. Симагин стал снимать с Аси платье, и без памяти влюбленная девочка, почти не защищаясь, лепетала: «Нет, нет, подождите чуточку…», а он уговаривал шепотом, властно и нежно умолял; глубинно светясь, будто белая яшма в лунном мерцании, Ася упала на колени, помогая раздеться уже ему, прижимаясь лицом, страстно ловя открытыми губами, а потом, прошелестев, развернулись, как почки весной, свежие простыни, и Ася стала маленькой, вся поместившись в его руках, ее можно было лепить, как глину, как воск, и он слепил из нее живой цветок; счастливый цветок расцвел от тепла, раскрылся, и Симагин вольно упал в его трепетную горячую глубину, с гортанным всхлипом Ася выгнулась дугой, раскинув восхищенные, но по-прежнему таинственные лепестки рук и ног — терпкая судорога била его и ее друг о друга долго, долго, и когда, казалось, исступленное двуединство стало вечным, грянул тянущий взрыв, огненная вспышка извергающегося протуберанца; они еще обнимали друг друга, но чувствовали: удаляется… отламывается… гаснет.
— …Какая ты актриса, — сказал Симагин. Ася тихонько засмеялась и ответила:
— Лиса Патрикеевна. По должности положено.
— Ничего себе по должности, — он озадаченно покрутил головой. — Хорошенькие же у вас там должности… Лиска-Актриска.
Она польщенно сказала:
— Ты сам, между прочим… Казанова. Такое мне нашептывал!
— Правда? — глупо гордясь, спросил Симагин. Она встряхнула головой и задорно продекламировала:
— С неба сыплется снежок! Жить на свете — хорошо!
— Неужели помнишь?
— Самый светлый день, — сказала она его словом, и повторила, чтобы он вспомнил наверняка: — Мне было так светло.
Он вспомнил. Она поняла это по свету в его глазах.
— Расскажи мне мой стих, — попросил он.
— Думаешь — забыла? — она уселась, обняв колени руками, и старательно, как первоклашка, стала читать:
— С неба сыплется снежок, Жить на свете — хорошо. Я слепил себе снежок, А потом слепил ышшо.— Здорово! восхитился Симагин. — Даже про «ышшо» запомнила!
— Не мешай.
Я снежком в тебя попал, А другой тебе отдал. Ты промазала в меня И сказала: жизнь — фигня. Я еще снежок скатал И опять тебе отдал. Ты отнекиваться стала, Это что-то означало. Я нагнулся мало-мало, Как бы что-нибудь нашел. Ты стрельнула и попала, И победно закричала, Заплясала, и сказала…Она сделала паузу, стрельнув на Симагина озорным взглядом, и закончила:
— Жить на свете — хорошо.
Симагин слушал, улыбаясь до ушей. Потом перевел дух — оказалось, он не дышал, пока она читала — и благодарно прижался щекой к ее упругому бедру.
— Ты мог бы стать большим поэтом, — сказала она лукаво.
— Будешь издеваться — побью.
— Это мысль. Знающие женщины говорят, что когда любимый бьет — это ни с чем не сравнимо.
Он легонько шлепнул ее.
— Давай отложим, — сказала она мягко. — Я же никуда не денусь. А сейчас спи, любимый.
Он закивал, гладя щекой ее гладкую кожу.
Самый светлый день… Симагин был истерзан стыдом, уже две недели не встречался с Асей, даже не звонил — и вдруг она позвонила ему на работу сама, как ни в чем не бывало. Куда ты пропал, солнышко? Я соскучилась ужасно. Знаешь, мама сейчас в творческом доме в Комарове, переводы свои переводит, мы с Антоном едем к ней на субботу. Присоединяйся, сейчас красоти-ща. Пообедаем там, оставим ей Тошку и побродим всласть! Не пожалеешь!
Мир был скован бесснежным морозом, беззвучным и голубым. Покрытый изморозью, твердый, как дерево, песок глухо отстукивал под ногами. Нескончаемый напевный шелест стоял над морем, затянутым стеклянной чешуей трущихся друг о друга льдинок, рубиновый свет декабрьского солнца переливался в них и скользко сверкал.
День угасал, когда Ася и Симагин свернули в лес. Снежная крупа тонким слоем припорошила песок и хвою на открытых местах; под огромными елями угрюмо темнели неукрытые бурые пятна. Розовый отсвет неудержимо таял, воздух заполняли прозрачная синяя мгла и тихая печаль не то умирания, не то освобождения. Здесь, вдали от плоского шелестящего простора было потусторонне тихо, и Асе взгрустнулось; Симагин, чувствуя себя виноватым за все, начал придуриваться, как умел, смешить, пытался залезть на дерево, затеял игру в снежки… а стих сложился сам собой после того, как Ася влепила ему нашпигованным песчинками и хвоинками снежком в аккуратно и якобы невзначай подставленную филейную часть.
Возвращались, почти не разговаривая, и были так всеобъемлюще, так по-зимнему нежны друг с другом, что в тот вечер Симагин смог взять ее.
Вспоминая и улыбаясь, он заснул.
Она некоторое время сидела, не двигаясь, и коротко взглядывала на его мальчишескую спину с выпирающими лопатками и позвонками. Смотреть было нельзя — он хоть и отвернулся, но спал невыносимо чутко. А ей нравилось смотреть. Очень осторожно она легла и укрылась. Как сегодня чудесно. Даю счастье. Никто так не может, одна я. Был хмурый, усталый. И вот засверкал. Ей хотелось еще прильнуть, почувствовать кожу кожей. Он спал. Как он выматывается. Как он красиво спит. Хочу все время быть женщиной. Не просто человеком, который заботливо маячит рядом, — желанной. Всеми желанными. Хочу, чтобы Вербицкий больше не приходил.
Она уснула, и ей снилась радуга. Ася скользила между ее неощутимыми, туманными слоями, сама бесплотная и невесомая, как воздух, и ей казалось, что в детстве она уже бывала здесь, да позабыла дорогу — а теперь нашла и останется уже навсегда среди праздничного великолепия и тишины, тишины…
Отчаянно зевая, Симагин ворвался в лабораторию.
— Аристарх Львович, — позвал он, — я бы хотел поговорить с вами перед запуском. У вас найдется время сейчас?
Математик группы сумрачно поднялся из-за своего стола.
— Объявляется отпуск на четверть часа! — громко возвестил Симагин. — Покидать помещение разрешается!
— Есть! — бодро воскликнул Вадик Кашинский. И лукаво осведомился: — А отпускные где можно получить?
Смеясь, Симагин шикнул на него, и Вадик пулей выскочил из лаборатории.
Карамышев с отрешенным видом озирал бездействующие приборы; мощные очки его посверкивали холодно. Он был очень дельный математик, Карамышев. Только нелюдимый. Отгороженный. Ему уже шло к сорока.
— Помните? — спросил Симагин, показывая ему вчерашнюю страницу блокнота. Математик всмотрелся.
— Разумеется, — ответил он сдержанно, — странно было бы не помнить. Наши неудачи мне памятны. Это прогиб в начале онкорегистра, не так ли?
— Так, — подтвердил Симагин. — Только никакой это не прогиб.
— Простите? — бровь математика удивленно высунулась из-за тяжелой оправы.
— Знаете, это, наверное, что? 3десь в момент контакта резонабельных спектров и возникает резонанс. Тут вымахнет здоровенный пичище. Никакой это не прогиб, а пик, только потенциальный. Пока спектр не в резонансе, фиксируется лишь момент ожидания. Естественно, стандартный матаппарат его не описывает.
— Одну минутку, — чуть нервно попросил Карамышев.
— Участок ожидания аппарат не способен охватить, — пояснил Симагин, — поскольку этот участок не несет обычной биоспектральной информации. Мы долдоним: резонанс, резонанс. Мечтаем о нем… Вот тут он, тут! Ежику же понятно: резонирующий спектр должен отличаться от несрезонировавшего. В первом случае спектрограмма обязательно отразит всплеск, вызванный резонансной накачкой!
— Остроумно, — отрывисто сказал Карамышев, хмуря свой широкий, с залысинами, лоб.
— Согласны?
— Как рабочая гипотеза ваше…
— Тогда погодите. Есть еще одно. Мы провели пять серий, так? Пять онкорегистров по восемь полос в каждом — сорок полос. Из них тридцать семь остались без изменений, три претерпели некие изменения, которые мы истолковали как частичную подсадку…
— Андрей Андреевич, статистика далеко не набрана, и, по-моему, выводить закономерности пока преждевременно. Нужна по крайней мере сотня серий, прежде чем элемент случайности…
— Да нет же, Аристарх Львович, при чем тут сотня! Тот же резонанс! Что мы делаем? Берем один спектр и сажаем на другой. А он летит себе мимо, не зацепляется. Потому что зацепиться он может, только если участки ожидания обоих спектров срезонируют. Мы, как ослы, разорвали подсадку и резонанс, а это одно явление, внерезонансной подсадки нет и быть не может, только резонансная накачка и обеспечит энергетический приоритет внешнего спектра. Вот здесь, — Симагин ткнул в сопряжение пиков, — резонанс, а уж дальше по всей полосе — подсадка. Подсадить можно что угодно, но в запальных-то уж точках будьте любезны удовлетворить требованиям объекта! Постулирую: по чистой случайности, вероятность которой, очевидно, не слишком велика, в первой и четвертой сериях так и случилось.
Карамышев медленно кивал, сосредоточенно глядя куда-то в сторону.
— Понимаю, — проговорил он после паузы. — Но, простите, это не частное уточнение, а фундаментальная поправка теории, качественный скачок. Вы говорили с Эммануилом Борисовичем?
— Не успел еще. Только что придумал, пока ехал.
У Карамышева дрогнули уголки тонких губ.
— Как вам это пришло в голову?
Симагин смущенно улыбнулся и пожал плечами. Откуда он знал, как. Потел в автобусе, думал обо всем сразу; если сильно пихали — отпихивался…
— Следовательно, — уточнил Карамышев, — подсадки надлежит конструировать с учетом этих вот участков каждого объекта?
— Именно! У них своя структура, и мы ее не поймем, пока все эти точки до единой не выявим. Главное сейчас — разработать методику обнаружения в спектрограмме этих… потенциальных пиков, запальных точек, участков ожидания — назовите как хотите.
— Симагинских точек, — серьезно предложил Карамышев. Симагин замахал на него руками.
— Ну уж! Симагинских дочек…
Они дружелюбно посмеялись. Обычно между ними стоял холодок, но сегодня они говорили, как соратники, и было вдвойне приятно. И даже Володя улыбался из папиросного дыма, из-за частокола мутно-желтых ногтей. Он все слышал, и в глазах его, под вечно насупленными, лохматыми, смолоду седыми бровями, вновь плясало пламя. Он бы кожу дал с себя нарезать ремешками, чтобы скорее был получен результат, — но умел лишь контролировать частотные характеристики блинкетов, а в прорыв, в бой за жизнь его сына первыми опять шли другие. Посторонние теоретики.
В этот вечер Симагин остался в лаборатории вдвоем с Карамышевым.
Придя домой с проклятой кассетой в кармане, Вербицкий сказал себе: хватит, и взялся за дело — задернул шторы, отключил телефон, тщательно сел за стол; от клавиатуры его воротило, и от того, что получалось на бумаге, воротило, но надо, надо было сделать нечто вещественное, наконец, я тоже могу делать! Тоже!! Он работал без перерыва до позднего утра, и мог бы, вероятно, чувствовать удовлетворение: полтора десятка истоптанных литерами страниц лежали на столе, сложенные аккуратной стопкой; но боже мой, как горько, как мерзостно было смотреть на это смердящее изобилие, что за ремесленные поделки перепрыгивали на бумагу с тупо пляшущих пальцев! Раздуваясь от важности — из грязи в князи, от своей обретенной незаслуженно, как бы за взятку, увековеченности, они монументально хохотали над всем невысказанным, застенчивым настоящим. Разучился, гвоздило в висках, разучился… Он встал попить. Конечно, за взятку; что такое магистральная тема — это тема, дающая взятки; а уж в чем эта тема заключается, все равно. Она может воспевать фанатизм тридцатых, инфантилизм шестидесятых, может витийствовать о вечных ценностях и возвращении к истокам, но если она становится привилегированной, ее захлестывают серость и ремесло. В привилегированный слой всегда прорывается серость, алчущая, напрягаясь поменьше, получать побольше единственно благодаря статусу. В баре было много чего помимо минералки, и Вербицкий едва подавлял желание намешать чего-нибудь оглушительного — может, тогда отхлынет вязкая трясина немоты? Но это уж последнее дело, стоит начать работать так, и через год-другой от человека остается нечто кишечнополостное, нет, нет, гордость не позволяла ему, гордость и воля, он перемелет, он превозможет, он будет сильнее, черт возьми, и повалит эту глухую обшарпанную стенку… между чем и чем? Что ушло? Он не мог понять, но чувствовал: что-то ушло, и жуткий, первобытный страх охватывал его при мысли, что в его тридцать с маленьким хвостиком лет это ушло уже навсегда. Как молодость. Как любовь. Слова, слова… Но неужели явления, обозначенные ими, сродни друг другу и растут из одного корня? Неужели это уже старость? Нет! Нет! До новых встречь, говорите? Я вам покажу до новых встречь! Сожрете! Пальчики оближете! Я не капитулирую! — тряся стаканом, вслух закричал он, вспомнив ионесковского «Носорога». Будьте вы прокляты, я молод, молод, молод! Он вернулся за стол. Пулеметно выстреливал фразу-две и вновь надолго замирал, глядя в потолок, курил до одури, вставал, пил кофе, ходил по пустой квартире — шесть шагов по комнате плюс два с половиной по кухне; если идти зигзагом, то плюс еще три шага. Ничего, кроме работы! Делать! Делать!
Он закончил главу, выдернул лист из машинки и опять закурил, опять выпил теплой солоноватой шипучки, принял две таблетки феназепама.
Подушка и простыни были горячими, липкими — он долго варился в них в каком-то сумеречном состоянии, отчетливо понимая, что не спит, но не в силах пошевелиться. Потом сверху упала темная штора, и все погасло.
Очнулся вялый, разбитый, больной. Сердце вздрагивало редко и немощно. Рот был полон мерзости, голова гудела. Некоторое время Вербицкий припоминал, кто он и что с ним происходит. Пот время от времени проступал то на груди, то на ногах. Затем он принял душ. Затем сделал несколько бодрящих асан. Захотелось есть, он полез в холодильник, но обнаружил лишь заветренный, закраснелый ошметок колбасы.
Войдя в до тошноты знакомое кафе, на черном фоне стен он сразу увидел знакомые лица. За крайним столиком сидел Ляпишев — уже на взводе, со съехавшим галстуком и расстегнутым воротником ворочал мутными глазами, а напротив него аккуратно кушал яичницу миниатюрный Сашенька Роткин. Завидев Вербицкого, Ляпишев вскочил и закричал, размахивая руками:
— Вот он тебе скажет! Он скажет тебе! Иди к нам, Валериан!
Сашенька, продолжая кушать, поздоровался с Вербицким приветливым кивком. Вербицкий сел.
— Чем кормят нынче?
— Яйцами! — сказал Ляпишев, утирая губы ладонью, и вдруг коротко заржал.
— Понятно.
— Ты, Валериан, читал последний сборник этой мрази? Читал, говори? Не читал?!
— Тише, господа, тише, — поморщился Сашенька брезгливо.
— Не читал, — пробормотал Вербицкий, озираясь в поисках официантки.
— Он не читал! Это же сволочь!
Сашенька опять поморщился, жуя, и позвенел вилочкой по тарелочке.
— Он мне еще стучит! — заорал Ляпишев и грузно потянулся через стол, но Сашенька, продолжая равномерно и как-то чрезвычайно культурно двигать челюстями, проворно откинулся на спинку кресла и выставил испачканную в желтке вилку. Ляпишев с размаху напоролся на нее пятерней, зашипел и повалился назад.
— Прости, — спокойно сказал Сашенька, на миг перестав жевать.
— Хорошо у нас на БАМе! — завопил Ляпишев, растирая ладонь.
Показалась официантка и подозрительно стала к нему присматриваться. Вербицкий указал ей на стоявшую перед Сашенькой яичницу и потыкал себя пальцем в грудь. Официантка кивнула и удалилась.
— В молодом задорном гаме! В гуле рельс и шпал бетонных, в р-реве КР-РАЗов многотонных!
— Только вот прораб наш новый слишком тон забрал суровый, — спокойно и чуть удивленно добавил Сашенька.
— Он неопытен, да строг, еле держит молоток! — заорал Ляпишев.
— Да, это мои стихи, спасибо, — сказал Сашенька, — я помню. Но, прости, никак не возьму в толк, отчего ты к ним прицепился? — он докушал яичницу и теперь тщательно подбирал остатки маленьким кусочком хлебного мякиша. — Критика приняла сборник довольно благосклонно… во всяком случае, пропаганду оппозиционных КПСС политических структур мне никто не инкриминировал. Что же касается поэмы, начало которой ты столь любезно нам сейчас цитируешь наизусть, было сказано, что она верно ставит вопрос об авторитете непосредственного руководителя на производстве.
— Валериан! — Ляпишев всплеснул руками и едва не упал со своего стула. — Он не понимает! Всякую меру потерял! Всякую!
— Всякую? — Сашенька проглотил напитанный желтком и маслом мякиш и, приятно улыбаясь, аккуратными движениями стал раздирать обертку на сахаре. — Это комплимент.
Он был такой чистенький, изящненький, в ухоженной бородке с ранней благородной проседью — так бы и дал ему между глаз.
— Сволочь! — пробурчал Ляпишев и сунул наколотое место в пасть — пососать.
— Чего ты, собственно, от меня хочешь, Ляпа? — спросил Сашенька, побалтывая ложечкой в чашечке. — Разве я придумал затыкать литературой организационные прорехи? Разве я придумал: где не справился зеленый патруль — давай для воспитания книжку, как он справился…
— Слушать тебя тошно, Вроткин! — басом гаркнул Ляпишев. — Болтать ты горазд, а вот писать — не тянешь!
— Ах, ты так ставишь вопрос! — звонко произнес Сашенька и резким движением положил ложечку на стол рядом с блюдечком. Ложечка звякнула. — Ты полагаешь, например, что «Гамлета» я не потянул бы? А вот представь — я вспомнил детские мечты, чуток напрягся — и потянул. И что я слышу?
Тут изнемогавшему от голодного урчания в животе Вербицкому принесли благоухающую, еще чуть шипящую яичницу.
— Погоди, Валериан, не жри, — пробурчал Ляпишев, наклоняясь к Вербицкому. Вербицкий отшатнулся. — Я отлучусь — понял? Хочешь — со мной? Угощу!
— Куда? — поразился Вербицкий.
— В туа-лет, — заговорщически выдохнул Ляпишев и нетвердо подмигнул всей щекой.
— Ты что, с ума сошел?
Ляпа потыкал вниз, указывая на свой кейс, а потом приложил палец к собранным в гузку губам.
— Так что же ты услышишь, Саша? — спросил Вербицкий, и Ляпишев с досадой крякнул. Сашенька холеной рукой поднес к выпестованной бородке чашечку и отпил глоточек кофе.
— Примерно следующее, Валера, — ответил он затем, изящно возвращая чашечку на блюдечко. — Во-первых, длинноты. Две трети текста не работают на сюжет. Краткость — сестра таланта, сказали бы мне. Надлежит беспощадно убирать из текста все, что не имеет непосредственного отношения к поднимаемой проблеме — лишь так можно стать подлинным мастером. А если бы я, подобно своему августейшему герою, завернулся бы в плащ и сказал: «Я отнесу это к цирюльнику вместе с вашей бородой», а потом, обернувшись к редколлегии, пояснил бы: «Он признает лишь сальные анекдоты, от остального засыпает» — уже не принц Полония, заметь, а Полоний, слегка приподнявшись из редакторского кресла, чикнул бы меня ножичком…
Вербицкий ел, усмехаясь, и с наслаждением чувствовал, как горячие куски ползут по пищеводу вниз и заполняют сосущую пустоту. Ляпишев встал, горбясь, со второй попытки взял кейс — там тупо звякнуло стекло — и, загребая ногами, удалился. До двух оставалось меньше часу, но ему, видно, было невмоготу. А может, переплачивать наценочный процент не хотел. Сашенька с невыразимым презрением проводил его взглядом выпуклых умных глаз, а потом отпил еще глоточек кофе.
— Ладно, — сказал он. — Убрали длинноты, вырезали мистику… нет, ссылки на аллегории и метафоры не проходят — читатель может не понять, вы ж не классик какой, чтоб над вами долго думали… мистику вырезали. Теперь главное: о чем, собственно, произведение? — он красиво повел рукой — зеленым и розовым огнем полыхнула дорогая запонка. — О каких-то абстрактных материях: право на месть, право на любовь… добро и зло, флейты какие-то… А, нет, флейты мы вырезали как длинноты. Все равно. Как опытный редактор, скажу вам попросту: белиберда. Ложная многозначительность. Сколько уж об добре и зле-то говорено! Что воду в ступе толочь, молодой человек? Где связь с жизнью? Где, например, борьба за оздоровление управленческого аппарата? Вам с вашим сюжетом и карты в руки — а у вас отражено настолько туманно, что читатель может не понять, — Сашенька раздухарился не на шутку. Его лицо нежно порозовело, речь лилась четко и плавно, сардоническая улыбка не покидала полных, ярких губ. Вербицкий ел. — В чем конфликт? Чем Клавдий-то плох? Если убрали мистику — так лишь тем, что спит с мамой героя. Это не аргумент. В законном же браке спит! Герой-то ваш с гнильцой получается, эгоистически препятствует счастью матери. Вам бы вот что — вам бы прояснить политические платформы. Пусть покойный папа вашего героя, опираясь на широкие слои населения, отстаивает независимость страны, самобытную национальную культуру, смело выдвигает одаренных выходцев из низов, масонов душит, строит мануфактуры… А дядя, наоборот, — колос, пораженный спорыньей в сравнении с чистым: ставленник реакционной дворцовой камарильи, марионетка зарубежных лож, крепостник, олигарх… Как еще вы привлечете симпатии читателя? Как вы докажете, что этот ваш дерганый неврастеник — ну это между нами, я-то понимаю, что вы писали героя с себя, все так делают — что он лучше Лаэрта, у которого, в общем-то, и цельная натура, и активная жизненная позиция… Стоп! Позитивную социальную программу должен отстаивать близкий и понятный народу персонаж. Знаете, молодой человек, надо поменять этих парней местами. В общем, тут есть над чем поработать.
— А ты пробовал, Саша? — спросил Вербицкий.
— Только дураки учатся на собственных ошибках, Валера, — чуть прихлебнув кофе, ответил Сашенька. — Я учусь на чужих.
— Саша, эту фразу какой-то штурмфюрер придумал, — вежливо напомнил Вербицкий.
— Нет, Валера, он был адмирал, — столь же вежливо поправил Сашенька.
Размашистым зигзагом влетел оживившийся Ляпишев. Глаза его горели, как у влюбленного. Он стукнул уже безмолвный кейс на пол и плюхнулся на стул.
— Все бубнишь, Вроткин? — сипловато спросил он, и из него пахнуло свежевыпитой водкой. — Мели, Емеля!.. — и вдруг он громко икнул. А Сашеньку было не остановить, он даже внимания на Ляпу не обратил.
— Великие культуры рождались великими социальными противоречиями, — чесал он, как по-писаному, и все активнее прибегал к хорошо поставленной, пластичной жестикуляции. — Рабовладение: Гильгамеш, Махабхарата, Илиада, Библия. Феодализм: «Песнь о Роланде», «Речные заводи», «Гаргантюа»… Проклятое буржуинство: «Карамазовы», «Война и мир», «Форсайты», Маркес, Сартр… При долговременном и непримиримом антагонизме двух-трех громадных групп населения весь арсенал культуры творцы бросали в битву — латать или крушить эти немногочисленные, но грандиозные стыки: правитель — подданный, бог — человек, совесть — польза, абсолютно свой — абсолютно чужой… И апология, и бунт были фундаментальны и апеллировали к обществу в целом! Сразу — миллионы соратников и миллионы противников! А теперь? Как вести сварной шов? Как ущучить завмага? Расстрелять альбо помиловать ослепшего и оглохшего от старости сталинского палача? Предупредить или не предупредить население провинциального городка о приближающемся сильном порыве ветра? Противостояния хозяйственных, административных, псевдополитических ячеек мелки, кратковременны и бесчисленны, они должны устраняться чисто правовым путем. А если они не устраняются правовым путем, значит, дело совсем не в них, а в каком-то ином, весьма крупном и весьма секретном противоречии. А мы читаем: Вася выступил против Пети из-за некондиционного асфальта, а как поправили асфальт, тут и сказке конец!
— Ох, гнойник ты, — сказал Вербицкий. С приятной улыбкой и легким поклоном Сашенька развел руками: дескать, что ж поделаешь, извини. Или даже: не обессудь, дескать, на том стоим. — Не надоело, Саша?
— Надоело, Валера, — ответил Сашенька. — Давно и навсегда. Если культуру сводят к иллюстрированию конкретных задач, если литература по уставу обязана описывать не то, как есть, а то, как надлежит быть, — общественное сознание теряет перспективу. Конкретные задачи заслоняют смысл и цель продвижения от одной из них к другой. Никто уже не помнит, для чего их решать, — важно решить, а еще лучше просто изобразить, что решили. Никто уже не спрашивает: «зачем?» или «что потом?» — в лучшем случае, самые что ни на есть добросовестные спрашивают: «как ловчей?». Мораль уступает место результативности. Совесть не тянет против успеха. Нравственность подменяется умелостью. Но умелость применяется каждым в его личных, живых интересах. А когда вечные ценности в виде набора штампов используются как словесная вата для набивки чучел, симулирующих решения конкретных задач, — не обессудьте! Каждый видит, что они — лишь разменная монета, пошлый набор инструментов, которые каждый волен употреблять по своему разумению. Не поднимать до них свой интерес, а опускать их до своего интереса! А уж тогда индивидуальный интерес обязательно превратится в индивидуалистический, и любое новое средство будет использоваться в старых целях. Революционный террор? Для меня. Революционная перестройка? Обратно для меня! И ведь обрати внимание, Валера. Тех, кто рассматривает нынешние веяния как рычаг, понимаешь ли, возрождения Отчизны, создания общества нового типа, — тех бьют и консерваторы, и максималисты, те захлебываются, пытаясь втолковать бандитам, что такое совесть. А кто воспринял эти веяния как очередной кистень, как новые правила старой игры, — те процветают, те набирают большинство голосов, те создают организации и объединения, в литературе в том числе, — и их ни в коем случае не причисляют к оппозиционным структурам!
— Очень ты умный, Саша, — сказал Вербицкий. — Этакую-то бездну ума нешто можно на пустяки тратить? Все понимаешь, а делаешь как раз то, чего нельзя…
— Позволь, Валера, я не усматриваю тут никакого противоречия, — возразил Сашенька и, допив кофе, тщательно утерся салфеточкой. Ляпишев опять икнул, глаза его быстро стекленели. — Я понимаю некий закон природы, но это понимание отнюдь не есть возможность его изменить. Оно лишь есть возможность его использовать. Кто-то должен заполнять словесное пространство. Кто-то должен создавать шумовую завесу, почему не я? Я умею писать. Я умен. Я молод. Имею я право не быть дураком и не прошибать лбом стенку? Имею право на не-унижение? Имею право на не-инфаркт, нет? Имею право на не-писание кредо на заборе и на не-метание бисера перед свиньями? Имею я право — пардон, господа, все мы здесь свои — сам подкармливать своих любовниц, а не клянчить у них колбаски, сидя в рваных носках? И потом, Валера, тут еще одно. Когда я говорю от души и меня не понимают, мне, поверишь ли, делается очень больно. А вот когда я плету ахинею — я неуязвим. Я рассеял твое недоумение?
— Вполне, Саша.
— Я рад, Валера.
— Чертово ваше семя! — вдруг утробно высказался Ляпишев. — Ни себе, ни людям!
Сашенькины глаза недобро блеснули.
— Ошибаешься, — сказал он, обращаясь по-прежнему к Вербицкому, словно Ляпишева вообще не было за столом. — Это ваше семя — чертово. Именно я — и себе, и людям. Себе — то, что хочу. А людям — то, что они берут. А это, Валера, тоже большой талант — предлагать хлам с серьезным видом. Сначала ведь тошно, стыдно людям даже показать то, что навалял в минуту, которую еще оцениваешь как минуту слабости, — хотя на самом деле это как раз минута силы. Кажется, засмеют, на улицах станут пальцами в тебя тыкать, — его ноздри нервно подрагивали. — И вдруг выясняется, что именно это и нужно. Глядь — и пошло, пошло, уже и не отвратительно, уже и весело, дерзко: жрите! Громоздишь нелепость на нелепость, серость на серость: пускай подавятся! Ведь не могут же не подавиться!! — он страстно сцепил хрупкие белые пальчики. — Я смеюсь над ними, в лицо издеваюсь — а им некуда деться, правила игры за меня, они хвалят меня и дают мне денег. Британия шестнадцатого века сделала Шекспира. Не моя вина, что Россия восьмидесятых сделала меня. И потом… Знаешь, в истории довольно много было талантливых людей, которым было плохо, — Гомер, Вийон, Пушкин… А вот талантливых людей, которым было хорошо — а мне хорошо, — раз-два и обчелся.
— Да нет, Саша, — сказал Вербицкий дружелюбно. — Просто имен подобной моли история не хранит. В истории живут Платонов, Пастернак, Гроссман…
Сашенька сразу же поднялся и аккуратно задвинул на место свой стул.
— Было очень приятно, господа, — сказал он с улыбкой. — Не прощаюсь, вы меня не любите. Но вы меня полюбите.
Затем он слегка поклонился, повернулся упруго — маленький, напряженный — и пошел к выходу с гордо поднятой головой.
У самой двери, не выдержав, обернулся. Улыбки уже не было, глаза горели ненавидяще.
— От застойников по морде получал? И от перестройщиков будешь получать! Потому что еще не сдох, и пишешь не о бывшем, а о нынешнем! Потому что, верно, корячился на Родине и за кордоном не прославился антисоветчиной, опубликовав которую здесь, можно продемонстрировать Бушу и Тэтчер, как у нас теперь все изменилось! И на тебя здесь плевать! И всегда будет плевать! Ты и в историю не попадешь, и в жизни никому не понадобишься! Ты — моль, не я!
Ушел.
Ляпишев, дыша перегаром, навалился на плечо Вербицкого.
— Валериан, — беспомощно и жалобно, как ребенок, проговорил он. — Ты скажи. Он сволочь?
Вербицкий чуть пожал плечами. Одной яичницы ему явно не хватало. А на повтор денег не было.
— Конечно, сволочь, — ласково сказал он. — Успокойся, Ляпа.
Ляпишев облегченно, прерывисто вздохнул и опрокинулся на спинку стула.
— За Европами погнались, — забормотал он, свесив жирную голову и косо уставясь в потолок. — А что мы без Бога? Пшик! Человеку нельзя без веры — а во что? Чудо где? Нету! Чудодеев нет, гениев нет, а ведь только автор… ритет божест… жественнос-ти… Простак! Ты не понимаешь! Россия без Бога… Нет ни хорошего, ни плохого, понимаешь? Каждый сам решает, каждый для себя… Тебе на все это — тьфу! У тебя одна проблема — свой пуп! У всех — свой пуп! А у Сашки всем пупам пуп — пуп обиженный! Конечно… легче легкого ругать Россию. Да только если ты не сволочь, Россия тебя сволочью не сделает. А если сволочь, никакая… Атлантида не исправит… Валериан, когда человеку предлагают: откажись от совести, он что? Он может огорчиться, а может и обрадоваться. Сашка обрадовался. С моим удовольствием, сказал, сию секунду-с… да-авно дожидаюсь… Уведи меня, тут плохо…
— Зачем ты его Вроткиным-то в глаза зовешь? — спросил Вербицкий.
— А кто же он? — спросил Ляпишев, бессмысленно моргая. Он был уже готов. Как бы не сгрябчили нас, с тревогой думал Вербицкий.
— Верить, — опять завел Ляпа, елозя по тесному для его зада стулу. — Во что-то нужно верить! Я же детский! Долдоны эти, думаешь, читают меня? Слыхом не слыхивали! Они вообще не читают! Хватит им плейера в ухо да видика в глаз… Мне приятель говорил, учитель он… шмакозявки с седьмого класса сосать приучаются. Ее спрашивают: зачем? Скучно, говорит — уроки, собрания… Ей говорят: ну, любили бы друг дружку по-человечески. Он чего, настаивал? Нет, я сама, говорит. До брака надо хранить чистоту, это же ка-питал! Одна добавила: не будет последствий. Чет-тырнадцать лет. Валериан! А я пишу: гуляли ученики ПТУ Надя и Сережа, ему нравилось, какая она красивая, какая у нее кожа чистая, нежная, и он наломал ей сирени и, преодолевая застенчи… чивость, взял за руку, а она спросила: — Тебе нравится твоя работа? — Да, я горжусь своей работой, только мастер у нас немно-ожечко консерватор. И мне говорят: все очень неплохо, но есть сексуальные передержки. Например, кожа. Причем тут кожа? Поймите, это же де-ети! Подростки! Пусть ему понравятся ее глаза… Валериан, кого от кого мы бережем? Мы себя от них бережем, мы их боимся и делаем вид, что ничего не замечаем…
— Ты тоже сволочь, — сказал Вербицкий.
Пахло бензином, гарью, печеным асфальтом. Ляпишев не стоял. Он неразборчиво бубнил о вере и вис на Вербицком. Черт, думал Вербицкий, куда его денешь? Бросить бы на асфальт, пусть валяется, хлам проклятый. Ляпишев начал икать совсем уже исступленно, и Вербицкий, загнанно озираясь, привалил его к ближайшей стене. Как по заказу, по переулку поперли прохожие, таращась, будто пьяного не видели. Один даже прямо сказал вслух: «Давненько я таких бойцов не видел! А если я милицию вызову?» — «Ради бога!» — искренне ответил Вербицкий. Ляпишев навалился двумя руками на стену, спросил удивленным и совершенно трезвым голосом: «Да что же это такое?», а потом переломился пополам, свесив голову ниже выкрутившихся рук, и в горле у него заклокотало. Вербицкий бессознательно пытался сделать вид, что не имеет к происходящему никакого отношения и стоит тут просто так, любуясь ландшафтами. Выцветшая, как моль, скрюченная бабка проползла мимо с туго набитой кошелкой, глядя укоризненно и опасливо. «Ты — моль, не я!..» Ляпишев отбулькал свое и заперхал, пристанывая; лицо его было зеленым, глаза спрятались. С каждым выдохом из него вырывалось: «О господи… О господи… О господи…» Бога ему подавай, подумал Вербицкий. Ему хотелось убить Ляпишева. И всех прохожих. И всех. Из-за угла вывернули парень с девушкой, у нее в руках был огромный букет сирени. Прямо Надя и Сережа, подумал Вербицкий. Они увидели Ляпишева и брезгливо перешли на другую сторону.
В такси Ляпишев ехать не мог — мутило; в трамвае не хотел. Он рвался в бой и падал, когда Вербицкий его отпускал, чтобы, например, пробить талон. «Я его отключу! — грозно ворчал он. — Я детский!» От него разило невыносимо. На них смотрели. Чудом их не сгрябчили по дороге.
Жена Ляпишева равнодушно глянула на висящего мужа и сказала:
— Бросьте на диван.
Вербицкий бросил. Ляпишев, вылупив кадык, завалил голову назад; рот у него разинулся, нога свешивалась на пол.
— Противно? — спросила жена.
— Приятно.
Она понимающе кивнула.
— Спасибо, Валера. Зайдите.
— Не стоит, пожалуй.
— Ну хоть на пять минут. Я вас кофейком побалую. На вас лица нет. Да и мне одной тут с ним…
Они прошли на кухню. За стенкой вдруг раздался оглушительный храп, и жена вздрогнула, лицо ее перекосилось гримасой животного отвращения.
— Уйду я от него, — сказала она вдруг. — Хватит.
— Опомнитесь, Рита, — ответил Вербицкий, рефлекторно принимая вид сострадающего. — Столько лет вместе…
— Вот именно. Восемнадцати, дура, вышла за него. Такая любовь — ах! Молодой, талантливый, добрый. Глаза светятся, детей ласкает. С братом моим младшим души друг в друге не чаяли, только и разговору: когда пойдем опять играть к дяде Коле? Ну, думаю, судьба. Теперь брат приходит из плавания, сквозь зубы цедит; брось, пока не поздно, эту падаль… Нет, не поздно. Мне двадцать восемь только, и я твердо знаю теперь, что главное в мужчине — ум и деньги.
— Рита, — спросил Вербицкий, с нетерпением глядя на кофейник. — А почему у вас нет детей?
— От этого? — с искренним ужасом произнесла Рита. Вербицкий пожал плечами. — Ну, сначала, знаете: рано, я хочу любить только тебя… Потом — субсидии. Я, девчонка, кормила этого гада, и училась, и работала, и тексты его вычитывала, пока он форсил и не мог пристроить ни одной рукописи. Какие тут дети. Теперь-то он пожиже стал — то ли водка, то ли на роду так написано… Да и слава богу. Надо, надо сначала. Громадные деньги по стране ходят — а этот сидит и буковки пишет!
— Вот как, — проговорил Вербицкий.
— А вот вы почему до сих пор один? — спросила она чуть ли не с намеком. — Неужели не нашли женщины настоящей?
— Нашел, — ответил Вербицкий. — Знаете, совсем недавно.
Он замолчал. Что я леплю, промелькнуло у него в голове. И вдруг будто ощутил снова, как проносится мимо недоступный сгусток животворного огня. Дохнул солнечным жаром и улетел… Вербицкого затрясла нервная дрожь. Да что это я, подумал он смятенно. И небрежно уронил, тщась развеять наваждение:
— Она, правда, замужем…
— Вы так спокойно это говорите.
— Потому что мне это не помешает.
— Как вы в себе уверены, — проговорила Рита мечтательно.
— Да, — просто ответил Вербицкий, — я в себе уверен.
Она вздохнула и сняла кофейник с плиты. За стеной раскатисто, жирно храпел Ляпишев.
— Я любуюсь вами, — призналась она. — Вы настоящий. Сильный, но не подонок. Сейчас таких мало, все дергаются, пыжатся… Завидую той женщине.
Я устал. Я устал, устал, устал же. И от тех, и от этих. Устал быть на грани, на острие, одной ногой здесь, другой — там; я уже знаю все, что происходит здесь, все угрозы и язвы, что вызревают здесь, выгнивают; но я хочу до сих пор того, чего хотел там, люблю, что любил там… И потому меня не слушают нигде. Устал, устал, устал. Что меня добьет? Ведь это не может длиться долго. Я уже не возмущаюсь ими, лишь боюсь, что сам стану таким же. Страшно же! Я так больше не могу, помогите хоть кто-нибудь! Мне ничего не надо. Ничего. Почему я должен плутать в этом гноилище вечно, ведь есть же иное. Хочу туда. Я ни на что не претендую, ничего не попрошу, ничего, клянусь, лишь вздохнуть, почувствовать воздух чистый и живой, убедиться, что есть совершенно иной мир, пусть по-своему несовершенный, но совершенно иной, пронизанный светом, радостью бытия…
Он думал так, но сам бежал все быстрее, и прикидывал, есть дома Симагин или еще, дай боже, все-таки нет.
3
Симагин был.
Он был розовый и улыбающийся. Он был в синих пузырящихся трениках, в майке. В его руке был шланг воющего пылесоса.
— У-у-у! — радостно взвыл он пылесосу под стать и, выпустив звякнувший шланг, вцепился в ладонь Вербицкого. — Привет! Ну ты просто как летучий голландец! Влетай, влетай! Только я закончу, а? Три секунды… Пока мои гуляют, — он наклонился за шлангом, треники обтянули поджарый мальчишеский зад. Вербицкий отчетливо ощущал неприязнь. Он тщательно, почти демонстративно вытер ноги — Симагин этого не заметил — и прошел в комнату. Ты тоже сволочь, мысленно сказал он Симагину и от нечего делать принялся рассматривать книги на полках.
Осмотр удручал. Особенно нелепо выглядела «Четыре танкиста и собака», вбитая между двумя томами польского издания лемовской «Фантастики и футурологии».
Нудный вой затих.
— Аське сюрпризон, — радостно сообщил Симагин, свинчивая шланг. Палец себе прищемил, что ли — зашипел: — У, зараза… Валер, ты замечал, что для кого-то что-то делать гораздо приятнее, чем для себя? И получается лучше…
— Заметил, заметил… Нельзя так обращаться с книгами, Андрей. Себя не уважаешь, так хоть их уважай! Что это такое?
— А! — засмеялся Симагин. — Это я фотографии распрямляю. Глянцевателя нет, так я дедовским способом… — он с трудом, едва не выдрав полку из стены, извлек раздутого Пшимановского.
— Варвар!
— Хочешь посмотреть? — спросил Симагин, вытряхивая фотографии из книги. — Это мы в конце мая на перешеек выбрались. Тепло, березулечки зеленые такие, как в дыму…
Вербицкий увидел Симагина. Ты мне здесь-то поперек горла уже, подумал он. Симагин, в тех же трениках и завязанной на пузе узлом безрукавке стоял, приставив ладонь ко лбу, и картинно всматривался в даль. На плечах его сидел этот мальчик… Антон. И всматривался так же. На следующей фотографии Ася раскладывала на траве какие-то припасы. Здесь Вербицкий задержался чуть дольше. Волосы ее свесились вперед, и лица не было видно.
— Там есть место чудесное, — рассказывал Симагин, — маленькое озеро, понимаешь, вокруг сплошной лес, а оно маленькое и глубокое, как чашечка, изумрудное такое…
Затем Вербицкий снова увидел Симагина и Антона. Они стояли лицом друг к другу и козыряли, одинаково выставляя грудь. Рядом торчала воткнутая в землю коряга, на которой развевался не то носовой платок, не то косынка. Играют, подумал Вербицкий. И у них свой пуп — игра. Сашеньку бы на них натравить. Он взял следующую фотографию и ощутил болезненный, тупой толчок. Ася, в светлом купальнике и пиратски повязанной косынке, стояла, подбоченясь, и подмигивала объективу. Она улыбалась. Это была та самая улыбка. Асю никто не видел, кроме Симагина, — она улыбалась для него. От него. От него, мучительно осознал Вербицкий, от того, что рядом — этот… Он отвел глаза, а потом снова уставился на фотографию, пытаясь привычным животноводческим разбором статей успокоить себя. А она ничего, думал он старательно. Не Аля, разумеется, да и не та лабораторная мурмулетка, но — ничего. Тонкая талия. Грудь маловата, пожалуй. Взгляд. Проклятье, подумал Вербицкий, поспешно хватая следующую фотографию. В застывшем полыхании брызг, взламывая сверкающее зеркало воды, плыл Антон — у него были надуты щеки и зажмурены глаза. Потом он же болтался на толстом суку приземистой корявой сосны, пытаясь, как видно, подтянуться. Потом на этом же суку, поджав длинные тощие ноги, на одной руке висел Симагин и делал героическое лицо, Антон же стоял рядом, задрав голову, и завистливо кусал палец. Потом…
С паническим вскриком Симагин выхватил пачку.
Перед мысленным взором Вербицкого медленно появилось мелькнувшее изображение: Ася, нагая, сидела на полотенце, и улыбалась смущенно и неярко. Мокрые волосы длинными острыми языками скатывались на грудь.
— Дай сюда, — с деланной непринужденностью протягивая руку, велел Вербицкий. Он был уверен, что Симагин отдаст. — От нее же не убудет.
— Нет-нет-нет-нет, да ты… ты-ты-ты что, — забормотал Симагин, заикаясь от волнения. Он спрятал фотографии за спину и даже отбежал. — Ты что! Вот черт… Да нет же!
— Ханжи вы, — опуская руку, равнодушно сказал Вербицкий. Сердце его колотилось.
Симагин удрал в другую комнату, и слышно было, как он лазает по каким-то ящикам, пряча фотографии подальше. Когда он вернулся, лицо и уши у него пылали по-прежнему.
— Ты только ей не говори, ладно?
— Да перестань. Только мне и разговору с твоей женой. Там что, вся пачка такая?
— Да нет… — Симагин с силой провел по лицу ладонью.
— Смотреть на тебя противно.
— Ладно… Вот что я лучше покажу! — он опять побежал в соседнюю комнату. — Смотри, какая бумага красивая!
Бумага была действительно хороша — тонкая, приятная на ощупь, со светло-зеленым узором в виде стилизованных веточек сосны.
— Это специальная бумага для дружеских писем, — проговорил Симагин. — Мол, дружба наша крепка и не теряет цвета, несмотря на зиму… Хочешь, я тебе на ней письмо напишу?
— Откуда у тебя?
Симагин взял у него листок и перевернул — там были иероглифы, небрежно и изящно написанные то ли очень тонкой кистью, то ли хорошим фломастером.
— Видишь, написано красиво: Такео Сиратори. Это их главный биоспектралист.
— Так ты что же, — со злобой спросил Вербицкий, — и по-самурайски наборзел?
— Да нет, — смутился Симагин, — по специальности чуток… Помню, первое письмо писал ему, так две фразы ухитрился иерошками. Ну, а потом по-английски, тут мне Аська первый друг. Она ж на европейских, как на родных, и Антона дрессирует вовсю… А Такео уязвился! В Касабланке подскочил потом и обращение по-нашенски исполнил…
— А как ты в Марокко-то попал?
— Чудом, признаться. Это отдельная эпопея… Собственно, там был первый наш международный конгресс. А второй через месяц в Москве будет.
— И как Касабланка?
— Как-как… — Симагин помрачнел. — Аська уж ругала меня за нее. Ни черта не видел. Бланка и есть бланка, все белое, сверк. Западные немцы тогда потрясающую методику вводили, мы из них вытрясли, что могли. Треп до посинения. Есть там такой мужик — фон Хюммель его фамилия. Ох, башка, доложу я тебе!
Эта болтовня уже прискучила Вербицкому. Вот чем оказывается на поверку мир, наполненный радостью бытия, — миром инфантилизма. Ася не возвращалась.
— А вот и мои! — вдруг вскрикнул Симагин и с просиявшим лицом кинулся к двери.
— Где?
— А на лестнице. Лифт громыхнул. По-Аськиному…
Вербицкий поджал губы — он ничего не слышал. Но Симагин уже распахнул входную дверь с криком: «Я вас учуял!», и голос женщины отвечал ему весело, и дверь лязгнула снова, и в коридоре зашептались. Помолодевшее сердце тревожно пропускало такты. Вдруг показался мальчик — вдвинулся неловко, прижался к косяку и серьезно уставился на Вербицкого своим невыносимо взрослым взглядом. Вербицкому стало не по себе.
— Здравствуйте, — сказал он.
— Здравствуйте, — ответил мальчик. — А вы будете про папу книжку писать?
В пятнадцати томах, мысленно ответил Вербицкий. Черт боднул его в бок.
— А кто твой папа?
Мальчик отлепился от косяка и посреди дверного проема принял что-то вроде боевой стойки.
— Папа Симагин — самый лучший папа в мире, — сказал он сдержанно. — Меня зовут, — добавил он затем и ушел, хотя его явно никто не звал.
Вербицкий перевел дух. В комнату вбежал Симагин, бормоча:
«Черт, я же пылесос не убрал…» Вербицкий молча смотрел, как он, спеша, упихивает пылесос в ящик, а ящик задвигает за диван.
— Аська мне выговор сделала, — сообщил он, распрямляясь. — В каком, говорит, виде гостей встречаешь…
— Правильно сделала, — кивнул Вербицкий.
— И ты считаешь так? — огорчился Симагин и убежал. Вербицкий снова остался один. Его тянуло в кухню, но он сдерживался из последних сил, ознобно чувствуя присутствие этой женщины за тонкой стеной. Как мальчишка, подумал Вербицкий. Странное дело — эта мысль показалась ему приятной.
— Мальчишки, ужинать! — раздался ее голос. Вербицкий осторожно прокашлялся, чтобы вдруг не перехватило горло, и пошел.
В узком коридоре он столкнулся с Симагиным, и вынужден был пустить его вперед, так как идти рядом не хватало места. Симагин шествовал в серых, очевидно, парадных брюках, светло-голубой рубашке и широком галстуке, который почему-то висел у него на спине. Подмигнув Вербицкому, он с серьезным видом проследовал на кухню. Раздался восторженный вопль. Вербицкий вошел — Антон прыгал вокруг Симагина, стараясь дотянуться до узла на симагинском загривке.
— Такова новая аглицкая мода, — чопорно сообщил Симагин. Ася щурилась от сдерживаемого смеха.
— А ну, прекрати сейчас же! — сказала она Антону. — Здравствуйте! — поспешно кивнула она Вербицкому. — Ты что это?
— Кес-кесе? — жеманясь, спросил Симагин. Изящнейшим балетным жестом он поддернул брючины, сел и, держа воображаемый лорнет у глаз, принялся лорнировать стол. — Где фрикасе?
— А ты есть не сможешь! — закричал Антон и стал драть с Симагина галстук. — У тебя горло веревкой передушится!
— Прочь с глаз моих! — воскликнула Ася. — Срамота! Взрослый академик, глава прекрасной семьи — хомута прилично навязать не может! — она схватила половник и грозно двинулась на Симагина. Тот вскочил, пискнув: «Консерваторы!» — и, опасливо подтягивая зад, порскнул из кухни.
— Весело вы живете, — сказал Вербицкий. Грызущий яблоко Антон закивал и проурчал с набитым ртом:
— Ага!
— Тебя кто приучил так разговаривать? — спросила Ася. — Проглоти, тогда разговаривай!
Антошка проглотил и вдруг заорал:
— Ага-а!
Вошел Симагин, уже без галстука. Глаза его искрились. Антон, закусив яблоко, показал Симагину два больших пальца.
— Салат покамест ешьте, — сказала Ася, тронув Симагина за локоть. — Мясо неудачное, никак не ужарю.
Симагин и Антон, будто бравые солдаты, захрустели салатом. Это получалось у них как-то на редкость задорно. Вербицкий подключился, глядя на Симагина исподлобья, едва умея скрыть ненависть. Даже поздороваться толком с нею не дал, идиот…
Салат был вкусный.
— Ты-то расскажи что-нибудь, — произнес Симагин с набитым ртом, и Антошка рыпнулся было сделать ему замечание — мол проглоти, потом разговаривай, — но всепонимающая Ася легонько обняла сына за плечи, и тот смолчал.
— Ну что я могу рассказать, — улыбнулся Вербицкий. — Я человек скучный, за рубеж не выезжаю…
Женщина стала оделять их едой, повеяло сытным, душистым запахом. Антошке — ласково, по-матерински, тут все ясно. Вербицкому — нейтрально, спокойно: ешь, мол, не жалко. Но Симагину… Эта ведьма даже картошку умудрялась положить так, что каждым движением кричала: я твоя. Мое тело — твое, моя душа — твоя, и вот эта моя картошка — тоже твоя… Вербицкий заговорил о новой повести, о муках творчества, о писательской Голгофе. Украдкой он взглядывал на Асю. Странно: язык сковало. Не рассказывалось. Самому было скучно слушать кислую тягомотину. Только с Сашенькой пикироваться да Ляпу утешать — вот что я могу… Она слушала. Прежней враждебности не было в ней, но это еще хуже. Безразличие. Вербицкий понял: она приветлива с ним из-за Симагина. Я его друг, вот и все, она приветлива, кормит, слушает, ждет, когда уйду. У Вербицкого перехватило-таки горло, картофель едва не пролетел в легкие. Он достал сигареты.
— Вы же все нуждаетесь… спички дай.
— Валер, прости, не дам, — сказал Симагин. — Антошка… и вообще. Не надо курить, ладно? Вот и Ася у меня уже завязала.
Вербицкий опять ощутил холодное напряжение злобы. Он поспешно спрятал сигареты и засмеялся:
— Это ты меня прости! Забыл! Правильно говорят: в чужой монастырь… Здорово потравил вас в тот вечер, да?
Симагин облегченно улыбнулся.
— Так вот. Вы же все, говорю я — все! — нуждаетесь в лечении. Но уверены, что здоровы. Ты вот возишься со своими спектрами и знать не хочешь, что готовишь гибель человечества…
— Валер, — укоризненно покачал головой Симагин, — послушать тебя, так только писатели не готовят гибель человечества.
— Звучит нахально, да? Но это так и есть. Всякая конкретная деятельность, кроме пользы, приносит и вред. Но человек, который в нее втянут, кормится от нее и продвигается по службе, слепнет. Ее успех есть его успех. Ее престиж есть его престиж. Она занят не миром, а его осколком. Поэтому нужен человек, не участвующий ни в чем. Не сторонник и не противник. У него и будет эта самая общечеловеческая позиция, понимаешь? Он разводит всех по их местам, одергивает всех, кто теряет меру… Поэтому, кстати, писателя бьют все.
— Да я понимаю… Но, знаешь, человек не может быть абсолютно сам по себе, — покрутил головой Симагин.
— Именно! Повторяй за мной! Я — человек человечества! Не семьи. Не профсоюза. Не расы. Я — член вида. Только такой подход дает возможность не делить людей на своих и чужих, а значит — понимать всех, сочувствовать всем, любить всех…
— Чихать на всех, — сказала Ася. Симагин вздрогнул. Они помолчали. Из комнаты доносился захлебывающийся гул реактивных двигателей, прерываемый отрывистыми командами по-марсиански.
— Такое впечатление, — сказал Вербицкий, криво усмехнувшись и ни на кого не глядя, — что весь мир против меня!
— Да побойся бога! — взвыл, как пылесос, Симагин. — Я, что ли? Или Аська? У нее язык просто…
— Конечно, против, — Вербицкий глянул ему в глаза. — Потому что ты не понимаешь меня.
Симагин только руками всплеснул.
— И ты меня!
— Да, но тебе это не важно. Тебе важны твои машины, а не люди — вот в чем разница. А для меня нет ничего важнее, что с людьми из-за машин будет… и не могу тебе объяснить.
— Объяснить — или перекроить по себе? — спросила Ася.
— Всякий, кто объясняет, перекраивает по себе.
— Да, но цели! Один хочет помочь. Другой хочет создать подобие себе и так выйти из одиночества. В первом случае думают о другом, во втором — только о себе.
— Никто никогда не думал бы о другом, если бы не нуждался в нем для себя. Предсмертное раскаяние и покаяние, и просветление воспевалось в религии и в искусстве столь долго именно потому, что они для большинства людей есть единственный момент обретения реального бескорыстия и вызванной им переоценки. Живой корыстен, потому что собирается жить дальше.
— Живой собирается жить дальше, и чтобы его жизнь не превратилась в дуэль с каждым встречным, ради собственной же корысти он должен любить заботиться. Тогда будут любить заботиться о нем. Это не гарантирует от врагов, но гарантирует друзей.
— Ася! Ну разве вы не слышите, это даже звучит нелепо: должен любить! Разве можно любить по долгу?
— Хорошо, — улыбнулась Ася, — поменяйте слова местами, и все станет совсем ясным. Не должен любить, а любит быть должным.
Вербицкий лишь головой замотал:
— Ах, как вы…
Она пожала плечами, а потом неторопливо поднялась и стала мыть посуду.
— Знание того, что все угаснет, — проговорил Вербицкий, — подтачивает всякое желание иметь дело с этим всем. И люди отказываются знать. А кто не отказывается, от того шарахаются: ой, холодно! Вот как Ася сейчас.
— Одно дело, — полуобернувшись, сказала Ася, — зная, что угасание неизбежно, раздувать огонь. Другое — сложить руки. Раз все уйдет — пусть уйдет безболезненно и дешево! А как обесценить? Да не вкладывать себя. И не вбирать в себя. Значит, будет вкладывать лишь тот, кто с вами, а вы соблаговолите попользоваться. А когда начнется угасание: эгоисты! Плохо старались! Не сумели! Это удел очень слабых людей.
Симагин сделал Асе предостерегающий жест. Она чуть улыбнулась ему, потом поправила свесившиеся на лоб волосы тыльной стороной мокрой руки. С лязгом поставила последнюю тарелку в сушилку и, накрепко завернув кран, взялась за полотенце.
— Поймите: вы не один. Вы не один.
— Человек всегда один, — устало сказал Вербицкий.
— Человек и один, и не один. Он неповторим, поэтому один. Неповторимость теряет смысл, если он консервирует душу, не делясь ею.
— Вы когда-нибудь пробовали делиться с теми, кому это не нужно, Ася? — резко спросил Вербицкий. — Знаете, что получается в итоге? Выжатый лимон со слабым чувством исполненного долга.
Замолчали. Раковина, напряженно заклекотав, всосала остатки воды, и сделалось совсем тихо.
— И в то же время, — вдруг проговорил Вербицкий, с храбростью обреченного взглянув Асе прямо в лицо, — не покидает надежда, что когда-нибудь кому-нибудь понадобится то, что ты есть. Она-то и помогает хоть как-то хранить себя…
— Кто-то из древних, — ответила Ася, — мудро заметил: если бы брошенное в землю зерно только и старалось сохранить себя, оно бы просто сгнило в темноте, не дав ни ростка, ни новых зерен. Прорастать, конечно, больно, но ведь и гнить больно, да вдобавок еще и бесполезно!
Вербицкий опустил голову, машинально разглаживая клеенку на столе. Глухо сказал:
— Все бесполезно.
— Ну, вы даете, — проговорил Симагин после долгой паузы. — На уровне мировых стандартов… Махаянская колесница спасения с паровым двигателем…
— Нет, мальчишки, — Ася медленно подошла к окну и встала, глядя на закат, иссеченный тонкими темными лезвиями облаков. — Эта трепотня улетает, как пух, если люди получают возможность воздействовать на свою жизнь, творить ее… Социальное творчество, да? Без следа улетает. Лишь когда жизнь становится неуправляемой, начинаются разговоры об одиночестве, некоммуникабельности… Висела мочала — начинай сначала…
— Конечно, сначала! — звонко выкрикнул Вербицкий. — Конечно! Самые страшные феномены истории выскочили из этого вашего творчества, Асенька! Творчества толпы, не умеющей знать и предвидеть! Ей просто сказали: твори свою жизнь — бей! И она бьет радостно и изобретательно. Творчески! И все понимает. Полная коммуникабельность! Слева заходи, справа вяжи!.. Но когда проходит угар, люди начинают озираться по сторонам, силясь понять, что с ними случилось и отчего это после творчества столько трупов кругом, аж не продохнуть… Тогда возвращается осознание бесконечной беспомощности и бесконечной бесценности индивидуума.
— Опять индивидуума, — безнадежно пробормотала Ася. — Вашего индивидуума или не только?
— Да причем здесь это? — в отчаянии крикнул Вербицкий.
— При том, — она повернулась к нему. — Ничто так не отгораживает, как твердить: люди плохие, — она выразительно глянула на него, и он отшатнулся, словно в глаза ему полыхнул близкий, грозный огонь. — Конец неизбежен? Ну и что? Именно поэтому ничего нельзя жалеть. Бессмысленно думать, будто сердце может иссякнуть — наоборот! Кажется, уже нет сил — а тут распахивается такое!.. И сам становишься богаче!
— Резонанс, — пробормотал Симагин. Она обернулась к нему, чуть улыбнулась нежно. Мгновение помедлила.
— Если эти собаки все-таки устроят войну… или без всякой войны нас перетравят заводами, дамбами… я буду помирать и жалеть только об одном: что не знала, когда. И не успела ни Антона покормить повкуснее, ни Симагина обнять… напоследок. А если Симагин женится не на мне…
Симагин, буквально подскочив на стуле, ахнул:
— Да ты что?!
Она неторопливо, почти яростно махнула на него рукой:
— Да мало ли какие у тебя могут быть причины! Думаете, я шарахнусь? Я буду плакать, и целовать, и любить — если он позволит. Я только недавно поняла. Я буду хотеть остаться его… любовницей, вы бы назвали. Не знаю, может, не на всю жизнь, но на годы, — ее голос дрогнул, глаза влажно заблестели. — А! На всю. Потому что он всегда был мне не средством, а целью. И я ему. Я не себя в нем люблю, а его в себе. Почти все лучшее во мне из-за того, что мы вместе. Знаете, почему так много? Потому что мы никогда не притворялись и не врали, шли друг в друга целиком, по-настоящему, какие есть. И связь уже нерасторжима.
— Аська… — благоговейно выговорил Симагин. Она очнулась. Медленно угасли глаза.
— Что-то я стихом заговорила, — смущенно пробасила она и вдруг подмигнула раздавленному, дрожащему Вербицкому, прямо в его снисходительную улыбку: — Первая собака, которую ты погладишь, буду я… Пора Антона в постель гнать, простите. Пойду разумным астероидом прикинусь.
И легко пошагала из кухни, уже в коридоре забубнив: «Найт, найт, найт…» Слышно было, как восторженно загугукал Антошка и спешно стал командовать, по-американски хрипло и азартно вылаивая слова: «Ап ту зэ бластерз! Кэч зэ таргет, ю бойз!»
Вербицкий сразу же встал.
— Я отправлюсь, пожалуй, — сообщил он.
Ему до смерти надоел гной — но здесь сам он был гноем. Этой женщине все казалось пошлым и далеким. И его слова. И он сам. Он спорил с ней, вкладывал и вбирал — а ей не было дела ни до чего, кроме своей любви. К этому.
Симагин, дурацки размахивая руками, принялся его задерживать. Но Вербицкий, улыбаясь, непреклонно шел к двери. Симагин бросился переодеваться снова, чтобы броситься провожать. Вербицкому хотелось убить Симагина.
Женщина тоже вышла в коридор, слегка провожая, пока Симагин менял штаны.
— Вы тут как дети, — сказал Вербицкий, боясь взглянуть ей в глаза. Улыбнулся почти застенчиво: — Или я старый дурак?
Ася помедлила.
— Заболтала я вас. Но, знаете, ваша эта общечеловеческая позиция… будто вы от ума оправдываетесь за то, что сердцем ни к кому не привязаны. Но от ума никого не помирить. Только сердце объединяет бескорыстно. Сердце дает цель, а ум способен лишь изыскивать для этой цели средства. Поэтому цель всегда человечнее средств…
То, что она говорила, не имело к Вербицкому никакого отношения. Стенка — сродни той, обшарпанной, вдоль которой он полз с чугунной кассетой в провисшем кармане. Разговор был разговором двух глухих. Наверное, если бы записать его, а потом, подумал Вербицкий, смонтировать ее реплики отдельно, а мои — отдельно, получилось бы два несвязанных монолога. И все-таки он не сдержался и спросил:
— Вы верите в свои слова?
Она ответила серьезно, даже подумав несколько секунд, будто ум ее мог взвесить цель ее сердца:
— Вы о… любовнице? Верю.
— Вы умница.
— Не надо. Я вам столько навозражала, вам же, наверное, придушить меня хочется.
— Мне целовать вас хочется.
Он сказал — и пожалел, еще не успев договорить. Сработал рефлекс: женщина, будь она хоть кристальной чистоты, хоть семи пядей во лбу, узнав, что случайный знакомый хочет ее, делает вид, будто оскорблена, — а сама мечтает поиграть с огнем. Но только брезгливость отразилась на ее лице, бывшем так близко, преступно близко от его губ. И он, сгорбившись, с горящим лицом, пряча глаза от непонятного стыда, рванулся прочь, как бы видя два мерцающих, долгих изображения: одно лицо на обоих. Улыбка преданности — легкая гримаса отвращения. Легкое отвращение, и больше ничего.
Друг
1
Много лет он не творил столь безоглядно. Страницы слетали с каретки, как вылетают из клеток птицы в ослепительную лазурь. В полуденную свободу неба. Сердце готово лопнуть — но страха нет, восторг, прорыв; клокочущее торжество извергающегося протуберанца — не в пустоту безответности, не в затхлый склеп немоты, не в кристаллические теснины незатейливых, апробированных клише, сквозь которые продергиваешься извилистой безмолвной змеей, оставляя черные лоскутья змеиной кожи на острых холодных гранях, нет, только в нее. Живое в живое. Сами собой, инстинктивно и безошибочно, вскидывались над бумагой живые люди, разворачивались один из другого, набухали кровью — его кипящей расколотой кровью, осколков которой хватало на всех; осколки рвались соединиться, но обретали единство лишь в те мгновения, когда живые люди на белой бумаге начинали прощать и болезненно боготворить друг друга. Резкими фехтовальными взмахами, звеня, соударялись и перехлестывались судьбы. Казалось, опрокинуло некую плотину, и все, что он узнал или почувствовал за эти годы, вдруг обрело смысл, получило наконец вещество и лихорадочно принялось распоряжаться им, строя себя. Даже то, что, пока он — в одиночестве и прокуренной трескучей тишине, она — там, кормит того, спит с тем, вызывало лишь добродушную улыбку, ибо самое главное, что может женщина, она все равно делала здесь, и он лился в нее, как муж, падал в нее, как зерно, как звезда, и через нее — в полуденную свободу неба, в ослепительную лазурь. В людей.
Он любил ее.
Что он объяснял? Боль жизни? Жизнь боли? Тоску осколков по единству? Он понятия не имел. Себя. Наверное, это было просто письмо — но разве просто письмо способно породить новое чувство? Оно лишь цепляется за чувства, которые есть, за щупальца, которые уже выросли у сердца и в ожидании тянутся навстречу. Взрастить сердцу новые щупальца и новые глаза способны лишь перехлесты новых судеб. Пусть на бумаге — лишь бы живых. Сердцам не хватает щупалец и глаз, громадные темные вихри мира летят мимо сердец и проваливаются в невозвратное прошлое, и сердца подспудно чувствуют это, им бедно, им тесно и пусто, они нуждаются в щупальцах и жаждут глаз, а если не дать им — они закисают и тупеют, зная лишь себя; а сердцу нельзя тупеть, ведь оно рождает цель, и когда сердца тупеют, в то же мгновение тупеют и цели. Как еще оправдать то, что я не сею хлеб, не строю дом, не гонюсь за убийцей — что они еще могут, мои слова, моя белая бумага, ну что? Ничего? Только дарить глаза тем сердцам, у которых достанет широты для новых глаз и мышц, чтобы в первый раз напряженно поднять непривычные веки. А что суждено глазам увидеть, открывшись, — то дело мира, не слов.
Он сделал два крупных рассказа за пять дней. Он почти не спал. Страницы лежали на столе, плывущем в ночном сигаретном дыму, и над ними играла радуга, как над алмазным ребенком. Из-за этой радуги Вербицкому было плевать, опубликуют их или нет.
Он спал до полудня, а вечером, радостно насвистывая что-то, со страницами в папке пошел к ней. Спускаясь по лестнице, мельком подумал: а ведь единственный экземпляр. Если с ними что-то случится… Но даже не запнулся в беззаботном мальчишеском беге по ступеням. Будь что будет. Будь, что она сделает. Он полностью отдавал ей себя, вверял целиком — так же безоглядно, так же естественно, как творил.
Он не помнил, о чем они говорили в тот вечер — совсем не помнил, в памяти осталось лишь ощущение своей высокой, почти отцовской власти, столь безоговорочной, что она не требовала и не искала подтверждений. Удивительно и чудесно, сегодня он даже Симагина любил, словно вернулось детство и вновь они, двое подростков, не разлей вода, не могли и не могли разойтись после уроков, говоря обо всем. Вербицкий ушел — и не ушел, остался с нею. Папка осталась в их доме, словно очаг возбуждения в мозгу; люди ходят вокруг, как ходят неважные, случайные мысли, а она, подобно неугасимому воспоминанию, напряженно неподвижна и сталкивает, сталкивает женщину в его мир, в его жар, едва лишь взгляд ее скользнет по серому картонному сосуду, запечатанному соломоновой печатью титульного листа.
И, никуда не спеша, он долго скитался в прозрачном синем мерцании. Он был восхитительно одинок. Уже не в старой вселенной и еще не в новой — отстегнут от всего, счастлив. Пуст, но чреват всем. Черное зеркало Невы без плеска шло под мост. Рыжие вымпелы фонарей горели в воздухе и в воде на равных. Он долго стоял над бездной, потом пошел дальше, прошел мимо дома Аси и подумал с мирным превосходством, как не о себе: спать с нелюбимой женщиной — все равно что писать, как Сашенька Роткин. В душе протаивала крупная повесть. Широкое, темное и спокойное чувство собственной реальности переполняло его, затопляло, как весенний паводок, — оно было сродни чувству парения.
Он вновь пошел через четыре дня и, чуть войдя, понял, что она не преображена.
Не было восхитительного дуновения, когда женщина начинает тянуться сама, уже понимая, уже отдавая; когда физическая близость служит лишь подтверждением, предельным выражением возникшего сопереживания. Мир затрясся, обваливаясь и крошась, потом запылал. Вербицкий держался почти сорок минут; оборвав какой-то пустяк едва ли не на на полуслове, спросил прямо. «Да, некогда, было много всего, простите, Валерий. Не сосредоточиться. Андрей вот начал один рассказ, тот, что побольше, а мне пока никак». Он хотел закричать. Он хотел отобрать страницы — но не смог решиться, это было бы слишком страшно. Непоправимо. Тек дальше разговор. Симагин и мальчик вертелись рядом. Он ушел. Уснул со снотворным. Через пять дней поплелся опять, она выглядела приветливо. Но была за стеной. Была приветлива лишь оттого, что он — друг мужа. Сам по себе он не существовал. Вербицкий выкладывался, уже не обращая внимания на то, что, вероятно, выглядит смешным и ничтожным, домогаясь любви, как прыщавый шпендрик, — да что там любви, хоть интереса, привязанности, влечения! Он дошел до того, что попытался подружиться с ее сыном! Не помогало. Она была с Вербицким, как с прохожим. Ее огонь оставался за семью печатями, отданный на откуп одному лишь — и кому! Кому!! Он ведь даже не понимает, что за сокровище, что за волшебный талисман выиграл в лотерею у жизни — случайно, незаслуженно выиграл просто потому, что прошел рядом и протянул руку в должную секунду. О, если б это был я! И она не понимает, что произошло, она любит и слепа! Какое страшное надругательство над нею! Какая чудовищная эксплуатация! Тратить на быт, на мертвый вой циркульной пилы ту, для которой каждый взгляд любимого — праздник, которая все поймет и простит, даст силы на любой поступок и проступок, в любую геенну без колебании шагнет рядом; а может, даже забежит вперед, потому что любит. Любит. Симагина любит! Вкладывает и вбирает. Она же должна любить меня! Меня, меня, меня, меня, меня!!!
Она, наверное, все понимала — но не подавала виду. Он не знал, что она рассказывает этому недоумку. Может быть, все. Может быть, они хохочут над ним, когда остаются вдвоем. Он читал ей Бодлера:
«Навеки проклят будь, мечтатель, одержимый бесплодной мыслью первым разрешить — о, глупый человек! — вопрос неразрешимый, как с честностью любовь соединить!» Она смеялась ему в лицо: «Ну и гниют они там на Западе!» Он читал ей Ионеско, моляще, как побитый верный пес, заглядывая снизу ей в глаза: «Писать в России — это героизм. Писать — это почти приближаться к святости». Она лукаво щурилась, присматриваясь: «Да, уже нимбик светится!» Он давился смехом от ее остроумия, заходился до слез. Он слушал, когда начинала рассказывать она, — но ему плевать было, какие места в Ленинграде ей дороги, какое мороженое она предпочитает, во что играла в детстве, как была влюблена в девятом классе… Пришел Симагин, однообразно заулюлюкал при виде старого друга:
— Слушай, Валер, я прочитал. Запоем. А-а-атличные рассказы! Вот талант ты все-таки, черт, аж завидно. Как-то я даже по-новому на тебя глянул… У тебя что, полный стол гениальных рукописей? Принеси еще что-нибудь такое, пожалуйста…
Ему понравилось, боже мой, ему!! Да кто ты такой, чтобы тебе нравилось?! Полный стол, кретин! А знаешь ты, чего стоит это?
— Валер, ты Аську прости, она хотела прочесть, честно — не успела просто. Мы тут в Токсово ездили, и Тошка перекупался — подкашливал, температурил…
— Да что вы, ребята, в самом деле, какое еще «извини», пес с ними, с рассказами, таких писателей двенадцать на дюжину, не Достоевский же… Я просто думал, вам интересно.
— Да, нам интересно! Ася, ну скажи ему что-нибудь, видишь, обиделся же человек!
— Андрей, прекрати, не мучай жену. Да и обо мне ты говоришь, как о больном ребенке, — ты меня, часом, не перепутал с Асиным сыном?
Ее лицо окаменело, когда он сказал именно «с Асиным» — и ему стало чуть легче.
— Единственно, почему мне действительно жаль, — потому, что я не могу дольше держать у вас первый экземпляр. Для дела нужен.
— Да, — согласилась она уже снова с улыбкой, — жаль, ну, ничего, я прочту, когда опубликуют. Вас ведь, наверное, быстро публикуют.
— Конечно, — смеялся он, — и обязательно с золотым обрезом. Он шел по улице, шатаясь от горя. Слепые глаза сухо кипели от невозможных слез — как забытый на ненужном огне чайник, из которого давно выжгло воду. Меня нет, захлебываясь, кричал Вербицкий. Меня нет! И подошел милиционер. Гражданин, вы пьяны. Нет, товарищ сержант, я не пьян. Вы пьяны, пройдемте. Я не пьян, клянусь, просто репетирую роль. Репетируйте в отведенных для этой цели местах. Как называется ваш спектакль? «До новых встречь». Хм, не слыхал. Ладно, идите, но кричать так страшно не следует. Зрители с вашего спектакля разбегутся. Спасибо, я буду тихо-тихо, все тише, с каждым шагом тише. Гражданин, по-моему, вы все-таки пьяны. Нет, сержант, я трезв. Как никогда трезв. Раз и навсегда трезв. Позвольте на всякий случай документик. Извольте на всякий случай документик. Вербицкий? Вербицкий. Валерий Аркадьевич? Валерий Аркадьевич. Ну, до новых встреч, Валерий Аркадьич. Творческих успехов. До новых встречь, товарищ сержант, вам того же.
— Уснул, — сказала Ася. — И сегодня не закашлял ни разу, слава богу. К субботе будет в полной форме, тьфу-тьфу-тьфу.
— Вовремя захватили, — сказал Симагин. — Все-таки против простуды лучше дедовских способов наука так ничего и не придумала. Молоко да мед…
— Хороший мед у вас в Лешаках.
— Э-э! Вот до химкомбината был мед — это да…
— Ну, что ж поделаешь… Это мой чай? — спросила она.
— Угу.
— Спасибо, — она отхлебнула. — Слушай, открой секрет. Почему у тебя всегда заваривается вкуснее, чем у меня? И не крепче даже, а именно вкуснее.
— Потому, — польщенно ответил Симагин, — что я по кухне больше ничего не умею. Но зато уж чаю отдаю всю душу.
— Наверное, — вздохнула Ася. — Вот что значит настоящий талант. Все, на что хватает времени, делаешь лучше простых смертных. И если чего не делаешь — значит, просто не хватает времени.
— У таланта должно хватать времени на все, — грустно сказал Симагин.
— Три ха-ха. Тогда ему будет никто не нужен.
— Ох, Ась, ты с этими афоризмами… Валерка-то ведь обиделся. Тебе не показалось?
Ася пожала плечами:
— Понимаешь, Андрей, — проговорила она нехотя, — я на этих легкоранимых сволочей насмотрелась досыта. В ранней молодости.
Симагин перестал жевать.
— Опять. Ась!
— Ну что — опять? — спросила она устало.
— Ты же сама сказала: ничто так не отгораживает от людей, как твердить себе: они плохие.
Она запнулась, припоминая, где и когда могла это сказать, а потом весело рассмеялась:
— Ущучил! Ущучил! С поличным поймал!
— Я очень боюсь, Ася, — сказал Симагин серьезно, — что твой богатый негативный опыт сыграл с тобой дурную шутку.
— А я очень боюсь, — ответила она, тоже посерьезнев, — что благодаря твоему Вербицкому твой небогатый негативный опыт значительно обогатится.
Симагин покачал головой.
— Упрямая ты…
— Упрямая, ленивая и тупая, — ответила она.
— Он что, — осторожно спросил Симагин, — за тобой… ухаживает, что ли?
Она досадливо поджала губы и ответила не сразу.
— Да черт его разберет… Завидует он тебе зверски, это точно, — решительно добавила она. — И из-за меня — в том числе.
— Он хороший, — сказал Симагин. — И рассказы хорошие. Я хоть и не шибкий знаток, но когда сердце щемит — это понимаю.
— Андрей, я женщина. Мне нужно только то, что мне нужно.
— Ч-черт! — Симагин опять мотнул головой. — А мне… мне очень неловко. Рукопись — это ж такое доверие…
Ася опять смотрела на него восхищенно и печально.
— Ну попросим у него потом, — сказала она.
После водки комната заколыхалась и поплыла. Из глаз хлынули наконец слезы. Некоторое время корчился в кресле. Встал и, время от времени размазывая жидкую соль и горечь по лицу, по обиженно открытым губам, развязал тесемки на папке, вытащил оба рассказа и начал рвать — каждую страницу отдельно. Когда страницы кончились, с ворохом норовящих спорхнуть на пол клочков, натыкаясь то левым, то правым плечом на стены короткого коридора, проковылял в свой совмещенный санузел и запихнул, безжалостно уминая кулаком, весь ворох в ящичек для туалетной бумаги. Долго стоял, пошатываясь и пытливо глядя в унитаз. Белое керамическое сверкание клубилось перед глазами, разлеталось бликами. Неловко повернулся спиной. Путаясь дрожащими, потерявшими чувствительность пальцами, расстегнул джинсы и взгромоздился, едва не повалившись носом вперед. Пыхтя и плача в мертвой тишине маленькой ночной квартиры, мучился минут десять, но все-таки добился своего, как добивался всегда, если дело зависело только от него самого. Тщательно размял побольше хрустких неповторимых клочков и употребил по назначению, а остальные спустил им вслед.
Было очень больно.
2
Бачок еще шипел, а Вербицкий уже выгреб из глубины письменного стола тяжкую кассету.
Она выглядела как-то инопланетно. Пугающе — как все абсолютно чужое. Полированный металл был прохладным и приятным на ощупь. По вороненому верху шли маленькие, изящные буковки и цифирки, означавшие невесть что: «Тип 18Фх». Ниже: «Считывание унифицировано для всех эндовалентных адаптеров».
Вербицкому стало страшно. Он вышел на кухню, в назойливо зудящей кофемолке намолол себе кофе, засыпал в кофейник, залил водой. Оставил. И потянулся к телефону.
— Привет, Леха, — сказал он внятно и безмятежно. — Узнал? Вербицкий это, Валера. Ну, конечно! Прости… да, сто лет. Некоторое время они говорили о том о сем.
— Да, черт, чуть не забыл, — спохватился Вербицкий. — Знаешь, мне одна штука нужна. Мог бы помочь?
— Какая штука? Опять импортный видик сломался?
— Смотри-ка, даже это помнишь! — засмеялся Вербицкий. — Только он был не мой… Нет, поднимай выше. Потребности масс неуклонно растут. Нужен небольшой излучатель… с эндовалентным адаптером для считывания с кассеты восемнадцать эф икс.
— Ты что, с ума сошел? — спросили там после долгой паузы. — Это же не игрушки, не бытовая электроника…
— Потому и прошу, что не бытовая, — нагло ответил Вербицкий. Он едва не запрыгал по комнате от восторга — там поняли! Что его могли понять не так, и дать не то, и это «не то» оказалось бы опасным, ему не пришло в голову — для этого он недостаточно разбирался в технике.
— Да нет, Валерка, — на том конце нерешительно мямлили, не отказывая, впрочем, сразу. — Такого даже нет, это не серийка. Нет, не могу. Имей совесть…
— Альбомы Босха и Дали тебя дожидаются, — быстро сказал Вербицкий. Там опять долго дышали.
— Полиграфия чья? — спросили затем.
— Милан.
— Милан… — прозвучало сквозь шорохи мечтательное эхо. — Валер, но ведь, помимо прочего, техника будет стоить денег, даже если… Как ты сказал? Адаптер эндовалентный?
— Угу. Собственно, у меня есть кассета, которую надо прокрутить. Можешь посмотреть сам.
— Да знаю я эти типы, их сейчас широко вводят… Если считывание унифицировано…
— Во-во, тут так и сказано.
— Позвони через недельку. Пока ничего не обещаю… Слушай, но зачем тебе? Подался с вольных харчей в ихтиологи? На этих системах изучают поведение высших рыб в полях.
— Угу, — сказал Вербицкий. — Рыб, ага. Высших.
— А что на кассете? — для очистки совести спросили там.
— Да не бойся ты, шутка одна. Сюрприз хочу другу сделать, именно ихтиологу.
— Ну, черт с тобой. Через недельку позвони.
Он нажал на рычаг и затем сразу набрал номер Инны.
Она ответила сразу, будто сидела у телефона и ждала.
— Здравствуй, — сказал он просто. — Это я. Узнала?
— Узнала, — после заминки, совсем спокойно ответила она.
— Прости, что побеспокоил в такую поздноту.
— Ничего. Ты же знаешь, мне можно звонить очень поздно.
— Никогда не посмел бы тебя затруднять лишний раз. Но мне больше не к кому обратиться. Не сердись.
— Я никогда на тебя не сержусь.
— Мне нужны Босх и Дали.
— Опять кого-то очаровываешь?
Я зачахну и умру, любимый, если ты не будешь купаться в выгребной яме. Я умою тебя своими слезами, вытру насухо гидро-пиритной гривой и, постоянно зажимая двумя пальчиками свой нос, вслух не скажу ни разу, как от тебя разит, — но, умоляю, купайся…
— Это подарок для мужчины, — честно сказал Вербицкий. Она помолчала. Затем произнесла тем же бесцветным голосом:
— Будут тебе Босх и Дали. Через три дня. Устроит?
— Разумеется! Можно даже через три с половиной!
— Я позвоню тебе, когда сделаю. Можно?
— Конечно, Инна.
— Все? Ты ничего мне больше не хочешь сказать?
— Не-ет, — с досадой поморщившись, ответил Вербицкий. — А что-то нужно? Ты мне скажи, что, и я тут же скажу, — пошутил он.
— А… — проговорила она, и он по голосу почувствовал, что она улыбнулась своей слабой, беззащитной и беспомощной улыбкой, которую он так ненавидел. — Хорошо, забудь. Только, пожалуйста, Валерик, не пей больше. Я слышу, ты пил.
Пошли гудки. Он глубоко вздохнул и положил трубку на рычаги. И выпил еще.
А в воскресенье уже шагал с огромным, тяжелым портфелем.
Симагин с утра пораньше отправился в химчистку, и Антон увязался за ним. Химчистка назревала давно, а с приближением конгресса и отпуска стала неизбежной. Симагина покачивало от хронического недосыпа. Каждое утро, с трудом раздирая глаза, он клялся и божился, что ляжет сегодня пораньше, и каждый вечер не получалось. Ну, все, думал он, слушая Антошку. Никаких сегодня чаепитий. Антона уложим — и завалюсь. Он представил, как сладко будет завалиться часов этак не позже десяти… одиннадца… та… Всегда что-нибудь мешает. Вчера, например, Ася ускакала на какой-то день рождения, а к Симагину пришел Карамышев — вечеров в институте им уже не хватало. Часов шесть кряду, сделав перерыв лишь для перекуса и для того, чтобы загнать в постель Антона, который весь вечер напролет рвался им помогать, они думали, спорили, и черкали, кроша карандаши. Ничего у них не получилось, спорь не спорь, и в начале двенадцатого им стало невмоготу. На их головах, по Асиному выражению, можно было кофе варить — так раскалились. Выражение есть, а кофе нет. Дефицит. Симагин разлил чаю, они пошабашили, и разговор пошел, к вящему симагинскому удовлетворению, про рыбалку. Как теперь было видно, своим приглашением Симагин пробил брешь в скорлупе математика, и тот раскрылся. Это было черт знает как приятно. Они протрепались бы, наверное, до утра, но тут заявилась веселая Ася, Карамышев оробел опять и удрал. Тогда Симагин сразу почувствовал, как вымотался, — он был точь-в-точь, по Валериному выражению, выжатый лимон со слабым чувством исполненного долга — и поспешно начал стелиться. Ася размашисто громыхала на кухне, недовольно бормоча: «Раз в жизни не могу прийти на все готовенькое…» Вернувшись в комнату за сервизной чашкой — вот сегодня ей вдруг не захотелось пить чай из ежедневной, — она заметила, что сервиз был задействован, и возмутилась: «Это называется, он остался, чтобы работать! Это называется, ради науки я сидела, как холостая! Это как же называется?!» Симагин, таская простыни и подушки, сонно отшучивался. «Знаю я теперь вашу работу, — брюзжала Ася, с чашкой в руке разгуливая, как привязанная, за Симагиным по квартире и время от времени прихлебывая. — Работать он остался. Там такие девочки, а он тут — с лысым мужиком… Симагин, ты мне лучше скажи сразу честно ты кого больше любишь — нежных девочек или лысых мальчиков?» Симагин подхихикивал, глаза у него слипались. Ася поняла, что он отключается, и сразу сменила тон, поспешно допила чай и, как Антошку, стала Симагина укладывать. Симагин уложился мгновенно, а она, вспомнив про хозяйство, даже зашипела и уселась спарывать пуговицы с подлежащей чистке одежды. Симагин засыпал и опять просыпался, слушал, как она дудит и бубнит себе под нос. «Чтоб тебя», — урчала она, пиля какую-то особенно неподатливую нитку; улыбался от чувства уюта и опять задремывал. Потом он проснулся от взгляда — Ася светлой статуэткой стояла у постели и ждала, когда он почувствует и проснется. Увидев, что он открыл глаза, она робко попросила разрешения полежать с ним рядышком. Я буду тихонько-тихонько. Можно? Симагин разрешил. С полминуты она действительно вела себя обещанно — только с бесконечной осторожностью, едва касаясь, рисовала что-то у него на груди подушечками пальцев, — а потом не выдержала, разумеется: уселась, подтянув колени к подбородку, и начала. А у них бельчонок дома живет, представляешь? И не в клетке, не в колесе, а по квартире скачет, веселый такой, рыжий! Провода погрыз. К людям сам пристает — на спинку опрокидывается и требует, чтобы пузень щекотали. Пушистый, ушастенький такой, хвостатенький! И она принялась руками показывать, какой он ушастенький, а всем остальным — какой он хвостатенький. Глаза у нее сверкали звездами. Валентина такую пеньюрашку отхватила — я сразу подумала: вот бы тебе понравилось! Совершенно безнравственный: прозрачный-прозрачный, и две пуговки всего, одна на груди, другая вот тут, чуть шагнешь, и он вразлет. По твоей милости, между прочим, меня за одинокую приняли! Один хмырь все танцевал со мной… Ну-ну, и что дальше, подозрительно спросил Симагин, слегка просыпаясь. А ничего, посмеивалась она. Целоваться хотел. До дому меня подвез. Такой интеллигентный, непьющий, с машиной… Ты что, с ума сошла? Конечно, сошла. Знаешь, как торопилась? Думала, ты волнуешься, почему не иду, от окошка к окошку скачешь. Нет, погоди, Аська, — он что, тебе понравился? Здра-асьте! С каких это пор мне кто-то нравится? Я тебе русским языком говорю — к тебе торопилась. А тут человек предлагается. Думаешь, мне интересно одной в первом часу трамвай искать? Авантюристка ты, Аська… А ты не знал? В детстве я всегда была миледи. Черта лысого меня Д'Артаньян догонял!
Еще минут пять Ася тараторила, а потом вдруг осеклась, растерялась и сказала удивленно: «Вот и все». Симагин засмеялся, счастливо глядя на нее, и спать ему совершенно уже не хотелось — спать ему хотелось, когда, покидав барахлишко в чемодан, он шел с Антошкой по улице, до краев залитой солнцем. Антон старательно помогал ему нести, так держась за ручку чемодана, что приходилось тащить и чемодан, и Антона. Ничего, тешил себя Симагин, скоро отдых. Конгресс, вдвойне приятный оттого, что мы наверняка впереди, а потом отдых. Воздух, напоенный душистым сиянием луга… и узенькая Боярынька, укутанная зарослями орешника, ивняка, благоуханной крапивы — с нею так любит воевать Антон, лихо прорубая ходы к речке, где вековые ветлы, увитые хмелем, роняют ветви к таинственной сумеречной воде… и сияющий туман Млечного пути, призывно распахнутые созвездия, оранжевый факел громадной луны над серебрящимися яблонями, неистовый стрекот ночных кузнечиков, сеновал… и Ася, Ася — в телогрейке, которая ей велика; в купальнике, покрытая искрами капель!.. И — покой. Можно спать вволю, никуда не торопясь, безмятежно чинить что-то, стругать, пилить, и опять Антон мельтешит под ногами, тискает пахучую желтую стружку, делится соображениями, что она живая, только спит, оттого и свернулась колечком, и сам смеется и не вполне верит себе, и просит дать ему задание… и Ася кричит из оконца: «Мужики-и-и!» И мужики идут обедать, с сожалением оставив неторопливую работу, и маленькая мама оспаривает с Асей право разливать томленые в русской печке щи, и Ася, конечно, побеждает. А потом — степенные послеобеденные беседы, отец курит, присев на ступени крыльца и держа папиросы как-то по особенному, по-деревенски — в городе он держит совсем иначе, а Ася в Лешаках не курит никогда, а Антон грызет морковку… В подполе перегородки подгнили, но в этот год подновить уж не успеем; белые-то отходят, надо сходить, сходим-ка завтра за Мшаники, помнишь, там еще Гришки-то Меньшова кобель ногу подвихнул в то лето, как ты диссертацию к защите подал… ну, на Купавино через бор, от развилки налево, сосна там молнией побита… А у сосны, — Симагин помнил с детства — просторная поляна: трава по пояс, цветы, цветы. Воздух горячий, смоляной, медовый, обстоятельные шмели с гулом плавают в мареве…
— Ты чего молчишь? — спросил Антон. — Ты засыпаешь? Или ты не рад, что меня взял?
— Да нет, — возмутился Симагин. — Просто подумал: мама проснется одна, кто ее покормит?
— Нас она кормит, а себя что, что ли, не сможет?
— Да ведь это другое дело. Других кормить приятно, а себя — скучно. Детеныш ты, Антон.
— Нет, — возразил Антошка, — я взрослый.
— Это почему?
— А все говорят. Совсем большой и не по годам развитый.
— Ты им не верь, — твердо сказал Симагин. — Ты сам подумай: разве настоящему взрослому так скажут?
Антон призадумался. Потом нерешительно проговорил:
— Нет, наверное…
— У тебя есть еще время взрослеть, и я тебе в этом даже завидую, Тошка. Тяжело работать, как взрослый, когда еще не вполне взрослый. Взрослость измеряется силой человека, а сила измеряется тем, скольким людям человек может помочь.
— Да-а? — удивился Антон. — А я думал — сила это когда… ну… и драться тоже…
— Это совсем другая сила. Она измеряется в лошадиных силах — помнишь, я рассказывал? Она тоже нужна, правильно. Но сейчас я не про лошадиную силу, а про человеческую. Чем человек слабее, тем меньше умеет помогать. Он хороший, не злой — но не умеет. Например, друг ногу сломал, а тот стоит рядом и: говорит:
«Ах, как я тебе сочувствую, ах, как тебе больно, ах, да кто же нам теперь поможет?..»
— Это только старые бабушки так говорят, — обиделся Антон. — Надо не болтать, а наложить шину.
— Ну, и как ее накладывать?
Антон насупился, а после паузы сказал с просветлением:
— А хорошо быть врачом. Приходит больной, мучается — а ты что-то такое сделал, и он уже здоровый. Засмеялся и побежал на работу. Здорово, правда?
— Правда, — сказал Симагин.
— Я буду врач, — сообщил Антошка. — А ты почему не врач?
— А я врач. Я самое лучшее лекарство изобретаю.
— А когда ты его изобретешь?
— Не знаю, Антон. Это трудно.
— Ты его изобретай скорей. Девочка Лиза из нашего класса очень часто простуживает гланды и заднюю стенку, а когда ее нет, мне скучно и даже уроки хуже учатся.
— Извини, Антон, но ко второму классу я не поспею, — улыбаясь, сказал Симагин. — Однако ты не думай, я стараюсь.
— Да уж я знаю, — важно поверил ему Антон. — Уж ты работаешь. Вовка меня и то спрашивает: твой папа всегда с вами живет или не всегда? — ехидновато-приторным голоском Виктории передразнил он. — Его папа всегда приходит с работы в семь, садится к телевизору и больше никуда уже не девается до следующей работы, — Антон подпрыгнул, меняя шаг, чтобы пристроиться с Симагиным в ногу, — А мама почему не врач?
— Она тоже врач, — не задумываясь, сказал Симагин. — Помнишь, я часто прихожу усталый, грустный… А она меня сразу вылечивает.
— А еще помню, как мы с мамой пошли в кино без тебя, и она только и смотрела кругом, и у нее все время делалось такое лицо, как когда ты приходишь. И сразу пропадало. А ты был дома грустный, а когда мы пришли, сразу вылечился.
У Симагина стало горячо в горле.
— Ну, вот, — проговорил он мягко. — Ты же все понимаешь. Плохое настроение — это болезнь. Опасная и заразная.
— Да-а? — Антон задрал голову, заглядывая Симагину в лицо пытаясь сообразить, не шутит ли он. Сразу споткнулся, конечно.
— Да-а! — в тон ему ответил Симагин, и Антон заулыбался. — Мама и на работе всех вылечивает, кто грустный и нервный, я видел. Только меня ей лечить приятнее, поэтому она всегда со мной.
— А тебе ее лечить приятнее, поэтому ты всегда с ней, — заключил Антошка.
Интересно, что он думает сейчас, прикидывал Симагин, глядя сверху на темную Антонову макушку. Сколько из того, что сейчас сказано, отложится там? И даже не сколько, а — как? Совершенно не могу представить. Он думал так, а разговор катился: как лечат друг друга мама и папа, как лечат друг друга знакомые, как лечит друга друг… и что это — друг…
— Представь, что вы где-то делаете революцию. И министр обороны старого правительства вроде бы человек хороший и прогрессивный. Может, даже вас поддержит. А может, и нет. Может, он специально притворяется, чтобы войти к вам в доверие, все выяснить и предать. И вот ты ему веришь и считаешь, что надо все рассказать, — тогда он вас поддержит армией. А твой лучший друг не верит, он считает, что министр вас обманывает.
— Какой же он друг, если по-моему не считает? — обиделся Антошка.
— Твой самый лучший. Вы с ним вместе выросли, вместе сидели в тюрьме у старого правительства, вместе бежали. Он тебя спас от смерти, потом ты его спас от смерти. А теперь ты говоришь, что он погубит дело, а он говорит — что ты. Как быть?
— Собрать большое собрание и проголосовать, — со знанием дела, уверенно ответил Антошка. Симагин даже опешил на миг.
— Нельзя, — сказал он затем. — Нельзя об этом говорить всем. Вдруг есть какой-нибудь ме-елкий предатель. Тогда он погубит министра. А если министр станет вам товарищем? Как же можно будущим товарищем рисковать? А во-вторых, кто будет на собрании? Деревенские повстанцы, в основном. С министром они не знакомы. Разве можно заставлять их решать? Решать тем, кто знает.
— Так а что же делать-то? — нетерпеливо спросил Антошка.
— А ты как думаешь?
— Не знаю, — произнес Антон после долгого размышления.
— Вот понимаешь? Кроме вас двоих — в общем, некому решать. И ты говоришь одно, а твой лучший друг — другое. А если вы поступите неправильно, могут погибнуть все революционеры. И вы сами. Оба, понимаешь? И тот, кто ошибался, и тот, кто был прав.
— Да как же быть-то, папа?! — Антон был в отчаянии.
— Никто не знает, — ответил Симагин. — Это называется — неразрешимый вопрос. Сколько бы их ни было — всегда приходится заново мучиться. И помочь никто не может. И никогда не знаешь, прав ты или нет. А действовать надо. И отвечать, если ошибся. И хоть как-то спасать тех, кто из-за твоей ошибки пострадал. Это часто бывает, и всегда очень больно.
— А вот… пап, а пап! А вот есть такая работа, чтоб все время думать над неразрешимыми вопросами?
— Есть. Писатель.
Этого Антошка явно не ожидал.
— Как дядя Валерий? — разочарованно спросил он, с недоверием оттопырив нижнюю губу.
— Да, — твердо ответил Симагин.
Они уже входили в химчистку, когда Антошка сообщил:
— Я буду писатель.
В химчистке было душно и тесно, резко пахло химикалиями. Очередь тянула эдак часа на полтора. Работали пять барабанов из восьми, два подтекали — по металлу, покрытому облупившейся синей краской, от круглых люков тянулись вниз ржавые полосы, а на полу, прислоненные к этим полосам, кренились старые погнутые ведра со смутно уцелевшими надписями: на одном «Для пищевых отходов», на другом — вообще «Компот». Героическая приемщица — красная от жары, задыхающаяся, оглохшая и обалдевшая от постоянного шума агрегатов — стойко, но нервно делала свое дело, и Симагину даже подумать было страшно, что ее рабочий день еще только начинается. Как всегда в таких случаях, ему хотелось подойти и сказать: «Давайте я за вас постою, идите погуляйте часок…» На улице очередь тоже была — внутри в основном старушки, снаружи в основном мужчины, которые группировались на солнышке вокруг пивного ларька и, как слышал, проходя, Симагин, с большим знанием дела обсуждали перспективы предстоящей встречи в верхах. Они сдували пену, похохатывали, хлопали друг друга по плечам и спинам, и никуда не торопились, но время от времени откомандировывали кого-нибудь из своих проверить, как идут дела и не пролез ли кто без очереди. Антон, едва войдя, подобрался и стал принюхиваться — он был здесь впервые. Он так и впился взглядом в круглые иллюминаторы машин — ему, вероятно, уже мерещилось, что там вращается по меньшей мере терпящая катастрофу Метагалактика. Или, наоборот, самая лучшая наша подлодка попала в повышенные тур-бу… пап, я помню, молчи!.. ленции и нужно срочно принять решение, которое всех спасет. Симагин дал Антошке насладиться, ответил подошедшей женщине, что он — последний, а потом осторожно потянул сына за плечо.
— Пошли в уголок. Оттуда видно.
— Пошли.
Они начали ждать, и разговор из-за шума как-то сам собой прервался. И сразу мысли Симагина стали сползать на методику выявления. Похоже, ничего не оставалось, как расписывать всю спектрограмму, и там, где аппарат не срабатывает и роспись не удается, предполагалось наличие латентной точки — метод, совершенно фантастический по трудоемкости и длительности. Симагин не мог с этим смириться. Еще вчера он подумал, что неверен сам подход. Они еще очень смутно представляли себе природу латентных точек. Они оперировали спектрограммой, будто она была конечной реальностью, а не ограниченным отражением далеко еще не понятных процессов. Тут следовало разобраться. Точки. Что в них? Резонанс есть всплеск затаенных возможностей, энергетическая буря. В обычном состоянии эти возможности никак не заявлены. Спектрограмма фиксирует любой идущий реально процесс, от зубрежки стихов до час назад подцепленного СПИДа. Можно ли момент ожидания считать реально идущим процессом? А что это — момент ожидания? Назвали — и как будто уже понимаем. Ожидания чего, собственно? Какие свойства возбуждает резонансная накачка? Да-да, именно, попробуем с обратного конца — какие качественно иные состояния организма нам известны? У Симагина среди духоты вдруг мурашки забегали по спине — дрожь озарения легонько коснулась кожи и отступила, потом коснулась вновь. Черт, тут могут таиться самые неожиданные сюрпризы, вроде способностей к чтению пальцами и тэ дэ, если они вообще существуют…
Идея скользнула как бы невзначай, на пролете — и лишь через несколько секунд Симагина обожгло.
Он очнулся оттого, что Антошка, приподнявшись на цыпочки, осторожно потянул его за локоть. Симагин нагнулся.
— Ты посмотри, — встревоженно прошептал Антошка, не отрывая взгляда от иллюминатора одного из барабанов. — Там только что были вещи. А теперь их нет.
Симагин посмотрел. Чистка закончилась, жидкость откачали, и центрифуга раскрутилась до предельной скорости. В иллюминаторе, за которым только что вразнобой плавали рукава и штанины, виднелось теперь лишь стремительное стальное мерцание.
— И воды тоже нет, — сказал Симагин.
— Воду откачали, — нетерпеливо прошептал Антон. — Надо скорее сказать вон той бабушке, что у нее вещи растворились.
— Подумай сначала чуточку, — попросил Симагин. — А если они все-таки там?
— А где?
— А про центробежную силу я рассказывал?
Несколько секунд Антон напряженно всматривался в иллюминатор — казалось, мерцание отражается в его немигающих глазах.
— А! — сказал он потом. — Воду откачали, и на воздухе все прижалось к стенкам. Барабан больше окошка, и стенок не видно.
— Соображаешь, — одобрил Симагин, но Антошка пригорюнился — отвернулся и стал меланхолически чертить на окне узоры. Симагин подождал-подождал, а потом спросил осторожно:
— Эй! Чего приуныл?
— Да ну! — ответил Антошка, дернув плечом.
— Это что еще за «да ну»?! — грозно спросил Симагин.
— Ведь сам же мог догадаться! А стал спрашивать.
— Это не беда, — Симагин ласково обнял Антона. — Пока был маленький, привык. Скоро отвыкнешь. Если бы меня не оказалось, ты бы спрашивать не стал и догадался сам. Важно не перестать думать, если сразу ничего не приходит в голову. Понимаешь?
— Понимаю, — вздохнул тот. — Но хорош бы я был, если б к бабушке побежал. Она бы сказала: какой глупый!
Когда Симагин очнулся во второй раз, подходила их очередь.
— Антон, — спросил Симагин, Стараясь говорить совсем спокойно, хотя его колотило. — Хочешь сам сдать вещи?
— Хочу! — не веря счастью, выпалил Антон.
— Держи деньги. Помнишь, за кем мы?
— Аск! — взросло возмутился Антон. Симагин бросился к телефону. Карамышев был дома.
— Доброе утро, Аристарх Львович, — сказал Симагин.
— Доброе утро, Андрей Андреевич, — сумрачно отозвался Карамышев. Судя по голосу, он был в дурном расположении духа.
— Мы с вами остолопы, — весело сообщил Симагин.
— Отрадно слышать, — ответил Карамышев. — Признаться, я тоже с утра за столом и тоже пришел к аналогичному выводу.
— Да я не за столом, я в химчистку стою… Знаете, что? В латентных точках мы напоремся на экстрасенсорную дребедень. Лечение руками. Ясновидение, телекинез. И, может, еще что похлеще. Все качественно иные состояния организма, которые в истории фигурируют как чудеса. А возможно, и такие, которых еще никто не наблюдал или не описал. Если эта чертовщина вообще существует, то только здесь. На резонансе. А знаете, что будет, если мы это ухватим?
Карамышев молчал. В трубке слышалось его напрягшееся, сразу охрипшее дыхание. Он молчал долго.
— Господи, — вдруг сказал он.
— Будет новый мир, — сказал Симагин. — Совсем новый.
— Но метод! — отчаянно, словно его вдруг стали резать, закричал математик. — Метод поиска!
Симагин засмеялся.
— Не нужен никакой метод. Я же говорю — качественно иные состояния. У них и спектр качественно иной. То ли частоты другие, то ли темп… Там же не текущее состояние регистрируется, а, так сказать, предпочтительная будущая возможность. Мы этот спектр просто не ловим, хотя он обязательно должен быть, в каждой точке — свое, специфическое ожидание… Но на нашей спектрограмме здесь просто дырки. Понимаете? А у нас сплошная линия. Это электронное эхо. Сигнал прерывается и тут же возникает в иной позиции. Луч исправно заполняет пробел, а мы дурью маемся. Нужен какой-то фильтр на катодах, что ли… Если снять эхо, дырки будут видны с ходу, прямо на экране. Приходите завтра в институт на часок пораньше, если можете.
Карамышев опять долго молчал.
— В химчистку, значит, — пробормотал он хрипло.
— Да, очередюга, знаете… И вот еще. Если вам не трудно, предупредите еще Володю, у меня больше двушек нет. Пусть он придет тоже, он же по электронике у нас…
— Я позвоню ему, — пообещал Карамышев. — И, разумеется, приду сам. Поздравляю вас, Андрей Андреевич. Это… До завтра, — он резко повесил трубку.
Ну, вот, думал Симагин, несясь к химчистке. Ну, вот. До завтра. Вокруг все сияло. В золотом мареве рисовались странные видения — чистые, утопающие в зелени города, небесно-голубая вода причудливых бассейнов и каналов, стрелы мостов, светлых и невесомых, как облака. Сильные, красивые, добрые люди. Иллюстрации к фантастическим романам начала шестидесятых шевельнулись на пожелтевших страницах и вдруг начали стремительно разбухать, как надуваемый к празднику воздушный шарик. Лучезарный дракон будущего в дымке у горизонта запальчиво скрутился нестерпимо сверкающими пружинистыми кольцами, вновь готовясь к броску на эту химчистку и этот ларек. А ведь, пожалуй, накроет, сладострастно трепеща, прикидывал Симагин. Неужто накроет наконец?! Или опять химчистка и ларек увернутся и, переваливаясь по-утиному, неуклюже, но шустро отбегут в сторонку?
А вокруг Антошки толпились бабульки и причитали, какой он взрослый да смышленый. Антошка стоял, нахохлившись, глядя исподлобья, и, едва завидев Симагина, бросился к нему, чтобы спрятаться от похвал.
— В седьмом барабане, — деловито отчитался он. — Уже пять минут вертят. С антиста… татиком. Ты им не вели меня так хвалить. Как будто я очень глупый, что вещи сдать мне подвиг.
На них умильно смотрели со всех сторон. Симагин поднял взвизгнувшего Антона на руки и подбросил к отечному трещиноватому потолку.
— Ты чего?! — на всю химчистку с восторгом завопил Антон.
— Жить на свете — хорошо! — на всю химчистку с восторгом завопил Симагин.
Дверь открыла Ася. По ее глазам Вербицкий сразу понял, что пришел не вовремя, и заулыбался еще приветливее, втаскивая в квартиру невыносимо тяжелый портфель.
— Здравствуйте, Асенька, — произнес Вербицкий задушевно и с облегчением поставил портфель на пол. — Можно войти?
— Здравствуйте, Валерий, — отчужденно сказала она, не скрывая неприязни. — Вы слышали передачу?
— Какую передачу?
— По радио. И по телевизору.
— Я ехал… Мы будем разговаривать на пороге?
— Проходите, — сказала Ася сухо.
— Я, собственно, на минутку, — приоткрыв портфель, он тронул кнопку включателя и вынул небольшую, еле поместившуюся книгу. — Брал у Андрея справочник, для работы… вот. Что за передача? У вас такой вид, будто кто-то умер.
— Умер.
А, черт, подумал Вербицкий. Не повезло. Мне всегда не везет.
— Простите, — нерешительно выговорил он. — Тогда, может, мне действительно лучше уйти?
Она пожала плечами. Вербицкий сглотнул.
— Ну хоть полчасика дайте отдохнуть, — попросил он, принуждая себя заискивающе улыбнуться. — Я с таким трудом ехал.
— Конечно, полчасика дам, — ответила Ася. — Присаживайтесь.
Вот и все.
Вербицкому стало хорошо и спокойно. Все труды остались позади. Словно он сел наконец в вагон поезда, на который никак не мог достать билет, и поезд тронулся, перрон скользнул за окном, провожающие машут и пропадают… Он почти видел, почти ощущал стремительное биение прозрачных полей вокруг портфеля. Это должно было длиться около двадцати четырех минут. Через полчасика, дорогая, ты уже не захочешь, чтобы я ушел; никогда не захочешь. Его подмывало позлить эту женщину, увидеть ее неприязнь — тем разительнее и сладостнее будет преображение. Интересно, как это будет выглядеть? Симагин говорил — до трех метров. И расстояние должно быть постоянным. Она села у стола. Достает. Или далеко? Нет, все будет хорошо. Должно же хоть что-то быть хорошо. Он смотрел на Асю из-за вагонного стекла, и сам не мог понять, что чувствует, мысленно видя, как его воля, вековечная воля самца, проросшая из архейских болот и вооруженная двадцатым веком, сквозь тщетную одежду, сквозь обреченную, беспомощную наготу вламывается прямо в душу и проворачивает там какой-то сокровенный рычаг, непоправимо переключая эту стройную гордую женщину, как стиральную машину или телевизор, — с программы на программу… Поезд набирал ход.
— Неужели Андрей и по воскресеньям ходит в институт?
— Они с Антошкой ушли в химчистку. Очередь, конечно…
— Надо же… — бессмысленно проговорил Вербицкий. Две минуты прошло. — Так что у вас случилось, Ася?
— Витя Лобов погиб.
— Лобов… погодите. Космонавт? Позавчера улетели.
— Да. Передали только что. Витя и еще двое вышли из станции — они же начали собирать этот громадный телескоп. Микромодуль сманеврировал чересчур резко, что ли… цапфы скафандра не выдержали. Разгерметизация.
— Какой ужас, — сказал Вербицкий. Три минуты. Минуты тянулись, распухали. Ведь две были уже так давно!
— Они с Андреем славно так дружили… хоть и редко виделись. При мне — только однажды. Сидят на кухне — сплошной хохот, — Ася подняла голову, увидела устремленный на нее взгляд, и лицо ее захлопнулось. — Андрей и Виктор вместе учились в институте, — сухо сообщила она.
— Вот оно что… Да… Космос… Мы с Андреем зачитывались фантастикой в школе… Тогда это было модно, помните, быть может… — Пять минут. Ася встала, взяла откуда-то тряпку и стала неторопливо, почти демонстративно, стирать пыль со стола, с серванта, с полок книжного шкафа. Вербицкий едва не вскочил, чтобы силой усадить ее на место. Боже, неужели сорвется? Из-за пыли?! — И плакали, когда погиб Комаров… Вы бы сели, Ася.
Занимаясь своим делом, она опять пожала плечами. Потом повернулась к нему.
— Знаете, — чуть смущенно сказала она, — Андрей меня так ругал, что я не успела прочесть ваши рассказы, Валерий. И правильно ругал. Вы простите меня, Валерий, я действительно как-то не успела… Если у вас будет возможность, пожалуйста…
«Уже!!» — размашисто крутнулось в голове у Вербицкого и тут же утекло в какую-то щель, потому что продолжения не последовало, и Ася, постояв, вновь принялась за проклятую пыль.
— Да пес с ними, Асенька, — сказал Вербицкий хрипло. — Вы слишком на этом концентрируетесь. Пустяки. Бумажки. Захотите — так прочтете, когда опубликуют. Меня же быстро публикуют.
Зачем я это, подумал он. Из-за чего горячусь? Через четверть часа я стану для нее богом, молча и без усилий — уже одиннадцать минут… Да сядь ты, дура!! Откуда я знаю, можно тебе ходить или нет?!
Она отложила тряпку.
— Пойду чай поставлю, — сказала она и двинулась из комнаты, и Вербицкий, уже не владея собой, вскочил с воплем:
— Не надо!
Она остановилась, изумленно глядя на него.
Эта заминка ее спасла. Микроискажения подсадки и без того уже были на грани летальности. Положение усугублялось тем, что внешний спектр подсаживался без фильтрации, всплошную, через случайные резонансы отнюдь не всех латентных точек, зато вместе с участками, не имевшими отношения к делу — такими, например, как садомазохистский регистр, — отламывая и перекрывая недопустимо обширную для одного сеанса область психики. Если бы Ася к тому же вышла из зоны облучения до окончания операции, ее смерть была бы неминуема.
— Правда, — выдохнул Вербицкий. — Не стоит. Я не хочу. Я уже пойду сейчас.
Она пожала плечами и сказала:
— Ну, мои захотят. На улице духота, а Симагин чай любит…
И пошла, пошла мимо…
И вдруг запрокинула голову, накрыв лицо рукой. Видно было, как ее качнуло, — она едва не упала. Что это с ней, с испуганным раздражением подумал Вербицкий и тут же сообразил — Симагин ведь хвастался прошлый раз, она ждет ребенка. Затошнило, наверное. Будь я женщиной, невольно подумал он, ни за что бы…
Ася напряженно опустилась на краешек кресла и обмякла, окунув лицо в ладони, уложенные на стол. Ее волосы растеклись бессильной темной пеной.
— Что с вами, Асенька? — озабоченно спросил Вербицкий. — Вам нехорошо?
Она с усилием подняла голову и исподлобья глянула на него.
— Мне хорошо.
У нее была восковая кожа и потухшие глаза — оставалось только удивляться стремительности перемены. Эта перемена решила все. Мгновения отслаивались, отщелкивались все быстрее. Вербицкий всей кожей ощущал их упругое проскальзывание. И с каждым мгновением эта женщина становилась его. Быть сторонним наблюдателем этого было легко и странно. Пощелкивали рельсы, он ехал в вагоне, работал машинист, тепловоз работал, он лишь ехал. Они молчали.
Словно какой-то будильник прозвенел. Время истекло. Вербицкий дрожал от возбуждения, лицо его горело.
— Я ухожу, но… запомните. Я не хочу оставлять вас. Мне страшно оставлять вас, — он облизнул губы. Теперь она должна понять, ведь все это правда. Ведь у них одна правда уже. — Здесь вы разучитесь чувствовать и мыслить, я же знаю…
Ася встала и тут же опять рухнула, со всхлипом втянув воздух.
— Господи, — едва не плача, пробормотала она, — ну где же Симагин?
— Что?! — не веря себе, переспросил Вербицкий. Внутри у него все оборвалось. — Что?!
В замке звякнул ключ, и, совсем как в первый день, непостижимым и неподвластным сверкающим сгустком женщина пронеслась мимо, черный костер волос опалил Вербицкому щеку своим летящим касанием.
Он. Долгожданный, надежный. Она льнула к Симагину, пытаясь, как вода, растечься по нему, чтобы не быть самой. Теперь все будет хорошо. Пришел — и сразу легче. Так и всегда. Прогони его, прогони. Я так ждала. А теперь что-то случилось. Но я все равно ждала. Только у меня нет сил, даже стоять не получается, идем скорее в комнату, только прежде прогони, я не могу видеть этих пустых глаз, мне хочется драться, но сил не стало, я сперва решила, что это твой, наш, во мне, подал первый знак, но это не он, ну скорее…
— Дядя Витя погиб, — сообщил Антошка из-за спины Симагина.
— Да, — она шевельнула губами, но даже не услышала себя.
— Валерка… Здравствуй, Валерка. Ты давно здесь?
— С час.
— Знаешь?
— Ася сказала.
Прогони его, милый! Ты даже не увидишь, что мне так плохо, только если умру, увидишь, но я не умру, как же я могу тебя оставить, я же знаю, что тебе нужна, прогони…
— Асенька… Заждалась нас? У, ладошки-то какие холодные, — он взял ее руки в свои, поднес к губам, и она зажмурилась даже, запрокинулась, перетекая в свои ладони навстречу его целительному дыханию. — Сейчас кофейку выпьем. Представляешь, на углу растворяшку выбросили. Из окон траурное сообщение, а народ банки хватает, по штуке в руки… И я схватил… А ты что, уходишь? С ума совсем!
— Да знаешь, я просто по пути зашел — справочник вернуть.
— Брось, Валера, посиди еще, куда спешить. Воскресенье.
— Это у вас воскресенье отдых. Работаете от звонка до звонка. Наш рабочий день не нормирован, и выходных нет.
— Да перестань…
Их голоса доносились как сквозь вату. Ася почти лежала на груди Симагина, ноги подгибались. Мир кружился то быстрее, то медленнее — она боялась открыть глаза.
— Нет, Андрей, я спешу. Спешу! Ну не уговаривай!!
Вербицкий не мог здесь больше оставаться. Он был на грани истерики — воздух жег, жег пол через подошвы туфель; хотелось истошно завыть и расколошматить об стенку, нет, об симагинскую самодовольную морду этот нестерпимо тяжелый портфель. Сволочь! Подлец! Обманул — меня, друга, мы же с детства вместе! Что он соврал мне, чего не досказал — разве выяснишь теперь? Какой позор! Какое унижение — не удалось!!
Ничего не могу, ничего. Одни словеса, не нужные никому.
— Ну, как знаешь, — грустно сдался Симагин. — Я понимаю… Ты извини, мы сегодня неприветливые. Заходи, как сможешь.
— Конечно! — в лихорадке кричал Вербицкий. — Обязательно!
Симагин бережно отстранил Асю и протопал на кухню. И недомогание накинулось снова. Она даже застонала, или ахнула протяжно, когда тошнотворный ком вдруг болезненно скользнул в горло, а оттуда толкнулся в голову и превратился в ледяной обруч, натуго стянувший виски. Удивленная и напуганная, она откинулась на стену спиной. Сейчас, уговаривала она себя. Потерпи. Вот он вернется, и все опять пройдет. Погода замечательная, пойдем в парк. Ему же надо сил набраться. До конгресса неделя, а знаю я эти конгрессы, прошлый раз вернулся от усталости сизый. С чего это я расхандрилась? Свинство какое! Дрыхла чуть не до полудня, пока мужики по очередям маялись, — и привет. А ну, Аська, кончай дурить! Ох, я тоже так устала.
— Слушай, гений, — громко и развязно спросил Вербицкий, — ты никак опять меня провожать собрался?
— Угу, выйдем вместе. Я до почты дойду, телеграмму дам Витиной жене. Ох, Валера! Как Витьку-то жалко! Он ведь сам этот телескоп и конструировал. Не один, конечно… Все кричал: орбитальный! Уникальный! Разрешающая способность! Вот как бывает. Сам придумал, и сам…
— Кто на Голгофу лезет, крест для себя всегда на себе тащит… Уж если лезешь — будь готов…
Лязгнула, закрываясь, дверь, и стало тихо. Это хорошо. Прошлепал к себе Антошка. Это хорошо. Стены валились на Асю, ее знобило. Пока он вышел, надо выздороветь. Что бы принять? Анальгин? Корвалол? Корвалол, кажется, кончился… Успею. Успею-успею. Она ничком упала на диван. Витя погиб, а тут еще я отсвечиваю… Надо было взять подушку. Надо было укрыться. Уже не встать. Да что я, не болела никогда? Миллион раз! А кто это видел? Никто. И сейчас не увидит. Он вернется, я встану, как ни в чем не бывало, и все будет хорошо. Все будет хорошо. Он войдет, я встану и улыбнусь, и даже не надо будет себя заставлять — просто он войдет. Головокружение не ослабевало, Асе было очень холодно, и вдруг резкая, короткая боль прошила ее по позвоночнику. Она вскрикнула, судорожно распрямившись на диване. Боль тут же прошла, и лишь слабый ее отголосок, память тела о внезапном страдании, медленно таял там, где полыхнул стальной огонь. Ася осторожно вздохнула, и тут ее ударило еще раз — она, не издав ни звука, скорчилась и прокусила губу. Да что же это?! Она была в панике. Что вдруг?! Из глаз выхлестнули слезы — от страха, и негодования, и бессилия. Он сейчас уже придет! Она с усилием раздвинула веки — свет был болезненным и едким, она не успела разобрать, что показывают часы, глаза захлопнулись вновь. Еще удар, сильнее прежних, грубо и подло распорол ее ослепляющим лезвием. «Симагин!!» — закричала она в ужасе, но не услышала себя. Язык был громаден и сух, чудовищной шершавой массой загромождал рот. Кровь гудела в ушах, нестерпимый колючий обруч снова стиснул голову так, что перед зажмуренными глазами брызнули искры. Господи, да что это? Откуда? Я умираю. Симагин, я умираю! Как же так вдруг?.. Словно издалека она услышала звук двери и, не в силах разорвать сросшиеся веки, вышвырнула себя из дивана, поставила на ноги. Глаза открылись, ломающийся в диком танце пол бросился в лицо, руки сами нашли какую-то опору — кажется, стену… устояла. Вошел Симагин — маленький, изогнутый, словно в перевернутом бинокле.
— Наконец-то, — проговорила Ася, едва проворачивая удушающую глыбу языка в ссохшемся рту. — Я уж заждалась, Андрюша. Дал телеграмму? От меня не забыл подписать? Как погода?
Далекое лицо Симагина странно дергалось. Ася хотела еще что-то сказать, но тут стену будто вышибли. Диван косо налетел снизу. Что так смотришь? Видишь, не могу. Мне казалось, я все могу, но что-то смещается, и ничего нельзя сделать. Ну не смотри, я не должна быть такой, когда ты рядом, ты же чудотворец, ты всегда мог снять любую усталость и любую боль, и теперь это из-за меня, это я виновата, что ты не можешь… посиди тихонько, с Тошкой поиграй… Обед разогрей, я полежу — и пройдет. Она уже ничего не видела. Тело разламывалось от блуждающих взрывов ослепительной боли, стало чужим, и сквозь эту чужесть она ощущала бесконечно далекие, бесконечно слабые прикосновения. Кажется, подложил подушку. Кажется, укрыл. Ласковый, ласковый — а я!! Даже сейчас она чувствовала, с какой пронзительной заботой его руки укладывают и укутывают ее сломанное, измочаленное непонятной бедой тело — проклятое, оно предало эти руки, оно не отзывалось, оно не могло!
— Симагин, — напрягаясь, выговорила Ася. — Ты не беспокойся, я сейчас… — он, прильнув к ее губам ухом, едва разбирал мучительный, надтреснутый шепот. — Ты поешь пока… Ты не бойся, у меня так уже было, когда Тошку ждала… Ничего особенного.
…Ася проснулась и долго не могла понять, почему она спит, а за окном светло. Потом вспомнила. Происшедшее казалось кошмарным сном — нигде не болело, мир был тверд, ярок. Дикое желание, словно сладким уксусом, пропитывало плоть. Она осторожно, еще боясь, еще не веря, откинула одеяло и спустила ноги с дивана. Ничего не произошло. Она тихонько засмеялась. И встала.
Дело шло к шести. Наползли лохматые красивые тучи и повисли, готовые пролиться. Ася опять засмеялась. На кухне едва слышно бубнили. «А вот эти фото передал „Пайонир“. Видишь, как здорово. Называется Красное пятно. Никто не знает, что это за штука такая». У Аси даже во рту пересохло от симагинского голоса. Все сжималось внутри, горячо обваливаясь вниз, навстречу… Покрутилась по комнате, размахивая руками. Чуть поташнивало, но от этого уже не уйти. Интересно, он чувствует, что я проснулась? И зову? Я всегда чувствую… Симагин.
— Пойду гляну, как мама спит, — сказал на кухне Симагин. — Посиди пока.
Слышит, ликовала Ася. Он все понимает, все чувствует… Да разве есть еще такие люди в мире? Она спряталась за дверью, и, когда Симагин вошел и замер, растерянно уставившись на покинутый кокон одеяла, Ася закричала и бросилась ему на спину. От неожиданности он чуть не упал.
— Аська! — ахнул он. Она взахлеб целовала его в затылок, в шею, по коже у него побежали заметные мурашки. — Аська, черт! Ты живая? Подожди…
Она отпрыгнула, смеясь, и он сразу повернулся к ней.
— Ничего не хочу ждать, — заявила она. — Все сейчас.
— Аська… — он еще не мог прийти в себя и озадаченно, опасливо улыбался.
— Все прошло, — не задумываясь, сказала она. — Это я вчера перевеселилась, — она воровато глянула на дверь и лихо захлопнула ее ногой; одним рывком расстегнув рубашку, сдернула к подбородку захрустевший лифчик. Восторг переполнял ее, организм ликовал, празднуя какую-то одному ему известную победу. С девчачьим взвизгом она опять бросилась на Симагина, обхватив коленями, повисла на нем и самозабвенно запрокинула голову, выгибаясь, вдавливаясь ему в лицо — он прижал ее к себе, целуя в грудь. — Жуй меня… Ешь скорей… живьем глотай, пожалуйста… — умоляла она. Из коридора послышались скребущие звуки, и Антошкин голос спросил: «К вам можно, или как?», и Симагин уронил ее, она отпрыгнула к окну, стремительно приводя себя в порядок, и звонко закричала: «Еще бы нельзя! Только тебя и ждем!» Тошка вошел, и тогда она подхватила его, как только что ее — Симагин, и принялась начмокивать в макушку, в затылок, в щеки, а он растерялся сначала, потом стал отбиваться, но она все крутила его, кружила, что-то приговаривая, а Симагин смеялся рядом, и глаза его сверкали.
— …А не поздно гулять-то?
— Время детское, не дрейфь!
— Аська! — он смеялся. — Ну, тебя кидает! Тошку возьмем?
— Натурально. Анто-он! — закричала она, как в лесу. — Пойдешь гулять?
Антошка высунулся из своей комнаты.
— Пойду, — заявил он и скрылся.
— Неужели все прошло? — спросил Симагин. — Ты такая веселая… А ведь было что-то ужасное. Ты не притворяешься?
— Я тебе сейчас за такие слова!.. — свирепо воскликнула Ася и стала дергать Симагина за нос. Симагин мычал и нырял головой. — Ах ты, слоненок! Ты кому не веришь? Разве есть такой закон — чтоб любящим женам не верить? Ты скажи! Есть? Если есть, я к депутату пойду, пусть отменит!
— С пустяками к депутату не пускают…
— Прорвусь! Ты что, не знаешь, что для влюбленной женщины нет препятствий? Попру, как бульдозер! — она изобразила бульдозер и, взревывая моторами, покачиваясь на ухабах, поползла на Симагина. Загнала в угол и опять стала целовать в подбородок, в шею, в расстегнутый ворот рубашки, потом упала на колени, прильнула. Он смеялся, запрокидывая голову:
— Нет, ты с ума сошла. Правда, ты с ума сошла…
— Да! — отпрянув, закричала Ася и начала делать страшные гримасы. — Я с ума сошла! Я Клеопатра, — величественно возвестила она, принимая позу. — Нет, я мадам де Богарне, — сказала она с французским прононсом, принимая другую позу. — Ой, я же вся с поросячьими ресничками!
— Не надо! — безнадежно взмолился Симагин.
— Ничего не понимает, — деловито сообщила она в пространство. Она уже стояла у зеркала, раздирая косметичку, движения были поспешны и суетливы. — Тупой, грубый, неотесанный, — она выставила один глаз к зеркалу. — Неужели тебе не сладостно видеть, как я становлюсь красивее? Лицезреть. Вот я… — доверительно призналась она немного странным голосом, потому что лицо ее было неестественно напряжено, — вечно обмираю, когда ты бреешься. Мужское таинство, вот что это такое. А ты… эх, ты.
— А браво у тебя выходит раздеваться, — завороженно следя за ней, сказал Симагин. — Я думал, все пуговицы брызнут.
Ася хихикнула и тут же ойкнула, потому что где-то что-то положила не так.
— Женщина, — справившись с аварией, сказала она, — которая не умеет мгновенно раздеваться, не стоит и кончика мужского мизинца. Вас же надо на испуг брать. Лови момент и рви пуговицы. Тогда еще есть надежда на ломтик простого бабьего счастья. Не надо печалиться, вся жизнь впереди — разденься и жди…
— У нас парни пели — напейся и жди.
— Каждому свое… Все, готова! — она отшвырнула косметичку и стала моргать на Симагина новыми ресницами. — Здорово? Где Тошка?
— Жду, когда позовете, — ответил Антон, высовываясь из приоткрытой двери. — Меня отпустили, — сообщил он важно, — хотя момент очень ответственный. Микромодуль маневрирует неправильно, — пояснил он в ответ на вопросительный взгляд Симагина. — Хорошо, что цапфы выдержали.
Было начало девятого, когда они вошли в парк. Ну надо же, думала Ася, слушая Симагина. Он опять открытие сделал. Вот так вот болтаем, целуемся, за нос его дергала — а он что, и впрямь гений? С ума сойти. Телепатия. Только телепатии и не хватало. Вербицкого бы протелепать — что он тут вьется. Она попыталась всерьез представить то, о чем рассказывал Симагин, и не смогла. Это было совершенно несовместимо с обыденным миром. Не может этого быть, все-таки. А вдруг, все-таки, может? На краю какой бездны он стоит, подумала она и даже головой качнула, представив. И лицом разрубает ледяной ветер этой жуткой беспредельности. Кажется, так все тепло можно растерять, а он — вон какой. Живой и весь светится. Она прильнула к нему. Вот какой. Теплый. Нежный. И как я заслужила эту честь — быть ему ближе всех? А сколько времени не верила, что он такой. А он и не был. Он бы таким и не стал, если бы меня не оживил. Потому нам нельзя теперь врозь, разрежь — и все. Странно, надо бы ущербность чувствовать, что сама по себе не можешь, — а вот поди ж ты, гордость.
Странно, думал Симагин, рассказывая. Быть рядом с такой женщиной — это… это… Надо горы сворачивать, чтоб хоть как-то оправдать это. Чтобы быть достойным ее. Как она чувствует все, как откликается на красоту — вечерний лес вокруг, и она сразу, как этот лес, тиха, отуманена нежностью и покоем. Как бы я жил без нее? Как я жил до нее? С полуденной ясностью он понял, что весь прорыв последних лет, позволивший лаборатории Вайсброда далеко обогнать всех биоспектралистов мира, возникновением своим обязан Асе, и только ей.
Антон чинно двигался рядом и даже не пытался обследовать, как обычно, беличьи скворечники — постучать по стволу дерева, прижав ухо к твердой коре, поглядеть вверх и отойти, по-хозяйски отметив: спит… Тоже заслушался.
— …Опять все раскидал, — укоризненно сказала Ася, складывая Антошкины штаны и рубаху и вешая на спинку стула.
— Я забыл, — ответил Антошка виновато и, предвосхищая следующий пункт вечерней программы, накрылся одеялом по грудь и положил руки поверх. Победно глянул на Асю. — Мам, а мам… Я спрошу, ладно?
— Ладно, — Ася присела на краешек постели, и Антошка немедленно ухватил ее за ладонь.
— Мам, а у меня правда скоро будет братик?
Ася улыбнулась потаенно и счастливо. Нагнулась и поцеловала Антошку в лоб.
— Правда, — ответила она. — Или сестричка.
— А почему так — не было, не было, и вдруг будет?
— Когда мама и папа очень любят друг друга, раньше или позже у них обязательно появляется сынок или дочка.
Лоб Антошки собрался маленькими, симпатичными морщинками. Антошка размышлял.
— А тогда… мам, — нерешительно спросил он. — Значит, ты… раньше очень любила не папу?
Ася прикусила губу и тут же улыбнулась.
— Я была чуть старше тебя и гораздо глупее, — объяснила она. — И мне показалось, понимаешь? Если кажется, то некоторое время оно будто есть на самом деле. Это чтобы поскорее учились отличать настоящее от того, что кажется. По-настоящему я всегда очень любила папу. Только мы не сразу встретились.
Антошка внимательно смотрел на нее.
— Тут есть что-то, чего я не понимаю, — совершенно по-симагински сказал он. — Наверное, это неразрешимый вопрос… Мам, а мам?
— Что, милый?
— А ты никого больше не полюбишь?
— Да ты что, Антон? — Ася звонко рассмеялась. — Кого? Ты разве не видишь?
— Вижу, — ответил он. — Я почему-то уже плохо помню, как было до папы, вроде папа всегда был. Но когда вспоминаю, вижу, что ты стала веселее и добрее.
Ася почти с испугом всматривалась в его лицо. Тошка, думала она, клопик мой… Кажется, вчера родила тебя — и вот уже.
— Я тоже, когда вырасту, буду добрый, — сообщил Антон.
— Разумеется, — ответила Ася.
— Мам, — опять спросил он, — а ты больше не заболеешь?
— Ну кто же болеет два раза на дню? — засмеялась Ася. — Спи спокойно, Тошенька.
— Мы очень испугались, — сказал Антошка. Глаза у него стали, как у засыпающего Симагина, — щелочками.
— Ничего не бойся, — сказала Ася и потрепала его по голове. Он зажмурился от удовольствия и открывать глаза уже не стал.
Симагин старательно делал вид, что спит. Ждет, с восторгом поняла Ася. Сердце колотилось все отчаяннее. Будто впервые. Она бросилась в ванную и несколько минут извивалась под душем — сначала горячим, потом холодным, чтобы Симагин ее отогрел. От душа головокружение, усилившееся к вечеру, прошло напрочь. Спеша, дрожа, Ася сорвала купальное полотенце и прехитро в него замоталась — как бы наглухо, но при каждом шаге левая нога во всю длину выпрыгивала из таинственных складок и, заманивая, мгновенно утягивалась вновь. С видом блистательной куртизанки она проследовала к Симагину, погуляла по комнате под его жадным, ощутимо разгорающимся взглядом. Бесцельно потрогала что-то на полке, переставила чуть-чуть русалочку. Потом повернулась к постели.
— Симагин, — спросила она едва слышно, — ты спишь?
Глядя на нее во все глаза и улыбаясь, он захрапел, изображая беспробудный сон. Она сделала шажок к нему.
— Можно я тебе приснюсь?
— Какой чудесный сон, — произнес он блаженно. Мягким шажком Ася подошла вплотную и замерла; Симагин обеими руками потянулся к ней, но ее улыбка лопнула, словно взорванная изнутри, руки вскинулись изломчато и страшно, полотенце мягко повалилось на пол, но в этом не было уже ничего, кроме боли и катастрофы, и Ася, простояв еще секунду с судорожно бьющейся, исступленно натягиваемой обратно на лицо улыбкой, гортанно закричав, упала. Раскинулась. Вновь закричала, ее бросило на бок, потом на спину. Симагин был уже рядом, подхватил запрокинутую голову в ладони, но Асю ударило вновь, она вывернулась из его рук, со стуком ударилась затылком и обмякла. Он поднял ее, перепуганно бормоча: «Асенька… Ты меня слышишь? Ася!!!» Словно мертвая, она висела у него на руках, только дыхание выдавало жизнь — короткое, скрипучее, сухое, рот был страшно разинут. Он уложил ее, укутал, что-то еще бормоча. На лице ее выступил ледяной пот, и тогда Симагин кинулся в коридор, набросил на голое тело плащ, бормоча: «Сейчас, Асенька! Сейчас!» Последнее, что он увидел в квартире, был Антошка, выбегающий из своей комнаты. Уже с лестницы, в закрывающуюся дверь он крикнул сыну: «Маме плохо!»
Когда Симагин вернулся, Антошка напряженно стоял у постели, По-Асиному прижав кулаки к щекам. Он повернул голову, и Симагина встретил взрослый, напряженный взгляд.
— Когда приедут?
— В течение двух часов. Что тут?
— Успокаивала меня, а потом опять…
Симагин взял Асю за руку — рука была холодной и рыхлой, как талый снег.
— Симагин… — выдохнула она.
— Асенька! — закричал он, едва не плача. — Я врача вызвал, сейчас приедут. Что мне делать? Может, ты попить хочешь?
Она послушно сказала: да, чтобы хоть чем-то наполнить его желание помочь. Ей была отвратительна самая мысль о питье. Симагин метнулся на кухню, но когда вернулся, всю душу вложив в этот чай — ровно той крепости, сладости и теплоты, что предпочитала Ася, — она снова была невменяема.
— Она велела мне уйти, — глухо проговорил стоявший поодаль Антон.
— Выйди, Тошка, выйди, да, — пробормотал Симагин. — Асенька… Я принес…
Она открыла глаза. На Симагина глянули одни белки. Симагин вскрикнул, едва не выронив чашку — Асину любимую, голубую, с узорчатой ручкой… Веки упали.
— Сим… — выдохнула она. — Сим, холодно. Ляг рядом. Приласкай. Зачем я гулять… Надо сразу. Как я по тебе соскучилась… — Распухший язык едва шевелился между лиловыми губами. Он, не глядя, ткнул на столик плеснувшуюся чашку. Ася была промерзшая, влажная, напряженная, словно в постоянной судороге; он стал гладить ее плечи, грудь, живот, ноги, она не чувствовала. Судорога усилилась, Симагин обнял Асю, бережно согревая, — она хрипела и время от времени выдыхала: «Сим…», и он отвечал: «Я здесь, радость моя…» Она не слышала.
Потом опять что-то изменилось. Дрожь погасла. В свистящих выдохах угадывалось: «Не дам… не дам…» — словно в ней рушилось нечто, и она из последних сил сопротивлялась разрушению. «Что ты, солнышко, что?» Она не отвечала, но вдруг он почувствовал, как она принялась лихорадочно и бессильно ласкать его влажными, ледяными ладонями. Он заплакал. Пробормотал: «Я принес, ты пить просила, чайку…» — «Нет, — сипела она, не слыша. — Нет. Ведь не так. Я тебя люблю». Симагин осторожно высвободился, чтобы налить грелку, принести рефлектор — Ася страшно мерзла. Огляделся, растирая щеки. Комната была чужая.
В дверях стоял Антон.
— Папа, — позвал он.
— Да?
— Мама не умрет?
Симагин вздрогнул.
— Ты… ты не смей так говорить! Так говорить нельзя!
— А если мама умрет, — упрямо выговорил Антошка, — мы с тобой тоже умрем?
Симагин замер с пустой грелкой в руке.
— Да, — сказал он негромко, — мы тоже.
Антон кивнул.
В начале третьего приехал молодой, пахнущий кэпстэном и «Консулом» широкоплечий парень и стал спрашивать, одергивая Симагина: «Спокойнее… у страха глаза велики…» Ася лежала тихо, ей, вроде, полегчало, только, несмотря на грелки и одеяла, она дрожала по-прежнему. Врач смерил давление, выслушал сердце, как-то еще поколдовал, потом вернулся к столу и начал писать. Он был спокоен, уверен. Написав, задумался, с прищуром глядя на свет торшера, и вдруг резким движением скомкал бумажку.
— Надо госпитализировать, — сказал он, и сейчас же тишину комнаты распорол визжащий, протяжный крик:
— Не-е-е-ет!!! Кричала Ася.
Симагин рухнул на колени у постели; врач, морщась, обернулся к ним.
— Нет… не надо… не поеду, — быстро-быстро, едва различимо, говорила Ася. — Не отдавай. Он ничего не понял, — она цеплялась за его ладонь ломкими пальцами, заглядывала в глаза, умоляла. У нее опять стали колотиться зубы. — Мне надо с тобой…
— Вы же взрослая женщина, — сказал врач. — Вы должны понимать…
— Доктор, — сказал почерневший Симагин, — что с ней? Лицо врача чуть исказилось пренебрежением и досадой.
— Какой-то нервный шок, — нехотя ответил он. Казалось, все это ему надоело. Давно. — У меня еще много вызовов, — сообщил он. — Я не могу полночи вас уговаривать, — он достал бланк и опять стал поспешно писать. — Когда передумаете, вызовите транспорт.
— С каким диагнозом ее отправят? — тихо спросил Симагин. Перо врача запнулось на серой бумаге.
— Я же сказал — нервный шок, — проговорил он.
— Ну тогда хоть успокаивающий укол, — просяще сказал Симагин. — И сердце поддержать. У нее сердце слабое…
— Со слабым сердцем у вас уже был бы инфаркт, — вставая, ответил врач. — Вот направление, в уголке — телефон.
Симагин не ответил, но вдруг неуловимо стал непробиваемой стеной на пути. Скулы его прыгали. Не двигаясь с места, врач покусал губу.
— Я хочу того же, чего и вы, — сказал он. — Чтобы ей помогли. Понимаете?
Стало тихо. Всхрипывая, дышала опрокинутая на подушки Ася.
— Какая больница дежурит? — спросил Симагин с усилием, и опять раздался крик:
— Не-е-ет!
Симагин резко обернулся и успел увидеть, как выгнувшееся тело опало под одеялами.
— Ася, — жалобно выговорил он, но она выдохнула:
— Ни-ку-да…
Врач молча раскрыл ящичек и стал готовить шприц. Он работал нарочито спокойно, но чувствовалось, что нервы у него тоже сдают. Симагин наблюдал.
— Что это?
— Снимет напряжение, — сквозь зубы бросил врач. — Она уснет.
Ася с усилием выпростала руку. Симагин погладил предплечье — вся кожа дрожала мелкой, едва уловимой дрожью.
— И кордиамин, — сказал Симагин. Врач коротко оглянулся на него и выполнил приказ, ни слова не говоря.
— Направление действительно до утра, — сказал он затем и решительно прошел мимо Симагина.
— Хорошо, — ответил Симагин. — Благодарю вас.
Врач коротко склонил голову и вышел. Симагин снова опустился на колени. Вошел Антошка и встал, прижавшись плечом к косяку.
— А попить у тебя можно? — напрягаясь, спросила Ася. — Только не чаю, простой воды…
Выпадая из тапок, Симагин рванулся на кухню. Только тогда Антошка решился подойти к постели.
— Мам, — сказал он. — А мам.
И больше ничего. Но она сразу поняла.
— Да я же не заболела, Тошенька, — выговорила она и улыбнулась, а потом закрыла глаза. — Я просто немножко устала.
Странно, думала она. Неужели можно вот так вот, дома, умереть? Антон стоял рядом, она смутно припомнила, что у нее закрыты глаза, но она прекрасно видела его, и пошла на кухню, и сказала: что же ты возишься, и Симагин, роняя чашку, обернулся, но чашка не разбилась, а покатилась, будто пластмассовая, и у Симагина не было лица, Ася отшатнулась, нет, лицо было, странно знакомое, не его, одутловатое, отвратительное…
Когда Симагин вернулся, Антон сказал:
— Мама закрыла глаза и уснула.
В пять Симагин запихал сына в постель, а сам вернулся в спальню. Асино дыхание выровнялось, и щеки порозовели — к шести она была обыкновенная спящая Ася, безмятежная, разметавшаяся, теплая. У нее даже улыбка промелькнула на сонных мягких губах, и Симагин заулыбался в ответ. Он задремал прямо в кресле.
Первыми в лабораторию пришли Карамышев и Володя, а чуть позже — Вайсброд, которому Карамышев тоже позвонил вчера. Около часа они молча ждали, все больше беспокоясь. Ровно в девять, как всегда, задорно цокая каблучками, влетела Верочка. «Привет! — улыбаясь, сказала она Володе. — А где маэстро? Ты что, один в такую рань?» И тут увидела стоявших за изгибом пульта Вайсброда и Карамышева. Ее оживление как рукой сняло, даже румянец пропал. Поникнув, она подошла к окну и осталась стоять, глядя наружу. Там шел спокойный, прямой дождь.
К половине десятого собрались все. Кроме Симагина.
Без четверти десять Вайсброд не выдержал. «Как же он разговаривал с вами?» — «Очень бодро, — тихо ответил математик. — Чувствовалось, что кипит». — «Вы никому не рассказывали?» — спросил Вайсброд после паузы. Карамышев отрицательно покачал головой. Потом наклонился к Вайсброду и совсем тихо проговорил: «Я даже Володе сказал только об идее электронного эха». Вайсброд кивнул и предостерегающе шевельнул бровями. Карамышев, не меняя тона и не оборачиваясь, тихо произнес: «И главное, ради чего эти хлопоты? Чтобы вместо обыкновенной, удобной, нормальной стенки загромоздить комнату престижной махиной». Вадим Кашинский, неслышно подошедший сзади, остановился было и вдруг опять двинулся куда-то в сторону, пробормотав: «А, вы же некурящие…» Вдруг Верочка рывком отвернулась от окна и звонко, свирепо крикнула: «Ну неужели ни один не мог пойти в местком и стукнуть кулаком по столу, чтоб ему поставили телефон?! Знаменитости!» Разговоры затихли. Верочка, словно от сильной боли, замотала головой и опять отвернулась. А потом с грохотом растворились двери, и влетел Симагин.
Когда улегся шум, Вайсброд подошел к нему и сказал негромко:
— Андрей, когда пройдет первая серия, давайте пообедаем вместе. Тут за углом есть пельменная. Вы не против?
В пельменной было чадно, людно и шумно. Они нашли свободный столик, отгребли на край гору грязной посуды и осторожно, боясь испачкаться в крошках и лужицах на столе, расселись.
Вайсброд разломил пополам кусочек хлеба и опасливо попробовал бульон.
— У меня к вам два приватных разговора, — сообщил он.
— Я догадался, — ответил Симагин после паузы. — Только не знал, что целых два сразу.
— Целых два сразу. Первое. В Москву я не еду.
— Что случилось?
— По состоянию здоровья, — сказал Вайсброд.
— Так, — сказал Симагин, и ложка вывернулась у него из пальцев, плеснув бульоном на стол. — Ч-черт… Действительно?
— Чувствую я себя погано, — признался Вайсброд. — Так или иначе, Андрей, вам надо учиться обходиться без меня. В этом плане я очень рад, что вы сошлись с Аристархом Львовичем, — он в высшей степени интеллигентный и знающий человек.
Некоторое время Симагин энергично ел.
— Кто-то поедет вместо вас, или мы отправимся с Аристархом вдвоем?
— Нет, — сказал Вайсброд, — поедет вместо меня Кашинский. Симагин ошеломленно воззрился на Вайсброда.
— А что он там будет докладывать? Он же…
— Нет, — сказал Вайсброд, — докладывать он будет не там.
— Что?
Вайсброд пожевал губами и отодвинул бульон. Есть это он не мог.
— Вадик неплохой специалист. Ему будет очень полезно побывать на столь представительном форуме, это его поощрит, даст перспективу. Самостоятельного доклада ему не ставят. Он будет у вас на подхвате. А по возвращении тщательнейшим образом, помимо ваших официальных отчетов, проинформирует дирекцию обо всем, что говорилось и делалось на конгрессе.
Секунду Симагин смотрел на Вайсброда, не понимая, а потом сморщился, как от кислятины.
— О гос-споди, — сказал он с мукой, — так вот в чем дело!
— Н-ну, — ответил Вайсброд.
— Только дирекцию или выше?
— Не имею представления.
Симагин принялся за еду. Вайсброд сидел, сцепив руки на животе, и смотрел на него.
— Аристарх знает?
— Да, разумеется. Аристарх Львович и в этом отношении необычайно тонкий человек.
— Ладно, — сказал Симагин, принимаясь за второе. — Что второе?
— Вот что второе. Кому вы успели рассказать о своей идее?
— Какой именно идее? — раздраженно спросил Симагин.
— Вчерашней, — терпеливо сказал Вайсброд и пригубил компот. От компота отчетливо пахло дезинфекцией. Он отставил стакан. — Относительно телекинеза и прочей мистики.
— А, — мрачно произнес Симагин. — Ну, вырвалось в пылу… Карамышеву да Асе. Хотя, если хотите знать, я убеж…
— Речь не об этом, — сказал Вайсброд. — Я вполне доверяю вашей уникальной интуиции. Но я настоятельно просил бы вас не расширять круг посвященных. Держите, Андрей, эту странную мысль в стратегическом резерве.
— Эммануил Борисович! — почти сердито воскликнул Симагин, с возмущением глядя на Вайсброда красными от бессонной ночи глазами. — Я когда-нибудь давал основания подозревать меня в прожектерстве?
— Помилуйте, — улыбнулся Вайсброд. Болели уже все внутренности. Следовало срочно ехать домой. — Дело совсем в ином. Если сейчас пойдет разговор о подобных перспективах, нас всех либо объявят пустомелями, что не будет способствовать работе, либо посадят на совершенно иной режим, что тоже не будет способствовать работе. Потом выяснится, что никакой телепатии нет, а режим останется. Поймите меня правильно. Когда и если подобные эффекты действительно обнаружатся, нашим долгом будет обуздать любую мистику и отдать ее стране. Для применения во всех областях народного хозяйства. Но раньше времени привлекать…
— Я понял, — угрюмо и безнадежно сказал Симагин.
— Вот и отлично, — опять примирительно улыбнулся Вайсброд и тронул Симагина за локоть. — Ваша идея латентных точек блистательна. Впрочем, что я говорю — идея. Это уже целая теория.
— Да будет вам, — буркнул Симагин.
Больше они не разговаривали. Вайсброд смотрел на Симагина. Симагин поспешно дожевывал люля. Он поднял голову, лишь когда за соседним столиком стали кричать. Там стояло только два стула; один занимала женщина лет не более тридцати, расплывшаяся, размалеванная, а другой — ее большая сумка. Обескураженно озираясь, стояли с подносами в руках парень и девушка, их лица были пунцовыми.
— У меня скоро подойдут! — остервенело голосила сидящая. — Я что, зря сижу? Я для дела сижу! Занято, говорю!!
— Ну мы же с едой, — нерешительно вставил парень. — И сесть некуда, посмотрите сами…
— Ва-ась! Меня тут гонют! — крикнула, оборотясь к очереди, сидящая.
Девушка, потянувшись к уху парня, что-то тихо сказала.
— Какого черта, — пробормотал Симагин и поднялся. Обогнул столик и вдруг ногой сшиб модную сумку на пол.
— Вот так надо, — пояснил он парню.
Сидящая онемела.
— Тебя мне пинать не придется?! — с бешенством, побелев, спросил Симагин. — Нет?! Вижу, что нет, — одобрил он, когда та с разинутым ртом выползла из-за стола.
— Банда!! — завизжала она. — Тут их банда! Ва-а-а-ась!!
Пельменная заинтересованно затихла. Перемахнув через перильца, из середины очереди вылетел дюжий смуглый Вася в расстегнутой до волосатого пупа рубахе и джинсах, украшенных верхолазным поясом. Парень поставил поднос, пригладил волосы и встал с Симагиным плечом к плечу. Вася остановился, морщась и озираясь.
— Что ж ты, дура, — сказал он и вернулся в очередь.
Симагин поднял с пола сумку и подал женщине. Та, не глядя, вырвала ее, открыла и, всхлипывая, принялась перебирать содержимое.
— Доедайте быстрее, Андрей, — брезгливо пробормотал Вайсброд.
Парень смущенно сказал Симагину:
— Спасибо, друг.
Симагин чуть улыбнулся белыми губами:
— Не за что, друг.
Дети гибнут
1
Ну, вот, это и пришло, думала Ася. Она сидела у окна троллейбуса, с окна текло, и Ася время от времени пыталась отодвинуться, но сидевший рядом толстяк, уткнувшийся в газету, не пускал ее своим мягко-тугим мокрым боком и только подозрительно косился, сопя, — кажется, подозревал, что Ася к нему жмется. Что они все за дураки, с тоской думала Ася. Было зябко и как-то пусто. Странно — в этом состоянии женщина всегда одна.
Она вспомнила, как тот растерянно лепетал: «Надо убрать немедленно, все только начинается… куда спешить… мы друг к другу-то еще не притерлись…» И, вдруг все поняв по ее окаменевшему лицу, резко сказал, загасив сигарету о стену возле двери деканата:
«Если пойдешь на авантюру, на меня и мое имя не рассчитывай. Я ни за что не отвечаю». Она крутнулась на каблуках, бросив язвительно: «А ты и так ни за что не отвечаешь! Это мое!» А может, зря? Надо было как-то… Как? Ведь я ему нравилась… И пошла прочь, исступленно ожидая, когда окликнет. И ревела в три ручья, колотила мокрую подушку, кричала. И назвала сына именем отца — единственное, чего Симагину не сказала. И вечерами моталась туда, еще на девятом месяце моталась, тяжело переваливаясь, опасно оскальзываясь на вечном гололеде, стояла, мерзла, ждала чего-то, глядела на пронзительное окно, которое по весне весело и преданно мыла, чтоб он не тратил время; к которому, казалось, только вчера подходила с той стороны, как хозяйка: голая, гордая, взрослая, с сигаретой в руке. «Родопи». Как сейчас помню — «Родопи». Сто лет не вспоминала, надо же, думала — стерлось. Ну и что? Хочу и вспоминаю. Наверное, по-настоящему я и любила-то только того. Потом одна дрянь. Ну, и Симагин, конечно, с ним светло. Тепло, светло и мухи не кусают. Не одна. Все равно как будто одна. Интересно, тот по мне скучает? Много женщин у него было с тех пор?
Странно, ничего не болит, не тошнит почти. Но что-то неуловимо меняется, и главным становится другое, и мужчина уже чужой, и только легкое отвращение испытываешь к тому, чего раньше ждала с погибельно сладкой дрожью. Интересно, с тем было бы так же? Только б Симагин не догадался. Или сказать? Мы же все друг Дружке говорим. Он заботливый. Как он грел меня позавчера. Что же все-таки со мной было?
Как резко, как жутко началось. Правильно он меня к врачу гонит. Надо сходить. Завтра. Сегодня некогда, сегодня великий День. Идем выкупать штаны. Она улыбнулась, попытавшись представить Симагина в новых модных брюках. Но неожиданно поняла, что не испытывает ни нежности, ни умиления. Да, тоскливо подумала она, надо привыкать. Приходить в дом, ставший чуточку чужим. Симагин, подумала она с раскаянием. Не сердись. Я сама не ожидала. Все равно ты самый заботливый, самый мой. Смешной. Даже не притронулся ночью. Маялся, вертелся рядом — берег. Надо сегодня что-то изобрести, чтобы он ушел в комнату родителей спать. Странно. Еще позавчера смотрела, как на бога. Ждала, как растрескавшаяся земля ждет дождя. И все-таки одной хуже. Надо притвориться, может, это не слишком противно. Заставить себя пару раз, и все пойдет само собой, станет привычным — терпеть, старательно стонать, и ждать, когда он кончит, и смывать липкую грязь не благоговейно, а брезгливо. Она вдруг поймала себя, что так и подумала: грязь. Надо же, все переменилось. Неужели не смогу? Ох, противно. И кого — Симагина! Его же ребенок обманет! Но ведь ради него. Все ради него. А ради меня? Только то, что я сама выгрызу. Она едва не пропустила остановку. С трудом выбралась из-за толстяка, который, пропуская ее, пыхтел, неуклюже поджимал короткие ноги, не желая встать, и все берег свою газету, чтоб Ася не намочила ее и не помяла. С первой страницы «Правды» из середины страшного пятна траурной рамки улыбался Виктор.
Вода покрывала асфальт сплошной струйчатой пленкой, блестящей, как стекло. Ася шагала по холодному стеклу и думала: немножко доверия, немножко привычки, немножко притворства — вот и любовь. Нет. Не надо так. Все нормально ведь. Она стала вспоминать лучшие их дни. Хотя бы вечер, когда прикинулась Таней. Но поняла, что лишь тоскует по той себе, по солнечной яркости собственных ощущений. Она даже испугалась. Поправила капюшон. За шиворотом холодило, словно туда затекла вода. Но просто плащ настыл от беспросветного дождя и перестал быть защитой. Даже собственный организм. Она вспомнила вечер в декабре, когда впервые отдалась Симагину. Весь день назавтра ходила потерянная, умиротворенная. Несла на себе горячую печать его долгожданной власти… Ее передернуло от гадливости. Отдалась. Четыре месяца отдавалась, да он взять не мог. Едва слезу не пускал. Гнал ее — тебе противно. А она, измученная жутким ощущением своего, именно своего бессилия, льнула к великовозрастному мальчишке и шептала, задыхаясь: «Что ты, милый, это я виновата, я так долго мучила тебя, ты теперь мне не веришь, вот и все — а ведь я твоя, смотри… у тебя такие руки, я не могу жить без них, обними меня просто — и я уже счастлива…» Сейчас ее буквально корчило от запоздалого унижения. Просто я человек очень хороший, подумала она. Ради него даже на притворство шла, хотя ложь ненавижу. Школьница — притворство, терпение — притворство… Все лучшее происходило после того, как я притворялась Симагину в угоду. Тоска…
После работы они встретились на Горьковской. Ася издали заметила Симагина. Среди блестящих суетливых зонтов он стоял каким-то марсианином — расстегнутый, открытый. Мокрые волосы на лбу. На улыбке — капли.
— Здравствуй, — сказал он нежно и озабоченно. — А ты чего так опаздываешь?
— Разве? — она глянула на часики, привычно взяла его под руку и хозяйски поволокла из щелкающей зонтами толчеи. — Не заметила. С Таткой заболтались…
— Ты не ври, — сказал он строго и прижал ее руку к себе. — Нездоровится, да? Может, домой?
— Господи, Симагин, — с досадой сказала она. — Когда я тебе врала? Слушай, ты мне вот что скажи. Неужели ты дождь любишь больше солнышка?
— Ась, — проговорил он виновато и будто сам себе удивляясь. — Я как-то все люблю. Когда солнышко, я думаю: ух, здорово — солнышко. А когда дождик, я думаю: ух, здорово — дождик…
— Вот будет у тебя замечательный новый костюм: Ты в нем под дождиком пробежишься, и все превратится в тряпку.
— Нет! Я его не стану надевать, когда дождик.
— А что станешь? Это? Ведь стыдно!
— Ну есть же у меня выходной!
— Которому тоже сто лет!
На автобус он сесть отказался. Что ты, Асенька, из-за одной остановки! Да они же битком, посмотри! Если ты правда в порядке, давай лучше погуляем. Воздух какой хороший, пыль всю прибило… До самой улицы Рентгена, где ателье, они волоклись под дождем, по пузырящимся, мутным лужам. Симагин благостно дышал, напоминая какое-то отвратительное земноводное, и все ласкал Асину ладонь, все нудил, не холодно ли. Она почти не отвечала, и он наконец замолчал, поскучнев. Некоторое время шли молча. Видимо, он ждал, когда она спохватится и начнет болтать, хихикать — веселить его. Притворяться. Ему в угоду.
— Ася, — не выдержал он, поняв, что не дождется, — случилось что? Или тебе нездоровится все же? Ты что таишься-то, как не родная?
— Симагин, — ответила она, внутренне кипя, но сдерживаясь. — Привыкай, что мне все время будет нездоровиться, понимаешь? И не спрашивай по сто раз, не раздражай меня попусту. Жилы не тяни!
Он наклонился к ней под капюшон и чмокнул в щеку. Естественно, намочил. И ресницы задел — дай бог, чтоб не потекли. Губы были холодные, мокрые. Нечеловеческие. Чужие губы.
— И не требуй, чтоб я хихикала и придуривалась, как всегда!
— Да я и не требую… — растерянно ответил он. Она почувствовала, что говорит резковато. Ох, Симагин, горе луковое… Надо было произнести что-нибудь ласковое, но ничего не приходило в голову. Тогда она плотнее просунула руку под его локтем, устраиваясь поуютнее, как бы ластясь, и спросила, стараясь говорить прежним, влюбленным голосом:
— Лучше ты расскажи что-нибудь. Как дела у вас сегодня? Как твоя телепатия?
Он недоверчиво покосился на нее. Она поджала губы. Он же еще и недоволен. Даже сейчас стараться, чтобы не было ссоры, должна я!
— Ну, как, — он пожал плечами. — Знаешь, ничего нового… А частности, наверное, неинтересны.
— С каких это пор? — осведомилась она ледяным тоном. — Я твоей гениальной работой интересуюсь всегда.
И вдруг поняла, что действительно неинтересно. Надоело. Все так неважно по сравнению с тем, что происходит с ней…
Брюки не были готовы. Ася взбеленилась. Все шло наперекосяк в этот мерзкий день — и вот последний аккорд. Крещендо. Позвоните через несколько дней, виновато говорила приемщица, мастер прихворнул… Несколько дней! Вы понимаете, что говорите?! Муж едет на конгресс! Международный!! На нее глядели все, кто был в ателье. Симагин, перепуганный и красный от стыда, за локоть выволок Асю под дождь. Она бешено вырывалась, но он держал крепко, и выпустил лишь на улице. Она едва не ударила его.
Асенька, — тихо спросил он под заунывный плеск падающей серой воды, — что с тобой? Даже губки побелели…
Губки!! — злобно закричала она. — О губках позаботился! Ты на себя посмотри!
— Ася… — потрясение пробормотал он. — Да побойся бога. Из-за тряпки… Пожалей ты себя!
— Пожалел!! — кричала Ася. — Если бы ты меня жалел, ты бы сам разнес всю эту лавочку! Как мужчина! Нет, тебе стыдно! А им не стыдно! Прихворнул! Запил он, а не прихворнул! И не стыдно! А тебе ходить, как гопник, не стыдно? Мне с тобой под руку идти стыдно! Ведь я о тебе забочусь, тебя ведь даже в ателье нельзя отпустить одного, вечно что-нибудь сделаешь не так!
По дороге домой они враждебно молчали, не обменялись ни словом. Время от времени Симагин настороженно, словно бы чего-то ожидая, взглядывал на нее и опять уставлялся себе под ноги. Ася не взглянула на него ни разу.
Антошка встретил их радостным визгом, но тут же стушевался, ощутив разлад. Ася сразу принялась за стряпню. Симагин, тщась облегчить ей жизнь в ее положении, поел, как и обещал, в столовой. Позаботился. То, что мы с Антоном тоже есть хотим, ему и в голову не пришло. Как будто я для него одного готовлю. Пуп Земли. С ненавистью возясь над душной плитой, Ася краем уха слушала, как в комнате Антошка шепчется с Симагиным. Открытие сделал. Не отстает от приемного папы. Яблочный огрызок, оказывается, потому коричневеет, что в яблоках ведь, мама сказала, много железа. Кожура — это покрытие, а стоит ее прогрызть, железо ржавеет. Логично, одобрял Симагин. Теория очень стройная. Но самые стройные теории должны подкрепляться экспериментом. Давай-ка знаешь что сделаем? Ты пойди, попроси у мамы яблоко и слопай, а огрызок положим в стакан. Рядом в другой стакан положим что-нибудь железное, это будет контрольный объект. А завтра сравним. Сам чушь выдумывает, и из парня делает блаженного фантазера, неприязненно думала Ася. По своему образу. В ее сердце раскаленным буравом крутилась ревность. Нет. Это не только хандра. Это пришла трезвость. Неужели я была так глупа?
Она вдруг как бы очнулась. Да что это со мной? Ведь это же мой самый близкий, самый любимый… Муж!
Ее обожгло стыдом и страхом. Не муж, вспомнила она и едва не выронила сковородник от унижения. Любовник! Томка вон до сих пор похихикивает, а остальные, хоть и привыкли, — все равно проскользнет иногда ироничное: «Неужели все еще так и живете? И рожать так будешь?» Дескать, склеила, да не доклеила. Что я отвечала? Смеялась, кажется. Кажется, бесшабашно говорила, что все равно. Мне действительно было все равно. А в самые сумасшедшие минуты, например, когда выпендривалась перед ним в банте и гольфах, казалось даже, что так лучше: никакой формы, одна сущность… Кретинка. А он у меня за это сына отнял.
Перестань, снова осадила она себя, и закричала:
— Эге-гей! Лопать подано!
И передернулась, почувствовав, как фальшиво прозвучал этот веселый зов.
Но Симагин ничего не заметил — все-таки лопух он — и, таща Антошку, влетел на кухню с удивленно-радостной миной.
— Есть будем я и Антон, — весело сказала Ася. — А ты так сиди. В столовке ведь вкуснее, правда? — она засмеялась, тщась выглядеть лукавой и обычной, но в голове свербило: опять мирюсь я, а он только пользуется. Опять я строю вид, будто он меня не обидел. Вдруг на границе сознания мелькнуло сомнение — а чем, собственно, обидел? Да всем, тут же поняла она.
Симагин честно не притронулся, хотя Ася потом и предложила. Антон непонимающе ел, поглядывая то на Асю, то на Симагина.
Мирный ужин не унял тоски. Ну, я расклеилась всерьез, подумала Ася почти с испугом. Симагин, взмолилась она, ну сделай что-нибудь! Верни все. Неужели не видишь, как мне плохо? Он видел, конечно, не настолько уж он был лопух. Но, уже получив за расспросы, только старательно делал вид, что все чудесно. Пока они ели, он с неестественным оживлением описал вчерашнюю стычку в пельменной, и Ася опять, помимо воли, стала его корить: сорвал хандру и неприятности на женщине. Не такие уж крепкие у тебя кулаки, чтоб размахивать ими направо и налево, только людей смешить… Симагин снова поскучнел, Ася мысленно выбранила себя — она права, конечно, но хватит на сегодня правильных упреков. Симагин вдруг встал и произнес задумчиво: «Пойду-ка я погуляю». Антошка вскочил, не допив чай: «Я с тобой!» — «И не вздумай! — крикнула Ася. — По аспирину соскучился? А ты, — она повернулась к Симагину, — иди, поплавай. Выходной костюм у тебя еще остался». Симагин глубоко вздохнул и попытался улыбнуться — якобы, это просто шутку он услышал. С деланной пристальностью он вгляделся за окно, оценивая силу дождя, и сообщил: «Пожалуй, ты опять права. Что-то он разошелся…» — «Нет-нет-нет, — поспешно возразила она, — ты иди. А то потом опять выяснится, какие жертвы ты мне приносишь». И снова ужаснулась. После каждой реплики она давала себе слово больше не язвить. Но не могла остановиться. Антошка, втянув голову в плечи, сидел на своем месте и глядел в стол. Ася вдруг изумленно поняла, что не хочет мириться. Не хочет. То, что последует — притворство, игра во влюбленных детей, сюсюканье, — опротивело ей. Симагин поднялся выйти из кухни, но, зайдя Асе за спину, как-то на редкость мерзко ухватил ее за плечи. Спасибо, не за грудь, с него бы сталось. Он любил хватать ее сзади. И стал целовать ее в затылок. Так мог целовать любой прохожий. В Симагине что-то пропало — то ли нежность, то ли страсть, то ли доверие. Доверие? Ко мне? Да я все ему отдала! Даже сына! А стоило мне чуть расклеиться — опять ведь из-за него, из-за того, что во мне новый Симагин, — он же перестает мне доверять? Это пройдет, Асенька, сказал он тихо. Ты только не убивайся. Так и должно быть. Она чувствовала лишь неприязнь. Пытается что-то сделать, подумала презрительно. Пытается! И не может. А должен мочь!
Она мыла посуду. Текла вода, кран верещал. Противный жир сходил с тарелок. Так всю жизнь. Ей захотелось шваркнуть тарелку об пол. Чтоб грохнула и разбрызгала белые молнии осколков. Даже мышцы напряглись. Всю жизнь. Ничего, кроме. Какая тоска — хоть в петлю. В чем-то этот Вербицкий прав — человек всегда один. А она еще ерепенилась. Какой ерунды намолола — стыд! Дура! Ой, дура! Хотелось прижаться к кому-нибудь большому и мудрому, который одним движением, как паутинку с лица, снимет безотрадную пустоту.
Пошла было к Симагину. Нет большого и мудрого, но есть хотя бы маленький и глупый. Мой. Что бы там ни было, я же люблю его. Люблю. Я-то люблю. Она похолодела. Внутри жутко оборвалось, она поняла. Не дождь, не дурнота… Не любит! Да это давно видно! Как можно быть такой слепой? Я обязана готовить и ублажать, а ом взамен хвастается. Открытиями какими-нибудь. И все. И еще деньги. Через год ляпнет: когда ты ждала ребенка, мне было очень светло семьдесят четыре раза. Откуда знаю, что у него сейчас никого? Откуда знаю, что вытворяет в институте по вечерам? Да и в институте ли? Ведь он имел наглость в глаза заявить, что меня ему уже не хватает для вдохновения. А я, идиотка, рассиропилась до того, что прямо разрешила ему заводить любовниц! И подтвердила при Вербицком! И сама чуть не разревелась от умиления! Дура, срамная дура! Дурой была, дурой и осталась!
Прижала кулаки к щекам и так стояла, потрясенная. Поинтересовался здоровьем. Не ответила. И слава богу, можно не беспокоиться!. Все в порядке. У ребенка нет ответственности, играет, и все. Раз игрушка, два игрушка. Одна поднадоела — взял другую. Это в благодарность за все, что я сделала. Я же мужиком его сделала! Чего стоило терпеть его бесконечную нервную слабость? Чего стоило нежно успокаивать, а домой ехать потом в боли неудовлетворенности, как в огне? Я же не девчонка! А теперь в любой момент скажет: тебе с твоим Антоном надо съехать. И я ответить-то ничего не смогу — действительно, живу здесь бесправно, по милости…
Поняла, что плачет. Какая подлость все! Чем кончается!
Ну, нет! Она вытерла слезы углом фартука, злобно шмыгнула носом. Я тебе не Лера твоя! Я тебе не позволю!
Она не обернулась, когда он вошел, и лишь с тоской вздохнула. Даже достоинства нет. Прогнали, он повременил чуток и опять идет. Его бьют, а он не плачет, веселее только скачет. Детская загадка. Думаете, мячик? Нет, глупенькие, — мой сожитель.
— Ну, как ты тут? — весело осведомился он. — Помощь не нужна?
— Симагин, — спросила она прямо, — ты меня еще любишь?
Он издал горлом какой-то странный звук.
— Или как? — спросила она и повернулась к нему. А он упал на колени и прижался лицом. Потом задрал платье и с какой-то деланной страстью принялся целовать ее сомкнутые бедра, трусы на лобке. Вот и все, думала она, глядя в стену и машинально придерживая подол. Интересно, что сделал бы Вербицкий? А этот не умеет. Не испытал, не знает, не может. Где мудрый, сильный, способный спасти? Я устала, думала она, с досадой чувствуя, как отвратительные ладошки похотливо поползли вверх по ее голым ногам. Устала заботиться. Хочу, чтобы заботились обо мне. Меня лелеяли, как ребенка. Но этого не будет. Никогда. Выбор сделан, вот он. По-мальчишески меня раздевает, словно постель — панацея от всех бед.
— Подожди, — она резко отстранила его руки, оттолкнула голову. — Подожди, — он растерянно, как побитый щенок, смотрел снизу. — Встань! — она отступила на шаг, почти злобно поправляя одежду, и он медленно поднялся. — Ты мне словами скажи!
— Люблю, — сказал он. — Ася! Побойся бога, что вдруг…
— А тогда почему ты на мне не женишься?! — звонко выкрикнула она.
— Как не женюсь? — и вдруг до него дошло. — Аська! И в этом все дело? Как ты меня напугала! — он облегченно засмеялся — Погоди. А кто отказывался? — он лукаво, как идиотик, погрозил ей пальцем.
Ася почувствовала, что сейчас опять заплачет.
— Полтора года! — закричала она рвущимся голосом. — Я столько сделала для тебя! Ну я же хотела, чтоб ты меня упросил!
— Асенька, милая, — с тупой ухмылкой он попытался ее облапить, и снова она отпрянула. — Ну хорошо, хорошо, упросю!
— Нет уж, хватит разговоров! Завтра же!
— Ася… — озадачился он. — Что такое стряслось? У меня же часа свободного нет… Вот с конгресса вернусь. Как раз и костюм поспеет, — опять заулыбался. — Будет тебе компостер!
— Ну, разумеется, — зло усмехнулась Ася. — Опять работа.
— Ася! — он развел руками. — Ну посуди сама… Мне не ехать? Ну хорошо, завтра я… Ой, что будет. Хорошо. Завтра я пойду и…
— Нет-нет. Ехать надо. Тем более, Вайсброд отказался — ты должен продемонстрировать лидерство…
Остаток вечера прошел в обоюдных усилиях изобразить покой и беззаботность. Ася заботливо налила Симагину чаю, с ужасом ощущая приближение ночи. Муж, думала она тоскливо. Муж объелся груш…
— Я буду скучать без тебя, — говорила она, сидя напротив него и подпирая подбородок кулачком. — Ты позвони своему Вербицкому, пусть рассказы принесет. Хоть читать буду. Хоть о тебе с ним поговорю.
— Обязательно. Ты в книжку переписала телефон с карточки, что он оставлял?
— Да, — подтвердила Ася со странным чувством, будто что-то украла и обсуждает кражу с ничего не подозревающим потерпевшим.
— Только ты не шипи на него…
Непонятное раздражение полыхнуло в ней.
— Никогда я на него не шипела и не собираюсь! — крикнула она. — Он мне не нравится, вот и все! Но он твой друг, и я не хочу, чтобы ты говорил: любовница перессорила меня с друзьями!
— Ну ладно, ладно, — промямлил Симагин, ошарашенный этой необъяснимой вспышкой. — Не надо ради меня…
— Нет, надо! — отчеканила Ася, успокаиваясь. — Надо делать кое-что и опричь души, если хочешь, чтобы была семья, а не так, лужайка. Тебе это еще предстоит понять.
Чаепитие закончилось в молчании, и лишь когда они пошли в спальню, Ася в отчаянии решилась:
— Симагин, — сказала она почти виновато и на удивление фальшиво. — Знаешь, что? Не ложись сегодня со мной.
Он остановился.
Она изготовилась врать о том, будто ему необходимо отдохнуть перед конгрессом, будто ради него она отказывает себе и ему в радости — в голове замелькали спешно примеряемые слова и фразы, но сказать она ничего не успела. Его лицо вдруг словно осветилось и стало немного похоже на то, каким было прежде всегда.
— Милая, — проговорил он. — Милая Ася. Жена моя… И все.
Она чуть оттаяла. Захотелось сказать что-нибудь такое же теплое в ответ.
— Что, солнышко мое? — она засмеялась. — Что, дождик?
Сфальшивила.
С тяжелым сердцем уезжал Симагин в Москву. Ася проводила его до поезда, дав по дороге массу полезных советов, — он почти не отвечал. С рук на руки она передала его Карамышеву и Кашинскому, курившим у вагона. Постояли вчетвером, потом те ушли. Перрон мокро блестел, было зябко; тревожно пахло дымом, вокзалом. Прощанием. Симагин держал холодную Асину руку, и ему казалось, что он никогда больше не вернется сюда. Надо было всей грудью броситься на стеклянную стену, которая внезапно разделила их всерьез; швырнуть себя, распарывая кожу, и, вместе с фонтаном острых осколков, вместе с потоками крови вылететь к ней… Но он уже не знал, как. Он только мял ее отрешенную ладонь, старался поймать взгляд — но ладонь не отзывалась и взгляд улетал в сторону. Казалось, Ася ждет не дождется, когда поезд отправят и тягостный ритуал будет завершен… Но этого же не могло быть!
Могло. За неделю он стал чужим. Совсем. Угар прошел. Начиналась взрослая жизнь. Она — жена, и все. Пусть нет пока штампа. Будет. Пользоваться собой на дармовщинку она не позволит больше. Не те года. Собрала, не терпя возражений, его чемодан. Поехала провожать. Несла портфель с бумагами. Семья — это добросовестное выполнение долга. Да, до некоторой степени — ритуал и навык. Работа. Независимо от настроения. А я не привыкла халтурить ни в чем. Теперь они стояли на мокром перроне. Симагин маялся. Еще не понял, что жизнь не праздник. Еще хотел, чтобы то вернулось. Ничто не возвращается. Не могу я скакать влюбленной дурочкой всю жизнь. И не хочу. Наворотила глупостей, хватит. Пора заняться собой. Идиотство: болтаю на четырех языках, подрабатывала переводами, покуда не пошла к Симагину в содержанки, — и без диплома. Она думала об этом уже не впервые, и всякий раз эти мысли обрывал тот, внутри, накрепко прибивший ее к беспросветности. И снова жуткая тоска подступала к горлу. И тоска, и дождь были бесконечны. Как стояние на перроне. Симагин всегда будет требовать невозможного. Привык. Надо поставить его на место, когда вернется. Ох, ведь через две недели он уже вернется. Надо будет встречать его и слушать…
За исхлестанным окном неслась рокочущая дождливая мгла, изредка проплывали размытые огни. Сзади беседовали Карамышев и Кашинский, они что-то обсуждали, смеялись, а вокруг многообразно коротал вечер весь плацкартный вагон: гомонил, гулял, ел куриц, перекидывался в картишки и в шахматишки… Летом купе не достать, хоть удавись, а Симагин еще уступил место какому-то старику в протезе, и теперь у него было нижнее боковое — его задевал всяк проходящий. Он так ничего и не сказал. Полез в вагон, неловко чмокнул Асю в мокрую холодную щеку, которая была ему с готовностью подставлена, — словно Ася заранее знала, что он будет целовать в щеку, а не в губы. Он сразу вспомнил, как прошлым летом они ехали свердловским поездом к нему в Лешаки, — снаружи летел теплый, пышущий розовыми отсветами вечер, и Ася стояла у окна взволнованная, гордая… что я не так сделал?! Что?! Ну не мог я не ехать! Он замотал головой, катаясь по настывшему стеклу лбом. А в ночи плыли белые пятна и тонули в пелене, поезд длинно и равномерно летел, раздвигая дождь приземистым лбом, плавно изгибался, грохотал, наматываясь на мокрые рельсы. Зачем я такой в Москве? А за семьсот километров одинокая Ася и одинокий Антошка — зачем? Невозможно, пробормотал он. Невозможно. Что невозможно? Подсел Кашинский; посасывая ароматный леденчик, стал рассказывать, какая, оказывается, замечательная у Симагина жена. Поезд рокотал глухо и влажно, будто шел по морскому дну, Ася уплывала, как размытый огонь в ночи, неотвратимо надвигалась Москва, Симагин чувствовал ее наползание из-за прочеркнутого рельсами горизонта и катался лбом по холодному стеклу.
Когда дверь за Вербицким закрылась, Ася несколько секунд не могла пошевелиться. Потом прижала к щекам ладони и медленно вздохнула. Не может быть. Но уже знала, что может. Душа кипела от восторга и сладкой тревоги. Какая я глупая! Решила, что эта серая тюрьма и есть жизнь навсегда. А жизнь, как волна, лишь откатилась на миг, оставив биться на песке, — и с громом нахлынула снова. Снова! Жизнь — снова! Главное впереди. Главное всегда впереди. Ей было страшно. Она из последних сил пыталась думать. И понимала, что зря. Почему это случилось? Бессмысленно спрашивать. Почему полюбила Симагина? Почему разлюбила? Это приходит и уходит само собой. Разве Симагин стал хуже? Он просто оказался не таким, но разве от этого я его разлюбила? Наоборот, лишь разлюбив, я это поняла. Да и любила ли? Душа ждала отдыха — но не может отдыхом быть вся жизнь.
И как удержалась и не бросилась ему прямо тут на шею?
Я нужна ему. Он ни словом не обмолвился, только в тот раз, полунамеком. Как он скажет первым? Я — возлюбленная его друга, почти жена. Он скован своей замечательной, но уже бессмысленной порядочностью. Страшно. Как страшно. Я должна ему помочь. О том, что ей хотелось быть слабой, она уже не помнила.
Симагин. Ты сам виноват. Нельзя притворяться хорошим. Но я не отплачу тебе той же монетой, не обману. Я не могу, как ты. Жить с женщиной, есть ее стряпню и ей же хвастаться, как тебе светло с другой. Я могу только честно. По-настоящему. Ты ненастоящий, Симагин. Ты не можешь обижаться на меня. Ведь я не обижаюсь. Что тут обижаться. Это жизнь. Когда ты приедешь, все уже произойдет. Чтобы быть честной, нужно быть свободной.
Я не могу взваливать на него все сразу. Нам и так будет трудно. Мы друг к другу-то еще не притерлись! Он сам как ребенок. Я не могу льнуть к нему с младенцем на руках — рожденным даже не от него! От чужого человека. От тебя, которого мы с ним оба знаем и оба не уважаем. Это был бы просто чудовищный эгоизм с моей стороны.
Он не привык к помощи, не станет ее принимать. Он будет гнать меня к тебе — ведь ты его друг. Но я пробьюсь. Ты даже не понимаешь, что это — когда любимый гонит, потому что любит, и надо пробиться. Ты не способен этого представить, Симагин. Ты привык, чтобы все шло само. Чтобы все делали все за тебя и тобой же восхищались — а чем, в сущности? Тем, что ты не попался в зубы миру и оттого решил, будто у мира нет зубов, — только теплые, ласковые губы?
— Антон! — спохватилась она. — Ты ужинать-то будешь? Антошка высунулся из своей комнаты.
— Еще бы, — сказал он. — Я уж решил, ты про меня забыла.
Асю бросило в жар. Она подхватила Антона на руки и понесла в кухню, целуя в обе щеки и весело приговаривая:
— Ух, какой ты у меня язвительный! — Антошка смущенно отворачивался. — Как же я могу про тебя забыть? Ты мой самый родной, самый любимый..
— А папа? — спросил Антошка, обнимая ее за шею.
— А что папа? — тем же веселым голосом продолжала Ася, опуская сына на пол. — Папа — другое дело. Сравнил — папа. Ты мне вот что лучше скажи. Почему, когда дядя Валерий приходит, ты так дичишься? Показал бы ему карту пятой планеты Эпсилон Эридана, маршрут твоей экспедиции…
Антошка, заинтересовавшийся было содержанием персональной своей кастрюлечки, поднял на Асю недоверчивые глаза.
— Ему неинтересно, — угрюмо ответил он.
— Почему ты решил? — спросила Ася, берясь за электрическую зажигалку. Она долго боялась искрового треска зажигалки, несколько раз ее ломала, и Симагин добродушно чинил, подтрунивая… Ася отложила зажигалку, нашла спички и спичкой зажгла газ. Ей не нравился собственный тон. Будто она подлизывалась к сыну. Будто она перед ним виновата. Будто Симагин — его отец. Насупленный Антошка молча ковырял пальцем щербину в подоконнике.
— Ему очень даже интересно, — продолжала она панически веселым голосом и вдруг вспомнила, как обещала Антошке никого больше не полюбить. Да за что же все это, надрывно закричало что-то в ней. Только честно. Только честно. Все лгут, поэтому им спокойно. Не стану лгать никому и никогда, ни за какие блага!
— Дядя Валерий тебя очень любит и папу очень любит!
Антошка молчал и глядел в пол.
— И всегда спрашивает, во что ты больше всего любишь играть, — с ужасом продолжала лгать Ася. — Он знает очень много интересных игр. Они же с папой вместе играли в детстве, а во что играть, всегда придумывал дядя Валерий, папа только слушался!
— Дядя Валерий меня не любит, — нехотя возразил Антошка. Ася окаменела.
— Неправда, — выдохнула она.
— Дядя Валерий никого не любит, — сказал Антошка решительно и наконец поднял на Асю взгляд. Взгляд был беспощаден. — Он только себя любит и только про себя спрашивает.
Ася ударила Антошку.
И испугалась больше, чем он.
И поэтому закричала с остервенением:
— Не смей так говорить!! Ты ничего не понимаешь!
Антошка молча смотрел на нее. Глаза его оставались сухими, это было страшнее всего.
Она снова подхватила его на руки и снова стала целовать — исступленно, воспаленно, словно в нем, в Антошке, было дело, и если он сменит сейчас гнев на милость, все сразу станет хорошо. Он не отбивался и не ласкался в ответ — просто висел на руках. Она захлебывалась:
— Прости, мой радостный, я сама не знаю, что со мной, мне очень одиноко… без папы… — лицемерно добавила она, чтобы он наконец простил ее. Но он все равно смотрел так, будто его глазами смотрел Симагин. Нет, какое Симагин — этот сразу стал бы сюсюкать, слюнявить, бессильно утешать; не Симагин, а тот всезнающий, самый сильный и самый мудрый, и поэтому не прощающий ничего. — Давай будем кушать! — весело сказала она, отпуская Антошку. — Сегодня мама сготовила твою любимую кашку. Вкусную кашку! — она лихорадочно собирала на стол. — С изюмчиком!
— Мама, — серьезно проговорил Антошка, — ты зачем так разговариваешь? Ты когда так разговариваешь, мне тебя жалко и хочется плакать. Ты что, что ли не знаешь, что я большой?
— Конечно! Конечно! — визгливо засмеялась Ася. — Вон какой большой, мне тебя уже и не поднять! Надо больше кушать, и тогда скоро станешь совсем большой!
В эту ночь она не спала, и подушка промокла, как когда-то.
— Вот пришел великан, большой такой, смешной, руки у него толстые, ноги толстые, пришел и упал, ногой зацепился за ступеньку — и упал, большой такой, смешной, смешной же!..
— Никак молится, — сочувственно сказала подошедшая нянечка. — Ну девки пошли — под кустами трахаются с кем ни попадя, а посля к нам молиться идут. Все, дочка, кончай молиться. Пошли скоблиться.
Было очень больно.
2
В тот день Симагин делал доклад.
В зале гроздьями лопались беззвучные вспышки, перекатывались волнами сполохов, будто репортеры решили зафиксировать каждое движение испачканной мелом руки. После доклада Симагина с полчаса не отпускали с кафедры — пытались допрепарировать вопросами. На обеде в Симагина вцепился Такео, желая порастрясти на предмет того, о чем не было сказано, — умный профессионал понимал, что не сказано многое. Ассистентка, очаровательная киска в жестком платье до пят, но с разрезом, прелестно лопотала по-русски, так что разговор клеился. За столом она оказалась между Симагиным и Такео; твердые створки платья раздвигались, как створки люка над боевым ангаром, обнажая умопомрачительные, матово мерцающие ножки, — японочка, перехватывая симагинский взгляд, очень мило ему улыбалась и кокетливо сдвигала края, чтобы через минуту они разъехались снова. Рядом мельтешил и встревал в разговор возбужденный Кашинский — совершенно напрасно встревал, потому что его буквально распирало; иногда он уточнял Симагина так, будто нарочно хотел, чтобы Симагин, продолжив в пылу его мысль, ляпнул лишнее. На Карамышева насели западные немцы, а потом стало окончательно весело, потому что начали подзуживать Маккензи, требуя, чтобы тот немедленно ел свою бороду, — дескать, в Касабланке он обещал это сделать, если на следующем конгрессе не утрет нос русским; а после такого доклада всем уже понятно заранее. Маккензи решительно не хотел есть бороду и бурчал, что заранее ничего не может быть понятно, и его доклад еще впереди. Бурчал он это довольно-таки безнадежным голосом, и все смеялись. Такео стал как-то многозначительно интересоваться здоровьем Вайсброда и сожалеть, что не сможет его повидать. Странная сверлящая боль, возникшая с час назад, еще во время доклада, внезапно поднялась до нестерпимых высот. У Симагина потемнело в глазах, все стало ненужным и лишним. Главное находилось в Ленинграде, и с этим главным происходило нечто ужасное. Оставив Карамышева, слева к Симагину подсел фон Хюммель — аристократичный, седой — и стал расспрашивать относительно режимов трансфокации. Также его интересовали предварительные соображения Симагина по поводу странного поведения раковых серий. Такео смотрел на фона ревниво. Симагин с очевидным простодушием отдал фон Хюммелю все режимы, а по второму вопросу ответил, что соображения, разумеется, есть, но чисто спекулятивного характера, делиться ими, пока статистика не набрана, было бы преждевременно и даже безответственно. Молодые глаза старого ученого полыхнули фотовспышками, он уселся поудобнее и непринужденно стал шарить вокруг да около, как в игре, когда можно отвечать лишь «да» и «нет». Игра была веселой и рискованной. Через полчаса фон отлепился от Симагина явно без удовлетворения. Своими вопросами он сказал Симагину больше, чем Симагин ему — своими ответами. Промокнув лоб платочком, фон Хюммель встал с бокалом клюквенного сока в руке и громко заговорил. По-видимому, раздосадован он был изрядно. «Очевидно, что красная полоса в спектре биоспектралистики, — возвестил он, — за истекший период, к удивлению многих, окончательно стала преобладающей. Я, — сообщил он, — с радостью выпил бы красного вина в честь красных ученых, но с еще большим уважением выпью бокал ярко-алого сока тех замечательных ягод, которые стали одним из шутливых символов великой страны». Все зааплодировали; престарелый фон, сохраняя трагическую серьезность, стал медленно пить, но тут Кашинский, которому по недостатку опыта, видимо, почудилось, что сказана была дипломатическая любезность, храбро решил обратить внимание на себя, любезностью и ответив, и закричал на весь зал, что наука не имеет границ. Глупо, скажем, называть теорию относительности немецкой, а биоспектралистику — русской. Они интернациональны. Они принадлежат человечеству. Симагин едва за голову не схватился: Вадик натаскался выступать на институтских собраниях, и теперь никому здесь не нужные штампы так и сыпались из него. Фон Хюммель медленно повернулся к Кашинскому и — чувствовалось, что он в заводе и не пожалеет на молокососа главного калибра — согласился, что тем более глупо это делать, поскольку, если припомнить, и Эйнштейн, и Вайсброд в пятой графе знаменитой русской анкеты написали бы одно и то же. Кашинский стал как клюквенный сок и смолк намертво, будто его отключили от сети. Елкин корень, думал Симагин. И это фон Хюммель, который пятнадцатилетним долдоном, презрев свой аристократизм, бил стекла еврейских магазинов в «хрустальную ночь» тридцать восьмого года…
Попробуй теперь пошути ему в тон с намеком на такое обстоятельство! Он только разозлится пуще: как, дескать, бестактны эти русские. В лучшем случае недоуменно разведет руками: ну, это же было при Гитлере — будто Гитлера ему свят дух поставил, как мы для изучения реакций ставим крысам то такой лабиринт, то этакий. Конечно, глупо ему этим тыкать — и дети за родителей не отвечают, и в девяностом году за сороковой не отвечают… и все-таки отвечают. Мы вот отвечаем. И не потому даже, что они-то нам тычут беспрерывно, — а сколько раз в такой вот балаганной форме меня подкалывали тем, что творилось в стенах древнего Кремля в ту пору, когда отец мой без штанов карасей удил в Боярыньке да в Ласьве… Просто по совести. Просто потому, что когда относишься к своей стране не как к средству для себя, а как к цели себя, чувствуешь за любой момент ее жизни ответственность. Это как с человеком, которого любишь. Его обидели когда-то, в детском саду еще — а тебе больно, тебя не было рядом, чтобы защитить… Нельзя любить частями. Конечно, число болевых точек возрастает неимоверно — зато появляется цель. А у тебя нет цели, фон, и вот пей теперь клюквенный сок за клюквенных ученых, а пока ты будешь в целях моциона интеллигентно стричь газоны на своей вилле, мы дешифруем латентный спектр, и ты вообще штопором пойдешь.
Он позвонил Асе на работу, но ее не было на месте. «И не будет сегодня, она отпросилась», — сказали ему. «Она здорова?» Но уже повесили трубку. Он перезвонил, но было занято. Потом снова было занято. Потом уже никто не подошел. Телеграмму он отправил в восемнадцать двадцать семь: «АСЕНЬКА ЛЮБЛЮ ВСЕГДА ТОБОЙ ЛЮБЛЮ УЖЕ СКУЧАЮ СИМ» и даже забыл упомянуть, как прошел доклад.
Но боль не унялась. Опять он сделал не то. То есть, то, но мало. Он побрел от Главтелеграфа по Горького. Он любил центр Москвы — в этих могутных зданиях была, как ни крути, какая-то нашинская экзотика. Наскоро поужинал в кафе, которое раньше называлось «Марс». Выходя, столкнулся с девочкой лет семнадцати, лизавшей мороженое, и испачкал в мороженом рукав; девочка стала его чистить, они обменялись соображениями о погоде, о том, что мороженое нужно чистить сразу, пока не засохло, равно как и есть сразу, пока не растаяло. На Пушкинской площади удивительно красивый старик тактично осведомился у Симагина, как добраться до магазина «Ванда», и Симагин обстоятельно ему разъяснил, вспоминая, как до Аси понятия не имел об этаком магазине, а потом все «Ванды»-«Власты» заучил мигом. На углу двое мальчишек тиранили котенка, и Симагин немедленно его спас, а потом некоторое время шел с котенком на руках и беседовал с ним об Асе и об Антошке, но котенок не отвечал и даже не пытался вникнуть, а только пищал и царапался. Симагин выпустил его — щуплой полосатой молнией он стрельнул в сторону и сразу пропал. На Страстном бульваре Симагин от души посмеялся над отчаянным рукописным объявлением, прилепленным изнутри к стеклу двери маленького кафетерия: «Туалета и стакана нет!!!!!» На Петровке его облаял кургузый лохматый дворняг, Симагин удивился было, но вспомнил, что нес котенка. «Ты думаешь, я кто? — спросил Симагин. — Ты думаешь, я такая большая кошка?» Дворняг захлебывался лаем и поджимал хвост — сам ужасно трусил. Но делал свое дело, как его понимал. Симагин стал читать ему стих о собаке, который Антошка и Ася вечно рассказывали в Лешаках доброй соседской Альме. Дворняг притих. «Но как он может взглядом теплых глаз и языком, блестящим глянцевито, напоминать мне день за днем, за разом раз, что я живой еще пока. Я не убитый…» Дворняг слушал, свесив голову набок и подметая асфальт рыжим мохнатым ухом. Из подворотни на Симагина вышел рослый парень в заляпанной краской спецовке и джинсах и сумрачно попросил выручить — дать семнадцать копеек. Симагин выручил и дал двадцать. Боль не унялась.
В гостинице на Октябрьской площади Кашинский и Карамышев вдвоем продолжали банкет. «А я думал, вы с Юрико», — озадаченно сказал Карамышев, когда Симагин вошел. «А я думал, вы с Юрико», — в тон ему ответил Симагин. «Тогда кто же с Юрико?!» — воскликнул Кашинский. Потом, хохоча, они стали усаживать за стол Симагина, причем именовали его не иначе как героем дня и гордостью отечественной науки. Выпили, обсудили ситуацию на конгрессе. Интересно, Ася получила ли уже телеграмму, прикидывал Симагин. Потом Карамышев, извинившись, вышел. Симагину не хотелось ни смеяться, ни беседовать. Кашинский мотал головой, что-то говорил и сам ухмылялся своим словам — он сильно размяк.
— Вадим, — неожиданно для себя спросил Симагин. — Вы по собственной инициативе старались, чтоб я что-нибудь сболтнул? А?.. Или все-таки в дирекции просили прощупать, не полный ли я идиот?
Кашинский поперхнулся и отставил рюмку. Потом после ощутимой заминки, возмущенно вскочил.
— Андрей Андреевич, — сказал он угрожающе, — что вы, собственно имеете в виду?
— Мне это важно, — объяснил Симагин. — Не обижайтесь.
— Что «это»? — холодно осведомился Кашинский.
— Да сядьте вы, сядьте…
— Что за чушь вы порете, герой дня? — начав улыбаться, выдавил Кашинский. Первый шок у него миновал, но губы чуть дрожали, растерянность в глазах сменилась гневом и презрением. Симагин задумчиво смотрел в эти глаза несколько секунд, потом, смутившись, отвернулся.
— Ну, простите меня, — сказал он. — Жаль…
— Что — жаль? — вдруг спросил Кашинский каким-то новым голосом. — Что все у вас по маслу идет, вам жаль? — Симагин поднял голову. В хмельных зрачках Кашинского плясала азартная ненависть. — Знаете, как бьют банки? Нет? Жаль! Это действительно жаль. Вдвоем зажимают за шею в положении «раком», а третий лупит табуреткой. В ней килограмма четыре! Мне отбили почки за то, что не стал чистить сортир за «старика»! Вы знаете, что такое сидеть в конце стола? Вам никогда не наесться! Все два года! Мне сразу сказали: а, влип, Абрам! Не помогла тебе твоя синагога, придется Родине послужить, служи, Абрам! Если не откликался на Абрама, били ночью. Почему они решили, что моя фамилия еврейская? Она польская! Мой дед бежал из Польши строить коммунизм! А через семь лет его расстреляли как панского шпиона! А я не еврей! Я сам их теперь ненавижу!! — с триумфом выкрикивал он, надсаживаясь от волнения, спеша, глотая слова, будто боясь, что не успеет высказать всего. — Вам хорошо, у вас талант! И везение! А у меня ни везения, ни таланта! Ни здоровья, чтобы брать задницей! А вы всегда отгрызете свой кусок. И вы еще говорите! Вы еще смеете! — он задохнулся.
— Но я же ничего не отгрызаю, Вадик, — тихо сказал Симагин.
— Потому что вам все само плывет, — просипел Кашинский и перевел дух. — Да, — вдруг сказал он. — Я хотел, чтобы вы прокололись хоть как-нибудь.
Симагин покивал.
— Я так и думал. Но прокололись-то, Вадик, вы.
— Что вы знаете? — хрипло спросил Кашинский и вдруг опять закричал: — Вы же ничего не знаете! Вы чужой! На вас всем плевать! — На лице его мелькнул испуг и исчез, сорванный исступлением. — Я вам все, все… — Он лихорадочно наплескал себе еще водки, разлив половину на скатерть, и одним духом опрокинул в себя. — Думаете, вас кто-то любит? — просипел он. — Вас ненавидят! Думаете, Карамышев? Он завидует зверски и радуется любой вашей промашке! Вайсброд?! Он все начал, а вы, русский, талантливее! Он вас боится! Жена? Она вас в грош не ставит, я поручусь, что изменяет вам! Вот сейчас изменяет! Вы что, не видели на вокзале? Вы же ничего не видите! У вас ведь нет друзей! Вы ничего не можете! Даже ненавидеть! Я, сопляк, бездарь, оскорбляю вас, а вы, гений, терпите, словно я ребенок и не отвечаю за слова! А я отвечаю! Больше, чем вы! И вы не сможете мне ответить!!! — он захлебнулся криком и, схватившись за горло, надсадно закашлялся. Симагин потрясенно смотрел на него.
— Вадик… — проговорил он. — Господи… Да почки мы вам вылечим… Мне очень жаль, что я завел этот разговор, простите меня… — Кашинский, замерев в какой-то странной позе и продолжая держаться за горло, смотрел на него бешеными глазами. — Идите-ка сюда, — мягко позвал Симагин. Кашинский повиновался, словно под гипнозом. — Сядьте. Успокойтесь. Ну вот, хорошо. Почки мы вам вылечим. Рак, инфаркты, дефекты обмена, наркомания, генетические болезни… да что я вам перечисляю, вы все это знаете… это четверть дела. Мы на пороге возникновения человека, которого нельзя будет ни обмануть, ни изолировать, ни запугать. Поверьте, Вадик, это правда, я знаю, что говорю. Миллион лет человек совершенствовал средства, находящиеся вне его. Которые могут ему дать и могут отобрать. И его унижали, отбирая, отбирая… Не пройдет и двух лет, как мы начнем совершенствовать средства, присущие человеку неотъемлемо. Это скачок, сопоставимый разве лишь с тем, когда обезьяна окончательно встала, высвободив руки. От архейских бактерий, мезозойских ящеров — к человеческим рукам. Что она только ни делала потом этими свободными руками! И мадонн, и клипера, и бомбы…
Кашинский молчал, странно глядя ему в лицо.
— Да, я очень мало могу, — тихо сказал Симагин. — Но смогу больше. И все смогут больше. Все или никто — иначе нельзя, вы же понимаете. И, понимаете, я уже не смогу распоряжаться тем, что станут с моим подарком делать другие. Так же, как мать, родив ребенка, не может распорядиться его будущим. И ведь это и плохо, и хорошо. Но тут решит статистика: если из десяти трое будут ломать, пятеро сидеть сложа руки и двое делать, мир рухнет обязательно. Обязательно. Но будет дан шанс делать. Представьте: через несколько лет и вы, и я, и все, даже те, кто вас когда-то так унизил, станут всемогущими. Плохо это или хорошо? И плохо, и хорошо. Суть не в этом. Суть в том, что это неизбежно. Наука дошла — шабаш. Обратного хода нет. И, так же, как сейчас, каждый будет заниматься, чем захочет. Ни вы мне, ни я вам не сможем помешать. Но вы представьте, Вадик, вы только вдумайтесь: до чего же разными вещами мы с вами, всемогущие, станем заниматься! Вам не будет жаль?
Кашинский молчал, но у него вдруг снова задрожали и губы, и веки, и даже прочные, но как-то по-стариковски волосатые пальцы.
— А вот другая сторона, — совсем тихо закончил Симагин. — Помельче. Мы проговорили с вами четверть часа. Там четверть, здесь четверть, и все вода в ступе, и все нервы. И все плюсуется. И в итоге, представьте, вы ходите с больными почками лишний год, а то и два. И лишних десять лет не умеете, например, летать… — Он помолчал, но Кашинский не ответил и ни о чем не спросил. — Вот этих двух вещей мне жаль, — сказал Симагин.
Боль не унялась.
3
Ася не давала о себе знать. Симагин слал телеграмму за телеграммой — будто в пустоту. Конгресс, которого он так ждал, проходил теперь мимо него; на заседаниях, время от времени ловя на себе прозрачный, какой-то апостольский взгляд Кашинского, Симагин думал о доме; ему снились Ася и Антошка, на улице, в метро, даже в гостиничном буфете то и дело мелькали Асины лицо, или прическа, или сумочка, или вдруг накатывал запах ее духов, и Симагин озирался, как в бреду, — он видел лишь прохожих…
Не сразу сообразил он позвонить в Ленинград хоть кому-нибудь и попросить узнать, в чем дело. Так. Вайсброд старый и больной, неудобно. Бондаренки в отпуске. Тоня курганы ковыряет, Жорка на полигоне до осени. Занятые все, как черти… Елкин корень, Валера! Я же знаю теперь его телефон! Ну я и ворона.
— Привет! — сказал Симагин. — Слушай, как здорово, что я тебя застал!
— Здравствуй, коли не шутишь, — отвечал сквозь шумы тоненький, родной голос Вербицкого. — Как там? Потряс мировую науку? Родные и близкие уж заждались…
Это об Асе, конечно, благодарно догадался Симагин.
— Ты с моими виделся? — выпалил он.
— Разумеется, — ответил Вербицкий. — За подотчетный период бывал у твоей половины дважды, причем во второй раз — по старому адресу. Покуда тебя нет, она к матери переехала.
Обмякли ноги. И только-то! Ну, разумеется — ей одной и одиноко, и тяжело… Ни одной телеграммы, разумеется, не получила. И теперь сама же дуется, конечно: я вестей не подаю. Но как я подам, если она не сообщила о переезде! На работе нет, дома нет… Так ведь она телеграмму с адресом тоже наверняка не получила и не знает, где нас поселили! Ох, я нескладеха! А страхов-то напридумывал! Как всегда, все разъяснилось самым простым, безобидным образом.
— Ф-фу, — вырвалось у Симагина. — Спасибо, слушай… ты меня спас. А то уж я тут… да. Ты к ним еще собираешься?
— Зван, — светски ответствовал Вербицкий. — Не гнан.
— Как она себя чувствует?
— Не знаю, Андрей. Мы с нею, как ты легко можешь догадаться, на подобные темы не судачим.
— Ну выглядит-то как?
— Да как… Наверное, по тебе скучает — грустная…
Симагин только глубоко, шумно втянул воздух и так остался стоять, забыв выдохнуть и забыв добросить монетку. Спохватился, когда их чуть не разъединили.
— Ты долго еще там? — спросил Вербицкий.
— Да, — печально ответил Симагин. — Скукота, знаешь. Для нас это, в общем, пройденный этап. А она правда скучает?
— Замечательная у тебя жена, — ответил Вербицкий. — Всю жизнь искал, а она тебе, чертяке, досталась. Ты береги ее, понял?
— Да я берегу! — отчаянно воскликнул Симагин. — Но ведь работа!
— Из болота тащить бегемота…
— Ладно тебе… юморист нашелся. Как она себя чувствует?
— Ты что, не выспался? — раздраженно спросил Вербицкий. — Уже спрашивал!
— Ой, да-да, прости, из головы вон… А я тут передрейфил. Она такая печальная была, когда я уезжал, нездоровилось ей… Почему она на работу не ходит?
— Не знаю… Разве не ходит?
— То нет, то занято… Ладно. Увидишь — передай: скучаю жутко! А я вот из кабинки вылезу и сразу телеграмму дам.
— Давай, давай. Передам.
— Счастливо, Валерка! Спасибо!
Вербицкий повесил трубку, улыбаясь. Бедный самоуверенный глупыш, с удовольствием думал он снова. Думаешь, если ты открыл или усовершенствовал колесо, все должны радостно носить тебя на руках? Жизнь была прекрасна. Лишь одно омрачало ее — в то жуткое воскресенье Вербицкий в отчаянии бросил портфель прямо в Неву с моста. И сам едва не прыгнул следом… В нем ли дело, нет ли — но следовало бы иметь аппарат под рукой на будущее. Жаль… Ася преобразилась — он понял это, лишь только она позвонила. Это было спустя одиннадцать дней после воскресенья, вряд ли дело было в аппарате — но… Она была его, в его власти, в его пользовании, от него зависела ее судьба. Теперь он не спешил. Он, как гурман, смаковал ее растерянность, преданность, восхищение… Он блаженствовал, царил. Он делал все, чтобы она поняла наконец, какую удивительную душу унизила и отвергла. Теперь она должна была понять. Он рассказывал, какой Андрей замечательный человек. «Что греха таить, — говорил он, — Симагин куда больше, чем, например, я, заслужил семейное счастье. Я неприкаянный». Он видел, она ждет зова — и не звал. Словно бог, он кроил ее будущее; видел, как наяву, ее прозябание возле опостылевшего мужа, когда, заслышав звонок, она бросает недотепу за столом, у телевизора, в постели — и сверкающей кометой летит открывать…
Он пошел к ней назавтра.
— Андрейка мне звонил, — сообщил он между прочим. — Беспокоится. Я ему сказал, Ася, что вы переехали.
— Да, — ответила Ася. — Вот, телеграмму прислал, — она покопалась в бумагах на столе. — Слова. Люблю — у-лю-лю.
— Суховато, конечно, — примирительно сказал Вербицкий, просмотрев текст. — Но ведь он очень занят.
— Он всегда занят.
— Асенька, — увещевающе произнес Вербицкий. — Он, конечно, человек довольно тяжелый, капризный… Но небесталанный, это оправдывает многое. И он вас любит. Это главное. Когда он показывал мне ваши фотографии — те, на озере, — он прямо сам не свой был от гордости, он хвастался вами, как ребенок!
— Ребенок, — ненавидяще повторила Ася и вдруг вспыхнула. Растерянно глянула на Вербицкого. — Но ведь там…
Вербицкий успокоительно положил ладонь ей на руку, и Ася вздрогнула.
— Я смотрел как художник, — сказал он. — Вы замечательная, Асенька, вам него стесняться.
— Свинья, — сказала Ася. — Какая свинья!
— Ну, не надо. Вот — думал, вам приятно будет, а вы рассердились, — мягко улыбнулся Вербицкий.
— Все-все. Это меня не интересует.
— Что не интересует?
Она молчала, покусывая губу. Потом сказала ровно:
— Он. Я ушла от него. Совсем.
Вербицкий испугался.
— Асенька, — облизнув губы, проговорил он еще более мягко. — Да что вы! Вы же так любите…
— Нет, — ответила Ася, глядя ему в лицо влажными горячими глазами. — Уже нет. Да, наверное, и никогда не любила.
Вербицкий опять нервно улыбнулся. Ему стало не по себе. Он совершенно не собирался отбивать эту женщину у Симагина. Он лишь хотел, чтобы она презирала Симагина! Не замуж ли она за меня собралась, в самом деле? Черт, да ведь она еще и беременная…
— Асенька, опомнитесь. У вас же… Вы же ждете…
— Нет, — снова сразу поняв, о чем он мямлит, ответила она. И вдруг улыбнулась ему нежно и безоглядно. — Уже нет.
Ну и хватка у нее, с ужасом понял Вербицкий. Сладкое чувство обладания пропало. Опять что-то сокрушительное происходило вне его ведома и разрешения, но — вот ведь подлость — как бы в его ответственности. Опять его насиловали.
— Вы шутите… — произнес он чуть хрипло.
— Этим очень трудно шутить, — ответила Ася все с той же безоглядной улыбкой.
Вербицкий взмок. Даже на лбу проступили капли пота, он вытер их ладонью.
— А Симагин? — тупо спросил он. Лицо Аси презрительно скорчилось.
— Ася, вы жестоки! — от души сказал Вербицкий. — Андрей — прекрасный человек. Даже если любовь начала угасать — все равно, надо терпеливо и тактично…
— Ну хоть вы не мучайте меня! — умоляюще произнесла Ася, прижимая руки к груди, словно в молитве.
И стала ему омерзительна.
Он именно такой. Я вижу. Измученный, озлобленный. Но сохранивший — наперекор всему — лучезарную свою доброту. Броситься к нему, зацеловать… Ну, скажи что-нибудь. Умоляю, скажи. Мне ведь тоже трудно. Не надо о Симагине. Хватит. Я сто раз все передумала. Перевспоминала всю жизнь, перечла письма. Ничего не нашла. Мне мерещилось. Я тебя люблю! Тебя! Неужели не видишь? Ты же взрослый, сильный, опытный. Помоги мне. Забудь, что я не поняла тебя сначала, прости меня. Помоги. Я не могу сказать сама. Хотя бы дай знак, что хочешь, чтобы я сказала сама. Ну, хочешь? Тебе будет приятно? Я люблю тебя! Слышишь? Я люблю тебя!! Скажи что-нибудь…
— Ну, я пойду, пожалуй, — выдавил Вербицкий. — Я и так занял у вас массу времени. Все еще вернется, Асенька. Приедет Симагин. Вы снова почувствуете, что он ваш, со всеми его недостатками. Пусть нет прежнего пыла — но ваш, родной…
— Я полюбила другого человека, — произнесла она, глядя Вербицкому прямо в глаза. У нее был молящий, затравленный взгляд.
Сейчас ляпнет, в панике понял Вербицкий. Сейчас ка-ак ляпнет! Им овладело знакомое чувство тягостной, безнадежной скуки, и он вспомнил: так всегда было с Инной.
— Это, конечно, сложнее, — забормотал он. — Но и это еще не причина для столь решительного шага. Любовь преходяща, а семья — свята…
— Что?! — почти крикнула Ася.
Он опять облизнул губы, а потом озадаченно пожал плечами, показывая, что речь идет о пустяках, о бытовых мелочах.
— Да что тут особенного? Знаете, — он улыбнулся, — в народе говорят: муж любви не помеха… Он часто уезжает, доверяет вам абсолютно, задерживается в институте каждый вечер — вы могли бы встречаться с вашим избранником достаточно часто.
Секунду они молчали, потом Ася тихо и твердо сказала:
— Это не для меня. Я так не хочу… не могу. Это не любовь.
— Ошибаетесь, — строго и укоризненно возразил Вербицкий. — Это и есть любовь. Влечение к данному человеку в данный момент времени. Чистое. Бескорыстное. Не завязанное на быт. А семья, построенная на любви, — простите, Асенька, это чистый блеф.
Он пожалел о том, что сказал последнюю фразу. Женщина мгновенно ухватилась за нее и разыграла в свою пользу.
— Вы не верите, — прошептала она, со страдальческим видом мотая головой. — Как мне вас убедить…
Она запнулась, и он поспешно встал.
— Я буду заходить.
— Конечно!! После работы я дома. Мне еще не так здоровится… — она смутилась и не договорила.
— Берегите себя, — посоветовал Вербицкий. — И запомните, что я сказал. Не осложняйте жизнь себе… и вашему избраннику.
— Я… я не осложню. Я постараюсь. — Она отбросила свесившиеся на лицо волосы. — Я докажу…
Когда Вербицкий ушел, она, уже не сдерживаясь, уткнулась в подушку и заплакала навзрыд — на том же месте, что и девять лет назад. Мама вышла из соседней комнаты и стала, как маленькую, гладить ее по голове. Потом спросила:
— Это он?
— Да, — жалобно пролепетала Ася, всхлипывая и вытирая лицо. — Он не верит, мам! Он весь в шрамах, мне не добраться… Мам, я докажу! Мам, он тебе \ понравился?
Мама едва заметно пожала плечами.
— Мама! — отчаянно выкрикнула Ася. — Он чудесный! — слезы опять закипели у нее на глазах, но тут в дверь позвонили — Антошка вернулся с унылого, без привычных друзей, гулянья. Ася, спешно вытирая глаза и натягивая улыбку, пошла открывать.
— Ради Антошки, — сказала мама бессильно, просяще. Ася остановилась, будто ей выстрелили в спину.
— Мама, не надо, — с мукой и угрозой выговорила она. Близкие слезы делали ее голос низким и хриплым.
И, когда Антошка вошел, она сняла со шкафа купленный по пути с работы игрушечный вертолет, о котором сын давно мечтал.
На миг Антошка остолбенел, глаза у него загорелись. Он бережно взял вертолет и стал рассматривать, завороженно приговаривая:
— Вертолетик… это тяжелый транспортный вертолет… нет, спасательный. Для планет с разреженными атмосферами… — Он поднял на Асю глаза. — Это папа прислал?
— Ну, что ты? — заходясь от смеха, сказала Ася и присела на корточки рядом с сыном, обняла его. — Папе не до нас, — Антошка крутил вертолет, изучая со всех сторон. — Вот ты гулял долго, а сейчас дядя Валерий заходил, это он тебе принес, потому что он знает, как ты любишь тяжелые транспортные вертолеты!
Антошка опустил руку с вертолетом, недоверчиво глядя на Асю. Глаза его погасли.
— Ну да… — баском пробормотал он. Ася шутливо погрозила ему пальцем:
— Разве можно маме не верить?
— Мам, — позвал Антошка нерешительно. — А мам?
— Что, милый?
— Помнишь, вечером, перед тем, как ты заболела один раз тогда? Ты мне обещала. Я тебя просил, а ты мне обещала.
— Что обещала, Тошенька? — с беззаботной улыбкой спросила Ася и крутнула пальцем пропеллер. Пропеллер завертелся. — Ж-ж-ж-ж-ж, — сказала Ася.
— Нет, ничего. Прости, мама, — сказал Антон и перехватил под мышку вертолет. — Ничего.
4
Хотя Симагин дал телеграмму о приезде, он был уверен, что Ася не встретит. Только в глубине души теплилась надежда увидеть ее на перроне — но она и раньше не обязательно встречала его, не всегда удавалось убежать с работы. Это все были пустяки, главное — он вернулся. Самое страшное позади.
Комнаты имели нежилой вид. Чувствовалось, уезжая, Ася тщательно прибиралась. Как-то встревоженно Симагин несколько раз прочесал квартиру — непонятно было, отчего все выглядит так чуждо, не из-за порядка же… Понял — не было Асиных вещей. И Тошкиных. Ну, ладно, расхожее на них… Но зимнее пальто? Но статуэтка, тоненькая русалочка, которую Ася привезла от мамы, когда перебралась сюда? Игрушки? Он еще раз все перерыл и облегченно вздохнул — помстилось. Ну, нервы стали… На месте платье, которое он подарил ей в мае. На месте его любимый купальник — голый-голый. На месте планетоход, который он купил Антону на день рождения…
С улицы он опять, как с вокзала, позвонил ей на работу — там опять было занято. Девки треплются, окаянные. Сгорая от нетерпения, он помчался к Асиной маме, может, Ася там его ждет и волнуется, поезд-то два часа как приехал! А уж Антон-то наверняка там! Вот обрадуется! В портфеле у Симагина погромыхивал купленный в Москве сложный радиоконструктор.
Никто не открыл. Ошеломленный, он давил и терзал кнопку звонка, из-за двери слышался приглушенный, гневный перезвон. Никого.
Уже тревожась не на шутку, он зашел в первую же кабину и снова позвонил Асе на работу. И снова было занято. Он набирал две минуты, три, четыре, крутил мерно журчавший, иногда западавший диск тупо и озверело. У него дрожали пальцы. Происходило что-то непостижимое и ужасное, он чувствовал, надвигалась какая-то мрачная опасность, он не узнавал Асю. Что с ней случилось? Она нездорова? Она… она — умерла?
Господи, что за чушь? Валерка заходил, все в порядке, ждут…
Звонко щелкнуло в трубке, и сердце Симагина замерло.
— Здравствуйте. Асю можно к телефону?
— А кто спрашивает?
— Да Симагин же!
— А… Аська… — Шум в трубке заглох, словно микрофон зажали ладонью. Потом снова возник тот же женский голос: — Она вышла сейчас. Что передать?
— А… она там? — беспомощно спросил Симагин. — Она просто вышла? С ней все в порядке?
— Раньше надо было думать, — враждебно ответили оттуда и повесили трубку.
Симагин вывалился из кабины. В разрывы плотных облаков прорывались скупые белесые лучи, холодный ветер нес пыль, охлестывая лицо порывистым колючим хлыстом. Что-то случилось.
— И уехал в такой момент? — потрясенно раскрыв глаза, спросила Татка. Ася пожала плечами.
— Работа, — сказала она язвительно и закурила. — В общем-то, я сама его избаловала. Ну, он и привык.
— Это просто свинство какое-то, — немного недоверчиво проговорила Татка. — А теперь звонит, будто так и надо. А знаешь, я сразу поняла, что вы… ну… — Она выжидательно глянула на Асю, потом отвернулась, поняв, что продолжения рассказа не будет, и потянулась к телефону.
— Тат, Тат, — сказала Ася поспешно и чуть смущенно, — ты погоди телефон занимать, а?
Татка опять повернулась — с нездоровым любопытством в глазах.
— А что? — жадно спросила она. — Ждешь, что он еще позвонит? Теперь тебя звать?
— Да он не позвонит, — пренебрежительно сказала Ася и помахала сигаретой. — Он теперь сверкает пятками в свой институт. Я живая, волноваться не о чем.
— Так ты другого звонка ждешь? — восхитилась Татка.
Ася неопределенно улыбнулась.
В полдвенадцатого обещал позвонить Валерий. Они должны были сговориться, как встретятся вечером. Он хотел повести ее куда-то в гости. Валерий оттаивал. Он сам этого еще не понимал, бессознательно сопротивлялся, пытаясь не пустить Асю в себя. Но она побеждала. Он начинал ее любить — той любовью, о какой она мечтала всю жизнь. Ровно, мужественно, чуть снисходительно. Ася снова надеялась и ждала. То, что Валерий позвал ее к своим друзьям, она расценивала как важный этап. Он уже связывал себя с нею. Она гордилась тем, что он ее позвал.
Телефон зазвонил в одиннадцать двадцать восемь, и Ася быстрее молнии метнулась к нему.
— Это ты? — выдохнула она, с восторгом отмечая, что Валерий наконец-то становится точным и не заставляет ждать себя по полчаса, по часу…
— Ну кто же еще? — сказал полузабытый, болезненно знакомый голос. — Слушай, где тебя носит? Я чуть с ума…
— Меня нигде не носит, — произнесла Ася, мгновенно окаменев. — Ты подбирай слова, будь добр.
— Ась, ты что? Ты еще… — он помедлил, — дуешься?
— Нет, — ответила она удивленно. — С чего ты взял?
— Не отпустили с работы, да? Как ты себя чувствуешь-то?
Татка слушала, делая вид, что заполняет какой-то документ.
— Нормально.
— Ася, — сказал Симагин после едва заметной паузы. — Ася, я в Ленинграде!
— Да, я догадалась. А из Москвы ты не мог позвонить?
— Ой, Аська, да я сто раз звонил! — заторопился он, словно обрадовавшись тому, что она наконец в чем-то его упрекнула. — То тебя нет, то занято — хоть плачь. Тебе не передавали разве?
— Ладно, — сказала Ася. Сердце билось судорожно. Оказалось труднее, чем она полагала. Не поворачивался язык. Зачем упрекнула? Сама же не подходила. Валерий может позвонить. А ведь не дозвонится с первого раза и больше не станет. Обидится. И будет прав. Слов она ему наговорила с три короба. А мизерное дело — свободный телефон вовремя — не сделала.
— Вот что, Симагин. Трепаться мне некогда, я ведь на работе, между прочим.
— Да-да, конечно, мне тоже надо… скажи только — ты в порядке?
— В порядке.
— Ну и ладушки, — голос Симагина мигом повеселел. — Слава богу. Я встречу тебя после работы, и вместе поедем к тебе, чтобы сразу перетащиться. Ага? Соскучился — жуть. Я закажу такси…
— Нет, — ответила Ася ровно, — не надо меня встречать после работы и заказывать такси. Не траться. Я ушла от тебя, Симагин.
В трубке безлюдно хрустело. Ася сделала движение повесить трубку, но там все-таки раздалось:
— А?
— И хватит. Ты меня предал и звонишь, как ни в чем не бывало. Уверен, что я опять завиляю хвостиком. Еще бы — гений осчастливил! Аська должна с голыми пятками бежать, как верная собачонка, да? Я больше не буду вилять хвостиком.
— Ася, да что случилось?
— Я тебя больше не люблю.
— Ася!!! — отчаянно закричал он.
— Я хочу повесить трубку, — сказала она и, как всегда, сделала, что хотела.
— Ты молодец, — решительно сказала Татка. — С этими сволочами только так и надо.
— Ладно, все. — Ася затрясла головой. — Дай огня. Гадость. Она достала сигарету. Пальцы все-таки дрожали. Попробовала работать. Буквы валились друг на друга. Ася подошла к окну и стала смотреть, как желто-серая Нева тяжко прогибается под ударами ветра.
Она успела выкурить две сигареты и вернуться к работе, когда дверь хлопнула как-то по-особенному. Тревожное чувство оторвало Асю от бумаг. Симагин стоял перед нею — как всегда, встрепанный, нахлестанный ветром. Какой-то недоделанный. Она болезненно сморщилась и опустила голову. Симагин стоял и смотрел. Она что-то писала и чувствовала его взгляд, опущенный ей на темя тяжелой, горячей ладонью. И Таткин взгляд она тоже чувствовала. Татка не встречалась с Симагиным, но могла узнать его по фотографиям, которые Ася приносила хвастаться, — Симагин удачно ее снимал, и изредка попадал в кадр, когда их вдвоем снимал отец Симагина или Антон. Не поднимая глаз, Ася почувствовала, как Татка беззвучно вышла из деканата. Симагин молчал.
— И долго ты собрался стоять? — не отрываясь от дела, спросила Ася.
— Всю жизнь, — не задумываясь, ответил Симагин.
— Три ха-ха.
— Асенька. Что случилось?
— Ничего. — Она устало вздохнула и подняла голову. Телефон молчал. Но мог позвонить в любую секунду. — Я все сказала. Что ты снова меня мучаешь? Нельзя меня беспокоить.
Он медленно опустился в кресло для посетителей. Абитуриент из провинции. Кто его слушает на конгрессах? Не могу представить.
— Ты знаешь, — тихо сказал он, — я всегда знал, что так будет. Ты была… таким подарком… Я всегда чувствовал, что не заслужил, не… — Он замотал головой, с силой провел ладонью по щеке.
— Перестань, — брезгливо одернула его Ася. — Противно. Ты же мужчина, в конце концов. Держи себя в руках.
— Ася! — выкрикнул он. — Так нельзя!
— Мне надо работать, — сказала она.
— Вот как, — выговорил он. — Но ведь… ты говорила — не можешь без меня…
Ася чуть скривилась. Ей было неприятно, унизительно вспоминать об этом. Да, говорила…
— Да, говорила, — согласилась она. — Много чего говорила. Слова — это знак состояния, Симагин. Как сердцебиение, расширение зрачков… пот… С женщиной нельзя договориться, запомни. Когда женщина влюблена, ты будешь слышать от нее то, что хочешь. Но это вовсе не значит, что она так думает. Это значит лишь, что она влюблена. Ты совсем не знаешь женщин, Симагин. Ты детеныш. А мне нужен мужчина.
— Ты меня никогда не любила? — тихо спросил он. Она пожала плечами. Он мучительно всматривался в ее лицо, пытаясь найти хоть след былого, хоть один луч улетевшего в бесконечность света — и не находил.
— А как же… — сказал он. — У нас… Там? — Она сразу поняла и на миг почувствовала чудовищную боль, причиной которой тоже был Симагин, — словно все внутри намоталось на стремительное раскаленное сверло и теперь отрывается, живое от живого… Ей хотелось ударить его изо всех сил.
— Там давно ничего нет.
— Как?! — с ужасом пролепетал он. — За что?!
Телефон молчал.
— А Антон? — спросил Симагин. Голос был серым и безнадежным.
— Антон с бабушкой. У знакомых на даче. Пусть он тебя не заботит, это мой сын. Ты совершенно ничем ему не обязан. Он помедлил.
— Ася моя… Я тебя чем-то обидел? Не представляю… Но так же все равно нельзя.
— Что ты болтаешь? — спросила Ася. — Ты ужасно много болтаешь, Симагин. Я встретила другого человека.
— Ты ни с кем не будешь счастлива, — услышала она издалека. Телефон молчал.
— Нет, ну это просто смешно! — сердито воскликнула она. — Самовлюбленный мальчишка! Неужели ты думаешь, что мог всех заслонить? Уходи, — сказала она легко.
Он послушно поднялся.
— Ася, — сказал он.
— Все-все-все, — ответила она. И, чтобы покончить, добавила: — Ты мне стал физически неприятен.
Он будто даже обрадовался.
— Это пройдет! Оттого тебе и кажется остальное. Все будет хорошо. Ведь было хорошо — правда?
Она нехотя шевельнула плечом.
— Ты глупышка, — сказал он нежно. — Ты даже не понимаешь, что так легко поверила тому… кого встретила… лишь оттого, что нам было хорошо. Ты привыкла верить… Все вернется, Ася. Я буду ждать тебя, ты очнешься. Любимая, родная моя, бесценная… — Он задохнулся. — Настоящее не уходит!
Слушать этот вздор было жалко и стыдно. И ведь я когда-то думала, что люблю его… Ее передернуло. Та жизнь казалась выдуманной. От нее ничего не осталось. Хоть бы Татка пришла. Телефон молчал.
— Настоящее не кончается, Ася! Настоящее…
Что еще он хотел поведать о настоящем, осталось его личным делом. Дверь с грохотом распахнулась, и деканат заполнила гомонящая молодая ватага. Ася облегченно вздохнула. Внимать Симагину было совершенно невыносимо. Будто любовь ей предлагал гниющий труп. Теперь Симагин смотрел издалека, его будто свежим ветром смело в угол, и Ася сразу стала энергичной, раскованной, говорливой. Она испытывала странную легкость, работа спорилась в ее руках, мелькали печати, бланки… Вернулась Татка и стала описывать презабавный инцидент в буфете. Не очень вслушиваясь, Ася от души смеялась. Это был ее мир. Живой, невымудренный. И только телефон молчал.
Симагин ушел минут через пятнадцать.
Она посмотрела в окно, как он бредет по набережной, шатаясь от яростных ударов ветра. Плащ бился на нем, точно хотел улететь. Много курю, подумала Ася, сминая в пальцах сигарету. Может, от этого заживает медленнее. А нужно быть готовой. Может, он уже скоро скажет: хочу. Симагин стоял на набережной, обвалившись на парапет, и все оборачивался — будто ждал, что, как встарь, Ася выскочит из дверей в наспех наброшенном пальто и бросится бегом поперек мостовой. Сияющая. Счастливая. Нет уж, увольте. Хватит унижаться.
Валерий позвонил в начале второго. Он работал всю ночь, сделал двенадцать очень качественных страниц и, заснув лишь под утро, попросту проспал. Они договорились. Какое счастье, он все-таки позвонил.
Кажется, их поздравляли. Кажется, Вайсброд расспрашивал. Кажется, приезжали из центра с новыми записями — их надо было принять. Наверное, он сделал и это — кроме него, просто некому было это сделать.
Он ушел с работы вместе со всеми. Но отдельно. Вышел в ветер. Горбясь под неимоверной тяжестью неба, прошел мимо закрытого цветочного киоска, мимо автобусной остановки.
Он не помнил, где плутал. Забрел, кажется, в маленький кинотеатр. Ему стали что-то показывать. Он ушел с середины.
Он пришел домой в половине десятого. Ноги омертвели от скитаний. Кружилась голова. Он не ел с Москвы. Вот теперь — казалось, триста лет прошло после того, как он утром приехал сюда с вокзала — он понял, что произошло. И одновременно понял, сидя на стоящем в коридоре нераспакованном чемодане, что в глубине души весь день носил сумасшедшую надежду — придя домой, встретить здесь ее. Потому и не шел допоздна — давал ей время. Было пусто. Было много места — три маленькие комнаты, узкий коридор, кухонька, и повсюду одинаково — пусто. Все дышало ею, мерцало отблесками. Но отблески угасали. Промозглая ночь сочилась в окна. Ему казалось неоспоримым, что лишь тогда он начал жить, когда на остановке увидел прекрасную девушку с ослепительно черным костром волос. И, значит, сегодня — кончил жить. Ему было страшно. Ведь впереди, наверное, еще много лет. Голова разламывалась, он принял баралгин, напился воды из крана. Подошел к окну. Город спал. Громоздились темные, мертвые контуры. Ледяная луна стремительно летела над ними, гибла в тучах, взрывая их края серебряным блеском, и вновь вырывалась в бездонную черноту, падала в глаза жутким бельмом. Ее пронзительный свет был непереносим. Симагин задыхался. Он пошел обратно. Гулко, непривычно звучали на ночной лестнице выходящие шаги. Завывал ветер. В почтовом ящике белело, Симагин машинально вынул — письмо. «Здравствуйте, наши дорогие! Что-то давно от вас нет ничего. Сеновал мы приготовили, погода стоит отменная, и верандочка ваша ждет не дождется. Тошенька, поди, вырос за лето совсем большой, мы купили ему велосипедик, пусть катается, тут просторы. Как Асино здоровье? Ты, Андрюша, ее сейчас береги. Не знаешь, какие женщины в такой момент капризные, так то не со зла». На улице черный свирепый ветер ударил Симагина по лицу, закрутил плащ. Симагин разжал пальцы — маленький светлый призрак мелькнул в темноте и пропал, проглоченный водоворотом. Сгибаясь, Симагин побрел. Он не знал, куда идет. Он не знал даже, что идет. Но шел безошибочно, и в сером свечении рассвета пришел. Долго стоял под неживыми окнами. Потом вспомнил — там, внутри, она тоже одна. Может быть. Если не с тем. Взбежал на седьмой этаж. Едва дыша, опрокинулся на дверь, и несколько минут стоял, закрыв глаза, унимая боль в сердце, затылком чувствуя среди пухлого дерматина льдистую твердость кругляша с цифрой «47», который он сам прикручивал в сентябре, потому что прежний совсем облупился. Ася была за дверью, он ощущал ее, слышал ее сон, видел ее дыхание, струйчато дрожащее в зазорах, в замочной скважине… Это напоминало марево над полуденным лугом. Его рука потянулась к звонку и отлетела. Не надо ее будить. Но я же здесь. Она не чувствует? Она уже не чувствует. В окна тек скупой илистый свет. Стекла стонали под напором ветра, по лестнице крутился сквозняк. Симагин прижался губами к звонку. В квартире квакнуло. Симагин отпрянул, зажав рот обеими руками. Потом стал медленно пятиться. Оступился и едва не упал. Ася не проснулась. Наверное, она устала. Наверное, она очень много курит. Наверное, ей еще нездоровится. Он бросился вниз, словно за ним гнались, потерял равновесие и упал-таки, разбив локоть и колено, ссадив щеку о заплеванный пол. Сильно хромая, выбрался на улицу. Шипя и упруго подскакивая на выбоинах в асфальте, проламывая густые, песчаные потоки ветра, мчались утренние машины. Симагин перешел улицу и опять долго смотрел на окна, машинально размазывая кровь и грязь по лицу. Потом пошел на работу.
Но когда долгожданное произошло наконец, Ася испытала странное, горькое разочарование. Нет, она ни о чем не жалела, ей не о чем было жалеть. Она любила Валерия смертельно, и, конечно, куда Симагину было до него. Но все творилось где-то вдали. Она вбирала навсегда и целиком, до легчайшего вздоха, до мельчайших бисеринок пота. А вложить ничего не могла. Старалась изо всех сил, ласкала, как только могла. Но ничего не могла. Была марионеткой. Самой можно было ничего не хотеть, только слушаться. Казалось, на ее месте сгодилась бы любая. Не пылкой нимфой, радостно и безоглядно упавшей в полдень на зеленую траву чувствовала она себя, нет. Просто искалеченной абортом женщиной, на грани отчаяния, с широко разведенными ногами. Наверное, так и должно. Сказки ушли, пришла жизнь. Но когда все кончилось, они с Валерием не стали ближе, остались порознь, каждый на своей стороне постели. Она долго лежала, глядя в прокуренную тьму чужой квартиры. И не могла уснуть. И не могла понять, почему ее преданность, ее восторг скатывались с него, как капельки воды с промасленной бумаги. Она едва не плакала, но лежала тихо, привычно боясь разбудить спящего рядом мужчину. Он был разочарован. Она не смогла! Наверное, он не может забыть той, предавшей. Он часто рассказывал. Инна. Ася ненавидела ее. Надо бороться. Он же целовал меня, целовал! Ему нравилось! Пусть хоть немножко…
Что за удовольствие, что за блаженство он испытал, произнеся наконец вслух фразу, которую столько времени мечтал произнести вслух кому-нибудь, кто от него зависит, с превосходственным идиотизмом и жирной незаинтересованностью, с какими она была когда-то обрушена на него самого, о, что за блаженство — платить миру его же монетой, не сдерживаясь, не щадя и не размышляя. До новых встреч, сказал он ей, снисходительно чмокнул в горящую щеку, мимо подставленных запекшихся, робко приоткрытых губ, и захлопнул за нею дверь, и тихонько засмеялся, когда эта невыносимая женщина, все утро глядевшая на него огромными, чего-то требующими глазами, наконец ушла. Право, я дурак хуже Симагина, думал он, тихонько смеясь, тот хоть просто дурак, а я все понимаю — и тем не менее продолжаю искать чего-то этакого… Ну и богиня! Ну и муза, боже правый! Он никак не мог понять, что же, в конце концов, померещилось ему в ней, что приворожило? Кем она сумела притвориться, чтобы он, собаку съевший на этих вывертах, заметил ее и захотел, как она добилась этого, хитрая тварь? Требовательный взгляд, требовательные руки, требовательные, слащавые бесконечные поцелуи, как если бы он, Вербицкий, благодаря тому, что она разделась и легла с ним, стал ее маленьким сыном, которого она имеет право зацеловать до того, чтобы велеть потом: так делай, так не делай… Сколько суматохи, вожделений, надежд — и денег, между прочим, на этот идиотский прибор — и все ради того, чтобы наставить рога обормоту Симагину, которому разве что отпетый лентяй или евнух не наставил бы рогов, да повесить себе на шею очередную женщину. Слова те же, движения те же, все по безграмотному трафарету, и смотрит голодно и выжидающе, будто я у нее по гроб жизни теперь в долгу, будто не сама бросилась в постель ко мне…
Сердобольный кретин! Вешаются на шею убогие куры — а настоящего, хоть убейся, нет. Уж сидела бы дома со своим Симагиным — как же, взалкала африканской страсти, высокодуховной аморалки, истосковалось мещанское сердечко по запретным плодам, остренького захотелось; разумеется, от Андрюшки она побежала только пальцем щелкни, но на кой же ляд я щелкнул-то? Кретин, портфель этот таскал, надрывался, поверил в этот бред; какие-то железки — и в глазах вспыхивает огонь самосожжения, несносно требовательного, как у всех кур, которые жаждут только отдаваться, стряпать да стирать, и от всех требуют того же. Крепилась, покамест муж торчал дома, а стоило ему отъехать на какие-то две недели, она рванула под одеяло к первому, кто подвернулся…
Хватит, ребята. Больше я в эти игры не играю. Как-то вдруг Вербицкий понял наконец, что они — удел богом тюкнутых, неуверенных, ищущих себе костыли. Пропадите вы пропадом, вруны, не способные есть, пить, спать без миражей, под каждый чих подводящие моральный фундамент, прячущие голову под крыло. Мне пора работать. Кончай перекур, начинай приседание. Повесть, которую он придумал тогда на мосту, казалась ему теперь сентиментальной, инфантильной, надуманной. Но, слава богу, голова еще пашет. Мне есть, что сказать, думал Вербицкий, отключая телефон и заправляя в машинку лист белой, белой бумаги. Заглавными литерами, по знаку через три пробела, он настучал заглавие: «До новых встреч». А ниже, откровенно уже хохоча от прилива сил и чувства полной свободы, прострочил страницу эпиграфом: «Он неопытен, да строг. Еле держит молоток!»
Весь день не отходила от телефона. Каждый звонок бросал с места. Сердце обмирало, а потом неслось так, что темнело в глазах. Когда телефон занимали девчонки, не могла работать, отвечала невпопад, путала печати. Думала лишь — только б он не позвонил сейчас. Только б он позвонил потом. Только бы скорей перестали они трепаться. Смутно вспоминала, что никогда так не волновалась, ожидая звонков Симагина: тот бы прозвонился, что ему…
После работы позвонила сама. Не могла больше ждать. Эта ночь, наверное, решила судьбу их отношений — а ведь Ася проявила себя не лучшим образом. Ответь, заклинала Ася. Я опять прибегу. Позволь мне попробовать еще, ну позволь. Станет так светло. Я сготовлю вкусный ужин; ты будешь рассказывать мне все-все, потому что я пойму все-все; потом ты побудешь во мне, потом уснешь спокойно, не одиноко. Разве ты сам не хочешь?
Поздно вечером позвонила снова. Сил не было сидеть в пустой квартире. Не отвечали. Надвигалось ужасное, непоправимое. Кажется, она проиграла. Я неумелая, черствая дура, я холодная рыба, я не сумела. Это Симагин виноват! Он отучил бороться, он сюсюкал и берег, и заваливал цветами, стоило слегка помрачнеть. После полуночи она вышла на пустынную улицу и позвонила в последний раз. У Вербицкого не отвечали. Тогда она заплакала. Не будь Антошки, она покончила бы с собой.
5
Листья летели навстречу.
Вскипая недолгими водоворотами, всплескивая и опадая, в грудь била стремительная золотая река. Осень стряхивала листву, и от косых лучей не по-теплому яркого, сухого солнца некуда было укрыться.
Со странным чувством бродил он по городу. Память играла с ним злую шутку — ему некуда было укрыться.
Вот остановка — здесь познакомились. Вот площадь Искусств — здесь договорились встретиться, и оба ужасно опоздали, но так были уверены друг в друге, что приехали оба час спустя, и встретились. Вот Финляндский, отсюда уезжали в тот волшебный день на залив. Вот полнолуние, ее так волновала луна. Вот вода, она любила плавать. Мир был полон ею. Она присутствовала всюду — в воздухе, в воде, в цветах, которые он не успел ей подарить… Она сама была воздухом, водой и цветами, и воздух стал теперь душен, вода — суха, и цветы — бесцветны.
Он не знал, не старался узнать, где она и что с нею. Он был уверен, что она счастлива.
Он больше не задерживался в институте. Это тоже было странно и глупо: когда его ждали дома и он спешил домой, — работа увлекала, и он засиживался допоздна. Теперь его не ждал никто, но он уходил со всеми. Голова обесплодела.
Он листал книги. Смотрел кино. Обедал, где придется, и заходил домой, как в гостиницу. Все потеряло смысл — и работа, и книги, все.
Получил письмо от Леры — ровно через год после того, как они повстречались на набережной. Сцепив руки и глядя на лежащий на столе белый конверт, Симагин долго сидел в густеющих сумерках, пока пустая квартира валилась в ночь. Потом, не читая, сжег. Умом понимал, что это, может быть, жестоко. Но не хотел равнодушно приятельского письма. И не хотел влюбленно преданного письма. И то, и другое было бы больно. Ничего не хотел. Нелепо, гротескно — при Асе он стремился, и мог, и даже чувствовал себя вправе ласкать другую женщину. Теперь нет. Не чувствовал себя вправе, не стремился, не мог.
Полюбил заходить в женские магазины. Нравилось мучить себя, прикидывая, что бы он подарил, что пошло бы ей, чему бы она обрадовалась. Он так любил, когда она радовалась. Она так любила, когда он дарил. И так любила дарить сама. Почему я мало ей дарил? Почему мы мало бывали вместе? Все думал — потом… Какая глупость! Ведь нет никакого «потом». Только «сейчас». Жизнь — это то, что «сейчас». Больше ничего нет и не будет. Эти годы были мимолетны, как взмах ресниц. Уже мчались последние дни, а я благодушествовал: потом. Будет отпуск… Будет зима… Ничего не будет, будущего нет. Сверкающая тонкая змейка сникла и погасла на горизонте.
На щеке, от лестницы, остался едва заметный шрам. Пятнышко. И, кроме, ничего не осталось.
Это было, пожалуй, самым противоестественным. Что от трех лет — трех этих лет! — ничего не осталось. Плоские, холодные фотографии. Немного одежды, которую он покупал ей и ее сыну. Планетоход, коробка пластилина, радиоконструктор, привезенный из Москвы поздно. Ее скромные подарки ему. Все. Да — еще много-много боли и пустоты.
Если бы можно было уехать…
Как это писал Энгельс брату: «Я рекомендую каждому, кто чувствует себя слабым или утомленным, предпринять путешествие по океану и провести две-три недели у Ниагарского водопада, и столько же в Андирондакских горах, на высоте двух тысяч футов…» Я читал это вслух, и мы смеялись, и Ася, прижимаясь щекой к моему колену, глядя звездными глазами, подшучивала: «Неплохо жили классики! В этаких условиях не грех великое учение создать. Но в Лешаках лучше…»
Как-то зашел Валера. Очень огорчился, узнав, что произошло. Долго молча курил, глядя неподвижными глазами. Симагин закурил тоже. «Ты прости меня, но этого следовало ожидать». — «Да?» — «Да. Есть лишь одно средство, чтоб от тебя не уходили, — уходить самому. Почувствовал хоть тень неудовлетворенности — бросай без колебаний. Не бросишь — она же первая тебя станет презирать и уж покуражится над тобой всласть». — «Да подожди, Валер. Если любишь — как-то бороться надо…» — «Борются только за повышение производительности труда. Это либо есть, либо нет». — «А знаешь, я все думаю — может, сам в чем-то ошибся…» — «В этих делах, Андрей, не бывает ошибок. Поверь старому греховоднику. Если женщина на тебя поставила, можешь по ней сапогами ходить — она будет благодарна. А если нет — хоть из кожи лезь, ей все будет не так. И еще одно. На будущее, когда очухаешься. Твой возраст и положение таковы, что бабы слетятся на них, как на мед. Не чтоб тебя любить и помогать, разумеется, а для супружества. Ведь с одного взгляда на тебя ясно, кем нужно прикинуться, чтоб ты сомлел. Будь уверен — тебя дешево покупают, а в мыслях у богини — твоя квартира, твои иностранные конгрессы с прилагающимся к ним иностранным шмотьем, твоя карьера. А в сердце — Вася из пивбара. Ищи женщин, которые не притворяются. Они, правда, честно говорят тебе, кто ты есть, и честно изменяют — но не предают, как эта фифа тебя предала». — «Мне никто не нужен». — «Не смеши. Курить начал?» — «Начал». — «И по бабам бегать начнешь. Просто ты катастрофически задержался в развитии». — «Я правду говорю, Валера — никто». — «Ой, ну пойди тогда, облучи ее своим спектром! — Вербицкий захихикал и ткнул Симагина кулаком в бок. — Нет, ей-Богу! Вдруг и впрямь подействует!»
Был получен спектр с латентными точками. Все завороженно толпились у экранов, а по ним головокружительно неслись бесконечные линии спектрограмм, то и дело разрываемые едва заметными паузами… Их было много, этих пауз, куда больше, чем ожидали. Симагин огляделся, чтобы отдельно поздравить Володю, и тут только обнаружил, что Володи нет. Он спросил.
Все помрачнели, будто темный ветер окатил головы и плечи. — У него умер сын, — сказала Верочка. — Вчера.
Симагин с трудом узнал его — Володя одряхлел. Они молча стояли, глядя друг на друга, — Володя, кажется, тоже не сразу узнал Симагина. Потом он отступил в сторону, пропуская Симагина внутрь. Они прошли в комнату, молча сели к столу. Зияла раскрытая постель, поперек нее корчился женский халат. Пахло лекарствами. На полу белело крошево растоптанных таблеток, колко отсверкивали осколки ампул, и сами ампулы глумливо, нагло лежали на блюдце посреди стола. У стены вверх ногами валялся осиротевший плюшевый медвежонок. Рыжий. Симагин смотрел в черное лицо Володи, изжеванное внезапно раскрывшимися морщинами, а в голове гвоздило: не успеваем. Володины щеки вдруг бессильно задрожали, и он, так и не сказав ни слова, уткнулся лбом в лежавшую на столе симагинскую ладонь и горько, по-детски безутешно заплакал. И Симагин, как Антошку, стал гладить Володю по тяжелой, седеющей голове.
Не успеваем, пульсировало в мозгу, когда полтора часа спустя он вышел на лестницу. Раскаяние душило его, он повторял и повторял: не успеваем. Ничего не успеваем. Бессилие. Было сумеречно, снаружи шумел и плескался нескончаемый осенний дождь, и кроме унылого беспросветного плеска да гулкого шарканья шагов, в мире не было звуков. Симагин вспомнил другую, тоже едва освещенную лестницу, и тронул щеку. Бессилие…
Он остановился у окна. Из тьмы наверху сыпал косой остервенелый ливень, асфальт в узком дворе безжизненно блестел, и сомкнутые стены домов, тускло освещенные одиноким фонарем, были в пятнах и потеках. От ровного шума воды хотелось повеситься. Не успеваем… Эти слова казались бессмысленными. Если бы Антон умирал… Антон меня помнит? Дети быстро забывают. Сколько людей страдает и умирает от болезней, которые мы научимся лечить? Научимся. Это слово тоже не имело смысла. Нет «потом». А я, из-за какого-то там себя, не могу сейчас. Голова пуста.
Хрупко, хрупко… Только пустота не хрупка. Невозможно выбрать поведение до опыта — и поэтому оно всегда возникает с опозданием, вместе со шрамами и переломами на своем теле и на телах близких. Но альтернатива — равнодушно повиноваться тому, что велят большие дяди: ходи влево, ходи вправо — и в это время думать о чем угодно, кроме дела, а вне приказов быть способным лишь, соответственно темпераменту, благодушно сдувать пену с пива или вопить «влип, Абрам!..» И где гарантия, что эти большие дяди выстрадали то, что велят, а не были выдрессированы такими же оболтусами? Да, да, все так, но ведь шрамы! Переломы! Ведь так хрупко! И память тут же рассыпала соцветия грациозных формул, повествующих об исчезающе малой вероятности и младенческой беззащитности всех без исключения антиэнтропийных процессов Вселенной. Но формулы лишь подтверждали неизбежность бед для всех, кто пытается противостоять накоплению хаоса, — выход следовало искать вне формул. Выход… Человек ломается, чуть надави. Несломанный человек — это ребенок, он еще не боится каждую ситуацию решать творчески, вкладывая всю душу, как совершенно неизвестную и жизненно важную. Он еще уверен, что, если ошибка и беда, кто-то любящий поможет. А у взрослого — лишь внеэмоциональный инструментарий, технический набор стереотипных подстраховок. Не хочу в стереотипы! Создавать хочу, создавать!
Как странно. Бежишь, бежишь — и вдруг…
Конь на скаку и птица влет.
Вспомни, как было. Не бежать невозможно. Каждая мышца поет, звенит, словно парус. А теперь? Насилие над собой, становящееся привычным, но не способное радовать. Истошный бег не к радости, а от стыда. Радость дают лишь результат и его оценка — но не бег. А тогда какая разница: бежишь ты, превозмогая боль, или причитаешь, лежа в луже, — ведь всегда найдутся те, кто, лежа в соседней, смогут лестно оценить, сколь мелодически ты стонешь, сколь оригинален колер твоей крови, выставленной напоказ. В этом всхлипе именно фа-диез, совершенно справедливо; и кровь хлюпает так зычно, так жидко — и в то же время так, знаете ли, кроваво, лучше настоящей… Дело лишь в том, с кем ты.
Шум дождя был мутным и зыбким. Внизу на лестнице стоял кто-то, упрятанный в капюшон. Он прижимался спиной к облупленной, крошащейся стене и, казалось, спал. Но когда Симагин наконец двинулся вниз и прошел мимо, спящий поднял голову.
— Эммануил Борисович… — вздрогнув, пробормотал Симагин.
— Я давно вас жду, — сказал Вайсброд и чуть улыбнулся. Проваленные глаза его лихорадочно блестели.
— Зачем? — ошеломленно спросил Симагин. — В такую погоду… Вы же совсем больны!
— Подождите, — досадливо шевельнул рукой Вайсброд. Он помедлил. Симагин напряженно ждал.
— В самое ближайшее время мне придется оставить должность и заняться досужей беллетристикой, — сказал он. — Я совсем раскис, так что все справедливо. Если вы, Андрей, в течение лет полутора не разработаете методику резонансного лечения нефритов, вам придется проститься со мной навсегда. Тише, не перебивайте! — Он резко махнул в сторону Симагина. — Я приехал не дискутировать, а информировать. Вам известно, вероятно, что заместитель директора давно и серьезно питает ко мне ярко выраженную антипатию. Известно?
— Известно, — после паузы сказал Симагин.
— Я полагаю, от его пика СДУ зашкалило бы все наши приборы, но это сугубо мое личное мнение. Во всяком случае, я плачу ему той же неприязнью, и у нас обоих есть к тому уходящие в глубь веков причины. Так что тут опять-таки все справедливо. Но я имею веские причины полагать, что эта антипатия перейдет — и начала было переходить — с меня на вас, как на моего ближайшего ученика. Подобный ход дел чрезвычайно повредил бы работе. Академическая карьера Вениамина Ивановича начиналась с борьбы против кибернетики, с доносов — такие люди остаются опасными при любом политическом раскладе в стране.
— Эммануил Борисович…
— Вы в состоянии три минуты помолчать?
— Да, — после паузы ответил Симагин.
— Очень рад. Так вот. С тем, чтобы парировать этот процесс, я уже довольно давно начал муссировать слух, согласно которому мы с вами находимся в натянутых отношениях. Согласно этому слуху, в частности, вы ждете моего ухода с нетерпением. С вашей мальчишеской невоздержанностью выражений вы, надо сказать, делали этот слух чрезвычайно доказательным.
— Эмману…
— Мне вполне сознательно помогали Аристарх Львович и Верочка… Вера Автандиловна, которые полностью в курсе этих сложных обстоятельств. Кроме того, я уж не знаю, как, но в Москве вам явно удалось нейтрализовать Кашинского, до конгресса он просто-таки ядом исходил в ваш — лично ваш! — адрес, а теперь стал как-то очень выжидательно объективен. Мы берегли вашу голову от этих дрязг, сколько могли, но теперь тянуть невозможно. Мой уход на пенсию — дело недель. Все, что от вас требуется, Андрюша, — сказал он с неожиданной мягкостью, — это, кто бы с вами ни беседовал… директор ли, наш куратор ли, или кто-либо из райкома, — не разрушать уже созданного впечатления.
Шумел дождь, и в лестничном воздухе висела промозглая сырость. Оставляя темные следы, с улицы вошел человек, отряхнулся, подозрительно глядя на Вайсброда и Симагина, пошарил глазами по их рукам — не распивают ли, и полез вверх, по крутым истертым ступеням. Слышно было, как он идет, идет, хрипло дышит, накручиваясь на полутемные отсырелые пролеты, потом где-то высоко-высоко стали гулко звенеть ключи, протяжно грянула дверь. Эхо забилось между этажами, раскалываясь и дробясь о твердые своды, и снова наступил заунывный плеск.
— Я его разрушу, — сказал Симагин бесстрастно.
— Это преступно. Вы подведете двух, а то и трех хороших людей. Не считая меня.
— Вы мой учитель. Я не могу…
— А я могу?! — вдруг сорвавшись, старчески надсаживая дряблый голос, крикнул Вайсброд и затряс бессильными кулачками. — Щенок! Если бы я так!.. — С тяжелым хрипом он втянул воздух. — Вы бы корпели в каком-нибудь ВЦ, или — в самом лучшем случае! — читали, как сказку, работы японцев и немцев. И отставали бы на десять лет! Но я дрался! Я маневрировал, да! Мой лучший друг двенадцать лет делает вид, что меня не знает! Он уже академик! А мы служили вместе! В одном артрасчете карабкались через Хинган в сорок пятом! Другой мой друг, когда я тайком приехал его проводить, плюнул мне в лицо. Теперь, между прочим, он работает у того Маккензи, о чьей бороде вы говорили столь умильно! И бомбардирует конгресс штата письмами, согласно которым биоспектральные исследования в России ориентированы на создание лучевого оружия! И уже я плюнул бы ему в лицо! — Он немощно ударил себя в узкую грудь несколько раз. — Но он далеко! Но я выиграл! Я нашел вас! И выучил вас! И мы обгоняем их на пять лет! Не сметь испортить! Сопляк!! Эта страна получит амбулаторные резонаторы первой! Эта!! Тем и так неплохо!!
Он был страшен. Он задыхался. Он полез в карман, долго не мог в него попасть, потом вытащил какие-то таблетки и кинул их в рот трясущейся ладонью. Откинулся на стену и закрыл глаза.
— Эммануил Борисович… — прошептал испуганный Симагин. — Эммануил Бо…
— Не желаю больше слушать вас, — сорванным голосом просипел Вайсброд, придерживая валидолину языком. — Вон отсюда, мальчишка. Слюнтяй.
Они долго молчали. Все было сказано. Дело в том, с кем ты, думал Симагин. Для кого ты. Дыхание Вайсброда постепенно выравнивалось.
— Хорошо, — сказал Симагин. — Я подумаю.
Вайсброд открыл глаза.
— Расходиться, господа, будем по одному, — вдруг проговорил он. — Вы — направо. Я, — он горько усмехнулся, — налево… Я на машине, Андрюша. Вас подвезти?
— Благодарю вас, Эммануил Борисович, — безжизненно ответил Симагин. — Я хочу пройтись.
— Дождь.
— Какая разница.
Они медленно вышли в сетчато дрожащую темноту. По крыше и капоту бежевой «Волги», выколачивая глухую дробь, густо плясали фонтанчики. Вайсброд открыл дверцу — внутри, в мягкой уютной подлодке, затеплился свет. Молча сделал приглашающий жест. Нахохлившийся Симагин, пряча руки в карманы, отрицательно покачал головой.
— Жаль, вы не умеете водить машину, — сипло сказал Вайсброд, садясь. — Гонщик из меня сейчас… аховый.
Звонко ударила в корпус дверца и защелкнулась в пазах. Заурчал стартер, вскрылись алым светом габаритные огни. Едва различимый за мокрым стеклом Вайсброд снял левую руку с баранки и помахал Симагину — Симагин в ответ покивал внутри поднятого воротника. Проливной дождь увесисто сыпался ему на плечи, барабанил по обвисшей шляпе. Заходили, поскрипывая, «дворники». «Волга» дрогнула и, расплескивая протекторами воду из луж, покатила к арке проходного двора. Следом пошел Симагин.
Он обещал подумать. На углу Большого и Двенадцатой линии его едва не сбил грузовик. На мосту Шмидта было просторно и ветрено, твердый дождь гвоздил щеки, грохотали в рыжем свете фонарей трамваи, и мост упруго подскакивал над водянистой бездной. На набережной Красного Флота, прогремев парадными дверями, навстречу вывалилась компания, весело и нестройно вопящая под гитару: «Гоголь, Гегель, Бабель, Бебель — жидовня проклятая! Бля, и ты, моя Маруська, сделалась пархатая! Гоголь, Гегель, Бабель, Бебель — классика опальная! Бля, до жопы надоела их брехня моральная!» На Театральной, из приоткрытых окон первого этажа консерватории, слышалось с какой-то репетиции удивительно красивое девичье многоголосье: «У девицы в белом лице румяны играют. Молодого, холостого парня разжигают. А женатому тошно цаловать нарошно!» Симагин шел сквозь дождь и даже не спешил — все было далеко. Так далеко. Резонаторы были еще далеко. Но ближе остального. Дождь утихал. На канале Грибоедова — в Никольском уже пробило одиннадцать — Симагин вошел в будку телефона и позвонил Карамышеву.
— Простите, Аристарх Львович, — сказал он. — Не разбудил вас?
— Нет, что вы! Да-да, он, — добавил Карамышев в сторону, а потом опять Симагину: — А мы просто-таки чувствовали, что вы позвоните. Я слушаю вас, Андрей Андреевич.
— Я, собственно, у вас под окнами. Случайно, честное слово. Я просто гулял. И, кажется, придумал, как спровоцировать развертывание.
— Немедленно поднимайтесь! — взволнованно крикнул Карамышев.
Симагин помедлил, потом спросил осторожно:
— Но ведь вы, как я понимаю… не один?
— Мы с Верой Автандиловной занимаемся математикой дважды в неделю… она будет очень рада вас…
— Прос-стите! — страдальчески сказал Симагин и рывком повесил трубку. Вышел из кабинки. Мотая головой от стыда, отошел к парапету и неловко, поломав три спички, закурил. Только теперь он понял, как продрог. Карамышев. Сухарь. Молодец, Карамышев. Верочка, легкая и радостная, как олененок.
Завидуешь? спросил он себя и, затягиваясь, честно ответил: завидую. Хотел бы целовать ее? Да. Но, наверное, не смог бы. Целовать и не чувствовать, что чувствовал, целуя Асю, — обман. Она-то может подумать, что я чувствую именно так! Подло целовать женщину, не ставшую целью. Но ведь и средством я не сделаю ее никогда! Значит, не подло? Не цель, не средство — просто. Как ласкают ребенка. Как согревают в непогоду. А стоит улечься пурге — улыбнуться и продолжить путь, каждый — свой. И даже если путь един — все равно как-то вчуже, как-то отчасти порознь: шажок вместе, шажок врозь… Но еще страшнее и несправедливее — если, сам лишь согревая в непогоду, для нее станешь целью. Достойно ли это? Или совесть уже кренится под напором продуктов работы желез? Опершись на парапет локтями, нависнув над каналом, он жадно курил и чувствовал, как медленно растворяется, рассасывается стыд, стянувший сердце тугим полиэтиленовым мешком. Укол был слишком внезапным.
Резко ударила дверь во влажной ночной тишине. Симагин оглянулся. Верочка, ослепнув со света, в наспех накинутом пальто — как Ася когда-то, озиралась у парадного. Потом, заметив, бросилась прямо через брызжущие лужи, по-девичьи трогательно всплескивая в воздухе каблучками. Она так разогналась, что едва не налетела на Симагина.
— Вы… — проговорила она, задыхаясь. — Вы неправильно подумали! Совсем!..
Он смотрел сверху на ее гневные и виноватые глаза, на приоткрытые губы, темно-алые и нежные — действительно как спелые вишни. Хотел бы, окончательно понял он, и горло сжалось от непонятной жалости к ней. Вспомнилась фраза из Цветаевой, которую любила повторять Ася: я не живу на своих губах, и тот, кто целует меня, — минует меня… Вычурно, но точно. Потому что те, кого она целовала, не были целью. Ее душа знала это, стыдилась и страдала — но ничего не могла поделать. Цели непроизвольны. Их было только две — слова из сердца и сын. А у губ — свои цели, своя жажда. Расползаюсь по всем швам, подумал Симагин, и перед его глазами вновь поплыла горькая улыбка Вайсброда: «мне — налево…» Вот и еще один шов затрещал, между душой и губами. «Нечего ждать тебе. Нечего — мне. Я — на Луне. Заяц нефритовой ступкой стучит. Смотрит. Молчит. Он порошок долголетия трет — но не дает. Я свою жизнь всем, кто спросит, пою. Но не даю…»
Окурок обжег пальцы. Симагин отщелкнул летящую оранжевую дугу, и та медленно втянулась в надтреснутое мусором черное зеркало канала.
— Идемте, Верочка, — сказал он, пряча руки за спину, чтобы не коснуться ее даже ненароком. — Идемте вместе. Сейчас я расскажу совершенно удивительные вещи.
И уже у парадного добавил:
— Послезавтра мы получим спектры латентных точек и приступим к их дешифровке. Обещаю.
— Вы совсем промокли, — тихо сказала Верочка.
На лестнице удушливо пахло кошками.
Он обманул Верочку лишь на сутки. Назавтра стало ясно, что понадобится не два дня, а три.
Один в темной квартире он лежал на диване, закинув руки за голову, и смотрел на голубоватую полосу, мягко прочертившую потолок. Сквозь щель в занавесках сочился с улицы свет, сокровенно озаряя комнату. Как и полгода, и год назад…
Мелодично пропел звонок.
Симагин никого не ждал. Он полежал еще, но робкий звонок не повторялся. Он расслабленно встал и пошаркал к двери. Хотя никого не ждал.
На площадке, съежившись, стоял Антошка.
— Ты… — выдохнул Симагин.
Несколько секунд они молчали. Антошка прятал глаза.
— Да заходи же! — закричал Симагин и, подхватив его, втащил в квартиру. Ногой захлопнул дверь. Антон мешком висел у него на руках и только цеплялся хрупкими пальчиками за симагинские ладони. — Ты что? — вдруг осипнув, спросил Симагин. — Что-то случилось? Антон!!
— Ты испугался? — спросил Антошка.
— Я? Конечно. Господи… — Симагин перевел дух.
— Я по тебе соскучился, — сообщил Антошка, насупясь, и впервые, неуверенно, скользнул взглядом по лицу Симагина.
— Тошка… — Симагин облегченно прижал его к себе, и тот, поняв наконец, что здесь он по-прежнему дома, рывком обнял Симагина за шею, засунулся лицом к нему за ухо и притих.
Так они стояли с минуту.
— Откуда ты? — глупо спросил Симагин.
— А я оттуда, — ответил Антошка, не разнимая рук.
— Пошли! — Симагин внес Антошку в Антошкину комнату и осторожно поставил на пол. Антошка озирался.
— Тут все как было, — сообщил он.
— Конечно. А ты что же, думал, тут другой мальчик живет?
— Откуда я знаю, — едва слышно пробормотал Антон. Симагин сглотнул.
Антон нагнулся и вдруг, со стремительностью котенка нырнув под диван, выволок за провод покрытый пылью планетоход.
— Вездеходик… — произнес он дрожащим голосом.
— Ты возьми его, — попросил Симагин.
Антон замотал головой, с испугом выпустив игрушку из рук.
— Мама выбросит…
Симагин молчал.
— Мы с бабушкой гостили на даче у ее друзей, а когда приехали, мама сказала, что ты не велел нам возвращаться, — сказал Антошка, искоса глянул на Симагина и заплакал.
Это продолжалось недолго. Шмыгая носом, он виновато подошел к Симагину и уткнулся горячим, влажным носом ему в живот. Симагин положил ладони на Антошкину голову.
— Мама знает, что ты здесь?
— Нет, — ответил Антошка. Подумал и объяснил: — Я сказал, что пойду в кино.
— В какое кино? — бессмысленно спросил Симагин. Антошка помедлил и ответил:
— Еще не придумал.
Симагин сел и посадил сына себе на колени. Тот вцепился в его руку изо всех сил.
— Как вы?
— Мы? Так… Бабушка болеет. Мама курит, дарит игрушки и приходит поздно.
Симагин опять прижал его к себе.
— Ты должен заботиться о ней.
— Как?
— Ты должен ее слушаться. Чтоб она не волновалась лишнего.
— Я старался. Но тогда она стала говорить, что у Симагина я от рук отбился, а теперь стал хороший.
— Это ничего, — сказал Симагин сквозь острый, режущий ком в горле. — Это не со зла.
— А от чего?
— От боли.
— Боль — это болезнь?
— Да, — твердо ответил Симагин. — Это я точно знаю.
— Ты вылечишь маму?
Симагин молчал.
— Ты еще не умеешь, — сказал Антошка, гладя его руку. — Я ведь знаю — если бы умел, пошел бы и вылечил. Да?
— Да.
— Я все время жду, когда ты что-то сделаешь, и это кончится. — Антошка помедлил. — А это не кончается.
— Да, Антон. Не кончается.
— А я могу тебе помочь?
— Конечно. Ты можешь заботиться о ней пока. Вместо меня. Понимаешь, мне будет гораздо спокойнее, если я буду знать, что рядом с нею мужчина, на которого я могу положиться.
— Хорошо, — серьезно сказал Антон. — Полагайся.
Он постепенно оттаивал, лицо его смягчилось, и вдруг он заболтал ногой, пытаясь носком ботинка достать лежащий на боку планетоход. Симагин, не выпуская Антошку, нагнулся и поднял пультик. Планетоход начал перебирать резиновыми гусеницами, крутясь на месте и уютно жужжа; одна из гусениц загребала воздух. Он раскачивался из стороны в сторону, наконец, повалился на живот и сразу пополз, уставя вперед низкий настойчивый лоб.
— Дай, — жадно сказал Антошка, протягивая обе руки. Симагин вложил в них пульт. Планетоход, вращая лепесточком локатора, объехал вокруг кресла, порыскал вправо-влево и остановился. Антошка выпустил пульт, и с приглушенным стуком тот упал на ковер.
— Нет, — сказал Антошка. — Знаешь… Неинтересно.
Замерев, Симагин ждал.
— У тебя было так, когда ты был мальчик? — спросил Антошка. — Что все игрушки становятся скучными… — Он помедлил, подбирая слово: — стыдными?
— Да, — сказал Симагин. — Было.
— Знаешь, пап, не могу забыть. Когда погиб дядя Витя, я в тот же день играл в их аварию. Понимаешь? И у меня все спасались. А ведь они по-настоящему погибли. Навсегда. А я в это играл. Я только недавно понял, что все происходит по-настоящему и навсегда. Ты меня понимаешь?
— Конечно, — тихо ответил Симагин.
— Играть стыдно, потому что чего захотел, то и стало. Но не по-настоящему. А значит, этого и нет. И только ты такой глупый, что притворяешься, будто есть. Сделать не можешь, а только притворяешься. Понимаешь? Я это понял и пошел к тебе.
— Спасибо, Антон. Ты мне очень помог. Правда.
— Вот и хорошо, — сказал Антошка.
Он затрепыхался, и Симагин поспешно выпустил его. Антошка съехал на пол с его колен, взял планетоход и бережно задвинул на прежнее место. Поднялся и вдруг замер спиной к Симагину.
— А ты по нам скучаешь? — напряженно спросил он.
— Очень.
— Я спрошу, ладно?
— Конечно, Антон.
Он помедлил и совершенно чужим голосом спросил:
— Мама меня обманула?
Симагин смотрел ему в спину. Сын ждал ответа.
— Нет, — сказал Симагин. Антошка молчал. — Нет, Антон, не обманула. Она сама верит в то, что говорит. Она больна.
— А ты веришь в то, что говоришь?
— Да.
— А ты здоров? Симагин сглотнул.
— Немножко здоров, — сказал он.
Антон начал поворачиваться к нему и вдруг завозился под курточкой, расстегнул рубашку и достал из-за пазухи скрученную школьную тетрадку с таблицей умножения на задней стороне обложки. Протянул Симагину. Симагин взял. Тетрадка была теплой.
— Я написал рассказ, — проговорил Антон. — Про один неразрешимый вопрос. Я когда вырасту, обязательно стану писатель и решу их все. Я их ненавижу.
— Спасибо, — тихо проговорил Симагин, не решаясь открыть. — А мама… читала?
— Нет. Я же не хочу, чтобы она опять плакала. А знаешь, пап. Если я у тебя останусь, мама ведь за мной сюда придет. А?
— Нельзя так делать, — с трудом выговорил Симагин. Потом они молча ехали в метро. Потом — в пустом трамвае. И тоже молчали, обнимая друг друга. Зажужжала невесть откуда взявшаяся пчела и с размаху ударилась о стекло. Заметалась.
— Глупая, — нежно сказал Антошка. — Все твои сестрички спят давно, а ты что?
Симагин будто собственным телом ощущал боль и отчаяние бессильных, смехотворно легковесных щелчков о непостижимую прозрачную преграду. Он порылся в карманах, вырвал из блокнота листок со старыми формулами и, свернув из него кулечек, поймал пчелу. Попытался открыть окно, но окно, конечно же, не открывалось. Пчела обреченно бесновалась внутри. Приговаривая что-то ласковое и успокаивающее, Симагин подошел к дверям и, когда на остановке они раскрылись, выпустил пчелу. Она косо пошла вверх, мелькнула темным прочерком на фоне освещенных окон и пропала.
Антон восхищенно смотрел на Симагина.
— Она не умрет? — спросил он. Симагин молчал. — Папа! Теперь она не умрет?
— Умрет, — сказал Симагин. — Все когда-нибудь умрут, Антон.
Антон помолчал и проговорил опять совсем чужим голосом:
— А зачем тогда все?
— Никто не знает, — ответил Симагин.
— А как думаешь ты?
— Я… Я думаю, Антон, что раз уж так получилось, и все, что есть, уже есть, самое лучшее, что мы можем, — это помогать друг дружке. Ведь если бы нас не было, кто спас бы пчелу?
— А зачем ее спасать? Она все равно умрет.
— А затем, что она успеет кого-нибудь еще спасти.
— А если бы нас не было, трамвая бы не было, и пчела бы в него не зашла.
— А если бы нас не было, Альме в Лешаках стало бы некому лизать руки, она бы от этого очень обозлилась и всех бы старалась покусать. И людей, и уток, и зайцев.
Антон нахмурился.
— Как все путается, — сказал он. — Это неразрешимый вопрос?
— Да.
Антон вздохнул.
— А вообще бывают разрешимые вопросы?
— Бывают. Но их так легко решить, что их даже не замечаешь.
— А скажи, пап. Она правда успеет кого-нибудь спасти?
— Правда, — твердо ответил Симагин. — Это я точно знаю.
Из трамвая он вынес Антошку на руках. Подержал немного и осторожно опустил. Антон чуть отодвинулся, глядя на него по-Асиному, звездными глазами.
— Возьми мой рабочий телефон, — сказал Симагин. — Если что, звони. И приезжай почаще.
— Как смогу, — взросло и просто ответил Антон, тщательно упрятывая клочок бумаги. Потоптался еще и, шепнув: «Пожалуйста, вылечи маму…», опрометью кинулся к дому.
— Антон! — не выдержав, крикнул Симагин. Антошка застыл в темном провале входа, обернулся.
— Хочешь уметь летать?
Асины глаза смотрели серьезно с маленького лица. У него был красивый отец, вдруг подумал Симагин впервые в жизни, и по сердцу опять будто полоснули бритвой. Антон помедлил, потом коротко посмотрел вверх, в черноту, где пропала пчела. Если с ней опять случится беда, чтобы помочь, нужно лететь следом.
— Хочу, — сказал он.
— И я хочу, — сказал Симагин. И ободряюще улыбнулся сыну: — А крылья у нас будут диаметром двадцать метров.
6
Он долго стоял, будто его пригвоздили. Привела — и увела, думал он, каким-то чудом продолжая ощущать в ладонях и на коленях худенькое, смешно увесистое тело. Привела — и увела.
Тот человек предал ее. Она несчастна.
Неужели нельзя решиться ради счастья трех людей?
Но разве это счастье — с грохотом вклепанное паровым молотом! Ощущать ласку, зная, что это я сам ласкаю себя ее руками, будто тряпичными ручонками куклы вожу по собственной коже… Как если бы, отчаявшись обрадовать друзей, взял автомат, поставил их к стенке и под дулом заставил кричать: «Мы рады! Спасибо! Нам хорошо!»
Ненастоящая любовь — ежедневное напоминание того, что настоящей добиться не смог, нескончаемое свидетельство собственной несостоятельности…
Свинья! О чем ты думаешь? О себе, о себе! А Антон? А она сама? Какое право я имею из-за себя не лечить ее?
Выдался погожий день.
Морозно светящиеся облака медленными грядами плыли по ярко-синему небу. Тени печатались длинно и густо. Ледяное солнце ослепительно гравировало город, остро полыхая стеклами проносящихся машин.
Симагин издалека увидел Асю. Воздух застрял в горле, кровь приклеилась к стенкам сосудов. Он боялся встретить ее с мужчиной — нет, она шла одна, не торопясь, спокойная, во всем прежнем, очень похожая на себя, но совсем другая. Он вспомнил ее слова, адресованные его другу: мне нужно только то, что мне нужно, — и понял, что обречен. И решительно пошел навстречу.
— Здравствуй, Ася, — сказал он. — Видишь, солнышко специально, чтоб на лето похоже было…
Он сразу понял, что начал фальшиво. Это были слова из прежней жизни — прежнего Симагина прежней Асе, о прежнем солнышке. Симагин тосковал по тому себе смертельно, больше всего на свете он хотел стать прежним, и при виде Аси прежние слова так и рвались из горла. Но солнце было иным, осенним. Права на прежние слова он еще не заслужил.
— Смотрите-ка вы, — ответила Ася. — Шляпу надел. Кто ж это тебя надоумил?
— Ты не скучаешь?
— По кому? — спокойно парировала она.
— По нам с тобой.
— Нет.
— Я плохой?
— Ты никакой. Ты ничтожный, как моль. Вайсброд дал тебе идею и работу, я дала тебе любовь и ребенка — а сам ты не можешь ничего.
Он покивал.
— Скажи. Тот человек. Он не любит тебя?
— Мне неинтересно рассказывать.
— Я спрашиваю не из пустого любопытства. Это очень важно.
Она молчала. Но по ее лицу он понял. Он взял ее ладонь и поцеловал. Она позволила.
— Мне холодно, — с вызовом сказала она, позволяя.
— Ну, пойдем потихоньку, — предложил он. Они пошли потихоньку. Мимо монументального белоколонья Академии Наук, мимо облупленного салата Кунсткамеры.
— Я на пять минут. Надо поговорить, Ася.
— Неужели ты не понимаешь, Симагин, что мне больно и неприятно тебя видеть?
— Понимаю. Но это необходимо, я объясню. Только успокойся.
Она презрительно скривилась.
— Я спокойна. Это у тебя руки дрожат. Мадам твоя к тебе являлась?
— Нет, — ответил он, не сразу поняв. Разговор все время шел не туда. Он видел, что ее неприязнь нарастает, и это делало совсем бессмысленным его отчаянный подход.
— Странно. Я была уверена, что она должна как-то отметить годовщину своего апофеоза. Даже двух апофеозов, если мне не изменяет память. Уж не умерла ли родами?
— Ася. Ты сейчас любишь кого-нибудь?
— Я вас всех ненавижу, — сквозь зубы проговорила она. Это было то, что он надеялся услышать, и, видимо, она заметила тень непонятного ей удовлетворения, скользнувшую по его лицу, потому что остановилась — он остановился тоже — и, смерив его унижающим взглядом, добавила:
— Не беспокойся, спать мне есть с кем. А подштанники ему пусть жена стирает.
Она больна, одернул себя Симагин. Если бы он не знал этого прежде, то с очевидностью убедился бы теперь. В родном ему теле поселился другой человек. Но можно ли сказать о зарезанном, что он стал другим? Его просто зарезали. Пока не ускользнули минуты клинической смерти — надо лечить.
— Тебе было плохо со мной?
Ася неопределенно повела рукой.
— Дура была.
— Почему?
— По кочану, по капусте. Отстань от меня.
— Я хотел спросить, в чем это выражалось?
— Сидела в розовом сиропе и квакала.
— А как ты думаешь, Ася, Антону было…
— Антошка — мой сын! — крикнула она, сразу срываясь. — Мой! Ему хорошо!
— Да, я знаю. Ты чудесная, умная, заботливая мать. Разве я мог это забыть? Но с нами обоими ему было все-таки лучше. Или нет? Как ты думаешь?
— Я не дам тебе искалечить парня. Он мужчиной вырастет, а не пентюхом. Он только-только стал приходить в себя.
Он отрывисто рассмеялся и тут же оборвал себя.
— Прости.
— Не прощу. Иди смейся где-нибудь в другом месте. Хоть раз в жизни подумай обо мне.
— Я думаю о тебе.
— Ты обо мне не думаешь. Ты думаешь, как бы вернуть лестную игрушку. Ты ведь у нас ребенок. А если у ребенка отбирают игрушку — пусть даже не очень любимую, достаточно, что привычную, — он клянчит, на пузике ползает. Чтоб потом потешиться пять минут и на месяц кинуть в угол.
— Ты не хочешь, чтобы все вернулось?
— Упаси Бог. Опять караулить у окошка и трястись: то ли тебя автобусом переехало, то ли ты аспиранток портишь в творческой тиши лабораторий…
— Да, — сказал Симагин, — признаться, именно это я и думал услышать. Но все-таки мне кажется, что по… не по мне, не по нам, но хотя бы по себе ты тоскуешь. По той себе. Не отвечай. Послушай теперь ты меня еще чуть-чуть, только спокойно. Без ненависти, головой.
— Я совершенно спокойна. Если ты думаешь, что способен меня взволновать, — ты сильно обольщаешься на свой счет.
— Хорошо. Так вот. Сейчас это еще невозможно, во всяком случае, опасно. Придется подождать… ну, полгода. Я буду как вол пахать, ты меня знаешь. Я сделаю это абсолютно безопасным. Отфильтрую все, не относящееся к делу. Твоя личность, Ася… твое «я», которое, Ася, я очень люблю… — он глотнул, потому что горло опять грозило сжаться и не пропустить главные слова, — не пострадает. Не исказится ни на бит. Я обещаю.
— Что ты лопочешь?
— Я подсажу тебе свой спектр, и ты снова меня полюбишь. И мы снова будем счастливы, все трое. Трое, Ася!
В устремленных на него глазах серыми облаками заклубился мистический ужас.
— Ты… серьезно? — выдохнула Она.
— Абсолютно. Сегодня у нас двадцать третье октября. Обещаю уложиться, — он чуть улыбнулся, — к Восьмому марта. Праздник, как и в эту весну, мы встретим вместе. Ненависть и злоба улетят далеко-далеко, Ася. И мы с Антоном опять подарим тебе много цветов.
Она закусила губу и с ледяной ненавистью наотмашь ударила его по лицу. Сузившимися глазами проследила за реакцией. Его голова чуть мотнулась, веки дрогнули, и от боли в уголках глаз сразу проступили слезы. Тогда она ударила снова.
Набережная была полным-полна народу.
— Ты мне не ответила, Ася, — сказал Симагин.
— Послушай, — низко, хрипло сказала она. — Если я когда-нибудь почувствую, что ты становишься мне хоть вот настолько… интересен, — она показала кончик мизинца, — я сразу пойму, что ты сделал! И я перережу себе вены! — с угрозой выкрикнула она. — Запомни!
Резко повернувшись, она почти побежала. Он стоял. Она прошла шагов пять и будто налетела на стеклянную стену. Вернулась. Запрокинув голову, изо всех сил ударила его еще раз и снова бросилась прочь, и больше не возвращалась.
Она легко вскочила в автобус и на миг исчезла, потом появилась уже за стеклом. Симагин смотрел ей в лицо и ждал, что она хотя бы поднимет глаза, автобус никак не решался закрыть двери, словно тоже ждал чего-то, и Ася равнодушно ждала отправления, расплющенная толпой, — ведь теперь ее никто не прикрывал; наконец громада «Икаруса» утробно взревела, обдав Симагина черным перегаром, вписалась в поток плывущих по Дворцовому мосту машин и была видна очень долго.
Он брел по Менделеевской, загребая устилающие асфальт золотые листья. Мерз. Слепо вышел на мост Строителей. Вот и все, думал он. Вот и все. Вот и перевернулись мои вектора.
Это станет привычным. Я очерствею, оглохну. Перестану видеть, как сияет и зовет в сияние морской прибой. А если меня почему-либо полюбит женщина, я и этого не увижу…
Был вечер. Алый закат наполнял пространство. Симагину хотелось кричать. Он не чувствовал земли, словно катящийся ему под ноги огонь поднял его и нес в бережной кровавой руке. Вокруг были только безбрежный свет и гулкий огненный ветер. И Симагин влился в этот ветер, глядя, как исполинский рубиновый диск опадает в невообразимо далекую алую реку.
— Как легко, — пробормотал он. — Как высоко. Ветер стянул слова с лица, свирепо размотал их длинные клейкие нити и поволок в пустоту.
Созидающий башню сорвется, Будет страшен стремительный лет, И на дне мирового колодца Он безумство свое проклянет.И он взмыл в напряженно бьющийся, гудящий зенит.
— Подожди, — борясь со страхом сказал он. — Подожди!
Все замерло. Ветер остекленел, и Симагин, впечатанный в него, словно в янтарь, исчезающе малой точкой повис над городом, прервав исступленный полет.
Разрушающий будет раздавлен, Опрокинут обломками плит. И, всевидящим Богом оставлен, Он о муке своей возопит. А ушедший в ночные пещеры, Или к заводям тихой реки Повстречает свирепой пантеры Наводящие ужас клыки.Лиловое небо длинным языком плеснулось ему в лицо — он сердито мотнул головой.
— Сейчас-сейчас, — пробормотал он. Ему казалось, что сию вот минуту почти непостижимая истина откроется ему; он уже чувствовал, как некое боковое мерцание, примериваясь, шершаво клюнуло мозг.
Не избегнешь ты доли кровавой, Что земным предназначила твердь. Но молчи! Несравненное право — Самому выбирать свою смерть.— Ну, нет. — сказал Симагин.
Жизнь (продолжение)
А назавтра были развернуты разом все латентные точки рабочей спектрограммы. И лаборатория сгрудилась и замерла у считывающих пультов. И постаревший Володя, не знающий, куда девать пустые руки с желтыми ногтями. И Вадим со взглядом, молящим: «Не обмани». И сдержанный, одухотворенный Карамышев. И Вера, пытливо прикусившая вишневые губы, с восхищением смотрела на экран. Благоговейно умеряя дыхание, следили, как бьются под масштабными сетками загадочные, непривычной конфигурации всплески, в которых было… что?
Качественно иные состояния…
«Нелинейная стереометрия», — бросил Симагин стоявшему рядом Карамышеву. Тот был прям и напряжен, как струна. Кивнул: «Вечером я попробую разложить пару пиков по Риману». Мы успеем, думал Симагин, сгорбившись и опершись обеими руками на пульт. На экране трепетала жизнь следующего мира, и в этом мире уже начинали вызревать следующие счастья и несчастья. Антошкины, быть может. Мы успеем. Я все узнаю, думал Симагин. Господи, как тяжело. Когда-нибудь я все узнаю и пойму. Наверное, тогда станет еще тяжелее. Потому что рывком выдвинутся из мглы недомыслия давящие глыбы прежних ошибок. Скорее бы.
Ленинград, 1986 г.
Гравилет «Цесаревич»
Отец не почувствовал запаха ада
и выпустил Дьявола в мир.
Альфред Гаусгоффер. Моабит, 1944Сагурамо
1
Упругая громада теплого ветра неторопливо катилась нам навстречу. Все сверкало, словно ликуя: синее небо, лесистые гряды холмов, разлетающиеся в дымчатую даль, светло-зеленые ленты двух рек далеко внизу, игрушечная, угловато-парящая островерхая глыба царственного Светицховели. И — тишина. Живая тишина. Только посвистывает в ушах напоенный сладким дурманом дрока простор, да порывисто всплескивает, волнуясь от порывов ветра, длинное белое платье Стаси.
— Какая красота, — потрясенно сказала Стася, — Боже, какая красота! Здесь можно стоять часами…
Ираклий удовлетворенно хмыкнул себе в бороду. Стася обернулась, бережно провела кончиками пальцев по грубой, желтовато-охристой стене храма.
— Теплая…
— Солнце, — сказал я.
— Солнце… А в Петербурге сейчас дождь, ветер, — снова приласкала стену. — Полторы тысячи лет стоит и греется тут.
— Несколько раз он был сильно порушен, — сказал Ираклий честно. — Персы, арабы… Но мы отстраивали, — и в голосе его прозвучала та же гордость, что и в сдержанном хмыке минуту назад, словно он сам, со своими ближайшими сподвижниками, отстраивал эти красоты, намечал витиеватые росчерки рек, расставлял гористый частокол по левому берегу Куры.
— Ираклий Георгиевич, а правда, что высота храма Джвари, — и она опять, привечая крупно каменную шершавую стену уже как старого друга, провела по ней ладонью, — относится к высоте горы, на которой он стоит, как голова человека к его туловищу? Я где-то читала, что именно поэтому он смотрится так гармонично с любой точки долины.
— Не измерял, Станислава Соломоновна, — с достоинством ответил Ираклий. — Искусствоведы утверждают, что так.
Она чуть кивнула, снова уже глядя вдаль, и шагнула вперед, рывком потянув за собою почти черное на залитой солнцем брусчатке пятно своей кургузой тени. «Осто!..» — вырвалось у меня, но я вовремя осекся. Если бы я успел сказать «Осторожнее!», или, тем более, «Осторожнее, Стася!», она вполне могла подойти к самому краю обрыва и поболтать ножкой над трехсотметровой бездной. Быть может, даже прыгнула бы, кто знает.
— Ираклий Георгиевич, — не оборачиваясь к нам, она показала рукой вправо, вверх по течению реки Арагви, — а во-он там, за излучиной… какие-то руины, да?
— Развалины крепости Бебрисцихе. Там очень красиво, Станислава Соломоновна. И просто половодье столь любимого вами дрока, воздух медовый. Туда мы тоже обязательно съездим, но в другой раз. После обеда, или даже завтра.
— Вряд ли после обеда, — подал голос я, — Стася все-таки с дороги.
К Джвари мы заехали по пути с аэродрома.
Стася обернулась и чуть исподлобья взглянула на меня широко открытыми, удивленными глазами.
— Я ничуть не устала.
Отвернувшись, добавила небрежно:
— Разве что на вторую половину дня у тебя иные виды…
И снова, как все чаще и чаще в последние недели, я почувствовал себя словно в тысяче верст от нее.
Она неторопливо шла вдоль края площадки, мы, волей-неволей, за нею.
— И совсем они не шумят, сливаясь, — проговорила она, глядя вниз. — И не обнимаются. Обнимаются вот так, — она мимолетно показала. Угловатыми змеями взлетели руки, сама изогнулась, запрокинулась пружинисто — и у меня сердце захолонуло, тело помнило. — А эти мирно, без звука, без малейшего всплеска входят друг в друга. Как пожилые, весь век верные друг другу супруги. Странно он видел…
— И монастырем Джвари не был никогда, — чуть улыбаясь, добавил Ираклий.
— Поэту понадобилось, — значит он прав, — сразу ответила Стася, не замечая, что атакует не столько реплику Ираклия, сколько предыдущую свою. — Если поэт в придорожном камне увидел ужин — он сделает из него ужин, будьте спокойны.
— Но ведь ужин будет бумажный, Станислава Соломоновна!
— Один этот бумажный переживет тысячу мясных.
С веселой снисходительностью Ираклий развел руками, признавая свое поражение — как если бы в тупик его поставил ребенок доводом вроде «Но ведь феи всегда поспевают вовремя».
— Велеть сегодня разве бумажное сациви, — задумчиво проговорил он затем, — бумажное ахашени… — и подмигнул мне.
Стася, шедшая на шаг впереди, даже не обернулась. Ираклий чуть смущенно огладил бороду.
— Впрочем, боюсь, мой повар меня не поймет, — пробормотал он.
Как-то не так начинается эта долгожданная неделя, подумал я. Эта солнечная, эта свободная, эта беззаботная… Я прилетел вчера вечером, и мы с Ираклием почти не спали: болтали, смеялись, потягивали молодое вино и считали звезды, а я еще и часы считал — а утром гнали от Сагурамо к аэродрому, и я считал уже минуты, и говорил: «Вот сейчас Стаська элеронами зашевелила», «Вот сейчас она шасси выпустила», Ираклий же, барственно развалившись на сиденье и одной рукой небрежно покачивая баранку, хохотал от души и свободной рукой изображал все эти воздухоплавательные эволюции. И вот поди ж ты — пикировка. Ираклий, видно, тоже ощущал натянутость.
— Я думаю иногда, — сказал он, явно стараясь снять напряжение и разговорить Стасю, — что российская культура прошлого века много потеряла бы без Кавказа. Отстриги — такая рана возникнет… Кровью истечет.
— Не истечет, — небрежно ответила Стася, — Мицкевич, например, останется, как был. Его мало волновали пальмы и газаваты.
— Ах, ну разве что Мицкевич, — с утрированно просветленным видом закивал Ираклий. Чувствовалось, его задело. — Как это я забыл!
— Конечно, в плоть и кровь вошло, — примирительно сказал я. — И не только в прошлом веке — и в этом… Считай, здесь одно из сердец России.
— Боже, какие цветы! — воскликнула Стася и кинулась с площадки вниз по отлогому склону, и длинное белое платье невесомым облаком заклокотало позади нее, словно она вздымала в беге пух миллионов одуванчиков. Изорвет по колючкам модную тряпку, подумал я, здесь не польские бархатные луговины… Но в слух не сказал, конечно.
— Серна, — ведя за нею взглядом, проговорил Ираклий — то ли с иронией, то ли с восхищением. Скорее всего, и с тем, и с другим.
Разумеется, зацепилась. Ее дернуло так, что едва не упала. Но уже мгновением позже любой сказал бы, что она остановилась именно там, где хотела.
— Признайтесь, Станислава Соломоновна, — крикнул Ираклий, — в вас течет и капля грузинской крови!
Она повернулась к нам — едва не по пояс в жесткой траве и полыхающих цветах.
— Во мне столько всего намешано — не упомнить, — голос звенел. — Но родилась я в Варшаве. И вполне горжусь этим!
— Действительно, — подал голос я. — И носик такой… с горбинкой.
— Обычный еврейский шнобель, — отрезала она и отвернулась, сверкая, как снежная, посреди горячей радужной пены подставленного солнцу склона.
— Ядовиток тут нет каких-нибудь? — спросил я, стараясь не выдавать голосом беспокойства. Ираклий искоса стрельнул на меня коричневым взглядом и принялся перечислять:
— Кобры, тарантулы, каракурты…
— Понял, — вздохнул я.
Некоторое время мы молчали. День раскаленно дышал, посвистывал ветер. Ираклий достал сигареты, протянул мне.
— Спасибо, на отдыхе я не курю.
— Я помню. Просто мне показалось, что сейчас тебе захочется, — он вытряхнул длинную, с золотым ободком у фильтра, «Мтквари». Ухватив ее губами, пощелкал зажигалкой. Жаркий ветер сбивал пламя. Нет, занялось.
— От чего мы действительно можем кровью истечь, — сказал я, — так это от порывистости.
— Это как?
— Я и сам толком не понимаю. Навалиться всем миром, достичь быстренько и почить на лаврах. Только у нас могла возникнуть поговорка «Сделай дело — гуляй смело». Ведь дело, если это действительно дело, занятие, а не кратковременный подвиг, сделать невозможно, оно длится и длится. Так нет же!
Ираклий с сомнением покачал головой.
— Нет-нет. Даже язык это фиксирует. Возьми их «миллионер» и наше «миллионщик». Миллионер — это, судя по окончанию, тот, кто делает миллионы, тот, кто делает что-то с миллионами. А миллионщик — это тот, у кого миллионы есть, и все. В центре внимания — не деятельность, а достигнутое неподвижное наличие.
Ираклий затянулся, задумчиво щурясь на восьмигранный барабан храма. Казалось, барабан плавится в золотом огне. Стряхивая пепел, легонько побил средним пальцем по сигарете. Вновь покачал головой.
— Во-первых, мы говорили о российской культуре, а ты говоришь о русском национальном характере. Уже подмена. А во-вторых, от чего характер действительно может истечь кровью — так это, прости, от какой-то упоенной страсти к самобичеванию. Даже поводы придумываете, как нарочно, хотя они не выдерживают никакой критики. Если следовать твоей логике — можно подумать, что «погонщик» — это тот, у кого есть погоны на плечах, — он легонько хлопнул меня по плечу, обтянутому безрукавкой, — а отнюдь не тот, кто скотину гонит.
— Уел, — сказал я, помолчав. — Тут ты меня уел. И где! В стихии моего языка!
— Свой язык слишком привычен. Бог знает, что можно придумать, если комплекс заедает. Со стороны виднее, — он опять затянулся и опять искоса взглянул на меня, на этот раз настороженно: не обидел ли. — Хотя что значит со стороны… Одной ногой со стороны, другой — изнутри. Как многие в этой стране.
Теперь уже я коснулся ладонью его плеча.
— Послушай, Ираклий. Вон те горы…
— Слева?
— Да, те, куда Тифлисский туннель уходит…
— Послушай, Александр, — в тон мне проговорил он. — Когда царь Вахтанг Горгасал, утомившись на охоте, спешился у незнакомого источника и решил умыть лицо, он опустил в воду руки и удивленно воскликнул «Тбили»! «Теплая»! Отсюда и пошло название города. Запомни, пожалуйста.
— Прости. Хорошо, но почему ты мне пеняешь, а в Петербурге и где угодно слышишь по десять раз на дню «Тифлис» и — ни звука?
Он бросил окурок и тщательно вбил его каблуком в сухую землю, чтобы и следа его не осталось.
— Потому что чужие его пусть хоть Пном-Пнем называют. Ты же не чужой. Понял?
— Понял.
— Будешь еще говорить «Тифлис»?
— Амазе лапаракиц ки ар шеидзлеба!
— И речи быть не может… — машинально перевел он, у него сделался такой оторопелый вид, что я засмеялся.
— Ба! Ты что, дорогой, грузинский учишь? И произношение как поставил!
— Увы, обрывки только, — признался я. — Разговорник полистал перед отлетом. А было бы время да способности — все языки бы выучил, честное слово. Приезжай хоть в Ревель, хоть в Верный — и себе приятно, и людям уважение. Но…
— Лопнет твоя головушка от такого размаха, — ухмыльнулся Ираклий. — Вот действительно русский характер. Уж если языки — то все сразу. А если не все — то ни одного. В лучшем случае — от каждого по фразе. Имперская твоя душа… Побереги себя.
— Дидад гмадлобт.[1]
— Не стоит благодарности.
— Я вот что хотел спросить. В те горы как — погулять можно пойти? Тропки есть? Или там слишком круто?
Ираклий нетерпеливо перевел взгляд на Стасю. Она была уже в шагах пятидесяти.
— Да-да, я ее имею в виду.
— Ну, Станислава Соломоновна-то, я вижу, везде пройдет, — он отступил от меня на шаг и с аффектированным скепсисом оглядел с головы до ног. Я улыбнулся.
— Обижаешь, друг Ираклий. Конечно, после тридцати я несколько расплылся, но в юные лета хаживал и по зеркалу Ушбы, и на пик Коммунизма.
— О, ну конечно! Как я мог забыть! Чтобы правоверный коммунист не совершил восхождения на свою Фудзияму!
— Дорогой, при чем тут Фудзияма! — начал кипятиться я. — Просто трудный интересный маршрут! И так уж судьбе было угодно, чтобы большинство ребят, залезших туда впервые и давших в двадцать восьмом году название, принадлежали к нашей конфессии!
Он засмеялся, сверкая белыми зубами из черной бороды.
— А тебя оказывается, тоже можно вывести из себя, — сказал он. — Признаться, глядя, как с тобой обращаются некоторые здесь присутствующие, я думал, ты ангел кротости.
Я отвернулся, уставился на Мцхету. Пожал плечами.
— Тебе и тяжело так от того, что у тебя всегда все всерьез, — негромко сказал Ираклий. — И у тех, кто с тобой — все всерьез.
Я пожал плечами снова.
— А как Лиза? — спросил он.
— Все хорошо. Провожала меня вчера чуть не до трапа.
— Потому и летели разными рейсами?
— Ну, мы не говорили об этом вообще, но, наверное, Стася была уверена, что меня будут провожать. Она сама и придумала себе какую-то отсрочку, чтобы лететь сегодня… даже не сказала, какую.
— А Поленька?
— И Поленька провожала. Всю дорогу рассказывала сказку про свой остров, уже не сказку даже, а целую повесть. На одной половине живут люди, которые еще умеют немножко думать, но только о том, где бы раздобыть еду, а на другой — которые думать совсем не умеют. «Почему?!» — «Папа, ну как ты не понимаешь? Ведь Мерлин дал им вдоволь хлеба, и теперь они думать совсем разучились, потому что весь остров долго голодал и думать люди стали только о еде!» Видишь… Это уже не сказка, это философский трактат уже.
— Ей одиннадцать?
— Тринадцать будет, Ираклий.
— Святой Георгий, как время летит. А Лиза… знает?
— Иногда мне кажется, что догадывается обо всем и махнула рукой, ведь я не ухожу. Вчера так смотрела… И так спокойно: «Отдыхай там как следует, нас не забывай… Ираклию кланяйся. Ангел тебе в дорогу». Иногда кажется, что догадывается, но гонит эти мысли, не верит. А иногда — что и помыслить о таком не может, а если узнает, просто убьет меня на месте, и правиль…
— Ш-ш.
Подходила Стася — неторопливо, удовлетворенно, громадная охапка цветов — как младенец на руках. Богоматерь. И один, конечно, воткнула себе повыше уха — нежный бело-розовый выстрел света в иссиня-черных, чуть вьющихся волосах. Шляпу бы ей, подумал я. На таком солнце испечет голову…
— Какой красивый цветок. И как идет тебе, Стася. Как он называется?
— Ты все равно не запомнишь, — ответила она и, не останавливаясь, прошла мимо нас. Вдоль теневой стены храма к тропинке, ведущей на спуск. Ираклий, косясь на меня, неодобрительно, но беззвучно поцокал языком ей вслед. Я со старательной снисходительностью улыбнулся: пусть, дескать, раз такой стих напал. Но на душе было тоскливо.
— Всякая женщина — это мина замедленного действия, — наклонившись ко мне, тихонько утешил Ираклий. — Никогда не знаешь, в какой момент ей наскучит демонстрировать преданность и захочется демонстрировать независимость. Но это ничего не значит. Так… — он усмехнулся. — Разве лишь ногу оторвет взрывом, и только.
Я смолчал.
Преданность на людях Стася не демонстрировала никогда. Перед спуском она обернулась, удивленно глянула на нас чуть исподлобья.
— Что же вы? Идемте.
Мы пошли. Младенец колыхал сотней разноцветных головок.
Напоследок я обвел взглядом пронзительно прекрасный простор внизу — еще шаг, и вершина, на которой стоял Джвари, выгибаясь за нашими спинами, скрыла бы долину. Сердце защемило от любви к этому краю. Разве любовь может быть безответной? Ираклий… его друзья… «Мои друзья — твои друзья!» Откуда же тогда это черное чувство, застилающее ослепительный свет южного дня — чувство, что эта красота уже не моя, что я вижу ее в последний раз? Кто надышал на меня эту тьму? Странно, но я уверен: она откуда-то извне, из неведомых мне теснин, она — чужая…
Мы начали спускаться. Навстречу нам, вываливаясь из громадного туристического автобуса, плотной вереницей поднимались увешанные видеоаппаратурой люди, послышалась многоголосая испанская речь, и я порадовался, как нам повезло — мы были у Джвари только втроем.
Авто Ираклия дожидалось на обочине, там, где мы его оставили час назад — роскошный, белоснежный «Руссо-Балт» типа «Ландо», с откидным верхом. Верх убран, дверцы — настежь, ключ зажигания с янтарным брелком в виде головки Эгле Королевы ужей — наверняка подарок какой-нибудь прибалтийской красавицы — вызывающе доверчиво торчит из приборной доски. Ираклий весь в этом. Впрочем, вероятно, его авто знают в округе.
— Ираклий Георгиевич, можно, я сяду рядом с вами, впереди?
— Почту за честь, Станислава Соломоновна.
Она протянула мне младенца.
— Подержи ты, пожалуйста. Здесь не помещается, закрывает руль. А просто на сиденье кинуть — растреплется.
— Конечно, подержу. Какой разговор.
Ни с одним человеком нельзя встретиться дважды, думал я, одиноко усаживаясь на просторное заднее сиденье. Пока человек жив, он меняется ежесекундно, пусть даже сам до поры того не замечает — и вот проходит неделя, пусть даже пять дней, и он иной, ты встречаешься уже не с тем, с кем расстался, тот же рост у него, те же привычки и пристрастия, но сам он — иной, он тебя не помнит, и — все сначала. И ведь со мною тот же ад, ведь и я живу и, значит, меняюсь ежесекундно. Так не честно. Не хочу!
А притворяться прежним собой, чтобы не поранить того, с кем встретился после пятидневной разлуки — честно?
Значит, порядочный человек должен быть нечестным, чтобы скомпенсировать нечестность мира. Ведь это подлый, подлый мир, коль скоро он так устроен: бережный — лжет, Честный — чуть что, рубит наотмашь…
Горячий ликующий ветер, огибая ветровое стекло, бил в лицо. Разливы цветов на обочинах мелькали и сметали друг друга. Шипя, дорога танцевала навстречу, как змея.
Прекрасный, нечестный мир.
Ираклий лихо затормозил у самых ворот своей сагурамской дачи. Выскочил из машины, галантно распахнул дверцу со стороны Стаси.
— Прошу.
Потом, ухмыляясь, открыл дверцу мне. С букетом я был совершенно беспомощен.
— Прошу и вас.
Навалившись обеими руками, сам распахнул перед нами створку ажурных ворот. Полого вверх в темную глубину сада уходила дорожка.
— Добро пожаловать в приют убогого чухонца.
Забавно, он уже не в первый раз называет так свое родовое гнездо. Я никогда не решался спросить, в чем тут дело. Подозреваю, игра сложилась уже давно, благодаря многолетней фамильной дружбе князей Чавчавадзе с баронами Маннергейм. Корни ее уходят годы, пожалуй, в тридцатые. Вот и Ираклий в свое время долго служил вместе с Урхо. Я с Урхо никогда не был особенно близок, и никогда мне не довелось бывать в его особняке под Виипури, но, думаю, случись такое, у ворот он непременно пригласил бы войти в бедную саклю, прилепившуюся к крутому склону соплеменных гор. Или что-нибудь в этом роде.
Наконец-то тень. Только в саду я понял, как, при всей своей любви к солнцу, с непривычки устал от него. Настоящей прохлады не было, однако, и здесь — сухой прогретый воздух томно играл листвой, колыхался среди деревьев, причудливо катая волны запахов от одного к другому, так что, проходя мимо олеандра или жасмина, мы вдруг ощущали на миг аромат глицинии, а возле глицинии вдруг проносилась струйка тягучей патоки дрока. Хотелось сесть на землю, привалиться спиною к стволу хотя бы вот этой фисташки, зажмуриться и дышать, дышать.
— Хочу обратить ваше внимание, Станислава Соломоновна, — древний источник. Он волшебный. Еще триста с лишним лет назад люди заметили, что каждый глоток отнимает один грех.
— О-о! У меня как раз такая жажда! Нужно пить и пить!
Она стремительно подбежала к высокой тумбе красного кирпича, в нише которой журчала чуть слышно кристально чистая влага. Стараясь стоять подальше, чтобы не забрызгать платье, и даже отведя одну руку за спину, ладошкой другой она черпала и пила, пила. Не простудилась бы… Только что с солнцепека, а горлышко-то у нее слабенькое, я знал.
Отвернувшись, выпрямилась, отряхивая руку. Лицо — счастливое, глаза сверкают, и чуть вздрагивает безымянный цветок в черных кудрях. И влажно поблескивает подбородок.
— Вкусная! И двадцать семь грехов как не бывало! А можно еще, он не обмелеет?
— Сколько вашей душе угодно, Станислава Соломоновна. Я вижу, вы великая грешница. Или решили запастись на будущее? Только не простудитесь.
Он будто читал мои мысли.
Может и читал слегка. Друг.
— Александр тоже вчера набросился было, — Ираклий лукаво посмотрел на меня и подмигнул. — Но потом быстро понял, что есть напитки куда более целебные.
Стася совсем по-детски затягивала шею, чтобы с подбородка не капнуло на платье.
— Еще пятнадцать, — опять повернулась она к нам, вытирая улыбающиеся губы тыльной стороной ладони. — А? Нет, целебнее нет.
— А молодые вина? — явно оскорбился Ираклий.
— Спасибо, Ираклий Георгиевич, но это не для меня.
С нею что-то случилось?
Она вдруг подошла ко мне. Взглянула чуть исподлобья.
— Здесь можно принять душ, Саша? Я успею до обеда?
— Разумеется. Сейчас я провожу.
Наконец-то что-то родное в интонации. И тоски — как ни бывало, лишь удивление: что за тьма мне пригрезилась, из какого ящика Пандоры? Ведь все хорошо, все чудесно. Покой, солнце. Дышать…
— Как красиво здесь, — сказала она.
— Да. Я знал, что тебе понравится. Идем.
— Знаешь, что я подумала там, у Джвари? Совершенно необходимо иногда увидеть воочию те прекрасные места, о которых до этого только читал и только от поэтов знал, как они прекрасны. Тогда сразу становится ясно, что и остальное прекрасное, о чем мы читаем — совесть, преданность, любовь — тоже не выдумка.
— А тебе иногда кажется, что выдумка?
Она пожала плечами.
— Как и тебе.
— Ну не-ет…
Она усмехнулась с грустным всепрощающим превосходством.
— Кому-нибудь другому рассказывай, Я-то уж знаю.
— Старый дядя Реваз, будто спрыгнувший с картин Пиросмани, сидел в плетеном кресле у входа, в тенечке, обмахиваясь последним номером «Аполлона», и явно поджидал нас — увидел и сразу встал.
— Гамарджобат, мадам! Гамарджобат, батоно княз!
— Добрый день, дядя Реваз.
«Реваз» и «княз», благодаря его произношению, составили, на мой взгляд, идеальную рифму. Я коротко покосился на Стасю — заметила ли она? Не подвигнет ли эта деталь, например, на эпиграмму? Мне всегда было ужасно приятно и даже лестно, если в ее стихах я угадывал отголоски впечатлений, коим я был пусть не виновником, но хотя бы свидетелем. Нет, ее лицо оставалось отстраненным.
— Это Станислава Соломоновна, большой талант, — проговорил я. — Это Реваз Вахтангович, большая душа.
— Здравствуйте, Реваз Вахтангович.
— Заходите дом, прошу. Дом прохладно. — Он говорил с сильным акцентом, но мне и акцент был мил, и акцент был пропитан солнцем. Сделал шаг в сторону, пропуская Стасю к ступенькам, и, когда она прошла, наклонился ко мне. Сказал вполголоса: — Вам депеша пришел, батоно. В конверт. Протянул мне.
— Спасибо, дядя Реваз, — я оттопырил правый локоть, а дядя Реваз сунул мне конверт подмышку — я прижал его к боку и, по-прежнему с врученным мне Стасей стоглавым младенцем на руках, вошел в дом.
Здесь, в действительно прохладной прихожей, Стася и княгинюшка Темрико уже ворковали, успев познакомиться без меня.
— Мужчины всегда не там, где надо, спешат и не там, где надо, опаздывают, — сказала княгинюшка, завидев меня. — Я уже все знаю — и как нашу гостью зовут, и про Джвари, и что нужен душ. Вы свободны, Саша.
Да. Стася умела быть стремительной, мне-то довелось это испытать.
— Тогда я действительно поднимусь на минуту к себе и хоть руки освобожу.
— Я велю принести вам вазу с водой, — княгинюшка взглядом опытного эксперта смерила букет. — Две вазы.
— Ты положи его пока аккуратненько, — сказала Стася, стоя ко мне спиной. — Я приду — разберусь.
Я свалил букет на стол, рванул конверт по краю. Конечно, бумага раздернулась не там, где надо — пальцы спешили и волновались, бросающаяся в глаза надпечатка «Князю Трубецкому А.Л. в собственные руки» с хрустом лопнула пополам.
Так я и знал, сплошная цифирь. Несколько секунд, кусая губы, я бессмысленно смотрел на выпавший из конверта маленький твердый листок с шестью колонками пятизначных чисел, потом встал. Открыл шкап, из бокового кармана пиджака достал комп-шифратор, оформленный под записную книжку. Вложил в щель листок и надавил пальцами на незаметные точки гнезд опознавателя, пару секунд опознаватель считывал мои отпечатки пальцев, индекс пота… Потом на темном табло брызнули мельтешащие бестолковые буквы и, посуетившись мгновение, сложились в устойчивую строку: «Получением сего надлежит вам немедля вернуться столицу участия расследования чрезвычайной важности. Товарищ министра государственной безопасности России И.В.Ламсдорф».
Я отложил дешифратор. Вне контакта с моей рукой он сразу погасил текст.
Я поднялся и медленно подошел к распахнутому в сад окошку. Оперся обеими руками на широкий подоконник. Солнце ушло с него, наверное, с полчаса назад, спряталось за угол дома, но подоконник до сих пор был теплее, чем руки. Отсюда, со второго этажа, поверх сверкающей листвы долина открывалась на десятки верст — едва ли не все главные земли древнего Картли.
Вот тебе и отдохнул.
Вот тебе и побыл с любимой в раю.
Упоительный запах цветущего под окном смолосемянника сразу стал не моим. Далеким, как воспоминание.
Нет, все-таки надо закурить. Я закрутился по комнате в поисках сигарет, обнаружил. Снова подошел к окну и дунул мерзким дымом в благоухающий простор. Слышно было, как внизу, за углом, перешучиваются по грузински мальчишки, волокущие багаж Стаси из авто в дом.
Милейший Иван Вольфович! Чтобы он отбил мне такую шифровку, должно было случиться нечто действительно выходящее из ряда вон. Ведь мы виделись с ним только вчера поутру, и он, теребя свои старомодные бакенбарды, взбивая их указательным пальцем, так откровенно, по-домашнему завидовал мне. «Какие места! Какой язык! Цинандали, кварели, киндзмараули… каждое слово исполнено глубочайшего смысла! Отдохните, батенька, отдохните. Имеете полное право. Дело тарбагатайских наркоманов съело у вас полгода жизни».
И вот извольте. «Получением сего…»
Нет, дудки. Могли же мы задержаться на прогулке до вечера! А дядя Реваз мог, например, уснуть, нас не дождавшись. Да мало ли как что могло! До утра я с места не сдвинусь!
Но все же — Что стряслось?
Не хочу, не хочу думать об этом! Уже забыл!
А ведь что-то страшное… И завтра ли, послезавтра — мне опять в это лезть с головой.
— Друг Александр! — зычно крикнул Ираклий снизу. — Стол накрыт!
2
— Ты устал, любимый.
— Нет.
— Устал. Целуешь через силу.
— Нет, Стася, нет.
— Я же чувствую.
— Ты уже не хочешь?
— Всегда хочу. Всегда лежала бы так. Но ты отдохни чуточку.
Как нежно произнесла она это «чтч». Варшава.
— Я никуда не денусь, Саша.
— Я денусь.
— Ты денешься. А я не денусь. Когда понадоблюсь — всегда буду под рукой.
Она не лгала. Но и не говорила правды. Она просто — говорила.
Села. Спустила ноги на пушистый, во весь пол, ковер. Озабоченно посмотрела в сторону окошка. Простор подергивался медовой дымкой.
— Как ты думаешь, не слышно было как я тут повизгивала?
— Мягко сказано… — пробормотал я.
— Я же соскучилась, — объяснила она и встала. Медленно подошла к окну. Я смотрел. Она чувствовала мой взгляд, конечно, и не оборачивалась — неторопливо шла и давала мне любоваться вволю. Почти танцевала. Упругая, гибкая, смуглая — на миг я показался себе факиром с флейтой, заклинающим из последних сил… кого?
— Вечереет, — сказала она. Помолчала, я любовался. — Сейчас мы к Бебрисцихе уже не поедем, конечно.
— У меня и впрямь оказались иные виды на вторую половину дня.
Она не ответила. Наверное, уже не помнила этих своих слов.
— Но завтра с утра, — мечтательно произнесла она, помедлив. — Подумать только, целую неделю будем здесь! Я так благодарна тебе.
И вдруг, вскинув руки, закружилась по комнате. Иссиня-черные волосы разлетались стремительной каруселью, грудь искусительно трепетала. Уже опять хотелось стиснуть ее ладонью.
— Как хорошо! Как хорошо! Я счаст-ли-вая!
«Получением сего…»
Уже не помню! Не помню!
— Чудесные букеты ты сделала.
— Что-что, а уж это я умею, — она повернулась ко мне и чуть удивленно глянула исподлобья. Будто для нее сюрпризом оказалось: я смотрю на нее, а не на букеты. — Как ты смотришь…
— Хорошо. Я на Лизу похожа?
Горло перехватило. Я сглотнул.
— Совсем не похожа.
— А в постели похожа?
— Совсем не похожа.
— Ты по разному чувствуешь со мной и с нею?
— Совсем по разному.
— Не все равно?
— Нет.
— Ты был с ней счастлив, пока мы не налетели друг на друга?
— Я и сейчас с ней счастлив. И с тобой счастлив.
Она улыбнулась чуть презрительно.
— Тебе надо было принимать магометанство, а не коммунизм.
— Тогда я не смог бы пить вина.
— Ой, дура я дура! — она всплеснула руками. — Лезу с разговорами, а мужик, естественно, еще дернуть хочет! Давай я накину что-нибудь и сбегаю вниз, там на столе оставалась еще бутылка.
— Ты слишком заботлива.
— Не бывает «Слишком». Еще древние вещали: благородная женщина после близости должна заботится о возлюбленном, как мать о ребенке — ибо женщина в близости рождается, а мужчина умирает. И спортсменами подмечено: после этого дела показатели у женщин улучшаются, а у мужчин — фюить!
— Постараемся выжить, — ответил я и, сунув руку в щель между изголовьем постели и стенкой, достал почти полную бутыль «ахашени». Простите, Иван Вольфович, ничего не помню. Стася засмеялась. — Будешь?
— Нет. Я от тебя пьяна, этого достаточно.
Я налил себе пару глотков в бокал, выпил. Спросил осторожно:
— Ты в порядке?
— В абсолютном. Да не тревожься ты, просто здоровый образ жизни. Я и курить перестала.
— Да что стряслось?
Она засмеялась лукаво. Погладила один из букетов. Ей действительно нравилось, как я на нее смотрю, и она прохаживалась, прогуливалась по комнате — от шкапа к стене с кинжалами и саблями, от сабель — к стене с фамильными фотографиями, потом к огромной напольной вазе… из волос над ухом, подрагивая, так и торчал забытый стебелек анонимного цветка, голый и сирый, ему нагота не шла, все лепестки мы ему перемолотили об подушку.
— Ты же меня так упрашивал! Такой убедительный довод привел!
— Какой?
— Не скажу.
— Полгода как отчаялся упрашивать…
— До меня, как до жирафа. Не тревожься, Саша. Просто я подумала: я на четыре года старше нее, надо оч-чень за собой следить. Хоть паритет поддерживать, — и вдруг высунула на миг кончик языка. — Я ведь даже не знаю, как она выглядит. И Поленька. Ты бы хоть фотографию показал.
— Зачем тебе?
— Родные же люди.
— Не будь это ты, я решил бы, что женщина безмерно красуется.
— Это значит, я безмерно красиво чувствую. А чувствую я, что безмерно люблю тебя.
— С тобою трудно говорить. Ты так словами владеешь…
— Ты владеешь мной, а я владею словами. Значит, ты владеешь словами через наместника. Царствуй молча, а говорить буду я.
Присели на подоконник, голой спиной в залитый желто-розовым цветом сад.
— Слова… Они, окаянные, просто созданы для обмана. Люди очень разные, у каждого — своя любовь, своя ненависть, свой страх. А слово на всех одно и то же. Тот, кто произносит, подразумевает совсем не ту любовь и не тот страх, который подразумевает, услышав, собеседник. Поэтому лучше уж вообще молчать на эти темы… или говорить лишь для того, чтобы порадовать того, кто рядом… или, если всерьез, объяснять именно свою любовь. Ведь для одного этого слова нужно целый роман, целую поэму написать. Я вот, пока летела, — она улыбнулась, — два стихотворения про тебя сочинила. Правда, то, что они про тебя, никто не поймет.
— А я? — глупо гордясь, спросил я.
— А ты, — она опять улыбнулась, — и подавно.
— Прочти.
— Нет.
— Прочти.
— Нет-нет. Не хочу сейчас, Ведь чем больше разжевываешь свое понимание, тем дальше уходишь от чужого. Зачем мне от тебя удаляться? Вот ты, рядом. Это не так уж часто бывает. Скоро опять усвищешь куда-нибудь, а тем временем я опубликую — тогда и прочтешь, — она поставила одну ногу на подоконник, обхватила ее руками. — Какой воздух чудесный идет снаружи, — глубоко вздохнула. — Мы еще погуляем перед ужином, правда? И из источника попьем.
— Обязательно. И перед ужином, и перед сном.
— Перед сном это особенно необходимо.
«…Немедленно вернуться в столицу…»
Я налил себе полный бокал и выпил, не отрываясь. Из бокала будоражаще пахло виноградниками, плавающими в солнечном океане.
— На аэродром ты ехал из дома?
— Дом… — солнечный океан хлынул в кровь. — Дом — это место, где можно не подлаживаться. Не контролировать слова. Быть усталым, когда устал, быть молчаливым, когда хочется молчать — и при этом не бояться, что обидишь. Не притворяться ни мгновения — ни жестом, ни взглядом…
— Так не бывает.
— Наверное. Поэтому у меня никогда не было дома.
— А может, просто тебя никогда не было дома?
— Удачный апперкот.
— Саша, я не хотела обидеть! Ты лучше всех, я-то знаю! Просто я очень хочу быть твоим домом… и мне кажется, у меня бы получилось. Но как подумаю, что ты будешь заходить домой в гости два-три раза в месяц, а в остальное время будешь в другом… а может, и в третьем — то тут, то там дома будут появляться и осыпаться с тебя, как листья, засыхающие от недостатка тебя… Ох нет, не надо. Все ерунду я говорю. Капризничаю. Не слушай. Это потому, что я расслабилась, уж очень мне хорошо. А если бы я вдруг от тебя родила, ты бы меня бросил?
— Нет, конечно, — медленно сказал я.
— Нет? Правда нет? — голос у нее зазвенел, и осветилось лицо.
— Глупое слово — бросил. Гранату бросают… камень. А ты же — моя семья. Был бы с вами, сколько бы получалось. Но, видишь ли… уже переломленный. Потому что уже никогда не чувствовал бы себя порядочным человеком.
— А сейчас чувствуешь?
Это была пощечина. Пощечина ниже пояса, так умеют только женщины. Да, не мне говорить о порядочности. С усилием, будто выгребающий против мощного течения катерок, я отставил бокал подальше, в райской тишине резко ударило стекло.
— Не очень. Но покуда доставляю тебе радости больше, чем горя — ты сама так говоришь…
— Да, конечно, да! То — что?
— То это имеет хоть какой-то смысл.
— Но ведь тогда у меня будет еще больше радости, Саша!
— А у него? Я же не смогу уделять ему столько внимания, сколько… он заслуживает.
— Мне ты тоже не всегда уделяешь столько внимания, сколько я заслуживаю. Но кто скажет, что я у тебя расту плохая?
Стихия. Слова — не более, чем летящие по ветру листья. Если пришел ураган — листья должны срываться и лететь, но их полет ничего не значит. Он значит лишь, что пришел ураган. Ураган уйдет — они осядут. И дурак, нет, садист тот, кто подойдя к плавающему в грязи листочку, начнет корить его: «Ведь ты уже летал, ну-ка, давай еще, это так красиво!»
Значит, действительно честнее молчать, не пуская на ветер слов, и молча делать то что хочешь, просто стараясь по возможности не повредить при этом другим, тоже молча?
— Стаська, ты сама не понимаешь, что говоришь.
— Конечно не понимаю, мое дело бабье. Но ты-то, самец, положа руку на сердце — неужели тебе не будет хотя бы лестно?
Я только головой покачал.
— Натурально, если бы без ссор и дрязг — я бы ужасно гордился.
Встала с подоконника, улыбаясь. Неторопливо подошла ко мне.
— Против твоей воли я ничего никогда не сделаю.
Присев у меня в ногах, наклонилась. Завороженно смотрела, как я, вздрагивая, набухаю под ее взглядом — и сама безотчетно вздрагивала вслед за мною.
— Ну, вот, — сказала почти благоговейно, — ты снова меня хочешь.
Коснулась кончиками пальцев. Потом, встав надо мной на колени, коснулась грудью. Потом губами. Снова отстранилась, вглядываясь. Распущенные волосы свешивались почти до простыни.
— Он мне напоминает птенца какой-то хищной птицы. Требовательный и беззащитный. Чуть подрос — а так и норовит уже клеваться! А ведь сам, один — ничего не может, нужно прилетать, из любого далека прилетать к нему и кормить, кормить…
Подняла лицо. Глаза сияли.
— Я люблю тебя, Стася, — сказал я.
— Я буду прилетать. Из любого далека, хоть на день, хоть на час, на сколько скажешь. Буду, буду, буду! — провела кончиками пальцев по полуоткрытым, запекшимся от поцелуев губам. — Хочешь сюда?
— Нет. Лучше подари самцу самку.
Стремительной гибкой молнией она повернулась ко мне спиною, упала на бок — только упруго вздрогнул матрац. Колючий вихрь волос ожег мне щеку.
— Так?
3
К программе «Время» мы опоздали буквально на минуту. Когда, шкодливо досмеиваясь и дошептываясь, мы спустились в гостиную, Ираклий и Темрико уже сидели перед телевизором, и я сразу понял, что произошло нечто чудовищное. Ираклий обернулся на звук шагов, лицо его было серым.
— …В десять семнадцать по петербургскому времени, — мертвым голосом сообщал диктор. — Гравилет «Цесаревич» следовал с базы Тюратам, где великий князь Александр Петрович находился с инспекционной поездкой, в аэропорт «Пулково». Обстоятельства катастрофы однозначно свидетельствуют о том, что имел место злой умысел…
— Боже! — вырвалось у княгинюшки.
Я помертвел. Я все осознал мгновенно — даже то, что ни спасения, ни отсрочки нам со Стасею нет. Я взглянул на нее — она слушала, вытянув шею, как давеча у источника, и лоб ее был страдальчески сморщен. Я достал из кармана пиджака шифратор с депешей, коснулся пальцами гнезд и показал ей табло. Секунду она непонимающе вчитывалась, потом с ужасом заглянула мне в глаза.
— Это я получил днем, — сказал я. — Думал до завтра потянуть.
Она взяла мою руку с шифратором, поднесла к губам и поцеловала.
— Спасибо за сегодня.
Я подошел к телефону. Поднял трубку, стал нащелкивать номер. У меня за спиной Стася что-то объясняла хозяевам — я не слышал.
— Барышня, когда у вас ближайший рейс на Петербург? Двадцать два пятьдесят?
— Успеем, — отрывисто произнес Ираклий. — Докачу.
— Забронируйте одно место…
— Два! — отчаянно крикнула Стася.
Я растерянно обернулся к ней.
— Стасик, может, отдохнешь еще на солнышке…
Она даже не удостоила меня ответом. Отвернулась даже.
— Два места. Кажинская Станислава Соломоновна. Трубецкой Александр Львович. Нет, не Левонович, просто Львович. За полчаса, понял. Гмадлобт дахмаребисатвис[2].
Положил трубку. Она едва не выскользнула из потных пальцев.
Ираклий подошел ко мне. Веско положил ладони мне на плечи и сильно встряхнул. Он как-то сразу осунулся.
— Найди их и убей, — с жесткой хрипотцой сказал он.
— Постараюсь, — ответил я.
— Я кофе сварю вам, — тихо сказала Темрико.
Уже в авто, посреди звездной благоуханной ночи — тоненький серпик плыл так спокойно — она спросила, когда Ираклий отошел закрыть ворота:
— Лиза будет тебя встречать?
— Нет. Они знать-то не знают.
— Хорошо. Значит, сможем еще там поцеловаться на прощание.
— Я приду, Стася! — горло у меня перехватило от нежности и сострадания. Я знал, это неправда, никто ни к кому не может придти дважды. — Я приду!
— Я твой дом, — ответила она.
В ласковой темноте то тут, то там зыбко позванивали цикады.
Петербург
1
Сеть питаемых гелиобатареями орбитальных гравитаторов за какой-нибудь час протащила семисотместную громаду лайнера по баллистической кривой от Тбилиси до Петербурга.
В пути мы почти не разговаривали, лишь обменивались какими-то проходными репликами. «Хочешь к окну?» — «Все равно темно». «А у тебя лицо успело подзагореть, щеки горят». — «Это у меня от тебя щеки горят, Саша». «Давай выпьем еще кофе?» О предстоящем я старался не думать, глупо строить досужие версии, ничего не зная — обрывки их во множестве долетали до меня и в очереди на регистрацию, и в очереди у трапа, уши вяли. Соседи шелестели газетами, вспыхивали то тут, то там вертевшиеся вокруг катастрофы приглушенные разговоры — я все не пытался Стасин взгляд, все посматривал на нее сбоку, но она сидела, уставившись перед и точно окаменев, и лишь обеими руками гладила, ласкала, баюкала мою ладонь, отчаянно припавшую сквозь неощутимую белую ткань к теплой округлости ее бедра. Только когда пилот отцепился от силовой тяги и, подруливая в аэродинамическом режиме, стал заходить на посадку, Стася, так и не пожелав встретиться со мною взглядом, внезапно начала читать. У нее даже голос менялся от стихов — становился низким, грудным, чуть хрипловатым. Страстным. Будто орлица клекотала. Это был голос ее естества, так она стонала в постели, и я гордился: мне казалось, это значило, что иногда я могу дать ей такое же счастье, какое ей дает основа ее жизни, ось коловращения внешней суеты — ее талант. «Как бы повинность исполняю. Как бы от сердца улетаю тех, что любил. Тех, что люблю». У нее было много текстов, написанных от лица мужчин. Наверное, тех, с которыми она бывала, я догадывался, что мужчин у нее было побольше, чем у меня женщин. Если этот текст был из тех, что она написала по дороге сюда, значит, так она представляла себе меня. На душе стало еще тяжелее — она ошибалась. С ней я не испытывал никакой повинности, наверное, я просто запугал ее, слишком часто и со слишком большим пиететом произнося слова «долг», «должен»… как она бесилась, когда я, вместо того, чтобы сказать «Вечером я хочу заехать к тебе» говорил «Вечером нужно заехать к тебе», а для меня это были синонимы. От ее сердца я никуда не улетал и не мог улететь. Я просто этого не умел. От лица мужчин она тоже писала себя.
Столица встретила нас ненастьем. Лайнер замер, Стася, поднявшись, набросила плащ. Он был еще чуть влажным. И багаж ее был еще чуть влажным — тот же косой, холодный дождь, который напитал его влагой поутру, окатывал его теперь, вечером, когда носильщик, покряхтывая и покрикивая «Поберегись!», катил его к стоянке таксомоторов. Дождь то притихал, то, повинуясь злобному сумасбродству порывов ветра, вновь набрасывался из промозглой тьмы, он шел волнами, и недавнее грузинское сияние уже казалось мимолетным радужным сполохом, привидевшемся во сне. Засунув руки в карманы грошового китайского плащика, небрежно набросив капюшон и даже не утрудившись застегнуться, Стася в легких туфельках шагала прямо по ледяному кипению черных луж.
— Не простудилась бы ты, Стасенька.
Она будто не слышала. В бешеном свете посадочных огней ее лицо призрачно искрилось. Она так и не повернулась ко мне. Мы так и не поцеловались на прощанье. Хотя меня никто не встречал. Над нами то и дело с протяжным шипящим шумом планировали идущие на посадку корабли, их позиционные огни едва пробивались через нашпигованный водою воздух. Мы с носильщиком перегрузили Стасин багаж, я сунул парню целковый («Премного благодарен-с…»), Стася молча шагнула в кабину, молча захлопнула дверцу и таксомотор повез ее в скромную квартирку, которую она вот уж год снимала в третьем этаже приличного дома на Каменноостровском, а я, ладонью сгоняя воду с лица, вернулся в здание аэровокзала, сдал на хранение свой саквояж — я чувствовал, мне скоро снова лететь, и из автомата позвонил в министерство.
— А-ле?
— Иван Вольфович!
С языка едва не сорвалось машинальное «Добрый вечер». Успел ухватить за хвост.
— Слушаю, говорите!
— Это Трубецкой. Я в Пулково.
— Ах, батенька, заждались мы вас!
— Теперь же ехать?
— Да уж натурально теперь же. Не тот день, чтоб мешкать.
Вот и я укрылся в кабине авто. Из кармана насквозь мокрого пиджака извлек насквозь мокрый платок, принялся тереть лицо, шею, волосы. Свет фонарей мерцал на бегущих по стеклам струйках, крыша рокотала барабаном.
— Дворцовая, милейший.
И как последние два часа я гнал от себя мысли о предстоящем, старательно не слушая доносившиеся справа-слева обрывки вертевшихся вокруг несчастья разговоров, так теперь я, словно пыль из ковра, принялся выбивать из памяти лихорадочно ласковые Стасины руки и ее мертвенный, унесшийся в пустоту взгляд.
Великий князь Александр Петрович, Тридцать четыре года… было. Щепетильно порядочный человек, одаренный математик и дельный организатор. Мечтатель. Официально — глава российской части российско-североамериканского проекта «Арес-97», фактически — правая рука престарелого Королева, ловил каждое слово великого конструктора, всегда готов был помочь делу и своим моральным авторитетом, и своим государственным влиянием. Мне доводилось несколько раз встречаться с ним на разного рода официальных и неофициальных мероприятиях, и от этих встреч всегда оставалось теплое чувство, на редкость приятный был человек. Невозможно представить, чтобы у него были враги. Такие враги.
Таксомотор вывернул на Забалканский проспект. Молодой шофер небрежно покручивал баранку и что-то едва слышно, угрюмо насвистывал. Сверкающее месиво капель валилось сквозь свет фар. Время от времени под протекторами коротко и свирепо рычали лужи.
«Арес-97». С той поры, как стало ясно, что термоядерный привод — дело неблизкое, решено было двинуться по тому отлаженному пути, каким с конца пятидесятых шли здесь, на планете. На стационарные гелиоцентрические орбиты в промежуток между орбитами Земли и Марса предполагалось обычными беспилотными устройствами с жидкостным приводом забросить две серии мощных гравитаторов, которые, при определенном расположении — оно повторялось бы с периодичностью всего лишь в полтора года — обеспечивали бы перемещение корабля практически любого тоннажа с постоянным ускорением десять метров в секунду за секунду. Инерционная фаза перелета, таким образом, вовсе ликвидировалась бы, космонавтам не пришлось бы сталкиваться ни с невесомостью, ни с ее неприятными последствиями, а время перелета сократилось бы с многих месяцев до — и это в худшем случае — недель. Помимо того, единожды подвесив в пространстве цепочку тяговых гравитаторов, проблему коммуникации Земля — Марс можно было бы решить раз и навсегда — во всяком случае, пока не появятся некие принципиально новые возможности типа, например, прокола трехмерной метрики. Каждые полтора года, безо всяких дополнительных затрат, не прожигая многострадальную атмосферу новыми выхлопами дюз и минимально теребя еще не вполне изученные, но уже весьма настораживающие геофизические аспекты огненного пробоя неба, станет можно, если возникнет на то желание, отправлять к Марсу корабль хоть с двадцатью, хоть с тридцатью людьми на борту, или даже целые эскадры по восемь — десять кораблей с пятичасовыми интервалами, а горячие головы уже размечтались о колонизации красной планеты. Тяговая цепочка должна была состоять из двадцати звеньев — десять гравитаторов обеспечивали бы разгон от Земли и обратное торможение на пути к Земле, десять — торможение на пути к Марсу и обратный разгон от Марса. Если учесть, вдобавок, что за три десятка лет эксплуатации орбитальной сети гравитаторов ни один лайнер не потерпел аварии на тяговом участке полета, такой вариант экспедиции выглядел не только более экологичным, не только более дешевым, но и куда более надежным, нежели любой реактивный — даже если бы Ливермор или Новосибирск выдали, наконец, термояд. Полет намечался на сентябрь девяносто седьмого года. Осуществление проекта шло со всеми возможными реверансами и знаками уважения лидирующих стран друг к другу, с церемонной, поистине азиатской вежливостью соблюдался полный паритет. Голова в голову, гравитатор к гравитатору — мы штуку, и они штуку, приблизительно раз в полгода, но не обязательно в один и тот же день. Мы разгонный, и они разгонный. Они тормозной — и мы тормозной. На первую половину июля планировался очередной запуск — пятого и шестого из околоземной десятки, дату еще надо было уточнять и согласовать с штатниками. Пробыв два месяца безвылазно на тюратамском космодроме, великий князь вырвался на пару дней в столицу, чтобы отчитаться о готовности к делу перед государем, Думой и кабинетом. Надобно незамедлительно снестись с штатниками и выяснить, не было ли у них попыток диверсий или покушений.
Или это какой-то их патриот шизоидный…
Бред.
Третьи страны… Есть отрывочные сведения о наличии в Японии, в Германии кругов, задетых малым, с их точки зрения, участием их держав в интернациональном проекте века. По их мнению, это роняло престиж их наций. Горе-националисты, пес их ешь. Хорошо, что их мало, и что обычно их никто не слушает. Немцы в свое время очень настаивали, чтобы «в целях соблюдения полного равновесия участия основных сторон» все старты осуществлялись с одного и того же космодрома, причем какой-либо третьей страны, и тут же с беззастенчивой настойчивостью предлагали свою космическую базу в море Бисмарка — не ближний свет возить туда через океан все материалы что штатникам, что нам!
Нет-нет. Бессмысленно сейчас строить версии. Я тут ничем не отличаюсь от располагающих нулевой информацией остолопов, болбочущих о масонском заговоре и о том, что господь покарал за гордыню человека, вздумавшего влезть на небо. Слышал я сегодня такое — смотрел на Стасю, чувствовал Стасю, но слышал краем уха.
Все. Стася уже дома, в тепле, уже наверняка приняла ванну, залегла под одеяло с какой-нибудь книгой или рукописью, или телеэкран мерцает чем-нибудь развлекательным напротив постели — так славно бывает лежать рядом, обнявшись, щека к щеке и бездумно-радостно смотреть всякую белиберду… Хватит! Что она сейчас думает обо мне — мне отсюда не изменить, хоть кулак изгрызи.
Или я слишком зазнаюсь, и она сейчас совсем не обо мне думает?
А ведь каких-то пять часов назад она гортанно, протяжно вскрикивала подо мною… и танцевала: я счастливая!
Но — утром? Как презрительно она вела себя утром, у Джвари!
Господи, неужто это было? Неужели это было сегодня — жар, стрекот, синий простор? И самая большая трагедия — то, что родная женщина держится отчужденно.
Все, хватит.
Приехали.
2
Министерство госбезопасности располагалось в левом крыле старого здания Генштаба. Показав слегка удивленному моим видом казаку отсыревший пропуск, я взбежал по широкой лестнице на третий этаж — белый пиджак, светло-голубая рубашка с открытым воротом, белые брюки, белые летние туфли, ни дать ни взять миллионщик на палубе собственной яхты. В туфлях хлюпало. Нет, не миллионщик, конечно — погонщик. Подневольный офицер.
Коридоры были пустынны, и, казалось, здание спит, как и полагалось бы в этот час. Но по едва уловимым признакам, которых, конечно, не заметил бы никто чужой, я чувствовал, что там, за каждой закрытой дверью — разворошенный муравейник. Естественно. Таких штучек не случалось на Руси со времен графа Палена. Правда, был еще Каракозов — совсем больной человек… Да еще закомплексованный Пестель витийствовал в эмпиреях о цареубийстве во благо народных свобод. Интересно, оставить его с Александром Павловичем наедине — неужто и впрямь поднялась бы рука? Или крепостным передоверил бы — дескать, ты, Ванька, сперва выпусти по моему велению своею косою кишки помазаннику божию, а уж посля будет тебе воля… Перепугали мечтательные предки Николая Павловича так, что ему потом всю жизнь от слова «свобода» икалось — ну, и вел себя соответственно, мел мыслителей из аппарата, оставлял одних неперечливых воров, чуть не прогадал Россию…
Секретарь — молодец, даже бровью не повел, завидев в сих суровых стенах такое чудо в перьях, как нынешний я.
— Иван Вольфович ждет вас, господин полковник. Прошу.
И растворил передо мною тяжелые двери.
Ламсдорф встал из-за стола и, отчетливо похрустывая плотной тканью выутюженного мундира, пошел ко мне навстречу, протянул обе руки. Костистое остзейское лицо его было печально вытянуто.
— Экий вы южненький, батенька, экий вы мокренький… Уж простите старика, что этак бесцеремонно выдернул вас из картвельских кущей в нашу дрякву. Вы возглавите следствие. И назначал не я, — он потыкал пальцем вверх. — Есть факторы… То есть, не подумайте, Христа ради, — он всерьез испугался, что допустил бестактность, — будто я вам не доверил бы… Но устали ж вы за весну, как черт у топки, мне ль не знать!..
Сюда, голубчик, присаживайтесь. Мы сейчас радиаторчик включим, подсохните, — покряхтывая, он выкатил масляный обогреватель из-за видавшей виды китайской ширмы, прикрывавшей уголок отдыха-столик, электрочайник, коробочки со сладостями, генерал был известный сладкоежка. Воткнул штепсель в розетку. — Чайку не хотите ли?
— Благодарю, Иван Вольфович, я так наобедался у князя Ираклия, что теперь два дня ни есть ни пить не смогу. Давайте уж лучше к делу.
— Ай, славно, ай, мальчики мои молодцы! Хоть денек успели урвать. Какая жалость, что князь Ираклий так рано в отставку вышел!
— Ему в грузинском парламенте дел хватает.
— Да уж представляю… Тепло там?
— Тепло, Иван Вольфович.
— Цветет?
— Ох, цветет!
Он горестно вздохнул, уселся не за стол, а в кресло напротив меня. Закинул ногу на ногу, немилосердно дергая левую бакенбардину так, что она едва не доставала до эполета. В черное, полуприкрытое тяжелыми гардинами окно лупил дождь.
— К делу, говорите… Страшное дело, батенька Александр Львович, страшное… Уж и не знаю, как начать.
Я ждал. От радиатора начало помаленьку сочиться пахнущее пылью тепло.
— В восемь сорок три вылетел цесаревич с Тюратама. С ним секретарь, профессор Корчагин, знали вы его…
— Не близко. Консультировался дважды.
— Ну да, ну да. Это когда вы от нас входили в госкомиссию по аварии на Краматорском гравимоторном. Помню, как же, — он замолотил себя указательным пальцем по бакенбардам, затем снова поволок левую к плечу. — Врач, два офицера охраны и два человека экипажа, люди все свои, постоянные, который год с цесаревичем…
— Никто не спасся? — глупо спросил я. Жила какая-то сумасшедшая надежда, вопреки всему услышанному. Иван Вольфович даже крякнул. Обиженно покосился на меня. Встал, сложил руки за спиною и, наискось пошел по кабинету. Поскрипывал паркет под потертым ковром.
— Батенька, — страдальчески выкрикнул генерал, остановившись у стола, — они же с трех верст падали! С трех верст! Что вы, право!
С грохотом выдвинув один из ящиков, он достал пачку фотографий и вернулся ко мне.
— Вот полюбуйтесь-ка на обломочки! Аэросъемка дала…
Да. Я быстро перебрал фотографии. Что да, то да. Иными фрагментами земля была вспахана метров на пять в глубину.
— Разброс обломков близок к эллиптическому, полторы версты по большой оси. И ведь не просто падали, ведь взрыв был, голубчик мой! Весь моторный отсек снесло-разнесло!
— Мина с часовым механизмом или просто сопряженная с каким-то маневром? Скажем, при первом движении элерона — сраба…
— Ах, батенька, — вздохнув, Ламсдорф забрал у меня фотографии и, выравнивая пачку, словно колоду карт несколько раз побил ее ребром раскрытую ладонь. — Разве разберешь теперь? Впрочем, обломки конечно, будут еще тщательнейшим образом исследованы. Но, по совести сказать, так ли уж это важно?
— Важно было бы установить для начала, что за мина, чье производство, например.
— Вот вы и займитесь… Ох, что ж я, олух старый! — вдруг встрепенулся он. Размахивая пачкой, словно дополнительны плавником-ускорителем, он чуть ли не вприпрыжку вернулся к столу, поднял трубку одного из телефонов и шустро нащелкал трехзначный номер. Внутренний, значит.
— Ламсдорф беспокоит, как велели, — пробубнил он виновато. — Да, прибыл наш князь, уж минут двадцать тому. Ввожу помаленьку. Так точно, ждем.
Положил трубку и вздохнул с облегчением.
— Ну, что еще с этим… Взорвались уже на подлете, неподалеку от Лодейного Поля их пораскидало. Минут через шесть должны были от тяги отцепляться и переходить на аэродинамику… Так что с элеронами, или с чем там вы хотели — не проходит, Александр Львович. С другой стороны — в Тюратаме уже тоже чуток надыбали. С момента предполетной техпроверки и до момента взлета — это промежуток минут в двадцать — к кораблю теоретически имели доступ четыре человека. Все — аэродромные техники, народ не случайный. Один отпал сразу — теоретически доступ он имел, но возможностью этой, так сказать, не воспользовался — работал в другом месте. Это подтверждено сразу пятью свидетелями. Все утро он долизывал после капремонта местную поисковую авиетку. Что же касается до трех остальных…
Мягко открылась дверь в конце кабинета. Не та, через которую впустили меня. Вошел невысокий, очень прямо держащийся, очень бледный человек в партикулярном, траурном, в глубине его глаз леденела молчаливая боль. Я вскочил, попытался щелкнуть каблуками хлюпающих туфель. До слез было стыдно за свое разухабистое курортное платье.
— Здравствуйте, князь, — тихо сказал вошедший, протягивая мне руку. Я осторожно пожал. Сердце заходилось от страдания.
— Государь, — проговорил я, — сегодня вместе с вами в трауре вся Россия.
— Это потеря для всей России, не только для меня, — прозвучал негромкий ответ. — Алекс был талантливый и добрый мальчик, ваш тезка, князь…
— Да, государь, — только и нашелся ответить я.
— Иван Вольфович, — произнес император, чуть оборотясь к Ламсдорфу, — вы позволите нам с Александром Львовичем уединиться на полчаса?
— Разумеется, ваше величество. Мне выйти?
— Пустое, — император чуть улыбнулся одними губами. Глаза все равно оставались, как у побитой собаки. — Мы воспользуемся вашей запазушной приемной, — и он сделал мне приглашающий жест к двери, в которую вошел минуту назад.
Там произошла заминка, он пропустил меня вперед — я, растерявшись, едва не споткнулся. Он мягко взял меня за локоть и настойчиво протолкнул в дверь первым.
В этой комнате я никогда не бывал. Она оказалась небольшой — скорее чуланчик, нежели комната, смутно мерцали вдоль стен застекленные стеллажи с книгами, в дальнем от скрытого гардинами, сотрясаемого ливнем окна углу стоял низкий круглый столик с двумя мягкими креслами и сиротливой, девственно чистой пепельницей посредине. Торшер, задумчиво наклонив над столиком тяжелый абажур, бросал вниз желтый сноп укромного света. Император занял одно из кресел, жестом предложил мне сесть в другое. Помолчал, собираясь с мыслями. Достал из брючного кармана массивный серебряный портсигар, открыл и протянул мне.
— Курите, князь, прошу.
Курить не хотелось, но отказаться было бы бестактным. Я взял, он тоже взял, спрятав портсигар, предложил мне огня. Закурил сам. Пальцы у него слегка дрожали. Придвинул пепельницу — ко мне ближе, чем к себе.
— Хороша ли княгиня Елизавета Николаевна? — вдруг спросил он.
— Благодарю, государь, слава богу.[3]
— А дочь… Поля, если не ошибаюсь?
— Не ошибаетесь, государь. Я благополучен.
— Вы еще не известили их о своем возвращении из Тифлиса?
— Не успел, государь.
— Возможно, пока еще и не следует на всякий случай… А! — с досадой на самого себя он взмахнул рукой с сигаретой и оборвал фразу. — Не мое это дело. Как лучше обеспечить успех думаете вы, профессионалы, — помолчал. — Я предложил, чтобы вы, князь, возглавили следствие, по некоторым соображениям, их я раскрою чуть позже. А пока что…
Он глубоко затянулся, задумчиво глядя мне в лицо выпуклыми, тоскующими глазами. Сквозь конус света над столиком, сонно переливая формы, путешествовали дымные амебы.
— Скажите князь. Ведь вы коммунист?
— Имею честь, государь.
— Дает ли вам ваша вера удовлетворение?
— Да.
— Дает ли она вам силы жить?
— Дает, государь.
— Как вы относитесь к другим конфессиям?
— С максимальной доброжелательностью. Мы полагаем, что без веры в какую-то высшую по отношению к собственной персоне ценность человек еще не заслуживает имени человека, он всего лишь чрезвычайно хитрое и очень прожорливое животное. Более того, чем многочисленнее веры — тем разнообразнее и богаче творческая палитра Человечества. Другое дело — как эта высшая ценность влияет на их поведение. Если вера в своего бога, в свой народ, в свой коммунизм или во что-либо еще возвышает тебя, дает силы от души дарить и прощать — да будет славен твой бог, твой народ, твой коммунизм. Если же вера так унижает тебя, что заставляет насиловать и отнимать — грош цена твоему богу, твоему народу, твоему коммунизму.
— Что ж, достойно. Не затруднит ли вас в двух словах рассказать мне, в чем, собственно, состоит ваше учение?
Вот уж к этому я никак не был готов. Пришлось всерьез присосаться к сигарете, потом неторопливо стряхнуть в пепельницу белоснежный пепел.
— Государь, я не теоретик, не схоласт…
— Вы отменный работник и безусловно преданный России человек — этого довольно. Разглагольствования богословов меня всегда очень мало интересовали, вне зависимости от их конфессиальной принадлежности. Теоретизировать можно долго, если теория — твой удел, но в каждодневном биении сердца любая вера сводится к нескольким простым и самым главным словам. Я слушаю, князь.
Я еще помедлил, подбирая слова. Он смотрел ободряюще.
— У всех стадных животных, государь, существуют определенные нормы поведения, направленные на непричинение неоправданного вреда друг другу и на элементарное объединение усилий в совместных действиях. Нормы эти возникают вполне стихийно — так срабатывает в коллективе инстинкт самосохранения. Человеческая этика, в любой из ее разновидностей, является не более чем очередной стадией усложнения этих норм ровно в той мере, в какой человек является очередной стадией усложнения животного мира. Однако индивидуалистический, амбициозный рассудок, возникший у человека волею природы, встал у этих норм на пути. Оттого-то и потребовалось подпирать их разнообразными выдуманными сакральными авторитетами, лежащими как бы вне вида Хомо Сапиенс, как бы выше его. И тем не менее, сколь бы ни был авторитетен тот или иной божественный источник призывов к добру и состраданию, всегда находились люди, для которых призывы эти были пустым звуком, ритуальной игрой. С другой стороны, всегда находились люди, которым не требовалась ни сакрализация ни ритуализация этики, в простоте своей они вообще не могут вести себя неэтично, им органически мерзок обман, отвратительно и чуждо насилие… И то, и другое — игра генов. Один человек талантлив в скрипичной игре, другой — в раскрывании тайн атомных ядер, третий — в обмане, четвертый — в творении добра. Но только через четвертых в полной мере проявляется генетически запрограммированное стремление вида сберечь себя. Мы убеждены, что все создатели этических религий, в том числе и мировых — буддизма, христианства, ислама — принадлежали к этим четвертым. Ведь, в сущности, их требования сводятся к одному интегральному постулату: благо ближнего превыше моего. Ибо «я», «мой» обозначает индивидуальные, эгоистические амбиции, а «ближний», любой, все равно какой, персонифицирует вид Хомо. Расхождения начинаются уже на ритуальном уровне, там, где этот основной биологический догмат приходится вписывать в контекст конкретной цивилизации, конкретной социальной структуры. Но беда этических религий была в том, что они, дабы утвердиться и завоевать массы, должны были тем или иным способом срастаться с аппаратом насилия — государством, и, начиная включать в себя заповеди требования насилия, в той или иной степени превращались в свою противоположность. Всякая религия стремилась стать государственной, потому что в этой ситуации все ее враги оказывались врагами государства с его мощным аппаратом подавления, армией и сыском. Но в этой же ситуации всех врагов государства религии приходилось объявлять своими врагами — и происходил непоправимый этический надлом. Это хорошо подтверждается тем, что, чем позже возникала религия, то есть чем более развитые, жесткие и сильные государственные структуры существовали в мире к моменту ее возникновения — тем большую огосударственность религия демонстрирует. От довольно-таки отстраненного буддизма через христианство, претендовавшее на главенство над светскими государями, к создавшему целый ряд прямых теократий исламу.
— Очень логично, — сказал император. Он слушал внимательно, чуть подавшись вперед и не сводя пристальных глаз с моего лица. Вяло дымились забытые сигареты.
— Мы полностью отказались от какого бы то ни было ритуала. Мы совершенно не стремимся к организованному взаимодействию со светской властью. Мы апеллируем, по сути, лишь к тем, кого я назвал четвертыми — к людям с этической доминантой в поведении. Им во все времена жилось не легко, нелегко и теперь. Они совершенно непроизвольно принимают на себя первый удар при любых социальных встрясках, до последнего пытаясь стоять между теми, кто рвется резать друг друга — и потому, зачастую, их режут и те и другие. Они часто выглядят и оказываются слабее и беспомощнее в бытовых дрязгах… Мы собираем их, вооружаем знаниями, объясняем им их роль в жизни вида, закаляем способность проявлять абстрактную доброту чувств в конкретной доброте поведения. Мы стараемся также облегчить и сделать почетным уподобление этим людям для тех, кто не обладает ярко выраженной этической доминантой, но по тем или иным причинам склоняется к ней. Это немало.
— Чем же заняты ваши… уж не знаю, как и сказать… теоретики?
— О, у них хватает дел. Ну, например. Сказать: благо ближнего важнее — это просто. Просто и претворить эти слова в жизнь, когда с ближним вы на необитаемом острове. Но в суетном нашем мире, где ближних у нас уж всяко больше одного, ежечасно перед человеком встают проблемы куда сложнее тех, что решают математики в задачах о многих телах.
— Неужели и здесь вы считаете возможным выработать некие правила?
— Правила — никоим образом, государь. Но психологические рекомендации — безусловно. Определенные тренинги, медитативные практики… но я не силен в этом, государь, прошу простить.
— Хорошо, — он наконец стряхнул в пепельницу длинный белый хвостик пепла, уже изогнувшийся под собственной тяжестью. — Я как-то упустил… Ведь коммунизм начинался как экономическая теория.
— О! — я пренебрежительно махнул рукой. — Ополоумевшая от барахла Европа! Похоже, Марксу поначалу и в голову ничего не шло, кроме чужих паровых котлов и миллионных состояний! «Бьет час капиталистической собственности. Экспроприаторов экспроприируют»! В том, что коммунисты отказались от вульгарной идеи обобществления собственности и поднялись к идее обобществления интересов — львиная заслуга коммунистов вашей державы, государь.
— Ленин… — осторожно, будто пробуя слово на вкус, произнес император.
— Да.
— Обобществление интересов — это звучит как-то… настораживающе двусмысленно.
— Простите, государь, но даже слово «архангел» становится бранным, когда его произносит сатана. Речь идет, разумеется, не о том, чтобы всем навязать один общий интерес, а о том, чтобы всякий индивидуальный интерес учитывал интересы окружающих и, с другой стороны, чтобы всякий индивидуальный интерес, весь их спектр, был равно важным и уважаемым для всех. Это — идеал, конечно… как и всякий религиозный идеал.
— В молодости я читал какие-то работы Ленина, но признаюсь, князь, они не заинтересовали меня, не увлекли.
Я помедлил.
— Рискну предположить, государь, что в ту пору вы были молоды и самоуверенны. Жизнь представлялась веселой, азартной игрой, в которой все козыри у вас в руках.
— Возможно, — император улыбнулся уголками губ. — При иных обстоятельствах я с удовольствием побеседовал бы с вами об этом, вы изрядный собеседник. Но сперва покончим с тем, что начали. В изложенном вами я не вижу религиозного элемента. Вполне здравое, вполне материалистическое, чрезвычайно гуманистическое этическое учение, и только. Через несколько минут вы поймете, почему я так этим интересуюсь. Скажите мне вот что. Возможен ли религиозный фанатизм в коммунизме, и какие формы он может принять, коль скоро сам коммунизм религиозного элемента, как мне кажется, не имеет?
— Ваше величество, чем отличается этическая религия от этического учения? Лишь тем, что ее догматы опираются на некий священный авторитет, некую недосказанную истину, каковая, в сущности, и является предметом веры — а все остальные предписания уже вполне материалистично вытекают из нее. Священным авторитетом для нас является вид Хомо. Недоказуемой истиной, в которую нужно поверить всем сердцем — то, что вид этот заслуживает существования. Ведь это не из чего не следует логически. Никто не писал этого кометами на небесах. Люди вели и ведут себя зачастую так, словно бы им все равно, родится ли следующее поколение или нет. Презрение к людям лежит в основе такого поведения — подсознательно укоренившееся, в частности, еще и оттого, что все религии рассматривают наше бытие лишь как предварительный и греховный этап бытия вечного. Уверовать в то, что сей греховный муравейник есть высшая ценность — нелегко, а иным и отвратительно. То, что я рассказывал прежде, было от ума — а вот то короткое и главное из сердца, что вы просили, государь, своего рода символ веры. Род людской нуждается в существовании, значит, всякое мое осмысленное действие должно приносить кому-то пользу. И речь идет не только о благотворительности или тупом жертвовании собой. Коль скоро наш сложный социум для своей полноценной жизни требует тысяч разнообразных дел, лучше всего помогать людям я могу, делая как можно лучше свое дело. Значит, всякий мой успех — для людей, но ни в коем случае — люди для моего успеха.
— Достойная вера, — проговорил император, — я мог бы, правда, спорить относительно грешного муравейника как высшей ценности — но спор по поводу истинности недоказуемых истин… или, скажем даже так — равнодоказуемых истин, есть удел злобных глупцов, ищущих повода для драки.
— Истинно так.
— А в целом вы столь привлекательно и убедительно это изложили… все кажется таким естественным и очевидным, что в пору мне принимать ваши обеты.
— Я был бы счастлив, ваше высочество, — сказал я. — Но, боюсь, для российского государя сие непозволительно формально.
Он снова чуть усмехнулся.
— Я наслышан о том, что ваши товарищи в подавляющем большинстве своем являются прекрасными людьми и в высшей степени надежными работниками. Мне отрадно видеть, что влияние вашей конфессии неуклонно растет, ибо ее благотворное влияние на все сферы жизни страны неоспоримо. И теперь я лучше понимаю почему. Но вот в чем дело…
Глаза его опустились, теперь он избегал встретиться со мною взглядом. Помедлив, он вновь достал и открыл портсигар. Протянул мне. Я отрицательно качнул головой. Император, поразмыслив, защелкнул портсигар и убрал.
— Иван Вольфович уже сказал вам, что в круге подозреваемых с самого начала оказались только четыре человека. Один отпал сразу. Двое других уже найдены, допрошены и отпущены, очевидно, они ни в чем не замешаны. Некоторые странности, как мне сказали, были замечены незадолго до катастрофы в поведении четвертого… смотрите, какое совпадение — в моем перечислении, как и в вашем, он четвертый. И этот четвертый исчез.
— Как исчез?
— Его нигде нет. Его не нашли ни на работе, ни дома, ни в клубе… Он не уезжал из Тюратама. И, похоже, его нет в Тюратаме. И он… он — коммунист, Александр Львович. Ваш товарищ.
Я сцепил пальцы.
— Теперь понимаю.
— Я предлагаю вам, именно вам, взяться за это дело, ибо мне кажется, вы лучше других сможете понять психологию этого человека, проанализировать его связи, представить мотивы… Бог знает, что еще. Но именно поэтому я предоставляю вам и право тут же отказаться от дела. Никаких нареканий не будет. Возвращайтесь в Грузию, возвращайтесь домой, куда хотите, вы заслужили отдых. Если совесть не позволяет вам вести дело, где основным подозреваемым сразу оказался член вашей конфессии…
— Позволяет, — чуть резче, чем хотел, сказал я. — Более того, я должен в этом разобраться. Тут что-то не так. Я не верю, что коммунист мог поднять руку на наследника престола… да просто на человека! Я берусь.
— Благодарю вас, — сказал император и встал. Я сразу вскочил. — Как осиротевший отец благодарю, — он помедлил. — За тарбагатайское дело, с учетом прежних заслуг, министр представил вас к ордену святого Андрея Первозванного. Через Думу представление уже прошло, и приказ у меня на столе.
— Это незаслуженная честь для меня, — решительно сказал я. — Первым кавалером ордена был генерал-адмирал граф Головин, одним из первых — государь Петр… — я позволил себе чуть улыбнуться. — Все мои прошлые, да и будущие заслуги вряд ли могут быть сопоставлены с деяниями Петра Великого.
— Кто знает. — Уронил император. — Но я подожду подписывать приказ до конца этого расследования, — он нарочито помедлил. — Чтобы не отвлекать вас церемонией награждения… — Теперь — Бог с вами, князь. Ступайте.
3
Было около трех, когда я вошел в свой кабинет. Усталость давала себя знать, и кружилась голова — почти бессонная веселая ночь накануне, Джвари и Сагурамо, Ираклий и Стася, киндзмараули и ахашени, а потом, судорожным рывком, словно кто-то казацкой шашкой полоснул по яркой театральной декорации, вновь МГБ и эта странная аудиенция… Сколько всего уместилось в одни сутки!
Но я благодарил судьбу, что это дело досталось мне.
Что-то в нем было не так.
Я вскипятил немного воды, сделал крепчайший кофе, насыпав с горя в чашку сразу ложки четыре. Пока дымящаяся густая жидкость остывала до той кондиции, чтобы пить можно было, не шпарясь, все-таки выкурил еще одну сигарету. Прихлебывая, тупо созерцал, как ползают по воздуху, извиваясь, прозрачно-серые ленты. Платье мое уж высохло, от кофе я наконец согрелся окончательно.
Ватная тишина набухла в кабинете. Даже дождь угомонился и с площади, от окна, не доносилось ни звука.
Стася, наверное, уже спит. Если только не мучается, бедняга, бессонницей снова. Впрочем, вряд ли, она сегодня так устала. Меня вдруг словно кинули в кипяток, перед измученными, пересохшими глазами вдруг ослепляюще полыхнуло ярче яви: в медовом свете южного вечера она проводит по вишневым, чуть припухшим губам: хочешь сюда? Телеграмма уже лежала в шифраторе — но я думал, что целая ночь впереди. Вот он, эта ночь. Зеленое время на табло настольных электронных часов мерно перепархивало с одной цифры на другую. Три двенадцать.
И Лиза спит, конечно.
Или я ничего не понимаю, а она, давно догадавшись обо всем, одиноко лежит без сна и мысленно видит меня там, в кипарисовом раю, обнимающим не ее?
Даже страшно утром звонить.
Вот он, мой кипарисовый рай. Не сдержавшись, я с силой ударил ладонями по столу. Звук оказался неестественно громким.
И Поля, разумеется, спит без задних ног. Если только не забралась под одеяло с лампой и книжкой, если только не портит опять глаза, паршивка. Сколько раз мы с Лизой ловили ее на этом, объясняли, уговаривали — нет, как об стену горох.
Я вдруг сообразил, что уже по ним соскучился. Может поехать домой прямо сейчас? Здесь рядом. Может, они обрадуются.
Ведь все равно до утра начать работать невозможно.
Невозможно. Невозможно, чтобы коммунист стал убийцей. Не верю. Тут что-то не так.
На пробу я ткнул пальцами в кнопки селектора. И, совершенно противу всяких ожиданий, немного сиплый голос Куракина сразу отозвался:
— Слушаю.
— Федор Викентьич, дорогой! Никак не ожидал вас застать…
— Александр Львович! Да как это не ожидали, Ламсдорф не сказал вам, что ли? Он же категорически запретил мне уходить, еще в конце дня позвонил и сказал, что вы будете с минуты на минуту, и что я непременно вам понадоблюсь. Спите, говорит, по крайности, за столом.
— Ну и как, спали?
— Сейчас вот покемарил часок, — он откашлялся.
— Ну и чудесно. Зайдите ко мне.
Через минуту заместитель мой уже входил в кабинет, лицо бодрое, словно и не спал только что, скрючившись в служебном кресле — кто сказал, что крепостное право отменили?
Мундир будто сейчас из-под утюга, любо-дорого глядеть. Не то, что я. Куракин вошел и, не сдержавшись, по-свойски прыснул.
— Да, извлекли вас, видать, из климата не в пример благостнее нашего.
— Зато всем сразу видно, как я спешил. Будем вести следствие по катастрофе «Цесаревича», поздравляю вас.
— Значит вы взялись, Вольфович сказал, что это еще не точно.
— Это точно. Да вы садитесь, Федор Викентьич, в ногах правды нет. Особенно в такой час. С Лодейнопольским гэ-бэ связывались?
— Неоднократно.
— Сбор фрагментов они завершили?
— На момент последнего разговора — это в двадцать один ноль две было…
Как раз когда мы со Стасей, перемурлыкиваясь, спускались в гостиную.
— …Не закончили. Очень уж много мелочи, грунт порой буквально просеивать приходится. А там еще речушки, болота…
— Хорошо. То есть, плохо, конечно, но шире штанов не зашагаешь. Завтра спозаранку надо связаться с кем-нибудь из ведущих конструкторов и узнать тактично: не мог ли, черт возьми, мотор сам дать такой эффект. Ну, хоть один шанс из миллиона — вдруг что-то там перегорело, перегрелось, расконтачилось…
— Ламсдорф уже связывался. Профессор Эфраимсон с кафедры гравимеханики Политеха клялся, что это абсолютно исключено.
— Ученые головы умные, Федор Викентьевич, но квадратные. Тут практик нужен. О! Я сам свяжусь с Краматорским гравимоторным, там меня должны помнить, побеседуем задушевно. Дальше. Надобно послать одного-двух наших экспертов для тщательнейшего исследования фрагментов. Пусть найдут остатки мины. Чья мина? Какая? Как устроена? Если они этих остатков вообще не найдут, то пусть хоть просчитают, какого характера был взрыв, какой силы… И — быстро! И все обломки — к нам, сюда. С ними возиться придется, я думаю, не раз и не два.
— Понял.
— Завтра я вылечу в Тюратам. Там что-то интересное уже нащупали, я так понял Ламсдорфа, но это все — испорченный телефон.
— Кого бы вы хотели взять?
Я помедлил.
— Совсем я отупел на югах. Впереди телеги лошадь запрягаю. Давайте-ка мы очертим круг лиц, участвующих в деле. И кроме них уже — ни-ни. Пусть будет у нас, скажем, четыре группы. Вы — мой заместитель, так им и будете, ни в какую из групп ни вы, ни я не входим. Общее руководство, так сказать. Группа «Аз» — эксперты, мозговой центр. Специалист по гравимеханике, специалист по взрывным устройствам и… вот еще что. Специалист по измененным состояниям психики.
Брови Куракина чуть дрогнули.
— Это как?
— По правде сказать, сам толком не знаю. Посмотрите среди врачей-наркологов, что ли… Кто-то, кто разбирается в аффективных действиях, в гипнопрограммировании, вот! Это еще лучше.
— Понял, — с сомнением сказал Куракин.
— Три человека. Группа «Буки» — скажем, тоже три человека. Этим суждено рыться в архивах, картотеках, поднимать, когда понадобится, пыль ушедших лет. Группа «Веди» — обычные детективы. Ну не обычные, конечно, а получше. Думаю, нам будет зеленая улица, дадут любых. Четыре человека. И группа «Добро» — скажем, шесть человек. Наша охрана. И на них же, в случае необходимости, выпадет силовое взаимодействие с противником.
Я намеренно пропустил четвертую букву алфавита. В подобных случаях я всегда поступал так. Пусть нашим боевикам уже само название их отряда постоянно напоминает о цели, о смысле их деятельности. А вот знаю я — с пистолетом в руке, под пулями, очень легко сорваться в бестолковую ненависть. Были прецеденты.
— Подработайте состав пофамильно, Федор Викентьевич. А я посмотрю. Часа вам хватит?
— Попробую.
— Попробуйте. Я буду здесь.
— Разрешите идти.
— Да, конечно. Какие уж тут политесы.
Дверь за ним закрылась, и снова в уши будто впихнули по целому мотку ваты. Глаза жгло. Словно я отсидел глазные яблоки. И начинала болеть голова — запульсировало то ли в затылке, то ли в темени. Скорее всего, и там, и там. За окнами не светлело, хотя уже шло к четырем. Как часто бывает, вместо белых ночей природа подсовывала нам черные тучи.
Очень хотелось уже позвонить Лизе. И Стасе. И той, и другой. Просто узнать, как они там. Нет, пожалуй, сначала Стасе. За нее я беспокоился больше, она могла простудиться в аэропорту.
Что я там ляпнул государю о тяготах, переживаемых математиками при решении задач о многих телах? Вот уж действительно, Что телах, то телах.
Нет, в такой час звонить домой — в тот ли дом, в этот ли — совершенно немыслимо. И я позвонил в Лодейнопольский отдел — уж там-то наверняка кто-нибудь не спит.
Там действительно не спали, более того, дожидались звонка из столицы. Сбор фрагментов гравилета был прекращен в двадцать три сорок семь. То, чего не нашли, уже не найдет никто, разве что по случаю — дождь, земля размокла, болота вздулись… Все, что удалось отыскать, с максимальной осторожностью сложено под крышей, в приемной отдела и на лестнице. Лодейнопольцы сами даже не пытались как-то анализировать найденное, боясь что-то упустить или видоизменить ненароком. Я одобрил и сказал, что не позже полудня эксперты будут.
Так, чуть не забыл. То есть совершенно забыл, попервоначалу подумал, а потом забыл в суматохе — и понятно, собственно, почему. В работоспособность этой версии я не верил. Но для очистки совести решил раскрутить ее до конца. Чем черт не шутит.
Позвонил в шифровальный — там дежурство круглосуточное, не то, что дома.
Впрочем, у дома иные прелести.
— Трубецкой говорит.
Там уже знали, что это значит.
— Вашингтонскому атташе Каравайчуку. «Строго секретно. Срочно. Постарайтесь, как по официальным каналам, так и любыми иными доступными вам средствами узнать, не происходило ли когда-либо, особенно в последнее время, попыток диверсий либо террористических актов в сфере североамериканской части проекта „Арес-97“. Не имеет ли ФБР данных о готовящихся в настоящее время, или предотвращенных в прошлом, акциях подобного рода. Мотив не камуфлируется: МГБ России в связи с катастрофой „Цесаревич“ отрабатывает версию, согласно которой некие силы оказывают противодействие реализации проекта в целом. Центр». Немедленно зашифруйте и отправьте.
С этим тоже пока все.
Что же меня так насторожило? Слепая убежденность в том, что товарищ по борьбе не способен на преступление — это, конечно, лирика, хотя и ее сбрасывать со счетов не стоит, но полагать, будто человек, когда-то давший обет «всяким своим умыслом и деянием по мере сил и разумения к вящей славе рода человеческого», может порешить ближнего своего, лишь сойдя с ума — все же перебор. Но ведь было еще… Как сказал государь? «Странности были замечены в его поведении незадолго до катастрофы». Вот. Какие странности? Почему Ламсдорф ничего подробнее не сказал? Вздор, вздор, хорошо, что не сказал, надо лететь и разбираться самому. Еще четыре часа ждать. Хуже нет — ждать. И что особенно обидно и тягостно — сейчас делать нечего, а придет утро, и хоть разорвись: и Лиза, и Стася, и Тюратам, и Лодейное поле…
Дверь открылась, и влетел, помахивая листком бумаги, радостный Куракин.
— Есть такой специалист! — крикнул он, широко шагая к столу. Уселся, кинул ногу на ногу и пустил ко мне через стол лист с рядами фамилий. — Странно даже, что мы сразу не сообразили. Это от бессонницы, не иначе. Я поначалу даже обиделся — задание думаю, типа зашибись. Пойди туда — не знаю куда. Но компик все держит в бестолковке. Вальдемар Круус, помните? Он деблокировал память гипноамнезийникам, проходившим по делу «Зомби».
Еще бы не помнить, Действительно странно, что не сообразили сразу. Не раскачались еще. Круус — блестящий психолог.
— Другое дело, — сменил тон Куракин, — я не понимаю, зачем он вам понадобился… в данном случае. Вот список, посмотрите.
— Уже смотрю, — ответил я, вчитываясь в фамилии. — Так, «Аз» — отлично… угу…
Куракин был явно доволен собою. Управился почти на четверть часа раньше срока.
— «Буки» — согласен. Молодцом, Федор Викентьич.
Он цвел. От сонной припухлости щек, что я отметил час назад, не осталось и следа.
— «Веди» — согласен. Отличные ребята. «Добро»… стоп. Тарасов?!
— Что такое? — растерялся Куракин. Я поднял лицо от списка. Только таких вот проколов не хватало нам с самого начала. Ужасно не хотелось устраивать разнос тому, кого минуту назад заслуженно хвалил, но…
— Он же буддист!
Майор молчал, хлопая ресницами. Кажется, он еще не понимал.
— Кто дал вам право, майор Куракин, ставить человека в ситуацию, в которой почти наверняка от него потребуется выбирать между долгом по отношению к требованиям его веры и долгом по отношению к делу и соратникам? Вы что, не понимаете, к какой психологической травме это может привести?
Куракин на глазах становился красным, как рак.
— Я уж не говорю об интересах дела. Тарасов — прекрасный сыскарь, спору нет, но при огневом контакте с возможным противником вполне может засбоить. А это не шутки!
У бедняги даже лоб вспотел. А глаза сразу погасли — стали, как у снулой рыбы.
— Виноват, господин полковник, — безнадежно проговорил он.
— Такие мелочи могут дорого стоить. А кандидатура хорошая, давайте перебросим его в «Веди». А на его место поставим, например, Веню Либкина. Я его помню по Тарбагатаю. Отличный боец.
— Он в отпуске, — тихонько сказал Куракин.
— Вообще-то, я тоже в отпуске… Ну да ладно. Пусть кто-нибудь иной, посмотрите сами. Веня тоже устал.
Уселся обратно, подпер гудящую голову обеими кулаками и стал читать дальше.
Список завершал Рамиль Рахчиев, и я снова улыбнулся. Это уж то ли майор хотел сделать мне приятное, то ли мальчик еще вчера, заслышав, что дело отдают мне, загодя напросился сам. Он старался повсюду быть ко мне поближе и, признаюсь, я сам испытывал к молодому крымчаку нечто вроде отцовских чувств. С отцом Рамиля, крупным океанологом Фазилем Рахчиевым, я познакомился восемь лет назад, обстоятельства знакомства не слишком располагали к нежным чувствам, кто-то из экипажа «Витязя», пользуясь тем, что у науки нет границ и корабль заходит в самые разные порты, переправлял на нем разведданные для, как быстро удалось выяснить, иранской спецслужбы — и когда мы сели вражине на хвост, он умело и удачно постарался навести подозрения на Рахчиева, благо тот был единственным мусульманином на судне. Но я не купился, и мы с Фазилем подружились, и я стал желанным гостем в его доме, в крымской деревеньке Отузы.
Блаженно и мечтательно улыбаясь листу бумаги, я свесил голову меж кулаков. Три года подряд мы с Лизой и Полей гостили у них летом, снимали двухкомнатный коттедж с верандой в полуверсте от моря, в уютнейшей Отузской долине, у самого Карадага. Как сладко было ехать в насиженное, быстро ставшее родным местечко — катить по шоссе от Симферополя через Карасу-базар на Феодосию, за Узун-Сыртом поворачивать налево… и на каждом перекрестке пропеченные солнцем крымчаки прямо из распахнутых багажников своих авто наперебой предлагают ледяной кумыс и благоухающие медовые дыни. Море дивное, природа красоты удивительной, на весельной лодочке плавали с визжащей от восторга полькой к шайтановым воротам, в золотом рассветном мерцании поднимались на Карагач, к скалам-Королям, встречать безмятежно всплывающий из-за Киик-Алтама солнечный диск, купались в карадагских бухтах до истомы… а, уложив Полину спать, убегали с Лизой за медовую скалу, в двух шагах от поселка, но уже в дикой, скифской степи, прямо под пахнущими сухой полынью звездами молодо любили друг друга. А по утрам Полушка-толстушка, нахалка такая — в ту пору она действительно была мягко сказать, полновата, это сейчас вытянулась в лозиночку — кралась к хозяйскому дому подсматривать, как знаменитый океанолог, подстелив под колени коврик и повернувшись лицом на юго-восток, оглаживая узкую бороду, что-то беззвучно говорит и по временам бьет поклоны, и, возвращаясь, делала страшные глаза и громогласным шепотом рассказывала: «А потом он делает знаешь как? Он делает вот так! А потом вот так лбом — бум! Совершенно все не по нашему! А губами все время бу-бу-бу! бу-бу-бу! Так красиво! Пап, а если я уже крещеная, я могу стать мусульманкой?» — «Маму спрашивай». — «Мам?» — «Нельзя.» — «Ой как жалко! Ну почему нельзя сразу и то, и то, и то?!» А по вечерам часами сидели за длинным столом хозяйского дома, под виноградными сводами — «немножко кушали», Роза Рахчиева делилась секретами татарской кухни, Лиза — секретами русской и прибалтийской, Фазиль рассказывал про моря, я про шпионов, и кончающий школу, стремительный и сильный, как барс, Рамиль, слушал, думал и выбирал героем меня. Как же он счастлив был, когда после выпуска из училища оказался в Петербурге, со мною рядом.
А после долгого ужина, уложив Поленьку спать, убегали с Лизой купаться по лунной дорожке, и прямо на знаменитой карадагской гальке, или даже в воде…
— Господин полковник!
Куракин осторожно тронул меня за лечо. Я вздрогнул, и тут-то голова моя наконец провалилась между разъехавшимися кулаками.
— А? Что?
— Господин полковник, проснитесь!
4
— Лизанька, доброе утро.
— Саша, милый! Здравствуй! Откуда ты?
От облегчения у меня даже колени размякли. Я присел на стол, чувствуя, что губы сами собой начинают улыбаться. Голосок родной, обрадованный, безмятежный. Все хорошо.
— Представь, я здесь. Но ненадолго.
— Что-нибудь случилось?
И встревожилась сразу по-родному. Не отчуждаясь, а приближаясь ближе.
— Да нет, пустяки. Я заскочу домой на часок. Может ты не пойдешь в Универ нынче… или хотя бы отложишь?
В летнее время Лиза давала консультации по европейским языкам для абитуриентов. Остальной год — там же преподавала, и занятие доброе, и все ж таки еще какие-то деньги. Лишних не бывает.
— Постараюсь. Сейчас позвоню на кафедру.
И ни одного лишнего вопроса, умница моя.
— Как Полушка?
— Все хорошо. Новую сказку пишет вовсю! На тех, кто умел думать только о еде, напал великан-обжора…
— Изящненько. Ох, ладно, что по телефону. Бегу!
— Ты голодный?
— Не знаю, Наверное, да.
— Сейчас распоряжусь. Жду!
Обычно я ходил домой пешком. Монументальные места, дышащие по северному сдержанным имперским достоинством, из всех городов, что я видел, такую ауру излучают лишь Петербург да Стокгольм. Через Дворцовую площадь, под окнами «чертогов русского царя», как писал Александр Сергеевич когда-то, и на выбор: либо через мост к Университету и Академии Художеств, мимо возлюбленных щербатых сфинксов, либо по набережной мимо львов к Синоду, либо через Адмиралтейский сквер и Сенатскую площадь, а дальше опять-таки через мост, Николаевский. Потом, похлопав по постаменту задумчивого Крузенштерна, еще чуток вдоль помпезной набережной и направо, к небольшому, ухоженному особняку в Шестнадцатой линии. Но теперь не было времени, и я вызвал авто.
Я как обнял ее, так и не смог оторваться. Светлая, свежая, нежная, и даже угловатый деревянный крестик из под ее халата вклинился мне в грудь по-родному. Она прятала лицо у меня на груди и стояла смирно, и думала, наверное, о бедных абитуриентах, которые придут к неурочному часу и с раздражением узнают, что занятия перенесены на полдень. Я слышал, как колотится ее сердце, и сам терял дыхание. Скользнул ладонью по ее гибкой спине, потом еще ниже, плотнее прижимая ее тело к своему. Возбуждение этих диких суток сказывалось во всем, Лиза, послушно прильнув бедрами, чуть запрокинулась, подняла порозовевшее лицо, заглядывая мне в глаза, и с задорно утрированным изумлением спросила:
— Ой, что это там такое острое?
На ранний шум из двери ведущего в детскую коридорчика высунулась Поля и, мгновенно срисовав обстановку, с визгом скатилась по лестнице к нам. Скоро маму догонит ростом. Широко распахнула тоненькие руки и загребла в объятия нас обоих. Она с ранних лет очень любила, когда мы обнимаемся, и всегда норовила присоединиться. Иногда даже сама начинала возглавлять: «Что вы ровно брат с сестрой сидите? А ну обнимитесь! Поцелуйтесь!» И когда мы, посмеиваясь, соприкасались губами, восторженно и хищно взвизгивала, с размаху прыгала к нам на колени, одной рукой обнимала за шею меня, другой — маму, и совалась мордашкой к нам, чтобы целоваться а-труа.
Папенька приехал! Папчик! Наш любименький! А я не успела описать сказку! А ты уже отдохнул?
— Да, Полька, — ответил я. — Я уже отдохнул.
— Здорово, мам, правда? Как быстро.
— Долго ли умеючи, — сказала Лиза. У нее было счастливое лиц. Она приподнялась на цыпочки и поцеловала меня в небритый подбородок.
5
Гудок. Гудок. Гудок. Еще гудок. Неужели успела куда-то уйти? Мутное марево сотен приглушенных разговоров и сотен шаркающих шагов висел в громадном зале, время от времени его продавливал шкворчащий голос громкоговорителей, объявляющих рейсы. Невозмутимый доктор Круус, свесив в длинной руке строгий чемоданчик, стоял поодаль и все посматривал на часы. Шалишь, до посадки еще восемь минут. Климов и Григорович из группы «Веди», азартно жестикулируя, что-то доказывали друг другу, присев прямо на ступеньку лестницы, ведущей на второй этаж.
Щелчок.
— Стасенька, алло! Доброе утро!
— Саша! — голос измученный, больной. — Господи, ну нельзя же так! Я всю ночь не спала, ждала, когда ты позвонишь…
Вот тебе.
— А я, наоборот, боялся разбудить, думал — отдыхаешь.
— Да уж, отдохнула, поверь. Врагу не пожелаешь. Ты где?
— В аэропорту. Улетаем сейчас по делам.
— Надолго?
— Точно не знаю, На несколько дней, не больше.
— Ты успел поспать?
— Да, конечно.
— Домой забежал? — вопросы заботливые, а тон чужой. «Повинность исполняю… от сердца улетаю…» Может, это она уже исполняет повинность? При таком тоне можно отвечать лишь, что все в порядке.
— Все в прядке. Забежал, конечно.
— Тебя покормили? В сухое переоделся?
— Все-все в порядке. Ты-то как?
— Да пустяки.
Это могло значить и что сырость опять ударила по бронхам. И что какой нибудь журнал опять задерживает с выплатой, и в доме нет денег. И что угодно. Очень значимое слово «пустяки», когда его произносят так. Но пытать о подробностях бесполезно — не скажет нипочем. Остается либо бессильно гадать до зуда под черепом, либо махнуть рукой, дескать все равно сейчас ничем помочь не могу. Но так вот раз махнешь, два махнешь, три махнешь — и близкий человек становится чужим. А раз погадаешь, два погадаешь, три погадаешь — и сбрендишь. Широкий выбор.
— Стасик, я как только вернусь — сразу позвоню.
— Звони.
— Знаешь, ужасно хотелось забежать прямо посреди ночи…
— Ну и забежал бы.
Я глотнул воздуха.
— Стасик, но ты так ушла в порту…
— Обычно ушла, ногами. Саша, тебе, наверное, уже пора, — она словно разглядела со своего Каменноостровского, что Круус опять отследил время и, тактично не глядя в мою сторону, сделал знак сыскарям, те поднялись, Климов набросил на плечо ремень яркой молодежной сумки с нарисованными на раздутом боку пальмами и девицами в купальниках, Григорович, прядая плечами, поудобнее упокоил на спине старомодный рюкзак. Конспираторы.
Я и не знал, что сказать. От беспомощности слезы наворачивались.
— Береги себя, Сашенька, умоляю, — глухо сказала Стася и повесила трубку.
Тюратам
1
Жара.
Зыбко трепещет горизонт. Степь еще не сожжена, еще не стала мертвенно-коричневой и пыльной, но уже тронута жесткой желтизной. Раскалено бледно-голубое предвечернее небо, ни облачка на нем, лишь темная крапинка ястреба перетекает через зенит.
От Каспия сюда, отсюда к Алтаю, через Алтай в Монголию и дальше, дальше, обрываясь лишь вместе с материком, тянется этот изумительный, не знающий себе равных, раскатанный и утрамбованный тысячелетним солнечным половодьем травяной океан.
Великая степь. Грандиозный котел, кипевший двадцать веков. Сколько раз он выплескивал обжигающие оседлый мир волны! Великая культура, не столько, быть может, по конечным достижениям своим — хотя нам ли, забившимся в тяжелые утесы неподвижных домов, судить об этом, — сколько по своеобразию и по длительности этого своеобразия.
Едет гуннов царь Аттила…
Где-то здесь — ну, может, немного южнее — прошли когда-то те, кто, поначалу залив половину Руси кровью, затем выдержав волну ответной экспансии, давно стал с этой Русью как бы двумя сторонами одной медали, драгоценной медали, которой скупая на призы история награждает тех, кто сумел выжить и сжиться.
Священная земля.
Словно бы в задумчивости отойдя подальше от остальных и улучшив момент, когда на меня не смотрели, я опустился на колени и быстро поцеловал эту сухую и крепкую, как дерево, землю. Поднялся. От ангаров уже шпарил, подпрыгивая на невидимых отсюда неровностях, открытый джип, уже виден был начальник тюратамского гэ-бэ полковник Болсохоев, стоявший в кабине рядом с шофером и отчетливо подпрыгивающий вместе с джипом. Одной рукой он вцепился в ветровое стекло, другой придерживал за козырек фуражку. Я медленно пошел ему на встречу. Джип подлетел и, передернувшись всем телом, остановился, как вкопанный, Болсохоев, с заранее протянутой рукою, соскочил на землю. Мы обменялись рукопожатием.
— Здравствуйте, Яхонт Алдабергенович.
— Здравствуйте, Александр Львович, с прибытием, — он тронул фуражку, до этого, видимо, нахлобученную слишком туго, чтобы не сдуло. — Да, Ибрай вас очень точно посадил. С этого самого места взлетал «Цесаревич». До ангаров триста двадцать метров. Тягач, который выкатил гравилет со стоянки на поле, вел Усман Джумбаев. И по его собственным словам, и по всем свидетельствам — к аппарату он не подходил. Привел тягач из гаража — вон там наши гаражи, слева — не выходя из кабины, дождался, когда зацепят, вывел на поле, дождался, когда отцепят, опять-таки не выходя из кабины, и вместе с техником Кисленко вернулся в гараж.
За разговором мы незаметно подошли к авиетке, доставившей нас из Верного. Я представил Болсохоеву своих людей, притаившихся от солнца в тени небольшого, наполовину остекленного корпуса.
— Я еще нужен, Яхонт Алдабергенович? — спросил молодой пилот, высунувшись из кабины. Болсохоев вопросительно посмотрел на меня. Я жестом отпасовал вопрос обратно к нему.
— Тюратам — вот он, три версты, — сказал Болсохоев, махнув рукой в сторону раскинувшегося к северному горизонту, плавящемуся в мареве массиву белоснежных многоквартирных домов. — Там, — полковник ткнул на юго-запад, — стартовые капсулы, это подальше, верст семнадцать. Но, как я понимаю, нам туда не нужно?
— Пока не нужно.
— Тогда лети, голубчик, — сказал Болсохоев пилоту. Тот кивнул, повел ладонью прощально и втянул голову в кабину. Параболические приемники на гребне авиетки шевельнулись, оживая, уставились в одну точку, и авиетка беззвучно взмыла вверх. Все стремительнее… вот слепяще моргнул отсвет солнца, отраженный каким-то из стекол кабины, вот уже стала темной крапинкой, как ястреб — и пропала.
— Рассказывайте дальше, Яхонт Алдабергенович, — попросил я.
— Степа Черевичный все утро возился в соседнем к «Цесаревичу» гнезде, — кивнув, продолжил Болсохоев. — Один наш поисковик, «Яблоко», третьего дня вернулся с капремонта, а Степа такой придира… Сенсор какой-то плохо реагировал, западал контакт, что ли, и он перебирал схему. До «Цесаревича» ему было шаг шагнуть. Но в ангаре же всегда народ. Другие техники, и вдобавок охранник, выставленный у «Цесаревича» после техосмотра, божатся, что Черевичный из моторного отсека «Яблока» не вылезал. После отлета наследника он там еще часа четыре возился, даже на обед опоздал. Наконец, сам охранник, Вардван Нуриев. Двадцать лет беспорочной службы. В показаниях свидетелей — мельком видевших его техников, рабочих, ходивших туда-сюда, есть конечно, дырки в минуту-две, но в целом все сходятся на том, что вплотную он к гравилету не подходил. И потом: за полчаса до того, как заступить на пост, он пришел на службу, через проходную пришел, с совершенно пустыми руками.
— Взрывное устройство мог ему передать, например, хоть тот же Черевичный. Оно могло быть заранее припрятано, скажем, где-то в «Яблоке». Достаточно полминуты…
— Да, так тоже могло быть. Версий много, но наиболее вероятным представляется иное. Однако, если позволите, Александр Львович, сначала у меня к вам вопрос.
— Ради бога, Яхонт Алдабергенович, ради бога.
— Факт минирования «Цесаревича» абсолютно доказан? — Болсохоев голосом подчеркнул слово «абсолютно». — Не получится так, что мы понапрасну…
— А почему вы спросили, Яхонт Алдабергенович? У вас есть какие-то сомнения?
— Да как сказать… — смущенно пробормотал полковник и вдруг, решившись, выпалил: — Не то что сомнения, а просто в голове не укладывается!
Круус понимающе поджал губы и отвел взгляд, сокрушенно кивая. Климов хмыкнул, терзая желтыми зубами дешевую папироску зловещего вида. Григорович, прикрываясь от солнца ладонью, следил за ястребом, вязнущим в белой синеве.
— Вот мы с вами говорим сейчас, будто о чем-то довольно заурядном, дело как дело… а чувствую я себя как в бреду, как в сне кошмарном! Вот так вот за здорово живешь грохнуть пять человек — и, мало того, Александра Петровича! Его же все любили тут… Может, просто все-таки несчастный случай?
— Увы, Яхонт Алдабергенович, — ответил я. — Формально еще не доказано, но физики уверяют, что мотор никак не мог дать взрыва. Я утром в Краматорск специально звонил, говорил с тремя инженерами гравимоторного завода — нет. Все, как один: нет. Ну, а что до факта — мои люди спозаранку вылетели в Лодейное Поле, чтобы тщательно осмотреть собранные фрагменты корабля. От вас попробуем позвонить туда — может, что-то уже установили.
Болсохоев помолчал.
— Ну тогда в машину, что ли? — сказал он угрюмо. — Едем к ангарам?
Не торопясь, мы двинулись к джипу. Первым сообразил Климов:
— Не поместимся.
— Да, действительно, — Болсохоев даже сбился с шага. — Простите… я одного вас ждал, Александр Львович. Что-то мне не так передали.
— Идемте пешком все вместе, — предложил я. — Как раз по дороге успеете окончательно обрисовать ситуацию.
Болсохоев с готовностью кивнул и сделал ждавшему в джипе шоферу освобождающий жест рукой. Джип, тихонько урчавший на холостом ходу, начальственно рыкнул и прыгнул с места, круто развернулся, кренясь и пружинисто подскакивая, и понесся к гаражам.
— Подозрения прежде всего падают на Игоря Фомича Кисленко только лишь потому, что он, в отличие от перечисленных мною троих, исчез бесследно сразу после отлета «Цесаревича», — заговорил Болсохоев. — С другой стороны, он дважды на протяжении последних минут перед взлетом оставался с аппаратом практически наедине — ни из аппарата, ни из тягача его не было видно. В ангаре он один зацепил за носовые крючья два буксировочных троса, тут его, правда, мог видеть охранник. Охранник за этой операцией в действительности не следил, но Кисленко этого знать не мог. Проходивший мимо механик Гущин видел мельком, как Кисленко возится со вторым тросом, но ничего подозрительного в его действиях не заметил, мы беседовали с Гущиным очень тщательно. И, наконец, самый вероятный момент — отцепление тросов. Это две-три минуты, и вокруг — никого. Магнитную, например, мину, пришлепнуть где-нибудь у кормы — секундное дело, если знать, где ей не угрожает быть сорванной воздушным потоком. Кисленко, опытнейший технарь, такое укромное место, безусловно, мог придумать.
Действительно, было во всем этом что-то от кошмарного сна. В разговоре то и дело мелькало: опытнейший технарь, беспорочная служба, проверенный человек, надежный работник… И ведь иначе и быть не могло — Тюратам! А в то же время семь ни в чем не повинных людей погибли страшной смертью.
А каково сейчас великой княгине Анастасии? Красавица, умница, настоящий друг, мне довелось танцевать с нею на последнем рождественском балу — как она ловила взгляд мужа!
Каково было бы Лизе или Стасе, если бы меня…
А — мне, если бы ее или ее?
До чего же беззащитно человеческое тело! Даже лаская, можно ненароком сделать больно, что уж говорить о намеренном вреде. Как эта божественная капелька нуждается в опеке, в заботе, сколько ослепительно прекрасных чувств и поступков висит на волоске, в полном рабстве у тонюсенькой кожицы, у ничтожных грязных бляшек на стенках сосудов, у какой-то там синовиальной жидкости, у потайной капели гормонов — беречь, беречь друг друга, помогать и прощать, пестовать, как больных, ведь все мы больны этой плотью, хрупкой, как раковина улитки и жадной до жизни, как жаден до солнца зеленый лист. Иначе просто не выжить!
— А что, собственно значит — исчез? — спросил я.
— Исчез — это исчез, и все тут, — вздохнул Болсохоев. — Вскоре после отлета пошел домой обедать — он живет тут относительно неподалеку, на ближней окраине Тюратама: от остановки автобуса, который ходит между аэропортом и городом, ему ходу минуты три, поэтому и обедал он обычно не в столовой, а дома… И тут — сообщение получаем из столицы. Ну пока раскрутились, час прошел, не меньше. Туда, сюда — нет Кисленко. Все под рукой, а его, как у вас в России говорят — будто корова языком слизнула. С работы ушел, домой не пришел. Мы на вокзал, на автовокзал, в пассажирский аэропорт, всем кассирам, всем постовым суем фотографию — нет, не помнят. Конечно, это не гарантия — мог проскочить, и его не запомнили, или на попутных удрал, да мало ли… Но — странно все же. И ведь, какая тут еще несуразица — он, как обыск показал, перед тем, как из дому на работу идти в то утро, все документы уничтожил.
— Как это? — опешил я.
— Водительские права сжег — корочки обгоревшей кусок нашли в пепельнице, и все. Над паспортом куражился, будто озверел — рвал по странице и жег, орла изрезал ножиком и тоже подпалить хотел, но обложка обуглилась только, жесткая… В той же пепельнице еще зола, уж не поймешь, от чего.
— Как же он на работу попал?
— Пропуск, значит, сохранил.
— А вы этот пропуск по городу поискать не пытались? В мусоре, в урнах… и просто так, на тротуаре каком-нибудь, на лестнице?
— Признаться, нет.
— Если быть логичным, он, сразу после дела, должен был избавиться и от последнего из столь ненавистных ему документов. Скажем, прямо в автобусе швырнул под сиденье и еще каблуком потоптал… или в канаву на обочине. Нет, пожалуй, не найти, если в канаву. А в автобусе — пожалуй, найти, Яхонт Алдабергенович! И в урне найти!
Он с сомнением покачал головой. Зато Круус удовлетворительно засопел, закивал.
— А в больницах вы искали его?
— А как же! Все три стационара, все травмопункты, профилакторий… даже в моргах смотрели. Нету. И происшествий никаких не было — ни драки, ни наезда, ни убийства, ни несчастного случая. То, что после дела его кто-то ликвидировал, мы сразу подумали. Нигде ничего.
— Да, понимаю. Но… я имел в виду кое-что иное. Психиатрическая есть в Тюратаме?
Болсохоев удивленно покосился на меня.
— Нет.
— А пункты неотложной наркологической помощи?
— Как же не быть, семь штук. Нет-нет, да и попадется пьяненький… да и дурь просачивается иногда из Центральной Азии. Думаете, техник первого ранга Кисленко, пустив на воздух наследника российского престола, так напоролся на радостях в ближайшей подворотне, что даже до дому не дошел и вот уж сутки прочухаться не может?
— Не совсем так. Но вот что мне покоя не дает. Преступление, которое выглядит не мотивированным, совсем не обязательно должно иметь неизвестный нам мотив. Оно и на самом деле может оказаться не мотивированным.
За спиной у меня опять раздалось удовлетворенное сопение Крууса. Болсохоев обескураженно провел ладонью по лицу.
— Упустил, — признался он. — Не пришло в голову. А ведь верно: Асланов, последним видевший Кисленко накануне, обмолвился, что тот был как бы не в себе!
— Вот видите. Надо будет очень тщательно поговорить со всеми, кто его видел в последние сутки перед катастрофой. И с его домашними. Есть у него домашние?
— Жена и мальчишек двое.
— Значит, и с женой. Теперь вот что, — до ангаров оставалось совсем немного, и я хотел покончить с этим щекотливым для меня вопросом, пока вокруг минимум людей. — Мне сказали, что Кисленко — коммунист.
— Да.
— Давно?
— Двенадцать лет.
— Кто принимал у него обеты?
— Алтансэс Эркинбеква, — голос Болсохоева приобрел уважительный, едва ли не благоговейный оттенок.
— Здесь, в Тюратаме?
— Да.
— Нам с нею нужно будет поговорить.
— Это невозможно, Александр Львович. Три года назад она умерла, — Болсохоев испытующе покосился на меня, видимо размышляя, как я сообразил секундами позже, не сочту ли я то, что он собирался сказать, за неуклюжую попытку подольстится к столичной штучке — ему, конечно, сообщили уже, что эмиссар центра по вероисповеданию является товарищем подозреваемого — а потом решительно закончил: — Хоронили всем городом, как святую.
— В таком случае, нужно будет поговорить с нынешним настоятелем Тюратамской звезды, — невозмутимо сказал я.
Разговор прервался. Последние три десятка метров мы прошли молча, распаренный северянин Круус, не в силах долее сдерживаться, то и дело вытирал лицо просторным, чуть надушенным платком. Открыв перед нами дверь административного флигеля, Болсохоев, пряча глаза, пробормотал невнятно:
— И все-таки, знаете… Кисленко был непьющий.
2
В кабинете начальника охраны аэродрома, где мы временно обосновались, было сравнительно прохладно, шелестел и поматывал прозрачно мельтешащей головой вентилятор. Крууса в сопровождении одного из местных работников, молодого ротмистра-казаха, явно счастливого тем, что ему выпало участвовать в расследовании столь поразительного злодеяния, я отправил по наркопунктам, Григоровича — домой к Кисленко, наказав осмотреть все доскональнейше не просто так, а именно на предмет поиска других следов аномального, алогичного поведения подозреваемого, уж больно меня насторожили эти горелые документы, Климову велел осмотреть рабочее место Кисленко в поисках любого тайника, либо следов изготовления мины. Трое ребят Болсохоева двинулись, бедняги, за пропуском — нудная и малоперспективная работа, но пренебрегать нельзя было ничем. Кабинет опустел — остались сам Болсохоев да я. Он, отдуваясь, чуть вопросительно покосился на меня и расстегнул китель, потом верхнюю пуговицу рубашки. Уселся напротив вентилятора, сокрушенно покачивая головой от всех этих дел, и на какой-то миг показался мне удивительно похожим на вентилятор — такое же круглое, плоское, понурое и доброе лицо. Только от вентилятора веяло свежестью, а от Болсохоева — жаром. Я вытер потный лоб тыльной стороной ладони, присел на край стола возле телефонов, положил руку на трубку.
— Вот еще что я хотел спросить вас, Яхонт Алдабергенович.
— Слушаю вас, Александр Львович.
— Собственно, если бы что-то было, вы бы мне сами сказали… Не было ли каких-то попыток помешать работе на столах, или… каких-то покушений на занятых в «Аресе» специалистов…
— Конечно, сказал бы, — ответил Болсохоев. — Это — буквально первое, что и мне пришло в голову. А раз первое — значит, неверное, так весь мой опыт показывает. Ничегошеньки, Александр Львович. Чисто. Если бы было, я бы знал… и все равно сразу поговорил на эту тему и с начальником охраны космодрома, и с молодцами, отвечающими за безопасность ведущих специалистов. Ничего. Ни шантажа, ни подметных писем, ни покушений, ни диверсий. Это не «Арес».
— Откровенно говоря, я тоже так думаю, — проговорил я и поднял трубку. Набрал на клавиатуре код Лодейного Поля, потом номер телефона, потом сразу — код, включающий экранировку линии. Посредине клавиатуры зажглась зеленая лампочка, и в трубке тоненько, чуть прерывисто засвистело — значит, разговор пошел через шифратор, и подслушивание исключено.
Повезло. Подошел сразу Сережа Стачинский из группы «Аз».
— Это Трубецкой. Что у вас, Сережа? Смотрелись?
— Так точно, Александр Львович, все правильно, никаких сомнений. Диверсия.
Так. Я на секунду прикрыл глаза. Ну, собственно, никто и не сомневался. И все-таки прав Болсохоев — не укладывается в голове. Раздвоение личности: уже семнадцать часов занимаюсь преступлением, а в глубине души до сих пор не могу поверить, что это действительно преступление, а не несчастный случай.
— Вы уверены? — все-таки вырвалось у меня. Стачинский помедлил.
— Господин полковник, ну не мучайте себя, — проговорил он мягко. — Сомнений нет.
— Какая мина? Чья? Удалось установить? — я забросал его вопросами, и тон, кажется, был немного резковатым — но мне очень не хотелось выглядеть раскисшим.
— Фрагменты, конечно, в ужасном состоянии, — ответил Стачинский. — Мы перевезем их в Петербург и все осмотрим еще раз в лаборатории. Но предварительное заключение такое: мина-самоделка, кустарного производства. Патрон с жидким кислородом плюс кислотный взрыватель плюс магнит плюс обтекатель. Все гениальное просто. Такой пакостью нас всех можно извести, ежели поставить это дело на поток. Нашлепнута была под левым параболоидом тяги — параболоид сбрило в долю секунды, гравилет сразу закрутило вдоль продольной оси… в общем, вот так.
— Понятно, — сказал я. Голос чуть сел, я кашлянул осторожно.
— Что? — не понял Стачинский.
— Ничего, Сережа, это я кашляю. Горло перехватило от таких новостей. Когда вы в Петербург намерены двигаться?
— Часа через три. Я только что закончил осмотр. Сейчас начинаем паковаться — уложимся и вылетаем сразу.
— Вы уж там… Осмотрите корабль перед вылетом.
— Тьфу-тьфу-тьфу. Правда, собственной тени пугаться начнешь. Адово душегубство какое-то.
— Еще вопрос, Сереженька. Сколько времени нужно, чтобы укрепить такой гостинец на обшивке?
Стачинский хмыкнул.
— Две с половиной секунды. Секунда, чтобы запустить руку за пазуху или в висящую на плече сумку, секунда, чтобы вынуть, и полсекунды, чтобы, поднявшись на цыпочки, сделать «шлеп!».
— Понял, — опять сказал я. — Ладно… Как там погода?
— Спасибо, что хоть не льет. А у вас?
— А у нас — льет с нас, — ответил я. — Ну, счастливо. Если в лаборатории что-то выяснится дополнительно — звони. Я пока обратно не собираюсь.
Повесил трубку и поднял глаза на смирно ждущего Болсохоева — тот жмурился, подставляя лицо вентилятору, волосы его, черные и жесткие, ершились и танцевали в потоке воздуха.
— Ну вот, — сказал я. — Взрывное устройство, которое мог бы собрать и ребенок. Хорошо, что у нас так редки дети с подобными наклонностями. Кислородный патрон и кислотная капсула.
Болсохоев открыл глаза и опять удрученно покивал. Потом вдруг встрепенулся, чуть косолапя — видно, ногу отсидел — подбежал к телефону и сдернул трубку. Я отодвинулся, чтобы не мешать. Болсохоев набрал какой-то короткий номер и, дождавшись, когда там поднимут трубку, темпераментно заговорил по-казахски. Я отодвинулся еще дальше, тут уж я, черт бы меня побрал, не мог сказать даже «дидад гмадлобт». Отвратительное ощущение — безъязыкость, сразу чувствуешь себя посторонним и ничтожным. Болсохоев делал виноватые глаза, а, улучив момент, прикрыл микрофон рукою и шепотом сказал:
— Извините, Александр Львович. Сегодняшний дежурный по складу не понимает по-русски.
— Оставьте, Яхонт Алдабергенович. Это не он не понимает по-русски, а я не понимаю по-казахски. К сожалению. Я к вам прилетел.
Болсохоев чуть улыбнулся, уже слушая, что ему говорят оттуда. Потом что-то сказал, кивнув, и повесил трубку. Помолчал. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга.
— Не далее как позавчера Кисленко получал на складе жидкий кислород. Восемнадцать патронов. На вчерашний день планировался длительный сверхвысотный полет экологического зонда «Озон», это для него.
— Надо проследить судьбу каждого патрона, — сказал я. — Не мог ли кто кроме…
— Проследим, — ответил Болсохоев. Помедлил. — Да он это, он, Александр Львович.
— И выяснить, кто дал Кисленко приказ на получение кислорода и когда, — я снова потер лоб. — Ох, вижу, что он… Давайте свидетелей Яхонт Алдабергенович. И первым — того, кто видел, что Кисленко «как бы не в себе».
Наладчик Асланов показал, что позавчера, то есть в день накануне катастрофы, он встретил Кисленко у проходной. Видимо, тот возвращался из дома после обеда. Он стоял у внутреннего выхода, уже на территории аэродрома, и разглядывал собственный пропуск, очевидно, только что предъявленный охраннику. Асланов пошутил еще — дескать, себя на фотографии узнавать перестал, стареешь — толстеешь? Кисленко поднял на него глаза, и они были какие-то странные, погасшие и тупо-недоуменные, словно техник и Асланова, старого своего приятеля и неизменного партнера по домино и нардам, не узнал, вернее, не сразу узнал, а с трудом вспомнил. Асланова поразило лицо Кисленко — оно было усталым и то ли ожесточенным, то ли горестным. «Я было подумал, у него по меньшей мере жена при смерти», — сказал Асланов. Впрочем, это выражение мгновенно пропало, Кисленко овладел собой. Он как-то невнятно отшутился — Асланов даже не запомнил, как именно — но произнес непонятную, запомнившуюся фразу: «С ума все посходили, что ли…» Асланов, слегка обидевшись, попросил уточнить, но Кисленко, видимо, уже окончательно очнувшись, засмеялся, хлопнул его по плечу и сказал: «Это я о своем». Потом пошел к ангарам. Отзыв о Кисленко в целом — самый положительный: отличный товарищ, прекрасный работник, настоящий коммунист.
Электротехник Чониа показал, что вечером того же дня застал Кисленко в мастерской, тот что-то вытачивал на токарном станке. Кроме него, в помещении никого уже не было. Чониа, зашедшему в мастерскую случайно, в поисках потерянной записной книжки — он нашел ее позже совсем в другом месте, в столовой — показалось, что Кисленко был смущен и обеспокоен встречей. Чониа ни о чем его не спрашивал, но Кисленко сам пустился в объяснения: дескать, варганит сынишке подарок ко дню рождения… Между прочим, у сыновей Кисленко дни рождения в ноябре и в марте. Но в ходе разговора Чониа об этом не вспомнил — он был озабочен потерей и быстро ушел. Отзыв о Кисленко в целом — самый положительный: такого справедливого, отзывчивого, всегда готового помочь человека редко встретишь.
Сразу трое свидетелей показали, что в утро перед катастрофой Кисленко выглядел сильно возбужденным. Но значения этому не придали тогда — все были в приподнятом настроении, зная, что предстоит встреча с великим князем, человеком, которого, как я лишний раз убедился, все здесь глубоко уважали. Зато, вернувшись с поля на тягаче, Кисленко преобразился — из него будто пружину какую-то вынули, он оглядывался, как бы не очень хорошо понимая, где он и что здесь делает. Вздрагивал от малейшего шума, когда к нему неожиданно обратились сзади, вскрикнул. Впрочем, он почти сразу ушел. Обедать, так решили все. Отзывы о Кисленко — самые положительные.
В обогатитель регенерационной системы готового к полету «Озона» были установлены все восемнадцать патронов. Запуск был сорван лишь начавшейся в связи с гибелью «Цесаревича» суматохой. Элементарная проверка показала, что один из установленных патронов — пустой, уже отработанный. Устанавливал патроны Кисленко. Накладную на получение кислорода подписал начальник метеослужбы космодрома Сапгир. Полеты такого профиля были довольно обычной практикой: метеорологи тщательно следили за состоянием атмосферы на различных высотах над Тюратамом, пытаясь однозначно выяснить, влияют на нее губительным образом, или все-таки нет, запуски больших кораблей.
Около восьми вечера мы с Болсохоевым позволили себе прерваться и выпить по стакану кофе с бутербродами. Но не успел я и первого глотка спокойно проглотить, как посыпались очередные новости.
Вернулись ребята Болсохоева и гордо протянули Яхонту Алдабергеновичу пропуск Кисленко. Они нашли его в одном из рейсовых автобусов, ходивших от аэродрома к городу и обратно, нашли бы и раньше, но как на грех, как раз сегодня этот автобус не вышел на линию, что-то там было не в порядке с коробкой передач. Пропуск валялся на полу под одним из сидений, полуприкрытый отставшей от металлического днища резиновой подстилкой. Он был совершенно цел, очевидно, Кисленко над ним уже не упражнялся. Прихлебывая кофе, я со скорбным удивлением рассматривал лицо на фотографии — обычное лицо славного человека средних лет, испуганно-напряженное, как это всегда бывает на фото в служебных документах, с близорукими морщинками у глаз, с небольшой родинкой на левой щеке, с мягкими губами, под левый параболоид этот человек поставил мину. Не понимаю, думал я, не понимаю. «С ума все посходили, что ли…» Не понимаю. И тут явился Григорович — ничего не нашедший Климов пришел еще раньше и тихо стушевался в углу, у открытого окна, тет-а-тет со своими жуткими папиросами. Григорович тоже ничего не нашел — никаких иных странностей, кроме обгоревших корочек документов. И жена Кисленко, уже не на шутку встревоженная исчезновением мужа и нашей активностью, ничего интересного не смогла для него припомнить. Правда, в ночь перед катастрофой Кисленко почти не ложился, она оставила его в кабинете, с непонятной пристальностью изучавшего позаимствованный у старшего сына школьный учебник «История России в новое время» — почитает с каким-то изумлением, поднимает глаза, шевеля губами, потом опять почитает. Но разве все это предосудительно?
А в целом он был, как всегда. Очень усталый только. Очень. Опустошенный какой-то. Но она решила, что просто было много работы в связи с отлетом наследника, и ничего спрашивать не стала.
Одну странную фразу он сказал ей, и от этой фразы теперь, задним числом, можно было белугой завыть. Уже уходя поутру на работу в день катастрофы, чмокнув жену в щеку, он улыбнулся как-то необычно жестко и проговорил: «Ну ладно. Буду отдуваться за вас за всех, чистоплюев блаженненьких. Жаль, до самого мне уж не дотянуться». Она спросила, что он имеет в виду — а он не ответил.
Я снова нацелился было на свой бутерброд, и позвонил телефон. Болсохоев снял трубку, алекнул, послушал и протянул трубку мне.
— Круус, — сказал он.
— Трубецкой, — произнес я в трубку.
— Мы нашли его, — от явного волнения Круус сильнее обычного растягивал свои каучуковые эстляндские гласные. — Приезжайте, это пятый пункт неотложной наркологии. Кисленко очень плох. И хуже всего то, что я не понимаю, что с ним.
3
Кисленко нашли около двух часов дня на улице, неподалеку от остановки автобуса аэродром — город, но не той, на которой он обычно выходил, а двумя позднее, похоже, свою он просто-напросто проехал. Видимо, в автобусе ему стало худо, он начал терять разумение — но еще выбрался как-то, добрел до укромной, притаившейся на бережку арыка, в тени карагачей, скамейки, и тут окончательно потерял сознание. В какое время это было — точно сказать невозможно, Тюратам — город рабочий, днем на улице редко кого встретишь. Набрели на Кисленко два гимназиста, шедшие домой после занятий. Кликнули городового. Вот картина: завалившись набок, сидит на лавочке человек, изо рта — струйка слюны, припахивает спиртным, брюки мокрые, моча. Конечно, городовой решил, что человек пьян до утери человеческого облика. Вызвал «хмелеуборщиков». Те, хоть случай и редкий, особливо рефлектировать не стали, привезли на пункт, сделали промывание желудка, укол и оставили просыпаться. Во время перевозки Кисленко бормотал что-то, как бы бредил, но кто же прислушивается в таких случаях? Правда, один санитар, из молодых, видно, ему все это еще в новинку казалось, зафиксировал на редкость, с его точки зрения, нелепую фразу — нелепостью своей она в память и врезалась. Неразборчиво пробубнив что-то насчет, как он непонятно выразился, «демогадов», Кисленко вдруг очень ясно сказал: «Народу жрать нечего, а вам тут обычных начальников мало, еще и царей опять развели…»
Двое других подтвердить показания молодого коллеги не взялись, но один неуверенно покивал: да, про царя что-то было, но что именно — не отложилось.
Лишь утром врачи забеспокоились всерьез — Кисленко не приходил в себя, уже он явно не спал, а был без сознания, и по временам дико вскрикивал. Взяли анализы. Следов употребления наркотиков не обнаружили, следы алкоголя — в минимальном количестве. Столь гомеопатическая доза никак не могла вызвать подобный эффект. Наверное, так я подумал, Кисленко просто хлебнул граммов полста для храбрости перед самым делом или сразу после него, чтобы расслабиться. Не более. Но расслабиться у него не получилось.
Его пытались привести в себя. От средств самых элементарных, вроде нашатыря, до сложных комплексных уколов — все перепробовали, и все тщетно. Пытались установить личность, но документов никаких не обнаружили, а когда, постепенно начав соображать, что случай очень уж нетривиальный, затеребили городское полицейское управление, тут уже и Круус приехал.
— Для очистки совести я повторил все анализы, — рассказывал Круус, а я вглядывался в запрокинутое, иссохшее, уже покрытое седоватой щетиной лицо Кисленко на подушке. Оно было так не похоже на фотографию в пропуске… Словно техник прошел через какую-то катастрофу, через жуткую, средневековую войну, где сдирают кожу с живых, где младенцев швыряют в пламя. Время от времени губы его беззвучно шевелились. Свет настольной лампы, стоявшей на стандартной больничной тумбочке у изголовья, вырубал из лица резкие черные тени, они казались пробоинами. — Ничего, чисто. Никаких следов психотомиметиков, галлюциногенов, препаратов, увеличивающих внушаемость… Вообще никаких препаратов, кроме тех, что ему вводили здесь. Памятуя вашу имплицитно высказанную гипотезу, я пытался разблокировать ему память, — губы Крууса слегка задрожали. Засунув руку куда-то глубоко под явно с чужого плеча белый халат и повозившись на груди, он извлек свой просторный носовой платок и вытер лицо. Мельком я отследил, что платок уже выдохся. Пахло медикаментами, пахло влажным кафельным полом, пахло мучающимся на постели человеческим телом — но духами не пахло. — И тут, Александр Львович, я едва не оказался на соседней койке надолго.
— Что такое?
Круус упихал платок обратно.
— Он пришел в себя. Он открыл глаза, он сел на постели. Помню, я еще успел обрадоваться — мол, все идет хорошо, сейчас начнем разбираться… И тут он закричал: «Нет! Не хочу! Он ведь живой! Он мне улыбается!» Признаюсь вам, такой муки, такого отчаяния я не наблюдал никогда в жизни. Он попытался соскочить с постели. Его с трудом удерживали двое санитаров. Тогда он стал кричать: «Убейте меня!» И я, отчасти от испуга, а отчасти желая хоть как-то успокоить его, притупить его очевидные, хотя совершенно непонятные мне страдания, поспешил погрузить его в сон. Успокоительный, релаксационный сон.
— Его крики вы как-то фиксировали?
— Все на диктофоне. И еще там — фраза, которая, без сомнения, пополнит и украсит ваш список странных фраз, произнесенных Кисленко за последние сутки. Заснул он мгновенно, но поначалу спал беспокойно, метался, и словно бы боролся с кем-то. И вдруг внятно рявкнул: «Да что ж ты женщину-то!.. Омон хуев, кого защищаешь? Они, Иуды, Россию продают, а вы тут с дубинами!» Потом беззвучно еще что-то пробормотал — я пытался читать по губам, но смысла не уловил — и вдруг тихонько так, беспомощно: «флаг, флаг выше… пусть видят наш, красный…» И уже потом — все.
У меня даже зубы скрипнули. «Тихонько», «беспомощно» — что же происходит? Бедный, бедный человек!
Как это сказал Ираклий? «Найди их и убей.» Вот, нашел.
— Омон, — медленно повторил я незнакомое слово.
— Что значит это слово, я не знаю, — сразу сказал Круус. Черт боднул меня в бок.
— А что значит следующее за ним, знаете?
Круус с достоинством поджал губы.
— Пф! Али я не россиянин? — спросил он со старательным волжским поокиванием.
— Ну, хорошо, хорошо. Вольдемар Ольгердович, извините. Вы уверены, что правильно расслышали?
— Кисленко отчетливо окает, сильнее, чем я сейчас изобразил. Сомнений быть не может. Два «о» и ударение на последнем слоге.
— Может, что-то блатное? Надо будет проконсультироваться у кримфольклористов… Хотя откуда технику Кисленко знать?..
— Возможно, имя? — предположил, в свою очередь, Круус. — Это было бы очень удачно. Хотя… — как и я, оборвал он себя, — тогда почему дальше идет множественное число: «с дубинами»?
— Как вы насчет перекурить, Вальдемар Ольгердович? — спросил я.
— Охотно. Мне это помещение уже несколько… — он не подобрал слова, и даже не стал напрягаться, чтобы закончить фразу — и так все было понятно.
— Я тут посижу, — подал голос Болсохоев. В комнате умещалось семь коек, и все они были свободны — за исключением той, на которой страдал в своем непонятном забытьи Кисленко. Полковник, сцепив пальцы и сгорбившись, сидел на соседней сиротливо и грустно. — Вдруг он еще что-нибудь скажет.
Мы вышли в коридор. Прошли мимо виновато глядевших медиков — один тут же нырнул в дверь за нашими спинами, Круусу на смену, прошли мимо заплаканной жены Кисленко, когда-то видимо, красивой, но уже сильно расплывшейся таджички — Круус, собрав губы трубочкой, чуть покачал головой отрицательно в ответ на ее отчаянный взгляд.
Наркопункт был упрятан в глубине небольшого, но плотного и пышного скверика, и рыжий свет уличных фонарей сюда не долетал. Мы отошли за угол, чтобы не била в глаза резкая лампа над входом, и уселись на скамейку во мраке, под громадными звездами, лезущими с бархатного неба сквозь просветы в узорных линиях чинар.
У Крууса дрожали руки, я дал ему огня. Затлели оранжевые огоньки.
Было тихо.
— Гипнотическое программирование? — спросил я.
— Я понимаю, — неторопливо заговорил Круус, — вас, как не специалиста, все наводит на эту мысль. Действительно, нам известны отдельные случаи, когда преступники, для того, чтобы осуществить какие-то короткие акции чужими руками, руками случайных людей, на которых и подозрение-то пасть не может, прибегают к этому изуверскому приему, — он нервно затянулся, и это движение представляло собою решительный контраст деланному спокойствию речи. — Как это происходит? Вначале человек подвергается форсированному внушению, как правило, с предварительным введением в организм препаратов, облегчающих эту операцию. С едой, с питьем, или — аэрозоль… Скажем, гексаметилдекстрализергинбромиды, или что-то в этом роде, неважно. Важно то, что их следы можно обнаружить в организме еще недели через две-три после введения — а я их не обнаруживаю. А еще неделю назад никто — это вы мне сами сказали — не знал, что великий князь соберется в Петербург. Дальше. О полученном внушении человек не помнит и живет себе припеваючи. Но в определенный момент, под воздействием какого-то заранее введенного в программу детонатора — кодового слова, открытки с определенным изображением, появления человека с определенной внешностью, наконец, просто специфического боя часов, был такой случай — на некоторый промежуток времени человек превращается в робота и совершает ряд некоторых, строго заданных действий. Его способность к их варьированию в зависимости от конкретной ситуации минимальна.
— Вы хотите сказать, что для того, чтобы Кисленко собрал кислородную мину, именно этот тип мины должен был вложить ему в подсознание преступник?
— Совершенно справедливо, — кивнул Круус.
— Значит, преступник должен был заранее знать, что накануне отлета «Цесаревича» Кисленко получит на складе кислород?
— Бесспорно.
— Но решение о запуске пилотируемого зонда «Озон» было принято на несколько дней раньше, чем стало известно об отлете «Цесаревича».
— Вот видите, опять нестыковка. Но самое главное дальше. Исполнив программу — передав, скажем, пакет кому-либо, установив мину, да, мину, были прецеденты — «пешка» ничего о своих действиях не помнит и опять живет припеваючи. И даже если доходит дело до допросов, отрицает все с максимальной естественностью. Я ни разу не слышал, чтобы программа конструировалась иначе, для преступников это самый привлекательный вариант. При разблокировании памяти, если оно удается — мне оно, как правило, удается, — скромно вставил Круус, — «пешка» вспоминает о том, что совершила в бессознательном состоянии и иногда даже вспоминает саму операцию внушения. Хотя реже, здесь стоят самые мощные блоки… А в данном случае, прошу заметить, все наоборот. Кисленко почти за сутки до преступления выглядит, словно очнулся в незнакомом мире. Но выглядит он вполне осмысленно, просто недоуменно — а «пешка» выглядит, наоборот, туповато, автоматично, но ничему не удивляется. Затем Кисленко быстро адаптируется, вся его память в его распоряжении, и ведет себя не только осмысленно, но и, простите, находчиво — из явно случайно подвернувшихся под руку материалов мастерит взрывное устройство.
— Может, все-таки Сапгир, или кто-то из высших начальников администрации аэродрома? — совсем теряя почву под ногами, беспомощно предположил я. — Они ведь знали о планируемом полете «Озона»…
Но не о близком отлете «Цесаревича», тут же одернул я себя. Об этом никто не знал. Великий князь принял решение лететь внезапно — понял, что может позволить себе выкроить пару дней.
— Дальше, — не слыша меня, вещал Круус. — Совершив акцию, он, вместо того, чтобы забыть о ней и стать нормальным, становится еще более ненормальным. Фактически, он находится в шоке и, вероятнее всего, именно от содеянного. Когда я пытаюсь разблокировать ему память, вместо того, чтобы вспомнить преступного себя, он, судя по его дикому крику «Не хочу! Он живой!», становится прежним, обычным собой, добрым и славным человеком, который теперь не может жить с таким грузом на совести. Когда я оставляю его в покое, он продолжает бороться непонятно с кем, пребывая в каком-то иллюзорном мире. Что это за мир, по нескольким обрывочным фразам сказать нельзя, но, уверяю вас, в теле Кисленко поселился сейчас кто-то другой. И с прежним Кисленко они ведут борьбу не на жизнь, а на смерть.
— Шизофрения… — пробормотал я. Круус пожал плечами. — А документы? — вспомнил я. — Почему он жег документы?
— Что я могу сказать? — снова пожал плечами психолог. — Надо вести его в Петербург — там, во всеоружии, попробуем разобраться. И надо спешить. Он буквально на глазах сгорает.
Из тишины донесся стремительно накатывающий шум авто. Торопливый, низовой свет фар лизнул нежную кожу деревьев — зеленоватые днем стволы вымахнули из тьмы мертвенно-белыми призраками и спрятались вновь. Отбросив окурок, я встал посмотреть, кто подъехал.
Как я и ожидал, это был Григорович. Отъезжая с аэродрома сюда, я послал его побеседовать о Кисленко с настоятелем здешней звезды коммунистов. Беседа ничего нового не дала. Замечательный человек, честный, щепетильно порядочный, всегда буквально рвущийся помочь и защитить. Мухи не обидит. После смерти Алтансэс Эркинбековой был одним из кандидатов на тюратамского настоятеля. Едва-едва не прошел.
— Да, — сказал я с тяжелым вздохом, — здесь больше делать нечего. Конечно, пощиплем версию с начальником, но… Доктор, перелет нашему страдальцу не повредит?
Круус долго отлавливал свой платок. Добыл наконец. Вытер губы. Потом лоб.
— Понятия не имею, — ответил он затем.
Снова Петербург
1
Ее я любил совсем иначе. Она была, как девочка: наверное, такой и пребудет. И поначалу, долго, я словно бы ребенка баюкал и нежил, а она доверялась и льнула, но в некий миг, как всегда, эта безграничная мужская власть над нежным, упругим, радостным, вдруг взламывала шлюзы, и я закипал, а она уже не просто слушалась — жадно подставлялась, ловила с ликующим криком, и я распахивал запредельные глубины и выворачивался наизнанку, тщась отдать этой богонравной пучине всю душу и суть, и действительно на миг умирал…
Спецрейсом мы вылетели ночью и, немного догнав солнце, оказались в Пулково глубоким вечером. Прямо с аэровокзала я позвонил Стасе — никто не подошел. И теперь, хотя, прежде чем вернулось дыхание, вернулось, опережая его, грызущее беспокойство о ней не расхворалась ли, где может быть в столь поздний час, исправен ли телефон — я был счастлив, что поехал на Васильевский.
— Родненький…
— Аушки?
— Ненаглядный…
— Да, я такой.
— Ты соскучился, я чувствую.
— Очень.
— Как мне это нравится.
— И мне.
— Как мне нравится все, что ты со мной делаешь!
— Как мне нравится с тобой это делать!
— Может, ты поесть еще хочешь? Ты же толком не ел весь день!
— Я люблю тебя, Лиза.
— Господи! Как давно ты мне этого не говорил!
— Разве?
— Целых двенадцать дней!
— А ты…
— Я очень-очень крепко тебя люблю. Все сильнее и сильнее. Если так пойдет, годам к пятидесяти я превращусь просто в белобрысую бородавку где-нибудь у тебя подмышкой. Потому что мне от тебя не оторваться.
— Не хочу бородавку, Хочу девочку.
— А как тебя Поленька любит! Ты знаешь, по-моему, уже немножко как мужчину. Ей будет очень трудно, я боюсь, отрешиться от твоего образа, когда придет ее время.
— Когда родители любят друг друга, дети любят родителей.
— Правда. Смотрит на меня, и тебя любит, смотрит на тебя, и меня любит…
— Тебе не тяжело со мною, Лиза?
— Я очень счастлива с тобой. Очень-очень-очень.
Листья на ветру.
Но разве виновны они в том, что не умеют летать сами? Кто дерзнет вылавливать их из ветра и кидать в грязь с криком: «Полет ваш — вранье, вас стихия тащит! То, что вы летите сейчас, совсем не значит, что вы сможете летать всегда…»?
Сквозь занавеси из окон сочилось скупое серое свечение. В столовой, за неплотно закрытой дверью, мерно тикали часы. Бездонно темнел внизу ковер, дымными призраками стояли зеркала. Дом.
Ее дыхание щекотало мне волосы подмышкой — там, где она собиралась прирасти. Почти уложив ее на себя, я обнимал ее обеими руками, крепко-крепко, почти судорожно — и все равно хотелось еще сильнее, еще ближе.
И, как всегда после любви, я на некоторое время стал против обыкновения, болтлив. Хотелось все мысли рассказать ей, все оттенки… хотя бы те, что можно.
— …Ты никогда не говорил так подробно о своих делах.
— Потому что это дело не такое, как другие. Ты понимаешь, я все думаю — наверное, это не случайно оказался именно он. Такой справедливый, такой честный, такой готовый помочь любому, кто унижен. Ведь он и в бреду продолжал защищать кого-то, сражаться за какой-то ему одному понятный идеал. Вот в чем дело. Просто идеал этот оказался чудовищно извращен.
— Я не могу себе такого представить.
— Я тоже. Но он, я чувствую — представлял. Это было для него естественным. Словно кто-то чуть-чуть сменил некие акценты в его душе — и сразу же те качества, которые мы привыкли, и правильно привыкли, ставить превыше всего, сделались страшилищами. Знаешь, прежде я думал, что нет у человека качеств совсем плохих или совсем хороших, что очень многое зависит от ситуации. В одной ситуации мягкость полезна, а в другой она вывернется в свою противоположность и превратится в слюнтяйство и беспомощную покорность, и ситуации эти равно имеют право быть. В одной ситуации жесткость равна жестокости, а в другой именно она и будет настоящей добротой. Прости, я не умею пока сформулировать лучше, мысль плывет… Теперь я подумал, что все не так. Ситуации, где доброта губительна, а спасительна жестокость, не имеют права на существование. Если мир выворачивает гордость в черствость, верность в навязчивость, доверчивость в глупость, помощь в насилие — это проклятый мир.
Она вздохнула.
— Конечно, Сашенька. Ты ломишься в открытую дверь. Доброта без Бога — слюнтяйство, гордость без Бога — черствость, помощь без Бога — насилие…
Я улыбнулся и погладил ее по голове.
— Саша, неужели ты не чувствуешь, что я права?
— Кисленко и прежде не верил в бога — и был прекрасным человеком. И потом продолжал не верить ровно так же — и стал бешеным псом.
— Если бы он верил в Бога — он не достался бы бесам.
— Сколько верующих им достается, Лиза! И сколько атеистов — не достается!
В столовой, перебив мирное тик-тик, закурлыкал телефон.
— Кто это может быть? — испуганно спросила Лиза. — Почти три…
А у меня сердце упало. Хотя Стася никогда не звонила мне домой, и уж подавно бы никогда не позвонила ночью, первая сумасшедшая мысль была — с нею что-то стряслось.
Нет, не с нею. Звонил Круус.
— Простите, что беспокою, — сказал он бесцветным от усталости голосом, — но у вас, как я знаю, с утра отчет в министерстве, и я хотел, чтобы вы знали. Кисленко скончался.
— Он еще что-нибудь говорил? — после паузы спросил я.
— Ни слова. Спокойной ночи.
— Спокойной ночи, Вольдемар Ольгердович. Благодарю вас. Ступайте отдыхать.
Я положил трубку.
— Что-нибудь случилось? — очень спокойно спросила из спальни Лиза.
— Еще одно тело не выдержало раздвоения между справедливостью человеческой и справедливостью бесовской, — сказал я.
— Что?
— Лиза… Прости. Ты позволишь, в виде исключения… я прямо тут покурю, а?
— Конечно, Сашенька, — мгновенно ответила она. Запнулась. — Только лучше бы ты этого не делал, правда.
Я даже улыбнулся против воли, в этом она была вся. Любимая моя.
— Да, ты права. Не буду.
— Иди лучше ко мне. Я тебя тихонечко облизну.
Я пошел к ней. Она сидела в постели, тянулась мне навстречу, громоздко темнел на нежной, яшмово светящейся в сумраке груди угловатый деревянный крестик.
— Лиза — это та, которая лижется? — спросил я.
— Та самая.
Я сел на краешек, и она сразу обняла меня обеими руками. Тихонько спросила:
— Он умер, да?
— Да.
— Тебе его очень жалко?
Хлоп-хлоп-хлоп.
— Очень.
— Он же убийца, Саша.
— Он попал в какие-то страшные жернова. Я жизнь положу, чтобы узнать, что его так исковеркало.
— Жизнь не клади, — попросила она. — Ты же меня убьешь.
2
— …Таким образом, для меня является бесспорным, что мы столкнулись с чрезвычайно оперативным, совершенно новым или, по крайней мере, нигде не зафиксированным прежде способом осуществляемого с преступными целями воздействия на человеческую психику. Я не исключаю того, что с подобными случаями наша, да и мировая, практика уже сталкивалась, но не умела их идентифицировать, поскольку, как вы видите, идентификация здесь очень сложна. Объект воздействия не роботизируется. Он полностью осознает себя, он сохраняет все основные черты своего характера — но поведенческая реакция этих черт страшно деформируется. И, вдобавок, если судить по случаю с покойным Кисленко, вскоре после осуществления преступного акта объект воздействия умирает от чего-то вроде мозговой горячки, вызванной психологическим шоком. Шок же, в свою очередь, вызывается, насколько можно судить, нарастающими судорожными колебаниями психики между двумя генеральными вариантами поведения. По сути, с момента возникновения этих колебаний человек обречен — оба варианта обусловлены самыми сущностными характеристиками его «я», и в то же время они не только являются взаимоисключающими, но, более того, с позиций каждого из них альтернативный вариант является отвратительным, унизительным, свидетельствует о полной моральной деградации «я», о полном социальном падении.
— Может, это все-таки какая-то болезнь? — спросил Ламсдорф. Понурый, расстроенный, он сидел через стол против меня, подпирая голову руками. Сквозь щели между пальцами смешно и жалко топорщились его знаменитые бакенбарды.
— Специалисты уверяют, что нет, — ответил я.
— Загадочное дело, господа, — произнес с дивана министр. Он сидел в углу, закинув ногу на ногу, и раскуривал трубку. Как и я сутки назад, он прибыл в министерство прямо с аэродрома — из-за катастрофы «Цесаревича» ему пришлось скомкать программу последних дней своего австралийского вояжа — и он тоже был одет не по-протоколу. — Загадочное и жутковатое. Контакты Кисленко вы установили?
— Я оставил людей в Тюратаме, — ответил я. — Вместе с казахскими коллегами они отработают последние недели жизни Кисленко по минутам, можете быть уверены. И, в то же время, я не очень верю, что это что-то даст.
— Почему? — вздернул брови министр.
— Кисленко жил незамысловато, на виду. Дом — работа, работа — дом… Да еще стол во дворе — домино да нарды. Случайных людей в Тюратаме практически не бывает.
— Но кто-то же его обработал?
Я пожал плечами.
— Кто-то обработал.
— Как вы интерпретируете эту фразу… э-э… министр взял сколотые страницы лежащего рядом с ним на диване отчета, покрепче стиснув трубку в углу рта, свободной рукой он вынул из нагрудного кармана очки со сломанными дужками и поднес к глазам: — «Жаль, до самого мне уж не дотянуться»?
— Боюсь, что так же, как и вы, Анатолий Феофилактович, — стараясь говорить бесстрастно, ответил я. — Учитывая, вдобавок ко всему прочему, свидетельствующий о внезапно проявившейся патологической ненависти к царствующему дому и его символике факт глумления над документами, я склонен полагать, что этой фразой Кисленко выражал сожаление о невозможности произвести террористический акт в отношении государя императора.
— Господи спаси и помилуй! — испуганно пробормотал Ламсдорф и осенил себя крестным знамением.
— Считаете ли вы, полковник, что нам следует усилить охрану представителей династии?
Я с сомнением покачал головой.
— Ни малейшего следа систематически работающей организации мы не обнаружили.
— Обнаружите, да поздно! — воскликнул Ламсдорф.
— С другой стороны, — ответил сам себе министр, раздумчиво пхнув трубкой, — какая, к черту, охрана усиленная, ежели самый проверенный человек может так вот рехнуться на ровном месте и выпустить в государя всю обойму…
— Вы, например, — подсказал я.
Он молча воззрился на меня.
— Вы, человек решительный и принципиальный, активно любящий справедливость, при этом горячий патриот своей родимой Курской губернии, — пояснил я, — вдруг заметили, что последнее из одобренных Думой и утвержденных государем повелений как-то ущемляет права курских крестьян. Ну, скажем, очередная ЛЭП пройдет не через Курск, а через Белгород, и в белгородских деревнях электроэнергия окажется на полкопейки дешевле. Ведомый своею принципиальностью, просто-таки кипя от негодования, вы на первом же приеме подходите к государю и, обменявшись с ним рукопожатием, молча пускаете ему разрывную маслину в живот.
— Что вы говорите такое, князь! — возмущенно вскинулся Ламсдорф.
— Простите, Иван Вольфович, это не заготовка, я импровизирую. Но это, как мне кажется, очень удачный пример того, что произошло с Кисленко.
— Да, дела, — после паузы сказал министр и, покряхтывая, натужно встал. Пошел по кабинету — медленно, чуть переваливаясь. Видно, шибко насиделся в кресле лайнера Канберра — Питер. — Как сажа бела…
Ламсдорф удрученно мотал головой.
Министр некоторое время прохаживался взад-вперед, то и дело пуская трубкой сизые облачка ароматного, медового дыма. Потом остановился передо мною. Я встал.
— Да сидите вы…
Тогда я позволил себе сидеть.
— Я-то сидеть не могу уже, право слово… Что вы дальше намерены делать?
— Ну, во-первых, проработка контактов Кисленко, как ни крутите, а это обязательная процедура. Мы об этом уже говорили. Во-вторых, я хочу попробовать задним числом выявить аналогичные преступления, ежели таковые бывали. Статистика — великая наука. Может, удастся набрести на что-то, даже закономерности какие-то выявить. И, в-третьих, есть еще одна придумка… на сладкое.
— Что такое? — спросил министр.
— Мне покоя не дает бред Кисленко. Он ведь чрезвычайно осмыслен, и, в сущности, описывает некую вполне конкретную картину. С кем-то он сражается, защищает какую-то женщину… с тем же рвением, с каким вы, Анатолий Феофилактович, ваших курских крестьян.
Ламсдорф листнул лежавший перед ним на столе экземпляр отчета, побежал глазами по строчкам.
— И дальше. Последние слова, которые произнес Кисленко в своей жизни.
— «Флаг, флаг выше. Пусть видят наш, красный», — вслух прочитал Ламсдорф. — Это?
— Да, это.
— Надо полагать, имеется в виду, что флаг красный? — уточнил министр.
— Надо полагать. У вас нет никаких ассоциаций?
— Признаться, нет.
— Я тоже пас, — сказал Ламсдорф. — Хотя это, конечно, зацепка. В справочнике Гагельстрема…
— Стоп-стоп, Иван Вольфович. Дело в том, что красная символика широко использовалась ранними коммунистами в ту пору, когда коммунизм — протокоммунизм, вернее — пытался в разных странах оспаривать властный контроль у исторически сложившихся административных структур. Это была дичь, конечно, хотя и обусловленная катастрофическими социальными подвижками второй четверти прошлого века… но, если бы это удалось — тут бы коммунизму и конец. Вскоре стало ясно: чем большее насилие пропагандирует учение или движение, тем больше преступного элемента втягивается в число его адептов, необратимо превращая всю конфессию в преступную банду, — ибо, чем более насилие возводится в ранг переустройства мира, тем более удобным средством для корыстного насилия учение или движение становится.
— Я где-то читал эту фразу…
— Еще бы, Иван Вольфович! На юрфаке-то должны были читать! «Что такое „друзья народа“ и чем они угрожают народу», Владимир Ульянов. Храмовое имя — Ленин.
— Мне его стиль всегда казался тяжеловатым, — бледно улыбнулся Ламсдорф.
— От «Агни-йоги» тоже голова трещит, — обиделся я.
— К делу, господа, к делу! — нетерпеливо сказал министр.
— Я и говорю о деле, Анатолий Феофилактович. Под красным знаменем, например, геройски погибали на баррикадах лионские ткачи в восемьсот тридцать четвертом году — отнюдь не преступники, а простые, справедливые, доведенные до отчаяния нищетой труженики. Были и другие примеры. И вот. Может быть, возможно, не исключено, существует некая вероятность — что сохранилась некая герметическая секта, блюдущая учение коммунизма в первозданной дикости и совершенно уже выродившаяся… ну, что-то вроде ирландских фанатиков, еще в середине нашего века взрывавших на воздух лондонские магазины.
Министр задумчиво попыхивал трубочкой, так и стоя посреди кабинета, уперев одну руку в бок и хмурясь. Зато лицо Ламсдорфа просветлело:
— Как удачно, что государь поручил это дело вам!
— Хотелось бы думать, — проговорил я.
Министр вдруг двинулся вперед и, продолжая хмуриться, подошел ко мне вплотную. Я снова поднялся. Он взял меня за локоток.
— Буде так, могут открыться совершенно чудовищные тайны, — негромко и отрывисто сказал он. — Полковник, вы уверены?.. Вы готовы вести дело дальше — или вам, как коммунисту…
— Более, чем готов, — ответил я. — Это дело моей чести.
Еще секунду он пытливо смотрел мне в лицо, потом отошел к дивану и уселся, снова закинув ногу на ногу. Тогда и я сел.
— Что вы намеренны предпринять для проработки этой версии? — спросил он.
— Я намерен обратиться за консультацией непосредственно к шестому патриарху коммунистов России, — решительно ответил я.
Снова мои собеседники некоторое время молча переваривали эти слова. Потом Ламсдорф спросил:
— А это удобно?
— Это неизбежно. Если он и не знает ничего об этом — я склонен думать, что не знает, — то, по крайней мере, он лучше всех прочих в состоянии указать мне людей, которые могут что-либо знать. В патриаршестве существует отдел по связям с иностранными епархиями — чтобы его работники начали выдавать мне информацию, мне тоже потребуется поддержка патриарха. Кроме того, есть такая богатейшая вещь, как слухи и предания — и опять-таки мимо патриарха они не проходят.
— Что ж, разумно, — сказал министр. — Когда вы намерены отбыть в Симбирск?
— Надеюсь успеть нынче же. По крайности — первым утренним рейсом, в шесть сорок. Время дорого. Что-то мне подсказывает, что время дорого.
— Бог в помощь, Александр Львович, — сказал министр и, вынув из кармана «луковицу» часов, глянул на циферблат. Поднялся.
— Благодарю, Анатолий Феофилактович. Теперь у меня к вам тоже вопрос. Мне действовать как представителю МГБ, или просто как частному лицу, ищущему беседы члену конфессии?
Министр задумался, похоже — несколько с досадой. Видимо, вопрос ему показался прямым до бестактности — он хотел, чтобы я принял удобное для кабинета решение сам.
— Обратитесь лучше как частное лицо, — нехотя проговорил он после долгого, неловкого молчания. — Понимаете… пронюхают газетчики и пойдет волна — дескать, имперская спецслужба снова вмешивается в дела конфессий. Забурчит Синод, из Думы запросы посыплются. Их же хлебом не корми… Доказывай потом в пятидесятый раз, что ты не верблюд.
— Хорошо, Анатолий Феофилактович, я так и поступлю, — сказал я. Он резко вмял часы обратно в карман.
— До траурной церемонии осталось сорок минут, а мне еще надобно побриться и переодеться. Иван Вольфович, вы идете?
— Да, разумеется.
— Тогда встречаемся внизу. А вы, Александр Львович?
— Я выражу свои соболезнования погибшим форсированным ведением дела, — проговорил я.
3
Над заячьим островом утробно рокотали басы прощального салюта. Тоненько дребезжали стекла. Траурная процессия вытянулась от Исакия по всей набережной и через весь Троицкий мост. Приехала королева Великобритании со старшей дочерью, красивой и скупой на проявления чувств — ее в свое время прочили в невесты великому князю, Приехал кронпринц Германии, не слишком успешно прячущий под холодной маской свою потрясенность трагической гибелью кузена — сам Вильгельм-Фридрих уже не в силах был покидать потсдамского дворца, словно пригоршня елочных украшений двигались, держась поплотнее один к другому, родственные монархи Скандинавии, председатель Всекитайского Собрания Народных Представителей почтительно поддерживал под локоток Пу И — совсем уже одряхлевшего, высохшего, словно кузнечик, укутанного до глаз, но все же рискнувшего лично отдать последнюю дань уважения, решившись не передоверять дела сыну, прибыл микадо, а следом за ним — многочисленные короли Индокитая. Едва ли не все короны мира, печально склоненные, одной семьею шествовали по тем местам, где я пешком ходил домой, и их охлестывал сырой балтийский ветер.
Поглядывая на экран стоявшего в углу кабинета телевизора, я прежде всего вызвал к себе начальника группы «Буки» поручика Папазяна.
— Вот и для вас появилась работа, Азер Акопович. Причем не только для вас лично, но и для всей группы разом. Веселее будет. Сделайте-ка мне выборку из всех возможных криминальных сводок вот по какому примерно принципу: покушения на убийство или попытки диверсий, в том числе удачные, при не вполне ясных и совсем не ясных мотивах. В первую голову ищите случаи, когда преступник после совершения преступления оказывался в невменяемом состоянии или погибал, либо умирал при невыясненных обстоятельствах.
— Ясно, — кивнул поручик. Я чувствовал, что он рвется в дело: расследование сенсационное, группа существует уже более суток, а еще ни одного задания. — По какому региону?
Я печально смотрел на него и молчал.
— По всей России? — попытался угадать он.
— По всему миру, — сказал я. Он присвистнул. — Но по России, конечно, прежде всего.
— За какой период? — судя по голосу, его энтузиазм несколько приугас.
Я печально смотрел на него и молчал.
Его лицо вытянулось. Он тоже молчал — угадывать уже не решался.
— Лет за сто пятьдесят, — сказал я наконец. — Насколько достоверной статистики хватит. Двигаться будете в порядке, обратном хронологическому: этот год, прошлый год, позапрошлый год и так далее.
Он храбро слушал, явно посерьезнев. И тогда я, чтобы уж добить его на месте, небрежно осведомился:
— Пары часов вам хватит?
— Да побойтесь бога, господин полковник!.. — вскинулся он, но я быстро протянул руку и тронул его ладонь, напрягшуюся на столе. — Все, Азер Акопович, это я уже шучу. Немножко веселю вас перед атакой. Работа адова, я прекрасно понимаю. Не торопитесь, делайте тщательно. Но и не тяните. Я сейчас дам вам копию своего отчета о деле Кисленко — выносить из кабинета не разрешу, посмотрите здесь. Тогда вы лучше поймете, что я ищу. И будете сами проводить предварительный отсев фактов, которые наковыряют ваши ребята. У меня на это времени нет.
Пока Папазян, примостившись в уголке, с профессиональной стремительностью листал отчет, я позвонил шифровальщикам и спросил, не поступало ли на мое имя донесений от Кравайчука. Поступало. Как и следовало ожидать, никаких инцидентов в сфере американской части проекта «Арес» не было. Впрочем, штатники с исключительной вежливостью благодарили за предупреждение, обещали увеличить охрану занятых в проекте лиц и выражали надежду, что мы найдем возможность делиться с ними результатами следствия, если эти результаты, с нашей точки зрения, затронут интересы Североамериканских Штатов. На версии «Арес» можно было ставить крест.
Совсем посерьезневший от прочитанного Папазян вернул мне отчет и ушел, а я двинулся к лингвистам. И тут все было худо. Слова «омон» не знал никто. Компьютерная проработка термина показала, что скорее всего, он является аббревиатурой, и мы обнадежились ненадолго — но когда комп начал вываливать бесчисленные варианты расшифровки, от вполне еще невинных «Одинокого мужа, оставленного надеждой» и «Ордена мирного оглупления народов» до совершенно неудобоваримых, я и оператор только сплюнули, не сговариваясь, а если еще учесть, что аббревиатура могла быть иностранной? Словом эта нить тоже никуда не вела.
Тогда я вернулся к себе.
4
— О, привет! Ты где?
— На работе.
— Уже вернулся?
— Еще вчера. В начале первого пробовал позвонить тебе с аэродрома, но никто не подошел.
— А, так это еще и ты звонил?
— Ты была дома?
— Да, валялась пластом. И, как всегда, кто-то просто обрывал телефон, а встать — лучше сдохнуть. Очень трудный был день, металась везде, как савраска — искала, не надо ли кому дров порубить.
— Прости, не понимаю.
— Работу искала, Саша, чего тут непонятного. Деньги нужны.
— Стася, — осторожно сказал я, — может быть, я все-таки мог бы…
— Кажется, мы уже говорили об этом, — сухо оборвала она. — Давай больше не будем.
Помощь купюрами она не принимала ни под каким видом. Даже, что называется, на хозяйство. Даже в долг, у других считала себя вправе одалживать, у меня — нет. Могла обмолвиться, что в доме есть буквально нечего, и тут же закатить мне царский обед или ужин, а сама, сидя напротив и поклевывая из своей тарелочки, сообщала между делом, что денег осталось в обрез на два дня, и если какое-нибудь «Новое слово», например, задержится с выплатой гонорара, то клади зубы на полку — и у меня кусок застревал в горле, хотя готовила она всегда сама и всегда прекрасно. Однажды я попробовал молча запихнуть ей под бумагу на письменном столе двухсотенную денежку — поутру, уже на улице, обнаружил эту денежку в кармане пальто. Чуть со стыда не сгорел.
— Ну и как — нашлись дрова?
— Представь, да. Кажется, получу ставку младшего редактора в литературном отделе «Русского еврея». И что ценно — не надо каждый день в присутствие ходить. Забежал разок-другой в неделю, набрал текстов — и домой.
— А что случилось, Стасенька? Почему вдруг обострилась нужда?
— Настал момент такой. Подкопить для будущей жизни. Да неинтересно рассказывать, Саш.
И все. Намекнет на трудности — но нипочем не скажет, в чем они заключаются. Одно время, когда эта черта лишь начинала проступать в ней — в первые месяцы не было ничего подобного — мне казалось, она нарочно. Потом понял, что иначе не может, в этом она вся. Сознавать то, что жизнь у нее не малина, я должен, конечно, но знать что-то конкретное мне ни к чему, ведь все равно я не могу помочь, а она и затруднять меня не хочет, она сама справится… Иногда мне чудилось, что я падаю с ледяной стены, цепляюсь, тщусь удержаться, в кровь ломая ногти, и не могу — скользят по полированной броне.
— Ты зайдешь сегодня?
— Я бы очень хотел.
— Когда?
— Хоть сейчас.
— Замечательно. Только знаешь, у меня к тебе тогда просьба будет, извини. Тут у меня, как снег на голову, сыплется Януш Квятковский — помнишь, я рассказывала, редактор из Лодзи. Это не люди, а порождения крокодилов. Утром звонит и говорит что вылетает. Тут у него дела дня на три в фонде поддержки западнославянских литератур, так, чем платить за гостиницу, он мне сообщает, что остановится у меня, и вот мы, старые друзья, наконец-то как следует повидаемся. В ноябре он был тут проездом, виде, что две комнаты… Вечером объявится, представляешь?
— С трудом, но представляю.
— Могу я, не могу — даже не осведомился. А мне, в общем, нездоровится, и в доме шаром покати. Ты не мог бы купить какой-нибудь еды?
— Что за разговор, — сказал я, — конечно. Могла бы так долго не объяснять. Через часок я отъеду.
— Спасибо, правда! И вот еще что: ключи у тебя с собой?
— Конечно.
— У меня сейчас голова совсем дырявая, поэтому говорю, пока помню — оставь их, я ему дам а эти три дня. Не сидеть же мне у двери, звонок его слушать…
— Разумеется, — сказал я. — Жди.
— Целую.
— Взаимно.
Я прошел мимо дежурного, буркнув: «Буду через три часа», яростно шаркая каблуками об асфальт, почти подбежал к своему авто. Ключ въехал в стартер лишь с третьей попытки. Мотор зафырчал, заурчал. Я едва не забыл дать сигнал поворота. Вывернул на Миллионную, просвистел мимо дворцов, мимо Марсова Поля, и вписался в плотный поток, бесконечно длинной, членистой черепахой ползущий по Садовой на юг.
В сущности, эти колесные бензиновые тарахтелки — уже анахронизм. Давным-давно прорабатываются проекты перевода индивидуального транспорта на силовую тягу, на манер воздушных кораблей — дорог не надо, бензина не надо, шума никакого, выхлопа никакого, скорость по любой открытой местности хоть триста, хоть четыреста верст в час. Но это потребует полного обновления всего парка — раз, чрезвычайно затруднит дорожный контроль — два, к тому же, автомобильные и путейские воротилы сопротивляются, как триста спартанцев — три, ну а четыре — нужно по крайней мере впятеро уплотнить сеть орбитальных гравитаторов. Тоже дорого и хлопотно. А пока суть да дело — ездим, воняем, пережигаем драгоценную нефть, сочимся сквозь капиллярчики магистралей.
У Инженерного замка я свернул к Фонтанке и по набережной погнал быстрее.
Насколько я понимал, года четыре назад у нее была вполне безумная любовь с этим Квятковским. Впрямую она не рассказывала, но по обмолвкам, да и просто зная ее, можно было догадаться. Две комнаты, надо же! А кроватей? Хотя в столовой стоит оттоманка… Или она ему постелет на коврике у двери?
Где-то совсем рядом, слева, безумно взвыл клаксон и сразу завизжали тормоза. Громадная тень автобуса, содрогаясь, нависла над моей фитюлькой и тут же пропала далеко позади.
Тьфу, черт. Оказывается, я пролетел под красный и даже не заметил. Что называется, бог спас.
Ладно. Я разозлился на себя. Да кто я такой? Может, у нее сейчас последняя возможность вернуться к тому, кого она до сих пор любит?
Вообще-то, если я узнавал, что к тому или иному человеку Стася хорошо относится или, тем более, когда-то его любила, человек этот сразу вырастал в моих глазах. Даже не видя его ни разу, я начинал к нему относиться как-то… по-дружески, что-ли, уважать начинал больше. Не знаю, почему. Наверное, подсознательно срабатывало: ведь не зря она его любила. Наверное, нечто сродни тому, как сказала в Сагурамо Стася о Лизе и Поле, уж не знаю, искренне или всего лишь желая мне приятное сделать — о, если б искренне! — «родные же люди». Просто сейчас я психанул, потому что слишком неожиданно это свалилось. Слишком я передергался за последние сутки, да и за Стаську переволновался — то она чуть ли не босая по холодным лужам шлепает, то ночью не отвечает… да и вообще — отдаляется…
Надо бы почитать на досуге, что этот Квятковский пишет. Есть наверное, переводы на русский.
Только где он, досуг?
Опубликовал бы он ее, что ли, в Лодзи в своей… да заплатил побольше…
Но на сердце тяжело. Кисло.
Первым делом я заехал в аэропорт и забрал оставшиеся в камере хранения две аппетитнейшие бутылки марочного «Арагви», которые подарил нам на прощание Ираклий. Я их отсюда даже не забирал — знал, что нам со Стасей понадобятся. Вот, понадобились.
Поехал обратно.
Господи, ну конечно, она несчастлива со мной, ей унизительно, ей редко… пусть она будет счастлива без меня. Я хочу, чтобы — ей — было — хорошо!
Но на сердце было тяжело.
Ближайшим к ее дому супермаркетом — дурацкое слово, терпеть не могу, а вот прижилось, и даже русского аналога теперь не подберешь, впрочем, как это вопрошал, кажется, еще Жуковский: зачем нам иноземное слово «колонна», когда есть прекрасное русское слово «столб»? — был Торжковский. Я прокатил под Стасиными окнами, миновал мосты и припарковался.
Я был рад хоть что-то сделать для нее.
Хищно и гордо я катил свою решетчатую тележку по безлюдному лабиринту между сверкающими прилавками, срывая с них сетки с отборным, дочиста вымытым полесским картофелем, пакеты с полтавской грудинкой и вырезкой, с астраханским балыком, банки муромских пикулей и валдайских соленых груздей, датских маринованных миног и китайских острых приправ, камчатских крабов и хоккайдских кальмаров, празднично расцвеченные коробки константинопольских шоколадных наборов и любекских марципанов, солнечные связки марокканских апельсинов и тяжелые, лиловые гроздья таджикского винограда… Тем, что я нахватал, можно было пятерых изголодавшихся любовников укормить до несварения желудка. Ей недели на две хватит. И где-то на дне потока бессвязных мыслей билось: пусть только попробует отдать мне за это деньги… вот пусть только попробует… у нее все равно столько нет.
У меня у самого едва хватило.
— …Саша, ты с ума сошел! — воскликнула она, едва отворив. Свежая, отдохнувшая, явно только что приняла ванну, тяжелые черные волосы перехвачены обаятельной ленточкой, легкая блузка-размахайка — грудь почти открыта, короткая юбочка в обтяжку. Преобразилась женщина, гостя ждет. Странно даже, что она меня узнала — в толще пакетов я совершенно терялся, как теряется в игрушках украшенная с безвкусной щедростью рождественская елка.
— С тобой сойдешь, — отдуваясь, проговорил я. — Куда сгружать?
Мы пошли на кухню, она почти пританцовывала на ходу и то и дело задорно оборачивалась на меня — энергия просто бурлила в ней. Я начал сгружать, а она тут же сортировать свою манну небесную:
— Так, это мы будем есть с тобой… это тоже с тобой… картошку я прямо сейчас поставлю… Ты голодный?
— Нет, что ты.
— Это хорошо… — распахнув холодильник, она долго и тщательно утрамбовывала банки и пакеты, приговаривая, почти припевая: — Не самозванка — я пришла домой, и не служанка — мне не надо хлеба. Я страсть твоя, воскресный отдых твой, твой день седьмой, твое седьмое небо… На Васильевский успел заехать?
— Конечно.
— Как Поля?
— Знаешь, я ее даже не видел. Пришел — она уже спала, уходил — она еще спала.
— Лиза?
— Все в порядке.
— Слава богу.
Воспоминание о ночи медленным огненным дуновением прокатилось по телу.
— Стася, ты веришь в бога?
— Не знаю… — она закрыла холодильник и разогнулась, взглянула мне в лицо. Взгляд ее сиял мягко-мягко. Редко такой бывает. — Верить и хотеть верить — это одно и то же?
— Любить и хотеть любить — это одно и то же? Спасти или хотеть спасти — это одно и то же?
— Ну вот. Я уж совсем было поверила, что ты — бог, а ты взял да и доказал, что бога нет… Коньяк-то зачем?
— Как зачем? Ираклий же нам подарил, так пусть у тебя дожидается. А может, человек с дороги выпить захочет.
— Съесть-то он съесть, да кто ж ему дасть… И не покажу даже, — зажав в каждой руке по бутылке, она заметалась по кухне, соображая, где устроить тайник. Не нашлась, поставила покамест прямо на стол. Коньяк, словно густое коричневое солнце, светился за стеклом. Захотелось выпить.
— И вот еще, — я вынул из потайного кармана ключи от ее квартиры, которыми почти и не решался пользоваться никогда — так, носил, как сладкий символ обладания, и аккуратно положил на холодильник. Не видать мне их больше, как своих ушей.
— Какая умница! А я и забыла… Ты мне не поможешь картошку почистить?
Я заколебался. Минуту назад, когда она смотрела так мягко, мне, дураку, почудилось на миг, что ее оживление, ее призывный наряд — для меня. Зазнался, Трубецкой, зазнался. Она расторопно достала кухонный ножик.
— Рад бы, Стасик, но мне сейчас опять на работу. Извини.
Она честно сделала огорченное лицо.
— Да брось! Дело к вечеру, что ты там наработаешь? Януш часа через полтора будет здесь, я вас познакомлю, действительно, тогда вы и выпьете вдвоем, ты расслабился немножко. У тебя очень усталое лицо, Саша.
— Что я тут буду сбоку-припеку. Он твой старый друг, коллега…
Она покосилась пытливо — нож в одной руке, картофелина в другой.
— Саша, по моему, ты меня ревнуешь.
— Конечно.
— Вот здорово. А я уж думала, тебе все равно.
Я изобразил руками скрюченные когтистые лапы, занес над нею и голосом Шер-хана протяжно проревел:
— Это моя добыча!
Ловко проворачивая картошку под лезвием, она превосходственно усмехнулась, и я прекрасно понял ее усмешку: дескать, это еще вопрос — кто чья добыча.
— Не беспокойся, — сказала она потом, — я девушка очень преданная. И к тому же, совершенно не пригодна к употреблению.
— Окрасился месяц багрянцем?
На этот раз она оглянулась с непонятным мне удивлением, затем улыбнулась потаенно.
— Скорее уж, окрысился. Тонус не тот.
— Ну, будем надеяться, — сказал я.
И звякнувший ножик, и глухо тукнувшую картофелину она просто выронила — и захлопала в ладоши:
— Ревнует! Сашка ревнует! Этой минуты я ждала полтора года! Ур-ра!
Картофелина, переваливаясь и топоча, покатилась к краю, но решила не падать.
По-моему, с тонусом у Стаси было как нельзя лучше.
Бедная моя любимая. Все время знать это про меня, каждый день… «На Васильевский успел заехать? Тебя покормили?»
Горло сжалось от преклонения перед нею.
— Ну скажи, наконец, как тебе моя новая прическа? Нравится?
Я соскучился до истомы и дрожи — но если поцеловать ее, она ответит, а думать будет, что вот варшавский лайнер шасси выпустил, а вот Януш подходит к стоянке таксомоторов.
— Очень нравится. Как и все остальное. Тебе вообще идет девчачий стиль.
— Просто ты девочек любишь. Я и стараюсь.
Она отвернулась, подобрала картофелину и нож. На меня будто сто пудов кто взвалил — так давило чувство прощания навек. И все равно — такая нежность… Я обнял ее за плечи, легонько прижал спиною к себе и опустил лицо в ароматные, чистые волосы: надетая на голое размахайка без обиняков звала ладонь через ключицу вниз, к груди — я еле сдерживался.
— Трубецкой, не лижись. Я ведь с ужином не управлюсь.
Не меня она звала. В последний раз я чуть стиснул пальцы на ее плечах, поцеловал в темя — и отпустил. Все.
— Ладно, Стасенька, я пошел. Не обижайся.
— Жаль. Знаешь, после работы заезжай, а? Поболтаем…
— Зачем тебе?
— Ну, может, мне похвастаться тобою хочется? Тебе такое в голову не приходит?
— Признаться, нет. Не знаю, чем тут хвастаться. По-моему, твои друзья держат меня за до оскомины правильного солдафона — то ли тупого от сантиментов, то ли сентиментального от тупости.
— Какой ты смешной. А завтра ты что делаешь?
— Лечу в Симбирск и добиваюсь встречи с патриархом коммунистов.
Она порезала палец. Ойкнула, сунула кисть под струю воды — и растерянно обернулась ко мне.
— Это еще зачем?
— Дело есть. Счастливо, Стася.
— Она шагнула ко мне, как в Сагурамо пряча за спину руки, чтобы не капнуть ни на себя, ни на меня, обиженно, в девчачьем стиле надула губы.
— А обнять-поцеловать?
Я обнял-поцеловал.
5
У себя я — отчасти, чтобы отвлечься, но главным образом по долгу службы — без особого энтузиазма попробовал прямо на подручных средствах предварительно прокрутить свою версию. Рубрика «ранние течения коммунизма», ключ «криминальные». Но дисплей пошел выбрасывать замшелые, известные теперь лишь узким специалистам да бесстрастным дискетам факты и имена. Французские бомбисты: хлоп взрывпакетом едущего, скажем, из театра ни в чем не повинного чиновника — и сразу мы на шаг ближе к справедливому социальному устройству. Бакунин. «Ничего не стоит поднять на бунт любую деревню». «Революционные интеллигенты, всеми возможными средствами устанавливайте живую бунтарскую связь между разобщенными крестьянскими общинами». Нечаев. Убийца, Выродок. Одно лишь название журнала, который он начал издавать за границей, стоит многого: «Народная расправа». Статья «Главные основы будущего общественного строя», тысяча восемьсот семидесятый год: давайте обществу как можно больше, а сами потребляйте как можно меньше (но что такое общество, если не эти самые «сами»? начальство, разве что), труд обязателен под угрозой смерти, все продукты труда распределяет между трудящимися, руководствуясь исключительно высокими соображениями, никому не подотчетный и вообще никому не известный тайный комитет… Конечно, мечтая о таком публично, в уме-то держишь, что успеешь стать председателем этого комитета. Сволочь.
Все эти мрачные секты, узкие, как никогда не посещаемые солнцем ущелья, прокисли еще в семидесятых годах и в Европе, и в России, некоторое время они дотлевали на Востоке, скрещиваясь с националистическим фанатизмом и давая подчас жутковатые гибриды, но постепенно и там сошли на нет. Похоже, я опять тянул пустышку.
Позвонил Папазян и попросил принять его — я сказал, что могу хоть сейчас. Положил трубку и закурил. Настроение было отвратительное. Квятковский, наверное, уже приехал. А Стаська такая красивая и такая… приготовленная. А тут еще эти конструкторы нового общества, в которых даже мне, коммунисту, стрелять хотелось — просто как в бешеных собак, чтоб не кусали людей. Но это, конечно, как сказала бы Лиза, гневливость — страшный грех. Конечно, не стрелять — что я, Кисленко что ли. Просто лечить и уж, во всяком случае, изолировать. «Друзья народа»…
— Ну что? Неужели, и впрямь уже закончили? — плосковато пошутил я, когда поручик вошел.
— Никак нет, напротив.
— Присаживайтесь. Что случилось?
Он уселся.
— Я позволил себе несколько расширить трактовку полученного задания, — выпалил он и запнулся, выжидательно глядя на меня. Я помедлил, пытаясь понять. Тщательно загасил окурок в пепельнице, притоптал им тлеющие крошки пепла.
— Каким образом?
— Понимаете, — с готовностью начал пояснять он, — материал, который вы мне дали посмотреть, просто страшен, и он вас, возможно, несколько загипнотизировал. Я подумал: ведь не все люди столь решительны и принципиальны, как бедняга Кисленко. Не каждый, даже вот так вот сдвинувшись по фазе, сразу пойдет на убийство. И я позволил себе попробовать посмотреть при тех же признаках менее тяжкие дела — разбойные нападения, хулиганство…
— Но это действительно уже адова работа.
— Что правда, то правда. Но зато она дала какой-то результат. Посмотрите. В текущем и в прошлом году, — он протянул мне листок с нумерованными фактами, — убийств, подобных нашему, нет. А вот инциденты помельче — есть. Два нелепых избиения в Сухуме. Шесть совершенно необъяснимых жестоких драк в деревушках в моем родном краю, между Лачином и Ханкенды. Абсолютно неспровоцированное и абсолютно бесцельное, прямо средь бела дня, нападение на городового на Манежной площади в Москве.
Я внимательно прочитал список. Интересно…
— А вы молодец, поручик, — сказал я. Он покраснел от удовольствия, он вообще легко краснел, как Лиза просто. — Молодец. Я понятия не имею пока, есть ли тут какая-то связь с нашим делом, но типологическое сходство налицо.
— Ну да! — возбужденно кивнул Папазян. — И главное, все субъекты преступления либо были явно под газом, и поэтому их объяснения, что, мол, о своих действиях они не помнят и объяснить их не могут, сразу принимались на веру, либо утрата памяти списывалась, скажем, на полученный удар по голове, и дальше опять-таки анализировать происшествие никто не пытался.
— Интересно, — уже в слух сказал я. — И, конечно же, поскольку преступное деяние было не столь жестоким и бесчеловечным, как в случае с Кисленко, то и гибельного психологического шока не возникало, человек продолжал жить. Память об аберративной самореализации, вероятно, просто вытесняется в подсознание. Интересно, черт! Вот бы проверить, изменился ли у этих людей характер, стали ли они раздражительнее, грубее, пугливее…
— Еще одна адова работа, — с восторгом сказал Папазян.
— Нет, не отвлекайтесь пока. Если набежит совсем уж интересная статистика, проверкой такого рода займутся другие. Продолжайте так, как вы начали — расширительно.
— Есть! — Папазян встал. Запнулся, а потом застенчиво спросил: — Господин полковник, а у вас уже есть версия?
— А у вас? — спросил я, откинувшись на спинку стула, чтобы удобнее было смотреть стоящему в лицо.
— Так точно!
— Ну-ка…
— Неизвестный науке мутантный вирус! Он поражает центры торможения в мозгу, и больной проявляет агрессивность по пустяковым, смехотворным для нормального человека поводам, а затем сам не помнит того, что совершил в момент помутнения. Но остается потенциальным преступником, потому что вирус никуда не делся, сидит в синапсах. Возможно, нам грозит эпидемия.
— Да вы совсем молодец, Азер Акопович! Браво!
— Вы думаете примерно так же?
— Чтобы подтвердить версию о недавней мутации и ширящейся эпидемии нужно — что?
Он поразмыслил секунду.
— Видимо, показать статистически, что подобные случаи год от года становятся многочисленнее, а какое-то время назад их вообще не было.
— Вам и карты в руки, — я вздохнул. — У меня тоже есть версия, Азер Акопович, и ничем не лучше вашей. Она основана на одной-единственной фразе Кисленко…
— На какой? — жадно спросил Папазян.
— Простите, пока не скажу. Идите.
Он четко повернулся и пошел к двери.
— Ох, секундочку!
Он замер и повернулся ко мне снова.
— Скажите, вы знаете такого писателя — Януша Квятковского?
— Да, — удивленно ответил Папазян. — Собственно, он поэт… Поэт и издатель.
— Хороший поэт?
— Блестящий. Одинаково филигранно работает на польском, литовском и русском. Он молод, но уже не восходящая, а вполне взошедшая звезда.
— Молод — это как?
— Ну, я не знаю… где-то моего возраста.
Значит, он моложе ее. И довольно прилично, лет на пять — семь.
— И о чем он пишет?
— Вот тут я с его стихами как-то не очень. Уж слишком он бьет себя в грудь по поводу преимуществ католицизма. И вообще — польская лужайка самая важная в мире.
— Ну, — проговорил я задумчиво и, боюсь, с дурацким оттенком в общем-то несвойственной мне назидательности, — чем меньше лужайка, тем она дороже для того, кто на ней собирает нектар.
Папазян улыбнулся.
— Мне ли не знать?
— А, так просто Квятковский не ту лужайку хвалит?
Мы с удовольствием посмеялись. Среди бесконечных разбойных нападений и мутантных вирусов явно недоставало дружеского трепа. Наверное, чтоб доставало, нужно быть поэтом и издателем.
— А зачем это вам, Александр Львович?
— Неловко кушать коньячок с человеком, которого совсем не знаешь, а он знаменит.
— Ну и знакомства у вас! — завистливо вздохнул Папазян.
Знакомство. Что ж, можно назвать и так. Родственник через жену. Я жестом отослал поручика: сделав сосредоточенное лицо, показал, как набираю, набираю что-то на компьютере.
Значит, она с националистами связалась. Мало нам печалей. Только бы не ляпнула, дурочка, что дружит с полковником российской спецслужбы. Он ее тогда ни за что не опубликует.
Судя по времени, уже картошку доедает. Переходим к водным процедурам. Интересно, успела она спрятать коньяк или забыла?
Или не собиралась даже, только делала вид?
Размахайка на голом и ленточка в ароматных волосах. Тонус не тот…
Мутантный вирус, значит. Что ж, идея не хуже любой другой. Мы, между прочим, об этом не подумали. Надо быть мальчишкой, чтобы такое измыслить. А ведь при вскрытии тела Кисленко эту версию не отрабатывали. Надо уточнить, не было ли отмечено каких-либо органических изменений в мозгу. Может, произвести повторное?.. Ох, ведь жена Кисленко, наверное, уже забрала тело. Бедная, бедная.
Если вирус — значит, у нас с Круусом есть шанс в ближайшем будущем слететь с нарезки. Интересно. Вот сейчас щелкнет что-то в башке — и я, ничуть не изменившись в смысле привязанностей, превращусь в персонаж исторического фильма. Ввалюсь к Стаське, замочу ее борзописца из штатного оружия, потом ее оттаскаю за волосы…
Интересно, ей это тоже будет лестно? Захлопает в ладоши и закричит: «Ревнует! Ура!»?
Устал.
Траурные церемонии давно завершились, набережная была пустынна. Редкие авто с оглушительным шипением проносились мимо, вспарывая лужи и выплескивая на тротуары пенные, фестончатые фонтаны — приходилось держать ухо востро. Мрачная Нева катилась к морю, а ей на встречу пер густой влажный ветер и хлестал в лицо, толкал в грудь. По всему небу пучились черные лохмы туч, лишь на востоке то развевались, то вновь пропадали синие прорехи — словно в издевку показывая, каким должно быть настоящее небо.
Я долго стоял под горячим душем, потом под холодным. Потом сидел в глубоком, родном кресле в кабинете, пушистый, тяжелый, как утюг, уютный Тимотеус грел мне колени, я почесывал его за ухом — он благостно выворачивал лобастую голову подбородком кверху, и я чесал ему подбородок, и слушал Польку, которая, устроившись на диване под торшером, поджав под себя одну ногу, наконец-то читала мне свою сказку. Надо же, какие психологические изыски у такой малявки. У меня бы великан непременно начал конфискацию еды у тех, кто вообще уже ни о чем не думает на всем готовеньком. Нет, возражала она, отрываясь от текста, ну как же ты не понимаешь, они тогда начали бы думать только о еде, и все. А те, кто уже и так думал только о еде, начали думать, как спастись, как помочь себе — сначала каждый думал, как помочь самому себе, потом постепенно сообразили, что помочь себе можно только сообща, так, чтобы все помогали всем.
Я слушал и думал: красивая девочка, вся в маму. Грудка уже набухает, господи ты боже мой. Неужели у Польки талант? От этой мысли волосы поднимались дыбом, и гордо, и страшно делалось. Хотел бы я дочке Стасиной судьбы? Тяжелая судьба. Хотя есть, конечно, литераторы, которые, как сыр в масле катаются — но, по-моему, их никто не любит, кроме тех, кто с ними пьет по-черному, а это тоже не лучшая судьба, нам такого не надо. Тяжелая, беспощадная жизнь — и для себя, и для тех, кто рядом. Не случайно, наверное, среди литераторов нет коммунистов, а если и заведется какой-нибудь, то пишет из рук вон плохо: сюсюканье, назидательность, сплошные моралите и ничего живого. Наверное, эти люди просто-так и по долгу службы не могут не быть теми, кого обычно именуют эгоистами. Ученый, чтобы открыть нечто новое, использует, например, компьютер и синхрофазотрон, инженер, чтобы создать нечто новое, использует таблицы и рейсфедеры — но литератор, чтобы открыть и создать новое, использует только живых людей, и нет у него иного способа, иного пути. Нет иного станка и полигона. Да, он остроумный и приятный собеседник, да, он может трогательно и преданно заботится о людях, с которыми встречается раз в полгода, да, он способен на поразительные вспышки самоотдачи, саморастворения, самосожжения — но это лишь рабочий инстинкт, который знает: иначе — не внедриться в другого, а ведь надо познать его, надо взметнуть пламена страстей, ощутить чужие чувства, как свои, а свои — как великие, чтобы потом выкачанные из этой самоотдачи впечатления, преломившись, переварившись, когда-нибудь легли на бумагу и десятки тысяч чужих людей, читая, ощущали пронзительные уколы в сердце и качали головами: как точно! как верно!.. и, насосавшись, он выползет из тебя, сам страдая от внезапного отчуждения не меньше, чем ты — но все равно выламывается неотвратимо, отрывается с кровью, испуганно рубит по протянутым вслед в безнадежном старании удержать рукам и оставляет того, ради кого, казалось, жил, в пепле, разоре и плаче. Вот как Стаська меня сейчас.
А иначе — не может. Такая работа.
— Папчик, — тихонько спросила Полюшка, и я понял, что она уже давно молчит. — Ты о чем так задумался?
— О тебе, доча, — сказал я, — и о твоих подданных.
— Ты не бойся, — сказала она, подходя. Уселась на подлокотник моего кресла и положила руку мне на плечо. — Я им вреда не сделаю. Просто надо же их как-то в себя привести. Ну, какое-то время им будет больно, да. Я сейчас вторую часть начала. Все кончится хорошо.
И на том спасибо, подумал я. Дверь приоткрылась, и в кабинет заглянула Лиза. Улыбнулась, глядя на наше задушевство.
— Родные мальчики и родные девочки! Не угодно ли слегка откушать? Савельевна уж на стол накрыла.
— Угодно, — сказал я и встал.
— Угодно, — повторила Поля очень солидно и тоже встала.
Взявшись с нею за руки, мы степенно, как большие, двинулись в столовую вслед за Лизой.
Она шла чуть впереди, в длинном, свободном платье до пят — осиная талия схлестнута широким поясом. Светлое марево волос колышется в такт шагам. Полечу утром, подумал я. Все равно ночью там делать нечего — в порту, что ли, сидеть? Зачем? Нестерпимо хотелось догнать Лизу и шептать: «Прости… прости…» Мне часто снилось: я ей все-все рассказываю, а она, как это водится у них, христиан, властью, данной ей Богом, отпускает мне грехи… Иногда, по моему, бормотал во сне вслух. Что она слышала? Что поняла?
Мы отужинали. Потом, болтая о том, о сем, попили чаю с маковыми баранками. Потом Поля, взяв транзистор, ушла к себе — укладываться спать и усыпительно побродить по эфиру на сон грядущий, вдруг там какое брень-брень попадется модное. А Лиза налила нам еще по чашке, потом еще. Чаи гонять она могла по-купечески, до седьмого полотенца — ну, а я за компанию.
— Какой хороший вечер, — говорила Лиза. — Какой хороший вечер, правда?
Я был уверен, что Поля давно спит. По правде сказать, у меня у самого слипались глаза, разомлел, размяк. Когда Поля в ночной рубашке вдруг вошла в столовую, я даже не понял, почему она движется, словно слепая.
Она плакала. Плакала беззвучно и горько. Попыталась что-то сказать — и не смогла. Вытерла лицо ладонью, шмыгнула. Мы сидели, окаменев.
— Папенька… — горлом сказала она. — Папенька, твоего коммуниста застрелили!
— Что?! — крикнул я, вскакивая. Чашка, резко звякнув о блюдце опрокинулась, и густой чай, благоухающий мятой, хлынул на скатерть.
Приемник стоял у Поли на подушке. Диктор вещал:
«…Приблизительно в двадцать один двадцать. Один или двое неизвестных, подкараулив патриарха поблизости от входа в дом, сделали несколько выстрелов, вырвали портфель, который патриарх нес в руке и, пользуясь темнотой и относительным безлюдьем на улице, скрылись. В тяжелом состоянии потерпевший доставлен в больницу…»
Жив. Еще жив. Хоть бы он остался жив.
Это не могло быть случайностью. Почти не могло.
Кому я говорил, что собираюсь консультироваться с патриархом? Министру и Ламсдорфу…
И Стасе.
Не может быть. Не может быть. Быть не может!!!
Я затравленно зыркнул вокруг. Поля плакала. Лиза, тоже прибежавшая сюда, стояла в дверях, прижав кулак к губам.
— Мне нужно поговорить по телефону. Выйдите отсюда.
— Папчик…
— Выйдите! — проревел я. Их как ветром сдуло, дверь плотно закрылась. Я сорвал трубку.
У Стаси играла музыка.
— Стася…
— Ой, ты откуда?
— Из дома.
— Это что-то новое. Добрый это знак или наоборот? — у нее был совершенно трезвый голос, хорошо. А вот сипловатый баритон, громко спросивший поодаль от микрофона что-то вроде «Кто то ест?», выдавал изрядный градус. Натурально, коньяк трескает. Наверное, уже до второй бутылки добрался. «Это мой муж», — по-русски произнесла Стася, и словно какой-то автоген дунул мне в сердце пламенем острым и твердым.
— А мы тут, Саша, сидим без тебя, вспоминаем былую лирику, планируем будущие дела…
— Только не увлекайся лирикой.
— Я даже не курю. Представляешь, он берет у меня в «Нэ эгинэла» целую подборку, строк на семьсот!
— Поздравляю. Стася, ты…
— Я хочу взять русский псевдоним. Можно использовать твою фамилию?
— Мы из Гедиминовичей. Это будет претенциозно, особенно для Польши. Стася, послушай…
— А девичью фамилию Лизы?
— Об этом надо спросить у нее.
— Значит, нельзя, — вздохнула она.
— Стасенька, ты никому не говорила о том, куда я собираюсь лететь?
— Нет, милый, — голос у нее сразу посерьезнел. — Что-то случилось?
— Ты уверена?
— Да кому я могла? Я даже не выходила, а с Янушем у нас совершенно иные темы.
— Может, по телефону?
— Я ни с кем не разговаривала по телефону, — она уже начала раздражаться. — Честное слово, никому, Саша. Хватит.
— Ну, хорошо… — я с силой потер лицо свободной ладонью. — Все в порядке, извини.
Было чудовищно стыдно, невыносимо. За то, что ляпнулось в голову.
— Стасик… Ты очень хорошая. Спасибо тебе.
— Саша, — у нее, кажется, перехватило горло. — Саша. Я ведь так и не знаю, как ты ко мне относишься. Ты меня хоть немножко любишь?
— Да, — сказал я одними губами. — Да, да, да, да!!
Она помолчала.
— Ты меня слышишь?
— Да, — сказал я в слух. — Да. И вот еще что. Ты не говори ему, кто я. В смысле, где я работаю.
— Почему?
— Ну, вдруг это помешает публикации.
— Какой ты смешной, — опять сказала она. — Почему же помешает?
— Ну… — я не знал, как выразиться потактичнее. — Он вроде как увлечен национальными проблемами слегка чересчур…
— Ты что, — голос у нее снова изменился, снова стал резким и враждебным, — обо всех моих друзьях по своим досье теперь справляться будешь? Он в какой-нибудь картотеке неблагонадежных у вас, что ли? Какая гадость! — и она швырнула трубку.
Хлоп-хлоп-хлоп.
Позаботился.
Слов-то таких откуда нахваталась. «Неблагонадежных…» Меньше надо исторической макулатуры читать…
Не верю. Не может быть.
Неужели случайность?
Таких — не бывает.
Я снова поднял трубку.
— Барышня, когда у вас ближайший рейс на Симбирск?
Симбирск
1
В оранжевой рассветной дымке распахивался под нами Симбирск — между ясным, светлее неба, зеркалом Волги, даже с этой высоты просторной, как океан, и лентой Свияги, причудливым ровным серпантином петляющей по холмистой равнине волжского правобережья. Небольшой, но великий город. Когда-то он был крайним восточным форпостом засечной черты, прикрывавшей выдвинутые при Алексее Михайловиче в эту степную даль рубежи страны. Мне всегда казалось неслучайным, что именно здесь за двести лет до рождения первого патриарха коммунистов России получил коленом под зад пьяный тать Сенька — выдавленный из Персии, выдавленный с Каспия, безо всяких угрызений удумавший было погулять, раз такое дело, по родной землице, вербуя рати посулами свобод и, как выразился бы какой-нибудь Нечаев, будущего справедливого общественного строя: «Режь, кого хошь — воля!» Но насилие не прошло здесь уже тогда. Аура такая, что ли… еще одно сердце России. Иногда мне казалось, что вся эта неохватная, как космос, держава состоит из одних сердец — то в такт, то чуть в разнобой они колотятся неустанно, мощно и всегда взволнованно.
И вот насилие, безобразное, словно проказа, проникло сюда.
Неужели и впрямь мутантный вирус?
Невесомым бумажным голубем семисотместная громада спланировала на бетон и замерла в сотне метров от здания вокзала. Безмятежная заря цвела вполнеба, когда мы вышли на вольный воздух. Длинная вереница рейсовых автобусов быстро всосала пролившееся из утробы лайнера людское море и, фырча, распалась — кто в Симбирск, кто в Ишеевку, кто куда.
До центра Симбирска езды было с четверть часа.
Я отправил группу «Добро» в гостиницу, где всех нас ожидали номера, а сам пошел по городу, безлюдному и неподвижному в эту рань. Всплыл алый диск, и спящие дома млели в розовом свете, чуть курилось над лужайками Карамзинского сквера розовое марево, пропитанное истомным настоем отцветающей сирени. Сколько сиреневых поколений сменилось с той поры, как тут гулял великий историк? Обаятельно неуклюжий, будто теленок, длинный дом, в котором родился автор «Обломова», улыбнулся мне топазовыми отсветами старомодных окон. По бывшей Стрелецкой, ныне Ленина, мимо принадлежащего патриаршеству института императивной бихевиористики вышел к Старому Венцу. Дальше хода не было — откос и буйный, слепящий волжский разлет.
Левое крыло института, выстроенного в тон сохранившимся, как были, зданиям улицы, упиралось в дом Прибыловского, во флигеле которого появился на свет первый патриарх.
Было все же что-то неизбывно русское и, не побоюсь выспреннего слова — соборное в осуществленной им удивительной трансформации. Он верно угадал подноготный смысл вскружившего многим головы так называемого экономического учения, вся предписывающая часть которого, в отличие от достаточно глубокой описывающей, сводилась, если отрешиться от прекраснодушных, таких понятных и таких нелепых грез об очередном будущем справедливом строе, к фразе, с античных времен присущей всем бандитам, поигрывающим в благородство и тем загодя подкупающим бедняков в надежде, буде понадобится, получать у них кров и хлеб: отнимем у тех, у кого есть, и отдадим тем, у кого нет. Разумеется — все ж таки девятнадцатый век! — с массой интеллигентских оговорок: то, что экспроприировано у народа, то, что нажито неправедным путем… как будто, хоть на миг опустившись с теоретических высей на грешную землю и вспомнив о человеческой природе, можно вообразить, что в кровавой горячке изъятий кто-то станет и сможет разбираться, что нажито праведно, а что — нет. Логика будет обратной: у кого есть — тот и неправеден, вот что ревет толпа всегда, начиная от первых христиан, от Ликурговых реформ, и нет в том ее вины, это действительно самый простой критерий, обеспечивающий мгновенное срабатывание в двоичной системе «да — нет», в толпе все равны и просты, и спешат построить справедливый строй, пока толпа жива, и поэтому не могут не требовать действий быстрых, простых и равных по отношению ко всем, двоичный код — максимум сложности, до которого толпа способна подняться.
Да, изначально концентрация имуществ и средств шла насилием, грабежом, зверством неслыханным — но, когда она завершается, и фавориты тысячелетнего забега определились, ломать им ноги на финишной прямой, и ровно тем же зверством отбирать у тех, кому когда-то как-то — все равно, когда и как — досталось, отдавая деньги, станки, месторождения, угодья, территории тем, у кого сейчас их мало или нет совсем, значит принуждать историю делать второй шаг на одном и том же месте, а потом, возможно, еще один, и еще, и еще, ввергая социум в череду нарастающих автоколебаний сродни тем, от которых погиб Кисленко, а у нее одна развязка: полное разрушение молекулярной структуры, полное истребление и победителей, и побежденных. И что проку лить нынешним обездоленным уксус в кровь, дразнить, как собак до исступления дразнят, твердя о восстановлении исторической справедливости! История не знает справедливости, как не знает ее вся природа. Справедлива ли гравитационная постоянная? Несправедлив ли дрейф материков? Даже люди не бывают справедливы и несправедливы, они могут быть милосердны и безжалостны, щедры или скупы, дальновидны или ослеплены, радушны или равнодушны, но справедливость — такая же игра витающего среди абстракций ума, как идеальный газ, как корень квадратный из минус единицы.
И вот он взял те формулы учения, что не несли в себе ни проскрипций, с которых еще во времена она начинал в Риме каждый очередной император, ни розового бреда об основанном на совместном владении грядущем справедливом устройстве, выдернул оттуда длинную, как ленточный червь, цепь предназначенных стать общими рельсов, кранов, плугов, котлов, шатунов и кривошипов, и заменил их душой. Как будто люди заботятся друг о друге шатунами и кривошипами! Будь у одного паровоза хоть тысяча юридических владельцев, одновременных или поочередных, реально владеет им либо машинист, либо тот, кто стоит над машинистом с винтовкой в руке. Люди заботятся друг о друге желаниями и поступками и, если достаточно большая часть людей постоянно помнит, что каждое насилие, каждый корыстный обман, каждое неуважение подвергают риску весь род людской, уменьшая его шансы выстоять в такой несправедливой, мертвой, вакуумной, атомной, лучевой, бактериальной Вселенной — какая разница, кому принадлежит паровоз?
Да, люди способны к этому в разной степени, люди — разные. Но лучше уж знать, кто чего стоит, нежели средствами государственного насилия заставлять всех быть с виду единообразными альтруистами, а в сущности — просто притворяться и лишь звоночка ждать, чтобы броситься друг на друга… Да, некоторые люди к этому пока неспособны совсем. Они до сих пор иногда стреляют.
Зачем, господи, зачем они до сих пор стреляют?!
Я и не заметил, как присел покурить на дощатую лавочку у крыльца. Там теперь музей. А в самом доме Прибыловского вот уж почти век — центральные учреждения патриаршества.
Отсюда вчера вечером вышел шестой, и в мыслях не держа, что не дойдет до своей квартиры.
Зачем они стреляют?
«Найди их и убей».
Пора.
2
Я представился, показав удостоверение. Стремительно застегивая верхнюю пуговицу кителя, дежурный вскочил.
— Вас ждут, господин полковник. Нас еще с вечера предупредили из министерства.
— Кто ведет следствие?
— Майор Усольцев. Комната девять.
Усольцев был еще сравнительно молод, но узкое, постное лицо с цепкими глазами выдавало опытного и настырного сыскаря. Если такой возьмет след — его уже не собьешь.
— Я никаким образом не собираюсь ущемлять ваших прав, — обменявшись с ним рукопожатием, сразу сказал я. — Я не собираюсь даже контролировать вас. Меня просто интересует это дело. Есть основания полагать, что оно связано с гибелью «Цесаревича».
— Вот как, — помолчав и собравшись с мыслями, проговорил Усольцев. — Тогда все ясно. То есть, конечно, не все… Какова природа этой связи, вы можете хотя бы намекнуть?
— Если бы это облегчило поиски стрелявшего, я бы это сделал. Но покамест не стану вас путать, не обессудьте. Все очень неопределенно.
— Хорошо, господин полковник, тогда оставим это, — он опять помолчал. — Стрелявших было двое. Жизнь патриарха, по видимому, вне опасности, но состояние очень тяжелое, и он до сих пор без сознания. Пять попаданий — просто чудо, что ни одного смертельного… Присаживайтесь здесь. Вот пепельница, если угодно. Вы завтракали? Я могу приказать принести чаю…
— А вы — завтракали? — улыбнулся я. Он смущенно провел ладонью по не по возрасту редким волосам.
— Я ужинал в четыре утра, так что это вполне сойдет за завтрак.
— Я перекусил в гравилете. Мотив?
— В сущности, нет мотива.
Ага, подумал я.
— Сначала мы полагали, что это какое-то странное ограбление, но через два часа после дела портфель патриарха был найден на улице, под кустами Московского бульвара.
— Он был открыт?
— Да, но, судя по всему, из него ничего не было взято. Хотя в нем рылись, и на одной из бумаг мы нашли отпечаток мизинца. Портфель отброшен, словно на бегу или из авто, часть бумаг вывалилась на землю.
— Что вообще в портфеле?
— Ничего заманчивого для грабителей. Кисок рукописи, над которой работает патриарх. Личные дела претендентов на освобождающуюся должность заведующего лабораторией этического аутокондиционирования при патриаршестве — прежний завлаб избран депутатом Думы. Сборник адаптированных для детей скандинавских саг в переводе Уле Ванганена — секретарь патриарха показал, что патриарх купил сборник вчера днем, в подарок внуку. Финансовый отчет ризничего…
— Возможно, грабители полагали, что там есть нечто более ценное, а убедившись в ошибке, избавились от улики.
— Это единственное, что приходит на ум. Но кому в здравом уме шарахнет в голову, что патриарх носит в портфеле бриллианты или наркотики?
— Возможно, ограбление — лишь маскировка политической акции? — спросил я. Усольцев пожал плечами и ответил:
— На редкость бездарная.
— А возможно, некто был не в здравом уме?
Майор помолчал с отсутствующим видом.
— Эту реплику, господин полковник, такую многозначительную и загадочную, я отношу на счет той информации, которой вы, вероятно, располагаете, а я — нет. Ничего ответить вам не могу.
— Господин майор, вы поняли меня превратно! — сказал я, а сам подумал: какой ершистый. — Я имел лишь в виду осведомиться, не было ли в городе в последнее время каких-то иных, менее значительных происшествий, связанных с необъяснимым вандализмом, неспровоцированной агрессией и так далее. Возможно, просто действовал маньяк!
Усольцев несколько секунд испытующе глядел мне в лицо, а потом вдруг широко улыбнулся, как бы прося прощения за вспышку. И я смущенно подумал, что, не дай бог, он мог расценить мои слова о неспровоцированной агрессии как намек на свое собственное поведение. Мне совсем не хотелось его обижать. Он мне нравился.
— Мне это не приходило в голову, — признался он, — но, видимо, потому, что я доподлинно знаю, таких инцидентов в городе не было. Что же до маньяка, то… во-первых, у нас их два, а это уже редчайший случай — чтобы два маньяка действовали совместно. Во-вторых, дело было не импульсивным, а подготовленным. От патриаршества до дома патриарха менее получаса ходьбы, и в хорошую погоду патриарх, разумеется, не пользовался авто. Покушение было осуществлено в самом удобном для этого месте, в сквере, примыкающем к жилому кварталу, где расположен дом патриарха — там темнее и безлюднее, чем где либо еще на маршруте от патриаршества до дома, и маньяки явно уже отследили, как патриарх ходит и когда. Расположились они тоже не случайным образом, а это значит, что они явно профессионалы, по крайней мере — один из них.
С этими словами Усольцев встал, подойдя к столу, взял одну из бумаг и принес мне. Это был реконструированный по показателям немногих свидетелей план — кто как стоял, кто как перемещался, красным пунктиром были нанесены трассы выстрелов — их было восемь, красными крестиками — места, где находился патриарх в моменты попаданий, их было пять, он еще пытался бежать, потом полз, и жирным красным кружком было обозначено место, где он замер. Я смотрел, и вся картина этой отчаянной трех— или четырехсекундной битвы одного безоружного с двумя вооруженными ярче яви стояла у меня перед глазами, зубы скрипнули от жалости к нему и ненависти к ним.
«Найди их и убей».
Да, они очень правильно встали. После первого выстрела патриарх побежал — прямо на второго, и сразу напоролся на пулю, пробившую правое легкое.
А вот стреляли они неважно. Бандиты, да, но не террористы-профессионалы. Действительно, похоже скорее на разбойное нападение, чем на теракт.
Если бы они хотели его убить, они бы его убили, понял я. Да, они могли подумать, что он мертв, но никто им не мешал, никто их не спугнул, счет отнюдь не шел на секунды, если бы их специальной целью было именно убийство, любой из них мог сделать несколько шагов и добить лежачего в упор.
Значит, целью было ограбление.
Но, если им нужен был портфель, зачем такая пальба? Подойти, оглушить, вырвать… просто пшикнуть чем-нибудь в лицо, хвать и наутек!
И, кроме того, что они, в самом-то деле, ожидали найти в портфеле патриарха коммунистов, неукоснительно, хоть и не столь яро, как монахи христиан, придерживающихся принципа нестяжания?
Значит, и не ограбление.
Жестоко, но не до смерти, изувечить, а изобразить ограбление, чтобы запутать нас?
Но Усольцев прав, изобразить можно было бы и получше — бросить портфель не под кусты в двух шагах от места покушения, а в ту же, например, Волгу, пихнув внутрь пару камней — и никто бы его никогда не нашел.
А может, им нужны были именно бумаги? Ознакомились, узнали нечто — и вышвырнули, как мусор. Но что? Финансовый отчет? Подробности биографии какого-то из кандидатов в завлабы? Темный лес…
Надо тщательно проанализировать все бумаги.
— Баллистическая экспертиза? — спросил я.
— «Вальтер» и «макаров». Две пули попали в деревья, одна в стену дальнего дома напротив. «Вальтер» темный. А вот из «макарова» три года назад стреляли в инкассатора в Игарке. Стрелявший сидит, я затребовал его дело.
— Что с отпечатком?
— На бумагах и на портфеле, конечно, полно отпечатков, но все принадлежат работникам патриаршества, в основном — самому патриарху. И один мизинец, который безымянный. В смысле, неизвестно чей. На папке с личными делами. Но не похоже, что ее открывали — портфель, скорее, был бегло осмотрен в поисках чего-то другого. Просматривал человек в перчатках, явно, он и портфель хватал — а второй, судя по этакой стремительной смазанности отпечатка, просто отпихнул папку от себя, как бы в раздражении, вот так, — Усольцев показал жестом, — ребром ладони, и мизинчиком случайно задел, мог сам этого и не заметить.
— То есть, похоже, они все-таки рассчитывали обнаружить в портфеле то ли ожерелье Марии-Антуанетты, то ли Кохинур — а напоровшись на мирную бюрократию, в сердцах вышвырнули ее вон?
— Точно так. В нашем банке таких отпечатков нет. Оператор сейчас работает с единой сетью.
— Кто-нибудь видел нападавших?
— Видели, как двое выбежали из сквера сразу после пальбы и скрылись за углом, а там раздался шум отъезжающего авто. Авто не видел, кажется, ни один человек.
— Приметы?
— Сделали фотороботы на обоих. Но весьма некачественные — ночь. Идемте к дисплею.
Первое возникшее на экране лицо, довольно грубо набросанное не вполне вязавшимися друг с другом группами черт, ничего мне не говорило. Зато второе…
Эта просторная плоская рожа… Эта благородная копна седых, достойных какого-нибудь гениального академика, волос, зачесанных назад… Сердце у меня торкнулось в горло, я даже ударил себя ладонью по колену от предчувствия удачи.
— Знаете, — стараясь говорить спокойно, предложил я, — затребуйте-ка из банка данных единой сети портрет Бени Цына и сличите через идентификатор.
— Беня Цын? — переспросил Усольцев.
— Да. По-моему, ни один человек в мире не знает, как его по отчеству. В крайнем случае — Б.Цын.
— Старый друган? — осведомился Усольцев, трепеща пальцами по клавиатуре.
— Не исключено.
Лицо на экране уменьшилось вдвое и съехало в левую часть поля, а на правой появился портрет Бени. В левом верхнем углу заколотились цифры, идентификатор у нас на глазах прикидывал вероятность совпадения, вот высветилось «96.30», но я и так чувствовал: он, он! — это же, наверное, чувствует гончая, взявшая след. Крупный, представительный, очень мужественный — с точки зрения современных пасифай, с ума сходящих по быкам, раскосый, и эта вечная кривая и глубокомысленная улыбочка, трогающая губы едва ли не после каждой с трудом сказанной корявой фразы: мол, мы-то с тобой понимаем, о чем шепот, но зачем посвящать окружающих дураков — этакий сибирский Лука Брацци, родился во Владивостоке, карьеру начал вышибалой в знаменитых на весь мир увеселительных заведениях Ханты-Мансийска, там же попал в поле зрения курьеров тонкинского наркоклана, а когда мы с китайскими и индокитайскими коллегами рубили клан в капусту, впервые попал на глаза и мне.
— Он! — восхищенно воскликнул Усольцев. — Ей-Богу! Девяносто шесть и три — он!
Яростная, алчная сыскная радость так клокотала во мне, что, боюсь, я не удержался от толики позерства — сложив руки на груди, откинулся на спинку кресла и сказал:
— Ну, остальное — дело техники, не так ли?
Все оказалось до смешного просто. Впервые в этом деле. Сорок минут спустя, о том, что стюардесса наблюдает в пятом салоне человека, сходного с выданным на экран радиорубки портретом, сообщили с борта лайнера, подлетающего к Южно-Сахалинску. И лайнер этот шел от Симбирска, от нас. Беня драпал.
В кассе аэровокзала — кассир еще даже не успел смениться — сообщили, что человек с предъявленной фотографии купил билет всего за сорок минут до взлета. Это произошло почти через пять часов после расправы с патриархом. Почему Беня так медлил? Где второй?
Ничего, скоро все узнаем. Скоро, скоро, скоро! Меня била дрожь. Это не бедняга Кисленко, чья-то «пешка». Это — настоящая тварь, и из нее мы выкачаем все.
Человек этот, сказал кассир, чего-то боялся. Озирался и съеживался, такой крупный, представительный, а все будто хотел стать меньше ростом. И когда шел от кассы на посадку, держался в самой гуще толпы: обычно люди, попавшие в очередь к турникету последними, так последними и держатся, а этот все норовил пропихнуться туда, где его не видно в каше, потому я и обратил внимание…
Боялся. Нас боялся? Или у них тут своя разборка?
Скоро все узнаем. Скоро, скоро!
Беню взяли аккуратно и без помарок. Он сел в таксомотор, велел ехать в порт — в Японию, что ли, собрался? будет тебе Япония, будут тебе все Филиппины и Наньшацуньдао в придачу! — и слегка отмяк. Боялись, что он по прежнему вооружен и может сдуру начать палить, поэтому решили брать подальше от людей. Перегораживающий шоссе шлагбаум портовой узкоколейки оказался опущен, шофер остановил авто, и из-за обступивших дорогу ярких рекламных щитов — «С аквалангом — на Монерон!», «На яхтах Парфенова вам не страшна любая непогода!», «Я переплыл пролив Лаперуза — а ты?» — как из-под земли вымахнули четверо ребят с пистолетами, нацеленными Бене в голову сквозь окна таксомотора. Беня уж и не дергался, лишь понурился устало — и сам вышел наружу.
Оружия при нем не оказалось.
Меньше чем через час после прибытия в Южно-Сахалинск Беня уже пустился в обратный путь сюда, к нам. В наручниках. Теперь можно было то ли позавтракать, то ли пообедать.
— Свидетелей сюда, — сказал я, уже держа ложку в руках.
3
— Здравствуй, Беня, — сказал я. — Сколько лет, сколько зим.
— Сколько лий, сколько зям, — мрачно пошутил громила в ответ.
— Присаживайся. Вот майор Усольцев, звать его Матвей Серафимович. Он тобой будет заниматься непосредственно. Ты с ним еще не знаком.
— Очень приятно, — сказал Беня и кривовато усмехнулся: мол мы-то понимаем, что не очень, но нет смысла говорить об очевидном.
— Но сперва я тебя поспрашиваю. На правах старого другана.
— Спрашивайте…
Я помедлил. Он был какой-то безучастный, выбитый из колеи какой-то.
— Что ж ты, Беня. За тонкинскую дурь отсидел, от ограбления алмазного транспорта отмазался счастливо — так теперь тебе для коллекции мокряк понадобился?
— Не понимаю, о чем шепот, начальник.
Я ткнул клавишу монитора — на экране высветился Бенин фоторобот.
— Узнаешь?
— Узнавать — дело ваше…
— Ладно, будем мотыляться с опознанием…
Все пять свидетелей, со слов которых составлялся фоторобот, практически без колебаний указали на Цына, затерявшегося среди шести работников полицейского управления, приблизительно схожих с Беней по внешности и комплекции.
— Ну?
— Вы на меня смотрите — они на меня и показывают.
— Улетал ты, Беня, отсюда, кассир тебя узнал.
— А я этого и не скрываю…
Я перевел взгляд на модные Бенины туфли. Оперативники срисовали их еще в гравилете.
— Тапочки у тебя клевые, — я сунул Цыну под нос фотографию отпечатка следа с почвы скверика, где произошло покушение. — Рисуночек, видишь, точь-в-точь как за кустом, где убийца прятался.
Цын совсем заскучал. На отпечаток глянул мельком, опустил глаза. Когда заговорил, в голосе была гордая безнадежность — умираю, но не сдаюсь.
— Какой убийца? Не понимаю я вас… А тапочки я в здешнем магазине покупал, днями. Там за прилавком коробок сто стояло.
— Горбатого лепишь, Беня. Тапочки шанхайские, модельные, здесь таких и не видывали.
Он уж не нашелся, что ответить. Глядел на пол и отчаянно тосковал.
— Ну, хорошо. Трех часов полета, я смотрю, тебе мало показалось. Посиди теперь в КПЗ, еще часика три подумай, — я сделал вид, что тяну палец к кнопке вызова конвойного.
— А ордерок, извините, у вас имеется? — уныло спросил он.
— Да что ж ты дурика из меня делаешь? Для задержания на сутки никаких ордеров не требуется.
— А потом, — осторожно спросил Беня. Какая-то странная это была осторожность. Опасливость даже.
— А потом, — вдохновенно пустил я пробный шар, — если не получится у нас задушевной беседы, отпущу тебя на все четыре стороны.
И тут он совсем допустил слабину. Моргнул. Сглотнул. Вазомоторика, беда с нею всем на свете цынам.
— Прямо здесь?!
Он боялся выходить на улицу.
Он попал в какой-то переплет. И убийство он брать на себя не хотел, и на волю здесь, в Симбирске, его тоже, мягко говоря, не тянуло. Драпал он явно не от нас.
— А где же? — простодушно спросил я.
— Где хватали, туда и отвезите, — с нахальством отчаяния пробормотал он. — Что ж мне — второй раз на билет тратиться? У меня башли не казенные…
— Ну, знаешь, сегодня ты какой-то совсем нелепый, — ответил я. — А кстати, что ты на Сахалине делать собрался?
— На Монерон С аквалангом! — плаксиво выкрикнул он.
— Да, там говорят, красиво… Гроты… Что же сделаешь. Если взяли мы тебя понапрасну — полицейский гравилет, конечно, гонять туда не станем еще раз, но по справедливости скинемся с майором тебе на билет. А уж остальное — сам. И на вокзал сам, и в кассу сам…
Он угрюмо молчал. Ох, скушно ему было, ох, страшно!
И тут допустил слабину я. Солгал. Очень редко я такими прихватцами пользуюсь — грубо это, делу, в конечном счете, может скорее повредить, нежели помочь, и как-то даже неспортивно. Всегда неприятный осадок остается на душе. Будто сам себя, своею волей, уровнял со шпаной. Но Беня буквально напрашивался. Он созрел, надо было дожать чуть-чуть. Нет — так он просто плюнет на меня, как на вруна и провокатора, и будет прав, а я получу по заслугам. И придется впрямь отпускать его на улицу, куда он так не хочет — и, видимо, не хочет неспроста, так лучше его от этой улицы хоть так поберечь. Я вызвал конвойного. И Усольцев уже кусал губу, с досадой и непониманием косясь в мою сторону. И Цын уже встал, сутулясь, и повернулся к двери, чтобы идти. И тут я доверительно сказал ему в спину:
— Но ведь, Беня, и патриарх тебя признал.
Он стремительно обернулся ко мне.
— Так он живой?!
Усольцев не выдержал — захохотал от души и даже прихлопнул себя обеими руками по ляжкам. Беня растерянно уставился на него, потом опять на меня, широкое лицо его стало пунцовым.
— Живой, Беня, живой. Честное слово. Что ж ты себя так пугаешь? Нет на тебе мокряка. Садись-ка сюда сызнова, и будем разговаривать по-настоящему.
Он решительно шагнул назад. Взглядом я отослал конвойного. Беня уселся.
— А ежели по-настоящему, — сказал он, всерьез волнуясь, — если по настоящему… Он же все врет! Демагог! Поет сладкие песни, всех со всеми как бы мирить пытается — а сам личной власти хочет, диктатуры! Вот, мол, я самый добрый, самый правильный, без меня вы — никуда. Слушайтесь! А для меня это просто невыносимо, я ж в молодости сам коммунизмом увлекался, чуть обет не дал… Вовремя скумекал, что вранье это все, просто так вот дурят народ.
Я откинулся на спинку стула. Я был ошеломлен: чего угодно ожидал, только не этого. Словно паук вдруг закукарекал из своей паутины.
— А портфельчик этот? — горячился Беня. Он не играл, не придуривался — чувствовалось, что его прорвало и говорит он о наболевшем, о сокровенном, о том, чем и поделиться-то ему было не с кем доселе. — Я никак понять не мог, чего он все время с портфельчиком ходит. А третьего дня на меня как откровение какое накатило: там же деньги, ценности. Сосет, вымогает каждый день у рядовых коммунистов — как бы пожертвования всякие, на нужды, на фонды научные и всякие программы… а сам потихоньку, по вечерам, когда все уж разойдутся, домой перетаскивает! А там — то ли под яблоньку до лучших дней, то ли в Швейцарию как-то переправляет, на случай загранкомандировок…
— Беня, — сказал я, слегка придя в себя. Глянул на Усольцева: тот тоже сидел в обалдении. — Беня, дружище, да в своем ли ты уме? Откуда-ты слов-то этих набрался: демагог, диктатура, рядовые коммунисты… загранкомандировки… Кто тебе напел?
— Верьте слову, — убежденно ответил он. — Так и есть. Сам понял.
— И когда же ты это понял?
— Кумекать-то я уже давно начал… уже неделю здесь. А третьего, говорю, дня вдруг осенило. И как-то, знаете, легко мне сразу стало, будто весь мир сделался прозрачный и понятный. Вот же, думаю — патриарх, на всей земле уважаемый человек, учить всех лезет — а такая свинья, хуже нас, грешных!
— Так. Ну, и какие ценности ты в портфеле обнаружил?
— Тут промашка вышла, — с досадой признался Цын. — Как раз в тот вечер он одни бумажки вез. Потому я и влип.
— Не понял, — сказал я. — Где влип? Во что влип?
— Да со своими, — нехотя сказал Беня. — Ведь как получалось-то? Я уж так уверен был, что подговорил одного другана вместе взяться… Одному как-то не личило, не верилось мне, что патриарх и впрямь без охраны ходит. И мне не только портфель нужен был, мне наказать его хотелось! Может, и не до смерти, это уж как Бог ему даст, но — как следует! А другану на идеологию мою начхать, конечно, ему материю подавай. В общем, наплел я с три короба, чтоб его увлечь — а у нас такого не прощают…
Да. Если он плел со столь же убежденным видом, что теперь — кто угодно бы поверил.
— И где же твой друган?
— Он, как увидел, что мы пустышку взяли — озверел. За рулем я был, а он ствол мне в бок: верти, говорит, туда, где мне лапшу на уши вешал, будем с тобой разбираться. И была бы мне хана, если бы не извернулся я. Уж приехали в его компанию, уж из тачки вышли — дал я ему возле дома по темечку, и ноги в руки. Теперь-то, думаю, они меня ищут не хуже, чем вы…
— Так что же это за компания у тебя тут? — не выдержал Усольцев. Я понял его нетерпение — его более всего волновали дела вверенного ему района, и весть о том, что под носом у него шурует целая группа, явно довела его до умоисступления. Удивляюсь его выдержке, он и так долго терпел.
Беня моргнул. Покосился на Усольцева.
— Да я и сам толком не знаю, — осторожно сказал он. — Я сюда один прилетел, думал отдохнуть маленько. Тут же коммунисты, благорастворение… А другана этого на улице встретил. Его это компания.
С какой-то нехорошей мысли сбил меня поворот разговора. Компания — это, безусловно, важно, очень важно, но нечто значительно более важное ворохнулось в мозгу и растворилось. Осталась тревога.
— Ты, Беня, не темни!
— Век воли не видать, господин майор!
— Адрес?
— В Ишеевке это. Хлебная улица, дом сорок шесть. Двухэтажный такой особнячок, принадлежит торговцу-зеленщику Можееву. Торговец-то он торговец, да только не зеленщик.
— А чем торгует?
— Да всем помаленьку. В основном, кажись, дурью.
Не слишком ли легко он всех сдает? Да нет, он нашими руками надеется от них избавиться и так обезопасить себя — это бывает. Что же мне такое показалось?
— План дома нарисуешь?
— Только уж вы на меня не ссылайтесь, ежели с ними беседовать будете.
— Какой разговор, Беня.
— Для меня — самый важный. Господина полковника-то я давно знаю, он человек честный и своих в обиду не даст. А с вами, извиняюсь, дела пока не имел…
— Ты уж к нам в свои записался? — ухмыльнулся Усольцев.
— Сотрудничество — вещь пользительная. Мы за мирное существование двух систем.
Майор опять опешил.
— Чего? Каких систем?
Вертя в пальцах карандаш и примериваясь, как рисовать, Цын отмахнулся.
— Это из юности моей коммунистической, вам не понять. Вот тут, значится, крылечко…
Усольцев вопросительно глянул на меня. Я пожал плечами. Что за околесицу Беня нынче несет…
— С этой стороны в первом этаже шесть окошек, во втором — четыре…
Конечно, и в Ишеевке, и даже в самом Симбирске устроить базу — остроумно и верно. Полно принадлежащих патриаршеству странноприимных домов, полно частных пансионатов — паломников и своих, и зарубежных не счесть, послушников, едущих хоть словом перемолвиться с патриархом перед обетами, не счесть журналистов и ученых, опять-таки и своих, и из иных стран… Легко затеряться.
Нет, не об этом я подумал.
Беня, прикусив кончик языка, старательно чертил.
Конечно, скорее всего, мы там никого не застанем. Опасаясь, что мы найдем Беню раньше и расколем, они, естественно, должны уже слинять давно, ради чего бы они в этом особняке Мокеева не собирались…
Нет, не то.
Беня поднял на меня виноватые глаза.
— Вы уж поаккуратней, — сказал он. — То ж малина… опорный пункт, по-вашему. Сейчас там три, а сейчас — пятеро…
Там оказалось двенадцать. И уйти они ни как не могли — держали товар, о котором Беня и слыхом не слыхал. В подвале бывшего не опорным, а перевалочным пунктом дома дожидалась транспорта рекордная партия героина-сырца для Европы, такую не увезешь в чемодане. Подготовленный канал с сопровождением, со всеми документами, подстраховками, таможенными льготами должен был сработать назавтра. Как эти люди проклинали Беню, втравившего одного из них в дурацкое, пустое и принявшее столь неожиданный оборот дело! Правда, тюкнутый в темечко особенно не распространялся о том, как на пустышке купил его Беня — стеснялся выглядеть дураком…
Все это я узнал позднее.
Коль скоро тюкнутый не зарегистрирован ни в одном травмопункте, ни в одной из больниц города, значит, скорее всего, он в доме — так рассудили мы с Усольцевым. Дом аккуратно обложили ишеевские оперативники через четверть часа после того, как Беня начал давать показания. Но Усольцеву не терпелось пощупать самому. Следить за точкой весь день, два, три казалось ему в сложившейся ситуации бессмысленным — а вдруг, к тому же, Беня соврал и нет там никакой малины? — и потому невыносимым. Это было его дело — я расследовал катастрофу «Цесаревича», покушение на патриарха. Но когда, сильно на себя раздосадованный за то, что до сих пор и слыхом не слыхал об активном местном торговце дурью, Усольцев сказал:
— Ну, что же, я вызываю свою группу, — я ответил:
— Я тоже.
— Вам-то зачем, Александр Львович?
От возбуждения и тревоги я стал болтлив не в меру.
— Понимаете… полный дурак я только с женщинами. Что мне скажут — тому и верю. А тут чудится мне какой-то подвох, а какой — никак не соображу. Значит, лучше быть поближе к делу.
Начинало смеркаться, когда два авто подъехали к углу Хлебной и Дамского проспекта, где были сосредоточены почти все лучшие в Ишеевке заманчивые для женщин магазины, и, не выворачивая на Хлебную, остановились. В дороге мы по радио успели получить дополнительные сведения: сам Мокеев с семьей уже неделю как убыл на воды, дома оставив одного управляющего, да два приехавших откуда-то из Сибири незнатных журналиста снимают у него мансарду. Круг знакомств у них обширный. С момента установления наблюдения из дома никто не выходил и в дом не входил, есть ли кто внутри — неизвестно.
— Держись ко мне поближе на всякий случай, — поправляя кобуру под мышкой, сказал я Рамилю. Тот механически кивнул, явно не очень-то меня слыша, глаза горят, щеки горят — первое серьезное дело.
— Ну зачем вам-то рисковать? — полушепотом сказал мне командир группы «Добро» Игорь Сорокин. И С раскованной прямотой добавил: — Ведь под сорок уже, реакция не та…
Я только отмахнулся. Меня будто бес какой-то гнал. Амок.
Эта операция была поспешно совершаемой глупостью, от начала и до конца. И хотя мы взяли всех, в том числе и тюкнутого, в том числе и товар — если бы не подвернулось «Добро», охранники товара постреляли бы половину десятки Усольцева, а то и больше. Сам того не ведая, Беня отправил нас в осиное гнездо.
И вот, когда мы уже заняли позиции под окнами, и на звонки в дверь никто не отвечал, а потом управляющий, якобы сонно стал спрашивать, что надо, и сообщил, что хозяин в отъезде, и честный Усольцев уже помахал у него перед носом ордером на обыск, и первая пятерка уже вошла в дом, я вдруг понял, какая мысль, ровно никак не могущий родиться младенец, крутилась и пихалась пятками у меня в башке.
Это был не Беня.
Со мной разговаривал тот самый дьявол. Тот самый мутантный вирус. Просто Кисленко, человек порядочный и добрый, не выдержал раздвоения, а преступник Цын с дьяволом сжился легко, он даже не понял, что одержим. Все побуждения и повадки дьявола были ему сродни. Но его бред про сокровища рядовых коммунистов и личную диктатуру патриарха произносили из мрачной бездны те же уста, которые подсказывали убийце великого князя бред про красный флаг и про то, что народу нечего жрать.
Я похолодел от жуткой догадки. Идиот, нужно срочно ехать обратно, манежить Беню до изнеможения, в какой момент его осенило, где, кто находился рядом, что ели, что пили… И тут в доме началась пальба.
Державший соседнее с моим, угловое окно Рамиль рванулся к крыльцу дома. Мальчишка, сопляк, товарищам помогать нужно, делая как следует то, что поручено тебе, а не мечась между тем, что поручено одному, другому, третьему товарищу… С диким звоном разлетелось окно — не мое, Рамилево — и из дома вниз выпрыгнул, растопырив руки крестом на фоне темнеющего неба, вооруженный человек.
Рамиль рванулся обратно. Чуть оскользнулся на росистой траве. Выровнялся мгновенно, быстрый и сильный, как барс, но такой беззащитно мягкий, почти жидкий, по сравнению с мертвой твердостью металла, которая — я это чувствовал, знал всей кожей — то ли уже вытянулась, то ли уже вытягивается ему навстречу. Я успел выстрелить в ответ, успел размашисто прыгнуть на Рамиля, успел головой и плечом сшибить его с ног и убрать с той невидимой, тонкой, как волос, прямой, на которой в эту секунду никак нельзя было находиться живому.
И еще успел подумать, ужасно глупо: вот что чувствует воздушный шарик, когда в него тычут горящим окурком. Мир лопнул.
4
Боль была такая…
Боль.
Боль.
Такая боль, что казалось — это из-за нее темно. Из-за нее нельзя пошевелиться. Если бы не такая боль, пошевелиться было бы можно.
Особенно больно было дышать.
Опять бился в темноте под опущенными, намертво приросшими к глазным яблокам безголовый гусь, он не мог даже пискнуть, даже намекнуть, как ему плохо, больно и страшно — и лишь бессильно хлопал широкими крыльями по земле, чуть подпрыгивая при каждом хлопке, но о том, чтобы улететь с этого ужасного, залитого его кровью пятачка, и речи быть не могло.
Кажется, я маленький и больной. Инфлюэнца? Ветрянка? Не помню… Температура, это точно. Очень высокая температура. И боль. Но мама рядом. Это я чувствую даже в темноте. Она — рядом, и что-то шепчет ласково. Значит, все будет хорошо. Я поправлюсь. Надо только потерпеть, переждать. Маменька, так больно мне… дай попить… не могу дышать, сними с меня камень.
Хлоп-хлоп крыльями…
Хлоп-хлоп веками. В первое мгновение свет показался непереносимо ярким.
В палате едва тлел синий ночник. Я был распластан, капельница — в сгиб локтя, кислородная трубочка прилеплена пластырем к верхней губе. Это из нее веет прямо в ноздрю свежим — так, что может дышать, почти не дыша. Рядом не мама — Лиза. Она осунулась. Она молилась. Я слышал, как она, сжав кулачки, просто-таки требует чего-то у святого Пантелеймона и еще у какой-то Ксении… Смешная. Под глазами у нее пятна, синие, как ночник. Наверное, она давно так сидит.
Я шевельнул губами и засипел. Она вскинулась.
— Саша!
Я опять засипел.
— Тебе нельзя говорить! Сашенька, родненький, пожалуйста — лежи спокойно! Все уже хорошо! Только надо потерпеть…
Я засипел.
— Чего ты хочешь, Сашенька? Что мне сделать? Подушечку поправить? Или пописать надо? Если да — мигни!
— Прости, — просипел я.
Слезы хлынули у нее из глаз.
— Прости, для надежности повторил я.
Прости за то, что под этими проклятыми окнами я о тебе даже не вспомнил. Не знаю, как так могло случиться. Даже не подумал, как ты без меня будешь. Даже не подумал о долге перед Полей, перед тобой… перед Стасей, которую ты не знаешь, но с которой все равно с родни… она не любит этого слова, но, пока я ей нужен, у меня перед нею долг, с этим ничего не поделаешь… Подумал только о чужом мальчишке — там, в Отузах, где нам с тобою и с Полей было так хорошо, он со сверкающими глазами завороженно слушал на вечерней веранде, под звездами, среди винограда, мои рассказы…
Всего этого мне нипочем было сейчас не сказать.
— Ксения… кто? — просипел я.
Она улыбнулась, гладила меня по руке, поправляла одеяло…
— Ты слышал, да? Как чудесно! Ты совсем пришел в себя, родненький! Это такая очень достойная женщина, тебе бы понравилась. Святая Ксения Петербургская. У нее муж умер скоропостижно, без причастия, и значит, в рай попасть не мог, но она, чтоб его из ада вытащить, в его одежду оделась, стала говорить, что умерла она, Ксения, все имущество бедным раздала, и еще долго жила праведной жизнью как бы за него. У нас на Смоленском похоронена, в трех шагах от дома. Хочешь — сходим потом вместе?
— Она… от чего? — спросил я, и сразу понял, что плохо сказал — будто речь шла о таблетке. Но слово — не воробей.
— Для здоровья, для супружеского ладу…
— А Пантелеймон что же?
Она и смеялась, и плакала.
— Сашенька, ну это же не кабинет министров! Один по энергии, другой по транспорту… Они просто помогают в нужде — а там уж с кем лучше всего отношения сложатся. Вот мне, например, с Ксюшей легче всего, доверительнее…
Из-за двери палаты донесся шум. Резкие выкрики. Голоса — женские. Дверь с грохотом, невыносимым в тишине и боли, распахнулась.
— Нельзя, у него уже есть!.. — крикнула медсестра, пытаясь буквально забаррикадировать дверь собой, и осеклась, растерянно оглядываясь на нас я так и не узнал, что у меня, по ее мнению, уже есть. С закушенной губой, с беспомощно распахнутыми, сразу ослепшими со света глазами, отпихнув сестру плечом, в палату ворвалась Стася.
Лиза медленно поднялась.
Стало тихо.
Легонечко веяла в ноздрю струйка свежего воздуха, казалось, она чуть шелестит. И еще сердце замолотило, как боксер в грушу — то несколько диких ударов подряд, то пауза.
— Ну вот… — просипел я.
Маменька, дай мне попить…
— Раз вы встретились — значит, я умру.
Они стояли рядом. И, хоть были совсем не похожи, мне казалось, у меня двоится в глазах. Это напоминало комбинированную съемку — бывает такое в непритязательных кинокомедиях: одного и того же актера, скажем, снимают как двух братьев-близнецов, а все путаются, ничего понять не могут, скандалят иногда, и так до самой развязки. Братья встречаются в одном кадре, пожимают друг другу руки и хохочут.
— Здесь никто не хохотал.
— Это Елизавета Николаевна, — просипел я, — моя жена. Это Станислава Соломоновна… тоже моя жена.
— Из-звините… — дребезжащим, совершенно чужим голосом выдавила Стася, круто повернулась, и, прострочив короткую очередь каблучками по кафельному полу, вылетела из палаты. Какое-то мгновение Лиза, приоткрыв рот в своем детском недоумении, смотрела ей в след. Потом вновь перевела взгляд на меня. Губы у нее затряслись. Я еще успел увидеть, как она бросилась мимо окаменевшей медсестры за Стасей.
Очнулся я в реанимации. Боль была везде.
Хлоп-хлоп крыльями…
Я не хотел открывать глаза. Лиза была рядом, я слышал. Значит, все хорошо. Пока я молчу, пока лежу с закрытыми глазами, она будет здесь. Едва слышно, напевно, отрешенно, она шептала то-то свое… Акафист? Да, акафист.
— …Слабым беспомощным ребенком родился я в мир, но Твой Ангел простер светлые крылья, охраняя мне колыбель. С тех пор любовь Твоя сияет на всех путях моих, чудно руководя меня к свету вечности…
Мне было пять лет.
— …Господи, как хорошо гостить у Тебя. Вся природа таинственно шепчет, вся полна ласки, птицы и звери носят печаль Твоей любви. Благословенна мать земля с ее скоротекущей красотой, пробуждающей тоску по вечной отчизне…
Голосок у нее был севший, хрипловатый. Наверное, она много плакала.
— …При свете месяца и песне соловья стоят долины и леса в своих белоснежных подвенечных уборах. Вся земля — невеста твоя, она ждет Нетленного Жениха. Если ты траву так одеваешь, то как же нас преобразишь в будущий век воскресения, как просвятятся тела, как засияют души! Слава Тебе, зажегшему впереди яркий свет вечной жизни! Слава Тебе за надежду бессмертной идеальной нетленной красоты! Слава Тебе, Боже, за все вовеки!
Мне было пять лет, когда летом, в подмосковном нашем имении, я забрел в неурочный час на хозяйственный двор. Что я искал, во что играл, фантазируя в одиночестве — не помню. Какая разница. В памяти остался только гусь.
— …Не страшны бури житейские тому, у кого в сердце сияет светильник Твоего огня. Кругом непогода и тьма, ужас и завывание ветра. А в душе у него тишина и свет. Там Христос!
Нам ли он должен был пойти на стол, работникам ли — этого я тоже не знаю. Он лежал на земле, кровь уже не текла из нелепого обрубка шеи — а я-то, маленький, даже не понял поначалу, что с ним, с громадным белым красавцем, и где у него голова. Но он еще молотил крыльями, и крылья были такие мощные, такие широкие, казалось, на них играючи можно подняться хоть до солнца. Но он лишь чуть подпрыгивал, когда просторные, уже запыленные, уже испачканные землею и кровью лопасти били оземь. Замрет бессильной грудой, как бы готовясь, сосредотачиваясь, потом отчаянно, изо всех сил: хлоп-хлоп-хлоп!
— Как близок Ты во дни болезни. Ты сам посещаешь больных. Ты сам склоняешься у страдальческого ложа и сердце беседует с тобой. Ты миром озаряешь душу во время тяжких скорбей и страданий, Ты посылаешь неожиданную помощь. Ты утешаешь, Ты любовь испытующая и спасающая, Тебе поем песню: Аллилуйя!
Я долго, словно привороженный, стоял там и с безумной надеждой смотрел: вдруг у него получиться? Потом убежал, меня никто не умел успокоить весь день. «Он не может! — кричал я, захлебываясь слезами, боялись припадка, так я заходился. — Он не может!!» Они не понимали — а я не мог объяснить, мне все было предельно ясно, до ужаса и навсегда. Милая моя маменька подсовывала мне, думая утешить и развлечь, пуховых, мягких, смешных, обворожительных гусяток: «Смотри, Сашенька, как их много! Как они бегают! Как они кушают! На, дай ему хлебушка! Ням-ням-ням! Хочешь, возьми на ручки — гусеночек не боится Сашеньку, Сашенька добрый…» Я плакал пуще, уже ослабев, уже без крика, и только бормотал: «Мне жалко. Мне всех их жалко».
— …Когда Ты вдохновляешь меня служить близким, а душу озаряешь смирением, то один из бесчисленных лучей Твоих падает на мое сердце, и оно становится светоносным, словно железо в огне. Слава Тебе, посылающему нам неудачи и скорби, дабы мы были чутки к страданиям других! Слава Тебе, преобразившему нашу жизнь делами добра! Слава Тебе, положившему великую награду в самоценности добра! Слава Тебе, приемлющему каждый высокий порыв! Слава Тебе, возвысившему любовь превыше всего земного и небесного! Слава Тебе, Боже, за все вовеки…
Ни единому существу в целом свете не дано желать сильнее, чем этот гусь желал улететь с ужасного места, где с ним произошло и продолжает происходить нечто невообразимое, исполненное абсолютного страдания. Он так старался! Хлоп-хлоп-хлоп! Хлоп-хлоп! Все слабее… Вся жизнь, которая еще была в нем, молила об одном: улетим! Ну улетим же, здесь плохо, больно, жутко, здесь ни в коем случае нельзя оставаться!
И он не мог. Даже так страстно желая — не мог.
Тогда я понял. У всех так. И у человека. Человек может только то, что он может, и ни на волос больше, и ни на волос иначе. Сила желания не значит почти ничего.
Хлоп-хлоп-хлоп.
Чего стоят мои «я приду»? Чего стоят их «я — твой дом»? Если грошовый кусочек свинца оказывается сильнее и главнее, чем все эти полыхающие лабиринты страстей… и, пока мы топчем друг друга в тупом и высокомерном, подчас не менее убийственном, чем свинец, стремлении придать ближним своим форму для нас поудобнее, поухватистее — он, может быть, уже улетит? В красивую мою, ласковую, бесценную, живую — уже улетит?!
— …Разбитое в прах нельзя восстановить, но Ты восстанавливаешь тех, у кого истлела совесть, Ты возвращаешь прежнюю красоту душам, безнадежно потерявшим ее. С Тобой нет непоправимого. Ты весь любовь…
— Лиза, — позвал я. Будто шипела проколотая шина. — Лиза. Она осеклась на полуслове.
— Я здесь, Сашенька, — ответила она мягко и спокойно. Как мама. «Гусеночек не боится Сашеньку, Сашенька добрый»…
Только чуть хрипло.
— Лиза.
— Все хорошо, Саша. Ни о чем не думай, не волнуйся.
— Лиза. Руку на лицо…
Ее теплая маленькая ладонь легла мне на закрытые глаза.
— Ниже. Поцеловать.
— Потом, Саша. Все потом. Будешь целовать кого захочешь, сколько захочешь. Все будет хорошо. А сейчас лежи смирненько, любимый и набирайся сил.
Кого захочешь.
— Где?..
— Она в гостинице. Она… ей немножко нездоровится, и мы договорились, что она отдохнет с дороги, а уж потом меня сменит. Хотя она очень хотела прямо сейчас. Но я просто не могу уйти, — она промолчала. Пальцы у меня на лбу тихонько подрагивали. — Наверное, она тоже бы не могла. Она тебя очень любит. Ой, знаешь, так смешно — она у меня на плече ревет, я у нее. Никогда бы не поверила…
— Что… нездоровится?..
— Нет-нет, ничего опасного. Не волнуйся.
Я помолчал. Полежал бессильной грудой, как бы собираясь с силами, потом: хлоп!
— Крууса вызвать. Беня оседлан, как Кисленко. Обследовать.
— Не понимаю, Саша.
— Крууса… вызвать. Из Петербурга. Ему объясню.
— Крууса?
— Да. Вальдемар Круус. Сорокину… скажи.
— Хорошо, Саша.
— Срочно.
— Хорошо.
— Рамиль… цел?
— Да, Сашенька. Рвет на себе волосы, аллахом клянется через каждые пять часов, что ты ему родней отца. По-моему, половина всех садов и огородов Крыма теперь работают на тебя одного. А тебе и есть-то еще толком нельзя, бедненький. Ничего, покамест мы со Станиславой подъедать станем. Женщинам витамины тоже нужны.
Маменька, сними с меня камень.
5
Это был тягостный и странный спектакль. Со стороны могло показаться, Лизе на помощь приехала ее сестра. Лиза, нащупывая линию поведения, резвилась изо всех силенок, то ли стараясь снимать постоянно возникающую натянутость, то ли хоть как-то себя порадовать, а может — и меня повеселить, понимая, возможно, что и мне, любимому подонку, тоже не сладко забинтованной колодой лежать между ними. Помню, когда Стася в первый раз пришла сменить ее, и они, обе осунувшиеся, с одинаково покрасневшими и припухшими глазами, вновь оказались, едва локтями не соприкасаясь, у моего одра, Лиза вдруг озорно улыбнулась, козырнула двумя пальцами, по-польски — уж не знаю, в угоду или в пику Стасе, да она и сама, конечно, этого не знала — и лихо отрапортовала: «Группа спецназначения в сборе, господин полковник! Какие будут распоряжения?» Я не сразу нашелся, что ответить, долго скрипел одурманенным обезболивающими снадобьями мозгом, потом просипел, стараясь попасть ей в тон: «Чистить оружие до блеска. Встану — проверю». Стася вежливо и холодно улыбнулась, но, господи, как же смеялась Лиза этой тупой казарменной сальности! Помню, на второй, или на третий, что ли день ко мне попробовал прорваться Куракин, кажется, в компании с Рамилем — Лиза выпихивала их: «Нельзя! Доступ к телу открыт только женщинам!» — с категоричной веселостью, моляще, оглядывалась на меня через плечо. Помню, в момент одной из перевязок они оказались в палате вместе — Лиза уже пришла, Стася еще не ушла, так они даже медсестру практически аннулировали и с какой-то запредельной бережностью сами вертели мой хладный труп в четыре руки. «Стася, помогите пожалуйста… ага, вот так. Вам не тяжело?» — «Что вы, Елизавета Николаевна. Мне в жизни приходилось поднимать куда большие тяжести», — отвечала Стася и точными, безукоризненно быстрыми движениями и раз, и два, и три пропихивала подо мною раскручиваемый бинтовой ком. А когда я, скрипнув зубами от бессилия, едва слышно рявкнул: «Что вы, в самом деле!.. Персонал же есть!», Лиза удивленно уставилась мне в глаза и сказала: «Бог с тобой, Сашенька, нам же приятно. Правда ведь, Стася?» — «Правда», — ответила та. «Ты, Саша, может быть, не знаешь, — добавила Лиза, разглаживая бинт ладонью, чтобы не было ни малейшей складочки, которая могла бы давить, — но женам хочется быть нужными своему мужу постоянно. Ведь правда?» — «Что правда, то правда, Елизавета Николаевна».
Стася, напротив, держалась со мною с безличной, снимающей всякий намек на душевную или любую иную близость корректностью отлично вышколенной сестры милосердия. Когда Лиза уходила, мы с нею почти не разговаривали, ограничиваясь самыми необходимыми репликами, собственно, мы и с Лизой почти не разговаривали, мне каждое слово давалось с трудом, через дикую боль, лепестковая пуля раскромсала мне и легкое, и трахею, но Лиза щебетала за двоих, подробнейшим образом рассказывая и о погоде, и о новостях, и о том, что сообщил Круус, и о том, что прислали Рахчиевы и как они ждут нас в Стузах, и о том, что сказала по телефону Поля, и о том, что сказал в последней речи председатель Думы Сергуненков, и как была одета государыня во время вчерашнего приема, транслировавшегося по всем программам, а Стася молчала, лишь выполняя просьбы и односложно отвечала на вопросы, не отрываясь от какой-нибудь книги или рукописи — и, стоило нам остаться вдвоем, в палате вспучивалось дикое, напряженное отчуждение, которое Лиза, приходя, отчаянно старалась снять. Я скоро и просить перестал, и спрашивать, и пытаться хоть как-то завязать разговор, даже если действительно что-то нужно было, ждал Лизу или медсестру. Стасю эти молчания, похоже, совсем не волновали — шелестела себе страницами, усевшись в углу так, что я ее даже видеть не мог. Тогда я совсем переставал понимать, зачем она приехала. Разве только дать Лизе знать о своем существовании. Конечно, думал я, с закрытыми глазами слушая частый шелест — читала она очень быстро, — она, «поднимавшая в жизни своей куда большие тяжести», наверняка не раз бывала в каких-то сходных ситуациях и, в отличие от меня и, подавно от Лизы, возможно, чувствовала себя как рыба в воде. Не обидела бы она как-нибудь мою девочку, подумал я однажды — и тут же мне стало стыдно невыносимо. Я хотел было позвать ее и, когда подойдет, сказать что-нибудь хорошее — до ее угла со сколько-нибудь длинной фразой мне было не докричаться — но как раз в этот миг она хмыкнула презрительно и пробормотала, явно не для меня: «Это же надо так писать… вот урод». И я смолчал.
Зато она снимала боль. Каким-то шестым чувством угадывая, когда мне становилось уж совсем невмоготу, откладывала чтение, подходила молча, присаживалась на краешек и начинала ворожить. Энергично дыша, вздымала тонкие сильные руки, словно жрица, зовущая с небес огонь, потом швыряла наполненные им ладони к моей развороченной груди и то слегка прикасалась к бинтам, то делала над ними сложные пассы… Не знаю уж, помогало это заживлению, нет ли — но в такие минуты мне начинало казаться, что относится ко мне по прежнему, что приехала оттого лишь, что не могла быть вдали, и вообще — все уладится как-нибудь, ведь если люди любят друг друга, не может все не уладится… Возможно, в этом и был весь смысл колдовства? Боль от таких мыслей теряла победный напор, сникала, съеживалась, как степной пожар под благодатным дождем.
С Лизой она держалась с подчеркнутой вежливостью, и вообще всячески демонстрировала свое подчиненное, второстепенное по отношению к ней положение. Лиза в своих попытках установить столь необходимую для нормальной регенерации атмосферу непринужденного домашнего товарищества — представляю, чего ей это стоило! — сразу стала звать Стасю по имени, та дня три цеплялась за отчество. «Стася.» — «Елизавета Николаевна»… Потом все же сдалась, уж слишком эта нелепость резала слух, наверное, даже ей самой. Но стратегически ничего не изменилось, уверен, дай ей такую возможность язык, Стася беседовала бы с Лизой в дальневосточных традициях, где, например, согласно одной из знаменитой тысячи китайских церемоний, наложница, вне зависимости от реального соотношения возрастов, обращается к главной жене с использованием обозначающего «старшую сестру» термина родства, ну а сама, соответственно, именуется «младшей сестренкой». «Не хочет ли госпожа старшая сестра попить немного чаю? Младшая сестренка будет рада ей услужить…». По-русски, если уж совсем не выпендриваться, так не скажешь, но Стася и из русского выжимала немало, и Лиза, с ее простодушным старанием учредить дружелюбие, ничего не могла поделать. Железная женщина Станислава. Оставшись вдвоем, я бы, конечно, попробовал ей что-то растолковать — если бы мог быть уверен, что это у ее просто от неловкости, от нелепости положения, от уважения к пятнадцати годам, что мы прожили с Лизой, от непонимания, что мне, дырявому воздушному шарику, физически больно слушать, и, если бы я мог издавать звуки погромче шипения, я бы криком кричал, когда она старательно, последовательно унижается, то и дело и Лизу приводя в недоумение, а то и вгоняя в краску, но в последнее время Стася так вела себя со мною, что я не мог исключить нарочитого стремления уязвить меня, показав, как, держа ее в любовницах, я жесток.
И что она этого больше не допустит.
Именно она завела обычай совместных чаепитий. На третий, кажется день — да, именно тогда она перешла с Елизаветы Николаевны на Лизу — она явилась с полным термосом, двумя складными пластмассовыми стаканчиками и какой-то скромной, но аппетитной снедью собственного приготовления. С тех пор так и пошло. Прежде чем сменить одна другую в этом адском почетном карауле, они усаживались в дальнем углу, вне пределов видимости, лопали Рамилевы абрикосы, похрустывали какой-нибудь невинной вкуснятиной и прихлебывали чаек. Я пытался прислушиваться, но они беседовали полушепотом о чем-то своем, о девичьем, и постепенно даже стали время от времени посмеиваться в два голоса. Наверное, мне кости мыли. А может, и нет — что на мне, свет клином сошелся? Иногда мне даже становилось одиноко и обидно — казалось, я им уже не нужен, так, священный долг и почетная обязанность.
На шестой день, когда они отчаевничали и Стасе надо было уходить, она поднялась, но пошла не к двери, а неторопливо поцокала ко мне. Остановилась, глядя мне в лицо. Так, как она, наверное, всегда хотела — сверху. А я — ей, снизу вверх.
— Я говорила сейчас с лечащим. Все у нас хорошо, заживаем стремглав, — произнесла она. — А я как раз и рукописи, что привезла, все причесала. Так что я возвращаюсь в столицу. Здесь я больше не нужна, а там пора очередные рубли зарабатывать.
Это было как гром посреди ясного неба. Не только для меня — Лизе, видимо, до этого момента она тоже ничего не говорила.
— Когда? — спросила после паузы Лиза из чайного угла.
— Через два часа вылет.
— Вам помочь с багажом?
— Ну что вы, Лиза, какой у меня багаж. Не волнуйтесь, донесу играючи.
— Не надо с этим играть, лучше возьмите носильщика.
— Благодарю вас, я так и поступлю.
Она помедлила, нагнулась и поцеловала меня полураскрытым ртом. Бережно, чтобы не потревожить окаянной кислородной трубочки, втянула мои губы и несколько секунд вылизывала их там, внутри себя: «Хочешь сюда?», потом отстранилась и подняла дрожащие, синеватые веки. Словно она стояла на костре.
— Пожалуйста, Саша, больше не делай так, — хрипло произнесла она. — Береги себя, я же просила. Если тебе до нас дела нет, хоть о Поле подумай.
Я молчал. Не мог я сейчас раздавленно шипеть в ответ на такое.
Она открыла висящую а плече сумочку, сосредоточенно порылась в ней и вынула ключи, которые я вернул ей перед отлетом сюда. Мгновение, как бы еще колеблясь — а возможно, стремясь подчеркнуть следующее движение, подержала их в неловко согнутой руке, потом решительно, но осторожно, без малейшего стука, положила на тумбочку у моего изголовья.
— Вот… Я все боюсь, ты мог неправильно понять. Возвращаю владельцу. Может, пригодится еще. Понадоблюсь — заходи, всегда рада.
Повернулась и поцокала прочь. Пропала с глаз, и я закрыл глаза. Цокот прервался.
— Это и к вам относится, Елизавета Михайловна. Очень рада была познакомиться. И, ради бога, простите меня. Я не… уже… не просто… Я люблю.
— И вы простите меня, Станислава Соломоновна, — ответил мертвенно спокойный голос Лизы.
Дверь открылась и закрылась.
Прошло, наверное, минут пять, прежде чем раздались медленные, мягкие, кошачьи Лизины шаги. Она приблизилась, и я почувствовал, как прогнулась кровать — Лиза села рядом.
— Ты спишь? — шепотом спросила она.
Я открыл глаза. Казалось, она постарела на годы. Но это просто усталость — физическая и нервная. Нам бы на недельку в Стузы — сразу вновь расцвела бы малышка.
Втроем со Стасей. То-то бы все расцвели.
— Вечным сном, — ответил я.
Ее будто хлестнули.
— Не шути так! Никогда не шути так при нас!!
Я не ответил. Она помолчала, успокаиваясь.
— Саша… Ты кого больше любишь?
— Государя императора и патриарха коммунистов, — подумав, прошелестел я. — Оба такие разные, и оба совершенно… необходимы для благоденствия державы, — передохнул. — Третьего дня я больше любил государя. Потому что у него сын погиб. А потом стал больше любить патриарха… потому что его искалечили, и теперь… мне его жальче.
Она обшаривала мое лицо взглядом. Как радар, кругами. Один раз, другой…
— Тебе со мной взрывных страстей не хватает, — сказала она. — Я для тебя, наверное, немножко курица.
— Гусеночек, — ответил я.
Она попыталась улыбнуться. Все ее озорное оживление, всю ребячливость, на которых только и держалась наша тройка эту неделю, как ветром сдуло. Я даже думать боялся, что с нею происходило, когда она оставляла нас вдвоем со Стасей и оказывалась в гостиничном номере одна.
— Зато ей свойствен грех гордыни, — сказала она.
— Что правда, то правда, Елизавета Николаевна, — жеманным голосом прошелестел я.
Она опять попыталась улыбнуться — и опять не смогла. И вдруг медленно и мягко, как подрубленная пушистая елочка, уткнулась лицом мне в здоровое плечо. Длинные светлые волосы рассыпались по бинтам.
— Нет-нет, Саша, не говори так. Она хорошая, очень хорошая. Ты даже не знаешь, какая она хорошая.
Ее плечики затряслись.
Хлоп-хлоп-хлоп.
6
Еще неделю спустя улетела к своим абитуриентам и Лиза.
К этому времени я сам уже мог есть и ходить в туалет. И руководить.
Куракин растряс Беню до последнего донца. На все восемь дней его пребывания в Симбирске до покушения был выстроен буквально поминутный график. Ничего не получалось, не обнаруживалось никаких зацепок. Что спровоцировало его «откровения» насчет драгоценностей в портфеле и прочего, оставалось таким же загадочным, как и после первого допроса. Ни с какими личностями, в которых хоть с натяжкой можно было заподозрить неких гипнотизеров, он не общался. Не было у него никаких провалов в памяти, ни дурнотных потерь сознания — ничего.
Круус доложил, что все попытки нащупать и разблокировать какие-либо насильственно закрытые области памяти или подсознания Цына провалились. Нечего оказалось разблокировать, Беня был един и неделим.
И в то же время его обмолвка насчет юного увлечения коммунизмом никак не подтверждалась. Опрашивали людей, с которыми он общался на заре дней своих, опрашивали его ранних подельщиков, опрашивали коммунистов звезд, в которые он мог в те годы обращаться с просьбой о послушании — никаких следов. И, однако, Беня твердо стоял на своем. Но ничего не мог указать конкретно. Не просто не хотел, а явно не мог, Куракин, рассвирепев, уж и на детекторе его гонял. Во Владивостоке? Да, во Владивостоке. А может быть, в Сыктывкаре? Или в Ханты-Мансийске? Да. Может быть. В молодости, давно. Не помню.
Возникли у него откуда-то и иные, в прошлом никак не проявившиеся странности. Например, он всерьез был убежден, что мог бы царствовать правильнее государя, руководить страной лучше, чем Дума или кабинет. «Да что ж они делают, козлы, хлюпики, — говорил он в сердцах, заявляясь на допрос со свежей газетой в руках. — Я бы…» И с уверенным, очень солидным видом плел ахинею, причем зачастую назавтра не помнил, что плел вчера, и плел что-нибудь совершенно противоположное. Но, что в лоб, что по лбу, так как он предлагал, можно было разве что какой-нибудь мелкой бандой править, а не великой державой. Всех со всеми стравить, тех, без кого не обойтись, купить, остальных запугать тем, что никогда не станет их покупать, обещать одно, а давать другое и совершенно не тем… Даже банда бы такого долго не выдержала. Прежде за ним такой политизированности никогда не водилось.
Несколько экспертов показали, однако, его полную вменяемость. Похоже было, что в сознании его разом возникло несколько навязчивых идей, и все они органичнейшим образом вписывались в его изначальный интеллект.
Потом прилетел Папазян и приволок просто дикие вороха статистики. Я разобрал их за несколько дней. Проступила интересная и тоже весьма непонятная картина. На что-то она явно указывала, просто-таки явно — но на что?
Гипотезу о новоиспеченном вирусе-мутанте пришлось оставить сразу — если не предполагать, спасая ее насильственно, что он не новоиспечен, а живем мы с ним довольно долго. Но это казалось весьма маловероятным — все-таки его бы заметили, если церебральная патология носит выраженный характер, какие-то вскрытия ее обязательно покажут.
Криминальные акты, по существенным параметрам сходные с двумя достоверно зафиксированными образцами — Кисленко и Цына, происходили издавна и весьма редко, как правило, они либо оставались нераскрытыми, либо преступник признавался невменяемым, либо освобождался за недостаточностью улик, либо действительно вскорости после совершения акта при невыясненных обстоятельствах погибал, умирал или исчезал, обрывая, таким образом, все нити. Но разброс преступлений такого рода не был равномерным, они явно тяготели к тем или иным пространственно-временным узлам — то они почти сходили на нет, то в каком-то регионе на какой-то срок, от нескольких недель до нескольких лет, вдруг необъяснимым образом учащались, не имея между собой никакой доступной для наблюдения связи, то приобретали на довольно длительные сроки характер обширной эпидемии или даже пандемии. Это было чертовски любопытно.
Ближайшая к нам по времени пандемия, к счастью, отстояла от нас уже более чем на полвека, ее можно было приблизительно датировать первой половиной сороковых годов, но за истекшие пятьдесят лет мощные, до шести-семи десятков случаев в год, эпидемии вспыхивали то в одной, то в другой стране, медленнее всего пандемия затихала в России, практически завершившись лишь лет через восемь после того, как она отбушевала, скажем, в Европе. Настораживало то, что после уместившихся в эти полста лет периодических и довольно локальных вспышек в Африке, Индокитае, Центральной Азии, Китае, Центральной Америке эта нелепая эпидемия в последние годы снова начала проявлять себя в нашей стране, захватывая подчас на целые месяцы сразу по несколько губерний, ситуация по интенсивности, конечно, не шла ни в какое сравнение с сороковыми, но значительно превышала показатели, скажем, шестидесятых-семидесятых годов. Не нравилось мне это.
Глубже в пыль десятилетий идти было труднее. Точная и всеобъемлющая статистика в ту пору отсутствовала, и оставалось только преклоняться перед неведомыми мне, незаметными и кропотливыми работниками статбюро МВД, в свое время из года в год переносивших в память центрального банка данных все архивные дела страны и, насколько хватало возможностей, всего мира. Даже непонятно было, зачем они это делают — просто для порядка. А вот оказалось — специально для меня работали.
И там, в этой пыли, обнаружились факты прямо-таки зловещие.
Пандемия в России началась явно раньше, чем в большинстве иных районов мира, выходило так, что, наряду с Германией и, отчасти, приморскими провинциями Китая моя страна оказалась одним из трех мощных очагов, рассадников этого загадочного заболевания, захлестнувшего затем весь цивилизованный мир. Во всех трех очагах крутой рост начинался примерно одновременно, с начала тридцатых годов. Но эти же страны — а что особенно обескураживало, именно Россия в первую очередь — прочно держали пальму первенства и на протяжении двадцатых годов пока, наконец, во второй половине десятых явление вновь не приняло пандемического или, вернее, квазипандемического характера, буквально шквалом пройдя по Евразии с запада на восток.
Затем — в порядке, обратном хронологическому — эпидемия успокоилась. Отдельные, и не очень значительные вспышки то в той, то в другой провинции Китая, то в той, то в другой губернии России, то в той, то в другой европейской стране. Вспышка в Мексике. Африка и Южная Америка в это время полностью стали белыми пятнами — учета там, в сущности, тогда не было, но и не они меня интересовали. Для меня уже бесспорным было существование трех узлов, правда, покамест неизвестно чего: восточно-азиатского, средне-русского и центрально-европейского. То средне-русский, то центрально-европейский узел давали метастазы на Балканы. Потом стал чахнуть восточно-азиатский узел. Сошел на нет. Потом, в девяностых годах прошлого века, начали увядать оба европейских узла, показатели устойчиво держались ниже, чем самых спокойных для двадцатого века семидесятых годов. Наконец, в семидесятом — семьдесят первом году прошлого века — резкая вспышка в центральной Европе, как будто Франция и Пруссия потерлись друг о друга кремнями границ, выбросив сноп искр…
И все.
Как ножом срезало.
Все отслеженные мною по разработкам группы Папазяна пульсации для девятнадцатого века можно было бы, наверное, назвать притянутыми за уши — недостатки тогдашней статистики и пробелы в переводе ее данных в центральный банк делали материал малорепрезентативным. Но, шел ли процесс так или несколько иначе, один факт для меня был практически неоспорим: явление это, что бы оно не представляло собою, стартовало в истории земной цивилизации не раньше 1869 и не позднее 1870 года.
Действительно, напрашивалась мысль о вирусе. Если бы хоть раз за почти сто тридцать лет биология и медицина заикнулась об инфекционных сумасшествиях! Если бы хоть что-то указывало на контакты между одним преступником-заболевшим и другим!
Ничего этого не было.
Скорее, скорее выходить отсюда. Криминалистическое расследование неудержимо превращалось в научное изыскание, и противиться этому было бессмысленно.
К концу июля я уже старался как можно больше ходить — сначала по отделению, потом по коридорам всей центральной больницы Симбирска, а в хорошую погоду выбирался и на вольный воздух, в небольшой, но уютный сквер позади больницы. Скоро я уже многих больных узнавал в лицо, мы раскланивались, коротко, но приветливо беседовали о погоде и о лечении, посиживали на лавочках под шелестящими тополями, то разговаривая, то молча, с улыбками прислушиваясь к доносящимся из детского отделения пронзительным визгам, беззаботному смеху, выкрикам выздоравливающей ребятни. «На марс полетим после обеда, а сейчас давай в индейцев» — «Да ну их нафиг, там друг в дружку стрелять надо!» От приглашений принять участие в турнирах по домино и шахматам я вежливо отказывался, предпочитая устроиться где-нибудь в относительном одиночестве, на солнышке, и читать и перечитывать Лизины и Полины письма. Письма были как письма — уютные и спокойные, как домашнее чаепитие, Лиза ни единым словом не напоминала мне о том, что здесь происходило шесть недель назад. Только однажды у нее вырвалось — безо всякой аффектации сообщая мне, как соскучилась, и спрашивая, не хочу ли я, чтобы она приехала к моей выписке и в Петербург, скажем, мы летели бы уже вместе, она написала вдруг: «И вообще — тебя тут все очень ждут и очень без тебя тоскуют». Можно было много прочесть между строк этой фразы.
Стася не писала мне ни разу.
Именно в сквере я встретил, наконец, его. В этом не было ничего удивительного — больница была лучшей в губернии и, конечно, мы оба попали именно в нее. Странно было, наоборот, что мы так долго не встречались. В инвалидном кресле он неторопливо катил мне навстречу, подставляя бледное лицо лучам клонящегося к скорой осени солнца. На полных щеках лежали тени от сильных, с толстой оправой очков. Одна из пуль повредила ему позвоночник, я знал, что, скорее всего, он никогда уже не сумеет ходить.
В сущности, ничего особенного не было в нем, куда ему до импозантного Бени! — просто очень ранимый, добрый и совестливый человек. Работяга, хлебороб, так и не избавившийся от мягкого ставропольского выговора, в плоть и кровь вошедшего к нему там, в южно-русской душистой степи. В молодости он пробовал было заняться практической политикой, чуть не решился баллотироваться в Думу — и слава богу, что не решился, это был не его путь. Он действительно, как выразился Цын, слишком хотел всех со всеми примирить и старательно, иногда доходя до смешного, отыскивал объединяющие интересы, которые могли бы превысить интересы разъединяющие, всегда призывал к естественным, но с трудом пробивающимся в разгоряченные головы уступкам и тех, и других, и третьих, всегда мягко апеллировал к голосу разума, к спокойному здравому смыслу — в Думе такое не проходит, там далеко не все коммунисты. Но уважение и любовь он снискал куда большее, чем, скажем, председатель Думы Сергуненков, и даже члены других конфессий прислушивались к его словам и просили быть арбитром в спорах. Что делать — на Руси мечтатели всегда в большей чести, нежели люди дела. Дело — что-то низменно конкретное, уязвимое для критики, имеющее недостатки, а мечта — идеальна, в ней бессмысленно выискивать слабые места. Тот, кто делает это — выставляет себя на посмешище, а тот, кто ухитряется хоть на год заразить своей мечтой многих, остается в истории навсегда.
— Здравствуйте, товарищ патриарх.
Он остановил кресло. Поднял мягкое лицо, посмотрел на меня снизу. Как я — на Стасю в последний раз. Тронул щепотью дужку, поправил очки.
— Здравствуйте…
— Я полковник Трубецкой, Александр Львович.
— А, как же, как же! Мне говорили уже здесь о вашей миссии. Вы ведь коммунист, не так ли?
— Истинно так.
Он протянул мне руку.
— Здравствуйте, товарищ Трубецкой, — мы обменялись рукопожатием. — Я могу быть чем-нибудь полезен?
— Да. Более чем. Я хотел бы побеседовать с вами.
— Присядем, — он огляделся по сторонам в поисках скамейки для меня и проворно покатил свое кресло к ближайшей. Я следовал за ним — слева и на пол-шага сзади.
Расположились. Я удовлетворенно отметил, как поодаль от нас остановились, оживленно о чем-то беседуя, двое молодых дюжих больных. Это были ребята Усольцева, которых он сразу подложил в больницу присматривать, не угрожает ли здесь что-либо патриарху или мне, и не следят ли за нами.
— Я — коммунист, и интересы нашей конфессии ставлю очень высоко, — начал я, волнуясь. — Но я также русский офицер, и интересы Отечества для меня — не пустой звук. Моя здешняя миссия, связанная с расследованием покушения на вас, лишь один из моментов следствия, которое я веду по именному повелению государя. Я расследую катастрофу гравилета «Цесаревич».
Он поправил очки.
— Здесь есть что-то общее? — немного отрывисто спросил он. Явно для него мои слова были неожиданными.
— Ничего — или все. Это мне и предстоит выяснить. Я хочу просить у вас совета, и с этой целью беру на себя смелость познакомить вас, если вы не возражаете, с основными результатами той работы, которую я успел сделать. Хочу только предупредить, что разговор является строго конфиденциальным. Следствие еще далеко не закончено.
— Понимаю и вполне сознаю меру своей ответственности. Слушаю вас.
Я ввел его в курс фактической стороны событий, сделав упор на странной статистике, которую собрала группа «Буки». Когда я закончил, патриарх долго молчал, щурясь в небо.
— Все это очень странно, — произнес он после серьезного раздумья. — Углубить статистические изыскания на первую половину девятнадцатого века вам не приходило в голову? Или это просто невозможно сделать вследствие скудности материала?
— Скорее второе, нежели первое. Папазян отработал, насколько это возможно, насквозь все шестидесятые годы. Ни одного случая. Если такой результат обусловлен дефектами статистики, то опускаться еще ниже по временной оси бессмысленно, слишком случайным и неполным будет подбор дел. Если же этот результат обусловлен, а я склоняюсь к этому мнению, какими-то иными причинами, то такой спуск еще более бессмысленен.
— Что же вы думаете по этому поводу, товарищ Трубецкой?
— Единственное, что мне приходит в голову, выглядит чистой воды фантастикой, — признался я. — Но остальные версии, вроде того, что имеет место невыявленный возбудитель инфекционной агрессивной шизофрении, еще более фантастичны, и к тому же, в отличие от моей, не объясняют всех фактов.
Он поправил очки. Смешно поерзал в кресле вправо-влево, будто ему неудобно было сидеть.
— Продолжайте, прошу вас.
— Шестидесятые годы прошлого века были временем расцвета террористических течений протокоммунизма. Предположим, в ту пору возникла тайная секта подобного рода. Предположим также, что волею судеб она получила в свое распоряжение до сих пор не известный позитивной науке способ манипулирования человеческим сознанием. Ну, скажем — я говорю для примера, стремясь лишь показать, что возможны очень странные варианты, — вычитав его из каких-то древних восточных текстов. Древние на востоке были горазды на провоцирование измененных состояний сознания, а среди радикалов подчас встречались весьма образованные люди… Предположим, что секта эта, стараясь сохранить своих немногочисленных адептов в тени, начала осуществлять свои акции чужими руками, руками «пешек». Предположим также, что, как и следовало ожидать, она быстро выродилась в бандитскую группу, возможно, до сих пор описывающую свою деятельность в терминах борьбы за справедливость. Возможно, выродившись, она действует вполне хаотично, а, возможно, и по плану, сути которого мы пока не понимаем.
— Но чем им помешал я? Ведь я — тоже коммунист… — он улыбнулся. Я прикусил губу. Похоже, он не верил.
— Для них — нет. Вместо того, чтобы, так сказать, бороться за свержение самодержавия, вы боретесь, и не без успеха, за утверждение человечности. То есть, на свой лад делаете то, что делают и делали всегда лучшие люди из христианской, мусульманской да и любой другой конфессии. Вместо того, чтобы свергать несправедливый строй, вы делаете его все более и более несправедливым. Это же полное предательство интересов простого народа!
— Из вас, товарищ Трубецкой, получился бы прекрасный пропагандист этой секты.
Он не верил.
— Я занимаюсь вопросом уже давно, я вжился в образ.
— Но ведь, насколько я вас понял, в меня стреляли вовсе не за это.
— Но ведь, насколько я старался вам объяснить, товарищ патриарх, в вас стреляла «пешка». Психика Бени Цына, при всей его медицински доказанной вменяемости, носит явные следы тщательно сбалансированного, мощного и интегрального воздействия. Именно новые мании, чрезвычайно удачно и эффективно наложившись на старые преступные наклонности, подвигли его на это нелепое преступление. Мотив истинного преступника мы не знаем. Я говорил об этом довольно подробно.
Он успокаивающе положил руку мне на колено.
— Не раздражайтесь, товарищ Трубецкой, прошу вас. Давайте определимся. Вы меня пока не убедили. Все это выглядит очень невероятно — во всяком случае, вот так сразу. А кроме того… — он поерзал вправо-влево, вздохнул. — Кроме того, если нечто подобное действительно обнаружится, боюсь, это может существенно повредить авторитету нашего учения. Вы с кем-нибудь делились вашими соображениями?
— Предварительно — с министром безопасности России и его товарищем. Больше, разумеется, ни с кем.
Патриарх снова вздохнул.
— Это исключительно порядочные и доброжелательные люди, — поспешил добавить я.
— Будем надеяться, что слухи об этом не просочатся… раньше времени.
— Уверен, что не просочатся.
Он помолчал.
— Я не могу сейчас с ходу придумать своей версии, но ваша представляется мне маловероятной. Не обессудьте. Однако, я готов помочь вам, чем смогу.
— Тогда я задам вам несколько вопросов.
— Задавайте.
Я открыл было рот, но заметил, что по дорожке к нам степенно приближается парочка пожилых женщин в больничных халатах. Донеслось: «Нет-нет, петрушку к мясу надобно подавать непременно. Это же вкусно, и освежает как! И мужчинам пользительно. Мой-то, помню…» Они удалились, и я не разобрал окончания фразы, но обе вдруг громко, безмятежно засмеялись. Чем-то это напоминало Лизу и Стасю в чайном уголке.
Патриарх, с веселой симпатией щурясь, проводил их взглядом.
— Вы, как глава коммунистов России, а, фактически, и всего мира — слышали хоть что-нибудь о существовании или хотя бы возникновении в прошлом подобной секты.
— Нет.
— Хотя бы слухи… намеки, предания?
— Нет.
В патриаршестве есть люди, которые занимались бы историей ранних сект?
— Нет.
В сердцах я ударил себя кулаком по колену. Бок отозвался на резкое движение медленно гаснущим сполохом тупой боли.
— На рубеже шестьдесят девятого — семидесятого годов в Европе произошло нечто, положившее начало этому дьявольскому процессу. Как мне узнать?
Он поправил очки.
— Ваша убежденность заражает… но вы немного ошиблись адресом. Мы — практики, и смотрим в будущее. Для меня коммунизм вообще начался с Ленина… Но, кажется, я могу вам помочь. Вы когда выписываетесь?
— Через неделю — полторы.
— Мы с вами обязательно встретимся еще раз. Я сделаю несколько звонков, а потом дам вам знать о результате. Попробую вывести вас, товарищ, на одного старого своего друга. Его зовут Эрик Дирксхорн, он швед и работает в Стокгольме. Есть такое учреждение — центральный архив Социнтерна. Нужные вам материалы, если они вообще существуют, могут быть только там.
Я слушал, не веря удаче. Он снял очки и принялся протирать их носовым платком, от этого уютного жеста стало тепло на душе.
— С его помощью вы не запутаетесь, и для вас не будет ненаходимых документов. Есть фонды, с которыми тамошние работники предпочитают не знакомить случайных людей — я надеюсь, благодаря Дирксхорну, вы не попадете в эту категорию. Но, товарищ Трубецкой, еще раз… призываю вас. Будьте осторожны с той информацией, которую, возможно, обнаружите. Буде выявится, что люди, именующие себя коммунистами… ведут себя столь неподобающе, — мягко сказал он об убийцах, — это может вызвать в мире очень сильный резонанс, и он никому не пойдет на пользу, кроме самих же этих радикалов, — он надел очки и вдруг беззащитно улыбнулся. — Если бы я был политиком, я, вероятно, счел бы своим долгом перед приверженцами любыми средствами мешать вам.
— Если бы вы были близоруким и неумным политиком, вы бы так и поступили, — ответил я.
Он даже крякнул.
— Вы считаете, что я сейчас делаю ловкий политический ход?
— Бесспорно. А уж от души или от ума — другой вопрос.
— Мне и в голову это не приходило. Я просто хочу помочь вам… Если сочтете возможным, держите меня в курсе дела, хорошо?
— Разумеется, товарищ патриарх, — сказал я и поднялся со скамейки, понимая, что разговор окончен пока.
— Будет ужасно, если вы окажетесь правы, — произнес он грустно.
— Я намерен действовать с максимальной осмотрительностью, и конфессию под удар не поставлю, — заверил я. Помолчал. — Со своей стороны, у меня тоже будет просьба об осторожности.
— А в чем дело?
— Пусть о моей миссии знает как можно меньше людей. Вы, ваш Эрик, коль скоро вы ему так безраздельно доверяете, и все. И по телефону говорите обиняками. Ведь если я на верном пути, и они об этом узнают, они, в отличие от вас, действительно будут мешать любыми средствами. Меня мгновенно уничтожат.
Он взглянул буквально с ужасом.
— И самое отвратительное, что почти наверняка это будет сделано руками человека, с которым мне и в голову не придет держаться настороже, и который затем сам погибнет, как Кисленко, мучительной смертью. Руками друга, или… жены, или… — я осекся и, помедлив мгновение, ушел, так и не окончив фразы.
И снова Петербург
1
Она словно собралась ко двору. Лицо радостное, предвкушающее, прическа, косметика, серьги, колье, строгое, закрытое темное платье до полу, идеально подчеркивающее мягкую женственность фигуры — сердце у меня упало: ну неужели именно сегодня ей куда-то нужно идти? Не говоря ни слова, я обнял ее, и сразу на ощупь понял, что никуда ей не нужно — под платьем у нее ничего не было. Это она меня так встречала.
— Наконец-то, Сашенька, — вжимаясь лицом мне в плечо, сказала она. — Как долго… А почему ты не захотел, чтобы я приехала?
— Конспирация, — серьезно ответил я. Она чуть отстранилась, встревоженно заглядывая мне в лицо.
— Шутишь.
— Нисколько. Меня даже из больницы не выписали, а по всем документам перевели для долечивания в санаторий в Архызе. Это Северный Кавказ, уединенное место. И, судя по отчетности симбирских авиакасс, я туда улетел. Пусть там поищут, если хотят.
— Кто?
— Бармалеи.
— Так ты что — дома будешь сидеть, не выходя? — она не сумела скрыть радости.
Я плотнее прижал ее к себе. Бедная… Лучше сразу.
— Завтра вечером выйду один раз — и в Стокгольм.
Эти слова задули ее, как свечку.
— Надолго? — спросила она, помолчав.
— Надолго.
Несколько секунд мы еще стояли, обнявшись, но она уже была, как мертвая.
— Ужин на столе, Саша, — сказала она потом и мягко высвободилась.
— Чудесно. Я только в душ быстренько.
Везде душ хуже, чем дома. То кран реагирует нечутко, то напор воды слабый, то свет тусклый, то неудобно мыло класть… Как я соскучился по дому, кто бы знал! Почти целое лето провести в чужом городе, в больнице… смотреть на листья за окном, то трепещущие на ветру, то истомно замирающие в теплом безветрии, то прыгающие вверх-вниз или обвисающие под тяжестью дождя — и думать: они скоро опадут, а я тут лежу… Смотреть, как медленно ползет по кафельному неживому полу золотой прямоугольник солнечного света и думать: скоро солнце будет едва вылезать из-за горизонта, а я тут лежу…
Смотреть на свое серое лицо во время бритья и думать: скоро сорок, а я тут лежу.
Очень горячий душ, потом — очень холодный душ. Как всегда, я с удовольствием ухнул, когда разгоряченную кожу вдруг окатила ставшая почти ледяной струя. Я лишь относительно недавно открыл для себя это удовольствие, а раньше, вдобавок, когда вылезал из ванной, неудобно было причесываться, зеркало всегда оказывалось запотевшим, приходилось сначала протирать его, и все равно стекло оставалось в неряшливых мокрых разводах. Теперь помимо удовольствия и пользы для организма, я получал еще и пригодное к употреблению зеркало, успевающее проясниться, пока я вертелся в холодном бурлении.
Маленькие домашние радости. Без них ничего не мило и ничего не нужно.
Я закрыл воду, потянулся к своему полотенцу, жесткому, долгожданному, пахнущему лавандой, все еще пропитанному, казалось, блеском крымского солнца — Лиза всегда подстилала его, загорая, и вдруг сзади мягко накатил прохладный воздух, словно открылась дверь. Я обернулся, она действительно открылась. Лиза, выглядевшая в своем церемониальном убранстве среди интимного керамического сверкания, очень нелепо и потому как-то особенно преданно, стояла, прислонившись плечом к косяку, прижав кулачок к губам, и со страхом и состраданием глядела на мой развороченный бок.
— Болит? — поймав мой взгляд, тихонько спросила она.
— Что ты, родненькая. Давно уже не болит. Только чешется.
Ванна длинным тянущим хлебком всосала остатки воды.
— Тебе халат? — спросила Лиза.
— Нет.
— А хочешь — вообще не одевайся. Буду тобой любоваться наконец. Ты такой… античный.
Я засмеялся сквозь ком в горле. Она даже не улыбнулась в ответ. Она теперь смотрела ниже, и мне казалось, я знаю, о чем она думает. О том, что вот я, оказывается, бывал внутри то у нее, то не у нее.
— Нет уж, — сказал я. — Хочу тебе соответствовать.
— Только галстук не надевай, пожалуйста, — попросила она и взглянула мне в глаза. И чуть улыбнулась, в первый раз после того, как я сказал про Стокгольм. — Давай попросту, без чинов.
— А сама-то? — возмутился я.
Она помолчала и вдруг покраснела. Снова улыбнулась:
— Это снимается одним движением.
В том же самом белоснежном костюме миллионщика на собственной яхте я вошел в столовую. Стол ломился, казалось, сюда каким-то чудом перекочевало все, что я нахватал для Стаси перед Симбирском. Плюс громадный букет роз посреди. Плюс две бутылки голицинского шампанского, мерзнущие в ведерках по краям.
— Так у нас сегодня что — праздник? — спросил я.
— Еще бы не праздник. Повелитель домой заглянул на часок.
— А где же Поля?
— В деревне, у твоих.
Сердце у меня опять упало, я подумал, что она специально, в предвидении домашних разборок, удалила дочь. Потом сообразил, что Поля в августе всегда гостит в поместье, и мимолетно позавидовал ей. Раздольные подмосковные равнины с таинственно клубящимися по горизонтам лесами, сад, обвисающие от румяных плодов ветви яблонь, запахи сена и луга. Покой. В детстве я сам все летние месяцы проводил там.
— Ну что же, Лизка, — сказал я, — предадимся греху чревоугодия?
— Народ грешить готов! — отрапортовала она и непроизвольно, сама, видимо, не заметив, что сделала, козырнула двумя пальцами, по-польски.
2
Я лег, а она не приходила долго. Я думал, она принимает ванну, но когда она вошла наконец, стало ясно, что она просто бродила по дому или просто сидела где-нибудь, в детской, например, и думала о своем. О девичьем. Камушки, впрочем, уже сняла и переоделась.
Мне так и не довелось узнать, действительно ли этот ее тугой блестящий черный кокон снимается одним движением.
Она виновато поглядела на меня и погасила свет.
— Зачем? — тихо спросил я.
— Стесняюсь, — так же тихо ответила она из темноты. — Я лягу, и ты, если захочешь, включишь, хорошо?
— Хорошо, маленькая.
Коротко и мягко прошуршал, упав на ковер, халат. Я услышал, как она откинула свое одеяло, почувствовал, как она легла — поодаль от меня, на краешке, напряженная и испуганная, словно и впрямь снова стала девочкой, пока меня не было. По-моему, она даже дрожала.
— Что с тобою? — подождав, спросил я. Она ответила тихонько:
— Не знаю…
— По моему, ты совсем замерзла, Лизанька. Давай я тебя немножко согрею, хочешь?
— Хочу, — пролепетала она. И когда я приподнялся на локте, добавила: — Очень хочу. Согрей меня, пожалуйста.
Мимоходом я дернул за шнурок торшера. Теплое розовое свечение пропитало спальню, я увидел, что Лиза, укрывшись до подбородка, смотрит на меня громадными перепуганными глазами. Я поднырнул под одеяло к ней, и она опустила веки, и я стал согревать ее.
Едва ощутимо, умоляюще оглаживал и оцеловывал плечи, шею, грудь, бедра, трогательный треугольничек светлой шерстки, нежно и едва уловимо пахнущий девушкой — она ничему не мешала и ни на что не отзывалась. Но вот судорожно сжатый кулачок оттаял, вот она задышала чаще, вот отогрелись и расцвели соски, ожили плотно сомкнутые ноги, она согнула одну в колене и увела в сторону, раскрываясь — тогда я обнял ее бедра, мягко придвигая их к себе, поднося и наклоняя благоговейно, будто наполненную эликсиром бессмертия чашу, и она облегченно вздохнула, когда я скользнул в ее податливое сердцевинное тепло.
И снова я нежил ее осторожно, поверхностно, едва-едва, продолжая поклевывать шею, плечи и губы детскими поцелуями — но она уже начала отвечать: с чуть равнодушной, сестринской ласковостью положила мне на спину ладонь, потом поймала мои губы своими, потом немного подвинулась, чтобы мне было удобнее — а когда она в первый раз застонала и в первый раз ударила бедрами мне навстречу, я сорвался с цепи.
Скомкал ее грудь рукою — вскрикнула, перекатился на нее — снова вскрикнула, радостно распахиваясь настежь, яростно гнул и катал ее, совсем послушную и счастливую от того, что ей по прежнему сладко быть послушной, и кажется, даже рычала: «На меня! Ну на же! Вот, бери!», а когда я взорвался наконец, с немыслимой силой обняла меня, будто желая впечатать в себя навеки, расплющить свою нежную плоть моею — и с мукой, мольбой и надеждой закричала, словно чайка, догоняющая корабль:
— Мой! Мой! Мой!!
Наверное, минуты две я был выброшенной на песок медузой. Потом открыл глаза. По ее щекам катились слезы.
— Лиза…
— Молчи. Просто полежи на мне и помолчи, — она всхлипнула. — Господи, Саша, как с тобой хорошо…
Некоторое время я не шевелился, лишь руку оставив на ней.
Но она, кажется, уже успокаивалась. Глаза просохли. Уже не стесняясь, села, обхватив колени руками, уложила на них подбородок — мне были видны лишь лоб и сверкающие глаза. Она смотрела на меня неотрывно. Наверное, так смотрят на иконы.
— Я люблю тебя, — сказала она. — Я тебя обожаю, я жить без тебя не могу. Я так люблю тебя кормить, тебя смешить, с тобой разговаривать… Так люблю с тобой вместе ходить куда-нибудь, все равно куда. Так люблю… — она запнулась, подыскивая слово, и выбрала самое, наверное, грубое и животное из тех, что могла произнести, наверное, она хотела подчеркнуть, что становится зверушкой и не стыдится этого, напротив, восхищается — давать тебе, — и тут глаза у нее вновь стали влажными. — Я просто не знаю, что делать.
Я молчал.
— У нее будет ребенок, Саша.
Я заморгал. Вазомоторика будь она неладна, беда с нею у всех на свете цынов. Ошеломленно приподнялся на руке, а потом спросил, как дурак:
— От меня?
Секунду она еще смотрела, не меняясь в лице, а потом зашлась от смеха. И плакала, и хохотала, и не сразу смогла произнести:
— Саша… родненький… ну уж это ты спрашивай не у меня!
Я тоже сел. Теперь уже я начал стесняться, забаррикадировался одеялом. Мир вертелся зыбкой каруселью.
— Это она тебе сказала?
— Да.
— Когда?
— Сразу. Когда я догнала ее в первый день.
Я попытался собраться с мыслями. Долго. Но безуспешно.
— Как же ты там терпела…
— Потому что люблю тебя.
— Господи, горшок выносила…
Она упрямо встряхнула головой.
— Потому что люблю тебя.
— Почему же ты мне сразу не сказала?
— Потому что — люблю тебя!
Я провел ладонью по лицу. Словно хотел стереть залепившую глаза паутину. Но не смог.
— Ты нас не оставишь?
— Если вы не прогоните — ни в коем случае.
— А их?
Я помедлил.
— Если они не прогонят…
— Ни в коем случае, — договорила она за меня. — Скажи, а у тебя были еще женщины одновременно со мной?
— Лиза, ты уверена, что хочешь все это знать?
— Да, родной. Может, буду жалеть потом — но раз уж это начали — надо… разгребать. У тебя было много женщин после того, как мы поженились.
— Много — это сколько?
— Десять! — храбро сказала она.
— Ну, ты мне льстишь…
— Пять.
— Две. То есть, без Станиславы две. С одной мы были очень недолго, восемь лет назад. Она быстро поняла, что я с тобой из-за нее не расстанусь, и ушла. Хотя, по-моему, не хотела, ей было очень больно. И я с ума сходил… знаешь, в основном от чего? От того, что делаю ей больно, и не могу не делать. Помнишь, я забился на дачу один и пил там три дня?
— Помню. Когда я позвонила, ты подошел… еле ворочая языком… я ужасно испугалась, хотела все бросить и ехать туда, но ты не велел… а уж на следующий вечер вернулся. Зелененький такой… Значит, это было из-за нее?
— Да.
— А через две недели мы первый раз поехали в Отузы. И ты был веселый, домашний, заботливый, гордый!
— Еще бы. Там было так хорошо. И я видел, что вам с Полькой хорошо — и от того цвел вдвойне.
— А вторая? Кто от кого?..
— Она уехала на трехлетнюю стажировку в Бразилию. Она биолог, занимается экосистемами влажных тропических лесов. Мы переписываемся иногда, но как она теперь ко мне относится — не знаю.
— Ты по ней скучаешь?
— Знаешь, да. Как правило-то некогда, но иногда вдруг будто очнешься, и чего-то не хватает.
— А Стася была уже при ней?
— Нет. Разминулись больше чем на год.
— Во мне действительно чего-то не достает?
— Лиза, я тебя очень люблю.
— Я знаю, родненький. Неужели ты думаешь, если бы я этого не чувствовала, я стала бы вести этот разговор? Знаю. Но тут другое. Наверное, так бывает, так может быть — любишь, и в то же время постоянно переживаешь какую-то неудовлетворенность, недобор. То ли страстности не хватает, то ли уюта, то ли акцентированной на людях преданности…
— Нет. По-моему, нет.
— Значит, ты просто совсем не можешь, чтобы у тебя была только одна женщина?
— Ну как это не могу!
— Нет, ты не отвечай так с лету. Не тот разговор теперь. Ты сам спроси себя.
Я спросил.
— Теперь уже не знаю, — сказал я.
— А когда эта… тропическая, вернется?
— Весной должна.
— А если, например, она опять к тебе захочет?
Я не ответил. Не знал, что сказать. Никто ни к кому не может придти дважды.
Она смотрела на меня уже не как на икону. И не как на человека. И даже не как на подлеца. Впрочем, как на подлеца она на меня никогда не смотрела… не знаю. Так смотреть она могла бы на пришельца из другой галактики, но не на полномочного представителя братской могучей цивилизации, спускающегося по широкому трапу из недр фотонной ракеты, а на нелепое, не приспособленное к земным условиям желеобразное существо, которое, мирно и жалобно похрюкивая и попукивая, вдруг выползло бы, скажем, из-за унитаза — явно не агрессивное, но абсолютно неуместное и чужое.
— То есть, ты хочешь сказать, что по весне нас у тебя уже может скопиться трое?
Я молчал.
— Саша. Ты прекрасный, добрый, чуткий, страстный, смелый, умный… Ну, все хорошие слова, какие есть, я могу сказать о тебе, правда. Ничего нет удивительного, что время от времени ты увлекаешься какой-нибудь женщиной, или какая-нибудь женщина увлекается тобой. Но ведь… Саша… Ты ведь не можешь всем им быть мужем!
— Наверное, не могу, — сказал я. — Но попытаюсь.
Она резко отвернулась. Положила голову щекой на колени, затылком ко мне, занавесив бедро, свесился длинный, пушистый хвост распущенных светлых волос.
— Бог в помощь, — сказала она.
Некоторое время мы молчали.
— Лиза, — тихо позвал я.
— Да, любимый, — ответила она, не поворачиваясь ко мне.
От этих слов сердце дернулось пронзительно и сладко, на миг я забыл, что хотел сказать.
— Повтори еще раз, если тебе не неприятно, — попросил я.
Она подняла голову и улыбнулась мне.
— Да, любимый.
— Лиза. Понимаешь… нет у меня сил рушить живое. Я давно почувствовал: если уходит один друг, и остальные становятся чуть дальше. То, что действительно умирает, осыпается само, и бог с ним, хотя и от этого больно, всегда больно от смерти — но… я знаю, это тоже подло, но… рубить по живому нельзя! От этого люди ожесточаются, высыхают… и тот, кто рубит, и тот, кого рубят. Представь: ты была с человеком два года, и вдруг он говорит: уходи. И два года счастья у тебя в памяти превращаются в два года неправды. И жизнь становится короче на четыре года!
— Господи, ну мне-то что делать, Саша? Самой сказать тебе: уходи?
Я задохнулся. Но она уже снова смотрела на меня с нежностью.
— И не надейся. Твой выбор за тебя я делать не буду.
— Но ты понимаешь, я ведь могу выбрать…
— Да знаю я, что ты выберешь! Все! Ах, если бы можно было выучить все языки! Сколько раз ты это говорил! Ну, а раз нельзя, можно ни одного не знать. Фразку из одного, фразку из другого… Весь ты в этом! Русский князь…
— Я говорил про языки империи, — даже обиделся я. — Зарубежных я три штуки знаю прилично…
Она не выдержала — засмеялась, потянулась ко мне, взъерошила мне волосы.
— Мальчишка ты, — сказала она. — Как мы Поле-то все это скажем?
— Пока никак, разумеется, — ответил я. — А, например, к совершеннолетию сделаем подарок: что есть у нее братик или сестричка…
— Подарочек, — с сомнением произнесла Лиза. Помолчала. Потом уронила нехотя: — Между прочим, они со Станиславой друг другу понравились.
— Она была здесь?
— Трижды. Я звала — чайку попить, тебя повспоминать…
Я покачал головой.
— Ты настоящая подруга воина. Ну, и?..
— Да в том-то и дело! — с досадой сказала Лиза. — И симпатична она мне, и жалко мне ее, и любит она тебя остервенело, а это чувство, как ты понимаешь, я вполне разделяю… Ох, не знаю, что делать. А пустить тебя привольно пастись на лужайке с двумя — а то и с тремя, святые угодники! — с тремя козами… Это же курам на смех!
3
Наша встреча с Ламсдорфом была организована без особых конспиративных вычур. Но она и не разрушала версии о том, что я долечиваюсь где-то. Иван Вольфович, в преддверии моего потайного возвращения, последние недели зачастил к Лизе в гости — как бы повидать супругу получившего, так сказать, производственную травму коллеги. Точно так же он приехал и на этот раз, к десяти утра. Дом мой загодя был сызнова прозвонен противоподслушивающими датчиками, привезли меня вчера с военного аэродрома в наглухо закрытом кузове почтового фургона, который вогнали во внутренний дворик особняка, и я, в виде одного из двух грузчиков — вторым был Рамиль — втащил в дом через хозяйственный вход корзину настоящего крымского «кардинала», вполне натурально присланную Рахчиевым, но вдобавок использованного для вящей натурализации легенды, так что, ежели кто и ухитрился заглянуть в ворота из окон, скажем, дома напротив — хотя жильцы там, в сущности, были вне подозрений — он увидел лишь рыло мощного грузовика, поданного кузовом к самым дверям, да в зазор между дном авто и асфальтом ноги двух грузчиков и полную винограда корзину, тут же пропавшие в доме. То, что обратно в кузов села лишь одна пара ног, уверенно разглядеть в вечерней мгле было невозможно даже в инфракрасную оптику. Так что если неведомые водители «пешек» взяли меня в Симбирске на заметку, угнаться за мною им сейчас будет тяжело.
Мы принимали Ивана Вольфовича в алой гостиной, по-свойски, к тому же окна ее выходили во двор, что было очень ценно в нынешней ситуации. Выспавшиеся, худо-бедно отдохнувшие — а Лиза с моим приездом прямо-таки расцвела, не смотря ни на что, и мне это было черт знает как приятно и лестно — мы сидели рядышком на диване и были живой иллюстрацией к песенке «голубок и горлица никогда не ссорятся». Ведь мы за пятнадцать лет действительно не ссорились ни разу — об этом я думал еще ночью, перед тем, как заснуть. Но была в этом и определенная опасность. Есть пары, которые чуть ли не раз в неделю собираются разводиться, то и дело перекатывают взад-вперед обвинения во всех смертных грехах, орут на два голоса бранные слова — и прекрасно при этом существуют, даже силы черпают в каждодневных перепалках. Будто умываются оплеухами. Правда, дети в таких семьях растут — ой. Для нас с Лизой одна резкая или даже просто неуважительная фраза оказалась бы столь значимым, столь из ряда вон выходящим событием, так фатально выломилась бы из семейных отношений, что поставила бы между нами стену более высокую, чем могли бы десять Стась. И, инстинктивно чувствуя это, мы даже голоса никогда не повышали друг на друга.
Я поднялся с дивана, сделал пару шагов навстречу Ламсдорфу, и мы по-братски обнялись. Несколько секунд он молча щекотал мне щеку своими бакенбардами, от избытка чувств легонько похлопывая меня ладонью по спине, потом отстранился.
— Ну-с, рад снова видеть вас в добром здравии! Чертовски рад! Как вы? Совсем хорошо?
— Совсем хорошо, Иван Вольфович, совсем. Вашими и Лизиными молитвами.
— Не только, батенька, не только…
— Да уж ясное дело, что не только, — игриво ввернула Лиза. Ламсдорф с некоторым удивлением повернулся к ней и разъяснил:
— Государь вот справлялся многажды… Здравствуйте, Елизавета Николаевна! Простите старика, что не к вам к первой. Уж очень все это время беспокоился за вашего гусара!
Он склонился к ней, поцеловал руку.
— Не хотите ли чайку, Иван Вольфович?
— Нет, увольте, Елизавета Николаевна, только что отзавтракал. Да и вас обижать не хочу — корабль отходит вечером, вам, я полагаю, суток одних маловато друг для друга между двумя разлуками, так что уж это время у вас занимать теперь — смертный грех. Я коротенько, по делу.
Мы расселись, а Лиза осталась стоять.
— Ну раз по делу, тогда удаляюсь, — сказала она и пошла к двери. Открыла ее, обернулась, послала еще одну улыбку Ламсдорфу, потом мне. И плотно затворила дверь за собою.
— Что за супруга у вас, Александр Львович! — произнес Ламсдорф. — Золото!
— Да уж мне ли не знать, — ответил я.
— А как похорошела-то, помолодела с вашим приездом! Всю конспирацию ломает! И ведь не скажешь: выгляди-ка плохо, а то все догадаются!..
— Не скажешь, — подтвердил я.
Он покряхтел.
— Ах беда-то какая… опять вам ехать. И кроме вас — некому. Вряд ли патриарх допустит чужого человека к социалистическим потемкам.
— Вряд ли, — согласился я. — Его можно понять.
— Что мы и делаем, — покивал Ламсдорф. Потеребил бакенбарды. — Значит, первое. За ранение вам положена компенсация — полторы тысячи рубликов переведены на ваш счет в Народном банке…
— Помилуйте, Иван Вольфович, за что столько? На эти деньги я авто могу сменить! Вы уж лучше врачей симбирских премируйте!
— А это мысль. Я поговорю с министром… Второе, — он достал просторное, как лист лопуха, портмоне и начал, будто фокусник, извлекать из него бумагу за бумагой. — Вот билет на судно. Отплытие в девятнадцать ровно. Мы решили вас морем отправить. И для конспирации лучше, и для здоровья. Два дня погоды не делают, а морская прогулка вам будет чрезвычайно полезна, мы с медиками консультировались.
Я бы лучше эти два дня дома провел, подумал я, но в слух ничего не сказал, чтобы не расстраивать Ламсдорфа. Видно, что-то заскочило у них в мозгах. Каждый день дорог — поэтому отправить как можно скорее, но два дня погоды не делают — поэтому морем. Ладно, сделанного не воротишь. И действительно, в аэропортах контроль жестче. Больше вероятность, что засекут — если меня секут.
— Вот документы. Теперь вы — корреспондент «Правды» Чернышов Алексей Никодимович. Мы выбрали вашу газету, коммунистическую, по тем соображениям, что догматы учения и проблемы конфессии вам хорошо известны, и при случае вы сможете поддержать разговор более или менее профессионально.
— Резонно, — сказал я.
— Как вы представитесь вашему контрагенту в Стокгольме — в это мы не лезем. Это вам решать, смотря по тому, как договорились вы с Патриархом. Но для остальных сочли за лучшее подмаскировать вас таким вот образом. С редакцией снеслись, они вошли в наше положение. Теперь в отделе кадров у них есть соответствующая бумажка — товарищ Чернышов А.Н., внештатный корреспондент, командирован редакцией для ознакомления с такими-то фондами архива Социнтерна с целью написания серии исторических обзоров для рубрики «Наши корни».
— Да уж, — сказал я, — если версия подтвердится, корешки окажутся будь здоров.
Ламсдорф помрачнел.
— Чем больше я думаю, батенька, тем больше тревожусь. Когда отчет ваш читал, просто волосы дыбом вставали. Коли вы правы окажетесь — то как же они, аспиды, научились людей уродовать! Уж, кажется, лучше бы Папазянов вирус. С природы и взятки гладки, от ее злодейств не ожесточаешься. А тут… Триста сорок шесть невинно убиенных в сорок первом году! Триста восемьдесят два в сорок втором! И это только в Европе! Нелюди какие-то!
— Вот я и хочу этих нелюдей… — я уткнул большой палец в подлокотник кресла и, надавив, сладостно покрутил.
— Думаете, вы один? В том-то и опасность я новую предвижу. Ведь для них смертную казнь опять ввести захочется!
Мы долго молчали, думая, пожалуй, об одном и том же. И сугубо, казалось бы, физический термин «цепная реакция», вдруг всплывший у меня в душе, разбухал, как клещ, от крови, грозя лопнуть и забрызгать дом и мир.
— Этого допустить нельзя, — сказал я. — Ни в коем случае нельзя.
Ламсдорф вздохнул.
— Вы уж поосторожней там, — попросил он. — Под пули-то не лезьте без нужды.
— По малой нужде — под пули, — пошутил я. — По большой нужде — обратно под пули…
Ламсдорф смеялся до слез. Но, вытирая уголки глаз, поглядывал с тревогой и состраданием.
— Охрану бы вам, — сказал он, отсмеявшись. — Парочку ребят для страховки, чтобы просто ходили следом да присматривали…
— Мы ведь по телефону уже говорили об этом, Иван Вольфович.
— Гордец вы упрямый, батенька. Все сам да один, один да сам…
— Ну при чем здесь упрямство? Если серьезное нечто начнется, два человека — просто смертники. Одному, между прочим, куда легче затеряться… Это во-первых. А во-вторых и в главных, я еду к Эрику как частное лицо, представитель патриарха. Если он заметит, что меня пасут боевики…
— Да, батенька, да. Резонно. Я потому и подчинился, — он опять вздохнул. — А сердце не на месте. Все сберечь как-то хочется. Так… Что же еще вам сказать? Ага, вот карманные денежки. Чтобы вам не суетиться сразу с обменом — уже в шведских, шесть тысяч крон. И в Стокгольмском Национальном открыт кредит еще на двадцать пять. Счет на «пароль»…
Вы меня просто завалили деньгами! Зачем?
— На всякий случай, батенька, на всякий случай. Хоть что-то. Мы — страна богатая, можем позаботится о своих. Кто знает, сколько вам там пробыть придется. Да и мало ли… вдруг… — он сразу запутался в словах, не решаясь назвать вещи своими именами, — лечение какое понадобится. У них же там все за деньги. Счет, говорю, на «пароль». Мы думали-думали, какое слово взять. А тут князь Ираклий позвонил — беспокоился, что-то, дескать, от вас давно весточек нету, ну, и дали мы счету пароль «Светицховели».
Мне стало тепло и нежно, как в вечернем сагурамском саду.
— Спасибо, — проговорил я растроганно. — Это вы мне действительно приятное сделали.
— На то и расчет. Подавайте о себе знать при случае. Атташе военный в Стокгольме о миссии корреспондента Чернышова осведомлен… то есть, не о цели ее, конечно, но о том, что есть такой Чернышов, которому надлежит, ежели что, оказывать всяческое содействие. Проще держать связь через него. Вот телефон, — он показал мне бумажку с номером, подержал у меня перед глазами, потом провел большим пальцем по цифрам, и цифры исчезли. Скомкал бумажку, повертел в пальцах и, не найдя, куда ее деть, сунул себе в карман. — Вот и все, — поднялся. — Давайте-ка опять обнимемся, Александр Львович.
— Давайте, — ответил я.
4
Когда Ламсдорф ушел, мы снова двумя ангелочками уселись на диван, Лиза положила голову мне на плечо, и некоторое время мы молчали. Небо, довольно ясное утром, затянулось сплошной серой, сырой пеленой, и в гостиной все было сумеречно.
— Сколько у тебя осталось? — спросила Лиза потом.
— Шесть часов.
— Тебя опять повезут как-то по хитрому?
— Да.
— Я очень боюсь за тебя.
— Это лишнее.
— Там еще шампанского немного осталось. Хочешь допить?
— Хочу.
Она встала, быстро вышла в столовую, быстро вернулась, неся в руке почти полный бокал. Я взял, улыбнулся благодарно. Едва слышно шипела пена.
— Ты будешь?
— Нет-нет, пей.
Я неторопливо выпил. Вкусно. Тут же щекотно ударило в нос, я сморщился. Поставил бока на ковер возе дивана. В желудке мягко расцвело тепло.
— Можешь покурить…
— Абсолютно не хочется.
Она промолчала. Потом сказала негромко:
— Будет совсем не по-людски, если вы не повидаетесь.
Я думал о том же. Но совершенно не представлял, как это сделать. И, вдобавок, самую середку души вкрадчиво, но неотступно глодал ядовитый червячок: а можно ли ей доверять-то, господи боже мой? Хотя Беню, по всем его показаниям, «осенили» раньше, чем я собрался в Симбирск и проболтался об этом Стасе, но ведь и показания могли быть «наведены» извне, оставалась вероятность того, что покушение на патриарха вызвано моим внезапным желанием побеседовать с ним — ничтожная, да, но, казалось, я не имел права рисковать, совсем уж сбрасывая ее со счетов, слишком велика была ставка.
И все же я сбросил. Пусть лучше меня застрелят в Стокгольме. Жить с такими мыслями о женщине, которую любишь, которая ждет ребенка от тебя — это много хуже смерти. Собственно, это и есть смерть. Смерть души.
— Ты права, — ответил я.
— Давай знаешь, как сделаем? — бодро заговорила она. — Я сейчас ей позвоню и позову в гости. Она здесь уже бывала, так что, если твои бармалеи действительно следят за домом, они ничего не заподозрят. А сама, — она чуть пожала плечами, — куда-нибудь уйду на часок-другой. Так хорошо?
И опять горло мне сдавил горячий влажный обруч. Уже я смотрел на не, как на икону, с восхищением и благоговением, и думал, что если хоть волос упадет с ее головы, или если на действительно решит уйти от меня — все, я умру.
— Это слишком, Лиза, — сказал я. — Я не могу… тебя так использовать.
— Господи, ну что ты глупости говоришь? При чем тут использовать? Я просто тебе помогаю, и нет мне занятия приятнее. Когда я тебе бинты меняла с нею вместе — разве это было использование? Ты страдал, а я, как могла, тебя лечила.
— Тогда в меня попала пуля.
Она вздохнула, а потом сказала задумчиво:
— Знаешь, это для меня тоже как пуля.
— Ты тоже страдаешь.
— Я страдаю, потому что тебе тяжело, а ты — потому что в тебя попали. Есть разница? И вообще, — решительно добавила она, тут же покраснев, — если бы я, например, в кого-нибудь влюбилась, ты что, вел бы себя иначе? Ты, палач, кровосос, кобель, мне бы не помог?
— Не знаю, — сказал я.
— Зато я знаю. Я тебя знаю лучше их всех, и даже лучше, чем ты сам. И знаешь, почему?
— Почему?
— Потому что я очень послушная. Ты со мной самый неискаженный.
Она подождала еще секунду, потом ободряюще улыбнулась и встала. Пошла в столовую, к телефону.
Щелк… щелк-щелк кнопочками.
— Стася? Здравствуйте, это… узнали? Ну, разумеется… А? Не может быть! Спаси-ибо… Нет-нет, право, я не могу, лучше себе оставьте, вам нужнее. Ах, гонорар подоспел крупный. Вышла подборка? Поздравляю, от всей души поздравляю. От Саши ничего, но вот сейчас заходил его начальник, сказал, что его перевели на долечивание в санаторий, куда-то на Кавказ. Ох, правда. Я тоже соскучилась. Лучше бы сюда, мы бы его быстрее вылечили. Как вы-то себя чувствуете? — послушала, потом засмеялась вдруг. — Да не волнуйтесь так, это же обычное дело. Я когда Поленьку ждала…
Я встал и прикрыл дверь. Сестренки, похоже, завелись надолго.
За окном собирался дождь, плоская, беспросветная пелена небес совсем набухла влагой. Два сиреневых кустика в углу двора потемнели и понурились. Под одним, напряженно приподняв переднюю лапу, каменел Тимотеус с хищно поднятым вверх лицом — наверное, стерег какого-нибудь воробья на ветке, невидимого отсюда.
Как не хочется уезжать!
Дверь творилась, и я обернулся.
— Минут через сорок будет здесь.
Я молча кивнул. Нет таких слов.
— Знаешь, Саша, — виновато сказала она, — что я подумала? Тебе виднее конечно, но если она придет, а я вскоре уйду одна, со стороны это может выглядеть странно и… подозрительно. Ты только не думай, что я ищу предлог остаться и… — запнулась — Если ты действительно опасаешься каких-то наблюдателей.
— Есть такая вероятность.
— Я тогда встречу ее и просто забьюсь куда-нибудь подальше, в хозяйственный флигель, например. А потом, когда вы… когда уже можно будет, ты меня оттуда вынешь.
Я подошел к ней, положил ей ладони на бедра и чуть притянул к себе. Некоторое время молча смотрел в глаза. Она не отвела взгляд. Лишь снова покраснела.
— Я обожаю тебя, Лиза.
Она улыбнулась.
— А мне только этого и надо.
5
Когда раздался звонок, открывать пошла Лиза. Я так и сидел, как таракан, в алой гостиной, боясь днем даже ходить мимо окон, выходящих на улицу, бог знает, кто мог засесть, скажем, в слуховом окне на крыше дома напротив с биноклем или, например, детектором, подслушивающим разговор по вибрации оконных стекол. Ерунда какая-то, скоро от собственной тени шарахаться начну — а рисковать нельзя, раз уж взялись маскироваться.
Из прихожей донеслись два оживленных женских голоса, на лестнице заслышались шаги, и сердце у меня опять, будто я все еще лежал на больничной койке, заколотило, как боксер в грушу, короткая бешеная серия ударов и пауза, еще серия и еще пауза… Ведь я Стасю с той поры не видел и не слышал.
Они вошли. Стася, увидев меня, окаменела.
— Ты…
— Я.
Да, по фигуре уже было заметно.
Она поняла мой взгляд и опустила глаза. Потом резко обернулась к Лизе:
— Отчего же вы мне не сказали?
— У Саши спросите, — улыбаясь, пожала плечами Лиза. — Каких-то Бармалеев наш муж боится.
Она снова уставилась на меня.
— Опять что-то случилось?
— Нет. Надеюсь, и не случится.
— Ну, вы беседуйте, — сказала Лиза, — а я пойду распоряжусь насчет обеда. Вы ведь пообедаете с нами, Стася, не так ли? И сама прослежу, чтобы все было на высшем уровне. Редкий гость в доме, — повелитель — нельзя ударить лицом в грязь. Стася, я надолго.
Она вышла и плотно затворила дверь.
— Вы просто идеальная пара, — произнесла Стася, помолчав. Мы так и стояли неловко: я посреди комнаты, она у самой двери. — По моему, вы органически не способны обидеться или рассердиться друг на друга…
Я усмехнулся.
— Я от тебя тоже готова снести все, что угодно, лишь бы остаться вместе — но иногда, сама того не замечая, начинаю злиться. А ты к этому не привык в своей оранжерее — сразу замыкаешься, отодвигаешь меня и готов сбыть кому угодно. Угораздило же меня!
— Жалеешь?
Она взглянула чуть исподлобья.
— Я? Нисколько. Ей — сочувствую. Тебя мне ничуть не жалко, а себя — и подавно.
— Садись, Стася, — я показал на диван, возле которого стоял.
Она уселась на один из стульев у двери, подальше от меня. Ее и отодвигать не надо было — сама отодвигалась. Я нерешительно постоял мгновение, потом сел подальше от нее.
— Когда ты вернулся?
— Вчера.
— Надолго?
— На пол-сегодня. В семь отходит мой корабль.
— Корабль… Что вообще происходит?
Я открыл было рот, но холодный скользкий червячок крутнулся вновь. Молчи, она ведь даже не спрашивает, куда ты едешь! Додавливая гада, я старательно проговорил:
— Плыву в Стокгольм, в архив Социнтерна. И даже под чужим именем. Чернышов Алексей Никодимович, корреспондент «Правды».
Я глубоко вздохнул, переводя дух от этого смехотворного для нормальных людей подвига — но слышал бы меня Ламсдорф! ведь я разом перечеркнул многодневные усилия многих людей, старавшихся обеспечить максимально возможную безопасность моему делу и моему телу! — я на выдохе вдруг попросил, сам не ожидая от себя этих слов:
— Только не говори никому.
— Да уж разумеется! — выпалила она. — Хватит с меня сцены, которую ты устроил перед отлетом в Симбирск!
— Я устроил?! — опешил я.
— Не надо повышать на меня голос. Конечно, ты. Не Квятковский же.
Я молчал. Что тут можно было сказать.
— Он весь наш коньяк выпил, — пожаловалась она.
Я улыбнулся.
— Пустяки. Я ни секунды не сомневался.
— Он очень замерз! — сразу встала она на защиту. Как хохлатка над цыпленком. Словно ястребом был я. — В Варшаве жара, он летел в одной рубашке — а на борту кондиционеры плохо работали, и все продрогли еще в воздухе. А в Пулкове этом болотном вдобавок и вымокли до нитки. Что же мне, жмотиться было?
— Да я же не возражаю, — сказал я. — Для того и нес, Стасенька.
Она вдруг рассеянно провела ладонью по лицу.
— О чем мы говорим, Саша…
Я устало пожал плечами.
— О чем ты хочешь, о том и говорим.
— А ты о чем хочешь?
— О тебе.
Она промолчала.
— Ты надолго?
— Не знаю. Думаю, да.
— Значит, — вздохнула она, — буду встречать тебя уже с чадиком на руках.
— Чадиком? — улыбнулся я.
— Ну… чадо, исчадие… если ласково, то чадик. Это я сама придумала.
— Давно это?..
— Больше пол-срока отмотала. Уже лупит меня вовсю, как футболист.
— Думаешь, мальчик?
— Хотелось бы. Дочка у тебя уже есть. Хватит с тебя… девочек.
— Что ж ты мне сама-то не сказала?
— Она искренне изумилась.
— Как? Это я Лизу совсем уж расстраивать не хотела, не сказала, что ты мне сам разрешил!
Мне захотелось закурить. Кто-то из нас сошел с ума. И вдруг мелькнула жуткая мысль: да не «пешка» ли она уже? Как Беня, долдонивший про тягу патриарха к личной власти…
— Когда разрешил? — спокойно спросил я и поймал себя на том, что, кажется, уже веду допрос.
— Да в Сагурамо! Я была уверена, что ты все понял! Ты сразу сказал — только немножко поломался сначала насчет порядочности — а потом сказал: если без ссор и дрязг, то был бы рад.
Я все делаю, как ты сказал — ни ссор, ни дрязг.
— Ну ты даешь, — только и смог выговорить я. А потом спросил, прекрасно зная, что она ответит, если будет честна: — А если бы не разрешил, что-нибудь бы изменилось?
Она помедлила и чуть улыбнулась:
— Нет.
Я молчал. У нее исказилось лицо, она даже ногой притопнула:
— Мне тридцать шесть лет! Через месяц — тридцать семь! Имею я право родить ребенка от того, кого наконец-то люблю?!
— Имеешь. Но я-то теперь как? В петлю лезть от невозможности раздвоиться? Ведь что я ни делай — все равно предатель!
— До сегодняшнего дня ты прекрасно раздваивался. Теперь — хвостик задрожал? Тогда гони меня сразу.
Мы помолчали. Задушевная получилась встреча.
— А я шла сюда, — вдруг тихо сказала она, — и думала: удастся ли мне когда-нибудь затащить тебя в постель, или уже все?
Меня сразу обдало жаром.
— А хочется? — так же тихо спросил я.
— Вопрос, достойный тебя. Да я тут ссохлась вся от тоски!
— Зачем же ты так далеко сидишь? — я старался говорить как можно мягче, и только боялся, что после недавней перепалки это может не удаться или, хуже того, прозвучать фальшиво.
— Здесь? — с отвращением выкрикнула она.
Я опять перевел дух. Как тяжело… Язык не поворачивался, но надо же ей растолковать.
— Стасенька, по моему… Лиза уверена, что у нас с тобой это будет.
— Это ее проблемы.
— Не надо так. Даже если ты сейчас не… — не знал, как назвать. И не назвал. — Все равно ты плохо сказала. Ведь мы с тобою можем опять очень долго не увидеться, и она это понимает.
— Не хватало еще, чтобы твоя жена тебя мне подкладывала.
Я почувствовал, что у меня дернулись желваки.
Ну, самоутверждайся, — сдержавшись, сказал я глухо.
— Сашенька, я уже лет пятнадцать этим не занимаюсь. Но в ваше супружеское ложе не лягу ни за что.
— Ложе, ложе! — я уже терял терпение. Единственное, на что мня еще хватало — это на то, чтобы не повышать голос. — Стася, при чем тут ложе! — и, уже откровенно глумясь, добавил: — Вот, можно на коврике!
Она поднялась.
— Какой тяжелый ты человек, — сказала она и пошла к двери. — Не провожай. А то ведь кругом враги.
Все мое раздражение отлетело сразу. Остались только страх за Стасю и тоска. Что же она делает? Она же доламывает все! Она этого хочет?
— Стася, а обед?! — нелепо крикнул я ей в спину, и дверь резко закрылась.
Я с яростью потряс головой. Дьявол, ничего не успел даже спросить. Как у нее с деньгами? Как со здоровьем? Как с публикациями, сдержал ли Квятковский слово? По телефону вроде говорили о какой-то подборке… Дьявол, дьявол, дьявол! Бред!
С чего же начали цапаться-то?
Когда я прикуривал четвертую сигарету от третьей, в дверь осторожно поскреблись. Я обернулся, как ужаленный. Неужели вернулась? Господи, хоть бы вернулась!
— Да! — громко сказал я, уже поняв, что это Лиза.
Она правильно рассчитала: если бы мы были в спальне, то просто не услышали бы.
И она бы снова ушла. Все зная наверняка.
Она явно не ожидала, что я отвечу. Только через несколько секунд после моего «да!» оживленно влетела в комнату, и задорная, гостеприимная улыбка на ее лице сразу сменилась растерянной.
— А где Станислава? Ой, дыму-то!.. — она почти подбежала ко мне. Глянула на розетку для варенья которую я превратил в пепельницу. — Святые угодники, четвертая! Да что случилось, Саша? На тебе лица нет!
— Все, Лизка, — сказал я, снова впихивая себе сигаретку в губы. Руки все еще дрожали. — Пляши. Одной козы — как не бывало.
— Вы что, поссорились? — с ужасом спросила она.
Я неловко размолотил окурок в розетке, среди вонючей трухи предыдущих, и кивнул. Лиза, прижав кулачок к подбородку, потрясенно замотала головой.
— У нее на шестой уже перевалило… тебе, может, опять под пули лезть… Ой, дураки, дураки, дураки…
И тут же, схватив меня за локоть, энергично заговорила:
— Саша, ты только не расстраивайся, не бери в голову. Это у нее просто период такой. Я, когда Поленьку ждала, тоже на тебя все время обижалась, из-за любого пустяка. Только виду не подавала. А она — другой человек, что ж тут сделаешь. Привыкла к свободе, к независимости. Она родит, и все постепенно уляжется, она ведь очень тебя любит, я-то знаю!
— Задурила она тебе голову, Лизка, — почти со злостью проговорил я. — Не верь ей. Просто с возрастом приперло. Решила родить абы от кого — ну, а тут как раз дурак попался. Никого она, кроме себя, не любит, и никогда не любила… Ну, так что у нас с обедом? Ты вкусный обед обещала!
Она испуганно всматривалась мне в лиц. Будто не узнавала. Будто у меня выросли рога и чертов пятак вместо носа.
— Вот теперь я совсем поняла, о чем ты ночью говорил…
— Да я много глупостей наговорил.
— Не надо так! — болезненно выкрикнула она. — Эта ночь — одна из самых счастливых в жизни у меня! Никогда может мы с тобой не были так близко… А говорил ты, что нельзя крушить живое. Потому что тогда ожесточаются и высыхают. Ты не становись таким, Саша, — она подняла руку и погладила меня по щеке. — До нее мне, в конце концов, извини, дела нет, но ты… лучше уж изменяй мне хоть каждый день, но таким не становись, потому что я тебя такого очень быстро разлюблю. И что я и Поля тогда станем делать?
Стокгольм
1
Теплоход крался по фьорду.
В желтом свете предосеннего северного заката тянулись назад лежащие в воде цвета неба острова. Крупные, покрытые лесом, или помельче, скалистые, украшенные одним-двумя деревьями и какой-нибудь почти обязательной избушкой под ними, или совсем лысые, или совсем небольшие, не крупнее Лягушек в Коктебельской бухте — просто валуны, высунувшие на воздух покатые, как шляпки грибов, розово-коричневые спины. На каждом из них хотелось посидеть — свесить ноги к воде и, коротко глядя на остывающий мир, в рассеянности размышлять обо всем и ни о чем. Глухо рокотали на малых оборотах дизеля, корабль мягко проминал зеркало поверхности, и за ним далеко-далеко тянулись по ясной, холодной глади медленно расходящиеся морщины. Красота была неописуемая, первозданная, хотя громадный город уже надвинулся — из-за леса на правом берегу тянулась в небо окольцованная игла телебашни, светились в настильном сиянии почти негреющего солнца разбросанные в темной зелени прибрежные виллы и особняки Лилла-Бартан, но все равно современное мощное судно казалось неуместным здесь, нужен был драккар. Пятнадцать лет назад один мой друг, писатель — с ним-то мы и попали впервые в эти края, он и познакомил нас со Стасей позапрошлым летом — сказал: «Теперь я понимаю Пер Гюнта. Здесь можно взять меч и молча выйти на двадцать лет. Здесь можно ждать двадцать лет». Я не очень понял тогда, что он имел ввиду, не понимаю и теперь, но сказано было красиво, и вокруг все было красиво — а между двумя красотами всегда можно найти связь, один найдет одну, другой — другую. Смертельно, до тоски хотелось показать все это Поле, Лизе и Стасе. Одну красоту — другой красоте. Вот и еще одна связь между красотами, уже моя, кроме меня, ее никто не поймет.
На нижних палубах суетились туристы, перебегая от борта к борту через широкую, как площадь, кормовую площадку, беззвучно для меня орудовали фотоаппаратами и видеокамерами, толкались в поисках свей идеальной точки зрения. Я стоял наверху, неподалеку от труб — они туго вибрировали и сдержано рычали. На шее у меня болтался полагающийся по легенде «Канон», но я про него забыл. Не хотелось дергаться. Кто смотрит через видоискатель — тот видит только фокус да ракурс, а мне хотелось видеть Стокгольм. Я люблю этот город.
Совсем уже неторопливо мы проползли мимо островка Каскель-Хольмен, где на тонкой мачте над краснокирпичным замком чуть полоскал давно уже навечно поднятый флаг — исторически его полагалось спускать, когда Швеция ведет войну, потом слегка взяли вправо. По левому борту открылся близкий, и продолжающий мерно наплывать изящный лепесток моста, разграничивающего залив Сальтшен и озеро Меларен — со стороны Старого города у въезда на мост высился строгий и гордый каменный Бергандотт, а дальше, за строениями рыцарского острова, похожими все, как одно, на дворцы, вывернув из-за высоких палубных надстроек судна, четко прорисовалась в напряженной желтизне небес ажурная башня Рыцарской кирки. Все это напоминало Петербург — но еще причудливее и плотнее, потому что мельче и чаще были накиданы в залив острова, а берега кое-где были низкими и плоскими, как у нас, но кое-где вспучивались вверх каменными горбами — и здания взлетали в небо.
Подумать только. Чтобы построить город, так похожий на этот, мы воевали с ними едва ли не четверть века. А они с нами — чтобы мы не построили. Средневековье…
Ошвартовались в самом центре, у набережной Скеппсбрен, почти что под окнами королевского дворца. Толпа на палубах медленно всосалась в недра корабля, а я, не спеша никуда, завороженно озираясь, еще выкурил сигарету на своей верхотуре. Чуть не швырнул окурок за борт, как делал в море, но рука сама не пошла. Это было все равно, что плюнуть в лицо Мадонне Литта.
«Правда» была столь любезна, что по своим каналам забронировала для меня скромный, но вполне уютный двухкомнатный номер в одном из отелей на Свеаваген, в двух шагах от концертного зала, где, как мне говорили когда-то, и происходит вручение Нобелевских премий. Начало смеркаться, когда я закончил разбирать багаж и полез в душ. Очень горячий, очень холодный. Все вроде было в порядке: и краны чуткие, и напор хороший, а не то.
Вытерся, вылез, оделся. Подошел к окну. Загорались огни, двумя плотными противонаправленными потоками катили внизу яркие авто. Покосился на телефон. Нет, не хотелось сразу звонить. На корабле я как-то расслабился, морская прогулка даже слишком пошла мне на пользу, размяк я, как последний бездельник, и никак было не решиться снова броситься в бойцовый ритм.
Я знал: стоит начать — это надолго.
Да и не следовало, пожалуй, звонить из отеля. Береженого бог бережет.
Хотя покамест за журналистом Чернышовым, по всем признакам, никто не следил.
Я опустился в полупустой бар. Музыка играла ни уму, ни сердцу, но к счастью, не громко. Не спеша, выпил чашку кофе, выкурил еще сигарету. Сладкое ничегонеделание… Вышел на улицу. Поколебался немного и пошел налево, к роскошной биргер-ярло-гатан.
Насколько я понимал, это в честь того ярла Биргера, которого в свое время откомпостировал святой князь Александр. Хорошо, что средневековье закончилось. Я не смог бы жить в те эпохи. Разве что принял бы постриг. И то: католики, лютеране, православные, старообрядцы — и все праве остальных.
На улице имени смертельного врага русского святого я купил мемориальный банан. Понюхал пахнущую приторной тропической сыростью кожицу, интернациональным жестом уважительно показал тонущему в своих фруктах уличному торговцу большой палец — тот с утрированной гордостью выпятил челюсть и задрал нос: мол, плохого не держим. Мы разошлись, довольные друг другом. С бананом в руке я двинулся дальше.
Люди, люди, люди… Люди у витрин, люди у машин, люди у лотков, и просто идущие не спеша, жующие резинку и не жующие резинку, разговаривающие, смеющиеся… Нет, люди у нас красивее. А вот город чище у них. Аккуратнее как-то, прополотее.
Слитно шумя и моргая тысячью красных глаз, катил мимо вечерний автомобильный ледоход.
Улица вывела к маленькому скверику, громко именуемому парком. Берцели-парк, кажется. Я миновал его, и тут уж снова недалеко было от воды. Остановился. Вот с этого места начиналась моя симпатия к Стокгольму.
Никуда он не делся за пятнадцать лет, мой чугунный приятель, которого я когда-то в сумерках, принял в первый момент за живого. Надо очень любить свою столицу, чтобы любить ее так весело и непринужденно: в блистательном центре великого города, сердца северной империи, пусть даже бывшей, поставить красно-желтую загородку «ведутся работы», кинуть на асфальт тяжелую крышку канализационного люка, а под крышкой воткнуть с натугой открывающего ее чугунного водопроводчика, так что казалось, будто он вылезает из дыры в земле — с худой, костлявой, уныло перекошенной и явно похмельной рожей. Одно только слегка портило впечатление — торчащая тут же табличка «Хумор». Как будто без этого пояснения кто-нибудь мог не догадаться, что водопроводчик является юмором, и окаменел бы от недоумения. Была тут какая-то неуверенность шведов в самих себе.
Хотелось навестить еще Риддар-хольмен, Рыцарский остров, но небо уже отцветало, и даже на западе сквозь холодную зелень заката вовсю проступала синева. Я постоял у воды, вспоминая, как мы с другом сидели на стрелке этого самого хольмена, на скамейках открытой эстрады — а за темной водной ширью, неторопливо игравшей словно бы каучуковыми отражениями городских огней, потянет и отпустит, потянет и отпустит, громоздился тяжелый, угловатый бастион ратуши, а мимо, в двух шагах от нашего берега, тарахтя несильным дизельком и тускло светя фонарями и единственным квадратным оконцем, проплывал занюханный катерок с громким названием «Соларис Рекс»… Но сердце было уже не на месте. Пора работать.
Я решительно пошел к телефону. Я не знал по-шведски, Эрик, по словам патриарха, не знал по-русски. И когда, подняв трубку, с того конца ответили международным «алло», я спросил, старательно надавив на английское «р», чтобы сразу дать понять, на каком языке ведется разговор:
— Эрик?
— Он включился сразу.
— Е-э…
— Гуд дей, Эрик. Ай'м фром Михаил Сергеич.[4]
2
Дни летели — как листья на ветру.
Работа была кропотливой, и, в общем, совершенно непривычной для меня. Эрик — немногословный, очень славный и феноменально эрудированный в своей области человек — помогал, чем мог, без него я запутался бы быстро и безнадежно, для меня действительно все оказалось доступно и открыто, по первому требованию поступали картотеки, документы, пожелтевшие, а то и затянутые прозрачной пленкой ветхие письма, расписки, дагерротипы… Но что Эрик мог сделать, ежели я сам не ведал, что ищу? Поди туда — не знаю куда… Целыми днями я просиживал за терминалом ЕСИ — помню, когда создавалась Единая Сеть Информации, мы, желторотики, пили за ее здоровье и пели «Ой, ты гой, Еси!», в читальных залах, а то и в рабочих каморках фондов, расшифровывая старый почерк — на немецком, на французском, и тонул в ворохах ничего не значащих фактов, и вновь выныривал было, уцепившись за какую-то нить, а потом нить рвалась, или приводила в тупик, и я искал другую, и все было наугад, наощупь, все было зыбко. А дни летели, и я скучал по всем.
Однажды мне показалось, что меня пасут — и я целый день проверялся. Кружил в перепутанном, как кишечник, метро, зашел в кино, зашел в ресторан. Похоже, почудилось. Вечером просто руки чесались прозвонить номер на предмет электронных «жучков», но у меня, естественно, никакой аппаратуры с собою, — аппаратура — вещь броская, первый же сделанный обыск в номере меня бы расшифровал, а, во вторых, пусть слушают, я все время молчу. Однако нервы были на взводе, и в тот же день я дольше обычного мучился бессонницей. Слишком уж медленно шло дело. Да и шло ли? Порой мне казалось, что я вообще на ложном пути и не по заслугам проедаю казенные кроны. Очень хотелось осведомиться, набегает ли дальше статистика Папазяна, происходят ли и теперь в мире преступления, аналогичные выявленным нами — но отсюда это было невозможно. Я бежал в пустоте.
А листья и впрямь полетели, поплыли, зябко дрожа, по рябой от осеннего ветра воде уличных проливов.
Я ни с кем не знакомился, ни с кем не сходился.
Я тосковал.
Я работал.
Поначалу мне то Стася, то Лиза мерещились в толпе. Потом все это стало реже. Потом прекратилось совсем. Я даже не мог узнать, как у них дела, здоровы ли…
Пятого сентября мы и штатники запустили очередную пару гравитаторов. Вот об этом мне прожужжали все уши по радио, промозолили все глаза в газетах. «Новая фаза глобального сотрудничества…»
Никто проекту «Арес» не угрожал.
Из газет же я узнал, что патриарх вернулся к работе. Его все-таки ухитрились поставить на ноги, он снова мог ходить сам — медленно, приволакивая ноги, присаживаясь для отдыха каждые метров полтораста, но все же не остался прикованным к креслу, которое я запомнил так хорошо. Потрудились и в Симбирске, и в петербургской нейрохирургии, и в прекрасном санатории «Бильгя» на северном берегу Апшерона… В основном писали с радостью и симпатией к патриарху — иногда, как мне казалось, чересчур экзальтированной, неприятной для нормального человека так же, как и любое вибрирующее на грани истерики чувство. Но событие всколыхнуло угасшую волну интереса к покушению, газеты всех направлений в течении нескольких дней были наводнены версиями. Версии — хоть плачь. Однажды довелось мне прочесть и про себя. Ярая антирусская газета — не помню названия, зато врезался в память тираж: 637 экземпляров — огорошила своих шестьсот тридцать семь читателей заявлением, что злодейское убийство наследника русского престола было осуществлено по воле патриарха коммунистов, так как великий князь своей популярностью в народе и набожностью способствовал усилению православия, чего коммунисты старались не допустить, покушение же на патриарха было карательной акцией российских спецслужб. Как единственное доказательство этому приводился факт, что «контрразведчик Божьей милостью, знаменитый своей щепетильностью в вопросах чести (?) полковник МГБ России князь Трубецкой, участвовавший в расследовании убийства наследника, после случайной встречи с патриархом Симбирска бесследно исчез во время пребывания в горном пансионате „Архыз“, и ни его жена, ни друзья, ни любовницы ничего не могут сообщить о его местопребывании». Любовницы. Так-так. Неужели эти заразы со своими вопросами приставали к моим ненаглядным? Я едва не скомкал газету. Потом перечел фразу снова. Уж если писаки пронюхали, что меня нет в Архызе, настоящие сыскари могут знать куда больше. Стало не по себе, и спина ощутилась какой-то очень беззащитной.
Как-то раз со мною попыталась многозначительно познакомиться то ли кубинка, то ли мексиканка, остановившаяся в том же отеле, что и я, и, вдобавок, на том же этаже. Женщины свое дело знают туго, почерк, что называется, поставлен — сообразить не успеваешь, что происходит, а уже ведешь ее в бар, уже заказываешь для нее ликер, а она томно жалуется на одиночество, жестокость мира, и рассказывает тебе, какой ты красивый. Наверное, до конца дней я останусь у нее в памяти то ли как импотент, то ли как педераст. Если вообще останусь, конечно. На следующий вечер я встретил ее в том же баре с каким-то шейховатым финансистом из Аравии. Она говорила ему то же самое и, по-моему, теми же самыми словами — а шейховатый шуровал яркими маслинами глаз, часто и быстро облизывал кончиком языка, будто жалом, свои коричневые тугие губы, его волосатые пальцы подергивались от нетерпения, разбрызгивая перемолотые перстнями радуги. Сначала мексиканка меня долго не видела, а потом, заметив, изящно указала ни меня мизинчиком и что-то игриво сказала коротко глянувшему в мою сторону шейховатому, и они засмеялись с чувством полного взаимопонимания. Очень глупо, но чем-то они мне напомнили в этот момент Лизу и Стасю в чайном углу. Ноги у мексиканки были очень стройные. Она так и егозила ими — то одну забросит на другую, то наоборот. Ей тоже не терпелось. Я велел в номер литровую бутыль смирновской и, сидя в сумраке и одиночестве, мрачно выел ее на две трети, сник в кресле и уснул, но, видимо, проснувшись через пару часов, сам не помню как, доел.
Наутро Эрик, настоящий товарищ, забеспокоился. Открыть-то я ему открыл с грехом пополам, но беседовать не то, что по-английски, а даже на ломаном русском был не в состоянии. Раздрай был полный, хорошо, что я себя не видел и не знаю, как выглядел — впрочем, реконструировать несложно, алкашей, что ли, мы не видывали? Трезвому мне всегда хотелось давить их, как тараканов, — настолько они омерзительны. Немногословный Эрик срисовал ситуацию в ноль секунд, помог мне доползти обратно до постели, уложил и укрыл одеялом. «Рашн эмпайр из э грейт кантри»[5], — хмуро констатировал он, подбрасывая на широкой ладони пустую бутылку и оценивающе поглядывая то на нее, то на меня. Я лежал, как чурка, и стеклянными глазами следил за его действиями. Я даже моргать не мог: с открытыми глазами голова кружилась в одну сторону, с закрытыми — в другую, а если моргать, она начинала кружиться в обе стороны сразу, и в этом ощущении было что-то непередаваемо чудовищное. Эрик молча вышел, а через пять минут вернулся с гремящей грудой пивных жестянок на руках. «Рашнз из э грэйт пипл, — утешал он меня, как умел, заботливо поддерживая мне голову одной рукой, а другой переливая из жестянок мне в рот густую, темную, пенистую жидкость. — Дьюк Трубецкой из э риэл коммьюнист…»[6] На четвертой, а может, и пятой жестянке я слегка просветлился. Слезы ручьями потекли у меня из глаз. Я сел в постели и начал орать. «Эрик! Оу, Эрик! Ай лав зэм!! Ай лав боус оф зэм!! — я забывал предлоги, размазывал слезы кулаком и размахивал руками, как Виннету Вождь апачей, одними жестами вдохновенно рассказывающий соплеменникам, как давеча снял скальпы сразу с пяти бледнолицых. — Кэч ми? Ай уонт фак боус!!!»[7] — «фак боус водка энд биар?[8] — хладнокровно осведомился Эрик, даже бровью не дрогнув. — О'кэй…» И удалился, тут же вернувшись еще с пятью жестянками.
Не знаю, что было дальше. Не знаю, как и когда он ушел.
Я проснулся около пяти. Глядя на часы, долго не мог сообразить, пять утра или вечера, чуть не собрался идти на ужин, но потом все же осознал, что очень уж тихо за окном. Голова была кристаллически холодной и ясной. И очень твердой. Имело место лишь одно желание: немедленно перестать жить. Зато оно было непереоборимым. Тоска и отвращение к себе так переполняли душу, что она вот вот готова была взорваться, дернув правую руку ногтями располосовать вены на запястье левой. Абстинентный суицид, будь он навеки проклят. В этом состоянии половина русской интеллигенции прыгала из окон. Хорошо, что я не интеллигент. Я зажег торшер, голый, как был, погремел жестянками, но все они, сволочи, выли пусты и буквально выжаты до суха. Тогда я уселся нога на ногу возле журнального столика, в мягкое кресло, и закурил, брезгливо и ненавидяще взирая на свое ничтожно скукоженное, бессильно прикорнувшее мужское естество и борясь с диким искушением ухватиться как следует и вырвать эту дрянь с корнем, чтобы уж не мучить больше ни хороших людей, ни себя. Да, пора дать им свободу. Пусть самоопределяются. Неужели вот это может кого-то радовать? Не верю. И никогда в жизни больше не поверю. Светлый абажур торшера плыл в неторопливо текущих сизых струях, вдоль стен грудами лежал мрак. Из-за окна время от времени начал доноситься пролетающий шелест ранних авто. После пятой сигареты опасные для жизни и территориальной целостности острые грани кристалла в башке стали оплывать и студенисто размягчаться. Тогда я встал, принял душ — сначала очень горячий, потом очень холодный, тщательно побрился, налился по самую завязку кофием и по утренним улицам Стокгольма бодро пошел в архив, работать.
3
Пожалуй, самой широкомасштабной акцией радикалов в годы, непосредственно предшествующие загадочному рубежу 69–70, была авантюра, вошедшая в историю под названием «экспедиции Лапинского». В ней, как в фокусе, сконцентрировалась вся бессмысленность и вся трагическая изломанность левых идеалов того времени, вся их нелепая, не несущая фактически никакого позитива разрушительность и полное элиминирование таких категорий, как, например, ценность человеческой жизни. Она отличалась от большинства иных, сводившихся, в сущности, к маниакально расцвеченной красивыми словами людоедской болтовне, и объединила в одну упряжку львиную долю стремившихся к «справедливому будущему общественному устройству» людей дела — людей, всегда, вообще-то, более симпатичных мне, нежели люди слова, но тут дело было таким, что уж лучше бы эти люди продолжали болтать, попивая абсент и пошныривая к дешевым проституткам. Началась она, как и должна была у этих людей, со лжи, а кончилась, как и должна была, кровью.
В ту пору Польша в очередной раз пылала. Поляки кромсали русских поработителей, как могли. В ответ русские начали кромсать взбунтовавшихся польских бандитов. Но в душе великоросса, широкой, словно окаянный наш, от Дуная до Анадыря, простор, всему найдется место, и вот уже русские гуманисты не только деньгами и медикаментами помогают изнемогающим, как тогда писали, в неравной борьбе полякам, не только петициями и газетными статьями, требующими от государя даровать, во избежание крови и злобы, вольность западной окраине — все это достойно, все это вызывает уважение… но и оружием, и участием. И вот уже один, другой, третий русский борец за справедливое устройство гвоздит из польских окопов русскими пулями в русских солдат, думая, что попадает в прогнившее самодержавие — как будто, стреляя в людей, можно попасть во что-нибудь иное, кроме людей. И чем больше их, этих деятельных, презирающих интеллигентскую болтовню о смягчениях и дарованиях, тем глупее выглядят те, кто оказывает реальную, бескровную помощь, тем легче квалифицировать их великодушие и стремление к компромиссу как измену. И это в момент, когда только-только пошла крестьянская реформа — теперь две трети замшелых царедворцев тычут Александру: вот что от свободы-то деется! При батюшке-то вашем про такое слыхом не слыхивали!.. Трижды прав Токвиль: для устаревшего строя самый опасный момент наступает, когда он пытается обновить себя. И еще говорят об исторической справедливости! И тем более о ее ненасильственном восстановлении!
Исторически справедливо лишь то, что препятствует убийствам. И несправедливо то, что им способствует. Вот единственно возможный справедливый подход — остальное скромно называется «грязный политический строй».
Пароход «Уорд Джэксон» отошел из Саутхэмптона 22 марта 1863 года. На борту — оружие для поляков и сто шестьдесят человек разных национальностей, по тем или иным причинам решивших принять участие в боевых действиях на стороне несчастных и обездоленных порабощенных. Во главе — поляк по происхождению, полковник австрийской армии по службе Лапинский. Был и некто Демонтович, на манер якобинских времен называющий себя комиссаром. Святители-угодники, как сказала бы Лиза, — команда зафрахтованного Лапинским парохода ведать не ведала, куда и зачем она ведет судно, гуманисты намололи какую-то чушь вместо объяснений, даже не задумываясь о том, что подвергают ни в чем не повинных, ни сном, ни духом не вовлеченных в эту многовековую разборку людей всем превратностям военной авантюры! 26 марта здесь, в Швеции, в порту Хельсингборг к борцам за правое дело справедливого устройства присоединился сам Бакунин — решил, видимо, лично начать устанавливать живую бунтарскую связь между русскими пахарями, на этот раз при помощи польских инсургентов. Но двумя днями позже, уже в Копенгагене, шило проткнуло мешковину — команда, во главе с англичанином Уэзэрли, узнав о цели плавания, просто покинула судно в полном составе. Свободолюбцев это не обескуражило, тою же ложью была нанята команда, состоявшая почти целиком из датчан. Однако шило проткнуло мешковину еще раз. О продвижении «Уорда Джэксона» стало известно в Петербурге, и кровавый царизм вновь явил миру свой звериный лик: вместо того, чтобы, скажем, подослать убийц, или встретить суденышко в море, поближе к российскому берегу, каким-нибудь из военных кораблей Балтийского флота и уж даже не расстрелять, конечно главным калибром, а просто хотя бы арестовать всех, кто на нем находился, царизм корректнейшим образом снесся с властями Мальме, куда «Джэксон» доплюхал 30 марта, с просьбой интернировать судно. Но что это было за интернирование! Жуткий произвол! Демонтовичу даже часть оружия удалось сберечь — и уже 3 июня непреклонные борцы, наняв парусник «Эмилия», во главе со своим Лапинским снова плывут навстречу справедливому устройству. Путь к нему на этот раз, по их мнению, лежит через Литву, там они надеются организовать новый очаг восстания. 11 июня они попытались высадиться у входа в Куриш-гаф — так называлось тогда длинное, буквально шнуром вытянутое озеро, отделенное от Балтики Куршской косой. Балтика подштармливала, с нею даже летом шутки плохи. Но вооруженным мечтателям всегда море по колено — рай к завтрему! Двадцать четыре человека потонуло буквально в версте от берега, не умея добраться не то, что до справедливого устройства, а до песчаного пляжа. Потрепанная «Эмилия» отправилась, наконец, восвояси — похоже, после столкновения со столь «несправедливой» реальностью борцы поняли, что дело-то, оказывается, идет всерьез, красивые фразы и жесты кончились, и вот-вот вслед за утонувшими последуют пострелянные и, возможно, даже повешенные, им такая перспектива не улыбалась. Убивать, посылать на смерть других во имя справедливого устройства — священный долг, всегда пожалуйста. Умирать самим — это как-то чересчур. С грехом пополам дотянули до Готланда — приблизительно как я до двери гостиничного номера, когда стучался Эрик — и 19 июля шведский военный корабль доставил уцелевших обратно в Англию.
Мне их даже не было жалко. Господи, да если бы они везли бинты или йод — я бы каждому памятник поставил! Я пытался представить себе этих уцелевших. Как они, в ожидании шведского корвета, посиживают на набережной мирного, сонного, игрушечного, как домик-пряник, Висбю, коробчатой коростой островерхих черепичных крыш взбегающего улица за улицей, точно ступенька за ступенькой, на высокий берег Готланда, с тоской смотрят на синее, прохладное даже летом, давно отштормившее море, на чаек, слепящими сгустками белоснежного пламени медленно крестящих лазурь небес, пьют какую-нибудь дрянь, и думают… О чем? О чем же они думают? Казалось бы, это так легко вообразить, ведь я человек и они люди, вот ноги, вот руки, как сказал Христос Фоме неверному — вот небо, вот море, о чем тут можно думать? Но синдром Цына бушевал в каждом из них — и я не мог проникнуть в их мысли, как не мог проникнуть, скажем, в мысли больного шизофренией, абсолютно правильными, ораторскими фразами доказывающего: «Возьмем Кольский полуостров, вставим в него телевизор, будем вокруг все время хлеб накручивать — так что же, Илья Муромец, что ли, вырастет, я вас спрашиваю?»
Да, в своей жизни я стрелял. Совсем недавно стрелял, чтобы спасти Рамиля. Конкретного человека от конкретного убийцы. Но, скажем, подойти к парню, который не сделал еще ничего плохого ни тебе, ни твоим близким, который в данный момент думает — и это на лице у него написано — о том, уродился ли нынче в родных краях овес, не прохудилась ли дранка на отчем амбаре и с кем теперь гуляет соседская Парашка, и с истерическим воплем «Ты наймит прогнившего режима!» или, к примеру, «Крофафый порапотитель!» пырнуть штыком в живот?
Не представить.
Я методично, забывая о летящих днях, копался в жизнях этих уцелевших людей дела, и подчас удивлялся, набредая на факты, свидетельствующие о том, что все они были все-таки обыкновенными людьми, а подчас поражался тому, сколь сильно их поведение время от времени все-таки выдавало некую извращенность их сознания, сбитость прицела, что ли. Почти все так или иначе переживали случившееся, многие пытались делать какие-то выводы, но чаще всего выводы эти заставляли меня лишь руками всплескивать в бессильном, и, каюсь, злобном недоумении.
Двадцать второго сентября мне в руки попало письмо Петра Ступака, отправленное им из Саутхэмптона в Хельсингборг своей, как тогда говорили, гражданской жене. Была у этого несостоявшегося убийцы жена, оказывается, оказывается, его можно было любить, да еще как… «Здравствуй, пухленькая моя! — писал Ступак. — Я еще задержусь в Британии, подлечусь и отдохну маленько после нашего балтийского вояжа. А потом уж ворочусь насовсем, Зинульчик. Умонастроение у меня преотвратительнейшее. Вояж наш оказался неудачен, и от этих неудач стал я более прежнего презирать род людской. А особливо — ты уж не обессудь, нас, россиян. Дальше собственного носа не видим, кроме как на собственный пуп, ни на что не глядим. Хоть горло надорви — никто не слышит, да и слушать не желает. В голове только женка да буренка, да по праздникам кабак с церковью. Как я все это ненавижу! Ах, если бы в силах был я вдунуть в спящих людей благородный огонь неприятия такого, с позволения сказать, счастия! Чтобы ярость клокотала в жилах у всякого, как клокочет она у меня! Чтобы не сносили наши хлебопашцы и мастеровые несчетные несправедливости, понурив покорно выи, а отвечали на единый окрик — сотнею, на единый удар — тысячею ударов! Чтобы великая цель высвобождения от векового ярма руководила всяким чувством, заставляя забывать о презренном благополучии, о куцых добродетелях, о животной заботе об семье и потомстве! Гордость, независимость, самодостоинство, постоянное стремление к свободе — где они? Ах, наука, наука! Как могущественна она в создании новых машин, и как беспомощна в создании нового человека!»
Помню, я еще головой покачал, читая, и подумал, что, по-моим понятиям, получив такое письмо, любая нормальная женщина должна была бы плюнуть в морду автору и на порог больше не пускать…
И тут я почуял запах моего дьявола.
Петр Поликарпович Ступак. Тридцать пять лет было ему в шестьдесят третьем. В пятьдесят пятом с отличием закончил Петербургский университет, проявив недюжинные способности в естественных науках. Но карьера не сложилась — происхождением Ступак похвастаться не мог, а, кроме того, желал всего и сразу просто потому, что он — такой. Неуживчив, как гений, говорят обычно о подобных людях, забывая, что большинство действительных гениев, при всех, подчас действительно тяжелых в быту странностях характера, отличается доброжелательным и даже отрешенным от мирских конкурентных склок нравом, а неуживчивыми оказываются, на поверку, главным образом, люди, которые, будучи непоколебимо уверены в своем потенциале, все никак не берутся его реализовать, погружаясь глубже и глубже в мелочную борьбу с теми, кто, по их мнению, препятствует раскрытию их талантов, и потом уже сами непроизвольно провоцируют эту борьбу, ощущая в глубине души, что затихни она — и не останется никаких признаков гениальности. Общих правил тут, конечно нет — и все же… Ступак явно считал себя гением и, не исключено, действительно мог им стать. Он носился со странной идеей: Вселенная есть кристалл. Между прочим, по-моему, эта идея кое-где вспыхивает до сих пор и, значит, в ней что-то есть, хотя мне с моим госбезопасным умом не взять в толк, что — но, насколько мне известно, Ступак высказал эту идею в науке первым.
Однако он с лихостью необычайной, революционной вполне, делал из этой идеи практические выводы, в силу закона изоморфизма кристаллов можно вырастить Вселенную величиной с арбуз или с купол Ивана Великого, все равно — размер зависит исключительно от срока кристаллизации. Вселенные будут абсолютно идентичны, причем, чем меньшую вселенную мы хотим вырастить, тем, естественно, меньше времени она потребует, наша вселенная потому такая большая, что давно растет. На мой взгляд, чистый бред, на уровне Кольского полуострова с телевизором, — но очень изящный, сюда даже разбегание галактик укладывается, хотя Ступак о нем знать, разумеется, никак не мог (кристалл растет, всего-то и делов), но в то же время размер атомов, о которых Ступак тоже, видимо, не мог знать, наверняка должен был бы положить минимальный предел масштабам выращиваемой структуры, или я уж совсем ничего не понимаю. Если мы хотим получить Вселенную размером с апельсин, звезды в ней должны оказаться значительно меньше атомов, а это уж ни в какие ворота. Но Ступак подобными деталями не смущался, его заворожил сам принцип. Он осаждал инстанции с ультимативным требованием: дать много денег на опыты. И при этом, как фонограф, который заело, одним коротким текстом излагал идею: Вселенная есть кристалл, а в силу закона изоморфизма кристаллов…
Я убил с неделю, теребя через ЕСИ Петербургские архивы — грустно и горько было отсюда, из Стокгольма, выкликать на дисплей информацию из города, где живешь, из университета, мимо которого ходишь домой после работы, и при этом не иметь ни возможности, ни права дать домой знать о себе, узнать, как дома дела, но из Петербурга я этого Ступака нипочем не нашел бы — и пытался понять, какие доказательства своей концепции гений приводил, или, хотя бы, как он объяснял, зачем ему Вселенная величиной с арбуз. Тщетно. Такой ерундой Ступак себя не утруждал. Вселенная есть кристалл. В силу закона изоморфизма кристаллов можно вырастить Вселенную величиной хоть с арбуз, хоть с купол Ивана Великого. Дайте много денег. Точка. Сомневаюсь, что даже в наши сытые и доброжелательные времена Президент де-Сиянс Академии или, скажем, министр атомной энергетики, послушав ввалившегося к ним с этаким бредом гонористого, язвительного, наглого юнца, отпустили бы средства под эту тему. Тем более — при Николае-то Палыче! Во время Крымской-то катастрофы! Да великая империя ружья приличного себе сделать не могла — не то что вселенные отращивать! Ох, Россия… Ну, а сила действия равна силе противодействия. Вместо того, чтобы хоть попробовать чуток продумать аргументы, подобрать фактики поухватистее, как сделал бы на его месте любой нормальный Эйнштейн, хоть австрийский, хоть еврейский, хоть какой, вместо того, чтобы замотивировать свой прожект ну любым, самым даже липовым на первый момент мотивом — скажем, хочу вселенную в колбе новую вырастить, чтоб Отечество не тратилось, перекупая чай да кофей у заносчивых британцев, а прямо из колбы, стоящей на столе в родном Торжке, все сие извлекало невозбранно и неограниченно — Ступак, как это в те поры модно было для простоты и удобства деления мира на белое и черное, надулся на косность самодержавия. Плюнул он на свои кристаллы и занялся противу правительственной деятельностью. И пошло, и поехало… И Россия-то у него сразу стала «выгребной ямой мировой цивилизации». И Александр, едва взойдя на престол, оказался «кровавым душителем народных чаяний, в первые же дни своей нечистой власти превзошедшим по ненависти и жестокости к собственному народу все долгое царствование своего незаконнорожденного (?) батюшки». И крестьянская реформа почему-то — ни чем иным, как «очередной грязной уловкой деспотизма, направленной на стравливание хлеборобов и горожан». И тут уж порулил мой Ступак в Европу…
По завершении Лапинской авантюры, бережно подлечившись на каком-то из курортов Южной Англии, он действительно вернулся к своей «пухленькой» Зинаиде Артемовне Христофоровой. Где он ее в первый раз, как выразилась бы Стася, «обнял-поцеловал», я не смог выяснить, да и не очень и старался, не это было важно. Я опять, как в Симбирске, вдруг почувствовал себя взявшей след гончей — хотя что это за след, никому не смог бы объяснить.
Хоть и обещал Ступак в том письме воротиться навсегда, но месяца через четыре, что-то такое похимичив — сохранились его счета, оплачивающиеся, как ни странно, Зинульчиком, бывшей в услужении у какого-то хельсингборгского галантерейщика, и счета эти выдавали вдруг пробудившийся интерес к химическим опытам на дому — вновь отчалил в Англию. Потолкавшись подле ведущих британских химиков, сунувшись в Королевское общество и, видимо, нигде не найдя того, что искал — а я никак не мог понять, что он ищет — он опять-таки, судя по всему, на деньги живущей впроголодь «пухленькой» еще раз пересек море и обнаружился в Германии, которая к тому времени уже выдвигалась в области химических изысканий на первое место в мире. Где-то он, пожалуй, прирабатывал и сам все же — ну никак не могла Зинульчик финансировать пять месяцев его прыжков то в Берлин, то в Кенигсберг, то в Гамбург, то в Мюнхен, хотя в каждом из сохранившихся его писем к ней если не второй, то третьей фразой шло беззастенчивое, казавшееся ему самому, видимо, уже совершенно естественным требование денег. «Пышечка! — писал он, хотя от пышечки к тому времени кожа да кости остались, я видел, однажды она попала в кадр, запечатлевший вверенных ей упитанных, ухоженных, ангелоподобных детей процветающего галантерейщика. — Профессор Моммзен оказался чистой воды шарлатаном. Я ехал в Бремен совершенно напрасно. Нынче я опять в крайней нужде, и вся моя надежда на тебя, лапулька. Но мне удалось получить совершенно достоверное известие, что доктор Рашке в Мюнхене добился больших успехов в той области, которая нас с тобою так интересует…»
Чем бы этот Рашке не занимался, его работы вряд ли могли в такой ситуации так уж интересовать пышечку. Это я понял из следующего, последнего полученного ею письма — и, едва разобрав первые строчки, словно удар под солнечное сплетение схлопотал и минут десять не мог сосредоточиться, с безнадежной болью и отчаянием вспоминая Стасю, всем телом ощущая, как ей тяжело сейчас и пытаясь уже не избавится хотя бы, но по крайней мере до конца рабочего дня забыть давящее чувство того, что я этому идейному мерзавцу сродни. «Зинульчик! Ты прислала какие-то гроши и пишешь, что более не смогла. Пишешь, что и впредь уж не сможешь, потому как родила. Уж не знаю, мой ли то ребенок или не мой, не виделись мы с тобою, лапулька, давненько, так что всякое могло случиться — да это и не важно. Я такой шаг с твоей стороны расцениваю, как предательство. Служение великой идее не терпит мирской суеты. Непримиримая борьба за идеалы грядущего освобождения народов требует от меня всех сил. Допрежь ты всегда это понимала и, полагаю мнением, не будешь держать на меня зла за то, что вперед я воздержусь от всяких с тобою сношений. Но порадуйся за меня: я нашел наконец то, что искал…»
Это письмо было приобретено архивом уже в архиве полиции. Заметив изменения в фигуре гувернантки, галантерейщик выпер лапульку с треском. Какими-то крохами сбережений она еще сумела дотянуть до родов, сумела родить, а, оклемавшись едва, не придумала ничего лучше, как идти на панель. Опыта у двадцативосьмилетней русской идеалистки не было никакого по этой части. По простоте она влезла на чужой пятачок, и ее зарезал сутенер державших эту территорию дам. Что стало с ребенком, выяснить не удалось.
Буквально раздавленный, я сидел, тупо глядя на ломкие мелкие странички, покрытые бледной вязью выцветших чернил и, забыв всю арифметику, считал на пальцах. Если в конце августа — пять, значит, в конце сентября — шесть… значит, девять — в конце декабря. К началу декабря я должен все закончить. Сдохнуть, но закончить. И вернуться. Пусть поссорились, пусть видеть не хочет, пусть ненавидит уже, пусть у нее кто-нибудь другой и всегда был кто-нибудь другой — надо находиться поближе. На всякий случай. Вдруг понадобится помощь.
Рашке. Рашке, Рашке, Рашке…
Вновь, в который уже раз, я на какое-то время сменил ветхие бумаги на терминал. Я так и не мог до сих пор уразуметь, что ищет Ступак, но, когда ответ высветился у меня на дисплее, я даже не удивился, подумал только с хищным удовлетворением: ага. Похоже, подсознательно я этого ждал.
Отто Дитрих Рашке, молодой, из ряда вон талантливый химик-органик, в конце пятидесятых был восходящей звездой, ему прочили блестящую будущность. Однако года с шестьдесят второго его активность сходит на нет. Он не публикуется, не участвует в ученых съездах и собраниях, не поддерживает и, подчас, даже резко рвет все контакты с коллегами. Коллеги злословят и ехидно подмигивают друг другу: тема Рашке, которая выглядела очень заманчиво, видно, оказалась блефом. Ему стыдно смотреть нам в глаза! А Рашке безвыездно живет в дешевенькой мюнхенской гостиничке, с национальной пунктуальностью прогуливается в любую погоду с десяти до одиннадцати утра и с пяти до семи вечера по живописным набережным Изара — ясные глаза, юная мечтательная улыбка — и все чаще наезжает, оставаясь там погостить на день, на два, а потом и на неделю — на две, в имение Альвиц, принадлежащее его меценату Клаусу Хаусхофферу. Во время одной из вечерних прогулок, в апреле семидесятого года, он погибает при не вполне ясных — а, попросту говоря, вполне не ясных — обстоятельствах, не исключающих чьего-то злого умысла.
Семидесятого.
У покровителя наук Хаусхоффера на лице с детства не было мечтательной улыбки. Возможно, она и в детстве туда не забредала. Этот отпрыск благородного древнего рода, влиятельный магнат, жесткий прагматик, один из лидеров военной партии при дворе баварских Виттельсбахов. После того, как в шестьдесят шестом году Бавария выступили на стороне Австрии в ее безнадежном конфликте с Пруссией и вместе с нею потерпела поражение, Хаусхоффер утратил было позиции и даже впал в немилость — но через полгода он уже обнаруживается в Берлине, доверительно беседует с Бисмарком и стремительно трансформируется в горячего поборника германского объединения. С тех пор, поскольку росло влияние Гогенцоллернов в Баварии, постольку росло и влияние Хаусхоффера.
Если бы Рашке оставил больше печатных работ, если бы заявил официально о каком-то своем состоявшемся открытии, он бы, вероятно, вошел в историю науки как один из зачинателей биохимии. С младых ногтей его интересовало влияние органических реагентов различного свойства на состояние человеческой психики.
Ага.
Впору было дрожать от нетерпения, впору было замереть с поднятой верхней лапой, как Тимотеус под сиренью в день моего отплытия. Но броска не получилось. От Рашке почти не осталось следа — только замыслы, только наметки…
Но.
Вот что он пишет моему Ступаку — видимо, в ответ на какое-то письмо, которое либо не сохранилось, либо не нашлось.
«Действительно, не так давно я занимался выделением токсинов мухомора, обеспечивающих, по всей видимости, известное нам с древности явление берсеркеризма. Мне казалось очень заманчивым создать препарат, который на какое-то время, а быть может, и навсегда, притуплял бы у человека чувство страха. Как облегчил бы он, например, труды пожарных, или спасателей на водах, или бьющихся за правое дело воинов. Однако, по независящим от меня обстоятельствам работу мне пришлось прервать и покинуть Геттинген…»
По тону письма чувствуется, что молодого химика буквально распирает от гордости за свой ум и свои достижения, но чья-то сильная рука зажимает ему рот.
Вот что он пишет дальше:
«Идея угнетения сдерживающих стимулов в человеческой душе и, так сказать, медикаментозного усиления героического начала натуры человека тоже, в принципе, не представляет собою ничего невозможного. По-видимому, древним народам такие естественные медикаменты были известны. Уже сейчас можно было бы очертить круг встречающихся в природе предметов, среди которых следовало бы попытаться отыскать подобный препарат. Главная трудность заключалась бы в том, как выделить его, как сделать устойчивым, как добиться усиления его воздействия с тем, чтобы совладать с искусственно вызываемым изменением системы ценностей не могла бы ни единая душа, пусть бы даже была б о душа, подобная ангелу Божию…»
Ага.
Так вот как собирался Ступак вдунуть «в спящих людей благостный огонь неприятия».
А идея, согласно которой революция давно бы произошла, если бы люди не были бы так привязаны к своим обывательским радостям, к женкам-буренкам, и не боялись бы кинуть в пламя все это, а потом и самих себя, гвоздем застряла у Ступака в голове. Вот что он пишет Бакунину, другану еще по балтийскому вояжу: «Михаил Александрович, голубчик! Вот вы говорите, что организовали „Интернациональное братство“, тайную боевую организацию анархистов, и радуетесь, как дитя малое, надеясь, что послужит оно спичкой, коей суждено поджечь старый мир. Не послужит, не подожжет. Покуда человеки у нас вялы и благодушны, покуда не способен всякий мужчина и всякая женщина, не памятуя ни о чем, опричь нанесенных им обид, отринуть в единое мгновение то, чем живо простацкое сердце, и на самомалейшую потугу любого деспотизма угнесть их отвечать сокрушительной местию, дело революции безнадежно. Не помогут братства, не помогут речи. Поможет, голубчик мой, великая наука, коя наконец-то начнет служить истинному делу…»
Это он пишет летом шестьдесят четвертого, уже из Мюнхена, уже повидавшись с Рашке. А вскоре их водой не разлить, они иногда даже гуляют вместе, и молодой химик ради нового, по-русски безалаберного друга, даже как-то раз начинает прогулку не в десять, а аж в три четверти одиннадцатого, ибо друг проспал и не заехал за ним вовремя. Этот потрясающий факт отметила в своем дневнике юная Герта Бюхнер, жившая напротив гостиницы Рашке, и наблюдавшая его ежеутренние выходы, сидя у своего окошка.
А в сентябре шестьдесят четвертого Рашке берет Ступака с собою в Альвиц.
А годом позже Хаусхоффер, агитируя правительство Баварии за активную, силовую политику и, в частности, за участие в неминуемом, по его мнению, столкновении Австрии и Пруссии, делает в кабинете министров, в присутствии короля, многозначительную оговорку: «Да, это будет еще старая война. Но ведь это не последняя война. И даю вам слово, в новых войнах у нас будут новые солдаты. Солдаты врага станут нашими солдатами».
А Рашкин сидит в Альвице почти безвылазно. А в Альвиц со всей Германии прибывают какие-то странные грузы: тяжелые металлоконструкции, мощные помпы, паросиловые установки и динамо-машины, бесчисленные химикаты…
А Ступак то неделями не вылезает из Альвица, то вырывается вдруг и, явно не ведая былого недостатка в средствах, колесит по коммунистическим адресам Европы. Пытается договориться с Энгельсом, но терпит неудачу, в его бумагах обнаруживается отрывок черновика письма неизвестно кому: «Фридрих туп и пассивен. Человек, собирающийся писать „Диалектику природы“, ничего в природе не смыслит. Человек, призывающий к насильственному ниспровержению реакционного строя, ничего не смыслит в насилии. С „Интернационалкой“ нам не по дороге».
Зато, когда в семидесятом году в Европе появляется Нечаев, они встречаются и мгновенно становятся лучшими друзьями. Нечаев неделями позже пишет Бакунину: «Петенька меня просто очаровал. Какая воля, какой ум, какой размах! Он рассказывал мне много такого, что я принял бы за прекрасную сказку, если бы он не привел доказательств. Скоро, скоро по всему миру, неожиданно-негаданно для врагов наших то тут, то там, ровно грибочки после дождя, начнут прорастать бесстрашные, неумолимые, беспощадные и не сдерживаемые никаким Христом воители! Петенька обещал мне большую статью для „Народной расправы“, где, ничего, разумеется, определенного не говоря, постарается вдохновить этой перспективою слабеющие ряды нашего воинства». Вот этого-то, похоже, Петеньке не следовало обещать. Когда писалось это письмо, Петенька уже исчез бесследно по дороге из Лозанны в Мюнхен.
В семидесятом.
И в том же семидесятом, на торжественном праздновании дня рождения сына и наследника, Карла Хаусхоффера, счастливый отец на глазах у двух десятков ничего не понимающих гостей вложил в ладошки годовалого малышатика, спокойно таращившего глазенки на праздничный стол, благосклонно гукавшего и пускавшего пузырики на радость роившимся вокруг него дамам, нелепый, ни на какую игрушку-то не похожий железный ящичек. И малышатик сжал его пухлыми ангельскими пальчиками, и потащил в рот, но ящичек не пролезал, пришлось ограничиться угрызением углов. С бокалом шампанского стоя над отпрыском, гордый и сияющий магнат, так ничего и не пояснив гостям ни тогда, ни в последствии, заявил: «Сын мой! Ты младенец, и ты неоспоримый властелин этого сундучка. Ты подрастешь, и станешь неоспоримым властелином сундучка побольше и посложнее. А когда ты станешь совсем взрослым, ты, я вверю, будешь неоспоримым властелином всего мира. Пью за это!»
И, что называется, немедленно выпил.
Сундучок.
Деньги? Сокровища? Если бы он сказал «побольше и поценнее», я бы так и понял. Слово «поценнее» здесь просто напрашивалось. Но в письме одной из присутствовавших на церемонии дам, отправленном ею в Вену, сестре, было написано именно «посложнее». Так не перепутаешь и не придумаешь. Даму это выражение, судя по письму, удивило не меньше, чем меня.
Клаус Хаусхоффер прожил еще почти двадцать лет, и все это время не покидал Альвиц ни на день. Гости, бывавшие у него в поместье — с годами их становилось все меньше и меньше — в один голос утверждали, что у пожилого политика усталый, издерганный вид, и он как бы все время ждет чего-то.
4
Мы сидели на скамье летней эстрады Рыцарского острова, и ночное озеро Меларен играло каучуковыми отражениями огней. По ту сторону темной, блестящей глади, на самом берегу Кунгсхольмена, темной тяжелой тенью громоздился бастион ратуши, вытянувшей к небу мощный стебель главной башни. Казалось, мимо вот-вот должен, потешно тарахтя, проковылять «Соларис Рекс». Казалось, я пока не знаком со Стасей, и сидящий рядом еще только должен меня познакомить с нею через целых тринадцать лет, и даже с Лизою мы только-только начали обниматься-целоваться, и все чудесное еще предстоит. Казалось, разговор должен идти о российской словесности, о том, что она неизмеримо духовнее любой иной, поэтому европейский рынок и принимает ее в час по чайной ложке. «Ты посмотри, — должен был говорить молодой и глупый я, — они даже не знают, что такое, например, любовь. Есть секс и есть брак. В первом главное размеры гениталий, объем бюста, техничность исполнения и все такое. Во втором главное — урегулирование имущественных отношений, особенно на случай смерти или развода. И так постоянно! Вы пишете о неизвестных им вещах!»
— Все уже решено, — устало говорил я на самом деле, и говорил уже не в первый раз. — Билет у меня в кармане, утром я вылетаю в Мюнхен. Не нужно мне подстраховки, не нужно прикрытия. Я прошу вас лишь передать эти материалы Ламсдорфу.
— Риск неоправданный, Алексей Никодимович, — в который раз, и тоже устало, возражал атташе. — Безо всякой подготовки и проработки — в пекло…
— То, что Альвиц — пекло, никто мне не доказал. Риск будет куда большим, если мы без согласования с германским правительством затеем какую-то серьезную операцию на германской земле. Это варварство, и я этого не допущу. А начни согласовывать — сколько времени уйдет! Даже если мне удастся уговорить государя по-родственному снестись с кайзером — все равно не менее недели потеряем. Это в идеальном варианте. Многое может случиться за это время — от утечки информации до новых убийств. К тому же при совместных действиях придется со всем этим, — я поболтал в воздухе гибкой дискетой, — знакомить германских коллег. А я пока не знаю, насколько Альвиц может скомпрометировать учение, которое распространяет моя газета — на такое ознакомление я не могу пойти. Нет, все решено.
— И с какой легендой вы намерены…
— Безо всякой легенды. Туповатый, но въедливый журналист героем одного из исторических очерков выбрал анархиста Ступака. Выяснилось, что в последние годы жизни Ступак много бывал в Альвице. Не осталось ли у вас писем, воспоминаний, фотографий…
— Да за один вопрос о Ступаке, ежели Хаусхоффер его действительно убрал, вас там…
— Не каркайте. Как сказала бы сейчас одна моя знакомая, вы создаете устойчивую вибрацию между нынешним словом и грядущим событием и, таким образом, резко увеличиваете вероятность нежелательного исхода. Надо говорить: все будет хорошо, все будет хорошо — и тогда все будет хорошо, — я промолчал. — На этот случай, собственно, я и прошу вас передать всю собранную мной информацию в центр.
— Извините, Алексей Никодимович, но… если вы все-таки не вернетесь?
— Если я не вернусь, думать о том, что делать с Альвицем, уже не мне, — помолчал. — Вернусь. Вы не представляете, сколько у меня еще долгов по отношению к двум очень хорошим взрослым и двум совершенно замечательным маленьким людям!
В слабом свете далеких городских огней я увидел, как атташе неуверенно улыбается мне в ответ.
Со стороны устья Барнус-викен, там, где она впадает в Меларен, донеслось приближающееся, натужно покряхтывающее тарахтение. Я оглянулся. Между нами и ратушей, мерцая тусклыми огнями, медленно смещался кургузый катерок. Я присмотрелся — и глазам не поверил. Демонстративно не скрывая ни радости, ни национальности, по-мальчишески подпрыгнул и заорал на пол-острова:
— Все будет хорошо!
Это плыл «Соларис Рекс».
Альвиц
1
У развилки, там где автострада Мюнхен — аэропорт отстреливает короткий аппендикс к загородной резиденции Виттельсбахов, я почувствовал «хвост». Поглядывая в зеркальце заднего вида, я мягко притормозил свою взятую в порту на прокат «бээмвэшку» — местные патриоты вот уже третий год покупали исключительно продукцию «Баварских машиностроительных», и приезжим сдавали исключительно ее же, шедший за мной «опель» приблизился было, затем тоже стал сбрасывать скорость. Я съехал на обочину и, чуть накренившись, заскрипев правыми протекторами по песку, остановился. Вышел из авто, шевеля плечами и локтями, будто разминаясь после долгого сидения за рулем, и встал столбом в трех шагах от «БМВ», с блаженно туристическим видом любуясь пожухлым ноябрьским ландшафтом Баварского плоскогорья, окаймленным с юга дальними стогами Альп, накрытым холодной синевой небес и слепящими, расплывчато-волокнистыми полосами перистых облаков. «Опель» нерешительно протащился мимо, в нем сидели двое, и в мою сторону они с очевидной старательностью даже не взглянули, хотя что может быть естественнее — скользнуть безразлично-любопытным взглядом по ехавшему впереди и вдруг очутившемуся сзади. Ребята, похоже, были дюжие. Началось. Они остановились впереди, не удалившись и на сотню метров. Ну, и дальше что? Мимо с коротким шипением то и дело проносились взад-вперед разноцветные автомобили, преобладали, разумеется, «БМВ». Странно, что они не взяли эту марку.
Сознательно ставя своих пастухов в неловкое положение, я нахально сел прямо на сухую траву у обочины и, не торопясь, с удовольствием закурил, продолжая медленно водить взглядом вправо-влево. Действительно было красиво, что и говорить. Передние дверцы «опеля», как крылья бабочки, открылись одновременно, и пастухи, о чем-то беседуя, вышли на свет божий. За рулем — тот вообще громила. У меня как-то сразу заныл раненный в Симбирске бок. Давненько не давал о себе знать. Осень, что ли чувствует, или перемену погоды, пошутил я сам с собой, досадливо прикидывая габариты и возможности шофера. А пассажир — явный интеллектуал, «генератор идей». Одет строго, даже немного чопорно, черепаховые очки. Уроженец Кенигсберга, не иначе. Или какое-нибудь поместье неподалеку. Шофер несколько раз ударил носком ботинка по левому заднему протектору, указывая на него обеими руками и что-то втолковывая пассажиру, пассажир с неудовольствием кивал. Бедняжки. Какие-то у них, видите ли, неполадки. Ваньку валяют. Или у меня мания преследования? Такой поводок достоверно расшифровывается в тридцать секунд. Ладно, поиграем. Я докурил, кинул окурок в кювет, вернулся в авто и покатил дальше. Со свистом пронесся мимо них — шофер, полезший было, пока я докуривал, в багажник, тут же его захлопнул, не глядя на меня с прежней старательностью, а интеллектуал безразлично взглянул. Праздные, находящиеся в хорошем настроении люди нередко склонны беззлобно поерничать над ближними своими, у которых имеют место маленькие, не представляющие никакой опасности, но досадные неприятности — это я и изобразил: с веселой улыбкой помахал интеллектуалу рукой и громко крикнул по-русски в полуоткрытое окно: «Не горюйте, ребята!» Вздернул скорость до ста семидесяти. «Опель», подрагивая быстро съеживался в зеркальце. Все-таки мания преследования.
Нет. Пропустили расфуфыренный «ниссан», поставив его перед собою, и тоже двинулись. Детские штучки. Даже не очень скрываются. Так, разыгрывают элементарную маскировку для порядка, чтобы не выглядеть совсем уж по-дурацки, или даже чтобы я вернее их заметил. И чего они хотят? На нервы жмут? Дураки вы, ребята. После сменного дежурства жен нервов у меня нет вообще.
Ладно, играем дальше.
Въехал в Швабинг. Улицы были полны авто, отслеживать поводок стало труднее — но нет-нет, да и мелькала позади покатая зеленая спинка, уже знакомая до тошноты. Принял восточнее и шустро перескочил в Богенхаузен. И мой сурок со мною. Остановился на округлой площади перед собором Фрауэнкирхе — великолепный образчик, что и говорить, просто-таки поет всеми линиями, но, сказать по совести, мне было не до него. Вовремя вспомнил, что я корреспондент и, цапнув с заднего сиденья «Канон», вылез из авто. Дружок — милый пастушок тормознул на той стороне площади. Ну, ребята, такая ваша планида — терпеть. Минут двадцать я суетился вокруг собора, прикладываясь к видоискателю и сокрушенно поматывая головой — нет, дескать, ракурс не тот, нет, режется… Щелкнул раза четыре и так, и этак. Зеленая спинка покорно и безмолвно, как восточная женщина, тосковала в жидкой, дырявой тени под почти облезшими вязами.
Я увлекся, хоть какая-то польза от этой игры. Нырнул в «БМВ» и медленно покатил к Изару, выпрыгивая, едва лишь в глаза бросалось что-либо живописное — и ну вертеть фотоаппаратом, припадать на колено, щелкать… Чувствуя на затылке тяжелые, ни на миг не отлипающие присоски взглядов. И еще успевал развлекать себя — да и, что греха таить, успокаивать, это наглое и неприкрытое преследование все ж таки давило на отсутствующие у меня нервы — рисуя сладкую грезу: сижу это я в затемненной гостиной со Стаськиным короедом на колене, сестренки двумя уютными хохлатками устроились на диванчике, Полушка, как она это любит, сама вставляет в проектор слайды, а я приговариваю, слегка покачивая теплого малышатика ногой: «Ну-ка, Поленька, теперь эту… Вот, лапульки мои, Фрауэнкирхе, пятнадцатый век, елы-палы, готика. Вот, пышечки, Театинская церковь, семнадцатый век. Вот Глиптотека, это классицизм. Вот отель „Оттон“, назван так в честь императора Оттона Виттельсбаха, тут я жил… Что, интересно? Интересный я у вас мужикашка?»
Действительно интересно — которая первая даст мне по морде?
Надеюсь, что хоть не Поля.
Я припарковался на полупустой стоянке у «Оттона», в котором еще с аэродрома заказал номер. Отель стоял в великолепном месте, на самом берегу Азара, у излучины, и я опять щелкнул пару кадров. Летом «Оттон», вероятно, утопал в зелени, но сейчас листья на дубах были даже не золотыми, а по-ноябрьски мертвенно-коричневыми, и от порывов ветра скреблись друг о друга, как жестяные. Багаж мой, вероятно, уже в номере — если только его не исследуют где-нибудь, все может быть, ежели так началось. Вон они, мои лапульки, куда ж я без них — остановились в пятнадцати шагах от меня, у газетного автомата, газеточку им приспичило купить, моим пухленьким…
Я опять пошевелил плечами, разминаясь, и огляделся. Забавно. Почти на этом месте сто тридцать лет назад горбился отелишко, где прожил последний десяток лет своей короткой жизни бедняга Рашке. А, собственно, почему бедняга? Токсин мухомора, видите ли, ему подавай. Заглушить чувство страха у сражающихся за правое дело воинов… Полагаю, тот воин, который уконтрапупил химика по затылку, взял за штаны и перекинул через парапет набережной в ледяной Изар был абсолютно убежден в правоте своего дела.
И все ж таки — не Лапинский, не Ткачев, не император Николай Павлович. Бедняга, одно слово.
И дома, где жила и писала свой дневник, так мне помогший, Герта Бюхнер, тоже нет в помине, снесли давно. Под сквер перед «Оттоном». И дубы вон как уже выросли.
Я пошел к отелю, почти машинально бросив очередной взгляд на пастухов — и едва не сбился с шага, и деланный зевок, который я начал было изображать для вящей конспирации, прямо-таки защелкнулся у меня сам собой.
Интеллектуал сосредоточенно вынимал из автомата «Правду». И на его уставленной в мою сторону прямой спине буквально неоновая реклама полыхала: «Видишь? Я покупаю „Правду“!» Дальше — больше. Он тут же развернул газету, и, как бы увлеченный чтением донельзя, ничего окрест не замечая, медленно двинулся в мою сторону. Зрелище было просто гротескное: широкие, как паруса, родные листы с за версту узнаваемым шрифтом названия обзавелись вдруг тощими прусскими ногами и шли на меня. Интеллектуал едва не коснулся моего плеча бумажным краем — я оторопело посторонился, а он, так и продолжая завороженно глядеть на вторую полосу, куда-то между статейными заголовками «Гримасы рынка» и «Гидропонике да Таймыре — быть!», медленно, напряженно прошел мимо и удалился в одну из аллей сквера. Он явно давал мне какой-то знак — но какой? Что я дешифрован? Но зачем? Или это очередной этап психологического прессинга? Как бы следя в туристической расслабленности за полетом сороки, я провел взглядом влево, к округлой спинке «опеля» — громила, скрестив руки на баранке и уложив на них голову ко мне затылком, показательно дремал. Я решился.
Интеллектуал, упорно продолжая делать вид, что от таймырской гидропоники зависит вся его будущность, успел уйти шагов на семьдесят вперед и почти миновал сквер на пути к проезжей аллее по ту сторону окружавшей «Оттон» зеленой зоны. В сквере было безлюдно, перистые облака, которые я с таким удовольствием созерцал двумя часами раньше, превратились в сплошную комковатую массу, забившую небосвод — от этого стало сумеречно и как-то зябко… Ах, боже ж ты мой, да не от облаков тебе зябко, сказал я себе, и эта догадка меня взбодрила. Я пошел за интеллектуалом. А когда он, не доходя десятка шагов до Тирпиц-аллее, остановился, опустил газету и обернулся, глядя сквозь черепаховые очки прямо на меня, я огладил себя ладонями — невиннейший жест, я как бы проверяю, не помялся ли костюм, нет ли где неожиданных складок, но профессиональный глаз сразу поймет, что я демонстрирую отсутствие оружия и в карманах, и под мышками, и где угодно. Он, явно спеша, сложил «Правду» — почти скомкал, чтобы успеть, пока я иду — и повторил мое движение. С души у меня чуть отлегло. А то я уж готов был к чему угодно — хоть в кусты нырять, хоть маятник качать на мирной дорожке, заваленной сухой листвой… С другой стороны, что ему, он на своей земле, и он не один — шарахнут сейчас в спину, или из тех же кустов выскочат и брызнут в морду гадостью, или вообще… вдунут как-нибудь благородный огонь неприятия простацких радостей и презрение к женкам-буренкам…
Наверное, поразительное чувство свободы и независимости должен испытывать человек, для которого все это действительно ничего не значит по сравнению с собственной персоной и тщательно взлелеянной манией непримиримой борьбы за какой-нибудь живорезный идеал. Похоже, именно такое состояние свободы в старину именовали мужественностью. Не представить…
И как, наверное, муторно и тоскливо становится этому свободному, живущему лишь собой да борьбой, ежели хоть один день у него пройдет без того, чтобы не четвертовать, не изнасиловать, не предать кого-нибудь нормального во имя идеала… Ведь эти четвертования и предательства — единственное, чем утверждает он себя в мире. Иного следа нет.
Я подошел к интеллектуалу вплотную и остановился. Отчетливо спросил по-русски:
— Вы, похоже, хотите мне что-то сказать?
Он кивнул.
— Да, — тоже по-русски ответил он. — Я рад, что вы так быстро и так правильно меня поняли.
Языком он владел прекрасно. Акцент — не сильнее, чем, скажем, у Крууса.
— Слушаю вас, — проговорил я.
Он помедлил.
— Я имею честь говорить с корреспондентом газеты «Правда» Алексеем Никодимовичем Чернышовым?
— Истинно так.
Он снова помедлил.
— А может быть, с полковником Александром Львовичем Трубецким?
— Может быть, — равнодушно ответил я, а у самого буквально сердце упало. Где ж это я так прокололся?
Он протянул руку и утешительно тронул меня за локоть.
И вдруг улыбнулся мне. На костистом узком лице, почти наполовину спрятанном под очками, улыбка оказалась неожиданно мягкой и светлой.
— Не расстраивайтесь, полковник. Вы не допускали профессиональных ошибок. В том, что мы расшифровали вас, нет ни грана вашей вины, — он вздохнул. — Вы никак не могли знать, как не могли этого знать и те, кто вас послал, что вилла Альвиц давно вызывает у нас пристальный интерес, и мюнхенский узел ЕСИ много лет назад оборудован небольшой автоматической приставкой.
Он опять вздохнул, и в этом вздохе явно скользило облегчение. Похоже, подзывая и поджидая меня, он тоже перенервничал, и теперь помаленьку распускался. Видимо, рад, что все кончилось без недоразумений.
— Как только откуда бы то ни было поступает запрос, в котором фигурируют «Альвиц» или «Хаусхоффер», на соответствующий терминал в Берлине сразу уходит информация о том, какой запрос поступил, откуда, что передано в ответ. Первый сигнал мы получили более месяца назад. Пяти недель было достаточно, чтобы разобраться, кто такой этот Чернышов, столь интересующийся Альвицем. Тем более, что характер ваших запросов не оставлял практически никаких сомнений в том, в связи с каким расследованием они поступают. Интересоваться сектами коммунистов-ассасинов мог, скорее всего, человек, занимающийся каким-то актом террора в сфере современного коммунизма.
Ловко, черт. Действительно, предположить, что у них тут зуб на Хаусхоффера нынешнего, было невозможно.
А у кого, собственно, у них?
— Коль скоро вы хотели только побеседовать, зачем была эта слежка? — осторожно спросил я. — Я вам нервы мотал, вы мне…
Он чуть поджал губы, потом ответил:
— Да, видимо я виноват перед вами. Но я просто не нашел другого способа дать вам понять, что я знаю, кто вы, и хочу встретиться с вами, но на встрече отнюдь не настаиваю. Сочти вы для себя более целесообразным уклониться от этого разговора — я не стал бы его навязывать. Клянусь честью, у нас нет никакого желания вмешиваться в вашу работу, или, тем более, препятствовать ей. Если мои действия показались вам бестактными — душевно прошу простить.
Он чуть склонил голову, потом снова поднял. Почти без колебаний я протянул ему руку.
Потом он показал мне удостоверение с имперским орлом на корочке, и, уже не так напряженно, проговорил:
— Я сотрудник четвертого отдела Управления имперской безопасности Хайнрих фон Крейвиц. По чину равен вам. По титулу несколько ниже, барон.
— Восточная Пруссия? — спросил я.
— Заметно? — ответил он вопросом на вопрос, и в его голосе прозвучала спокойная гордость. — Да, вы угадали. Так… Может быть, выпьем по кружке пива? Здесь совсем рядом…
— Простите, барон, но я так долго не высыпался в Стокгольме, и совсем сник в дороге. Боюсь, мне сейчас даже пиво противопоказано. Не сочтите, бога ради, мой отказ за демонстративный.
— В таком случае, это я еще раз прошу у вас прощения, князь. Та неприличная поспешность, с которой я спровоцировал нашу встречу, объясняется лишь опасением, что вы уже сегодня попробуете посетить Альвиц, а я никак не хотел упустить возможность побеседовать с вами предварительно. Против прогулки по парку вы не возражаете?
— Никоим образом.
— Я отниму у вас не более получаса.
— Я к вашим услугам, барон.
Мы медленно пошли по одной из боковых дорожек.
— Вы, безусловно, больше меня знаете о том, что происходило и происходит в Альвице, — начал барон. Я прервал его:
— Даю вам слово коммуниста… слово дворянина, если вам угодно — я ничего об этом не знаю!
Он чуть пожевал узкими губами. Внезапный порыв ветра с его стороны вдруг донес до меня тонкий запах хорошего одеколона.
— Воля ваша, но тогда я сформулирую так: вы догадываетесь о большем. В моем распоряжении лишь та информация, которую вы получили по ЕСИ — но в вашем распоряжении и та, которую вы получили в архиве Социнтерна, и та, которая, неведомо каким образом, вообще повела ваше расследование путем исторических изысканий. Я ведь совершенно не представляю, что за странные мотивы вас к этому подвигли, и не спрашиваю вас ни о чем. Когда и чем поделиться со мною, и поделиться ли вообще — зависит только от вас.
— Боюсь, я не смогу этого решить, пока не доведу расследование до конца.
— Я был уверен, что вы ответите именно так. Для нас, однако, представляется бесспорным, что на вилле Альвиц сто тридцать лет назад было совершено некое открытие. Для нас представляется почти бесспорным, что оно было воплощено в жизнь. В свое время я тщательнейшим образом анализировал все счета Клауса Хаусхоффера, все заказы, размещенные им на различных заводах тогдашней Германии, но ни к какому выводу не пришел. То ли он строил какой-то герметичный бункер, скорее всего, подземный. То ли он строил лабораторию, где смог бы синтезировать боевые отравляющие вещества — уже в этом случае он значительно обогнал свое время, хотя, видит бог, далеко не в том деле, каким я мог бы восхищаться. То ли… но не буду утомлять вас, эти предположения гроша ломаного не стоят, как говорят в вашей стране. Так или иначе, некий чрезвычайно существенный результат был достигнут, ибо, если бы он достигнут не был, Хаусхоффер не избавился бы от своих ученых… Вы ведь тоже убеждены, князь, что и Рашке, и Ступак были ликвидированы по распоряжению Хаусхоффера, когда они дали ему все, что могли?
— Да, — признался я, — убежден.
— Роль Ступака, между тем, для меня совершенно не ясна, — сказал фон Крейвиц. — Рашке, судя по всему, уже с конца пятидесятых пользовался благосклонностью Хаусхоффера, целиком зависел от его финансовой поддержки и работал на него.
— А между тем именно Ступак был вдохновителем того проекта, который оказался настолько серьезен по своим результатам, что вынудил Хаусхоффера убить ученых. Простите, барон, но мне несимпатичны эти эвфемизмы: «избавиться», «ликвидировать»… Убийца — убивает, и все.
— Вы правы.
— Хронология событий выглядит так, вначале Хаусхоффер находит Рашке, берет его под свое крыло и изолирует от научного мира. Что дает Рашке Хаусхофферу? Пытается, похоже, синтезировать препарат, который лишал бы человека страха.
— Да-да, именно эта тема и привлекла внимание Хаусхоффера к Рашке.
— И она же привлекла к нему Ступака. Ступак, обуреваемый маниакальной идеей вызвать революцию путем повышения агрессивности у человека…
— Ах, вот как? — не удержался фон Крейвиц.
— Вы не знали этого?
Он коротко улыбнулся:
— Откуда? Будьте осторожны, князь. Если вы не хотите мне рассказывать чего-то, лучше не рассказывайте ничего. Я очень мало знаю.
— Вздор, барон, вздор. Мы коллеги. И, как я понимаю, опасаемся одного и того же. Ступак рассчитывал на то, что Рашке снабдит его необходимым препаратом, но у Ступака какой-то свой план, химия Рашке входит в него лишь как составная часть. Ведь именно встреча Ступака с Рашке высекла искру! Именно после того, как они оба стали бывать у Хаусхоффера, в Альвиц пошли заказы, о которых вы говорили!
— Да, пожалуй, что так, — задумчиво согласился фон Крейвиц. — И именно после убийства обоих ученых Хаусхоффер с полной серьезностью начинает говорить о власти над миром.
— Ах, вас тоже насторожила эта фраза?
— Еще бы!
— Что это за сундучок, по вашему, барон?
— Не имею ни малейшего понятия.
Мы помолчали. Ветер усиливался, листья скреблись на деревьях и с крысиным шуршанием ползали по земле.
Одним словом, — вернулся к прерванной линии разговора барон, — хотя у Хаусхоффера, по всей видимости, что-то не получилось, или получилось не так, как он рассчитывал, мы опасаемся, что созданное Рашке и Ступаком, чем бы оно ни было, представляют собой угрозу для современного мира.
— Собранные мною факты, — ответил я, — хотя я и не могу, к сожалению, сказать, какого они характера, подтверждают ваши опасения.
— Вот оно что, — чуть помедлив, проговорил фон Крейвиц. — Тем более. В таком случае, мы действительно делаем одно и то же дело, князь. Но, при всех этих абстрактных — во всяком случае, при моем объеме сведений — опасениях, мы не имеем никакого предлога, чтобы тщательно обыскать Альвиц или допросить живущего там безвыездно Альберта Хаусхоффера, который, безусловно, является больным… во всяком случае, очень странным человеком.
— Это правнук?
— Представьте — внук… Пару лет назад мы, в полном отчаянии, дошли до такой низости, как тайная засылка на виллу наших людей под видом электромонтеров, менявших в усадьбе проводку.
— Ничего?
— Ничего. Усадьба как усадьба. Ветшает.
— Подземный бункер?
— Никаких следов. Это не значит, конечно, что его там нет. Значит лишь, что не нашли никаких его следов. У агентов было очень мало времени… Но порой мне кажется, что я, много лет занимающийся этой проблемой, просто маньяк. Параноик.
— Я не могу нынче же рассеять эти ваши сомнения, барон, но, повторяю, материал, который нами собран, ваши давние опасения скорее подтверждает, нежели опровергает.
— Благодарю. Так вот… Я шел на встречу с вами с одним предложением, теперь у меня их два. Начну с первого. Как я понимаю, у вас есть необходимый предлог, чтобы проникнуть в Альвиц?
— Не лучший, но за неимением гербовой пишут на простой.
— Простите… а, это поговорка. Понял. При благоприятном течении событий вы, будем надеяться, выйдете из ворот Альвица гораздо более информированным, чем вошли туда.
— Хочется верить.
— Смею ли я просить вас о любезности познакомить меня с тем, что вам удастся узнать?
— Барон, я прекрасно понимаю ваши чувства. Но сейчас я не могу сказать вам ни да, ни нет. Все будет зависеть от того, что именно я там узнаю.
Фон Крейвиц, глядя себе под ноги, тихонько посвистел сквозь зубы. Поддал ногой какую-то веточку.
— Кажется, я сообразил. В Альвиц вас привело расследование одного убийства и одного покушения на убийство. И то, и другое выглядят, как политические акции. Пришли вы сюда через биографию члена раннекоммунистической секты ассасинов. Сами вы коммунист. Вы опасаетесь, что полученная в Альвице информация нанесет удар по вашей религии.
— Не только опасаюсь — сильнейшим образом переживаю такую возможность.
— Что ж. Это свято… Тут нечего сказать. Кроме того, что, если по возвращении вы сочтете возможным поделиться с имперской безопасностью полученными сведениями, или хотя бы какой-то частью их, мы будем вам крайне признательны.
— Я даю вам слово учитывать интересы имперской безопасности по мере сил, барон.
— Благодарю. Теперь второе. Признаюсь, пока я не познакомился с вами, князь, этот вариант мне даже в голову не приходило рассматривать, он меня не волновал. Предположим, вы не выйдете из ворот Альвица.
Ему я не мог сказать: «Не каркайте, не создавайте устойчивую вибрацию…» Я лишь кивнул:
— Предположим.
— Какие инструкции даны вашим людям на этот случай?
— У меня нет здесь никаких людей.
Что-то дрогнуло в лице фон Крейвица.
— Вы идете без подстраховки? — осторожно спросил он.
— Журналист Чернышов, как частное лицо, в поисках материала для своих очерков вполне мог посетить Альвиц на свой страх и риск, — я пожал плечами. — Предпринимать что-то более масштабное без тщательной дипломатической подготовки было бы в высшей степени неэтично по отношению к Германии и германской короне. Через своего атташе в Стокгольме я это категорически запретил. Официальное согласование заняло бы слишком много времени, тогда как каждый день, возможно, чреват новым преступлением.
Фон Крейвиц скользнул по мне быстрым испытующим взглядом и бесстрастно уронил:
— Вы дворянин.
— Полно.
— Но, в таком случае, мое второе предложение приобретает еще больший смысл. Мы могли бы считать вас одновременно как бы и нашим посланцем. В таком случае, если вы не дадите о себе знать в течение, скажем, пяти…
— Десяти.
— Не долговато ли?
— Мне кажется, это не тот случай, где стоит дергаться, считая часы.
— Воля ваша. В течении десяти дней, мы, во первых, получили бы желанный предлог как следует перетряхнуть Альвиц — шутка ли сказать, исчез человек, да к тому же иностранец, да к тому же журналист, а-вторых… или… — и он неожиданно смутился, даже порозовел чуток, — вернее, во-первых… возможно, успели бы вам помочь в затруднительном положении.
Я невольно улыбнулся — и он улыбнулся своей неяркой светлой улыбкой мне в ответ.
— Благодарю и польщен, — сказал я. — Если ваших полномочий достает для заключения подобных соглашений, давайте считать, что это наша совместная операция.
На лице его отразилось облегченное удовлетворение.
— В таком случае, у меня все, — сказал он. — Я очень рад встрече.
— Я тоже. И крайне признателен вам.
— Десять дней мы будем отсчитывать…
— От сегодняшнего вечера.
— Хорошо. Найти меня вам будет легко и лично, и по телефону. Отель «Оттон», номер 236.
— А у меня 235! — вырвалось у меня.
С абсолютно невозмутимым видом фон Крейвиц сказал:
— Какое неожиданное совпадение.
Я, усмехнувшись, только головой покачал.
— А сейчас, князь, имею честь откланяться. Вы, вероятно, давно уже хотите отдохнуть. А мне нужно немедленно доложить Берлину о результатах встречи, там ждут с нетерпением. Душевно желаю удачи.
— Постараюсь оправдать доверие, барон.
Мы обменялись крепким рукопожатием, потом фон Крейвиц повернулся и, прямой как гвоздь, пошел к своей зеленой спинке с неловко скомканной «Правдой» в левой руке. Мы несколько раз проходили мимо урн, но ему, видимо, совестно показалось выбрасывать газету при мне. Сухие коричневые листья, усыпающие дорожку, разлетались из-под его ног. Я пожалел, что у меня нет с собой фотоаппарата.
А вот, пышечки мои, контрразведчик германского рейха, очень порядочный и милый человек. Правда, интересно?
2
Усадьба Альвиц располагалась верстах в тридцати пяти от Мюнхена, в уютной, уединенной долине. Когда я подъехал, уже почти стемнело. Ветер несся в долине, словно в трубе, мял и тряс сухие метелочки трав, шумел, прорываясь сквозь почти уже голые кроны деревьев старого запущенного парка. И само здание усадьбы даже в густых сумерках ноябрьского вечера не умело спрятать своей ветхости, старческой обвислости и, казалось, какой-то небритости. Хотя когда-то оно было, по видимому, великолепным.
Старый пес, припадая на заднюю левую ногу, облысевший и грустный, вышел из темноты на свет фар и молча понюхал переднее колесо. Я осторожно, чтобы ненароком не ушибить его, открыл дверцу и вышел. Ноги чуть затекли. Все-таки устал я за эти месяцы. Полчаса за рулем, и уже сводит мышцы. Отдохнуть бы пора. Жаль, лето кончилось, а на море так и не попали. А куда-нибудь в то полушарие махнуть нам, пожалуй, не по деньгам. Тьфу, какое там море — ведь рожать скоро! Только бы все обошлось… Пес, топорща голые уши, блестя мокрыми глазами, понюхал мою ногу и заворчал. Шумел ветер.
— Ну не ругайся, не ругайся, — сказал я примирительно.
Пес поднял голову и хрипло рявкнул один раз. Безо всякой злобы — просто, видимо, сообщил хозяину о моем появлении.
На втором этаже осветилось окно. Я стоял неподвижно, и пес стоял неподвижно. Совсем стемнело, и тьма упруго давила в лицо ветром, то и дело слышался костяной перестук невидимых ветвей. Светлое окно открылось, и на ветхий балкон — нипочем бы не решился на него встать, рухнуть может в любую минуту — выступил длинный черный силуэт.
— Кто здесь? — крикнул он. Я знал немецкий хуже, чем фон Крейвиц — русский, но делать было нечего.
— Я хотел бы увидеть господина Альберта Хаусхоффера! — громко ответил я, задрав лицо и поднеся одну ладонь полурупором ко рту. — Я приехал их Швеции, чтобы увидеться с ним. В усадьбе нет телефона, и поэтому я…
— Нет и не будет, — ответил силуэт с балкона. — Подождите, я сейчас спущусь. Гиммлер, это свои.
Последняя фраза явно была предназначена псу. Странная кличка, подумал я, пряча руки в карманы куртки. Ладони мерзли на ветру.
Зажглась лампа над входом, осветив потрескавшиеся резные двери и ведущие к ним щербатые ступени, огороженные покосившимися металлическими перилами. Заскрежетал внутри засов, и одна створка натужно отворилась. Пес неторопливо поднялся по ступенькам и, остановившись, обернулся на меня. В белом, мертвенном свете обвисшего плафона было видно, как порывы ветра треплют остатки выцветшей шерсти на его спине. В проплешинах неприятно, по-нутряному, розовела кожа.
Человек выступил из двери.
— Что вы стоите? — спросил он. — Поднимайтесь сюда. Я мерзну.
Я поспешно пошел вслед за псом.
Человек был высок, худ и сутул. И очень стар. И очень похож на кого-то я никак не мог вспомнить, на кого. Пропуская меня в дом, он чуть посторонился, он чуть посторонился. За что-то зацепился ногой, или просто оступился неловко, и едва не потерял равновесия. Я успел поддержать его за локоть.
— Благодарю, — сухо сказал он. Пес искательно смотрел на хозяина снаружи, вываленный язык чуть подрагивал. — Хочешь послушать, о чем мы будем говорить? — спросил старик пса. — Застарелая привычка?
Пес коротко, моляще проскулил.
— Идем, — решил старик, и пес тут же переступил через порог. — Я Альберт Хаусхоффер. Чем могу служить?
В более мягком свете прихожей я вдруг понял, на кого похож владелец Альвица, и от этого открытия мурашки поползли у меня на спине.
У старика было лицо Кисленко.
Нет, не в том смысле, что они были похожи. Совсем не похожи. Но я не мог отделаться от ощущения, что та же самая жестокая и долгая беда, ожог которой почудился мне на опрокинутом лице умирающего техника в далекой, оставшейся в июне тюратамской больнице, оставила свои следы и на длинном лице Хаусхоффера. Только старик сумел пройти через нее, сохранив рассудок.
Или хотя бы его часть. Я вспомнил слова фон Крейвица. Да, владелец усадьбы действительно был странный человек, видно с первого взгляда. Но черный пепел страдания, въевшийся во все его поры, заставил мое сердце сжаться.
Этому человеку я не мог лгать.
— У вас не шведский акцент, — сказал Хаусхоффер.
— Русский, — ответил я.
— Это уже интересно.
— Пес стоял у ноги хозяина и пытливо смотрел на меня. И старик смотрел. Каждый с высоты своего роста: пес снизу, старик сверху.
— Я полковник МГБ России Трубецкой, — спокойно проговорил я, почему-то точно зная, что от того, скажу я сейчас правдой или нет, будет зависеть все. В том числе и моя жизнь. И, возможно, не только моя. — Я расследую ряд загадочных преступлений. В Связи с этим у меня есть к вам, господин Хаусхоффер, несколько вопросов. Германское правительство о моем визите к вам осведомлено.
Пес опять открыл пасть, вывалил язык и шумно, часто задышал. Старик очень долго смотрел на меня молча, и я никак не мог понять, что означает его взгляд, и был готов ко всему.
Сможет ли он здесь, в родных стенах, убить меня так, что я не успею ничего понять?
Вероятнее всего, да.
Заболел бок.
— Идемте, — сказал старик.
Мы прошли вглубь дома через четыре комнаты, расположенные анфиладой, и в каждой из них старик на мгновение останавливался у двери, гася свет. Пес, цокая когтями по паркету и время от времени чуть оскальзываясь, трусил рядом. В которой из этих комнат покойник Клаус дарил годовалому отцу этого старика загадочный скипетр несостоявшегося царствования? Роскошная ветхость… ветхая роскошь…
По отчаянно визжащей, трясущейся винтовой лестнице мы поднялись на второй этаж.
— Вы не боитесь здесь ходить? — спросил я.
— Я уже ничего не боюсь.
— А если упадете не вы, а кто-либо из тех, кто здесь бывает?
— Здесь никто не бывает.
— А если упадет ваша собака?
Старик остановился. Эта мысль, видимо, не приходила ему в голову. Он оглянулся на пса: бедняга Гиммлер, прискуливая от напряжения, с трудом выдавливал старческое тело со ступеньки на ступеньку и смотрел на владельца умоляюще и укоризненно.
— Вам было бы жаль мою собаку?
— Конечно.
— Какое вам дело до нее?
Я пожал плечами.
— Никакого. Жаль, и все.
Старик двинулся дальше, проворчав:
— Он идет здесь впервые за три года.
Мы пришли в ту комнату с балконом, из которой он показался вначале. Догорал камин. У большого овального стола тяжко раскорячились протертые плюшевые кресла, им было лет сто. Старик повел рукой:
— Располагайтесь в любом. Портвейн, коньяк? Водка?
— Рюмку коньяку, если можно.
Старик обернулся ко мне от темного, с открытой створкой казавшегося бездонным шкапа и вдруг лукаво, молодо прищурился.
— Для хорошего человека ничего не жалко, — произнес он на ужасающем, но вполне понимаемом русском. Вероятно, так я говорил Ираклию «дидад гмадлобт».
Рюмка коньяку мне действительно была нужна. Я устал и отчего-то продрог. И очень нервничал. Этот старик был похож на главаря подпольной банды террористов, как я — на императора ацтеков.
Мы пригубили. Мягкий, розовый свет стоящей на краю стола старомодной лампы перемешивался и не мог перемешаться с дерганым оранжевым светом камина. Двойные тени лежали на стенах, одна была неподвижной, другая неприятно пульсировала и плясала.
— Я буду с вами абсолютно откровенен, и если что-то упущу, то лишь для краткости, — сказал я. — Преступления, которые я расследую, имеют ряд отличительных признаков. Это, во-первых, немотивированность или псевдомотивированность. Во вторых, они всегда связаны с резким, ничем не объяснимым повышением агрессивности у преступника, оно буквально сходно с помешательством. В третьих…
Очень сжато, не называя никаких имен и не приводя никаких фактов, я изложил старику причины, по которым приехал. Он долго молчал, вертя в пальцах давно опустошенную рюмку. Потом пробормотал, глядя в пустоту:
— Значит, они все-таки выходят… Как глупо!
Я смолчал, но внутри у меня будто мясорубка провернулась. Хаусхоффер взял бутылку и наполнил свою рюмку до краев.
— За вас, господин Трубецкой.
— И за вас, господин Ха…
— Нет-нет! Я здесь ни при чем. За вас, — он выпил залпом. — Вы первый честный работник спецслужбы, которого я встречаю в своей жизни, — протер уголки заслезившихся глаз мизинцем. — А то наезжают тут время от времени провода чинить. Или, вместо старика, который привозит продукты, явится бравый офицер, одежду возчика-то увидевший первый раз за пять минут до того, как ехать ко мне на маскарад… «Ваш возчик заболел, прислал меня»… А сам, пока я разбираю пакеты, шасть-шасть по пристройкам. Смешно и противно. И обидно. Для человека, который девять лет общался с гестапо, эти ужимки райской полиции…
— Что? — не понял я.
Он помедлил, набычась.
— Простите. Я привык разговаривать сам с собой. Употребляя мне одному известные слова.
— Почему райской?
Он налил себе еще. Я сделал глоток. Держа рюмку у самого лица, он сказал:
— Конечно, райской. Вы ведь и не знаете, что живете в раю. У вас свои трудности, свои неурядицы, свои болячки, свои преступники даже — и вы понятия не имеете, что все это… рай.
— Пока не понимаю вас, господин Хаусхоффер, — осторожно сказал я.
— Разумеется. И тем не менее вы своего, кажется, добились. Отец много раз предупреждал: если Иван начнет что-то делать, по настоящему очертя голову — вот как вы представились мне — он всегда добьется успеха. Всегда. Но фюрер… — он не договорил, и лишь пренебрежительно, презрительно даже, поболтал в воздухе ладонью. Помолчал. — В конце концов, мне скоро умирать, и детей у меня нет. А если эта штука, — задумчиво добавил он, — действительно представляет такую опасность… Ее судьбу решать вам. Я уже пас.
Я молчал. Мне просто нечего было сказать, я не понимал его, даже когда понимал все слова. А он вдруг распрямился в кресле и бесстрастно спросил:
— Вы любите свою страну?
Тут уж распрямился я.
— Я русский офицер! — боюсь, голос мой был излишне резок. С больным человеком нельзя разговаривать так. Но Хаусхоффер лишь горько рассмеялся.
— Браво! — пригубил. — Таких вот офицериков Бела Кун сотнями топил в Крыму, живьем…
В Крыму? Русских?
Он явно бредил.
— Вам неприятно будет увидеть свое отечество в, мягко говоря, неприглядном свете?
Я сдержался. Сказал:
— Разумеется, неприятно.
— Утешу вас: мы тоже по уши в дерьме. Но нам повезло больше, вы нас разгромили. Впрочем, если бы вы разгромили нас в одиночку, это бы был конец. К счастью, существовали еще и союзники… А впрочем, в чистилище все хороши.
— Я вас не понимаю, — тихо напомнил я. Он очнулся — и сразу пригубил. Я отставил наполовину пустую рюмку. Он сказал:
— Да, в двух словах тут не расскажешь, — помедлил, как бы что-то припоминая, а затем произнес на ужасающем русском: — Лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать, — и, взяв за горлышко бутылку, поднялся.
Пес, лежавший у его ног, вскочил. Отчетливо цокнули когти.
— Лежать, Гиммлер! — прикрикнул старик. Пес коротко проскулил, а потом послушно лег. И вновь — только стонали стекла от ветра, да по временам подвывала где-то, надрывая душу, труба дымохода. Старик жалко улыбнулся.
— Бедная псина. И ведать не ведает, как паскудно ее зовут. Но мне приятно. Как будто наконец я распоряжаюсь этим упырем, а не он мной… Идемте, Трубецкой, — и сразу пошел обратно к лестнице. Гиммлер негромко гавкнул, в последний раз пытаясь напомнить о себе, но старик даже не обернулся. — Идемте! — повторил он.
Тою же ветхой лестницей мы спустились ниже первого этажа, в подвал. Старик отпер одну из тяжелых дверей, тронул выключатель, и цепочка тускло-желтых ламп вспыхнула, уводя взгляд вдаль, на всем протяжении нескончаемого, загроможденного дряхлой мебелью коридора. Порой приходилось даже протискиваться, идти боком, чтобы не зацепить торчащие ножки кресла, опрокинутого на истертую тахту, или ржавый ключ, бессильно свисающий из замочной скважины ящика громадного комода, под который, вместо одной из ножек, были подложены книги возрастом не менее полутораста лет… Дошли до конца, до глухой стены. Старик постоял неподвижно, похоже, он еще колебался. Потом встряхнул головой — и я внезапно понял, что именно сейчас он окончательно решил оставить меня в живых.
— Я тоже умею быть благородным и честным, — проговорил он. — К тому же, полагаю, именно вас я ждал все эти годы.
Он странно, как бы пританцовывая на месте, несколько раз аритмично нажал на большой темный овал — след сучка — красовавшийся на краю одной из половиц, примыкавших к глухой стене. Раз-раз… раз-раз-раз-раз… раз… раз-раз-раз… Глухая стена с неожиданной легкостью шевельнулась и уползла вправо. Открылось небольшое кубическое помещение, в потолке которого чуть теплился полусферический матовый плафон. Стены были, похоже, чугунными, доисторически дико тянулись вертикальными вереницами вздутия заклепок.
— В прошлом веке не умели многого, что умеют сейчас, но одного у них не отнимешь. То, что они умели, они делали добротно, на века. Прошу, — и старик сделал рукою жест, пропускающий меня вперед.
Я вошел в железный куб.
Старик последовал за мною и снова станцевал одной ногой. Стена почти беззвучно встала на место, а наша тяжелая чугунная клеть медленно, чуть подрагивая, в сопровождении вдруг донесшегося снаружи приглушенного гула, поплыла вниз.
Мы опустились, пожалуй, метров на семнадцать-восемнадцать. Клеть рывком остановилась. Секунду ничего не происходило, а затем одна из ее стен широкой лопастью отворилась, с отвратительным металлическим скрипом повернувшись на угловой оси.
И снаружи уже горел свет. Просторный подземный зал открылся моим глазам, вслед за усмехающимся стариком я шагнул вперед и оказался на узком металлическом карнизе, обегавшем зал по периметру на половине высоты от пола до потолка.
Почти весь объем зала занимал стоящий посредине чугунный монстр — нелепо и неуклюже огромный, тоже простроченный вертикальными строчками заклепок, окруженный раскоряченными переплетениями толстых и тонких, прямых и коленчатых труб.
Больше всего он походил на невероятных размеров паровой котел. От него за версту веяло чудесами науки Жюль-Верновских времен. Здесь, у лифтовой стены, карниз проходил от него метрах в десяти, но с остальных трех сторон примыкал вплотную, становясь более широким, и там его загромождали какие-то невероятные, допотопные средства управления: манометры, рычаги, маховики, рукоятки, призматические перископы, еще более придавая гиганту вид какой-то чудовищной парасиловой установки. И я как-то сразу понял, что — вот он, тот самый «сундучок побольше и посложнее», о котором упомянул распираемый тщеславием и гордостью Клаус Хаусхоффер перед гостями.
Старик с доброжелательным любопытством посмотрел на меня.
— Вы хорошо держитесь, Трубецкой, — сказал он. — Но, бьюсь об заклад, вы даже не догадываетесь, что это такое.
Меня вдруг ошпарила догадка.
— В этой штуке делают людей агрессивными.
— Черт возьми, вы почти угадали. Но даже вы не представляете их размаха. В этой штуке сделали людей агрессивными. Навсегда. Идемте, — и он двинулся по чуть раскачивающемуся, чуть гудящему от шагов карнизу. Я пошел следом.
«Найди их и убей». Кого? Вот этого перемолотого жизнью полусумасшедшего старика? Кого?
Мы подошли к толстой короткой трубе первого перископа. Хаусхоффер с заметным усилием сдвинул с нарамника железную заслонку, и на кирпичную стенку напротив выхлестнул ослепительный световой блик, в пробившем сумеречный воздух луче плыли, как звезды, пылинки. На изглоданном лице Хаусхоффера резче прорисовались морщины, белые отсветы легли на древние приборы. Щурясь, Хаусхоффер потянул на себя висящую на решетчатом раздвижном кронштейне дисковую кассету со сменными светофильтрами, чуть прокрутил ее, выбирая, и ладонью с силой нашлепнул один из фильтров на перископ. Свирепый луч, бивший из адской топки «котла», померк.
— Извольте, — сказал Хаусхоффер, чуть отступив в сторону от перископа, поднес ко рту бутылку и сделал глоток.
В черном бездонном провале висел круглый, немного взлохмаченный сгусток огня. Несколько секунд я ошеломленно моргал — глаз привыкал к режущему свету медленно — и память бестолково металась от одной ассоциации к другой, пытаясь сообразить, на что это похоже…
— А если пошире — то вот так, — сказал Хаусхоффер и, неловко зажав коньяк подмышкой, обеими ладонями немного прокрутил широкое рубчатое кольцо, охлестнувшее тубус перископа.
Сгусток стремительно съежился, превратился в каплю. А далеко по сторонам от него, в густой, невероятно густой и, казалось, не имевшей пределов тьме глазу вдруг померещились едва неуловимые искры. Две… три…
В полной прострации я глянул на Хаусхоффера.
— Это… Это…
— Солнечная система, малый кристалл, — хрипло сказал Хаусхоффер и снова отхлебнул из горлышка.
Внутри у меня все оборвалось. Секунду спустя, словно парализующий яд потек у меня по жилам, одна моя рука, лежавшая на трубе перископа, бессильно съехала с него и повисла. Еще мгновением позже за нею последовала и другая. Мне дико захотелось сесть.
— Так ему все-таки удалось?..
— Да. Ступак растил это с шестьдесят шестого по шестьдесят девятый. А дальше все было совсем просто. Вообще идея проста, как а-бэ-ц. Чтобы изготовить необходимое для отравления хотя бы одного миллиона людей количество препарата Рашке, вся химическая промышленность тогдашней Германии должна была работать семьсот с лишним лет. А если планета земля имеет радиус восемнадцать миллиметров, — Хаусхоффер качнул булькнувшей бутылкой в сторону котла, а потом, чтобы уж движение не пропало даром, в обратном качке поднес бутылку ко рту и сделал глоток, — достаточно обычным парикмахерским пульверизатором распылить в атмосфере одну-единственную лабораторную капельку, и дело в шляпе. Поскольку Ступак более всего радел о свержении российского самодержавия, то, естественно, и фукнул он непосредственно над европейской Россией. Ну, а потом ветры, дожди и приливы разнесли по всей планете, конечно, по Европе — в первую очередь… Начальным мощным результатом впрыскивания, отчленившим их историю от нашей, были франко-прусская война и Парижская Коммуна, они-то и дали исходный всплеск вашей статистики… Ах, да, ведь все эти названия для вас — пустой звук. Ну, ничего, я вас познакомлю с их историей.
Он умолк, как-то очень понимающе и очень грустно глядя мне в лицо. Я пытался собраться с мыслями. Вот тебе и тайная секта. Но все же…
— И все же я не понимаю.
— Сейчас, Трубецкой, сейчас. Я просто не знаю, как вам рассказать попроще и покороче. Хотите? — он вдруг протянул мне бутылку. Я чуть не отказался, но неожиданно понял, что зверски хочу. Молча взял у него коньяк и отхлебнул как следует. Мгновение спустя горячая волна ударила мне в желудок, как девятый вал в прибрежный камень, и ноги почти сразу перестали дрожать.
— Это было не просто создание альтернативного мира. Ради такой цели они не стали бы тратить силы и деньги. Они создавали станок, на котором собирались переделывать наш мир. Только, как это обычно бывает, после создания станка каждый захотел точить на нем что-то свое.
Он требовательно протянул руку, я отдал ему бутылку, и он сделал глоток. А я, начав после первого ошеломления замечать детали, увидел вдруг под пультом буквально гору пустых.
— Так что, когда Горбигер в Германии начал в двадцатых годах учить, что Земля и Солнце расположены внутри ледяной сферы, а никакого космоса нет, и звезды с галактиками выдуманы еврейскими астрономами с целью обмануть народ и обогатиться, он был не так уж не прав. Видимо, какие-то крохи информации он выжал из отца… Для них, — он опять качнул бутылкой в сторону котла, и бутылка опять призывно булькнула, он задумался на миг, но потом решил в этот раз не пить, — космоса действительно нет. Просто эта адова штука пересылает им в соответствующем масштабе картину того, что окружает нас здесь. Ох, Трубецкой, как я хохотал, когда американский «Пайонир» — эти дурачки запустили его в глубокий космос с посланием, понимаете ли, к иным цивилизациям! — начал, точно муха об стекло, биться о стенку котла. Только что не жужжал… Пришлось взять на себя все заботы о том, что он передает в Хьюстон… — Хаусхоффер, вспомнив, и на этот раз засмеялся, но выпуклые старческие глаза его рыдали.
— Землю можно увидеть крупно? — спросил я.
— Разумеется. Только фильтр сменить. Перископы подвижны… но потом, потом! — нетерпеливо выкрикнул он, увидев, что я пытаюсь пошевелить толстый массивный тубус. Еще насмотритесь. Слушайте, Трубецкой, я ведь умру скоро. Давайте, я завещаю вам Альвиц? Захотите — отдадите России, или подарите ООН, или сами будете здесь играть, как я играю уже полвека. Это увлекает… — задумчиво прибавил он.
Я не ответил. Он пошевелил кожей лба, собирая его морщинами и распуская, брови дергались, как на резиночках. Видно он слегка уже опьянел.
— У них даже техническая ментальность другая, — пожаловался он. — Например, гравитаторы они могли открыть тогда же, когда и мы — после работ Эйнштейна по полю. Но им и в голову не пришло копать в этом направлении. И я вам скажу, почему. Потому что тогда все страны при полетах должны пользоваться общей сетью, она одна на всех. Даже при конфликтах никому в голову не придет нанести ей ущерб — сам пострадаешь ровно в той же степени, что и противник. А там строят громадные ревущие крылатые чушки, одна другой тяжелее и страшнее, они жгут прорву топлива, то и дело падают и гробят массу невинных людей, прожигают каждым рейсом во-от такие, — он развел длинные руки, и едва не выронил бутылку, — мертвые коридоры в кислородной составляющей атмосферы, не выжимают, за редкими исключениями, и тысячи километров в час — но зато каждая из них летит сама! Не завися ни от кого! Суверенно!!
Он протянул мне бутылку, я отрицательно качнул головой. Он тут же хлебнул сам.
— Я могу много выпить, — сообщил он и оперся свободной рукой на пульт, прямо на какие-то циферблаты музейного вида — ни дать, не взять часы эпохи Людовика XIV. — Не волнуйтесь за меня.
Мы помолчали. Краем глаза я заглянул в перископ. Капля пылала. Хаусхоффер чуть повернул голову и долго смотрел остановившимися глазами в блестяще-черную, клепаную стену котла. Я не понимал его взгляда.
Казалось, на какое-то время он забыл обо мне.
— А ваши преступления… Боюсь, Трубецкой, здесь ничего нельзя сделать, — тихо проговорил он вдруг, продолжая глядеть на котел. Наполовину опустевшая бутылка косо висела в его бессильно опущенной руке. — Разве что выжечь этот клоповник к дьяволу, во-он он, вентиль продувки, как это я еще не крутнул…
Я промолчал. Я не хотел прерывать ход его мыслей, сколь бы он не был беспорядочен. Он знал ответы на все мои вопросы, но я не знал, какие вопросы задавать.
— Человек — лишь часть кристаллической структуры. Относительно небольшая и наиболее динамичная. Когда такой кристаллик начинает особенно сильно вибрировать, почти наверняка он вызовет резонансную вибрацию в изоморфном ему кристалле. Ступак это теоретически предсказал, на этом и строился расчет. В предельно стрессовом состоянии — главным образом имеется ввиду стрессовая гибель — если вибрирующему кристаллику находится близкий по ряду базисных параметров психики аналог, инициировавший вибрацию кристаллик перебрасывает все свои свойства на тот, с которым вошел в резонанс. Поскольку впрыскивание препарата Рашке обеспечило человеку в котле почти постоянное существование на грани стресса, переброс индивидуальностей должен был идти практически исключительно от них к нам. Гениальный план.
Он вдруг вспомнил о бутылке. Тактично, но очень ненавязчиво протянул ее мне. Я отрицательно мотнул головой. И он тут-же как следует отхлебнул.
— Принципиальная схема такова! — возгласил он и чуть покачнулся. — В инкубаторе выращивается человечество, находящееся, в результате тотальной психохимической обработки, в состоянии непрерывной борьбы каждого с каждым и всех со всеми. Под любым предлогом, на любом уровне! Никакие, самые логичные и убедительные, призывы к миру и сотрудничеству, которые высказывают отдельные не восприимчивые к обработке личности — всегда есть процент людей, не поддающихся действию какого-то препарата — остаются втуне, ибо медикаментозное вмешательство парализовало определенные центры в мозгах большинства. Наиболее удачные из этих призывов, напротив, сразу используются для провоцирования новых конфликтов. Например: давайте жить дружно. Давайте! Всех, кто мешает нам жить дружно — на виселицу! Ты, я вижу, не хочешь жить дружно? И ты? На виселицу! — Он умолк, тяжело дыша. На лбу его выступили бисеринки пота. Он явно отвык много говорить. И — явно хотел.
— В таких условиях стрессовая вибрация гибнущих кристаллов становится все более частой, а, следовательно, все более частым становится переброс исковерканных индивидуальностей к нам, сюда. И здесь они, естественно, продолжают свою борьбу, ибо сознание их уже сформировано. Борьбу уже совсем непонятно с кем. Хоть с кем-нибудь, кто напоминает тамошнего противника, — он торопливо отхлебнул. — Правда, возможен и обратный эффект. Ступак о нем не догадывался. Я обнаружил его лишь недавно, читая их статьи… С легкой руки тамошнего американца Моуди стало модным опрашивать людей, переживших клиническую смерть, об их ощущениях. И, представьте, многие припомнили состояние резонанса со своим здешним психодвойником. Самое смешное… — он хихикнул и тут же пригубил, — самое смешное, они думают, что встречаются с богом! Они называют его «светоносным существом», «лучезарным сгустком доброты», и так далее. Мы настолько отличаемся от них, представьте! Они даже вообразить не могут, что всего лишь на какие-то мгновения сливаются с собой, обретают самих себя, только нормальных, не отравленных! Вот вы — обычный… русский офицер, — патетически произнес он, с явной иронией передразнивая меня, — со своими заботами, хлопотами и недугами. Но если бы ваш тамошний двойник, умирая, срезонировал с вами, а врачи ухитрились бы вернуть его к жизни, он был бы уверен, что здесь виделся чуть ли не с самим Христом! В бледном венчике из роз… — с ужасающим сарказмом добавил он на ужасающем русском, и я снова, в который уже раз, не понял, на что он намекает. — Говорят, после таких встреч люди там становятся добрее… уносят что-то отсюда, — он вздохнул. — Все вообще оказалось много сложнее, чем полагали отцы-основатели. А судя по вашим словам, Трубецкой, по вашей же статистике, может происходить не полное подавление, и нестыковка, и, главное, вытеснение нормальным кристаллом системы ценностей ненормального в подсознание… Тут я мало что могу сказать. До сегодняшнего вечера я был уверен, что я — единственный, кто вышел оттуда.
Он грустно и как-то смущенно улыбнулся.
— Меня казнили в Моабите в сорок четвертом, — признался он. Так застенчивая девушка могла бы признаться в любви. Я не перебивал. Он помедлил. — Гиммлер решил, что отец слишком независим, слишком влияет на фюрера… На отца он руки поднять не решился, но взяли меня, чтобы обуздать отца, если возникнет необходимость… А потом машина заработала сама собой. Отец даже не знал, узнал только в сорок шестом! И покончил с собой… Но здесь — не появился. Видимо, не нашлось аналога. Забавно, ведь он же был и здесь, он сам еще был в Альвице, рожденный в восемьсот шестьдесят девятом Карл Хаусхоффер, здесь он умер тремя годами позже, чем там — но не оказался аналогом самому себе. И даже смерти своего малого кристалла не ощутил. Возможно, кончая с собой, отец был слишком спокоен. Все уже давно пережил.
Я молчал.
— Они не поделили станка, Трубецкой! — выкрикнул он и, оторвав руку от пульта, ухватил меня за плечо. — Так всегда у бандитов! Какие бы высокие слова они не говорили! Это критерий! — он, спеша, клюнул из бутылки. — Когда два человека отстаивают высокие цели, и цели эти различны… если цели действительно направлены к благу, эти люди всегда найдут компромисс. Желание не навредить — заставит! Если же они начинают резать друг друга, потому что каждый именно свою цель считает единственно высокой — значит, цель их ложь, обман людей, а истинная цель, как у троглодитов: отнять чужую жратву и запихнуть себе в брюхо, — он перевел дух, — Рашке решил, что получил идеальный испытательный стенд. Он так и не уразумел, что эти пылинки внизу — люди, что они мечтают и страдают, как мы. Хотел попробовать на целой планете то один препарат, то другой… Ступак решил, что получил племенную ферму для выращивания несгибаемых революционеров, в грош не ставящих ни жизнь врагов, ни жизнь друзей. Он был уверен, что, погибая там на баррикадах, они попрут сюда и уж тут дадут чертей эксплуататорам. Ну а дед… Он решил, что судьба кинула ему шанс стать королем мира. Нужно лишь устроить бойню. Нужно лишь, чтобы как можно больше людей там, — он ткнул в сторону котла и, потеряв равновесие, снова ухватился за мое плечо, нас обоих слегка качнуло, — умирали с тем же криком «Хайль Хаусхоффер!» Тогда они они очнутся здесь с тем же криком. Чего проще — имея на контакте двойника за этим вот пультом! Еще в четырнадцатом году молодой генерал, получивший когда-то маленький ящичек в подарок от отца, прославился своими военными и политическими предсказаниями. Германия проиграла. Но Хаусхоффер уже прослыл великим магом. Он нашел и натаскал Гитлера. Он придумал ему свастику, кстати… А, вы же не знаете, что такое свастика…
— Буддийский символ, — осторожно сказал я. — Насколько мне известно, даже буддийские монастыри на картах обозначаются свастикой.
— Да, — задумчиво сказал Хаусхоффер. — Отец дурил их Тибетом, Шамбалой… Ведь он не мог сказать, откуда на самом деле получает информацию! Это казалось даже более удобным — до поры до времени подвергать превратностям политической игры пешку Адольфа, а самому держать все нити. Но опять не получилось. Информация была, а реальная власть ускользала…
Он наконец оторвался от моего плеча и, нетвердо крутнувшись на каблуках, повернулся лицом к котлу и вновь оперся на пульт. Он опьянел. Но я уже знал главное: он не бредил.
— И ведь не только информация, — пробубнил он, и тут я с ужасом и жалостью понял, что он до сих пор страдает из-за неудачи отца, а следовательно, и своей, и если бы у него были силы, если бы он знал, как — он начал бы все сызнова. — И средства воздействия тоже были… ну, хотя бы зонды, при помощи которых следят за событиями там. Последнее время они их стали замечать, правда… они приписывают их, — он уныло хихикнул, — инопланетянам. У-фо! — непонятно выкрикнул он с полным триумфом. — А знаешь, почему? — он горестно замотал головой. — Не удалось — почему? Потому что средство Рашке подействовало слишком хорошо. Тебе даже не представить, русский, какие они там теперь ублюдки, как мелко и гнусно тянут все только на себя, на себя, на себя… Даже Гитлер не сумел их объединить по-настоящему, даже Сталин, все бы только и смотрели, где бы урвать… а, ты ведь не знаешь, что такое Сталин, — он уже нетвердой рукой сунул в рот горлышко бутылки, но чуть промахнулся, и струйка коньяка потекла у него по подбородку. — Русский офицер! — с пафосом крикнул он и захохотал. А потом, запрокинув болтающуюся голову, снова отхлебнул, на этот раз более удачно. Вытер губы рукавом свитера.
— И потому я теперь только шалю, — сказал он, ухмыльнувшись и подмигнув мне с пьяной хитринкой. Приложил одну ладонь ко рту полурупором, как я давеча у входа в дом, и пробубнил замогильным голосом: — Не надо двигаться. Не надо бояться. С вами говорит представитель галактического гуманоидного центра…
Опустил руку. Снова смущенно и виновато глянул на меня сквозь свесившийся ниже носа клок редких сивых волос.
— А иногда… — и вдруг с ненавистью пихнул ногою груду пустых бутылок, и та раскатилась с оглушительным стеклянным звоном, — иногда так нарежусь за пультом… Потом и не вспомнить, что вытворял. Только из газетных сенсаций иногда вычисляю. Бер-р-мудский треугольник! — непонятно сказал он, будто выругался. И замолчал.
Теперь он замолчал надолго. Я смотрел на его размякшее лицо со слезящимися глазами, и мне было жалко его, и пора бы его отвести спать. Но он стоял понурясь и иногда чуть пошатываясь.
— Русский. Бери его. Может, что придумаешь. А меня от этого инкубатора пламенных борцов за державную незыблемость богоданной власти, за освобождение рабочего класса, за дело Ленина-Сталина, за чистоту арийской расы, за самоопределение маленьких, но гордых народов, за демократию, за американскую мечту… уже тошнит.
В голову мне, упруго извиваясь, вползла ледяная мысль, от которой захватило дух и снова захотелось сесть.
— Послушай, Альберт, — я старался говорить спокойно и очень внятно, — а есть ли гарантия, что мы — не в котле?
Он не шевелился.
— Ты назвал их чистилищем, а нас раем. Но ведь где-то, должен, значит, быть и ад. Или, значит, ад они, а чистилище мы, но тогда… есть что-то еще выше? И вообще, почему только три ступени?
Он не шевелился. Я уже начал думать, что он не слышит, что он уснул, стоя. Но он вдруг рывком, чуть не опрокинувшись на спину, задрал горлышко, сунул в рот, и, гулко глотая, допил коньяк залпом — а потом, широко размахнувшись, изо всех сил швырнул бутылку об котел. С оглушительным в спертой тишине подземного зала звоном бутылка взорвалась, и осколки, жестко стуча о препятствия, разлетелись в разные стороны.
— Есть бездны, — хрипло сказал Хаусхоффер, с ужасом уставясь на меня налитыми кровью глазами, — в которые лучше не заглядывать. Понял, русский? Если не хочешь сойти с ума.
3
Расследование было закончено.
Я не нашел их и не убил. И я не знал, как предотвратить новые преступления выходцев из преисподней. Но решать судьбу котла было не мне. Надо было срочно возвращаться и бить в набат…
Но я не возвращался.
У меня было десять дней.
Под руководством Альберта я сидел у перископов, у транслятора зондов, осваивая нехитрую систему управления, и заглядывал, заглядывал в эту бездну. Я должен был хотя бы слегка представлять ее себе — чтобы иметь свое мнение в будущих дискуссиях. Оно будет значить немного — не больше, чем любое иное. Но оно должно быть.
Меня затошнило на третий день.
Но я не мог оторваться. Боюсь, тамошние жители отметили в эти дни резкое увеличение активности инопланетян.
Стыдно сказать: я, не знаю зачем, искал себя.
Эпилог
Дед Василий, в неизменном латаном бушлате с единственной пуговицей в ватных, какого-то лагерного пошиба штанах, как всегда, сидел на лавочке перед школой, смолил самокрутку и слушал писклявый транзистор.
— Ну все, блин! — с детской радостью приветствовал он меня. — Пиздец Капказу!
— А что такое? — спросил я, глянув на часы. До начала урока оставалось еще четверть с небольшим часа, я присел рядом с дедом, достал из кармана сэкономленную позавчера, помятую и сыплющую табачной крошкой «Рейсину», а дед хлебосольно дал мне прикурить от своей, чтоб я не тратил спичку. Добрая душа.
— Дык хули ж, — объяснил он, когда я раскурил. — Ирак, что ли, Азербайджану в порядке гуманитарной помощи атомную бомбу продал. Армяшки, ясно дело, раскудахтались. Диаспора скинулась и у Кравчука подводку купила с ракетами. На вертолетах сволокли, бля, в Воротан. Плавать она там не может, мелко, но лежит, посредь речки и люками шевелит, того и гляди, бля, хуйнет. Шаварнадза сказал, что это, бля, все происки России…
Я попытался затянуться поглубже, но табак лез в рот из сразу отсыревшего и расползшегося хилого бумажного кончика. Пришлось несколько раз сплюнуть.
— Пальцом подправляй, — посоветовал дед, заинтересованно следящий за моими действиями. Из приемника сыпалось тупой скороговоркой: «Сараево… Босния… очередная кровавая акция колумбийской мафии… „красные кхмеры“ нарушили перемирие… новые жертвы в Сомали… Ангола… столкновение на демаркационной линии между Чехией и Словакией, есть жертвы… непримиримая оппозиция… очередная вспышка расовых волнений во Флориде… избиение эмигрантов из Турции в Мюнхене… взорван автобус с израильскими гражданами… взорван еще один универмаг в Лондоне…»
Новости.
Подошел Димка, водитель последнего в Вырице грузовика.
— Привет, интеллигенция! — сказал он.
— Здорово! — хором ответили мы с дедом.
— А я вчера тарелку видел, — сообщил Димка, аккуратно оправляя многочисленные молнии на своей куртке. — Вот так вот над Ореджем прошла низенько и к Питеру усвистала.
— Не пизди, — строго сказал дед. Глаза у него остановились, он даже шею вытянул. — Во, бля, опять летят.
Мы обернулись. Со стороны ленсоветовских позиций, медленно выгребая против ветра, скользил небольшой и аккуратный белый диск. Даже не диск скорее, а что-то вроде двояковыпуклой линзы. По краю верхней выпуклости, тесно один к другому, шел ряд темных кругов — не то иллюминаторы, не то просто узор такой.
— Эх! — в сердцах сказал Димка. — «Стингером» бы ебнуть!
— Дык что ж ты, бля, зеваешь?
Димка раздосадованно сморщился.
— Третьего дня я свой в Тосно на пару фуфырей «Агдама» махнул. Выпить хотелось — сил нет!
— Выпил? — с живым интересом спросил дед Василий.
— Одну выпил, а в другой, ебеныть, вода оказалась! Я этого предпринимателя если встречу — яйца оторву!
— Встретишь ты его, как же, — проворчал дед. — Они по два раза на одном месте не предпринимают.
Тарелка ушла за перелесок.
Радиоприемник сообщал: «…обсуждению повестки дня съезда. По ряду вопросов выявились серьезные разногласия, и депутаты разошлись на обед, так и не придя к единому мнению…»
Прозвенел звонок и я, отбросив окурок, встал.
— Сейте разумное, доброе, вечное, — сразу сказал Димка, — к вам приползут тараканы запечные… Счастливо вам, Альсан Петрович.
— И вам шесть футов под передними колесами, — ответил я любезностью на любезность.
В школе было малолюдно. Так, мелюзга бегала кое-где, повизгивая по углам — но ребята постарше были редки. Странно, что вообще еще кто-то ходит. Дел же по горло. Одни пробираются в Пушкин, Тосно, а то и в Любань на толчки. Другие — это уж совсем матерые человечища, совершают рискованные ночные рейды по чужим территориям в Пулкове, снять что-нибудь со склада или из Багажного отделения, или хлебный фургон перехватить, на худой конец. Третьи честно отрабатывают свое на редежском рубеже. Какая уж тут учеба…
Из туалета слышалось истошное дребезжание гитары и пение хором — ребята репетировали, готовились отмечать День независимости. Я чуть запнулся на ступеньке, прислушиваясь. Ага, знаю эту песню, самодеятельная. «Смольный» называется. Не вполне актуально, конечно — ну да что с пацанов взять, если даже большая литература дальше ругани коммуняк так и не двинулась? Ребята честно, отчаянно стараясь переорать друг друга, но как нарочно не попадая ни в одну ноту, надсаживались на мотив малининской «У вашего крыльца»:
…У вашего дворца Я вспомнил о марксизме, У вашего дворца Я спел «Интернцанал». У вашего дворца Мечта о коммунизме Вновь вспыхнула во мне — Дворец ее э-эба-а-ал!Я пошел дальше. Репетировать еще и репетировать.
Сегодня мой восьмой «а» состоял из пяти человек. Три девочки и два мальчика.
Маша Мякишева, красавица, национальная гордость Вырицы. Последние месяцы она щеголяла в совершенно умопомрачительной паре — брючки полная фирма, курточка всегда застегнута в обтяжечку, все знали, что она не потратила ни копейки. На игривые вопросы о происхождении пары Маша, скромно улыбаясь, отвечала: «Нашла». Действительно, она нашла ее в августе на пляже — какая-то дура-питерчанка, из последних полоумных дачников, не знающих, какой год на дворе, решила искупаться в романтическом одиночестве, понимаете ли, в рассветной дымке… Маша стала примерять штанцы, а дуру, когда та чересчур развонялась, в сердцах утопила, томик Чейза, лежавший под курточкой, махнула в Павловске на пару гигиенических тампонов, а шмотки взяла себе.
Таня Коковцева, самый веселый человек в классе. Я подсмотрел не так давно, на последней контрольной по алгебре она выведывала у соседей, сколько будет пятью семь, и никак не верила, что целых тридцать пять. Только осведомившись у третьего — вернее, у четвертого, потому что третий сам засомневался и, проявив редкую в наше время порядочность, не взял на себя ответственность подсказывать — она, покачивая головой с удивлением, записала в тетрадку результат. Но зато три аборта перенесла, похоже, безо всякого вреда для здоровья. Очень надежный товарищ.
Стелла Ешко — ничего не могу о ней сказать, просто ничего. Я не слышал от нее ни единого слова. По-моему, она дебилка, дитя алкогольного зачатия. Из класса в класс ее переводят, выставляя в ведомостях ровную, гомогенную, так сказать, вереницу троек. Не двойки же ставить, куда ее потом с двойками девать? Как, впрочем, и с тройками? Какая разница?
Ну, и братья Гусевы. Серьезные бойцы. Один из них — не помню уже, который — в прошлом году на урок пришел с «макаровым».
Я открыл было рот, но Веня Гусев, развалившийся за первым столом левой колонки — руки локтями на стол позади, ноги, одна над другой, выставлены в проход между столами, куртка расстегнута и расперта мощной грудью — лениво опередил меня.
— Мы, Альсан Петрович, пришли сказать, что больше не намеренны посещать ваши уроки.
Я помедлил. Потом сел за учительский свой стол и сказал:
— Хорошо, ребята. Давайте мне тогда дневники, я сразу выставлю четвертные тройки, и покончим с этим.
— Какой вы персик, — сказала Таня. — Можно, я вас поцелую?
— Чуть позже, — ответил я. — Делу минута, потехе час — но минута будет первой.
Судя по всему, они были приятно удивлены моей сговорчивостью. Похоже, они готовились к серьезной баталии.
Я выставил тройки, перенес их в классный журнал. Таня, честная девочка, забирая у меня дневник, наклонилась, дружелюбно прижалась бюстиком к моему плечу и с оттягом чмокнула в щеку.
— Только помаду сотрите потом, — сказала она, возвращаясь на свое место.
— Пусть пока живет, — ответил я. — Мне так больше нравится.
Они стали не спеша собираться. Котя Гусев закинул на плечо ремень своей потертой цилиндрической «Пумы».
— Погодите минутку, ребята, — сказал я. — Теперь, когда все формальности улажены, и вы не можете ожидать никакого подвоха с моей стороны, я просто хочу спросить: почему?
— Ой, да на кой ляд нам… — начал было Котя, но Веня оборвал брата.
— Погоди, Котька, жопа ты или мужик, — проговорил он. — Человеческий же разговор шкраб предлагает.
— Он снова сел. Тогда сели и остальные.
— Кто-то из великих, кто именно, вам лучше знать, сказал: история учит лишь тому, что ничему не учит. Мы склонны полагать это утверждение истинным. Особенно для этой сраной страны, в которой учителя истории и прочих научных коммунизмов из поколения в поколение получали зарплату исключительно за то, что ничего не знали, ничего не умели и только насиловали детям мозги ахинеей.
— Закосили извилину! — подтвердил Котя.
— Единственную? — спросил я.
Маша, самая умная, поняла и хихикнула.
Я обвел их взглядом. Что оставалось отвечать? Он был прав и не прав. Я мог бы сказать, что история учит многим верным вещам тех, кто способен учиться, например, что происходящего сейчас любой ценой нельзя было допускать, ведь это происходило и прежде, и всегда кончалось одинаково — именно вопиющая неграмотность политиков, сопоставимая, пожалуй, лишь с их самомнением «Я-то умнее тех, кто был прежде», развязывает им их шкодливые руки. Но для пятнадцатилетних происходящее последние пять-семь лет было единственной известной формой бытия, плохо-бедно они приспособились к ней, разрушь эту приспособленность, и они, молоденькие, погибнут. Я мог бы написать на доске самые элементарные формулы, описывающие динамику социальной энтропии, и они доказали бы, как дважды два: чем малочисленнее социум, тем меньше у него вариантов развития и тем, следовательно, меньше шансов выжить — но ребята плохо помнят, сколько будет дважды два. И я спросил только:
— Чему вы хотите учиться?
— Рукопашному бою, — тут же начал загибать пальцы Веня. — Это мы делаем, но нужно больше. Вот, недавно афганца одного припитомили, он нас дрессирует…
Ты сказал. Не «учит», не «натаскивает», не «тренирует» — «дрессирует». Ох, история. Кто сказал «Ты сказал»?
— Стрельбе, — загнул второй палец Веня, — это тоже пытаемся, но катастрофически боеприпасов не хватает.
— Взрывное дело надо поднимать, — подал голос Котя.
— Оральный секс освоить как следует, — озабоченно сказала Коковцева. Котя усмехнулся и со снисходительным превосходством проговорил:
— Тебе бы, Татка, все ебаться.
Она коротко обернувшись к нему, сверкнула победоносной улыбкой.
— Алгебра нужна, к сожалению, — сказала Мякишева, а то в духанах любая тварь обсчитает — пернуть не успеешь.
— Да, пожалуй, — задумчиво согласился Веня.
— И ты думаешь, этого достаточно для жизни? — спросил я.
— Для жизни вот как раз это и нужно.
— Этого достаточно для смерти, Веня, — сказал я. — Только для смерти. Сначала, возможно, не твоей. Потом, все равно, раньше или позже, — твоей. Этого достаточно только для кратковременного выживания.
— Научный коммунизм это все, Альсан Петрович, — ответил Веня. — На самом деле все просто. Кто выживет — тот и живет. Другого способа жить еще никто не придумал.
Он встал, и сразу, с грохотом отодвигая стулья, поднялись все. Как настоящий лидер, он пропустил всех остальных вперед, а когда кое-как приспособленная под класс комната опустела, снова глянул на меня и ободряюще улыбнулся.
— Вы не огорчайтесь, Альсан Петрович, — сказал он. — Мы лично вас даже уважаем. Но от предмета вашего блевать охота. Раньше хоть раз в генсека установки менялись, а теперь вообще — каждый свое долбит. И ведь всем ясно давно, что других несет по кочкам, потому что для себя, любимого, место чистит. Вон, при Мишке Сталина как несли. Сказали народу долгожданную правду! И чего вышло? Опять за того же Сталина люди мрут. Батя мой летом пошел на демонстрацию за этот сраный СССР — так приложили ему демократизатором по шее неловко, тут же откинул копыта, только и успел сказать: дескать, флаг наш красный подними повыше, пусть видят… А кто видит, зачем видит — хрен его знает. Может, богу на небесах расскажет, да и то вряд ли.
Он еще потоптался у двери — поразительно, но он мне сочувствовал! Замечательный мальчик все-таки растет.
— До свидания, — сказал он.
— До свидания, Веня, — с симпатией сказал я. — Если в будущей четверти передумаете — я, как юный пионер, всегда готов.
— Да что вы, Льсан Петрович! Зимой тут такое начнется! — и вышел.
Это, судя по всему, была правда. Заломив руки за спину, я неторопливо подошел к окну. В сером свете хмурого позднего утра сквозь голые ветви берез со второго этажа отчетливо просматривалась свинцовая полоса Ореджа и работающие люди на нашем берегу. Картина отчетливо напоминала знакомые по хроникальным фильмам кадры самоотверженного труда советских тыловых женщин в сорок первом году. Рвы, надолбы, огневые точки…
В течение лета железные когорты совхоза «Ленсоветовский», усиленные двумя десятками чеченских киллеров-профессионалов, которых директор колхоза снял в так называемом Санкт-Петербурге, пообещав отдать подконтрольным Чечне перекупщикам весь урожай совхозной капусты, теснили и теснили наших гвардейцев, пока те не откатились до реки. Велика Россия, а отступать дальше некуда — вот он, поселок, родные дома за спиной. Но ясно было, что, как только Оредж покроется льдом, ленсоветовцы попытаются форсировать рубеж.
Сначала сладкопевец Горбачев во время первого карабахского толчка вместо того, чтобы стараться защитить тех, кто, вне зависимости от политической ориентации, нуждался в защите, начал игру, рассчитывая, будто эта кость в горле двух стран заставит их вечно обращаться к Москве, как к арбитру — и тем продемонстрировал, что центр, начавши терять смысл с удалением пугалища войны, окончательно выродился, и кто смел — тот и съел. Потом стало ясно, что государство ни в малейшей степени не отвечает за своих налогоплательщиков, а следовательно — политически не существует, заботясь только о себе, как распоследний ларьковый спекулянт, и предоставляя остальным спасаться кто как может, это называлось долгожданным предоставлением экономической самостоятельности. Потом, пока Борька, подсаживая Мишку, умолял всех брать столько суверенитета, сколько они смогут, окончательно лопнула экономика, и оказалось, получить нечто необходимое тебе можно только выменяв это на нечто, необходимое другим, а для такого фронтового «махания не глядя» как минимум, нужно чем-то обладать. А наикратчайший путь к полному обладанию тем, что есть у тебя под руками, уже был указан — самоопределение вплоть до полного отделения. А когда все разом хапнули, что успели, с инфантильно садистским злорадством стараясь еще побольнее ущучить соседей и продемонстрировать свою для них необходимость: А ну-ка, попробуйте обойтись без нашей картошки! А вот попляшите-ка без бензина! Хрен вам на рыло, а не крепежный лес, если будете плохо себя вести! Севастополь строили запорожские казаки, и баста! — на всех уровнях начался, раскручиваясь день ото дня все свирепей, нескончаемый, чисто империалистический передел мира.
История…
Ежась и слегка даже постукивая зубами от сырого пронизывающего ветра, я пошел домой. Явно собирался снег. Да он уж ложился сколько раз и снова таял. Грязь, грязь, грязь…
И дома было не согреться. Разве что допить сэкономленные позавчера полтораста грамм суррогатной ларьковой водки.
Медленно расхаживая взад-вперед по комнатушке и глядя на вздутые, отвалившиеся по углам обои, я потягивал из стакана. Жидкость была сладковатой и тошнотворной. И совсем не согревала.
Слишком уж пусто было дома. Сын, солдатик-первогодок, прошлой осенью погиб в Угличе, когда партия имени царевича Дмитрия провозгласила столицизацию города и попыталась поднять путч, бывший инструктор ярославского горкома Роберт Нечипоренко, ныне президент Ярославской области, относящийся ко всем проявлениям национализма и сепаратизма на своей территории резко отрицательно, решительнейшим образом потопил путч в крови, первым эшелоном бросив на убой салажат. А жена ушла еще четыре года назад. Когда у нее обнаружили трихомонады, она заявила, что это я ее наградил, бог его знает, в то лето я действительно потрахивал скучавшую здесь вдвоем с сыном, шахматным вундеркиндом, интеллигентную безмужнюю дачницу, как-то так получилось, но вообще-то, когда я сходил к врачу, с великим трудом не облевав от разговоров дожидавшихся приема юношей и девушек, у меня ничего не нашли — однако я покорно жрал трихопол, от которого почему-то зверски хотелось спать, и жена тоже вроде подлечилась, но через три месяца все, кроме дачницы, повторилось, тут уж она, сказав мне все, что говорят в таких случаях, собрала мои манатки и выперла с квартиры…
Тогда и пропали все бумажки, относящиеся к последней научной работе, которую я пытался вести, — впопыхах я их не забрал, потом, надеясь, что все как-то войдет в колею и давая супруге время опамятоваться, не спешил приходить за ними. Мне, самонадеянному дураку, казалось, что пока там сохраняется что-то мое, хоть папка, хоть помазок для бритья, не все нити порваны, а когда я решил, что выждал достаточно, оказалось, там уже другой мужик и все мои останки давно выброшены… Хотя громко сказано: научная работа. Не для науки — просто для себя пытался ответить на годами мучавший меня вопрос: почему более-менее ровно шедшее в направлении общей гуманизации развитие Европы и России вдруг в семидесятые годы прошлого века резко переломилось, начав давать все более уродливые всплески жестокости, которые и увенчались затем войной, а из-за нее — Октябрем, а из-за него — рейхом, а из-за него — термоядерным противостоянием и так далее? Даже войны стали вестись совсем иначе, даже политические убийства стали иными — не за что-то конкретное, а из общих, из принципиальных соображений, не в живого человека стреляем, а в символ того или этого… Словно дьявол сорвался с цепи.
То ли именно тогда нашли друг друга, как два оголенных провода, надуманное, умозрительное насилие из теоретических марксистских книжек и практическое, сладострастное насилие полууголовников, полупсихов — нашли и начали искрить, поджигая все кругом? То ли в связи с развитием демократий именно тогда впервые в истории социально значимыми стали широкие массы низов, рост значимости которых явно опережал рост их культуры, почувствовав свой новый вес, они, в отличие от прежних времен, перестали стараться подражать элите и подвергли основные ее ценности осмеянию и старательному выкорчевыванию из собственного сознания, а среди этих ценностей были такие веками культивировавшиеся понятия, как честь и уважение к противнику… Не знаю. Ответов были десятки и ни одного. История…
В дверь уверенно постучали. Не допив, я поставил стакан на стол и пошел открывать.
Там стояли двое крепких мужчин в куртках металлистов и с прическами панков.
Внутри у меня все оборвалось. И, очень глупо, — стало до слез жалко недопитой водки.
Но допьют уже они.
— Господин Трубников? — сухо и очень корректно спросил один из метанков.
— Да, это я, — безжизненно подтвердил я. Второй метанк хохотнул:
— Был Трубников, а стал Трупников!
Первый не обратил на него внимания. Отодвинув меня, они вошли. Первый завозился у себя в карманах, второй крендебобелем прошелся по моей каморке. Срисовал стакан, взял, поболтал, принюхался брезгливо и одним махом опрокинул в рот. Первый и на это не обратил никакого внимания. Он наконец добыл свой блокнот и перелистнул несколько страниц.
— На уроках вы несколько раз утверждали, что в осуществлении октябрьского переворота одна тысяча девятьсот семнадцатого года помимо евреев, грузин и латышей участвовали и отдельные представители русской нации?
— Да, — сказал я. — Это исторический факт.
Он сокрушенно покачал головой. Плюнул на палец и пролистнул еще страницу. Они листались не вбок, а вверх.
— Вы выражали так же сомнение в возможности построения справедливого общественного устройства в одной, отдельно взятой Вырице?
Так открещиваться от большевиков и так повторять самые дикие из их околесиц…
— Выражал, — как Джордано Бруно, подтвердил я.
Он запихнул блокнот обратно в карман и сделал рукою безнадежный жест: дескать, раз так, то ничего не попишешь.
— Вы посягаете на главные святыни народа, — проговорил он с мягкой укоризной. — Вы подрываете его веру во врожденную доброту русского национального характера и его уверенность в завтрашнем дне. Вам придется поехать с нами.
Мы вышли из дома. Из окон глазели, некоторые даже плющили носы об стекла. Молодая мама, указывая на меня пальцем, что-то горячо втолковывала сразу забывшему о своем игрушечном паровозике пацаненку: мол будешь плохо себя вести, с тобой случится то же самое. Подошли к грузовику. Димка блаженно курил, сидя на подножке, завидев нас, он отвернулся и, стараясь не глядеть на меня, встал, отщелкнул окурок и полез в кабину.
— В кузов, — негромко скомандовал первый метанк.
В кузове мы разместились со вторым — тем, который шутил. Первый сел к Димке, в кабину.
Истошно завывая от натуги, грузовик заколотился по разъезженной колее, расплескивая фонтаны грязи и едва не опрокидываясь на особенно норовистых ухабах. На повороте щедро окатили тетку Авдотью, которая, надрываясь, волокла по кочковатой раскисшей обочине полную денег садовую тележку — судя по направлению, шла в булочную, совершенно зря шла. Жижи смачными коровьими лепехами пошмякалась на беспорядочно наваленные друг на друга пачки купюр.
— Авдотья! — крикнул я, полурупором приставив одну ладонь ко рту. — Хлеб уж часа полтора как кончился!
Она всплеснула руками, и будто подрубленная, села наземь.
Приехали на двор за большой свинофермой, и я понял, что надежды нет.
Остановились. Я подошел к краю кузова, ухватился было за борт, но шутник негромко позвал сзади:
— Эй!
Я отпустил борт и распрямился, обернувшись к нему. Он, усмехнувшись, вломил мне в рыло. Вверх тормашками я вывалился через борт кузова и на секунду, видимо, потерял сознание от удара затылком.
Очухался. Завозился, попытался перевернуться на живот. Получилось. Плюясь кровью, начал было вставать на четвереньки, руки скользили в ледяной грязи. Отчетливо помню, как грязь выдавливалась между растопыренными пальцами. Все плыло и качалось. Тут прилетело под ребра. Ботинком, наверное. Свет погас, и воздух в мире опять на какое-то мгновение кончился. А когда я вновь смог дышать и видеть, они уже уминали меня в мешок. Не сказав ни слова, даже не рукоприкладствуя больше, они утопили меня в выгребной яме.
И, уже задохнувшись в кромешной тесноте мешковины, залитый хлынувшей внутрь поганой жижей, я понял наконец, почему мир, где я прожил без малого полвека, при всех режимах и женщинах был мне чужим.
Еще один обезглавленный гусь взлетел наконец в свое поднебесье.
Тоска была такая…
Такая…
Такая тоска.
Хлоп-хлоп-хлоп. Но куда же дальше? Или — есть?
Во рту забух невыносимо отвратительный смешанный вкус гнилой водки и жидкого дерьма.
Я сел на кровати, спустил ноги на ковер. Из судорожно дернувшегося желудка выплеснулось в рот, я едва сдержался, сглотнул обратно.
В спальне было сумеречно и бесцветно. За широким венецианским окном, полускрытым гардинами, мерцал серым мерцанием декабрьский день.
Я вернулся в «Оттон» рано утром. Открытым текстом отбил депешу в МГБ:
«Следствие закончено. Опасения не подтвердились. Все еще сложнее. Серьезная проблема для всего мирового сообщества. Требую немедленного созыва совета безопасности ООН. Для ускорения процедуры прошу ходатайствовать перед государем о споспешествовании. Трубецкой. Отель „Оттон“, Мюнхен, Германская империя»
Затем отправил аналогичное сообщение патриарху.
Затем поднялся к фон Крейвицу и, взяв с него слово чести молчать, пока я не сделаю доклада в СБ, рассказал обо всем.
Фон Крейвиц присвистывал сквозь зубы, потом с сильным акцентом сказал «Эт-то чудовищно» — и, с благодарностью пожав мне руку, тут же ушел, чтобы связаться с Берлином и предложить поддержать инициативу России о срочном созыве СБ.
Добравшись наконец до своего номера, я принял душ — сначала очень горячий, потом очень холодный — и завалился спать.
В Альвице я почти не спал, некогда было.
И, несколько мгновений и впрямь побыв для Трубникова светоносным существом, проснулся в отчаянии и тоске.
Люди, люди, что же вы творите…
В дверь постучали, и я вскочил. На какой-то миг почудилось, что это метанки.
От резкого движения желудок снова сделал лихой кувырок.
Я набросил халат и вышел из спальни в гостиную. Сказал:
— Прошу!
Дверь тактично отворилась наполовину, и служащий отеля, улыбаясь до ушей, произнес, просунув в щель голову и подносик:
— Корреспонденция вашей светлости!
Все уже знали. Я размашисто подписал депеши подлинной фамилией, и за три часа, пока я спал, усилиями, видимо, почтмейстерши вестибюля, весь персонал был осведомлен, что в их отеле остановился инкогнито, под видом корреспондента «Правды», русский князь.
— Благодарю. Положите на стол, — сказал я, закуривая. Но от дыма еще сильнее затошнило. Я поспешно загасил сигарету. Не садясь, стал разбирать почту.
Да, служащим было от чего придти в ажитацию. Сам государь уведомлял меня о том, что подписан приказ о моем награждении Андреем Первозванным. И присовокуплял несколько теплых поздравительных фраз. И добавлял, что, вполне полагаясь на мое чувство ответственности, он, не ожидая рассказа о деталях дела, уже переговорил с премьером и председателем Думы, и они втроем, снесшись с генсеком ООН, так убедительно с ним побеседовали, что тот обещал постараться организовать заседание СБ уже послезавтра.
«Рад за вас, — писал патриарх, — и присоединяюсь ко всем поздравлениям, которыми, вероятно, вас уже засыпали. С нетерпением жду вашего выступления в ООН. Надеюсь, что все ваши действия, в том числе и будущие, послужат образцом коммунистической этики. Надеюсь на скорую личную встречу.»
А дальше шел обширный факс от Лизы, она предпочла презреть условности и отбить текст открыто, чем писать письмо, которое тащилось бы до Мюнхена не меньше суток и наверняка не застало бы меня здесь. Думаю, факс вызвал особый интерес служащих отеля.
«Сашенька, родненький, здравствуй, как я рада! Наконец-то от тебя весточка, а то мы уж извелись. Спасибо Ивану Вольфовичу, сразу мне позвонил. А у нас тут тоже шурум-бурум. Станислава немного не доносила, первые роды, да еще в таком возрасте (только ты не прими эти слова за намек, что она для тебя старовата), — как бы по простоте ввернула она, — и позавчера родила двойню, мальчика и девочку. Танцуй и задирай нос. Было довольно тяжело, но обошлось. Вчера мы с Поленькой их навещали. Такие хорошенькие! И, честное слово, вылитый ты, мне даже завидно. Саша, может, мы тоже еще кого-нибудь родим? Я с готовностью. Дом о четырех углах строится, пусть будет четыре. Или у тебя четвертый уже есть, только мы со Станиславой не знаем? Шучу. Ты же мне все-все рассказал, правда? Поля так серьезно пыталась за младенчиками поухаживать, и поиграть, и смотрела, как Станислава кормит. Но мы, конечно, пока ей не говорим, что это твои. Тут еще предстоит как-то разбираться. Как и с их фамилией. А эта чудачка знаешь, что придумала? Она их назвала твоим и моим именем. Хочу, говорит, чтобы вы и в будущем поколении были неразлучны. Завтра их выпускают домой. Я сейчас, прости, больше не могу писать — побегу к ней сказать, что ты нашелся, она ведь тоже места себе не находила, и вдруг тоже захочет тебе черкнуть пару строк. Целую, Сашенька. Жду не дождусь. Поговорить не с кем, и снишься ты мне все время. Даже просыпаюсь от того, что стонать начинаю.
Возвращайся скорее.
Жена.
P.S. Тебя уже неделю дожидается письмо из Бразилии. Я его положила тебе посреди стола, и каждый день сдуваю пыль. Надеюсь, это не мина?»
И сразу же, за следующей строкой, но другим почерком — чуть неровным, явно рука еще не тверда:
«Саша, любимый, здравствуй. Я всегда знала, что все у тебя будет хорошо и замечательно, поэтому иногда даже противно было видеть, как вы волнуетесь и конспирируетесь. Впрочем, поздравляю тебя — а ты поздравь меня. Я так благодарна тебе за них. На всю жизнь. Такой счастливой я никогда не была. Ну разве что когда ты меня в первый раз обнял-поцеловал, но и то меньше, уж извини. Ждем».
Сначала она написала «Жду», потом зачеркнула жирно, двумя чертами, именно так, чтобы легко было прочитать это «Жду», а сверху написала «Ждем». Я усмехнулся, чувствуя, что едва не плачу от избытка чувств. Все-таки она немножко позерка.
Я читал — и тошнота унималась, и мертвый Трубников понемногу оживал и становился мной.
Что же вы делаете, люди. Друзья… господа, товарищи… братья и сестры… господи, даже слов в этом ящике не осталось не заблеванных, не сочащихся кровью!
С письмом в руке я подошел к окну.
Ограненный набережными, укутанный скверами, тек Изар. Дыбились Альпы вдали. И хрупкий серпик месяца едва заметно млел в бледном небе зимнего дня. Скоро — звезды.
Прекрасный, безграничный, зовущий мир — а вы, не слыша зова, умираете в этом окаянном сундуке! Идите к нам! Ведь не исчадия же ада вы — вы добрые, заботливые, смелые, даже честные иногда, я видел, только вы все отравлены, господи, от североамериканского континента до афганского душмана, у вас все смещено, нацелено не на то, и потому идет впустую, а то и во вред. Но не одни же маньяки прилетают сюда — а Хаусхоффер, Трубников, а бесчисленные иные, о которых мы не знаем ничего именно потому, что они не стали убивать, а начали жить с нами, как мы. Значит, в этом нет ничего невозможного!
Я вновь стал перечитывать письмо. И от преданных слов, таких разных у разных людей, во мне крепла уверенность, которая только и дает силы жить — божественная уверенность в том, что все мы, все, будем вместе долго-долго. Будем жить долго-долго. Быть может, как всегда заверяет Лиза, — вечно.
Завтра они выходят. Заседание СБ — в лучшем случае послезавтра. Успею проскользнуть. Хотелось бы сегодня, конечно, потолковать за рюмочкой с фон Крейвицем, отличный мужик оказался. Но, что называется, там магнит попритягательней.
Тяжелый ковер глушил шаги. Беззвучно, как божий ангел, я подошел к телефону и снял трубку.
— Бары… пардон. Фройляйн! Когда у вас ближайший рейс на Петербург?
Люблю.
Комарово, декабрь 1992 г.
Библиография
1. Дебют: «Великая сушь». Рассказ. — В ж.: «Знание — Сила», 1979, № 1.
2. «Художник». Рассказ. — В ж.: «Знание — Сила», 1981, № 3.
3. «Пробный шар». Рассказ. — В ж.: «Знание — Сила», 1983, № 8.
4. «Все так сложно». Рассказ. — В сб.: «Синяя дорога», Л.: «Детская литература», 1984.
5. «На исходе ночи». Вариант сценария к/ф «Письма мертвого человека» (в соавт. с К. Лопушанским при участии Б. Стругацкого). — В альм.: «Киносценарии», 1985, вып. I. (Примечание: вышедший на экраны в 1986 г. фильм был удостоен Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых в 1987 г., гран-при и приза Международной ассоциации кинопрессы на фестивале в Мангейме в 1988 г., а также еще нескольких международных призов).
6. «Первый день спасения». Повесть. — В ж.: «Даугава», 1986, №№ 10–12 (Примечание: повесть была удостоена первой премии на ленинградском конкурсе «Молодость. Мастерство. Современность» в 1987 г.).
7. «Свое оружие». Рассказ. — В ж.: «Нева», 1987, № 1.
8. «Домоседы». Рассказ. — В ж.: «Урал», 1987, № 12.
9. «Люди встретились». Рассказ. — В ж.: «Простор», 1988, № 5.
10. «Зима». Рассказ. — В сб.: «Современная фантастика». — М.: «Книжная палата», 1988.
11. «Ветер и пустота». Рассказ. — В ж.: «Парус», 1988, № 7.
12. «Доверие». Повесть. — В ж.: «Урал», 1989, № 1 (Примечание: повесть удостоена премии «Золотой шар» 1990 г.).
13. «Носитель культуры». Рассказ. — В ж.: «Нева», 1989, № 4.
14. «Давние потери». Рассказ. — В ж.: «Звезда», 1989, № 10.
15. «Не успеть». Повесть. — В ж.: «Нева», 1989, № 12.
16. «Очаг на башне». Роман. — Рига: Латвийский детский фонд, 1990 (Серия «Новая фантастика»). (Примечание: в 1991 г. книга удостоена премии «Старт» как лучший дебют года; в номинационном списке премии «Великое Кольцо» 1991 г. она заняла второе место, уступив первенство «Острову Крыму» В. Аксенова).
17. «Свое оружие». Повести и рассказы. — Л.: «Советский писатель», 1990.
18. «Достоин свободы». Повесть. — В сб.: «Мистификация», Л.: Лениздат, 1990.
19. «Прощание славянки с мечтой». Рассказ. — В ж.: «Фантакрим — Мега», 1991, № 2.
20. «Вода и кораблики». Повесть. — В ж.: «Фантакрим— Мега», 1992, № 3.
21. «Гравилет „Цесаревич“». Роман. — В ж.: «Нева», 1993, №№ 8–9 (Примечание: роман удостоен премии «Бронзовая улитка» 1994 г. и «Премии Интерпресскона» 1994 г.).
Примечание: в настоящей библиографии учтены только первопубликации и первоиздания; данные о перепубликациях и переизданиях опущены. Не включены в данную библиографию также публицистические и научные статьи В. Рыбакова.
-=-
УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
Составителем серии «Числа и руны», а также этого тома и автором предисловия к нему является писатель-фантаст и критик Андрей Балабуха, лауреат Беляевской премии 1993 года. Эта литературная премия ежегодно вручается Союзом писателей Санкт-Петербурга и благотворительным литературным Беляевским фондом по шести разрядам:
— за лучшую оригинальную фантастическую книгу года на русском языке;
— за лучший перевод фантастической книги на русский язык;
— за лучшую оригинальную научно-художественную книгу на русском языке;
— за лучший перевод на русский язык научно-художественной книги;
— за критику в области фантастической и/или научно-художественной литературы;
— издательству, выпустившему в течение года лучшую подборку фантастических и/или научно-художественных книг.
Лауреатами Беляевской премии 1994 года стали:
— Владимир Михайлов (Москва) — за трилогию «Капитан Ульдемир» (в связи с выходом заключительного романа «Властелин»);
— Андрей Лазарчук (Красноярск) — за сборник повестей и рассказов «Священный месяц Ринь»;
— Лев Минц (Москва) — за научно-художественную «Индейскую книгу»;
— Александр Щербаков (Санкт-Петербург) — за перевод романа Роберта Э. Хайнлайна «Луна жестко стелет»;
— Юлий Данилов (Москва) — за перевод книги Георгия (Джорджа) Гамова «Приключения мистера Томпкинса»;
— издательство «Северо-Запад» — за серию отечественной фантастики.
Спонсорами Беляевской премии 1994 года были:
— акционерное общество, пожелавшее остаться неизвестным;
— акционерное общество «Пчела»;
— книгоиздательская и книготорговая фирма «Лань», выпустившая и книгу, которую вы держите сейчас в руках;
— акционерное общество «С. О. Б.»;
— акционерное общество «Ренессанс-Арт»;
— акционерное общество «Анчер-Авто»;
— фирма «Глиссада» — официальный дилер фирмы «Касио»;
— радио «Балтика»;
— автобаза филиала АО ПТС.
ВЫ МОЖЕТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ в присуждении Беляевской премии, выдвинув на ее соискание собственного кандидата. Таким правом обладают:
— сами авторы;
— лауреаты Беляевской премии предшествующих лет;
— писатели — независимо от места жительства и жанровой принадлежности;
— издательства и любые средства массовой информации (от лица фирмы);
— книготорговые организации (от лица фирмы);
— клубы любителей фантастики (от лица клуба).
На соискание премии может быть выдвинута книга любого гражданина Российской Федерации или автора, живущего за ее пределами, если она была написана и издана на русском языке.
ВЫ МОЖЕТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ в присуждении Беляевской премии, если станете одним из ее спонсоров — мы открыты к любому сотрудничеству. Контактный телефон Беляевского фонда в Санкт-Петербурге — (812) 274-63-35.
ПРАВЛЕНИЕ БЕЛЯЕВСКОГО ФОНДАПримечания
1
Большое спасибо (груз.).
(обратно)2
Благодарю за помощь (груз.).
(обратно)3
Слово «Бог» произносят с большой буквы истинно верующие, и с маленькой — те, у кого это лишь привычное присловье, наравне с «например», «елки-палки» или «мать чесна» (прим. авт.).
(обратно)4
Добрый день, Эрик. Я от Михал Сергеича (англ.).
(обратно)5
Русская империя — великая страна (англ.).
(обратно)6
Русские — великий народ. Князь Трубецкой — настоящий коммунист (англ.).
(обратно)7
Я люблю их!! Я люблю их обеих!! Усекаешь? Я хочу трахать и ту, и другую!!! (англ.)
(обратно)8
Трахать и водку, и пиво? (англ.)
(обратно)
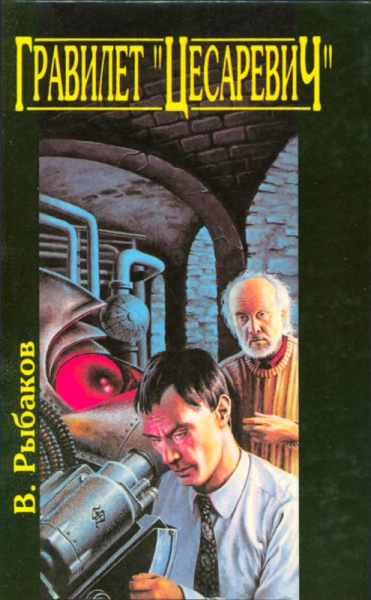
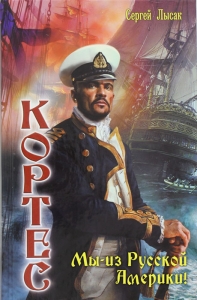



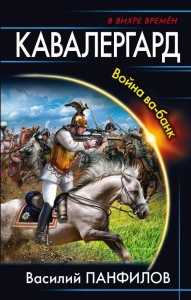


Комментарии к книге «Гравилет «Цесаревич»», Вячеслав Михайлович Рыбаков
Всего 0 комментариев