Андрей Валентинов КРАБАТ
Повсюду наши флаги будут реять скоро!
Подражание Вильяму Шекспиру и Бертольду Брехту.
Бесноватый:
Судеты наши! Предков славных край, отторгнутый злодейскую рукою, сегодня возвращен. Но не войной — война мне ненавистна. Только волей немецкого народа! Как волна, из черной глубины до звезд поднявшись, сметает на пути своем преграды, так и восстанье наших кровных братьев обрушило за час державу чехов, предателей и трусов, неспособных оружьем защитить пределы края. Так пусть же бьются радостно сердца! Зима исчезла — и настало лето!..
Народ:
Победе — слава! Ныне — и всегда! Да здравствует победоносный фюрер!
Бесноватый:
Я принимаю вашу благодарность. Народа сын, познавший хлад и голод, я защищал наш Фатерлянд в окопах Войны великой, не жалея крови, и вражьей, и своей. Тогда мы были на ноготь от Победы. Не вина бойцов отважных, что пришла Измена и нож вонзила в спину. Я упал, и мы упали все, но снова встали. Моя борьба! Мы начинали в полночь, немую, словно старая могила, и черную, как смертный приговор. А ныне ясный полдень светит нам! Свободен путь для наших батальонов, свободен путь для штурмовых колонн!..
Народ:
…Глядят на свастику с надеждой миллионы. День тьму прорвет, даст хлеб и волю он!
Бесноватый:
Так есть и будет! Путь великий наш продолжим смело. Прочный мир в Европе от Бреста до Урала — наша цель. И мы ее достигнем! Вижу я не Чехию, фантом затей версальских — Богемию, исконный немцев дом. Швейцария, обитель плутократов, народ немецкий ставит ни во что. Нам ли терпеть? Протянем братьям руку! А дальше — Мемель. Он — наследье предков, обильно землю кровью напитавших. Та кровь в сердцах — и в ваших, и в моем. В последний раз сигнал сыграют сбора! Любой из нас к борьбе готов давно…
Народ:
…Повсюду наши флаги будут реять скоро, неволе длиться долго не дано!
Бесноватый:
И пусть не лгут, что мы несем войну! Ее мы не хотим — но не страшимся. Французам — мир, когда не помешает нам Франция вступить в пределы наши. Не то ей кровью истекать, а нам, бичу Господня гнева, — покарать за гордость тех, кто на дороге встанет. Мир Англии, когда ее войска останутся на острове навеки. России — мир, но пусть забудет путь из Азии в Европу, и окно, царем Петром пробитое когда-то, прочнее заколотит. Миру — мир! Но если все враги, в безумье впав, обрушатся на нас — тогда и Небо подмогой нашей будет. И падет на землю вражью красная планета, взметнув потоки раскаленных магм. И Рагнарёк придет, и волк поглотит и Солнце, и Луну, неся отмщенье. Победе — слава! Да живет наш Рейх! Тысячелетний Рейх — мечта германцев!
Народ:
Победе — слава! Фюрер! Фюрер! Фюрер![1]
Глава 1. Ночь нежна
Женщина и тень. — Кому идти на Эйгер. — Общество Морских Купаний. — В Шварцкольме нет мельницы. — Побатальонно — в южные края. — «Я-а ста-а-арый профе-е-ессор!» — Париж остается Парижем. — Курц и «Kurz». — Что мы узнаем завтра?
1
…Ангел Смерти — никому не известно, каким будет его лицо. И когда он впервые приходит, его не могут узнать…
— Я хочу поскорее подружиться с твоей дочерью. Сколько ей уже? Десять?
— Десять. Совсем взрослая. Мне иногда даже страшно.
Море осталось далеко внизу. Гора, темный неровный склон, за ним — огни городских кварталов, светящаяся гирлянда кораблей в бухте. Еще дальше, над самым горизонтом — еле заметная полоска заката.
— Она научилась читать в четыре года. Пришлось прятать книги. Я долго уговаривала ее начать со сказок, а не с «Истории финансовой мысли» Зонненфельса. Уговорила… на свою голову.
— Надо подбирать правильные сказки!
День ушел, уходит и вечер. Мать-Тьма вот-вот неслышно шагнет из-за черных гор. Здесь же — пустое шоссе, запах остывающего асфальта, густой хвойный дух, ровный чистый гравий под ногами. Смотровая площадка — двадцать шагов на десять.
— Помнишь «Снежную королеву»? Да-да, Андерсена. Она прочитала и спросила: «Мама, а что дальше?»
— А что дальше? Кай и Герда вернулись домой, вспомнили любимый псалом про Христовы розы. Наверняка поженились, а потом жили долго и счастливо.
Авто — светлое лупоглазое чудище с трехлучевой звездой на капоте и серебристыми дудками-клаксонами[2]. Мотор выключен, радио работает. Диктор читает новости, но слушателей нет. Пассажиры, он и она, отошли к самому краю, к неровной каменной балюстраде, нависшей над обрывом.
Слева он, она — справа.
— «Так сидели они рядышком, оба уже взрослые, но дети сердцем и душою, а на дворе стояло теплое, благодатное лето!»[3] Наизусть помню. А моя дочь рассудила иначе. Герда быстро поняла, что Кай ей совершенно не нужен. Ей было интересно его искать — и не больше. А Каю стало очень скучно в маленьком провинциальном Копенгагене. В конце концов Герда вышла замуж за соседа-моряка и уехала в Америку, а Кай вернулся к Снежной Королеве, и они стали жить вместе… Когда дочь это придумала, ей было шесть лет.
На женщине — брючный костюм по последней моде: белые расклешенные брюки, приталенный черный пиджак, пестрый шейный платок (широкий узел, цветные квадратики вперемешку). На безымянном пальце левой, поверх тонкой ткани — массивное кольцо с черненым египетским саркофагом. Мужчина… Его не разглядеть, неслышно шагнувшая из-за гор Мать-Тьма укрыла человека своим тяжелым пологом.
— Теперь ей десять. «Историю финансовой мысли» уже осилила?
— Давно… Никак не уговорю ее бросить курить. Какой-то ужас! У нас в семье никто ни курит, ни я, ни муж…
Днем здесь фотографируют. Вечером и ночью — объясняются в любви. Лучшего места не сыщешь: пустое горное шоссе-серпантин, умирающий закат у самого горизонта, а над головами — недвижный купол темных небес. Никто не помешает, ни Мать-Тьма, ни сама Смерть.
— Мальчишка тебя недостоин. Я не сделаю ему ничего плохого, но о тебе он забудет. Навсегда! Считай, что в тот вечер ты просто не пошла на концерт.
— «Серенады Джека Картера», второй ряд, седьмое место… Хочешь отменить Прошлое? А что взамен?
— Взамен? Старушки Европы уже мало? Но ты права, вдвоем мы способны на большее.
Обшитая темным бархатом коробочка — посреди широкой мужской ладони. Неяркий блеск золота высокой пробы.
— Кольца… Они очень красивые. Очень!
Женщина смотрит, но не прикасается, словно боясь спугнуть. Руки в легких белых перчатках лежат на теплом камне балюстрады.
Смерть не подает голоса — стоит рядом.
Слушает.
2
О Северной стене Эйгера не имело смысла даже мечтать.
Андреас Хинтерштойсер, горный стрелок и скалолаз-«категория шесть», понимал, что их с другом-приятелем Тони взгреют. Опоздали из увольнения, случился грех. Но не так же!
— Четыр-р-ре писсуар-р-ра в здании пер-р-рсонала, две убор-р-рные в пятом бар-р-раке и… и еще пол в офицер-р-рском казино, — добродушно прорычал обер-фельдфебель. — Не сжимайте кулаки, Хинтер-р-рштойсер-р-р, у меня пер-р-рвый р-р-разр-р-ряд по боксу. Это — ар-р-рмия, гор-р-рные стр-р-релки, здесь даже бавар-р-рцы начинают любить наш общий Фатер-р-рлянд. А для особо упер-р-ртых имеется тр-р-рибунал. Хочу напомнить — идет война[4].
Кулаки Хинтерштойсер разжал. Язык прикусил. Рядом молчал Тони Курц, тоже «категория шесть» и тоже на свою голову — горный стрелок.
— Хор-р-рошей ночи, господа!
Обер-фельдфебель желтозубо оскалился. Немного подумал — и сплюнул на пол. Негромко хлопнула дверь.
…Sitzungssaal во всей красе, грязный пол, две лампочки под потолком, потрескавшийся кафель, ночь за окнами… Позавчера они взяли южную стену Унтерсберга — таинственной горы, в недрах которой спит, сидя за огромным каменным столом, Карл Великий. Каждый мальчишка в окрестностях Зальцбурга знает, что император проснется, когда его борода три раза обовьется вокруг стола, а над Унтерсбергом перестанут летать вороны. Южная стена — ночной кошмар скалолаза. Взяли! Опоздали из увольнения всего на каких-то полчаса…
— «Даже баварцы!» — разлепил губы Хинтерштойсер. — Verdammte Scheisse![5] Тупая прусская свинья!..
Курц поморщился:
— Он тебя провоцировал, Андреас. Трибунал пока не распустили, а война действительно идет.
— Ага, обгадились в Судетах по полной, пруссаки, scheiss drauf!
Хинтерштойсер примерился к жестяному ведру, полному грязной черной воды, дрогнул сапогом… В последний момент раздумал: самим же убирать придется. Окинул взглядом «зал заседаний», поморщился:
— Сбегу!
Курц, взяв ведро, выплеснул в писсуар, тяжело шагнул к умывальнику. Кран тоскливо взвизгнул, забормотал невнятно.
— Куда сбежишь? В Дахау? И не ругайся, Андреас, это как раз прусская привычка.
Ругаться Хинтерштойсер больше не стал, но и отступать не собирался.
— На Эйгер сбегу!..[6]
Курц закрутил кран, взялся за холодную ручку ведра.
— Не смеши.
* * *
Две недели назад Тони Курц, почистив мундир и побрившись, взял свежий номер «Suddeutsche Zeitung» — и направился прямиком к командиру части полковнику Оберлендеру[7]. Утренние газеты порадовали очередной речью фюрера. Всё было вполне предсказуемо: Судеты станут германскими, Чехословакия — неудачная конструкция версальских архитекторов и потенциальный аэродром для Сталина, немцам же в предвидении тяжелых испытаний необходимо подтянуть пояса. Ближе к финалу рейхсканцлер заговорил о будущей Олимпиаде. В победе немецкой сборной фюрер не сомневался, но предлагал не ждать августа. Лучший подарок к началу игр — флаг со свастикой на вершине Эйгера. Северная стена должна стать немецкой! Храбрецы получат золотые олимпийские медали. Мать Германия ждет подвига от своих сыновей.
Командир части газету читать не стал, однако выслушал. Рядовой Тони Курц уложился в три минуты. Герр[8] полковник недобро прищурился, но все же пообещал узнать подробности. Не обманул. Не только узнал, но и поделился, причем на этот раз в командирском кабинете присутствовали оба — и Тони, и Андреас.
Мать Германия и в самом деле ждала подвига от своих сыновей. Кандидатуры таковых уже утверждены в Берлине, причем на самом-самом верху. Горным же стрелкам Курцу и Хинтерштойсеру предлагалось не отвлекаться на посторонние предметы и усиленно заниматься боевой подготовкой. Одна из рот уже начала сборы к недалекой чешской границе.
Вопросы есть? Вопросов нет. Кру-у-у-гом! Шагом ма-а-арш!
— Им же послать некого! — Хинтерштойсер, с омерзением затянувшись, отправил окурок прямиком в ведро с грязной водой. — Генрих Харрер смог бы, но у него травма. И вообще, он австриец. А кто еще остался из «категории шесть»? После того, как накрылись Седлмайер и Мехрингер[9], все остальные хвосты поджали. А итальянцы команду готовят, и австрийцы готовят…
— И французы тоже, — невозмутимо согласился Курц. — Но кого-то все же нашли. Полковник намекнул, что из «черных», из парней Гиммлера.
Курили все в том же «зале заседаний», перебравшись ближе к распахнутому окну. Носом старались не дышать.
— Говорят, какая-то особая команда. Их называют «гэнгз» — «гангстеры»…
— Эти могут, — хмыкнул Андреас. — Асфальтовые скалолазы![10]
Брось, Тони, это несерьезно, идти надо тебе и мне. Если возьмем Норванд[11], нам все простят. Победителей не судят!
Хинтерштойсер оглянулся и на всякий случай перешел на шепот:
— Просимся в отпуск на… Да хоть… Хоть на свадьбу. Ты женишься, я — твой свидетель. И — к Эйгеру! Эх, жаль, денег мало, придется на велосипедах, вымотаемся в тряпочку… Ну и пусть! Это наш шанс, последний шанс, понимаешь?
Курц поглядел в темное окно.
— Иногда судят и победителей. Если не будем первыми, трибунал обеспечен. Но, знаешь, Андреас, не начальства я боюсь. Есть судья иной, нелицеприятный.
Хинтерштойсер недоуменно моргнул, но внезапно стал серьезным.
— Ты имеешь в виду… Эйгер?
— Да, Эйгер. Проклятый Огр!
3
Рука мужчины лежит на ее плече. Женщина не отодвигается, стоит ровно. Совсем рядом — каменная балюстрада, за нею обрыв, утонувший во тьме каменистый склон. Вдали — огни города, корабли в тихой бухте.
Вечернее тепло сменилось ночной прохладой, хвойный дух — запахом влажной земли. Говорит мужчина — черная тень. Женщина молчит, пальцы правой поглаживают кольцо-саркофаг. Смерть по-прежнему рядом, невидимая, безгласная.
— Наша штаб-квартира будет в Париже. На тебе все связи, все контакты…
Женщина кивает и внезапно оборачивается:
— Слышишь?
Мужчина смотрит назад, пожимает широкими плечами.
— Радио? Кажется, забыл выключить.
— Танго!
Сквозь ночь доносится еле слышный голос невидимой певицы.
Слов не разобрать, и женщина начинает напевать сама:
В горних высях звучат молитвы, В адских безднах — глухие стоны, В женском сердце — все арфы рая, В женском сердце — все муки ада…Мужчина улыбается, гладит женщину по щеке. Она улыбается в ответ.
Путь мужчины — огни да битвы, Цель мужчины — уйти достойным, Где, скажите, найти ему покой? Ах, где найти покой?Ее правая ладонь скользит вниз, ныряет в пиджачный карман. Мужчина не замечает, смотрит в ее глаза. Губы легко касаются губ.
А любовь мелькает в небе, Волну венчает белым гребнем, Летает и смеется, и в руки не дается, Не взять ее никак! О Аргентина, красное вино![12]Уже не поет — шепчет. Губы вновь соприкасаются, ладонь в белой перчатке — левая, легко сжимает мужские пальцы.
— Погоди… Погоди! Ты хочешь… Хочешь услышать мой ответ?
— Да, — отвечают его губы. Женщина кивает, оборачивается в сторону обрыва.
— Хорошо! Стань, пожалуйста, рядом.
Он вновь справа, она — слева. Позади — горы, впереди — горный склон.
— Наклонись…
Правая рука в белой перчатке взлетает вверх. Пистолет у его виска… Удивиться мужчина не успевает — как и услышать выстрел. Он понимает лишь, что земля под ногами исчезла, и он падает, падает…
Не упал. Смерть подхватила, крепко взяла за плечи, усмехнулась во весь костлявый оскал.
Данс-макабр!
Танго!
Пляшут тени, безмолвен танец, Черен контур, бела известка. Дым табачный из старой трубки, Голос бури из буйной пены, Нет покоя, ни в чем покоя нет!Смерть поет беззвучно, слова сами рождаются в гаснущем сознании, вспыхивают белыми искрами, тускнеют, превращаясь в обгорелые пылинки.
Белый рыцарь — перо голубки, Черный ангел — смола геенны…— Но почему? — кричит он, глядя прямо в пустые черные глазницы. — Почему? За что?
Напрасно! Смерть не отвечает на вопросы.
* * *
…Бумажник, кольца и документы — забрать, в левый карман пиджака положить две игральные фишки из казино и цветной проспект на мелованной бумаге. «SBM» — «Societe des Bains de Mer».
Общество Морских Купаний…[13]
Труп словно налился свинцом, но она справилась, пусть и со второй попытки. Вниз, в черную пропасть!
Прощай!
Отдышавшись, бросила туда же пистолет. Перчатки сняла, сунула в карман.
Все…
Можно было идти к машине, но женщина решила немного обождать. Повернулась спиной к морю, облокотилась о камень балюстрады, закрыла глаза… Черная тень сгустилась, подступила к самым зрачкам, но женщина ничуть не испугалась. Улыбнулась, поправила сбившуюся набок челку. Запела беззвучно, Смерти под стать.
А любовь мелькает в небе, Волну венчает белым гребнем, Летает и смеется, и в руки не дается, Не взять ее никак! О Аргентина, красное вино!…Ангел Смерти — никому не известно, каким будет его лицо. И когда он впервые приходит, его не могут узнать. У него — нежные черты. Но когда обнаруживаешь, что скрыто под ними, уже слишком поздно[14].
4
Он проснулся во сне. Глаз открывать не стал — ни к чему. Там, за прикрытыми веками, наверняка какая-то мерзость. Притаилась — и ждет, пока на нее взглянут.
А вот не стану! А вот не взгляну!
— Крабат!..[15]
Под головой вместо подушки — холодный камень. Спина затекла, на лбу выступили капли пота. Воздух несвежий, прелый, словно внутри старой пивной бочки.
— Крабат!.. Кра-а-абат!..
Такое с ним уже случалось, и он не испугался. Правильнее всего не отвечать и конечно же не смотреть. Вдохнуть поглубже — и крикнуть что есть силы, чтобы проснуться уже по-настоящему. Встать, вытереть пот со лба, допить холодный чай…
Чай… Стакан на столике возле окна, рядом — упаковка таблеток. Поезд? Да, он в поезде. Купе, верхняя полка. Выпил снотворное, чтобы уснуть пораньше.
— Крабат!.. Иди в Шварцкольм на мельницу! Не пожалеешь!..
— В Шварцкольме нет никакой мельницы! — не выдержал он. — И не было никогда. Мельница — в Хойерсверде, за лесом!
Открыл глаза, скользнул зрачками по густой вязкой тьме. Спрятались?
— И Крабата никакого не было. Не Крабат — Кроат, ясно? Полковник Иоганн Шадовиц, командир Глинского Кроатского полка, потому и прозвали. И мельницы никакой не было. Шадовиц никогда не служил в подмастерьях, он бежал из дому в двенадцать лет, записался в австрийскую армию…
Из темной глубины донесся негромкий смешок:
— Тебе так объяснили в школе? Не прячься хотя бы от самого себя, Крабат! От меня, как видишь, не получилось.
Видишь? Да, он видел. Тьма отступила, отдавая пространство. Невеликая комната, лавки по углам, он — на той, что рядом с окном. Стекол нет, деревянные ставни наглухо закрыты. В углу — бочонок (наверняка от пива!), на нем — плошка с сальной свечой. Огонек не желтый, не белый — синий.
— Сколько можно убегать, Крабат? Век? Два? Иоганн Шадовиц умер в 1704 году…[16]
На Мастере — темный камзол с потертым шитьем, старая треуголка, тяжелая трость в левой руке. Таким его видели только на Рождество — а еще в тот летний день, когда на мельнице ставили новое колесо. Было очень жарко. Мастер поднял кувшин с вином, выпил в честь работников, остаток вылил на украшенный ветками обод….
Он помотал головой, отгоняя чужую память. Какое еще колесо?
Присел, повел плечами, разгоняя кровь.
— Я, между прочим, снотворное выпил. А по твоей милости придется просыпаться.
Бледные губы Мастера дернулись в усмешке:
— Зачем? Ты уже проснулся, Крабат!
* * *
— Ну не было никакой мельницы! Отец — учитель, дед тоже. И прадед. Сказку про Крабата выдумал Ганс Шигерт, наш лужицкий писатель. Хорошая книжка, мне в детстве очень нравилась.
— Он ее не выдумал. Крабат, твой отец, сам рассказал Шигерту эту историю. Порой молчание — слишком тяжелая ноша, ему хотелось поделиться тайной. Теперь Крабат — ты, старший в семье… Почему? Два с половиной века тому назад твой предок победил меня в честном поединке. Я ушел, а он стал Крабатом. С той поры никто не решился бросить вызов вашей семье. Ты — следующий в череде.
— Поединок? Там, кажется, была какая-то девушка, она должна была узнать своего парня…
— Нет, Крабат, все куда страшнее. Жизнь — не сказка. Не стоит об этом, старая кровь давно высохла. Я потревожил тебя не ради воспоминаний. Тебе велели передать… Велели напомнить.
— Сказку Ганса Шигерта?
— А ты подумай, почему больше двух веков никто не пытался вызвать на поединок твоих предков? Почему они были учителями? Почему полковник Шадовиц вернулся домой, в нашу глушь, а не остался жить в Вене? И почему уехал из дому ты? Уехал — и решил не возвращаться?
— Мне бы твои заботы, Мастер!
— Мне бы твое беспамятство, Крабат!
* * *
Кричать не пришлось. Отомар Шадовиц, давно уже ставший Мареком Шадовым…
(— Марек? Ты что, поляк?
— Я — сорб[17].
— Сорб? Это фамилия такая?)
…проснулся сам — внезапно, словно от толчка. Пару секунд глядел в близкий гладкий потолок, потом вспомнил о недопитом чае. Вставать не хотелось. И жажда куда-то пропала.
…Поезд, купе, огоньки за окном. Все в порядке, все идет, как надо.
Сон не забылся, но вспоминать его не было никакой охоты. И не потому, что кошмар, ничего страшного в давней истории про мельничного подмастерья нет. Но нет и смысла. Байку про Вечного Крабата когда-то рассказал дед, всю жизнь посвятивший изучению сорбского фольклора. Старик был уверен, что Крабатом-Кроатом сорбы-лужичане из Бауцена и Радибора называли полузабытого языческого бога, чье подлинное Имя вслух поминать не след. Так ли это, не так — кто теперь рассудит?
И какая — Himmeldonnerwetter! — разница?
Деду повезло — умер в своей постели при нотариусе и враче в далеком 1917-м, в самый разгар Великой Войны. Через полгода погиб дядя (Итальянский фронт), через год, за месяц до Перемирия — отец (Западный фронт, Шампань)…
…Мать — в 1919-м, от тифа. Грета, младшая сестренка, в 1923-м, когда есть стало нечего. Почему он уехал?! Потомок учителей, не выдержав, сжал кулаки, хрустнул костяшками.
Тебя бы, sch-sch-scheisse, с такими вопросиками в 1923-й, когда брюква лакомством стала! Когда из всех лекарств денег хватало только на йод, когда стреляли под самыми окнами. Когда сестру в фанерном гробу хоронить пришлось!
…Гроб братья сколотили сами. Соседи одолжили лошадь — на погост отвезти. Кто-то сердобольный дал от щедрот две бутыли яблочного шнапса, дабы помянуть согласно обычаю. Опустевший отцовский дом отдали старшей сестре. Ей нужнее — муж-инвалид, да детишек двое.
Братья Шадовицы сели на берлинский поезд в маленьком тихом Бауцене. Новыми фамилиями, а заодно именами (менять так менять!), озаботились заранее, благо писарь в бургомистрате приходился им дальним родичем.
— Но почему — Марек?
— А чтобы немцем не посчитали, брат. Мы — сорбы!
Младший оказался не столь щепетильным…
С тех пор минуло много лет, менялись страны, документы, имена. Крабат, старая сказка, напоминал о себе только в снах. «Иди в Шварцкольм на мельницу! Не пожалеешь!..» Не было мельницы в Шварцкольме! Не было!.. У Мастера Теофила кладбищенский маразм в высшем градусе!..
Он успокоился. Кулаки разжал, выдохнул, закрыл глаза. Стук колес успокаивал, примирял с очевидностью. Все идет как должно, от одной станции до следующей. Нет никакой мельницы, и Крабата нет, и Отомара Шадовица, и даже Марека Шадова. Есть доктор Вольфанг Иоганн Эшке, просим любить, просим жаловать![18]
…Очки с простыми стеклами — в саквояже, на самом дне. Там же парик, несессер и прочие полезные мелочи. Докторишка-то его куда как старше! Отомар Шадовиц (которого здесь нет!) с 1910-го, а почтенный филолог-германист, если документам верить, еще прошлый век захватил. Кашляет, сморкается, да и со слухом не очень. Зато истинный ариец, пробы негде ставить.
Уже засыпая под колесный перестук, он зацепился памятью за некую странность. Мастер Теофил — почему? В книге Ганса Шигерта он просто Мастер — или Мельник.
Дед рассказал? Наверное, дед.
5
Встретились — столкнулись — в курилке сразу после обеда (13.45–14.15 — время для личных потребностей). Курц уже достал сигарету, но зажигалкой щелкнуть не успел.
— У меня… новость у меня! — выдохнул Хинтерштойсер.
Оглянулся недоверчиво:
— Отойдем!
Курилка — площадка возле забора при двух свежевыкрашенных урнах, десять шагов в длину, в ширину и восьми не будет. Устроились возле самого забора, закурили, наскоро глотнув горького дыма.
— Писарь рассказал. Ты его знаешь, Уго Нойнерн из штаба батальона…
— Помню. Вроде не подлец. И что?
Для верности говорили вполголоса. Не на уставном «хохе», а на привычном с детства westmittelbairisch[19]. Мало ли вокруг прусских ушей?
— Ganz plemplem, вот что!
Поймал укоризненный взгляд приятеля, но не смутился.
— А как еще сказать? Мы с тобой в отпуск собирались, да? На Эйгер? Будет нам всем отпуск! В соседнем полку уже заявления пишут — побатальонно. И — в южные края! Не понял?
Курц открыл было рот, дабы подтвердить очевидное…
…Побатальонно — в южные края? Это как?
Рот закрыл. Скрипнул зубами, окурок затоптал.
— В Судеты?
Хинтерштойсер недоуменно моргнул.
— Какие такие Судеты? Отпуск — подарок от командования за отличную службу! Ну, если, конечно, занесет случайно… Берут саперов, артиллеристов — и нас, понятно, горных стрелков. Там же в этом… отпуске — Рудные горы!
— Saugut! — резюмировал Курц. — Сраный Богемский ефрейтор!
Настала очередь Хинтерштойсера глядеть с укоризной.
— Зачем ругать хорошего человека? Это все чехи-мерзавцы! Никаких немецких войск в Судетах нет, Рейх строго соблюдает условия перемирия. А чехи все нарушают и нарушают… Кстати, тех отпускников, которых в цинке привозят, велено записывать в графу «бытовой травматизм». Баллон с газом взорвался, бывает…
Тони, кивнув понимающе, достал сигареты. Спрятал, поглядел странно.
— Знаешь, Андреас, у меня тоже новость. И тоже — про отпуск. Ну, в некоторой степени…
* * *
Горный стрелок Хинтерштойсер в детстве не ругался. В школе — случалось, но не слишком часто. В армии же — покатилось, да так, что и не удержаться. Иной раз хочется что-нибудь хорошее сказать, но губы сами собой двигаются.
— Verfickte!..
— Да прекрати, уши вянут!
— Э-э-э… Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntаtis!..[20] Могу даже спеть, хочешь? Тони, а они там, на почте, ничего не перепутали? Триста марок?!
— Не перепутали. Имя и фамилия мои, адрес верный. А в скобочках, ради полной ясности: «Норванд».
— Где ты ясность видишь? «Ингрид фон Ашберг-Лаутеншлагер Бернсторф цу Андлау». Это сколько же благодетелей — двое или пятеро? Мой бог, триста марок! Мы же теперь двенадцатизубые кошки можем прикупить! Последний писк! И рюкзаки новые, и ботинки с шипами, и…[21]
— Двенадцатизубые брать не будем, тяжелые они, десятизубыми обойдемся. Главное — отпуск! Этот твой Нойнер за полсотни — устроит? Чтобы и подпись, и печать?
— Нойнер? За полсотни марок? Не то слово! Значит что, Тони, рвем когти?
— Понимаешь, на что идем? Начальство все равно нас раскусит. Или трибунал — или пропасть на Эйгере…
— Или отпуск в Судетах. Или — мы на Стене! Первые, самые первые!.. Решайся, Тони!.. «Мы разбивались в дым, и поднимались вновь, и каждый верил: так и надо жить!..»[22] Ну!..
6
«Я-а ста-а-арый профе-е-ессор!»
Нет, не старый. И не профессор. Горбиться не надо, шаркать ногами — тоже. Доктор Эшке — не старый, просто дурной, как и вся ученая публика. Intelligent v galoshah.
Взгляд в зеркало… Плечи… Подбородок. Уже лучше.
Зафиксировали!
Где добрые немцы могут увидеть филолога-германиста? Не на улице же, не на рынке. Разве что в кино — и наверняка в комедии. Экает, бекает и несет чушь, причем пополам с непонятными словами. «Аффикс», «веляризация», «вокализация», «безаффиксный способ словообразования». И еще «гаплология». Хватит? Да за глаза!
Зафиксировали!
Зеркало осталось довольно, почтенный доктор — тоже. Теперь можно и прогуляться. Старомодный костюм размером на номер больше (левый карман отчего-то оттопырен), на носу — очки в роговой оправе, шляпа, тяжелая, черная… Зонтик, тоже черный и тоже изрядного веса…
Для чего зонтик, если на улице — ясный день, а на небе — ни облачка? А если тучи набегут? Как бы чего не вышло! Как это будет по-русски?
Вспомнил, повторил вслух, затем еще раз, поймав неуловимый звук «ch». Остался доволен — не забыл еще!
Guljaem!..
* * *
Русский устный учился легко — эмигрантов из страшной Bol'shevizija в Шанхае можно было встретить всюду. Помог и родной сорбский. Пусть и не очень похож, но все-таки ближе, чем немецкое «кляйне-швайне». То, что в детстве они пели с мамой: «Slodka mlodost', zlotyj chas!» Разве нужен переводчик? Тут «pesma», там — «песня».
Правда, по-русски «Domovina» — не «Родина», а нечто иное совсем… Не страшно, «домовину» и запомнить можно.
С чтением же начались проблемы. Сначала совершенно невозможная «kirilica», потом и того хуже: читать оказалось совершенно нечего. То, что печатали эмигранты в «Шанхайской заре», можно понять сразу, даже не глядя на заголовки. От своих русских приятелей он был наслышан о таинственном поэте по фамилии Pushkin, который, как выяснилось, в ответе за все, даже за не отданные вовремя пять юаней. Только где его, Пушкина, найти в Шанхае?
Вместо Пушкина ему был предложен Чехов. «Человек в футляре», очень смешной рассказ.
Рассказ он прочитал. Задумался. От Достоевского вежливо отказался.
Kak by chego ne vyshlo, gospoda!
Несчастный Беликов, над которым все издевались, а затем спустили с лестницы (обхохотаться можно!), преподавал греческий. Почтенный доктор Эшке, германист, охотно унаследовал его облик. Разве что галоши проигнорировал, хоть и не без сожаления. Дикие края, не поймут!
Отчего германист? Оттого, что документы Вольфанга Иоганна Эшке — самые что ни на есть настоящие. Грех упускать такой шанс.
«Я-а ста-а-арый профе-е-ессор!»
Коридор. Лестница. Вестибюль. Портье — и больше никого. Тихий отель, за то и выбран. Не в самом центре, конечно, зато лишних глаз поменьше.
Ну что, на улицу? К солнышку?
— Простите, вы доктор Эшке?
Девушка… Красивая… Очень красивая!
Ай!
* * *
Если тебе (не придурку Эшке!) двадцать шесть, ты каждое утро отжимаешься сотню раз, аппетит имеешь отменный, а весь последний месяц женщины как-то скользили мимо, даже не задевая, то эта губастая, с огромными глазами…
Вдох! Вы-ы-ыдох!
— Простите, что? А-а! Да-да, фройляйн, ваш покорный слуга!.. Доктор Вольфанг Иоганн Эшке!..
…Платьице серенькое, скромное, из ближайшего магазина, и сумочка (серая) оттуда же, и туфли, и синий поясок. Зато прическа… И кольцо с синим камешком — пояску в цвет.
Ого!
Глазищи… Нет, не смотреть, ясно, что тоже синие. Лоб высокий, чуть не в половину лица, как у Мадонн на средневековых иконах…
Очки поправить. Взор потупить. В глаза-глазищи не смотреть.
Kak by chego ne vyshlo!
— Извините, доктор, что потревожила…
…Ничего, ничего!
— …Я много о вас слыхала, доктор. О ваших исследованиях, о ваших лекциях. Специально приехала из Бонна…
От таких слов филологу-германисту полагалось бы млеть. И заодно — смущаться, нерешительно покашливая и ковыряя носком тяжелого, не по сезону, ботинка ковровую дорожку. Но это — доктору.
…В вестибюле кроме нее и портье — никого. Это хорошо. А то, что стоит совсем рядом — худо. Здесь светло, значит, косметику на лице наверняка заметит. Скорее всего, уже заметила. Женщина!
Лекции и прочие встречи с любопытствующей публикой доктор Эшке старался проводить исключительно по вечерам, заранее озаботившись освещением. Чем меньше его, тем лучше. Скромнее надо быть, господа!
— …Если у вас, конечно, есть свободное время. Всего несколько вопросов.
Есть ли свободное время у доктора? Да сколько угодно! Все нужные дела сделаны еще утром. Вещи — в камеру хранения, таксисту — премию за хорошую скорость. Сначала туда, после обратно. А затем и парик можно надевать.
— Нет-нет, фройляйн, никакого кафе! Я, извините, на строгой диете. Все эти углеводы, они меня просто преследуют!.. Дальше по улице есть сквер, там, кажется, лавочки. Если не возражаете… И, простите великодушно, не расслышал, как вас, фройляйн, звать-величать?
…Не расслышал — потому что не представилась.
— Меня? Вероника… Вероника… Краузе.
Доктор Вольфанг Иоганн Эшке кивнул, вполне удовлетворенный. Шляпу приподнял, отдал поклон. Фамилию губастая придумать определенно забыла. Ай-яй-яй!
Сумочка же фройляйн Вероники опасливому доктору совершенно не понравилась. Какая-то слишком большая и по виду тяжелая. Косметичка столько не весит, а вот пистолет с парой запасных обойм…
* * *
— …В этом нет ничего удивительного, фройляйн! Именно штудии по вопросам гаплологии архаических вариантов средненемецкого языка привели меня прямиком к пришельцам с иных планет. Да-да! То есть, конечно, к тем, кого мы с некоторой долей вероятности можем таковыми счесть…
Прокашляться. «Кхе-кхе-кхе!» И еще раз: «Кхе!» Промокнуть платочком губы…
Malo vas, obrazovannyh, davili!
— Я, видите ли, ученый, а потому всегда осторожен с выводами. Началось же все со знаменитой «Liber Chronicarum» Хартмана Шеделя, которую неучи-студенты вкупе с такими же неучами-репортерами именуют «Нюрнбергской хроникой». Она никакая не Нюрнбергская, но не в том суть…
Лавочка, тенечек, красивая губастая девушка рядом. Можно и слегка расслабиться, даже не слишком думая, о чем вещает зануда-германист. У запасливого доктора имелось на подобный случай несколько граммофонных пластинок. Поставил и пусть себе крутится-вертится, как загадочный «sharf goluboj» из русской песни[23].
— Я решил сравнить два варианта текста: латинский оригинал — и немецкий перевод Георга Альта. Классический образец средненемецкого языка, классический, я вам скажу!.. Взял фрагмент, посвященный правлению Генриха Птицелова. Там есть пассаж о судебном процессе по обвинению некоего золотых дел мастера из Гамбурга в сношениях с Врагом рода человеческого. Да-да! А еще имеется рисунок. Вы наверняка слыхали, фройляйн, что «Liber Chronicarum» великолепно иллюстрирована. Более шести сотен уникальных ксилографий!..
Губастая слушала, не перебивая. Внимала, взор свой синий потупив. Вроде бы все штатно…
…И с глазами-глазищами как-то утряслось. Клин клином вышибают. Фройляйн с наскоро придуманной фамилией («Краузе» — галантерейный магазин рядом с отелем!) хороша, слов нет. Но есть и другие, ничуть не менее глазастые. И губастые. И просто красивые.
А еще есть ОНА.
«У жены нет внешности!» — заметил как-то его шанхайский работодатель мистер Мото[24]. Пятнадцатилетний Марек («Не Марк, сэр! Марек!») поначалу весьма удивлялся. То есть как это, нет?! Потом понял. И сейчас, сидя на тенистой лавочке и не без удовольствия слушая скрип граммофонной пластинки…
— …Именно, именно, уважаемая фройляйн! Дьяволы, равно как прочие выходцы из Инферно, не спускаются с Небес в серебристом ковчеге. Неспроста король не решился осудить ювелира, но отписал папе Иоанну, прося совета. Художник же, по-моему, просто растерялся, не зная, как все сие изобразить…
…он еле заметно прикрыл глаза, представил себе яркий, пронизанный солнечными лучами витраж в храме при германском консульстве, что сразу за мостом через желтую Сучжоухэ, ЕЕ руку в белой перчатке, скромную коробочку с кольцами в синем бархате.
У жены нет внешности. ОНА просто есть.
Не твой шанс, губастая!
— …Подробности же, уважаемая фройляйн, я постараюсь изложить на сегодняшней лекции, равно и то, что в самое последнее время удалось узнать моим коллегам из Соединенных Штатов Америки. Рад буду вас видеть…
— Как получится, доктор. Честно говоря, сказками я и в детстве не очень увлекалась. Хотя рассказываете вы интересно… Особенно, когда кашлять забываете.
Оп-па!..
Повернулась резко, ударила синим взглядом.
— На первый вопрос вы ответили, доктор Эшке. Спасибо! Сейчас, если не возражаете, вопрос номер два. Вы это видели?
Щелк! Серая сумка послушно отворила свой зев. Пистолет?
Нет, всего лишь книжка.
* * *
Стыдно сказать, но английский язык Марек Шадов толком так и не выучил. В школе штудировал французский, попав в Шанхай, взялся за местный диалект китайского. Потом пришлось освоить и кантонский, на котором изъяснялись в порту, а заодно и русский с итальянским. Хотел всерьез заняться японским, но мистер Мото отсоветовал, подарив на Рождество военный разговорник.
«Буки-о сутэро! Тэ-о агэро!..»[25]
Коротко и ясно. О чем еще с самураями болтать?
«Сутеро» и «агэро» Марек на всякий случай запомнил, добавив для коллекции еще и красивую фразу про негров: «Нигэру-то уцудзо!» Работодатель посоветовал отшлифовать произношение, но в целом остался доволен.
Мистер Мото был очень странным японцем. И не только потому, что упорно не желал именоваться «Мото-саном».
С английским же не заладилось. Ругаться выходило как-то само собой, газетные заголовки были тоже понятны, но дальше громоздилась Великая лингвистическая стена. Мистер Мото не видел в том особой беды. Для Шанхая вполне хватало портового «пиджина», не знать который просто стыдно. А чтобы Марек не расстраивался, работодатель пояснил, что «пиджин инглиш» — отнюдь не язык Шекспира, адаптированный для пингвинов. Название идет от устарелого «Beijin» — «Пекин». Если уж для столицы годится, то и для всей Поднебесной — в самый раз.
Доктор Эшке лихо перевел название («Реванш Капитана Астероида», ого!), подивился чудищам на обложке и без всякого удовольствия скользнул взглядом по первой странице, попытавшись продраться через строй малознакомых слов.
«Mighty… Могучий… могучие двигатели… giant… гигантского… titanic… Титанового? Титанического? Титанового планетобуса… rattled… грохотали в… black thick vacuum… в черном густом вакууме…»
Где грохотали?![26]
— И что? Фройляйн, но это же, извиняюсь… э-э-э… чтиво! Так называемая фан-та-сти-ка! Мы же с вами культурные люди!
Вероника Краузе («Фирма Краузе — иголки для швейных машинок!») взглянула виновато:
— Ох, простите, доктор! Но вы только что с таким старанием пересказали журнальную статью, которую я читала еще в школе. Да-да, про «Liber Chronicarum» Хартмана Шеделя и серебристый небесный ковчег Генриха Птицелова. Кстати, журнал был юмористический.
Почтенный доктор сглотнул… Приосанился.
— Ничего удивительного, фройляйн. В годы Империи при полном отсутствии свободы слова правду приходилось говорить с улыбкой. Эзопов язык! Да-да!.. Статью в «Кривом зеркале», которую вы имели в виду, написал не какой-то щелкоперишка, а известный…
Ее ладонь опустилась на книжную обложку. Остро блеснул синий камень.
— Знаю, доктор. История с Генрихом Птицеловом и в самом деле забавна, хотя гостей с других планет там конечно же не было. Но я хочу показать вам кое-что свежее.
Филолог-германист обиженно засопел:
— Простите, это? Эту… м-макулатуру?
— Прощаю! — взглянула без улыбки, убрала ладонь. — А теперь слушайте!..
* * *
— Напрасно курите, Вероника! — заметил Марек Шадов, покосившись на серебряную сигаретницу, только что извлеченную из недр серой сумки. — Исхожу из собственного опыта. Мы с братом начали курить в шесть, бросили в восемь.
— В восемь часов? — улыбнулась она, щелкая зажигалкой. — Утра или вечера?
…В 1918-м, когда начали считать последние пфенниги.
— Конечно же вечера!
«Фройляйн» куда-то сгинула, исчез и кашель вместе с «да-да». Филолог-германист даже слегка помолодел. Вероника Краузе, однако, отнеслась к метаморфозе без малейшего удивления. Привыкла, видать, к чудесам.
— Не обращайте внимания, — немного помолчав, добавил он. — Это у меня хроническое — насчет никотина. Падчерица начала курить как раз в восемь. Не часов, Вероника, — лет. Два года веду разъяснительную работу без малейших шансов на успех.
Девушка повертела в руках сигарету, взглянула в сторону ближайшей урны.
— Нет, все-таки докурю… В восемь лет? Сочувствую, доктор. Я начала в четырнадцать. Сначала меня воспитывала мама, потом — тренер… Все понимаю, но когда прыгнешь затяжным с пяти километров, рука сама тянется к зажигалке. Не шнапсом же стресс снимать!.. Доктор! Надо все же разобраться. Итак, вы не читали книжки про Капитана Астероида. Охотно верю, чушь редкостная. Но почему в ваших лекциях говорится о том же самом? Инопланетная техника — откуда?
Доктор мотнул головой…
…Парик, осторожно!
— Вы уж спросите, так спросите! Из других книжек, вероятно. Сам я с инопланетянами пока не встречался. Но… Совпадений много?
— Давайте считать, доктор.
Филолог-германист послушно раскрыл ладонь. Первый палец…
* * *
Инопланетянами он занялся совершенно случайно. Вначале просто ездил по делам, из города в город, превращаясь время от времени в чудаковатого доктора. Шанхай научил многому, в том числе и тому, что скрываться можно по-всякому. Или слиться с уличной толпой — или пройти сквозь нее на ходулях, звеня в бубен. Второе куда надежнее. Кто станет проверять документы у клоуна?
Рейх, увы, не Поднебесная — документы спрашивали постоянно. Особых подозрений блуждающий доктор пока не вызывал, но риск все же был, и немалый. Выход, однако, имелся: следовало записаться в клоуны уже официально, получить бумагу с печатью — и звенеть в бубен в полном соответствии с законом.
«Я-а ста-а-арый профе-е-ессор!»
Прежде всего требовалось узнать, где у здешних клоунов лежбище. Таковое обнаружилось в Баварии, в маленьком городке Вайшенфельд. Именовалось оно многословно: «Немецкое общество по изучению древней германской истории и наследия предков». Если же коротко, то просто «Старина».
«Аненербе»[27].
Марека (то есть, конечно, почтенного доктора) предупредили, чтобы он был осторожен. Клоуны оказались злого нрава — не из цирка, а из голливудского фильма ужасов.
…Один такой, с Лоном Чейни и Лореттой Янг, довелось увидеть в Шанхае, в новом кинотеатре на знаменитой «барной» улице Хэншаньлу.
«Laugh, Clown, Laugh!»[28]
Белый клоун-неудачник, изгнанный из родного бродячего цирка за пьянство, находит в придорожном кювете подкидыша, девочку-младенца. Плохо ли, хорошо ли, но растит ее, пока та не оборачивается прелестной юной девой. Тут и появляется некто в маске и черном плаще, возжелавший невинной крови ради своего беззаконного Владыки. Негодяй тоже циркач и тоже клоун.
Черный клоун.
Несчастную похищают, волокут на старое кладбище, дабы распять посреди горящей пентаграммы. Тот, что в плаще и маске (клоунской!), готовит каменный нож…
Само собой, протрезвевший приемный отец вкупе с мужественным юношей-циркачом поспевают вовремя. Злодея-клоуна толкают в центр пентаграммы, ночь исчезает в яркой вспышке пламени…
Фильм был старым, немым, и заключительное «Ха! Ха! Ха!» темного Владыки было запечатлено на титрах, как раз перед «зе эндом» и финальным таперским аккордом.
«Смейся, клоун, смейся!»
В Вайшенфельде Мареку стало не до смеха. Там собрались даже не клоуны, а деревенские сумасшедшие, которых для чего-то отловили по всей Германии. Беззаконный же их Владыка в миру именовался Генрихом Луйтпольдом Гиммлером, рейхсфюрером СС.
«Старина» доктору Эшке определенно не понравилась. Зато сам доктор очень понравился «Старине».
7
— Простите, мадам! — пожилой усатый таксист оборачивается, вздыхает виновато. — Ничего нельзя поделать, мадам, придется обождать.
Женщина не отвечает, лишь устало опускает веки. Перелет до Парижа вымотал до самого донышка, забрав последние силы. Хотелось упасть на кровать, на дорогое гостиничное покрывало, прямо как есть, даже не снимая туфель, и спать, спать, спать… Номер-люкс в отеле был заказан заранее, из Орли она перезвонила, попросив к ее приезду наполнить ванну с мускусным ароматом…
Толпа — глухая многоглавая стена поперек всей улицы. Не объехать, даже не обойти, на соседних тоже люди, десятки, сотни, тысячи… Транспаранты, плакаты, затоптанные листовки по всему асфальту, тонкая цепочка растерянных полицейских-ажанов.
Париж сошел с ума…
— Придется обождать, мадам! — вновь вздыхает таксист. — Это стихия, мадам!
На усатом лице — нежданная улыбка.
— Зато мы им всем показали, мадам! Будут знать, фашисты!..
— Что показали? — не думая, переспрашивает она, но тут же спохватывается: — Простите, совершенно не разбираюсь в политике.
Улыбка сменяется искренним, до глубины зрачков, изумлением:
— Но как же, мадам! Мюнхен! Конференция, которую хотели собрать боши и этот макаронник Муссолини! Мы не пустили туда Леона Блюма[29], нечего к фашистам на поклон ездить. И чехи не поехали, отказались, старик Масарик отговорил их президента. Молодцы, проявили характер. Мерзавец Гитлер и англичанишки-овсянники остались ни с чем!.. Неужели вы не слышите, мадам?
Не слышит. Толпа глуха, но не лишена голоса, однако для нее все, что творится под горячим парижским солнцем, — всего лишь далекий невнятный шум.
…Что там на ближайшем транспаранте? «Да здравствует правительство Народного фронта!» Правительству-то ничего не сделается, о себе бы подумали…
— Франция снова едина, мадам! — чеканит усатый таксист. — Как в славном сентябре 1914-го! О, мадам, я был тогда мальчишкой, но такое вовек не забыть…
Умолкает, смотрит внимательно на пассажирку. Затем открывает дверцу, оглядывается.
— Может, вызвать врача, мадам? Здесь рядом бистро, там наверняка знают, где ближайший квартирует. «Скорой»-то не подъехать…
Она с трудом разлепляет непослушные губы:
— Врача? Нет, не надо. Бистро… Можно чашку кофе? Только покрепче.
Шофер что-то отвечает, но слова тонут в подступившем шуме. Веки становятся каменными, холодеет плечо. Рука мертвеца давит, прижимает к мягкой коже сиденья, не дает вздохнуть…
* * *
— …Я тебя создал, сотворил из ничего, из праха. Кем ты была пятнадцать лет назад, когда мы встретились в Шанхае? Проституткой из портового борделя, которая ничего не умела и всего боялась!
— А я тебя убила. Мы квиты.
Губы не двигаются, и она отвечает беззвучно. Услышит!
— Но за что? Я научил тебя всему, что знал и умел. Ты — моя правая рука. Я не стал возражать, даже когда ты вышла замуж за этого сопляка! Пальцем не тронул — ни его, ни тебя, ни твоего ребенка.
Боль растекается по плечу, ледяные пальцы впиваются в плоть. Она находит в себе силы и рывком сбрасывает мертвую ладонь.
— Если бы ты посмел тронуть Гертруду, то не умер бы легко!.. А так — ничего личного, просто business, как говорят янки. Наши финансовые планы не совпали в некоторых пунктах. Если бы ты начал операцию сейчас, как задумывал, мы бы разорились. Я пыталась тебя переубедить…
Мертвецы тоже способны удивляться. Холодные пальцы скользят по щеке, касаются шеи. Женщина невольно вздрагивает.
— Выходит, я погиб из-за твоей глупости? Все рассчитано верно. Большая война начнется со дня на день, и наши деньги закрутятся…
— Никакой войны не будет, — резко перебивает она. — Надо выждать еще года три — и вкладывать, вкладывать, вкладывать! А заодно зарабатывать на том, что есть. Война кормит войну — ты сам меня учил…
Ответ звучит глухо, еле слышно, словно из несусветной дали.
— Ты хорошо выучилась, шлюха!
— А ты ничуть не поумнел, подонок!
Тишина. Молчание. Холод.
— Мадам! Мадам!.. Ваш кофе, самый-самый крепкий.
Она с трудом открывает глаза, но в первый миг видит не кофе, а букет фиалок. На стебельках — маленькие капельки-бриллианты.
— Не огорчайтесь, мадам! — усач-таксист улыбается. — Все будет хорошо!
Она улыбается в ответ, берет цветы.
— Спасибо!
Париж остается Парижем.
8
— …Кошки, айсбайли, карабины, короткие и длинные ледорубы, две веревки по тридцать метров, репшнуры…
Чистка укороченной винтовки Mauser 98k[30] требует внимания, сосредоточенности и, естественно, полного молчания. Особенно если взор обер-фельдфебеля так и норовит просверлить твой затылок. К счастью, народу в оружейке много, и начальству поневоле приходится отвлекаться на иных желающих поболтать в непредусмотренное уставом время. Техника давно отработана: фельдфебель отвернулся — рядовой Тони Курц мигает…
— Две бензиновые горелки, к ним — литр бензина… Нет, лучше два. Пачка сухого спирта…
…Фельдфебель вновь весь внимание — Курц опять мигает, но уже два раза.
— На все про все — шестьдесят марок с хвостом. Билеты на поезд — еще по пятнадцать с носа.
Докладывает рядовой Андреас Хинтерштойсер — ясно, четко и по делу. Шепотом, но внятно. Бумажка с тезисами, вся в ружейном масле, под правой ладонью. Поглядел — и дальше излагает:
— …Еще бы палатку новую. Наша, сам знаешь, как после обстрела. Дорого, конечно…
Рядовой Тони Курц с сослуживцем не согласен, но от обсуждения временно уклоняется — мигает со значением. Два раза.
Губы Андреаса беззвучно произносят нечто, уставом совершенно не одобряемое, но делать нечего. Глаза округлить, плечи выпрямить… Затылку становится жарко.
…Ударник взводим, ставим флажок предохранителя вертикально. Затворную задержку — влево. Удерживаем, вынимаем затвор…
Буквочка «k» в названии тяжелой желязки — вовсе не «карабин», как думают штатские штафирки, а «Kurz» — «короткий». Рядовому Курцу — можно сказать, тезка.
— Хинтер-р-рштойсер-р-р! Почему так медленно?
…Подбородок вверх!
— Виноват, господин обер-фельдфебель! Стараюсь, чтобы тщательнее было!..
…Крышку магазинной коробки вместе с подающим механизмом отделяем… Тщательнее, еще тщательнее…
Курц (к счастью, не винтовка, а Тони) мигает. Magnus Dominus noster et magna virtus eius!..
— Про палатку, Андреас, забудь. Ты еще предложи в отеле поселиться!
Хинтерштойсер еле заметно пожимает плечами. Ладно! Хотя была, была такая мыслишка. Пусть и не в люксе…
— Нам «морковок» побольше надо, на Первом Ледовом поле их через шаг бить придется. И еще… Слыхал о «кошках» с передними зубьями? Которые Лорен Гривель выдумал? Итальянец?
Консерватор Хинтерштойсер пренебрежительно дергает носом. Итальянец, ха!
— Не кривись! — Курц суров, словно тезка «Kurz». — В Берне закажем. Если получится, сам сделаю, невелик труд.
Андреас не спорит. Пусть будут с зубьями! Не это его беспокоит.
— Тони, а кто приедет? Слыхал, что Бартоло Сандри и Марио Менти…
Сигнал!.. Два раза!
…Берем выколотку… Где она? Вот она… А дальше чего? Защелку крышки магазинной коробки — утопить, подать назад… Первая попытка…
— Хинтер-р-рштойсер-р-р! Даю вводную! Вр-р-раг злодейски похитил набор инстр-р-рументов. Ваши действия?
— Попытаюсь похитить инструменты взад, господин оберфельдфебель! Если не получится, вместо выколотки использую патрон!.. Рядовой Хинтерштойсер неполную разборку закончил. Разрешите приступить к чистке?
…Сигнал! Слава богу!..
— Кроме Сандри и Менти будет еще пара итальянцев, не из «категории шесть». А еще французы из группы «Бло» — те, что скальные блоки освоили. Вроде бы сам Пьер Аллэн собирается. И австрийцы, этих шестеро, Вилли Ангерера и Эдгара Райнера ты знаешь… И никому трибунал не грозит, завидно! Андреас! Я сейчас прикинул… Если попадемся, не только нам достанется по полной, но и родичам всем, ближним, дальним. Давай еще подумаем, не будем спешить…
— Гор-р-рный стр-р-релок Хинтер-р-рштойсер-р-р! Гор-р-рный стр-р-релок Кур-р-рц!..
Попали… Смир-рно!..
Господин обер-фельдфебель суров, но справедлив. Не зол, ско рее, огорчен донельзя.
— Хитр-р-рости ваши, гор-р-рные стр-р-релки, только в р-р-рогоже пр-р-рятать. О чем болтать изволили? Опять о гор-р-рах?
Горным стрелкам не положено лгать!
— Так точно, господин обер-фельдфебель! — в единый голос.
Начальство кивает (чего еще от таких ожидать?), глядит снисходительно.
— И о чем конкр-р-ретно? Говор-р-рите пр-р-равду, мне в самом деле интер-р-ресно. Посмотр-р-ришь на вас со стор-р-роны — пр-р-риличные р-р-ребята, хоть и бавар-р-рцы, пр-р-ри голове, пр-р-ри р-р-руках. Но вы же ненор-р-рмальные! Психи!.. Так о чем думали-то?
Психи переглядываются. Правду тебе, пр-р-руссак?
— Бог создал горы не для того, чтобы на них взбирались люди. Но мы с Ним не согласны! — Курц.
— Если Стену надо пройти, мы пройдем ее — или останемся на ней! — Хинтерштойсер.
9
— Генерал Янг обязательно должен купить эти винтовки. Понимаете, Марек? Их должны перевезти, сгрузить, а главное — вручить вам расписку. И обязательно — с личной печатью генерала. Она красная, не спутайте.
Мистер Мото был как всегда невозмутим и как всегда изящен. Дорогой белый костюм, рубашка лучшего шелка в тон, короткие, слегка напомаженные волосы цвета вороньего крыла. В плечах крепок, ростом невелик, на широком смуглом лице — слегка искривленный нос.
Глаза раскосые — японец все-таки, пусть и странный. А вот цвет не угадать, днем один, вечером иной совсем.
— Я бы сам поехал, но генерал Янг меня хорошо знает. Вы пока — человек новый. Справитесь? И запомните — красная печать. Красная!
Мареку Шадову уже девятнадцать, по здешним меркам — взрослее взрослого. Пятый год в Шанхае — и все еще жив, многим на зависть и на удивление. Освоился, обжился, иероглифов помнит две сотни. Но генерал Янг…
— Это он сказал, что китайцы привыкли умирать, но не привыкли платить налоги?
Мистер Мото не ответил, лишь поглядел недобро. Много чего Янг успел наговорить. А уж когда доходило до дел…
Марек Шадов набрал в грудь побольше воздуха:
— С-согласен! Но… Мистер Мото, я никогда не продавал винтовки!
Работодатель внезапно оскалился — беззвучно, но весело.
— Бросьте, Марек! Вы будете продавать не винтовки, а самого себя. Улыбайтесь почаще!..
В Вайшенфельде доктор Эшке улыбался вдвое слаще обычного, однако не тем оказался мил. В «Старине» ученые степени были редкостью. Университетская наука обходила «Немецкое общество» стороной, причем по большой дуге, дабы не испачкаться. Герман Вирт, самый главный клоун, был, правда, и доктором, и филологом, но не по германистике, а по современной нидерландской поэзии. Для «наследия предков» как-то мелковато.
За дипломированного германиста Вольфанга Иоганна Эшке ухватились в четыре руки — и не отпускали, пока гость не дал согласия прочесть цикл лекций по градам и весям Фатерланда, как полноправный и законный представитель «Старины». Темы навязывать не стали — почтенному доктору виднее. Лишь бы все было германисто и наследно-исторично.
Бланк, подпись, печать первая, печать вторая… Гуляй, клоун! Хоть пешком, хоть на ходулях.
«Я-а ста-а-арый профе-е-ессор!»
Инопланетяне же возникли в силу суровой необходимости. Чем еще заманить на лекцию загруженных земными заботами сограждан? Не деструктивными же процессами в обществе гиперборейской нордической расы! Этак и железнодорожный билет не окупишь!..
«Война кормит войну», — говаривал один шанхайский знакомец Марека Шадова.
* * *
— Всего одно точное совпадение, Вероника. Ни о «параболоиде», ни об атомной бомбе я нигде ничего не говорил — равно как о Луче Смерти и подземной лодке. В лекциях я упоминал летательный антигравитационный аппарат — пояс и небольшой ранец за спиной. Его нашла русская экспедиция в районе реки Тунгуски. Это память о визите с 61-й Лебедя, состоявшимся, как всем нам известно, 30 июня 1908 года[31]. Насколько я понял, чем-то подобным обзавелся и Капитан Астероид?
— Да, в третьей книге. Именно с помощью такого ранца была спасена красавица Кейт.
— Рад за нее. Откуда я это взял? Из книги, естественно. Некий герр Семенов, повесть называется «Plenniki Zemli»…[32]
— Доктор! Вы читаете фан-тас-ти-ку? Эту… м-макулатуру?
— Кхе-кхе-кхе!.. Э-э-э… Ну, как вам сказать, фройляйн… Кхе!.. Я, видите ли, решил выучить русский язык, но в тех далеких… э-э-э… краях с книгами было трудно…
— Не смущайтесь! Бывает и хорошая фантастика. К сожалению, именно ею сейчас и занялись. Какие-то мудрецы в Берлине вообразили, что все это: пришельцы, инопланетная техника и, что самое главное, инопланетное оружие и в самом деле существует. И не просто вообразили. Идут аресты, доктор! Этим занимается не криминальная полиция, а «стапо»[33]. Понимаете?
— Еще не совсем, но, кажется, начинаю проникаться. Но… зачем? Даже если мне сломают ребра и заставят признаться в шпионаже в пользу 61-й Лебедя — какой в этом смысл?
— Никакого, доктор. Как и в сломанных ребрах. Нехорошо обманывать ожидания поклонников вашего красноречия, но сегодняшнюю лекцию я бы советовала отменить. И в отель не возвращаться.
— А как же мой летательный ранец в чемодане с потайным дном?
— Могу одолжить помело. Вполне в духе «Аненербе». И… У меня к вам просьба, доктор, несколько неожиданная. Вы стараетесь не смотреть мне в глаза. Ваше право, но я бы все-таки попросила… Два вопроса — «face to face». Согласны?
— С английским у меня не очень, но… Согласен!
— «Бегущие с волками». Знаете, кто это?
— Нет.
— Общество «Врил»?[34]
— Увы!
— Мария Оршич?
— А это уже третий вопрос, фройляйн! Нет, и ее не знаю. И еще раз — увы! Как человек давно и глубоко женатый, я даже не могу намекнуть, насколько у вас красивые глаза.
— Не беда. Зато какой-то женщине очень и очень повезло… Кстати, Вольфанг Иоганн Эшке, специалист по древнегерманской литературе, вступил в общество «Врил» в июле 1920-го. Тогда ему было сорок три. Прекрасно сохранились, доктор!
— Чудеса инопланетной медицины, фройляйн! Кстати, «Краузе» — это галантерея или иголки для швейных машинок?
* * *
— …А выглядят Вознесенные Владыки с планеты Венера приблизительно так, — пальцы привычно коснулись зубчатого колесика на боку трудяги-алоскопа[35]. — Во всяком случае, по мнению уважаемого герра Балларда…
Оглядываться не стал — смотреть на зал было куда интереснее. Две-три секунды недоуменного молчания и…
Хохот.
Доктор Эшке и сам улыбнулся. Шутить — так шутить! Калифорниец Гай Баллард, конечно, сумасшедший и регулярно общается с графом Сен-Жерменом, но картина родом не с Западного побережья США, а прямиком из запасников берлинской Национальной галереи. Из экспозиции изъята, будучи причисленной к «дегенеративному искусству».
Наглядность — скелет лекции. Почтенный филолог-германист очень гордился подборкой иллюстраций, переснятой на фотопленку «Agfacolor-Neu». Просто и удобно: извлек из аппарата, свернул, уложил в коробочку…
Отсмеялись… Картинка и в самом деле выглядела чудовищно. Художник был почему-то уверен, что это «Синие женщины на велосипедах посреди красного пляжа».
— Мне и самому весело, господа. Однако давайте подумаем. Над рассказами об инопланетянах принято смеяться. Но смех, как вам всем известно, не только признак хорошего настроения, но и защитная реакция нашей бедной психики. Проще высмеять, нежели разобраться. Не так давно мысль, что Земля круглая, тоже казалась нелепой. Если мы живем на шаре — то отчего не падаем?
Губастой девушки в главном зале лектория общества «Сила через радость» не было. Доктор специально потратил лишнюю минуту перед началом, пытаясь найти Веронику среди густой толпы, заполнившей все ряды и даже приставные стулья в проходах. Не пришла! Но кашель все равно пропал, равно как эканье с беканьем. Отомару Шадовицу, потомственному учителю, не довелось поработать в школьном классе. Вначале это даже радовало, но потом пришло неясное, смутное беспокойство. Словно он что-то упустил, потерял, прошел мимо.
«Крабат!.. Иди в Шварцкольм на мельницу! Не пожалеешь!..»
— Да, господа, тысячу лет назад мы не знали, что наша планета круглая. Пятьсот лет назад все были уверены, что Солнце вращается вокруг Земли. О разумных существах на других планетах писал Джордано Бруно. Вспомните, что с ним случилось!..
Четырехлетний Отомар однажды упросил отца взять его на урок. Наслушался — и захотел сам увидеть. Отец почему-то засмущался, принялся отнекиваться, но в конце концов взял старшего с собой. Ничего особенного, рядовой урок родной словесности. В те далекие годы на сорбском языке еще разрешали преподавать.
Урок поразил. Ничего нового Отомар не узнал, буквы ему и так были знакомы, но отец… Дома он всегда был веселым и добродушным, любил пошутить, порой смущая строгую маму. В классе же он стал другим. Даже голос, такой привычный и родной…
— Еще сорок лет назад, господа, вашим уважаемым родителям учителя объясняли, что слово «атом» означает «неделимый», а если точнее — «неразрезаемый». Наименьшая частичка материи, кирпичик мироздания. А потом — бац!..
«Бац!» — это линейкой по столу. Вполсилы, но для эффекта вполне достаточно. Слово «электрон» можно и не произносить, сразу с трех мест выкрикнули.
— Как вы думаете, господа, что мы узнаем завтра?
Кульминация — несколько секунд тишины. Доктор Эшке с трудом сдержал улыбку. Мистер Мото прав, он продает не винтовки, не сказки про пришельцев с Венеры. Гордыня, конечно, смертный грех, но если не слишком часто, по чуть-чуть… Война кормит войну, лишние рейхсмарки карман не тянут. Но разве в них только дело?
Доктор Эшке оглядел притихший зал, поправил капюшон синей мантии, которую надевал перед каждой лекцией, без особой нужды поглядел в темный потолок. Все? Да, пожалуй, все. За кульминацией — развязка. Она может быть всякой, но чаще всего приходится отвечать на вопросы, причем одни и те же. Ответы доктор помнил наизусть, ночью разбудят, не спутает…
— Завтра мы узнаем много интересного, господин Эшке. И, прежде всего, лично о вас… Дамы! Господа! Прошу всех оставаться на своих местах и не делать резких движений!..
Полутемный зал, три силуэта возле открытых дверей, за ними — еще двое. Все в штатском, но полицию всегда узнаешь.
— А вы, господин Эшке, прекращайте ваш цирк!
Вольфанг Иоганн Эшке крепко обиделся.
Цирк, говорите?
Глава 2. Цирк доктора Эшке
Фрауэнфельд. — Каучуковый шарик. — «Среди туманных гор, среди холодных скал…» — «Титаниквальс». — Вечерняя Звезда и Блистающий Славой. — Крючья и веревка. — Письмо Снежной Королевы. — Герда.
1
Сигарета никак не хотела загораться. Потом все-таки зажглась, задымила — и лопнула прямо возле указательного пальца.
— Arschgefickter Weihnachtsmann![36] — рассудил горный стрелок Хинтерштойсер.
В штаб батальона Андреас забежал после ужина. Уго Нойнерн уже поджидал — отвел в сторону и объяснил, что делать, предварительно уточнив сумму, полагавшуюся ему за хлопоты. Сошлись на сорока марках, и Хинтерштойсер мысленно похвалил собственную бережливость. «Десятка» в прибытке, совсем неплохо!
Писарский план был прост. Вечером, после отбоя, вражина-оберфельдфебель отбудет из части по семейным делам и вернется лишь на следующий день к вечеру. Замещать его станет тоже фельдфебель, но обычный, без «обера». Этот ничего не разрешит, но и запрещать не будет, а отправит по начальству — прямиком в батальонный штаб. Все прочее Нойнерн брал на себя — и разрешение на отпуск в связи с женитьбой, и нужные числа на бланке. Не три дня, как обычно, а целая неделя!
Писаря — люди незаменимые, никто их не любит, но все им должны.
Хинтерштойсер план полностью одобрил, хотя и знал, что недели не хватит. Все равно спохватятся и начнут искать. Но не сразу, а это уже неплохо.
Ударили по рукам. Андреас, считай, от чистого сердца воздал хвалу писарской мудрости. Нойнерн, слегка возгордившись, заявил, что отпуск — дело нужное, однако простое, на месяц ареста. А вот за кое-какие сведения — прямиком из штаба дивизии — легко и под трибунал угодить. Хинтерштойсер, конечно, свой в доску, ему знать положено. Но — только ему!
Андреас поклялся всем, чем можно и нельзя, выслушал…
…Скушали, называется, салатик!
Судеты отменялись. Заявления на отпуск было велено отложить в отдельную папку и запечатать, полк же готовить к выступлению в совсем ином направлении. Причем немедленно, даже до получения официального приказа.
Фрауэнфельд…
Писарь не был силен в географии, но рассудил здраво. Австрия, южный сосед! Недаром ее поминают в каждом номере «Фолькише беобахтер». Причем если раньше писали на третьей полосе, то в последние дни — исключительно на первой. Через неделю с небольшим — плебисцит по поводу «аншлюса», долгожданного объединения с Фатерландом, значит, пришло время выдвигать войска, пока австрияки (знаем мы их!) не раздумали. Гор там хватает, посему стрелкам самое место в первом эшелоне.
Хинтерштойсер спорить не стал, однако в отличие от мудрого писаря географию знал неплохо.
…Эйгер — горная вершина в Бернских Альпах, высота 3970 метров над уровнем моря, находится на территории кантона Берн, Швейцарская Конфедерация. Фрауэнфельд — столица кантона Тургау, что на северо-востоке все той же Швейцарской Конфедерации. От немецкой границы — всего ничего: до Меррисхаузена «железкой», затем до Шаффхаузена, а дальше — по шоссе, не промахнешься. В Тургау гор, считай, и нет, а вот южнее… Вперед, горные стрелки!
И что же выходит? Они с Курцем убегают, а за ними вдогон — целый полк? Или даже не полк? Слух-то из штаба дивизии приполз!
Хинтерштойсер достал новую сигарету, помял между пальцев.
Лопнула…
— Verdammte Scheisse!
Рассудил: надо обязательно рассказать Курцу. Дьявол с ней, с клятвой!..
…Рассказать? А кому от этого легче станет?
2
Свет в зале доктор Эшке включил сам. Гости все-таки, да и распределительный щит как раз за спиной.
Да будет!..
Сгинул полумрак, выжженный желтым огнем. Ничего не прячем, все на виду!
…Зал, полный народа (кто сидит, кто уже встать успел), кафедра, рядом с нею — стол, на нем — алоскоп, серый корпус, витой провод. Рядом — графин при стакане. Дальше — стулья, за ними стена.
Экран — белое полотно, огнетушитель, распределительный щит. Левее — четырехугольный репродуктор тяжелой темной жести. Нужен зачем? «Сила через радость» молодежь уму-разуму учит, чтобы по жизни верной дорогой шла. Как в таком деле без репродуктора? «Внимание! Внимание! Воздушная тревога!..»
Левее, ближе к окну — еще одна дверь. За ней — комнатушка, где гости верхнюю одежду оставляют. Не спрятаться и не убежать, разве что сквозь стену.
Лектор — синяя мантия, капюшон до самого носа. Правая рука под пологом, в том самом кармане, что оттопырен с излишком.
Гости.
Впереди толстяк в дорогом черном костюме, чуть дальше, у двери и за дверью — остальные, плотью пожиже, костюмами поплоше.
Доктор Эшке поправил капюшон, дернул стеклышками очков.
— Прошу в наш цирк, майне геррен!
Толстяк скривил физиономию, но приглашению внял, сделав шаг вперед. Огляделся, поднял руку, блеснув камнем в дорогом тяжелом перстне.
— Дамы и господа! Из зала выходить по одному, не толпиться, сопротивления не оказывать, приготовить документы для проверки!..
Переждал шум, ухмыльнулся и только потом поглядел назад.
— Фокус! — кивнул ему доктор Эшке. — Следите за руками!..
Толстяк хотел было высказаться, но только и успел, что рот открыть. Так и замер, отвесив челюсть.
— Ай! — выговорила дама в третьем ряду.
На докторской ладони — черный, как ад, шар. Небольшой, с мяч для тенниса. Увесистый. По ровной поверхности — трещинки-паутинки.
— Бомба! — рассудили на пятом. — Инопланетная!..
Вот уже и вскочили, сейчас заорут, рванутся к дверям…
Рука с черным шаром взметнулась вверх:
— Успокойтесь, господа, — стекла очков сверкнули, отразив желтый электрический огонь. — Это всего лишь каучук. Сырой, а если по-научному — невулканизированный.
Поднял повыше, ударил голосом:
— Фокус очень простой, господа. Объясняю…
— А-а! — начал было толстяк.
Доктор резко повернулся:
— Вам бомба нужна? Друзья, наш гость хочет…
— Не надо! Не надо! — выдохнул зал. — Фокус! Фокус, пожалуйста!..
Вольфанг Иоганн Эшке улыбнулся:
— С удовольствием!.. Итак, это обычный натуральный каучук…
* * *
— Хорошо, — не стал спорить Марек. — Я подожду.
Письмо от мистера Мото требовалось передать немедленно, причем лично в руки, однако молодой человек уже успел изучить здешних китайцев. Упрямые, хоть из пушек в упор стреляй. Его «немедленно» для этих крепких худых парней — пустой звук. Наставник Дэн занят — и точка. Жди — и терпи.
Он оглянулся по сторонам, надеясь увидеть если не стул (откуда ему здесь взяться?), то хотя бы табурет. Да где там! Сарай сараем, разве что пол подметен и циновками выстлан.
— Если хотите, можете пройти в зал, — без особой охоты предложил особо желтый крепыш. — Наставник Дэн не будет возражать.
В зал так в зал. А точнее — в самую глубину сарая. Хорошо хоть не дворцом назвали!
Китайцы, что с них взять?
В «восточную мудрость» Марек и прежде, в школьном детстве, не слишком верил. Были б мудрыми — делили бы меж собой Европу, а не терпели чужаков в собственном доме. Красиво болтать все мы горазды! И прочее, чем иные европейцы восхищались, ему было не слишком по душе. Вот, скажем, сарай, удел великого и знаменитого наставника Дэна. Чем в нем занимаются эти ребята? Говорят, учатся друг другу руки-ноги ломать. Дело полезное, но разве так тренироваться надо? Сядут на циновки, глаза закроют — и рассуждать начинают. Пролезла, мол, корова, через дыру в заборе, а хвост застрял. К чему бы это?
…Спросили бы — ответил. К тому, что скоро всю Поднебесную на сеттльменты поделят, как Шанхай. И не будет у китайцев ни коровы, ни хвоста. Сорбы тоже когда-то половиной Европы владели — и, поди, тоже рассуждать любили. И что? Бранибор стал Брандебургом, Липец — Лейпцигом. Вот и все сказки о великом герое Крабате!
Марек Шадов не первый год жил в Шанхае. Виду не подал, вежливо поблагодарил, прошествовал в тот угол сарая, где великий мастер Дэн восседал на чем-то, напоминающем обрезанный пополам матрац. Худой, лицо — маска костяная, глаза-щелочки полуоткрыты. Не старый, работодателя, мистера Мото, явно помладше.
Поклон. Кулак — к ладони, Инь-Янь, мы обычаи ваши знаем.
— Ни хао, шифу!
С произношением у Марека было не очень, сам знал, но наставник Дэн виду не подал, кивнул. Понятно, без всяких «Инь-Янь», гость не из великих, тайну хвостатой коровы постигших.
Отдав дань вежливости, наставник веки прикрыл, сложил руки ладонями ближе к причинному месту — и мыслями вдаль унесся. Марек присел на свободную циновку и приготовился скучать. Тренер, списанный на берег английский боцман, у которого он постигал джиу-джицу, вел себя на занятиях совсем иначе. Но что взять с некультурного «заморского дьявола»? Всего и учит, как руку с ножом перехватить. Никакой мудрости!
Между тем наставник Дэн, поблуждав в иных сферах, принялся неторопливо водить ладонями, словно не слишком опытный пловец. А потом палец вперед выставил — указательный левой. Ткнул пальцем в пол…
Марек как раз в этот миг отвлекся — и у него имелись свои «сферы». Вспомнилось самое неподходящее — как перед девушкой, случайной знакомой, прошлого дня осрамился. Не умеет он пить, но разве это оправдание? Теперь ее не найдешь, а найдешь — в глаза побоишься взглянуть.
А кто виноват? Как всегда, Pushkin? Генерал Янг? Ох, стыдно!
Когда Марек вернулся из «сфер», наставник Дэн уже стоял. На пальце — том самом, указательном.
…Правая рука — свечкой вверх, ноги — к стене, но без всякого упора, еле-еле носками касаясь. А на лице — ничего, такое у китайцев можно часто увидеть. Ни радости, ни печали, ни скуки — пусто.
Наставник стоял, Марек сидел.
К чему бы это?
* * *
— Это здорово, мистер… Простите, шифу. Правильно, да? Как фокус, как… спорт. И самому, наверно, приятно, когда такое можешь. Но смысла-то нет! На улицах нужно уметь драться. А для здоровья требуется гимнастика…
Наставник Дэн все-таки удостоил его аудиенции, даже угостил чаем. Откровенничать Марек не собирался, но слово за слово…
— И еще… К вам в школу мальчишки приходят, обычные, с тех же улиц. Поглядит такой, как вы, шифу, законы тяготения нарушаете, и повернет обратно. Испугается, в себя не поверит! Хотя… Может, так и надо, чтобы образец перед глазами был… Извините, шифу, кажется, запутался.
Под безвкусный желтый чай китайские слова рождались словно сами собой, даже «ваниоуинли динглу»[37] вспомнилось.
— Вы не запутались… жуши туди, — наставник еле заметно улыбнулся. — Вы сочинили коан и сами его решили.
— Коан? Который про корову с хвостом? — встрепенулся упрямый Марек. — Нет, шифу, это не мое. Некогда мне коаны решать. Вся ваша, уж извините, восточная мудрость…
…«Дангфанг жигуи» — когда только выучилось?
— …Для тех, кому не нужно с рассветом вставать, чтобы на рисовую лепешку заработать. У нас в Европе то же самое — спортом богачи занимаются. Ну… Или те, у кого иного шанса нет, чтобы пробиться. Но в настоящем спорте не пробиваться надо, а расшибаться в лепешку, себя не жалеть — и никого не жалеть. И верить себе — в себя! — так, как никому на Небесах не веришь.
— Иначе хвост не пролезет, — с лица наставника исчезла улыбка. — Этот коан вы тоже решили, жуши туди. Сэнсэю… Мистеру Мото… Правильно, да? Я сейчас же напишу ответ. А вам, столь смело шагнувшему на дорогу «чань», разрешите сделать небольшой подарок. Нет-нет, жуши туди, никакой восточной мудрости. Эта вещь сделана в Соединенных Штатах.
На худой костистой ладони — черный, словно ад, шарик. Не слишком большой, вроде как для тенниса. Трещинки, будто паутинки, полустертая надпись белой краской…
Удивиться Марек Шадов не успел. Наставник Дэн подался чуть вперед, сжал шарик крепкими сухими пальцами.
— Назовите любое число — от одного до, скажем, пятидесяти.
* * *
— …Можно и больше, — охотно согласился доктор Эшке. — Но это слишком долго, заскучаете. Итак?
— Три! — радостно выкрикнул знакомый голос, только что вещавший об инопланетной бомбе.
Всего-то?
Рука дернулась, отправляя шарик прямиком в пол. Резко, в полную силу. Раз! Черный кругляш, словно набравшись сил, ракетой унесся к люстре.
Два! — в потолок, от люстры в полуметре.
Три! — в подставленную ладонь.
Аплодисментов не было. Толстяк-полицейский, поведя широкими плечами, выразил общее мнение.
— И только? Так и я смогу.
Подумал и предложил:
— Двенадцать!
Доктор Эшке вновь озлился, но тут же заставил себе забыть обо всем. Нет толстяка, и зрителей нет, и зала — и даже его самого, туди-недоучки. Есть черный мячик — и прозрачный многоугольник, кристалл о двенадцати гранях.
Много? Не слишком. Мчись, лента-мысль, соединяй грани! Иге, ля гё, сэн…[38]
— Не двигайтесь! — крикнул, ни на кого не глядя. — Попадет — больно будет!..
Про разбитый нос — память о первом дне знакомства с каучуковой ракетой — говорить не стал, дабы не пугать публику. Шарик попался весьма злого нрава.
В пол! Не прямо, а чуть-чуть наискось, чтобы над самой шляпой герра толстяка прошел. Потом — к двери, двумя метрами выше, а затем обратно, полицейскому мимо левого уха, да со свистом. Дернется — сам будет виноват!
Раз! Два!.. Четыре, пять… Восемь!..
Двенадцать!..
В ладоши ударили тут же, как только теплый каучук с силой врезался в руку. Морщиться нельзя, напротив, улыбнуться, поправить чуть съехавшие очки с простыми стеклами, капюшон мантии тоже выровнять…
— Шарик-то непростой! — констатировал кто-то. — С Подкаменной Тунгуски шарик!..
В ответ засмеялись, но как-то неуверенно. А вдруг и в самом деле?
Полицейский же, вежливость соблюдя, тоже похлопал, но о службе не забыл:
— Довольно, майне геррен, довольно! А вы, герр Эшке, извольте представление завершить и следовать за нами.
Филолог-германист, он же циркач и жуши туди, ответил не сразу. Двенадцать углов — не слишком много, а если вдвое?
— Охотно!..
А если даже не вдвое? Огромный прозрачный кристалл, с небо размером, шарик в самом-самом центре… Первая лента-мысль еле ползет, воздух стал вязким, тяжелым, не пробиться… Иге!.. Вторая идет легче, но медленно, слишком медленно. Ля гё! Есть!.. Третья, четвертая… Понеслись!..
— Охотно! — повторил доктор Эшке. — Но, герр… Извините, не имею чести знать вашу фамилию и должность…
…Двадцать третья… Двадцать седьмая… Тридцать первая…
— Криминальоберассистент Мильх, — суровым голосом отрекомендовался толстяк.
…Тридцать седьмая… Внимательней, внимательней!.. Сорок первая!..
— Так вот, уважаемый герр Дикмильх…[39]
Смех в зале (полицию никто не любит, даже немцы) подарил несколько нужных секунд. Готово! Тело стало легким, прозрачным, шарик, напротив, затяжелел, словно каучук обернулся свинцом. Ладонь запылала жаром.
— …Давайте поделим вопрос надвое. Представление завершаю, а вот второй пункт мы обсудим по мере возможности.
И — в полный голос, чтобы люстра зазвенела:
— Шестьдесят! Иду на рекорд! Только не двигайтесь, пожалуйста, не двигайтесь!..
Раз!
— Хватайте его! — взревел герр криминал… (и так далее).
Два! Три!.. Семь!..
* * *
«Хватайте его!»
Служивые — народ дисциплинированный, подданные же Рейха весьма законопослушны. Выслушав ясный и недвусмысленный приказ, первые приступили к исполнению, вторые же и не думали мешать. Хватание доктора Эшке началось.
Но ме-е-едленно, о-очень ме-е-едле-енно-о-о.
Черный шарик, словно обретя маленькую злую душу, со свистом рассекал воздух. Одному из полицейских даже пришлось присесть, уклоняясь от прямого в лицо, другой вовремя отшатнулся, чем спас свое ухо. Публика же вошла в азарт и принялась охотно давать советы, причем в полный голос, иногда начиная скандировать.
— Сзади! Сбоку! Слева!.. Сле-ва! Слева! Справа, падай, падай!..
Служивые попытались двигаться перебежками, но шарик, имея преимущество в скорости, эти попытки пресек. Вдобавок тот, кто чуть было не получил по носу, засмотрелся (не на него ли?) и не заметил стоящего рядом кресла. Ботинок за что-то зацепился и…
— S-s-scheisse!
…Брюхом — прямо на почтенного господина средних лет, отца здесь же присутствующего семейства. Вставать, однако, не спешил — извинился и присел прямо на пол.
Лети шарик, лети!
За всеми злодействами, чинимыми взбесившимся куском каучука, доктор Эшке как-то потерялся. На него и не слишком смотрели, куда ему, фокуснику, деться? Зал полон, полицейские в десяти шагах, а посреди всего этого раскардаша — герр криминальоберассистент, зримое воплощение закона и порядка. Голову в плечи втянул, но с места не сдвинулся, даже пытался голос подать, чтобы процесс хватания ускорить. Без особого, правда, успеха.
Доктор Эшке тоже не спешил. Двадцать один, двадцать два, двадцать три… Шарик работал, филолог же германист, временно о нем позабыв, конструировал новый кристалл, на этот раз простой, всего на шесть граней.
…Рубильник. Пленка в алоскопе. Саквояж на полу. Графин. Мантия. Шарик.
Всё? Всё.
А когда кристалл сложился, засверкал гранями, доктор, не слишком торопясь, прошествовал к столу, обошел его слева, стал возле распределительного щита — и помахал рукой залу.
— Счастливо оставаться, господа!
Выключил свет. Сирену включил.
Уа-уа-уа-уа-уа!
3
— Ну что, решили? — Хинтерштойсер шепотом. — Решили, да?
Казарма. Железные койки в два яруса. Свет погашен, только возле дверей, где дневальный, горит маленькая лампочка.
Отбой!
Андреас наверху, к потолку поближе, Тони Курц под ним. Можно и не шептать, не им одним поболтать перед сном охота, но слишком много вокруг чужих ушей. Даже если говоришь на westmittelbairisch, все равно опаска есть. Не только они здесь баварцы.
Ответа Хинтерштойсер не дождался. Свесился вниз, рискуя упасть:
— Да чего тут думать, Тони? Решайся, ну!
И в самом деле! Пустяк вопрос. Самовольная отлучка из части, в военное, считай, время, переход государственной границы — и подъем на Эйгер, с которого каждый год трупы снимают.
— Тони! Если не завтра, то никогда. Никогда, понимаешь? Мы не возьмем Норванд! Другие Стену пройдут. Другие, не мы!..
Чуть не крикнул, но вовремя язык прикусил. То есть как «не возьмем»? Возьмем, ясное дело. Только бы Тони уговорить… Про Фрауэнфельд, чтоб он пропал, сказать так и не решился. Во-первых, это лишь болтовня, штабной фольклор. А во-вторых…
— Тони!..
Во-вторых, пусть хоть весь вермахт за ними отправят! Пока вояки доедут, развернутся, пока до Эйгера дотопают в прогулочном темпе, они с Курцем будут уже далеко. То есть не далеко — высоко! Главное, на Стену шагнуть. А там…
Хинтерштойсер прикрыл глаза. Белый, белый лед, хрустящий мокрый снег, синее тяжелое небо, острые голые скалы над головой… Не увидеть? Отдать другим? Нет, нет! Нет!!!
Не утерпел, на пол спрыгнул. Наклонился над койкой, где безмолвствовал Курц.
Выдохнул:
— Так, значит?
Помолчал — и заговорил, глядя в темный потолок:
— Ладно, не пойдем. Ладно, не убьют нас, в лагерь не отправят. И от простуды не околеем, и сифилис не подхватим. Дальше что? Год 1966-й, сидим мы, лысые и пузатые, в пивной. У меня в руках книжка — купил только что. Называется, к примеру… Ну, допустим, «Белый паук». А ниже подзаголовок: «Как мы взяли Северную стену». «Мы» — это значит не мы, другие. Кто — не важно. Другие! Не мы с тобой, понял? Я тебе книжку показываю, а ты, Тони, даже взглянуть не хочешь. И молчишь, прямо как сейчас. Представил?
И сам представил, даже увидел: и цветную обложку, и Эйгер во всей красе, и чьи-то веселые лица — прямо под названием. Не выдержал, застонал. Если сейчас они не пойдут, если не рискнут головами — Himmeldonnerwetter! — зачем вообще доживать до этого 1966-го?
Поглядел во тьму, улыбнулся горько:
— Дело твое, Тони. Только просьба у меня к тебе будет. Когда помру, скажи, чтобы на кресте могильном написали: «Андреас Хинтерштойсер, который не взял Северную стену». А о себе что хочешь пиши, все равно надпись эта — про нас двоих.
Махнул рукой, за стальную спинку кровати взялся, чтобы обратно на свою верхотуру мочалить…[40]
Среди туманных гор, Среди холодных скал, Где на вершинах дремлют облака…Как расслышал, сам не понял. Тони не пел — дышал. Если слов не знать, ни за что не угадаешь.
…На свете где-то есть Мой первый перевал, И мне его не позабыть никак.Исчез казарменный сумрак. Ледяное солнце Эйгера ударило им в глаза.
Мы разбивались в дым, И поднимались вновь, И каждый верил: так и надо жить! Ведь первый перевал — Как первая любовь, А ей нельзя вовеки изменить!4
Тяжелый бронзовый фонарь над входом в ресторан манил уютным желтым огнем. И название прельщало — «Георг», просто и коротко. Всякий, кому довелось мир повидать, знает: чем ресторан хуже, тем претенциозней вывеска. Скучавший у дверей швейцар тоже понравился: солидный, седатый, с роскошными усами — вылитый капитан из Кёпиника, германский Робин Гуд[41].
Вот только по карману ли вся эта роскошь скромному коммивояжеру?
Марек Шадов поспешил себя поправить: не коммивояжеру, а разъездному торговому агенту. Американизмы — сорняки на цветущем поле германской речи. Кому это знать, как не доктору Эшке, профессиональному филологу?
А кстати, где он?
Марек бросил взгляд на тихую вечернюю улицу. Чисто! Никто не догоняет, не спешит с наручниками наперевес под дивную трель полицейского свистка. И доктора, субъекта конечно же весьма сомнительного, нет. И не надо. Пусть катится второй космической скоростью прямиком на свою Венеру!
— Заходите, майн герр, — понял его колебания глазастый швейцар. — Заведение у нас приличное. И цены не такие, как, извиняюсь, в русском «Распутине».
Дверь открыл, посторонился, посмотрел внимательно…
Марек, взгляд ощутив, задержался на пороге. Что не так? Костюм? Туфли? Прическа? Саквояж в руке? Кольцо на безымянном пальце?
— Умыться бы вам, майн герр, — швейцар усмехнулся в густые седые усы. — Я сперва, как саквояж увидел, за врача вас принял. Саквояж-то один в один акушерский. А теперь понял. Улыбаетесь вы, а вид усталый. Грим на лице — смывали да не смыли. И время позднее. Стало быть, актер после спектакля. Местных я всех перевидал, значит, вы из Лейпцигского «Нового театра», что как раз сегодня на гастроли приехал.
Капитан из Кёпиника оказался Шерлоком Холмсом.
— Тогда и амплуа определите, — подбодрил сыщика-любителя гастролер.
— И думать нечего. Глаза у вас, уж извините, умные, стало быть, в герои-любовники не годитесь. Для злодея или фата голосом не вышли, для моралиста — возрастом. Рост чуть выше среднего, кость тонкая, лицо, опять-таки извиняюсь, подвижное. Стало быть, майн герр, вы изволите быть проказником, по-старому если — Арлекином. Учиняете разные неприятности себе же во вред — и тем весьма довольны бываете.
— Здорово! — восхитился Арлекин-проказник, доставая из бумажника купюру покрупнее. — В яблочко, как Вильгельм Телль!.. Так где тут у вас можно умыться?
* * *
С гримом и в самом деле вышла промашка, но вполне простительная. Что делать, если ни мыла, ни теплой воды, ни губки, есть только графин на столе и носовой платок в кармане, а на все умывание — десять секунд? Больше не получалось. Пленку из аппарата требовалось вынуть, скрутить и спрятать, из большого рыжего саквояжа извлечь другой, поменьше и видом приличнее, мантию снять и куда надо пристроить, снять парик, провести по волосам расческой…
А еще сирена! Уа-уа-уа-уа-уа!
…Пятьдесят восемь… Пятьдесят девять… Уа-уа-уа-уа!.. Иди сюда, шарик, иди, черненький! Прячься, пока не заметили.
А потом исчезнуть, да так, чтобы в упор не видели.
Уа-уа-уа!.. Свет!
Уа-уа-у… Обрезало.
— Где? Где он? Ищите? Хватайте!..
Зря герр криминальоберассистент Мильх цирк помянул. Хотел — получил по полной. Тот же зал, уже при свете, публика, стражи порядка. Кафедра, стол, алоскоп, экран на стене.
Где Эшке? Нет Эшке! Правда, дверь, что в комнатку-раздевалку ведет, открыта, а на двери, словно занавес после спектакля — знакомая синяя мантия.
— Там он! Там! А ну-ка выходите, герр фокусник!..
Ждать служивые не стали — толпой в комнатушку ринулись. Герр Мильх-Дикмильх — впереди, дабы лично злодея задержать, двое, что ближе были, следом, за ними и те, что дверь стерегли, подтянулись.
Ищи! Лови! Хватай! Вяжи!..
Конца представления Марек Шадов ждать не стал. Это был уже не его цирк. Вышел из прохода между рядами, где и стоял среди прочих любопытствующих, шляпу надел — и пошагал к выходу. Не он один. Те из публики, что были поумнее, спешили покинуть зал, дабы не тратить лишний час на разбирательство с полицией. Не все, правда, догадались, что к главному выходу из лектория идти не надо — наряд там при дубинках и наручниках. И к запасному не надо, там тоже наряд. А зачем вход-выход, если можно спуститься на первый этаж, пройти пустым коридором — и окно открыть? А за окном сквер, пустой и темный.
…Чемодан с вещами — в камере хранения, документы Эшке-скандалиста бандеролью отправлены в Берлин (Главпочтамт, до востребования). Всей-то поживы господам полицейским — мантия да старый докторский костюм в гостиничном шкафу. На лекцию Марек надел собственный, под синей тканью незаметный. Ах да, еще ботинки, тоже докторские, что в номере остались. Их, конечно, жаль. Где еще такой ужас найдешь?
Спасибо, губастая! Был бы холост, точно бы женился!..
— На ваше усмотрение, — велел он кельнеру. — И… Я не очень пьющий, но что-нибудь для аппетита. День был трудный…
Кельнер, мужчина опытный, понимающе прикрыл веки.
— И еще… ваш оркестр. Он какую музыку играет?
— Майн герр! — Кельнер даже позволил себе обидеться. — Какую пожелаете! Кроме разве что «Интернационала», ноты куда-то подевались.
Марек шутку оценил, но смеяться не стал. А «Дивную Лужицу» — слабо? Гимн отмененного и запрещенного народа?
— «Осенний сон», пожалуйста. Да-да, «Титаник-вальс».
* * *
— «Осенний сон», пожалуйста. Ну, «Титаник-вальс». Сообразили?
Ресторан «Ренессанс», что на авеню Жоффр, — лучший во всем Шанхае. Официанты, хоть и китайцы, натасканы, словно полицейские ищейки, с лету желания клиентов ловят. Но тут чуть не вышла промашка. Следовало не «Herbsttraum» заказывать, а… Как по-английски будет? «Autumn dream», точно! Ничего, вовремя про «Титаник» вспомнил!
Почему его потянуло послушать вальс, причем именно «Осенний сон», Марек Шадов уже не помнил. В голове шумело, бутылка «Смирновской» на столе (уже вторая) то и дело начинала двоиться, причем обе половинки так и норовили пуститься в пляс. Может, именно из-за «Титаника». Стальная громада скрывается под водой, люди-муравьи скользят по мокрой палубе, черное ночное море, белый лед…
Вальс, господа, вальс!
— Напейтесь! — велел мистер Мото. — Как свинья! Нет, как русский эмигрант. Приказ ясен?
Возражений слушать не стал, достал из бумажника несколько больших купюр, на стол бросил.
Приказ есть приказ.
…Оркестр «Титаника» играл до последней минуты, провожая в Вечность корабль и тех, кто на нем плыл. Из музыкантов не спасся никто. Уцелевшие пассажиры, словно сговорившись, никак не могли вспомнить, что именно они слушали в эти прощальные минуты, — кроме одного-единственного вальса. «Autumn dream», бесконечный, пронзительный, безнадежный. Черная вода, белый лед…[42]
Что именно ему твердит изрядно смущенный официант-китаец, Марек понял только со второй попытки. Не удивился. Поздний вечер, главный зал «Ренессанса» полон, трезвых, считай, и нет. Неудивительно, что кто-то решил заказать свое. Люди разные — и музыка разная.
Ждать не стал. Вытащил бумажник, припечатал купюру ладонью к скатерти.
— «Титаник-вальс»!
Краешком сознания он понимал, что зря кажет характер, не время и не место. Напиваться следовало дома, в маленькой комнатушке на третьем этаже новой шестиэтажки, что на окраине Французского квартала. Неказисто, зато можно запереться на замок, никого не видеть, ничего не слышать.
Но тогда он будет один. И к нему пожалуют те, для которых никакой замок не помеха.
— …Никаких следов, мистер Мото. Лодку я утопил, документы их уничтожил, пистолет выбросил в реку. Из своего не стрелял, взял один из тех, что мы везли генералу Янгу в подарок. Свидетелей не было. То есть… Не осталось.
Похвалы не ждал — не за что было хвалить. О его поездке все-таки пронюхали и попытались перехватить — на обратном пути, когда возвращался с деньгами и договором при красной печати. Повезло! Те, что пришли по его душу, переоделись в привычную солдатскую форму. Речной патруль, предъявите документы! Но хоть и говорят, что для европейцев все китайцы — на одно лицо, но старшего Марек узнал и вместо документов достал оружие — офицерский Colt М1911. Словно чувствовал! Вынул из ящика с подарками, проверил, взял запасную обойму…
Четверо! Двое умерли сразу, третий был без сознания, но еще жил. Его пристрелил не думая, просто протянул руку и нажал на спусковой крючок. А вот четвертый, совсем еще молодой, с дыркой вместо передних зубов, завопил, заплакал, попытался привстать, прижимая ладонь к простреленному животу. Потом замолчал и просто смотрел в глаза… Взгляд Марек отводить не стал. Выстрелил — и принялся ждать, пока чужие зрачки погаснут.
Colt М1911 превратился в кусок льда.
«Титаник-вальс». Море, айсберг, смерть — первая смерть от его, Отомара Шадовица, руки. Одна смерть, вторая… четвертая.
Да, хвалить его не за что. Хоть и концы в воду, но круги все равно пойдут. Не вышло чистой работы. Но и ругать нельзя — договор привез, жив остался…
Работодатель так и поступил. Выслушал молча, а потом достал бумажник.
— …Вот этот!
Марек решил было, что вернулся официант, и успел удивиться, отчего так изменился его голос. Повернулся, головой помотал…
Принялся трезветь.
Четверо! Столько же, сколько было на проклятой лодке. И кольта под рукой нет.
* * *
Мистер Мото, человек широко известный в узких деловых кругах Шанхая, занимался вопросами серьезными и деликатными.
Мистер О'Хара избрал себе тот же вид занятий.
Мистера Мото очень уважали. Мистера О'Хару уважали не меньше, но еще и боялись.
У мистера Мото было несколько помощников, людей, как и он сам, тихих и скромных. О'Хара скромностью не отличался и завел себе целую армию. Работодатель Марека исповедовал принцип дзюдо, американец с ирландской фамилией предпочитал бокс без правил. Мото был тих, О'Хара шумен. Один невелик ростом, второго хоть в прусские гренадеры бери.
Мистер Мото очень редко улыбался. Мистер О'Хара громко и часто хохотал.
Вражды между ними не было, но не было и дружбы. Работодатель ничего не рассказывал, однако Марек уверился, что они познакомились давно, еще до Китая, и знакомство вышло очень непростым. Здесь же, в Шанхае, между странным японцем и брутальным янки действовал негласный и неписаный пакт о ненападении. До поры до времени. Тот, кого Марек узнал — и кого убил первой пулей, — запомнился ему именно из-за О'Хары. Видел их вдвоем пару раз. Для Шанхая — более чем достаточно.
— …Вот этот! Удачно встретились. Поучим мальчонку жизни?
— Не здесь. Глушим — и в авто.
Марек Шадов встал. Китаец и два американца, птицы невеликие, у мистера О'Хары на посылках. Таким драки (войны!) и положено начинать. А вот четвертый… Четвертая…
В последнее время, так уж получилось, именно Марек Шадов стал правой рукой мистера Мото. В армии О'Хары тоже произошли перемены. Прежние его помощники куда-то исчезли, и всем стала заправлять…
— Пусть на колени станет. Тогда, может, и отпустим.
ОНА!
Марек видел ЕЕ всего пару раз и то издали. Запомнил, но не больше. Его лет или чуть старше, светлые волосы, прекрасно пошитое платье, колье на высокой шее. А тут… Считай, в трех шагах…
Вдохнул, выдохнул, хотел глаза протереть… Но вовремя вспомнил, что он — на войне, мистер О'Хара послал свою армию в бой. Двое — с боков, третий, китаец, чуть сзади. ОНА — впереди.
На колени, значит?
— Мы не на равных, — улыбнулся. — Мало вас чего-то. Несите пулемет, тогда и беседовать станем. А то обижу кого ненароком.
Страха не было. Страх остался под темной речной водой, утонул в мертвых остекленевших зрачках. Мир стал огромным прозрачным кристаллом, а он, Марек Шадов, — маленьким злым черным мячом.
И — плевать на все!
Кроме НЕЕ.
Удержался на краю, ударил не рукой — взглядом, прямо ЕЙ в глаза.
Мир-кристалл дрогнул. Как и ЕЕ губы.
* * *
— Мне не нужен пулемет, Марек Шадов. Твой хозяин слишком много возомнил о себе, но для начала мы проучим сопляка, который чистит ему ботинки. А еще у нас есть пара вопросов по поводу твоей последней поездки. Если ответы нам понравятся — твое счастье.
— А у меня есть пара ответов, которые могут очень не понравиться. Для каждого из вас — кроме тебя.
— Почему для меня исключение?
— Я тебя люблю.
* * *
Кристалл исчез, растворился в густом папиросном дыму. Мир вновь стал самим собой — обычным, обыденным, плоским. Ресторан, столики, испуганные лица официантов, нож в руке китайца, ЕЕ странное лицо.
Все как и должно быть. Только Марек Шадов понял, что совершенно счастлив.
Теперь ему было все равно. И когда двое с боков подошли к столику, он врезал пустой бутылкой по ножке стула, превращая бесполезную скляницу в «марсельскую розу». И когда ниоткуда — из папиросного дыма — возник сам мистер О'Хара, парней отогнал, ЕЕ обнял — властно, по-хозяйски, на него же поглядел, как смотрят на пустой стол.
— Расскажешь ему! — бросил уходя.
«Ему» — мистеру Мото.
— Обычаи парижских апашей, — скажет на следующий день работодатель. — Последнее предупреждение перед началом войны. Вы вели себя правильно, Марек.
А потом помянет и ЕЕ.
— О'Хара никогда не умел разбираться в людях. Она — его самая большая ошибка.
Но это будет потом, после того, как Марек отдаст официанту уже ненужную «розу», посмотрит ЕЙ вслед — и услышит первые такты «Титаник-вальса».
5
— Голуби, мадам! — Бесцветные глаза-пуговички моргнули.
— Почему они вогкуют, мадам? Почему змеи… Да, змеи, самые холодные тваги на земле, пегеплетаются дгуг с дгугом?[43]
Женщина сдержала усмешку и даже сделала вид, что внимательно слушает. Старость… В чем можно упрекнуть человека, перешагнувшего вековую черту?
— Пе-ге-пле-та-ю-тся, да! Почему мошки… Маленькие-маленькие мошки пголетают сотни километгов, чтобы найти себе пагу? И гыбки, с плавничками и хвостиками. Гыбки!..
Старичка, маленького, ушастого и абсолютно лысого, знал уже весь «Гранд-отель». Привезенный по какой-то надобности из своего захолустья в Париж, он регулярно сбегал от сиделок, находил жертву — и говорил о любви. Лично ее почтенный ветеран поймал прямо в огромном холле, в двух шагах от стойки регистрации.
— Почему гаспускаются цветы, мадам? — Беззубый рот плямкнул. — Гозочки! Тюльпанчики! Настугции, мадам! Хгизантемы!.. О, мадам! Газве вам не пгиходилось чувствовать симптомы божественной стгасти?..
Старичок был безумен от пяток до кончиков ушей, но вовсе не глуп. При побегах из запертого номера проявлял немалую изобретательность, теперь же, посреди своей пылкой речи, внимательно следил за собеседницей, словно чего-то ожидая. Ее ли он видел сейчас? От нее ли ждал ответа?
— Стгасть! Теплота в ладонях, стганная тяжесть во всем теле, огонь на губах, вызванный не жаждой. О нет, мадам! Но тем, что в тысячи газ сильнее, непгеодолимее жажды!
В Париже она бывала регулярно и чаще всего останавливалась именно здесь, в огромном шестиэтажном здании на Рю Скриб, как раз напротив Парижской оперы. Очень удобно — центр, всего три минуты неспешного хода до Вандомской площади, а главное — людское море, в котором можно в случае необходимости легко исчезнуть — подобно рыбке с плавничками и хвостиком. Или встретиться — совершенно случайно, как с этим жаждущим любви дедушкой.
— Любовь, любовь, мадам! О, знаете ли вы, что такое любовь?
Старичок ждал ответа, напряженно, не отводя взгляда. Надо было идти, нужный человек уже появился — как раз возле регистрационной стойки…
— Думаю, что знаю, мсье.
Подслеповатые пуговички вспыхнули, внезапно обретя цвет — ярко-карий, словно обычное стекло обратилось в драгоценный турмалин. Женщина улыбнулась:
— Я шла убивать, а мне посмотрели в глаза и объяснились в любви. И мир стал немного другим.
Погладила старичка по тощему пиджачному плечу, поправила лацкан с розеткой Почетного легиона…
* * *
Женщина в длинном светлом платье от Мадленн Вионне. Колье на высокой шее, прическа под Бэт Дэвис, белая сумочка с большой красной розой, белые перчатки, на безымянном пальце левой руки — кольцо-саркофаг. Мужчина — невысокий крепыш лет тридцати в костюме из магазина готового платья. Старые ботинки, короткая стрижка, невыразительное лицо. На правой кисти — глубокая царапина, небрежно смазанная йодом.
Странные встречи случаются в «Гранд-отеле».
— Мадам Веспер, как я понимаю?
— Да, это я. В следующий раз советовала бы прийти в буденновке и при шашке. Так будет еще выразительнее.
— Для вас — хоть на тачанке… Я только что с самолета, в Ле Бурже какая-то авария, пришлось садиться в Вильнёве. Надел что первое попалось, схватил такси. Но… Виноват.
— Пилот был коммунистом и не пускал в салон тех, кто прилично одет?
— Так я и был пилотом, мадам. «Ньюпор-Деляж-29», серийная модель 1925 года, бывший истребитель, ныне — скромный почтальон[44]. А я — Роберт. Это имя, а вот фамилия…
— Фамилию вы забыли, бывает. Тогда я — Ильза.
— Ильза — Почитающая Бога, Веспер…
— …Венера, Вечерняя Звезда. Так уж назвали. Иногда имя — это просто имя, Хродберт, Блистающий Славой.
* * *
Он курит, она — нет. Пьют одно и то же — виски «Dallas Dhu». Стаканы с толстым дном, минеральная вода в бутылке с высоким горлом. Ни тостов, ни здравиц — вразнобой, по мере охоты.
Работают.
Номер-люкс, бордовые занавеси, гобелены на стенах, ковры с высоким ворсом. Мужчина за столом — папка с бумагами, две перьевые ручки, пресс-папье тяжелой бронзы. Рядом пепельница, пачка «Gauloises caporal» — крылатый шлем на лиловом фоне, зажигалка.
Женщина в кресле, руки сцеплены на левом колене. Черненый египетский саркофаг издали похож на коготь.
Сизый дым. Тихий разговор.
— Мое руководство хочет знать, как будут осуществляться поставки после начала большой войны в Европе.
— Передайте вашему руководству, Роберт, что большой войны в Европе в этом году не будет.
Шелестит бумага, еле слышно скрипит перо дорогого паркера. Мужчина делает пометки, подчеркивает слова, ставит значки на полях.
— Мое руководство хочет знать, с кем мы в дальнейшем будем иметь дело: с вами или с господином О'Харой?
— Передайте вашему руководству, Роберт, что вы будете иметь дело со мной — и только со мной.
Мужчина кажется невозмутимым, женщина тоже. Только присмотревшись, можно заметить, что он слишком сильно прикусывает сигарету, а ее сцепленные пальцы побелели.
— Мое руководство хочет знать, сможете ли вы продать нам изделия из особого списка.
— Передайте вашему руководству, Роберт, что кошку в приличном обществе принято называть кошкой. Хотите новейшие разработки, которые в Европе именуют «инопланетными»? Нет, продать их мы вам не сможем, но кое-что получите бесплатно. Запоминайте: Рудольф Рёсслер, владелец издательства «Вита-Нова». Швейцария, Люцерн, улица Хертенштайн, дом 8, книжный магазин.
Мужчина кивает, откладывает паркер, с силой проводит ладонью по лицу.
* * *
— Ваше руководство, Роберт… Как вы всё прячете, даже смешно! Ваш Сталин ошибается. Ему кажется, что смысл происходящего в том, что Гитлера натравливают на СССР. Это не так. СССР никто не принимает всерьез, вы сейчас значите немногим больше Ирана. Богемского Ефрейтора вскормили англичане, чтобы иметь острастку против победоносной Франции. Потом спохватились, но стало поздно. Гитлер нашел новых друзей и начал играть по своим правилам.
— Вы правы, Ильза, теперь ему помогают очень серьезные люди из Штатов. Но Судеты — это война!
— Никакой войны, Роберт. Гитлер знает главный секрет: ни Франция, ни Англия не станут сражаться из-за чехов. А также из-за австрийцев, швейцарцев, литовцев и поляков. А потом будет уже поздно.
— Насчет Швейцарии вы не ошиблись, там происходит что-то странное. В немецких кантонах началось движение за пересмотр Конституции 1876 года, речь идет фактически о полной самостоятельности. Но Швейцария — это не только сыр!..
— Представляете, что начнется в Европе, если прекратят работу швейцарские банки? Три года хаоса — а потом появится планета Аргентина, о которой пишут в книжках с яркими обложками. Такой исход не входит в мои планы, поэтому наше сотрудничество будет продолжено. Только не тратьте золото на всякие мелочи. Никакие параболоиды и «лучи смерти» вам не нужны.
— А что нужно?
— Алюминий и высокооктановый бензин. И еще — зенитные орудия[45].
6
— Этих хватит, — рассудил Хинтерштойсер, наблюдая, как очередная железяка с шипением погружается в воду. — Нам еще нужен десяток ледовых крючьев. И ты еще про «кошки» говорил, которые с передними зубьями.
Тони Курц, отложив щипцы в сторону, взглянул с упреком. В кузнице он работал с самого утра. Андреас клялся и божился, что сразу же после завтрака придет помочь, но закрутился, завертелся, забегался… Особо виноватым, впрочем, себя не чувствовал, так как тоже был при деле. Каждому — своя забота.
Курц бросил в угол кожаный передник, долго пил воду, потом устало махнул рукой.
— Пошли, лентяй. Есть новости.
В родной Берхтесгаден заглянули не без опаски, но никто их нежданному визиту не удивился. Привыкли за последний год. Хорошо служить в часе езды от отчего дома! Курц сразу же занял кузницу, решив не откладывать самое важное до Берна, Андреас же принялся кружить по городским улицам, заглядывая ко всем ближним и дальним. И, как выяснилось, не зря.
— Я чего подумал, — начал он, хлебнув пива из тяжелой глиняной кружки. — На пятый день нас искать начнут. Или даже раньше, если начальство нос в бумаги сунет…
— Тише говори! — Тони поглядел по сторонам, нахмурился. — Уезжаем завтра же утром. Вещи сложишь вечером, зайду — лично проверю.
Расположились на летней веранде, в самом сердце большого фруктового сада. Солнце, зелень, беззаботное синее небо, пиво прямо с ледника. Рай!
— Что уедем — понятно. А потом сюда прикатят по наши души. Спросят, что да как, а главное — куда. Девались мы, в смысле.
Хинтерштойсер, с наслаждением допив пиво, приударил донышком по темной от времени столешнице.
— А мы с тобой — в Берлине!
Полюбовавшись эффектом, закурил, завив дым колечком.
— Марту помнишь? Марту Ранш из соседнего класса? Которую все наши парни того… на танцы приглашали. Она из дому сбежала — как раз вчера, перед нашим приездом. У нее в Берлине какой-то ухажер, то ли пожарный, то ли танцор из оперетты, то ли оба сразу. Смекаешь, к чему это я?
Уловив недоуменный взгляд, пояснил снисходительно:
— Мы же на свадьбу приехали, не забыл? Значит, Марта — твоя суженая. Ну, влюбился ты, бывает. Свадьбу готовили тихую, только для самых близких. Но вот беда! Сманили невесту, бежала, подлая, считай, из-под венца. Ты — за ней, а я, стало быть, за тобой. И все — в Берлин.
— Кто же такому поверит? — поразился Курц. — Я — и эта… Марта Ранш?!
Хинтерштойсер хмыкнул:
— Все поверят. То есть уже поверили. Зря я, что ли, по Берхтесгадену бегал? Знаешь, как тебе сочувствуют?
Курц отставил кружку в сторону, сжал крепкий кулак.
Разжал.
— Когда я тебя буду убивать, не спрашивай, за что. Договорились?
Дождавшись ответного кивка, полез в карман брюк, достал два измятых почтовых конверта.
— С утра таскаю. Кто-то, кажется, обещал в кузнице помочь?
* * *
Слышишь? Выгляни в окно! Средь дождя и мрака Я торчу давным-давно, Мерзну, как собака.Хинтерштойсер отложил в сторону густо исписанную страницу, взялся за следующую.
Дождь и гром. В глазах черно. Стерва, выгляни в окно![46]— Сам сочинил? — осведомился Курц, не отрываясь от второго письма. Первое, уже им прочитанное, изучал Андреас.
— А ты думал! Сам, конечно! — приосанился Хинтерштойсер. — Правда, в школе мне сказали, что и у Шиллера что-то подобное было. «Дождь и гром. В глазах черно…» Хоть назад возвращайся!
Письмо прислал доктор Отто Ган, их спутник по недавней поездке в Италию. Послание было коротким и не слишком веселым. Доктор сообщал, что его долгожданная командировка в Монсегюр откладывается на неопределенный срок «сами догадайтесь почему». И к подножию Эйгера, дабы поболеть за штурмовую команду, он едва ли поспеет. Потому как «собрали — и отпускать не хотят».
— Это он про СС, — без особой нужды пояснил Андреас. — Угораздило…
Язык прикусил. В родном городе ни он, ни Тони солдатские выражения себе не позволяли. Зарок!
— …В-вступить, теперь век ботинки не отмоет. Значит, «черных» тоже мобилизуют.
Курц только кивнул — увлекся чтением. Хинтерштойсер взялся за письмо, подумал, положил на стол.
— Во всех прогнозах — одно и то же. На Эйгере — бури, дожди и сильный ветер. «К черту! Выгляни в окно! Холод сводит скулы. Месяц спрятался, темно. И фонарь задуло». Худшая погода за последние полвека, как на заказ! «Сколько я истратил сил, холод, голод, дождь сносил…» Везучие мы с тобой!
Добросовестный доктор не поленился съездить на столичную метеостанцию и лично переписать прогноз. Еще два, столь же дождливые, с ветром и бурей, ему прислали из Берна и Мюнхена.
Отто Ган и не пытался отговаривать приятелей. Но что он думал, легко читалось между строк.
— Изучил? — осведомился Курц, кладя второе письмо рядом с первым. — А теперь скажи мне, Андреас, ты когда-нибудь забывал веревку, если шел на скалы?
— Ч-чего?
* * *
— Давай еще раз, Тони. Что-то у меня соображалка заклинила. Кто сказал? Когда сказал? Кому сказал? Может, эта тетка — сумасшедшая?
— Не тетка. Баронессе Ингрид фон Ашберг-Лаутеншлагер Бернсторф цу Андлау восемнадцать лет, она поднималась на Монблан, гоняет на мотоцикле и время от времени помогает нуждающимся скалолазам.
— Да, триста марок — сильно. Молодец девица! Но почему…
— У нее есть очень странный друг в Штатах. Вроде как пророк. И ему было видение: мы оба с тобой где-то в горах, холодненькие и печальные, а ты говоришь, что сам виноват…
— Опять я? Как что, так сразу я!..
— «Не взял веревку, такая вот беда». Дословно. Госпожа баронесса — девушка современная, видениям не верит, но все-таки предупреждает. Вдруг ты, Андреас, веревку забудешь?
— Очень смешно! Холодненькие, печальные — и несем бред.
— Это ты несешь, я просто холодненький. А еще этот странный друг написал не кому-нибудь, а самому Джону Гиллу — по поводу Эйгера. Видишь, как о нас заботятся?
— Джону… Погоди! Джон Гилл, который «Скалолаз в Южных Аппалачах»? Паук из Кентукки? Тот самый?
— Тот самый. И знаешь, что Паук ему ответил?
7
Окно было открыто настежь, но табачный дым упрямо не хотел уходить. Он не слишком мешал, но женщине почему-то стало тревожно. Табачный дух, чужой запах, чужой город.
…Чужая жизнь.
Тревогу прогнала, как прогоняют надоевшую муху, отодвинула в сторону недопитую бутылку «Dallas Dhu», плеснула минеральной воды в стакан. Опьянения не было, только голова стала тяжелой, словно и она — чужая.
По чужой дороге, в чужом облике, сквозь чужие взгляды, сквозь чужие руки, ради чужой выгоды… Только Смерть будет своей, не на прокат взятой.
Шевельнулись губы, неслышно рождая слова.
Танго!
В этой жизни танцуем танго, После смерти танцуем танго, Жизнь со смертью танцуют танго, Все танцуют, Господь и дьявол…Женщина резко выдохнула, прерывая прилипчивую мелодию. За дело! Чистый лист, самопишущее перо паркер, глоток воды.
«Привет, Герда! Привет, маленькая!..»
Дочери она писала два раза в неделю, стараясь четко выдерживать график. Понедельник и четверг, если же не получалось, то вторник и пятница. И письма были одинаковы, как она ни старалась. Сначала, что скучает, потом — подробный разбор того, о чем сообщала дочь, ответы на вопросы, советы — как можно мягче, ненавязчивей. В конце письма, как и положено: «Люблю! Целую! Скоро увидимся!» Вместо подписи — маленькая корона о трех зубцах, словно на гаванских сигарах.
— Разве так можно писать ребенку? — сказал ей как-то муж. — Ты же не оружие продаешь.
Она не обиделась — удивилась. А как иначе? Ребенок — ничуть не глупее взрослого, пусть и мыслит совсем по-другому. С ним надо говорить серьезно, не сюсюкать. Иначе почувствует, что он (она! Гертруда!) для родителей не человек, а забавная игрушка. Слишком сухо? Но она же пишет «Люблю!»
«Сейчас я снова в Париже. Не завидуй, маленькая, здесь очень шумно и не слишком уютно…»
Несколько раз она порывалась забрать дочь из их маленькой берлинской квартиры. Но понимала — некуда. Гостиничный номер, даже «люкс» с бордовыми шторами на окнах, не заменит дом. Пусть все идет как идет, жаль только, что дом этот — бумажный, словно фонарик на китайском весеннем празднике Чуньцзе. Уютный, светящийся теплым живым огнем, но такой хрупкий…
«…Не верь газетам и не пугайся. Войны не будет, никто ее не хочет, все кончится тем, что крикуны охрипнут и вернутся к своим делам. Но будь осмотрительна. В пансионе не говори лишнего, твои подруги еще маленькие, они тебя не поймут или поймут неправильно. Хочешь поговорить о политике — говори с Каем. И не жалуйся, что он не разбирается в мировой финансовой системе. Я в ней тоже не разбираюсь. Такие мы с Каем отсталые…»
Родительский дом она оставила очень давно. Забыла. Заставила себя не вспоминать. Потом, привыкнув и повзрослев, научилась чувствовать себя камешком, маленьким, но твердым. Упрямым алмазом под чугунным молотком. Январским льдом на крещенские морозы.
Не разобьюсь! Не сломаюсь! Выживу!
А потом она посмотрела в глаза… А потом он посмотрел ей в глаза…
Нет, она не полюбила. Любить можно детей, но не мужчин. В их устах «любовь» — всего лишь слово, затасканное и пустое, как раз для безумного старичка с розеткой в петлице. Рыбки, мошки, розочки с тюльпанчиками… Ложишься на спину, прикрываешь веки и стараешься не морщиться, когда тебе дышат в лицо. Или сама отдаешь команды, с наслаждением чувствуя, как чужая похоть сменяется удивлением, растерянностью… испугом. Сбавить бы старичку лет семьдесят, а еще лучше — восемьдесят пять. Многое бы он понял, романтик!
Впрочем, нет, пусть не молодеет. Изменять мужу она не любила и делала это без всякой охоты.
«…Я полностью с тобой согласна — преследования евреев омерзительны, а Нюрнбергские законы много хуже тех, что были в Средневековье. Но вслух лучше ничего не говорить. Пострадаешь и ты, и те, кто тебя слушает. Если нужно кому-нибудь помочь, помогай тайно. И обязательно посоветуйся с Каем!..»
«Я тебя люблю!» Не поверила, не приняла всерьез. Но в самой глубине чужого взгляда ей внезапно почудился теплый отсвет маленького бумажного фонарика, горящего среди черной шанхайской ночи. Испугалась, не сразу нашла нужные слова… Они ведь с Каем собрались тогда воевать! Смешно? Ничуть, ее босс всерьез невзлюбил парня, особенно после фиаско на реке. К счастью, она уже знала, за какие рычажки дергать. Достаточно в разговоре с грозным О'Харой невзначай назвать неказистого, даже смешного с виду мистера Мото «майором»…
— Никто никого не будет убивать, — сказал ей мистер Мото. — Над Монтекки и Капулетти есть еще генеральный штаб, а там не хотят войны. Насчет же Марека… Парень вас действительно любит. Решайте сами, госпожа Веспер, но знаете, по слухам, жизнь кончается не смертью, а трибуналом. Спросят…
А потом настал час выбора. Ясная, уже протоптанная тропа на самый верх — или неверный свет хрупкого бумажного фонаря. Она решилась. О'Хара, реалист из реалистов, не поверил, посчитал это обычной женской местью. Ждал, терпел, подсмеивался. А потом все-таки решил наступить на фонарик своим тяжелым ботинком.
«Ничего личного, просто business». Даже мертвецу она не стала говорить всей правды. Вдруг и в самом деле услышит в своем аду?
«…Снежная Королева никогда тебя не обманет, Герда! Лето мы обязательно проведем вместе. Встретимся, скорее всего, в Швейцарии, тебе же очень нравятся горы. А о том, куда поедем, решим все вместе: Герда, Кай и твоя Снежная Королева…»
И вроде бы все в порядке, Гертруда закончила школьный год с отличием, учителя нахвалиться не могут, на письма отвечает аккуратно, тоже два раза в неделю, не болеет, убирается в квартире, готовит — куда лучше, чем она сама. И Кай ее любит, как мало кто может любить чужого ребенка. И у нее, потянувшейся к теплому огоньку, есть семья, есть дом, порог, который можно перешагнуть, мужчина, чье дыхание не заставляет морщиться.
Жаль только, что фонарик — бумажный.
8
— Здесь, пожалуйста. Да-да, где чугунная калитка. Сколько с меня?
Легко ли найти приличное жилье в Берлине? Если и город так себе, и цены даже не кусаются, в клочья рвут? И не всякий район хорош. В центре шумно, на окраинах — от заводского дыма не продохнешь. После Шанхая с его небоскребами, роскошными европейскими кварталами и огромными проспектами — провинция. И всюду — немцы, немцы, немцы.
Марек Шадов, разъездной торговый агент, старательный, но, по единодушному мнению соседей, не слишком удачливый, поблагодарив таксиста, захлопнул дверцу авто, поправил так и норовившую съехать на нос шляпу. Вот и вернулся! Тротуар, молодые тонкие липы, бетонный забор с фигурной железной решеткой, калитка — темный чугун, массивная бронзовая ручка. А дальше — здание в четыре этажа, светло-голубые, в цвет утреннего неба, стены, ровные линии, прямые углы[47].
На месте? Почти.
Марек поднял с асфальта чемодан, но идти не спешил. Эти короткие секунды между дорогой и домом были его законной наградой. Всё позади, сейчас он пройдет через калитку, сделает семнадцать — ровно семнадцать! — шагов по асфальтовой дорожке, потом свернет направо. Первый подъезд, двойная, недавно выкрашенная дверь, справа — маленькая будочка консьержа, которого здесь именуют исключительно «привратником» (привет доктору Эшке!). Слева — лестница. Второй этаж, ключи в кармане, тоже правом.
Сейчас он будет дома.
Марек Шадов взял чемодан, сделал первый шаг к железной калитке…
Квартиру он выбирал сам. Мужчина, глава семьи — положено. ОНА не стала спорить. Удивилась лишь, когда Марек заявил, что за жилье намерен платить из своего кармана. И за школу для Герды. И за пансион. Поглядела чуть насмешливо, сжала губы:
— Надеюсь… наша дочь не будет голодать?
Хотела сказать «моя», но в последний миг исправилась, и Марек был ЕЙ за это благодарен. Иногда, в редкие мрачные минуты, ему начинало казаться, что они лишь играют в семью, и все, что у него есть, — чужое, взятое взаймы…
Но в любом случае ОНА играла честно.
Квартиру он нашел. Район Пренцлауэр-Берг, поселок Карла Легина — заповедник разноцветных геометрических фигур, память о короткой эре германского конструктивизма. Никакой красоты, ни малейшего изыска, зато много света — и воздуха много…
Конструктивизм ныне не в моде. В Рейхе предпочитают дома с куполами и огромными колоннами, рядом с которыми человек ощущает себя вошью.
Этаж первый. Этаж второй…
Он открыл дверь, шагнул за порог и сразу же почувствовал запах табачного дыма. Поставив чемодан, снял шляпу и постучал костяшками пальцев в дверь, что вела налево, в маленькую комнату, одну из двух. Дождавшись «Входи!», взялся за медную ручку.
— Это я, Герда! Привет!..
Девочка — светлые волосы, вздернутый острый нос, неожиданно твердый мужской подбородок — полусидела на кровати, пристроив подушку под спину. В правой руке сигарета, в левой — книга, утыканная закладками. Пепельница на простыне, смятая газета — на коврике.
Улыбнулась, затушила сигарету, книгу закрыла.
— Привет, Кай! Ты меня поцелуешь — или отправишь рот полоскать?
Глава 3. Отомар и Гандрий
Яичница и кофе. — Эскадрилья прикрытия. — Близнецы. — Башня Цитглогге. — Книжка про шпионов. — Настоящий мужчина. — Существа, не приспособленные к жизни. — Новая игрушка. — Пули из ствола. — Имя для броненосца.
1
К табачному запаху прибавился мятный, ее щека, наскоро и небрежно вытертая, была влажной и неожиданно холодной. Капля воды уютно пристроилась на самом кончике носа.
— Прополоскала. Готова!
Терпеливо переждав поцелуй, ухватила его за шею, прижалась носом к пыльному пиджаку, замерла.
— Только не спрашивай, когда я брошу курить, ладно? Иначе мне снова придется отвечать, и мы поругаемся. А я не хочу. И вообще, ты приехал на день позже, чем обещал.
Марек (в этих стенах — Кай) попытался ответить, объяснить. Его вина! После столь успешных гастролей доктора Эшке пришлось ехать не прямо в Берлин, а с пересадкой.
Не успел.
— Получила я твою телеграмму! Получила!.. «Все в порядке, не волнуйся!» А чего мне волноваться? Всего одна ночь в пустой квартире, а я — совсем взрослая девочка…
Уезжать из дому приходилось часто, куда чаще, чем ему бы хотелось. Если больше чем на два дня, Герда отправлялась в пансион на соседней улице, который успела искренне возненавидеть.
Только не спрашивай…
— Герда, ну когда ты бросишь курить?
— Когда мы будем жить все вместе, Кай. Ты, я — и Снежная Королева.
Девочка дышала тихо, словно спала. Марек коснулся рукой ее мокрых волос, погладил по щеке, поцеловал в ухо. Герда, мотнув головой, провела ладошкой по мокрому носу.
— Не обижайся, Кай. Страшно было ночью. Очень страшно! Мне показалось… Не смейся, ладно? Будто мне кто-то сказал, что ты не вернешься. И Королева не вернется. Я останусь здесь одна, в пустой квартире, буду ждать — и не дождусь. А потом полиция взломает дверь, и меня отведут в приют. Как Марту из нашего пансиона, у которой родителей арестовали.
Выдохнула, попыталась улыбнуться:
— Я свет не выключала, но только одну лампочку, которая над кроватью. Много не нагорело, не беспокойся… Я уже узнала — это называется «контрастность», искажение восприятия. Из той книжки по психологии, которую ты мне подарил.
Марек ничуть не удивился, лишь представил, что это ему десять лет, и не Герда, а он, маленький Отомар, берет в руки тяжелый том с названием в две строчки.
— Только имей в виду, бром я пить не буду. Редкая гадость, хуже трескового жира!..
Девочка отпустила его шею и, взяв со столика гребешок, подошла к висевшему на стене зеркалу.
— Сейчас. Минута — и стану похожей на человека… Ты, Кай, конечно же, голодный, но самому тебе готовить лень. В кафе, что на углу, я тебя не отпущу, там ужасно. Лучше сделаю тебе яичницу. Тебе, как обычно: один глазок разбить, один оставить?
Мареку стало стыдно, но в кафе с поэтическим названием «Утренняя страна» кормили и в самом деле плохо, хуже некуда.
— Один оставить, да. А кофе я приготовлю сам.
Чаще всего они так и завтракали — вдвоем. У плиты возилась Герда, если же нет, то накрывала на стол и мыла посуду. Но в те редкие дни, когда в Берлин приезжала ОНА, девочка заявляла, что готовить разучилась, а где находится кухня, не помнит. Жена смеялась — и заказывала еду в ближайшем ресторане.
Однажды, после очередного ЕЕ отъезда, Герда долго молчала, а потом спросила шепотом:
— Кай! А может, я маме не нужна?
Первый раз на его памяти Снежная Королева лишилась своего титула.
* * *
Яичница удалась на славу, а вот кофе выпить так и не пришлось. Марек успел лишь поставить медную турецкую джезву на огонь, чтобы дать ей немного прогреться. Воды пока не наливал. Настоящий кофе готовится не спеша, вдумчиво…
— Наверно, соседи, — рассудила Герда, услыхав трель электрического звонка. — Ты не отвлекайся, я открою.
Он чуть было не согласился, но пальцы, державшие джезву, внезапно дрогнули. Он только успел приехать, и часа не прошло. Но если его увидели в окно и позвонили по телефону — те же соседи, к примеру, — нежданным гостям самое время появиться.
«Крабат!.. Кра-а-абат!..»
— Я сам. Не выходи пока, будь здесь.
Поставил джезву на стол, снял фартук, подмигнул девочке.
«Крабат!.. Иди в Шварцкольм на мельницу!»
Спрашивать «кто?» не стал. Черного хода в квартире нет, а из окна не выпрыгнешь. Хоть и второй этаж, а высоко. И он не один.
Открыл.
Попятился.
— Это ты так в гости приглашаешь? — засмеялся тот, кто стоял за порогом.
И подмигнул.
2
— Смотри-смотри! — выдохнул Хинтерштойсер. — Да погляди же ты!..
Не выдержав, ухватил друга Тони за плечо, тряхнул от души. Тот с явной неохотой оторвал взгляд от газеты.
— Что?
На этот раз и слов не нашлось. Андреас молча ткнул пальцем прямиком в открытое окно купе. Курц, взглянув недоуменно, пожал плечами.
— Боденское озеро, едем по расписанию. Думал, заблудились?
Хинтерштойсер открыл рот… Закрыл. Наконец ухватил-таки нужное слово за хвост.
— Г-горы! Там!..
Там — за озерной ширью. Каменистый неровный берег, белые барашки волн, неспокойная водная гладь, серо-зеленая у берега и темная, почти до черноты, вдали. А за всем этим — многоглавая гряда, увенчанная белыми шапками.
Альпы.
— Дальше, за ними… Эйгер там! Понимаешь?
Курц положил газету на столик, улыбнулся:
— Ну, не совсем за ними. Андреас, ты что, гор не видел?
— О-о! — встрепенулась их соседка, полная румяная дама весьма преклонных лет. — Молодые люди первый раз в Швейцарии? Как я вам завидую!..
Молодые люди переглянулись.
— Не первый, майне фрау, — как можно вежливее пояснил Хинтерштойсер. — Но очень соскучились.
И вновь вцепился взглядом в белые ледяные вершины, все еще не решаясь поверить. Неужели вырвались?
…Вырвались, вырвались, вырвались! Эйгер, Норванд, Стена!..
— В Швейцарии, господа, вам непременно следует пройти курс в кефирном санатории, — рассудила дама. — Уж извините, но в прежние годы быть столь худыми, как вы, считалось моветоном. А весь секрет — в правильном пищеварении.
Андреас попытался ущипнуть себя за живот и разочарованно вздохнул.
— …Настоящий мужчина должен быть толст и усат, господа! Кстати, лучший кефир здесь, чтобы вы знали, в Шлейдеке. Такой милый городок! Я, правда, не была там уже лет сорок…
Вслед за этим последовало предложение вместе посетить вагон-ресторан, дабы не пропустить время обеда. Не найдя понимания, дама взглянула на приятелей с горькой укоризной.
— Я бы сказала, что вы, господа, похожи на анархистов, но в наше цивилизованное время даже они правильно питаются!..
И отбыла, прошелестев юбками. Тони, проводив ее взглядом, взял со столика газету — утренний выпуск «Suddeutsche Zeitung», приобретенный в киоске перед самой границей.
— Не хотел при ней. Слушай новости!..
— Про политику — не хочу! — отрезал Хинтерштойсер. — Шли бы они все!..
На душе скребли кошки — про Фрауэнфельд приятелю он так и не рассказал. Да и что это изменит? Все и так на виду, никаких газет не надо. Пока ехали, насмотрелись на военные эшелоны чуть ли не на каждой станции. Из репродукторов марши гремят, а между ними то «Судеты», то «Австрия», хоть уши затыкай. Про Швейцарию пока вроде бы молчок…
— Ну и зря. Хорошо, что мы с тобой до Берна едем. В Цюрих бы не пустили, там какая-то крупная заваруха. Вроде бы над ратушей знамя со свастикой подняли. Кажется, и в Швейцарии начинается[48].
Выходит, уже и не молчок…
— Обещанная фюрером «германская весна» плавно перетекает в одноименное лето. А французы и русские, между прочим, уже подтягивают войска к границе…
— Не хочу! — мотнул головой Андреас. — Мы для того и сбежали, чтобы об этом не думать. Про Эйгер что пишут?
Тони взглянул удивленно:
— Как — что? Норванд, последний неприступный склон в Альпах, будет непременно взят. И знаешь кем?
Хинтерштойсер даже не стал отвечать ввиду полной ясности. Не в кефирный же санаторий они едут! Курц хмыкнул и развернул перед ним газетный лист.
* * *
— «Эскадрилья прикрытия „Эйгер“»? Во дают! Они там что, летать собрались?
— Тебе, Андреас, в школе надо было на уроках учителей слушать, а не в церковном хоре своим козлетоном народ пугать.
— Сам ты, Тони, козлетон! У меня, между прочим, настоящий тенор, я чуть-чуть, самую малость, до си-бемоль не дотягиваю. И было бы чего слушать! СС и есть СС, «охранные отряды».
— А также «эскадрилья прикрытия». Это Геринг придумал, он, как ты знаешь, летчик. Вот и назвали команду, которая раньше была «гэнгз». Но «гангстеров» в «Фолькише беобахтер» поминать как-то неприлично. Арийский читатель не поймет!.. Не в «эскадрилье» дело, Андреас. Помнишь, ты спрашивал, кого они на Эйгер пошлют? Вот и я спрошу. Мы же всех наших знаем, которые из «категории шесть»!
— Да мало ли? Выдернули из строя парочку белобрысых болванов…
— Нет, Андреас. Их принимал лично Гиммлер, значит, в успех он верит. Даже знамя какое-то вручил, чтобы на вершине установили. Муссолини-то со своими встречаться не стал.
— Да какая разница, Тони? Принял, не принял…
— Политика, Андреас! Та самая политика, которую ты так не любишь. От Италии идут две команды, в том числе Бартоло Сандри и Марио Менти. Очень сильные ребята, мы их знаем. Если бы Дуче с ними встретился, они были бы обязаны лечь костьми, но Северную стену взять. Или просто лечь костьми. А раз не встретился, то — по возможности.
— А Гиммлер «эскадрилье» знамя вручил… То есть, выходит, итальянцы Эйгер нам отдают?
— Не нам с тобой, Андреас. Мы в этом раскладе — совершенно лишние.
— Вот и пусть занимаются своей политикой. Им — политика, а нам — Стена!
3
В последний раз он смотрелся в зеркало перед тем, как попасть на кухню. Мельком, мимо проходя. Думал волосы пригладить, а потом решил — сойдет. Зеркало висело в коридоре, от вешалки справа. Еще одно, маленькое, было в комнате у Герды и, венец всему, трюмо — в большой, где балкон.
Сейчас перед ним открылось новое, прямо в четырехугольнике дверного проема. Изображение казалось ясным и четким, хотя не слишком точным. Он — без пиджака, в одной рубашке, изображение в строгом черном костюме при галстуке и шляпе. А еще у него не было портфеля — и маленькой щеточки усов под носом. А так — и не отличить.
Глаза в глаза. Один и тот же цвет роговицы, один и тот же взгляд.
Изображение улыбалось. Он попытался — не смог.
— Заходи!
Изображение перешагнуло порог, стирая нестойкое волшебство. Чуда нет, нет и зеркала, просто двое очень похожих, словно капли осеннего дождя, людей.
— Pa, zdravo, Otomar!
— Zdravo, Gandrij![49]
Обнялись. Замерли. Дыхание затаили. Наконец тот, что был в рубашке, отступив на шаг, провел сжатым кулаком по глазам.
— Ako ste doshli, to znachi kraj sveta je blizu. Коня бледного во дворе оставил?
— Tako neshto, — отозвался голос-эхо. — Ali ipak, mahnito drago da te vidim. Очень рад!
Гость снял шляпу, повертел в руках.
— Gde to hang? — усмехнулся. — Не завел себе в прихожей оленьи рога — такие, как у деда висели? Oni su tamo mzhdu nachin, i dale visi.
Тот, что в рубашке, рассмеялся в ответ:
— Sam rogovi rastu!
Шляпу взял, пристроил на вешалке:
— To je neshto shto sam sanjo Krabat! Помнишь? «Крабат!.. Иди в Шварцкольм!..»
Гость, капля дождя, взглянул удивленно:
— В самом деле? Это знаешь, не слишком лояльно по отношению к Рейху. Крабат ныне отменен, как никогда не бывший. Сорбов вместе с их мифологией, да будет тебе известно, выдумал австрийский Генеральный штаб, чтобы помешать Пруссии…[50]
— …Исполнить ее историческую миссию — объединить всех, в ком течет немецкая кровь. Когда мы услыхали это от одного нашего одноклассника, мы его, помнится, крепко побили…
— Ай!..
Стоящая в дверях светловолосая девочка протерла глаза, отступила на шаг.
— Д-добрый… Добрый день! Или мне лучше уйти?
Гость почесал ногтем кончик носа, взглянул снисходительно.
— Фройляйн Гертруда, насколько я понимаю? Желаете оставить своего отчима мне на съедение?
В светлых глазах вспыхнул нежданный огонь. Девочка шагнула к Мареку, взяла за руку, вцепилась в пальцы.
— Он — мой папа, ясно?
— Ну, тогда, здравствуй, племянница!
* * *
Капли дождя неотличимы на глаз, но одна все равно упадет на землю раньше. Близнецы родились с разницей всего в несколько минут. Тому, кто появился на свет первым, акушер повязал на запястье красную нитку.
Старшего назвали Отомаром в честь мудрого и справедливого короля сказочной Липарии. Роман «Всеобщий мир» голландца Людвига Куперуса очень нравился отцу. Младший стал Гандрием. Дальний родственник, бабушкин дядя Гандрий Зейлер, был автором слов сорбского национального гимна.
Имя — Судьба. Но и Судьба способна шутить. Носивший сказочное имя не любил сказок. Тезка одного из отцов сорбской нации предпочел стать немцем.
— Харальд Пейпер, прошу любить, жаловать и в дальнейшем не путать!
— Кто же таких у нас любит, брат?
— У нас — нет. Но мы же едем в Берлин!
Приехав в столицу, братья расстались на вокзале Зюдкройц и с тех пор виделись редко. Отомар-Марек устроился в театр-варьете, знаменитую «Скалу», на должность помощника машиниста сцены. Гандрий-Харальд не спешил искать работу. Бегал по демонстрациям и митингам, присматривался, внимательно слушал — и наконец записался в «Югенбунд»[51]. Там кормили, взамен же требовалось немногое: громко орать и, в случае приказа, пускать в ход кулаки.
— Мы оба с тобой рабочие сцены, — сказал младший старшему в одну из их редких встреч. — Но это лучше, чем твои проститутки у рампы — и мои педерасты в штабе.
А потом Марек сел на пароход и уехал в Шанхай. За все годы он написал брату три письма. В ответ получил одно. Вновь встретились только в 1931-м. Проговорили весь вечер — и каждый решил, что больше им видеться незачем.
* * *
— …Почти как дома! — улыбнулся гость, допивая кофе. — Герр Шадов, вы — достойный продолжатель славной традиции. Настоящий турецкий рецепт! Вы в курсе, фройляйн Гертруда, кем был наш общий предок? Или ваш… папа оставил вас в неведении?
Паузу перед «папа» девочка прекрасно уловила. Но виду не подала.
— А я еще маленькая, герр Пейпер. Когда папа захочет, тогда и расскажет.
Моргнула, поглядела наивными глазами…
«Дядя» был проигнорирован, что, конечно же, не укрылось от гостя. Герр Пейпер, однако, ничуть не обиделся. Поставил чашку на стол, промокнул салфеткой губы.
Вновь подмигнул брату:
— Держишь в тайне? Тогда пусть фройляйн считает, что я просто пошутил.
— Хочешь — рассказывай, — старший пожал плечами. — Невелик секрет! Могу и сам. Наш предок — полковник австрийской армии, командир полка кроатов. По легенде, он дружил с Георгием Кульчицким, героем битвы под Веной. От него и узнал рецепт. А Кульчицкий открыл первое венское кафе, которое называется…
— …«Синяя фляжка», — подхватил брат. — Кстати, я там был всего неделю назад. Кофе и вправду божественный.
— Тогда я пойду, — рассудила Герда. — А то вы до вечера про кофе говорить будете.
Возле двери остановилась, поглядела в окно.
— И вообще мне все это приснилось. Правда?
Мужчины переглянулись. Негромко хлопнула дверь.
— Наш характер, — негромко проговорил младший. — А моя размазней растет. Маменькина дочка, бабушкина внучка! Куклы, бантики, любимый шоколад «Золотая печать»…
Резко повернулся, приударил ладонью по столу.
— Адреса я твоего не знал, где служишь — тоже. Помнил лишь, что где-то в Берлине… Я нашел тебя за сутки, Отомар, — сам, без помощи агентуры, хотя квартира куплена не на твое имя, и ты, хоть и коммивояжер, не числишься ни в одной торговой фирме. Догадываешься, что это значит?
Старший пожал плечами.
— Вероятно, то, что мне не стоило уезжать из Шанхая. Но там сейчас большая война… Если бы меня искала обычная полиция, я бы еще понял. Но ты ведь не из обычной?
Гость, криво улыбнувшись, встал и подошел к плите, возле которой скучал принесенный им портфель. Взял за ручку, поставил посреди стола.
— Приступаем к фокусам. Считай, что это шляпа, а в ней кролики.
Марек Шадов, не став спорить, щелкнул медным замочком, открыл, заглянул.
— Доставай! — подбодрил младший. — Там почти все — твое.
…Вчетверо сложенная афиша, углы слегка примяты, левый нижний оторван. «Вольфанг Иоганн Эшке. Инопланетяне: сказка или реальность?» Машинописные листы, тоже сложенные, но вдвое — договоры с лекториями. Несколько билетов, фотография, еще одна…
— У тебя такой? — поинтересовался младший, когда из портфеля был извлечен резиновый шарик. Марек взвесил его на ладони, сжал:
— Не такой. У меня — каучуковый. С резиной не поработаешь.
Пошарил рукой в портфеле, взглянул недоуменно:
— А там что за железо? Надеюсь, не мое?
— Не твое, — равнодушно проговорил Харальд Пейпер. — Но если хочешь, оцени.
Легкий стук. Посреди стола, рядом с портфелем — серая тяжелая сталь. Длинный ствол, деревянная рукоять.
— Борхардт-Люгер 1914 года, — констатировал старший. — Карабинная модель… Кобуру на службе забыл?
Младший поморщился:
— Если бы только кобуру! Там еще приклад, диск на 32 патрона и экспериментальный оптический прицел[52]. Наши умельцы решили скрестить бульдога с носорогом. Пытался пристрелять, бьет не кучно… Клади назад, к лекциям про инопланетян эта штука отношения не имеет. А вот все остальное…
Подождав, пока пистолет вновь нырнет в портфельные недра, развернул афишу, звонко щелкнул ногтем по бумаге.
— В этой истории, Отомар, есть только один положительный — для тебя! — момент. Мое начальство не знает настоящей фамилии доктора Эшке. Пока не знает, пока! По фотографиям сразу не определить, грим мешает. Но стоит им присмотреться, потом взглянуть на меня… Или, что вероятнее, найти тебя — и тоже взглянуть. Оба варианта нас с тобой совершенно не устраивают.
Старший брат встал, подошел к подоконнику, поглядел сквозь чистые, недавно вымытые стекла. Все привычно: двор, два гаража, сосед как раз открывает ворота. В последнее время он и сам подумывал купить машину, что-нибудь подержанное, после серьезного ремонта. В самый раз для разъездного торгового агента.
Жену он просил не подъезжать к дому на автомобиле. «Mercedes- Benz 500K» сразу бы вызвал вопросы. Та не спорила, брала такси.
— Никогда не думал, что тебя подведу, Гандрий. И нарушение-то плевое. В конце концов «доктора Эшке» можно считать творческим псевдонимом. Между прочим, документы подлинные, правда, настоящий доктор, если еще жив, скучает в шанхайской психиатрической лечебнице. Что мне грозит? Статья за присвоение чужой личности? Или… Или обвинение в шпионаже в пользу планеты Венера, а заодно и пояса астероидов?
— Значит, уже знаешь.
Младший успел незаметно подойти и стать рядом. Сжатые кулаки — на подоконнике.
— Сейчас мы сядем, я налью в стакан воды… Чего-то в горле пересохло… И ты, Отомар, станешь меня внимательно слушать, не перебивая и не задавая вопросов. Но для начала ты должен знать, что я не Каин и никогда им не стану.
Тот, кому когда-то повязали на запястье красную нитку, еле заметно дрогнул губами:
— Оставь. Мы близнецы. Нельзя предать самого себя.
— Можно, брат, — Харальд Пейпер зло оскалился. — Этим сейчас занята половина Рейха. А вторая — уже предала. Но — не мой вариант. Даже если я сейчас тебя арестую и отведу в наш подвал, мне и спасибо не скажут. Мы слишком похожи, узнать настоящие имя и фамилию — пара пустяков, достаточно послать запрос туда, где нам выписали документы. И — мне конец. Мы же с тобой сорбы! Ты не скрывал, а я назвался немцем, взял чужую биографию. Кто же его знал?
…Отомар Шадовиц просто отрезал от фамилии несколько букв. Гандрий же попросил вписать в новый документ фамилию соседа, таможенного инспектора, ненавидимого всей улицей. Зато — настоящего немца. Светлые волосы, пивное брюхо…
— Наци — опасные психи, относятся к людям, как к племенному скоту. Офицер СС должен числить арийских предков с 1750 года. Сделать это было не так и сложно, изъял из архива документы настоящих Пейперов, благо там все померли. А теперь меня выкинут из СС, из партии и, понятно, со службы. В концлагерь, может, и не отправят, чтобы лишнего шума не было, но выход у меня тогда останется один — бежать из страны. Это в самом лучшем случае, брат, если очень повезет. Вероятнее всего, тебя убьют, а меня — в Дахау. Стану «болотным солдатом». Знаешь, кто это?
Старший чуть подался вперед, к самому стеклу, прикрыл веки:
Мы застряли безвозвратно, За побег ты жизнь отдашь, Обведен четырехкратно Частоколом лагерь наш.Пел шепотом, почти не открывая губ. Младший усмехнулся горько и подхватил, тоже шепотом:
Солдат болотных рота, С лопатами в болота — идем…Теперь пели оба, два шепота слились в единый голос, негромкий, но сильный:
Не томись тоской бесплодной, Ведь не вечен снег зимы, Будет родина свободной, Будем с ней свободны мы! Болотные солдаты, Идем среди проклятых — болот…[53]Замолчали, поглядели друг на друга. Брат на брата…
— У тебя здесь можно курить?
— Тебе — можно.
* * *
Плеск воды, негромкий щелчок зажигалки…
— Ты скажешь, что я сам виноват, брат, по вору и мука. Не стану оправдываться, я просто ошибся, и не я один. Национал-социализм — он очень разный. Мы здесь, в Берлине, поддерживали Отто Штрассера, а Ефрейтора считали самовлюбленным мелким буржуйчиком, которого надо выкинуть из партии. Теперь Штрассер мертв, а мне и моим друзьям приходится молчать. Но — поглядим. Ефрейтор зарвался, пошел походом против всей Европы, как бы шею ему не свернули… Ну, а мы, если что, слегка поможем.
Снова плеск воды, негромкий стук — стекло ударило о столешницу.
— А пока надо просто выжить. Мне верят, числят «старым бойцом», я ведь в партии с 1927-го. И со службой повезло, таких, как я, никто из чужих не проверяет, а свои — они и есть свои. Но недавно у нас появился новый босс. Кличка — Козел[54], задница шире плеч, голос, как у скопца из Ватикана, но, понятно, истинный ариец. Очень опасный человек! Знал бы заранее, попросился бы в криминальную полицию, там спокойнее. Козел — он не просто Козел, он с идеями…
Молчание, резкий щелчок зажигалки. Еще раз, еще…
— Не иначе, кто-то поминает. Знаешь эту примету, Отомар? Если сигарета гаснет… Ты в нашей кухне не разбираешься, поэтому кое-что объясню. Почему наши бонзы, начиная с Ефрейтора, так часто орут о единстве, хоть «германском», хоть каком? Да потому что наверху у нас никакого единства нет, раздрай, как в банке с пауками. Каждый, у кого есть хоть кусочек власти, рвется проводить собственную политику, чтобы всех прочих перегнать и обставить. Судеты — это Геббельс, его идея. Пообещал, бычок недокастрированный, что без войны обойдется. Мирное немецкое восстание — и Европа перед фактом. Чем кончилось, сам видишь. Опасная он сволочь, Колченогий! Всех в беду втравил. То ли дело наша служба. Мы Австрией занимались. Всего полгода работы, а результат? Вот сейчас проголосуют — и в дамки, вводи войска! Проголосуют, не беспокойся. Главное, не что в урну кидают, а кто это подсчитывает.
Легкий стук, шелест бумаги, снова стук.
— Вот… Красивая афиша, сам бы сходил про марсиан послушать. «Доктор Эшке, знаменитый филолог-германист»… И до него добрались. У Козла, нашего нового босса, тоже своя политика. Дело в том, что Ефрейтор всерьез поверил, будто в Судетах и Тешине чехи используют какое-то сверхоружие. Инопланетное ли, другое какое — не важно. Кстати, по сведениям нашей агентуры, неизвестные нам технологии действительно существуют.
Снова щелкает зажигалка.
— Точно поминают, знать бы кто… Итак, Козел решил это оружие найти — и представить по начальству. Он думает, что болтовня про марсиан — умелое прикрытие. Кто принимает фантастов всерьез? Ездит себе по Германии доктор Эшке, сказки рассказывает. Для чего, спросишь? Ну, к примеру, для деморализации подданных Рейха. С одной стороны, его лекции, а с другой — слухи, будто в Судетах нашу колонну неведомо чем в лепешку расплющило. Нет, это не я дурак, с Козла спрашивать надо. Инопланетян мы пока отправить в подвал для допроса не можем, поэтому занялись теми, кто с ними знается. После применения соответствующих методов они расскажут и про Марс, и про Венеру, и про Альфу Центавра. А не выйдет с новым оружием, можно будет оформить раскрытие заговора. Ефрейтору это понравится. Он ведь считает, что Земля — полая, мы живем на внутренней поверхности, а в центре — свечка горит. Поэтому инопланетян не существует по определению, как и сорбов.
Плеск воды, легкий стук. Ладонь бьет по дереву.
— А теперь о том, как тебе, Отомар, унести отсюда ноги. Времени мало, дня через два никаких тайн уже не будет. Твои фотографии разошлют всем пограничным постам, а по Рейху пустят частый гребень. Условий у меня два. Ты действуешь точно по плану, иначе погорим мы оба. Это первое. И второе — надо вывезти из Германии еще одного человека…
4
Башня Хинтерштойсеру очень понравилась — ни дать ни взять дедушкины часы с маятником, что стоят в гостиной. Там тоже башенка — ровный серый квадрат, хитро изогнутая крыша, острый шпиль. И циферблат похож: темный, с вызолоченными римскими цифрами и тяжелой стрелкой-булавой. Только и разницы, что в Часовой башне славного города Берна внизу, как раз посередине, прорезана арка.
11.53. Андреас сверился со своими наручными, кивнул довольный. «Helvetia»! Пусть не из самых известных, а идут хорошо. Их тоже дед подарил — на шестнадцатилетие. До сих пор — минута в минуту. И падал с ними, и в речке купался…
«Helvetia», кстати, и есть «Швейцария». Даже приятно!
Башня понравилась, а вот улица — не очень. Хинтерштойсеру были не по душе дома выше двух этажей. А здесь не просто много, но над ними, под самой крышей — козырек, да такой, что хочется на другую сторону улицы перейти. Но и там он же, причем на каждом здании. Так и кажется, будто попал в ущелье, козырьки — ледяные, а солнышко греет, лед нестойкий, весенний…
И не убежать. Курц высказался ясно и точно: Часовая башня, она же Цитглогге, западный фасад, с 11.30 до 12.00. А если ничего не произойдет, ждать до результата. Кого ждать — или чего — не просветил.
Андреас вновь хотел сверить часы, но вдруг услыхал, как где-то совсем неподалеку подал голос петух.
— Кикерики!..[55]
А вдогон, чтоб веселее было: «бом! бом!»
Можно даже не смотреть — 11.56. Это здесь, у западного фасада, часы самые обычные, как у деда в гостиной. А если нырнуть под арку и поглядеть на башню с другой стороны, так там, справа от циферблата, сейчас целое представление начинается. Кукольный театр, чудо средневековой механики. Петух орет, шут лупит в колокол, а после медведи с рыцарями в пляс пойдут. Потому и велел Тони ждать именно тут, чтобы среди туристов не потеряться.
— Бом-м-м!..
Полдень!
— Я уже здесь!
Курц!
* * *
— Точно никого не было? Ты никуда не уходил?
Хинтерштойсер поглядел грустно, и Тони решил не усугублять. Достал из пиджачного кармана примятый желтый бланк, поднял повыше.
— Я с главного почтамта. Догадайся, кто телеграмму прислал?
Андреас задумался, но ненадолго.
— Если не герр обер-фельдфебель, то… Кто-то из наших? Тогда Генрих Харрер, некому больше. Мы же только ему сообщили, куда собираемся.
— Угадал.
Курц развернул бланк, положил на ладонь:
— А теперь читай! Начало можешь пропустить, там все понятно. А вот дальше…
Андреас взял телеграмму, повернулся к солнцу, от тени подальше.
— И я бы так написал. «…И пусть не лопнет натяжной трос!» Завидно парню!.. Дальше, говоришь? «Ледовое поле — возможен камнепад. Каски!» Каски?! Они что, с Джоном Гиллом сговорились? Да кто же в касках на скалы ходит?
Тони забрал телеграмму, спрятал, вверх поглядел — на карнизы, что протянулись вдоль всей улицы. Хинтерштойсеру внезапно представилось, как тяжелая каменная кромка беззвучно отрывается от стены, распадается на неровные острые обломки…
— В Аппалачах уже ходят, — задумчиво проговорил Курц, не отрывая взгляда от ровного ряда крыш. — Гилл, как ты помнишь, считает, что летом ледяные поля особенно опасны. Подтает — и посыплется прямо нам на головы. А каски нужны не такие, как в армии, а полегче, поудобнее… Было бы время, занялся бы… Кстати, сколько сейчас времени?
— Десять минут первого, господа, — отозвался молодой женский голос. — Немного опоздала, извините. А каски я привезла.
* * *
…Синяя шапочка-чепчик, миниатюрная квадратная сумочка, тоже синяя. Бежевое «лётное» платье. Сама же худая, как спичка, хоть об коробку зажигай. Голубые глаза — бледное северное небо. Носик-пуговка, резко очерченный маленький рот.
— Баронесса Ингрид фон Ашберг-Лаутеншлагер Бернсторф цу Андлау. А ваши фотографии, господа, я в газете видела.
Вначале взглянула на Тони, потом на Андреаса… Хинтерштойсер сглотнул. На вид девице хорошо если восемнадцать, а голосок такой, что герру обер-фельдфебелю самое время пойти перекурить.
— Я… Мы очень рады, баронесса, — первым нашелся Курц.
Носик-пуговка дернулся:
— Только, пожалуйста, без феодальных пережитков. Всех своих знакомых я уже отучила. Труднее всего было с моим кузеном, у него характер еще хуже, чем у меня самой. Ничего, справилась!.. Ингрид — и не иначе!
— Андреас!
— Тони!
Ладонь баронессы была холодной и твердой, словно остывший к вечеру гранит. Хинтерштойсер отделался легко, одним пожатием, Курца же просто так не отпустили.
— Тони… — задумчиво проговорила девушка, не убирая ладони. — Но вы же не американец? У вас нормальное имя есть? У меня на американцев, признаться, аллергия.
Курц только моргнул и Андреас кинулся на выручку.
— Так точно, Ингрид! Горный стрелок Курц в крещении — Антониус. По имени святого, но не Египетского, а Падуанского. У нас в Баварии его очень почитают как покровителя младенцев. В Хайдльфинге в честь святого Антониуса капеллу построили, очень, знаете, красивая!..
Ингрид дрогнула губами, словно пробуя имя на вкус.
— Антониус… Сразу запахло ладаном. Но все же лучше, чем Тони, так только пуделя можно называть. Договорились!
Руку отпустила. Курц, воспользовавшись моментом, показал другу Андреасу кулак.
— А теперь, господа, вернемся к тому, с чего начали. Сейчас уже не десять минут первого, а четверть. Я проголодалась. Где тут поблизости приличный ресторан?
От любительницы кефира отбиться удалось сравнительно легко. Но здесь был совсем другой случай.
Курц понял это сразу.
И Хинтерштойсер понял.
5
— Ты ему не верь. У него глаза плохие.
— Такие же, как у меня.
Маленькая комната, большое, во всю стену, окно. Светлый линкруст, по потолку — разноцветные полосы, узорный линолеум на полу. На стене — зеркало, на другой — фотографии в деревянных рамках. Люстра: стеклянная капля, короткие бронзовые цепи. Кровать, возле нее — столик, чуть дальше — этажерка с книгами. Шифоньер — узкий пенал стоймя. Два стула.
— Не такие. Он совсем другой, Кай. Какой-то темный… И руки дергаются.
— Клоун Белый, клоун Черный… Как в фильме. «Laugh, Clown, Laugh!» Не смотрела? И не стоит, он для самых маленьких… Это, Герда, называется «контрастность», искажение восприятия. Загляни в книжку.
Девочка сидит на кровати, подушка под спиной, на простыне — пепельница, зажигалка на столике.
Курит.
Мужчина возле окна, на стуле. Белая рубашка, ворот расстегнут. В руке — сложенная географическая карта.
— Надо сделать все, что он сказал, но наоборот.
— Наоборот — это никуда не ехать. Если меня арестуют, я, может, и выкручусь, убегу. А вот тебя могу не спасти. И Королева не сможет. Отправят в приют, изменят имя. Или хуже — в лагерь, говорят, уже и до этого дошло.
Девочка долго молчит, наконец, не глядя, тушит сигарету в пепельнице.
— Расскажи еще раз.
— У нас есть два дня, чтобы пересечь границу. Границ много, но в Чехословакию нельзя, и в Австрию нельзя. Польша — далеко. А во Францию ехать опасно, французы ввели особый режим на границе, пускают не всех. Мы — германские подданные. Если что-то случится, могут интернировать. Знаешь, что это, или объяснить?
Девочка морщится, качает головой. Пальцы тянутся к сигаретной пачке. Смотрит на мужчину, ловит его взгляд. Пальцы отдергиваются.
— Я знаю это слово, Кай. Королева будет ждать нас в Швейцарии. Но почему мы должны ехать именно туда, куда велел… герр Пейпер? Переедем границу — и свободны.
— Мы должны отвезти в Швейцарию одного человека. Ему тоже грозит арест. В Швейцарии мы не будем свободны. За границей тоже опасно, у нацистов там полно агентов, поэтому большие города, Берн, Женева, Цюрих, отпадают. Гандрий… Герр Пейпер забронировал номера в горном отеле, два километра над уровнем моря, приют для альпинистов. В любом случае этого человека мы должны переправить через границу и доставить в Швейцарию. Я обещал.
Сигаретная пачка в руке, девочка взвешивает ее на ладони, думает. Кладет на столик. Пожимает худыми плечами.
— Если обещал, то и говорить не о чем. Я еще маленькая, меня никто не станет слушать, даже ты, Кай. А мне всё не нравится. Если бы герр Пейпер… Если бы твой брат и в самом деле хотел тебе помочь, то сделал бы так, чтобы никто не знал, где мы. И прежде всего, он сам. Представь, Кай, что все это — не в жизни, не по-настоящему, а в книжке про шпионов. Я бы и читать дальше не стала. Ясно, что ловушка. Мышеловка!
— Мы не в книжке, Герда. В жизни все куда проще. Зачем посылать нас в мышеловку, когда можно арестовать прямо сейчас? И… Не хотел говорить, но если ты права… Нам не позволят нарушить план. Их план! Или мы ему следуем — и уезжаем, как велено и куда велено, или… Или они найдут и отправят в Швейцарию другого человека с маленькой девочкой. Не такой умной — и конечно же некурящей… Вещи сама соберешь — или мне помочь?
Мужчина встает, пытается улыбнуться, затем идет к двери, берется за блестящую медную ручку.
— А тебе — спасибо. За «папу».
Девочка отворачивается, глядит в окно.
— Вещи я соберу сама.
* * *
Кай и Герда познакомились в Шанхае. Ей четыре года, ему — двадцать. На нем — новый черный костюм, пошитый к свадьбе, на ней — синее платье-«матроска», белые полосы на воротнике, белый бант на груди.
Их представили. Марек Шадов протянул руку, улыбнулся. Гертруда Веспер взглянула исподлобья:
— Ты еще один дядя?
«Она очень хорошая, — предупредила жена. — Но… Вообрази, что это я. О'Хара и мистер Мото не договорились, началась война, и мы с тобой случайно встретились».
Марек присел, согнал с лица ненужную улыбку. Поглядел прямо в светлые глаза-ледышки.
— Не «еще один». Ты поверь, а я очень постараюсь, чтобы это стало так.
Гертруда Веспер немного подумала.
— А пожимать руку — обязательно?
— Нет, — усмехнулся он. — Совершенно необязательно!
— Тогда держи!
И она протянула ладонь.
6
Женщина попыталась заснуть. Выпила лекарство, задернула занавеси. В номере сразу же стало темно, слишком темно, и она впустила внутрь узкую полоску солнечного огня. Разделась, легла на кровать, прикрыла веки. Но свет не исчез, превратившись в большое желтое пятно с рваными краями, словно кто-то плеснул краской прямо в зрачки.
Открыла глаза, наскоро вспомнила, какие лекарства еще есть в сумочке. Телефон на столике, можно поднять трубку и вызвать врача.
На какой-то миг стало страшно. Ей скоро тридцать.
Всего только…
Уже…
Она носит с собой целую пригоршню упаковок с таблетками, каждые полгода ложится в клинику, читает медицинские журналы. Что будет через год? Через три? Стоит ли оно того? Ей все время кажется, что лучшее впереди, но дни сгорают один за другим, и сегодня ничуть не лучше, чем вчера.
Мысли прогнала. Она делает что хочет, идет своей дорогой, добивается всего, чего желает. А это — главное. Иначе… А иначе не было б ничего — как и ее самой. «Проститутка из портового борделя, которая ничего не умела и всего боялась». Она не простила О'Харе этих слов, но босс был прав. Ошибся в другом — нельзя лепить из глины собственное подобие, а после оживлять. Големы злопамятны…
— Война — отец всему, — сказал как-то О'Хара. — Не помню, чья мудрость, но это действительно так.
— Гераклит Эфесский, — не думая, отозвалась она. — Если полностью: «Война — отец всему и царь».
Их последний год в Шанхае. Вместе уже давно не живут, у него в особняке — очередная любовница, девчонка-китаянка, она купила маленькую квартирку во французской концессии. Узкий переулок, выходящий на авеню Жоффр, третий этаж, дверь с двумя замками. С боссом виделись на службе, но иногда, и такое случалось, он просто заходил поболтать. Зашел и сейчас. Поцеловал в щеку, выставил на стол бутылку светло-красного «Dynasty Cabernet Sauvignon», ее любимого.
Присел в кресло — нога за ногу, подбородок вверх.
Закурил.
Пепельницы в квартире не было, и она поставила на табурет обычное фарфоровое блюдце.
— Гераклит Эфесский… — О'Хара прищурился, резким движением стряхнул пепел. — Иногда на тебя страшно смотреть, Лиззи.
Она была Ильзой, но босс называл ее только так.
— Когда мы впервые встретились, ты была голая, с синяком на левом боку, и от тебя скверно пахло. Пришлось отправить тебя под душ. Потом ты училась шлепать на пишущей машинке, затем спросила у меня, что такое двойная бухгалтерия и чем она отличается от тройной… А не так давно я сообразил, что ты танцуешь вальс лучше, чем я.
Она слышала это не в первый раз. Пожала плечами, открыла сервант, чтобы достать рюмки.
— Ты недоволен?
О'Хара захохотал, громко, привычно, но смех на этот раз показался ей каким-то ненастоящим, словно жестяным. Затем стер улыбку с лица.
— Если бы у меня был такой сын, Лиззи, я бы горя не знал. Но мой балбес только и умеет, что гонять на спортивном авто и тратить мои деньги на модные галстуки из магазина на Грин-стрит. В детстве он любил отрывать крылья у бабочек. Думал, поумнеет, увы… Но я пришел не жаловаться. Скоро мне уезжать из Китая, а поэтому… Есть разговор, Лиззи!
Золотисто-зеленое вино, мягкое цветочное послевкусие. Сизый табачный дым, негромкий спокойный голос. В таком тоне босс беседует только с самыми серьезными клиентами. Сделка на миллион…
— Ты каждый день задаешь много вопросов, Лиззи. Не все они мне нравятся, но я отвечаю, куда деваться? Ты теперь незаменимая, сам вырастил, сам воспитал. Но ты ни разу за эти годы не спросила, ради чего, ради какой цели я приехал в Шанхай. Деньги? Само собой, как без них? Война — отец всему. Китайцы воюют, а значит, платят. Но когда я запретил продавать оружие генералу Янгу, ты даже не поинтересовалась причиной. А ведь это очень большие деньги — и они достались не нам.
— Ты бы все равно не ответил. Сам вырастил, сам воспитал. Есть вопросы, которые не стоит задавать, потому что ответ и так ясен. А есть такие, которые просто не надо задавать.
Рюмки еще не опустели, однако он налил вновь, до самых краев, плеснув на скатерть. Поставил на стол блюдце, зажевал мундштук папиросы.
Взглянул — прямо в глаза.
— Когда я был мальчишкой, то часто думал, что значит стать настоящим мужчиной. Вначале, сама понимаешь, дальше кольта в кобуре и одноклассницы на сеновале не мечталось. Потом… Потом я уехал в Европу вместе с парнями генерала Першинга. Добровольно, даже медицинскую справку подделал, чтобы взяли. Солдаты — вот истинные мужчины! Если бы… Нет, Лиззи, солдат — крыса, он огрызается, потому что его загнали в угол.
— И ты решил стать тем, кто загоняет в угол?
Они выпили. Она пару глотков, смакуя, О'Хара — залпом, до дна, явно не чувствуя вкуса. Выдохнул, взял папиросу, затянулся.
— Людей загоняют в угол политики, вся эта выборная сволочь, у которой есть единственный талант — врать в глаза. Такое дерьмо не по мне. Хочешь, расскажу, что такое настоящий мужчина?
Усмехнулся, блеснув крепкими зубами, пододвинулся ближе.
— Ты — настоящий мужчина, если к тебе сбегает чужая жена — прямо из-под венца, из главного столичного собора, чтобы провести брачную ночь не с мужем, а с тобой, в грязном купе второго класса!
Она сделала еще глоток, щелкнула ногтем по стеклу:
— Амен! Это высшее достижение настоящего мужчины?
О'Хара ответил неожиданно серьезно:
— Не достижение, Лиззи. Всего лишь показатель возможностей. Через много лет этот мужчина расстелил на столе карту мира, задумался — и ткнул пальцем в Европу. Зачем? Он решил устроить там большую войну. Ничего личного, просто business. Наметил победителей, побежденных, составил смету…
— А тебя он отправил в Китай?
Мужчина, неспешно встав, потянулся, хрустнув костями, положил на плечо женщине тяжелую ладонь.
— Есть вопросы, которых просто не надо задавать. Другое важно, Лиззи. В Китае мы сделали все, что хотели, — и взяли все, что могли. Скоро сюда придут японцы, и начнется пир трупоедов. А я стал достаточно силен, чтобы самому ткнуть пальцем в карту. Ты можешь остаться здесь, можешь уехать подальше и обо всем забыть… И можешь поехать вместе со мной! Ответ — сейчас, причем только «да» или «нет».
Она не спешила. Допила вино, взяла папиросную коробку, прикусила зубами бумажный мундштук. Зажигалка выстрелила синим огоньком, но с первого раза прикурить не удалось. Она щелкнула еще раз, еще…
7
— Я убедилась, господа, что мужчины — существа, совершенно не приспособленные к жизни, — изрекла баронесса фон Ашберг, закуривая сигарету, вставленную в чуть ли не полуметровый янтарный мундштук. — Не возражайте. Как говорят материалисты, практика — критерий истины.
Подали кофе. Если с обедом как-то обошлось, то с кофейной картой случилась накладка. Ингрид, изучив ее вдоль и поперек, нахмурилась, подозвала официанта, тот сбегал за мэтром…
Хинтерштойсер с опаской взял с блюдца маленькую невесомую чашечку. Принюхался, отхлебнул… Кофе себе и кофе!
— Вы лучшие альпинисты во всей Германии, — чеканила далее баронесса. — Вы собрались брать Норванд. И что я вижу? Двух плохо одетых молодых людей в костюмах из деревенской лавки и в несвежих рубашках. Я уже не говорю об одеколоне, которым вы пользуетесь. Держу пари, что брились вы в вокзальном туалете!
Андреас едва не подавился. Отставив кофе, полез за сигаретами, но в последний момент передумал. Киоск, где они были куплены, находился как раз у входа в мужской туалет на Банхофплац.
— У вас есть тренер? Врач? Пресс-атташе? Вы хотя бы забронировали номера в отеле?
Курц явно хотел возразить, но Ингрид махнула мундштуком, словно фокусник — волшебной палочкой.
— Не надо, Антониус! Я вполне представляю, что сейчас услышу. Вы, господа, чем-то похожи на моего кузена, которого я уже имела честь упоминать. Брутальность, самоуверенность, даже наглость — и плохо сидящий пиджак. Правда, в отличие от него, вы кажетесь куда более воспитанными. Это несколько обнадеживает.
Теперь уже и Хинтерштойсер был готов подать голос. В конце концов, кто здесь лучший альпинист? Открыл рот… И закрыл, заметив, как Тони подносит палец к губам. Ингрид, однако, тоже увидела.
— Говорите, Андреас, говорите! Вам некогда думать обо всей этой суете, вы мыслями уже на склоне, вбиваете крючья в лед… Кстати, господа, если что-то пойдет не так, кто вас будет вытаскивать? Швейцарские спасатели, насколько мне известно, отказываются идти на Эйгер. В газетах пишут, что местные гиды из Гриндельвальда прямо заявили, что подъем на Стену — это самоубийство, а самоубийцы не по их части.
Хинтерштойсер вновь собрался с силами, дабы ответить, но его опередил Курц.
— Мы это знаем, Ингрид. На Северной стене многие уже погибли, среди них и наши друзья. Мы не будем жить в отеле, мы плохо одеты, у нас нет врача, и нас никто не станет спасать. Мы такие, как есть, я и Андреас. И мы пойдем на Стену. Возможно, мы вас разочаровали… Извините!
Их взгляды встретились, и Хинтерштойсеру почудилось, что бледное северное небо в глазах баронессы на какой-то миг затянуло тучами. Как будто эта девушка увидела нечто, им недоступное. Неотвратимое. Страшное…
Почудилось! Ингрид фон Ашберг стряхнула пепел с сигареты, дернула плечами.
— С вами все ясно, господа! Хоть не хочется, а придется. С этой минуты вы оба — под моей опекой!
— Не-е-ет! — в единый голос, единым дыханием.
Баронесса улыбнулась:
— Да!
8
— Крабат!.. Кра-а-абат!..
Серая гладь старого омута, зелень влажной травы, черные трухлявые бревна рухнувшего сруба. Между бревнами — тоже трава, юркий вьюн, острый пырей. Сырость, ветхость, забытье…
— Кра-а-абат!.
— И что дальше? — спросил он у сна. — Идти на мельницу? И куда? В Шварцкольм или Хойерсверд? Так и знал, что приснится! Встретил брата, замутил душу…
— Крабат — не он. Крабат — ты. Крабат!.. Кра-а-абат!..
Он отмахнулся, словно от мухи, но сон не хотел уходить. Зелень загустела, потекла перед глазами, рухнувшие бревна беззвучно взмыли в воздух, складываясь в призрачные стены.
…Потолок, неровный темный пол, на окнах наглухо закрытые деревянные ставни. Бочонок, плошка со свечой, яркий синий огонек.
— Только не говори, что никакой мельницы не было, — Мастер Теофил, отхлебнув из глиняной кружки, вытер бледные губы рукавом камзола. — Даже если и так, Крабат. Ты видишь то, о чем знаешь. Твой предок Иоганн Шадовиц никому не рассказал, что случилось на самом деле и каков был наш с ним поединок. Пусть будет мельница!
— Пусть, — согласился он, присаживаясь на ветхую колченогую скамью. — В сказках, которые уже никто не помнит. Не знаю, что за год в вашей преисподней, но в мире сейчас 1936-й. В Германии правят наци, а все ваши мельницы с колдунами — детские страшилки по сравнению с Дахау.
Мастер отставил кружку, наклонился вперед. Зрачки полыхнули синим огнем.
— Ты сам это сказал, Крабат! Немцы выбрали свою судьбу — и поплатятся за это. А сорбы, наш народ?
Он вовремя вспомнил, что сон — всего лишь разговор с самим собой. Спорить не с кем, да и незачем. Сорбы — малая капля в чужом враждебном море, он, Отомар Шадовиц, — пылинка, подхваченная ураганом. Что он мог сделать? Что могли сделать все они, несколько тысяч, среди миллионов и миллионов?
Старая затертая треуголка дрогнула — Мастер Теофил кивнул, соглашаясь. Прищурился, cкривил рот:
Bitwu bijachu, horcu, zeleznu, nehdy serbscy wotcojo, wojnske spewy spewajo. Sto nam pojda wase spewy?Не пропел, проговорил хриплым шепотом. Блеснул синим огнем глаз:
— Когда-то это написал твой двоюродный прадед. Сорбский еще не забыл, Крабат? Или перевести на общепонятный?
— Замолчи! — выдохнул он. — Не смей!..
Хохот, тоже хриплый, словно вороний грай.
— «Битвы жаркие, в огне и железе, поминали вы, предки-сорбы, песнями ратными. Кто теперь споет нам ваши песни?» И вправду, кто? Один человек ничего не изменит, верно? Проще уехать, изменить имя, изменить Судьбу, изменить Судьбе. Ты уехал… А вот Иоганн Шадовиц вернулся домой, не стал жить в цесарской Вене. Всего один человек! Но — совпадение! — уже его дети читали и писали по-сорбски. Книги, первые школы, газеты, сборники народных песен, в храмах — служба на сорбском языке. Наш гимн… Все твои предки, кажется, учителя?
Отомар Шадовиц не удивился. Сон есть сон, это его мысли, его боль.
— Против нацистов нужны были не книги, а пулеметы. Но и они бы не помогли, нас мало, слишком мало. Германия обезумела, даже если бы каждый сорб взял винтовку… Нет, не спасло бы!
Треуголка вновь кивнула, отзываясь дальним хриплым граем.
Бога Черного, Царства древнего Позабыт алтарь. Крячут вороны, камень мхом зарос. Бог ушел от нас.Синева сплелась с зеленью, сырость пахнула холодом, бревенчатые стены надвинулись, нависли тяжелой горой.
Он встал, мотнул головой, прогоняя морок.
— Вспомнил! «Теофил» — имя-оборотень. По-гречески — «Боголюбивый», но если по-немецки…
— Teufel! — шепнул морок. — Teufel! Когда-то ты победил меня, Крабат, но теперь мой час.
Отомар Шадовиц понял, что нужно проснуться, — немедленно, сию же секунду. Крикнул — что есть сил, напрягая горло.
— …Ты оставил свой народ и сам пришел ко мне, Крабат! Кра-а-абат!..
Все сгинуло. В краткий миг между сном и явью он увидел желтое пшеничное поле, а за ним — красные черепичные крыши родного городка. Голос — детский, беззаботный, проговорил нараспев, словно читая молитву:
— В незапамятные времена упал с неба камень и раскололся. Из-под осколков выбрался Крабат и зашагал по земле. С тех пор он среди людей и делает то, что велит ему совесть…[56]
* * *
Документы и ключи Марек Шадов нашел в своем почтовом ящике. Конверт плотной желтоватой бумаги, адрес готическим шрифтом — черная тушь, аккуратные завитки, — серая бечевка. Обратного адреса на конверте не было, но это ничуть не удивило. Оставалось выйти на улицу и взглянуть, но Марек преодолел соблазн и поднялся обратно, на второй этаж.
Коридор, дверь налево.
Тук! Тук!..
Курит? Курит!
— Туши сигарету, одевайся и причешись. На все — три минуты. Время пошло!
Хотел поглядеть на часы. Не стал — успеет, проверено опытом. Поглядел вперед, на дверь в большую комнату. Именно над нею можно повесить оленьи рога, о которых говорил брат. Что ни говори, а единственная память о «барском доме», в котором жил отставной полковник Шадовиц. Все прочее вместе с самим домом давным-давно в чужих руках. Прикинул — нет, не подойдут, придется через весь коридор идти, чтобы шляпу пристроить. Жаль! Входишь в дом — и представляешь, что на острых рогах красуется старая полковничья треуголка с выцветшим от времени кантом…
— Две минуты сорок секунд, Кай!
— На выход! Встречаемся у подъезда. И не вздумай прыгать через ступени.
Он замешкался у дверей, закрывая замок, и только вздохнул, услыхав звонкое «шлеп!». Не отучишь! Прямо на середине лестничного пролета взяться руками за перила — и в полет с полуоборотом вправо…
— Герда, у меня когда-нибудь инфаркт случится!
— Только четыре ступеньки, Кай! Это же пустяки, — уже снизу, у будки привратника (не консьержа!): — Доброе утро, герр Гримм!
Стук! Входная дверь.
Когда Марек и сам оказался внизу, привратник, седой жилистый старик со сказочной фамилией, еще не успел стереть с лица улыбку. Увидев жильца, посуровел, кивнул ответственно:
— Доброе утро, герр Кай!.. О, простите, герр Шадов! Но утро все равно доброе.
Шутка была одна и та же, причем не первый год, но всем троим, включая Герду, нравилась.
Дверь первая, дверь вторая… Вот она! Светлое платьице, светлые волосы, босоножки, наивный взгляд.
— На место встречи прибыла. А мы куда?
Марек поглядел по сторонам. Асфальтовая дорожка, справа — цветущая клумба, слева обвитый молодым плющом забор. Летом здесь красиво, и осенью красиво. И весной. Даже зимой неплохо.
Он вдруг понял, что сегодня видит ставший таким привычным двор в последний раз.
— А мы с тобой налево.
Девочка, словно почувствовав что-то, взглянула неуверенно. Не побежала, пошла рядом. Калитка, медная ручка…
— Мы на улицу? А зачем?
Отвечать Марек не стал — за калиткой все сразу прояснилось. Тротуар, липы-хворостинки, улица, пустая в этот ранний час.
— Ой! А это что такое?
Не хотел, а улыбнулся. Приятно дарить детям игрушки. Куклы Герде никогда не нравились, и Мареку приходилось каждый раз находить что-нибудь новое, неожиданное.
— Это, Герда, называется «автомобиль».
И сам поглядел. Есть на что! Квадратный кузов с черным верхом, длинный нос-мотор, увенчанный крылатой серебряной статуэткой, двойной бампер — серебряные губы, фары-глаза чуть навыкате. Пять колес — четыре где положено, пятое, запасное, на правом боку. А вот цвет сразу и не определить, то ли темный песок, то ли светлое дерево.
Девочка, внимательно оглядев игрушку, наморщила нос. Взглянула — снизу вверх.
— Кай! Я и сама вижу, что это «Lorraine Dietrich 20 CV», модель 1932 года. Но разве на таком можно ехать? Нас же каждый шуцман проверять будет!
Машина и в самом деле смотрелась вызывающе. Соседям целой недели на пересуды не хватит.
— Может, и не будет, — усмехнулся Марек Шадов. — Мы, Герда, к вопросу подойдем творчески.
Еще год назад она бы переспросила, но сейчас только кивнула. Опыт имелся. Поглядела на игрушку еще раз и подвела итог:
— Это не машина, Кай. Это целый броненосец.
— Тогда надо будет его как-то назвать, — рассудил Марек. — Имя сама придумаешь?
9
Держаться решили твердо — один за всех, все за одного. Андреас за Тони, тот за Андреаса. Говорить выпало Курцу, как самому красноречивому. Хинтерштойсер, политесам не ученый, был назначен в резерв. Задача простая: молчать и обозначать моральную поддержку.
Андреас отнесся к делу серьезно. Принял соответствующий вид, нахмурился, поднял подбородок повыше. Пока все шло по плану. Девять утра, площадь Бубенбергплац, долгие ряды авто, паровозные свистки, запах горящего угля. Совсем рядом иная «плац» — Банхоф, где мужской туалет, за нею вокзал.
Баронесса!
Платье уже иное, светло-желтое, покороче и попроще. И сумочка другая, платью в цвет. Шапочка исчезла, зато в волосах появилась нитка-диадема, белые камни на белом металле.
Мундштук тот же, полуметровый. Как и выражение лица.
— У вас странный вид, господа! — Тонкие брови еле заметно дрогнули. — Надеюсь, ничего критического? Нет? Тогда могу я попросить список вчерашних и сегодняшних покупок?
Хинтерштойсер напрягся. Давай, Тони, давай! Просто и ясно: «Нет!» Если надо, то «Нет, нет и нет!» А там и он подключится.
— Ингрид! Вы нас, конечно, извините…
Андреас чуть не застонал. Тони, Тони, не время для дипломатии! Ты же не фон Нейрат!..[57]
— Вы — хорошая девушка. Замечательная и очень красивая! Но…
— Ясно! — Баронесса поджала губы, взглянула брезгливо. — Мужской шовинистический бунт. Стоило оставить вас одних, и вы тут же сговорились. Что там на повестке дня? Не умываться, не бриться и не менять носки? А «замечательную» и особенно «очень красивую», Антониус, я вам еще припомню, обещаю.
Еще не поздно было дать отпор зарвавшейся гордячке, но секунды текли, Курц почему-то молчал, северное небо в глазах баронессы затягивалось тяжелым льдом. Андреас вдохнул, выдохнул…
Гори они огнем, все планы!
— Послушайте, Ингрид! Не знаю, хорошая вы или нет, мы с вами на танцы не ходили. Но вы — человек. Настоящий! Никто нам не помог, вы помогли! И с деньгами, и что сюда приехали. И каски эти… Вдруг и в самом деле сгодятся? Спасибо! А сейчас помогите нам еще раз…
— …Перестаньте мешать и убирайтесь отсюда к дьяволу!
Девушка отвернулась, провела кулачком по глазам и внезапно всхлипнула. Негромкий стук — мундштук ударился об асфальт. Курц рванулся вперед, но Андреас схватил его за руку.
— Ингрид, не надо! — выдохнул. — После Эйгера, если живы будем, делайте с нами, чего захотите, хоть манной кашей кормите три раза в день. Я согласен! Но сейчас… Понимаете, мы вроде пуль, которые из ствола уже вылетели…
Баронесса, не оборачиваясь, кивнула, нащупала сумочку. Негромко щелкнул замок.
— Перешли на военный язык, Андреас? Что ж, значит, настало время для тяжелой артиллерии.
Бумаги, вчетверо сложенные. Одна, другая, третья. Ингрид взвесила их на ладони, ударила сухим тяжелым взглядом.
— Наверно, следовало с этого начать, господа. Но мне, человеку наивному, казалось, что я ничего особенного не прошу. Только одно — дать возможность вам помогать…
Курц попытался что-то сказать, но девушка мотнула головой.
— Молчите, Антониус. Я на вас очень зла. Нельзя лгать в глаза! Сказали бы просто: «сопливая девчонка». Но дело сейчас не во мне… Деньги, которые я вам прислала, собраны в трех странах — в США, во Франции и у нас, в Германии. Там не триста марок, гораздо больше. В воинскую часть об этом писать было нельзя. Сами видите, какое сейчас время! Поэтому попросили меня, ничем не замечательную сопливую девчонку. Да что я рассказываю, читайте!.. Это списки тех, кто внес деньги, и в каждом, обратите внимание, упомянуты мои полномочия, как полноправного представителя ваших друзей. Берите!..
Андреас промешкал — и бумагу ему сунули в руку.
…Сверху заголовок — большие черные буквы, в самом низу — синие печати, между ними — фамилии и цифры. Английский язык Хинтерштойсер знал с пятого на десятое, но имена разобрать конечно же смог. И сразу же стало жарко. Дэвид Росс Брауэр, герой Высокой Сьерры, Вильям Бланшард, покоритель скал в Йосемити, Лестер Герман, физик-альпинист… Джон Гилл оказался пятым. Всего же — двенадцать фамилий. Андреас хотел уже отдать документ, но не удержался — посмотрел на последний абзац. Вчитался. Когда же смог оторвать взгляд, то из жара его кинуло в холод.
Он и она, Ингрид и Курц. Рядом, считай, нос к носу. Он что-то говорит — негромко, чуть ли не шепотом, она слушает, кусает губы.
…Тяжелая каменная кромка карниза беззвучно оторвалась от стены, неровные острые обломки врезались в податливый теплый воздух…
Андреас кашлянул. Не помогло. Кашлянул погромче.
— Вы там еще долго? Список правильный, и ребята правильные. Одного я не понял. Вы, Ингрид, сказали, будто вы представитель. А здесь написано, что глава какого-то международного комитета и председатель фонда. Это у меня английский неправильный?
Подумал — и поднял с асфальта мундштук, раз Тони не догадался.
— Не важно!
Баронесса отстранилась, поправила диадему. В глазах вновь — холодное северное небо.
— Вас не переделать, господа. Меня тоже. Но договориться мы все-таки должны.
10
Воду он перекрыл, фикус из большой комнаты отнес к соседям по лестничной клетке. Объяснил, как поливать, пожаловался на начальство, загонявшее по командировкам. Проверил свет, лишний раз просмотрел ящики стола.
…Лишние бумаги разорвал в мелкие клочья еще ночью, а утром сжег в мусорном баке.
На пороге остановился, вдохнул поглубже. Попытался запомнить запах…
Тщательно запер дверь, отдал ключи герру Гримму, не забыв и ему пожаловаться на начальство. Улыбка прилипла к лицу, словно маска на клею.
Назад оглядываться не стал. Надвинул шляпу поглубже, втянул голову в плечи. Шел тяжело, с трудом отрывая ноги от асфальтовой дорожки. Уже возле самой калитки остановился, перевел дух. Выпрямился — и улыбнулся уже по-настоящему.
Герда ждала возле машины, у передней дверцы. Улыбнулась в ответ, наморщила нос.
— Чемоданы в багажнике, завтрак в корзине на заднем сиденье. Полный порядок, можно ехать!
Марек молча кивнул и открыл переднюю дверцу. Хотел позвать девочку, но не успел. Ее пальцы с неожиданной силой впились в руку.
— Мне не страшно, Кай! Понял? Мне совсем не страшно! Правильно?
— Правильно!
Когда мотор загудел, низко и уверенно, словно майский шмель, Марек Шадов не удержался — взглянул на оставляемый навсегда дом. На миг прикрыл глаза…
— Мы вернемся сюда, Кай, — твердо, по-взрослому проговорила Герда. — Пусть даже через десять лет. Или через двадцать.
Он открыл глаза, сдвинул шляпу на затылок.
— Пора!.. Стой, а имя для броненосца? Придумала? Хорошо бы что-нибудь скоростное. «Иноходец», «Газель»…
Девочка фыркнула:
— Это не газель. Это антилопа.
Немного подумав, уточнила:
— Толстая и коричневая. Значит, антилопа Канна.
Марек Шадов взялся за руль «Антилопы Канны» и нажал на газ.
Глава 4. «Антилопа Канна»
Желтый Сандал. — Учительница из Тюрингии. — Итальянцы. — Толстый Герман и его брат. — Генерал умрет на рассвете. — Чрево Огра. — Показательный рейс. — Парапон, сипон, сипон! — Ключ на старт. — Смотровая площадка. — Телеграмма.
1
— Никакой частной школы, — сказал ей муж. — Девочка поверила, что у нее, наконец, будет дом, будет семья, а ты хочешь отправить ее в тюрьму с плюшевыми занавесками на решетках?
Женщина не желала слушать. Гертруда — не работа, не business. Ее дочь, ее кровь! И никто не смеет!..
Сдержалась, вовремя вспомнив, что этот мальчишка — ее супруг. Никак не могла привыкнуть. Иногда то, что случилось у алтаря под многоцветным витражом посольского храма, казалось ей розыгрышем, очередным ходом в непонятной игре, которую вели на многоклеточной шанхайской доске два бывших офицера разведки.
— Замуж? — без всякого удивления переспросил О'Хара. — Сходи!
Как будто бы отправил ее на концерт. О билетах позаботился другой, и теперь мальчишка, привыкший потрошить омаров пассатижами, указывает ей, как воспитывать дочь.
— Это очень хорошая закрытая школа, — как можно мягче пояснила она. — Юг Франции, самые красивые места в Европе. Туда берут далеко не всех детей…
Муж горько усмехнулся:
— Туда берут увечных, чтобы сделать их калеками на всю жизнь. Сколько раз в месяц мы сможем к ней приезжать? Два? Один? Если мы сейчас обманем Герду, она не поверит больше никому. От детей не откупаются, Ильза.
И вновь она заставила себя промолчать, чтобы одной-единственной фразой не погасить маленький бумажный фонарик, каким-то чудом все еще горящий в обступившей ее тьме. Мальчишка любит ее, любит девочку, играет с ней в Кая и Герду, не мыслит жизни без них двоих. Что еще ей надо?
— Подумай, Марек! Тебе все время придется разъезжать, мне тоже. Ты будешь в Германии, я — во Франции. Гертруде нужно место, где она сможет спокойно жить, учиться, общаться с подругами.
— Нет!
…Нет.
Она успокоилась, даже улыбнулась. Муж умел быть разным, непохожим на самого себя. Женщина присмотрелась к нему еще в Шанхае по поручению все того же О'Хары. Что ни говори, а правая рука самого «майора», скромного неприметного мистера Мото. Девятнадцать лет, германский подданный, однако не из немцев. Любит бывать в дорогих ресторанах, неплохо танцует, быстро заводит подружек и еще быстрее с ними расстается…
Храбр, неглуп, знает языки, в политике не разбирается напрочь.
Присмотрелась, заплатила разговорчивым агентам.
— Он не рука, — доложила она боссу. — Всего лишь перчатка. В Триаде этот парень не стал бы даже Красным Жезлом. В крайнем случае — Желтый Сандал, офицер для поручений. А в целом, неотесанный уличный мальчишка, которому пока везет.
Позже пришлось убедиться в собственной правоте. Мальчишка не только путал вилки за обедом, но и не слишком разбирался в том, чем женщина в постели отличается от бифштекса на ресторанной тарелке. Понемногу выучился, начал носить костюмы от хороших портных, ей даже стало с ним интересно…
И все равно — мальчишка из глухой провинции, из маленького городка с домами под красной черепицей, по счастливой случайности захвативший с собой на джазовый концерт коробочку с обручальными кольцами.
И все было бы просто и понятно, если бы не его «Нет!» Чужой голос, незнакомый тяжелый взгляд. Таким ее Марек бывал очень редко, но женщина научилась чувствовать присутствие чужака. Того, с кем спорить опасно.
— Крабат — это кто? — спросила она как-то.
— Сказочный герой, — ничуть не удивился муж. — Ты книжку прочитала?
Не книжку. Иногда Марек разговаривал во сне. Не слишком понятно, но странное (страшное!) имя она запомнила сразу.
— Крабат!.. Кра-а-абат!.
И теперь — «Нет!» Голосом из сна. Голосом Крабата.
— Хорошо, — сдалась она. — Что ты предлагаешь?
2
Первый раз маленький Отомар увидел Берлин зимой 1915 года. Мать взяла его с собой к своим очень дальним родичам, от которых в памяти не осталось даже следа. А вот город запомнился — неуютный, холодный, засыпанный мокрым снегом, с улицами-ущельями и громадой пропахшего паровозным дымом вокзала. Много позже он увидел другой Берлин — залитый летним солнцем, усыпанный желтыми осенними листьями, звенящий весенней капелью. Но так и не полюбил этот город. Всего-то и хорошего в нем — Пренцлауэр-Берг с его разноцветными конструктивистскими домами и, конечно, парки. Люстгартен, Павлиний остров, Бритцер — зеленые острова среди скучных кирпичных кварталов. А лучший из лучших — Тиргартен.
— Тебе такое нравится? — удивилась Герда. — Ты на львов погляди, Кай! В разные стороны смотрят, вот-вот убегут. Только лапы им приклеили.
Главные ворота парка не пришлись по душе девочке в первый же воскресный поход. Каждый раз, когда приходилось видеть огромную арку с мраморным фронтоном и пышной бронзовой дамой на самом верху, Герда кривила нос и поминала несчастных львов, обреченных вечно стоять на своих тумбах.
Высказалась и сегодня, не забыла. Традиция!
…Утро, народу не слишком много, но машин у кромки тротуара хватает. Для «Антилопы Канны» место нашлось не без труда. Марек поглядел на циферблат, врезанный прямо в каменные ворота. Скоро десять, они ждут уже четверть часа.
— Пароль не забыл? — Девочка нахмурилась, взглянула строго. — Нам еще нужны темные очки, как у настоящих шпионов. И шляпу ты, Кай, поглубже надвинь, а то не слишком похож. Я такое в кино видела. «Поздний пассажир», режиссер Франц Венцлер.
Он послушался и сдвинул шляпу на самый нос. Никакого пароля, естественно, не было. Его должны узнать по автомобилю или, как резонно рассудила Герда, просто узнать. У близнецов одно лицо на двоих.
Белый клоун, Черный клоун…
— Тебе Королева дала пистолет? — внезапно спросил он.
— Не скажу, — девочка отвернулась, дернула худыми плечами. — Прости, Кай! И… Ты его не найдешь, не ищи.
Он постарался не улыбнуться. Искать не станет. Патроны он вынул еще ночью. Когда они познакомились с Гердой в Шанхае, оружие у нее уже было — игрушечный пистонный парабеллум. Почти как у мамы.
— Пусть будет у нее, — сказала ОНА. — Гертруда дала слово, что зарядит его только в самом крайнем случае. Ты девочку знаешь, слово она не нарушит.
Вероятно, нынешний случай — крайний.
Коричневый бок «Антилопы» уже успел нагреться под солнцем. Марек прикинул, что через полчаса станет жарковато…
— Ой, здравствуйте, вы, наверно, герр Шадов?
Он повернулся — и увидел соломенную шляпу. Не успев даже удивиться, заметил гитару в черном чехле. Клеенчатая сумка-саквояж с веселыми цветочками по бокам, длинная светло-коричневая юбка, серая блузка-пиджак не по росту.
— Это вы меня ждете. Я — Вероника, Вероника Трапп[58]. Чуть не заблудилась, я, знаете, в Берлине первый раз.
Марек не перебивал, смотрел, слушал. Шляпа, сумка с цветочками, юбка из бабушкиного сундука. Вместе сложить — юная девица из дальнего горного села, откуда-нибудь из Вастая в Саксонии. Гитара, правда, несколько портила стиль, но не слишком. Учительница из детской музыкальной школы, почему бы и нет?
— Ой, Берлин большой город, такой шумный… Я в метро спускаться побоялась, пришлось пешком идти. А это ваша машина? Очень красивая, почти как у бургомистра… Это ничего, что я так громко разговариваю, герр Шадов? Я немного волнуюсь, а когда волнуюсь, то кричу. Меня за это часто ругают!..
— Не страшно, — ответил он и снял шляпу.
Сумка с глухим стуком опустилась на асфальт. Гитарные струны отозвались невнятным звоном. Марек повернулся к девочке, погладил по светлым волосам:
— Все в порядке, Герда. Ты побудь здесь на посту, а мы отойдем посекретничаем. Как в кино.
Улыбнулся — и первым шагнул к воротам, к левой башне-тумбе, на которой скучал лев с приклеенными лапами.
* * *
— Здравствуйте, госпожа Краузе! Кто на этот раз придумал вам фамилию?
— Точно не я. «Трапп» звучит ужасно, но других документов у меня нет. Поздравляю, доктор, я вас даже не узнала. Прекрасный у вас был грим. И еще раз поздравляю, о шутке с мячиком сейчас говорит половина Германии. Что случилось? Я не устраиваю вас в качестве пассажирки?
— Еще не знаю. Вы меня нашли по автомобилю или… Как-то иначе?
— «Lorraine Dietrich 20CV», модель 1932 года. Мужчина и маленькая девочка, десять утра, главные ворота Тиргартена. Можете успокоиться, я не имею отношения к «стапо».
— Имеете. Но что-то менять уже поздно. Пойдемте, познакомлю с дочерью. Мой вам совет: будете с ней говорить, не обращайте внимания на возраст.
— Взгляд… Я уже заметила. Но вы ошибаетесь, доктор… герр Шадов. Я — не агент контрразведки!
— Я же не говорил, что агент — именно вы.
* * *
Девочка ждала возле машины. Руки за спиной, взгляд внимательный, недобрый. Плотно сжатые губы побелели, словно от холода. Улыбаться Марек не стал. Наклонился, взял за плечи:
— Догадалась? С госпожой Трапп мы действительно уже встречались.
Герда молча кивнула. Руки остались все там же, за спиной. Марек Шадов взглянул ей прямо в глаза.
— Вчера я приехал, ты, как всегда, курила. Пришлось тебе тушить сигарету и идти полоскать рот. Так вот, Герда. Если бы не эта девушка, тебе бы никто не помешал. Ни вчера, ни сегодня. Никогда.
Светлые глаза внезапно потемнели, еле заметно дрогнуло горло:
— Правда?
Марек понял, что теперь самое время улыбнуться:
— Разве я тебе когда-нибудь лгал?
Девочка подумала немного.
— Я поздороваюсь.
Подошла к губастой, взглянула снизу вверх, протянула ладошку:
— Доброе утро, госпожа Трапп! Я — Гертруда Веспер. Но если вы меня будете называть Гердой, я не обижусь.
3
Поезд тряхнуло. Карандаш Хинтерштойсера скользнул по бумаге, превращая косую черту в извилистую кривую молнию. Андреас, беззвучно выругавшись, пристроил блокнот поудобнее и повторил попытку. Итак, подножие, склон, вершина, стрелка, указывающая на север, домики по нижнему срезу.
Эйгер…
— Здесь! — Грифель задержался почти на самом верху. — Крутое отрицалово, ни подхватов, ни даже мизеров. Задинамить не выйдет, распереться тоже. Сплошной рукоход! А если, к примеру, дупло? Слетим в берг всей связкой![59]
Курц взглянул на самодельный план, протянул руку к карандашу.
— Насосом замочалим. Не прямо вверх, а наискосок. Пассивы там вроде есть, и ручка одна есть, я на фото видел. Если что, в кулуар не полезем, траверсом пройдем.
— А как? — вздохнул Андреас, забирая рисунок обратно. — Там же такие сиськи, что и член не вобьешь!
Положил блокнот на колени — и наткнулся на полный ужаса взгляд. Сидевшая напротив пожилая дама явно прислушивалась к их разговору. Ее соседка, худая, словно щепка, девица тоже что-то уловила, но глядела совсем иначе, с интересом и даже ожиданием.
— Прощения просим! — Хинтерштойсер развел руками. — «Сиськи» — это совсем не то, а пассивная зацепа. Но не хапала и даже не булка, а…
— Совсем другой формы, — пришел на выручку Курц. — А то, что последнее, оно в скалу вбивается, как гвоздь в потолок.
— Questo, signore e signori! — прогудел незнакомый бас. — Puo fare qualsiasi — cosa improprio![60]
Над головами простерлась чья-то длань, сжимавшая предмет обсуждения. Дама нахмурилась и промолчала, девица же одобрительно хихикнула.
Андреас и Тони переглянулись.
Встали.
— Saluti fraterni ai colleghi!
Сзади тоже стояли — плечистый рыжий здоровяк лет двадцати и невысокий чернявый парень слегка постарше. Мятые застиранные куртки, горные кепи, небритые веселые физиономии.
— Джакомо Анези! — улыбнулся чернявый. — А это — Чезаре Бальдини, но он по-немецки ни бум-бум.
— Бум, — мотнул рыжей шевелюрой здоровяк Чезаре. — Плёхо, но бум. Ma capisco che quasi.
— В тамбуре переговорим, — рассудил Курц. — А то весь вагон распугаем.
Проходя мимо скамеек, Хинтерштойсер невольно поглядел в окно. Поезд шел медленно, кланяясь каждому столбу. Невысокий редкий лес, поляна, два кирпичных дома под черепицей, мотоцикл возле крыльца… Горы тоже имелись, но возле самого горизонта. Серые склоны, белые вершины. Задник на сцене.
Невелика страна Швейцария, а ехать долго.
Баронесса хотела доставить их к Эйгеру на своем авто, но Тони и Андреас стояли насмерть. Или поезд — или пойдут пешком. Почему, и сами до конца не понимали. Казалось бы, разницы никакой, на машине даже быстрее… Ингрид поглядела странно, но не стала спорить, зато забрала палатку и все тяжелые вещи. Когда они расстались на вокзале, Хинтерштойсеру показалось, что его приятель облегченно вздохнул.
* * *
— Cosi si Hintershtoyser! — возопил Чезаре, заглушая паровозный гудок. — Giacomo, Giacomo, e la stessa, Hintershtoyser!
Андреас даже смутился, особенно когда здоровяк от полноты чувств ухватил его за плечи и как следует встряхнул.
— А вы, понятно, Курц, — улыбнулся Джакомо. — Потрясающе! В каком-то паршивом вагоне встретить лучших скалолазов Германии! Фантастика!..
— Даже если лучших, — Хинтерштойсер пожал плечами. — Нас что, положено на «Испано-сюизе» возить?
И язык прикусил. Зря помянул авто баронессы Ингрид! Теперь и Курц смутился.
Итальянцы, тонкостей не знающие, рассмеялись весьма одобрительно.
— Нашим примам, Сандри и Менти, Дуче выделил отдельный вагон, — пояснил Джакомо. — Ребята отбивались, но кто их станет слушать? А в следующий вагон напихали всех подряд: врачей, охрану, репортеров, даже какую-то гадалку из Палермо. Но это, синьоры, sciocchezza. Чепуха! Гитлер, говорят, приедет!..
Поезд тряхнуло на стрелке, паровоз опять подал голос, и Андреас решил, что ослышался. Или Джакомо что-то напутал. Покосился на Курца… Тот глядел хмуро.
— Questo e solo chiacchiere, — в тон паровозу прогудел здоровяк Чезаре. — Gran capo del popolo tedesco Adolf Hitler! Monti va alla montagna!..
Поднапрягся и перевел:
— Гора идти… идет к гора!
— Ganz plemplem! — прокомментировал Хинтерштойсер. — Scheiss drauf!..[61]
И понял, что давно уже не ругался. Как-то повода не находилось.
…И действительно! Кому все эти годы нужна была Северная стена? Разве что владельцам отеля «Des Alpes», что удобно устроился у самого подножия Эйгера-Огра, за что и прозван «Гробницей Скалолаза». А еще — нескольким десяткам смелых парней, навек зачарованных Норвандом. Даже местные горные гиды, суровые профессионалы, не хотели смотреть в сторону Стены Смерти. А тут…
— Во всех газетах пишут, — словоохотливо рассказывал Джузеппе. — Ваш gran capo… фюрер слегка riusciti… Как это правильно будет? Ну, когда желудок слишком хорошо работает… В общем, он малость того в Судетах, вот и решил авторитет свой укрепить, подпереть, так сказать, Эйгером. Тем более, Олимпиада скоро. А еще со Швейцарией думает помириться, правительство в Берне успокоить. Здешние tedeschi бучу подняли — не хуже, чем в Чехословакии, кричат, что наступило «Немецкое лето»…
Хинтерштойсер слушал и беззвучно двигал губами, подбирая словечки позаковыристей. Бежали на Эйгер, а попали прямиком в Большую (scheisse! scheisse! sch-sch-scheisse!) политику! Влипли, вгрузли по самые уши. А он еще надеялся, что штабная бумажка с разрешением на отпуск если не отмажет, то хоть немного отдалит неизбежное разбирательство с раздачей пряников личному составу. А если самому Богемскому Ефрейтору про их побег сообщат? Только и выход — лезть на Стену, притвориться замороженным трупом и сидеть там лет десять, пока не забудут.
Arschgefickter Weihnachtsmann!
Горы за окном тамбура подступили к самому стеклу, беззвучно вознеслись вверх, дохнули ледяной промозглой стужей…
4
Далеко не уехали. «Антилопа Канна» неспешно, с немалым достоинством, оторвалась от бордюра и проследовала вдоль каменного забора, за которым зеленели верхушки деревьев. Тиргартен тянулся на много километров, поэтому Марек остановился у ближайшего перекрестка. Подождав, пока светофор мигнет зеленым, свернул налево.
Улица, многолюдная, полная машин… Переулок, здесь уже тише. Еще, еще…
Стоп!
Оглянулся по сторонам, заглушил мотор.
— Поговорим!
Герда, сидевшая рядом, на переднем сиденье, потянулась к ручке двери. Открыла, обернулась:
— Ты сказал «Иди гуляй!» Я не ослышалась?
Он поцеловал девочку в пахнущую шампунем макушку.
— Можешь остаться. На повестке дня два вопроса, и первый, между прочим, твой. Кто сказал, что нас каждый шуцман проверять будет?
Герда понимающе кивнула:
— Подойдем к вопросу творчески, да?
Марек улыбнулся.
— Что-то не так с машиной? — негромко поинтересовалась учительница детской музыкальной школы.
Соломенную шляпу отправили в багажник. Без нее Вероника Краузе-Трапп смотрелась опасно: памятные синие глаза, яркие полные губы, вызывающе огромный лоб. Марек Шадов с трудом отвел взгляд.
— С машиной полный порядок. С документами тоже. Есть доверенность на мое имя: по поручению владельца перегоняю только что купленный «Lorraine Dietrich» в город Дерлиген, это в Швейцарии на Тунском озере. Дело не в документах.
— А в чем? — удивилась Вероника.
Мужчина и девочка переглянулись.
— Дело в шляпе, госпожа Трапп, — пояснила Герда. — Вы ее сняли, и папа только на вас и смотрит.
Девушка не смутилась, взглянула серьезно:
— Извини, Гертруда. Когда мы с твоим папой встретились, то обсуждали исключительно инопланетян. Но он сразу предупредил, что женат.
Герда тяжело вздохнула:
— И тут искажение восприятия. Кай, объясни, у тебя лучше получится.
Марек кивнул:
— Слушаюсь! Герда вот о чем говорит. «Lorraine Dietrich» этой модели — очень редкая машина и очень дорогая, а значит, приметная. Зачем нам такую подсунули, можно только догадываться.
— Потому что приметная, — тихо проговорила девочка. — Следить проще. Но они перестарались…
— Да, каждый дорожный патруль станет брать на заметку. Это еще ничего, документы в порядке, но нас непременно будут останавливать, выяснять, придираться. И задержать могут, просто из вредности.
— Могут, — Вероника на миг задумалась. — Может, поискать другую машину? Или просто сесть в поезд?
Марек и сам был не прочь. План сложился сам собой. Из Берлина выехать конечно же на «Антилопе», пусть видят и на карандаш берут. А затем — оставить машину где-нибудь у вокзала, хоть в Дессау, хоть в Лейпциге, сесть на поезд до Берна. Пока разберутся, пока предупредят пограничные заставы…
Он вспомнил лицо Черного клоуна, знакомый взгляд, знакомую улыбку. Близнецы — не два человека, а две половинки. Что сделал бы он на месте брата? И думать нечего! Предупредил бы всех заранее, разослал бы фотографии, приметы. Рост, телосложение, цвет глаз, особенности речи. «Я не Каин». Нет, не Каин. Просто гауптштурмфюрер СС.
— Ехать придется на «Антилопе», — констатировал он. Заметив удивление в синих глазах, хотел пояснить, но Герда успела первой.
— На «Лоррен Дитрихе». Вы, госпожа Трапп, привыкайте. Кай — он как маленький, до сих пор игрушки любит. Увидел машину и от радости запрыгал. «Ой, какая красивая, давай ей имя дадим!» А еще он любит ходить в зоопарк…
Карающая длань вознеслась ввысь, девочка зажмурилась, втянула голову в плечи… Обошлось. Пальцы лишь слегка коснулись светлых волос.
— Может, не будем брать с собой Гертруду? — негромко проговорила губастая. Серые глаза тут же открылись, плеснули огнем:
— Я — не предмет для переговоров, госпожа Трапп!
Марек поднял руки ладонями вперед:
— Брэк! Переговоров не будет. Едем на «Антилопе Канне», но сперва наденем на нее шляпу…
Поглядел на часы, кивнул:
— Успеваем. Сперва на главный почтамт, надо забрать пакет с документами одного вредного докторишки, а потом съездим к моему знакомому. Хороший парень и не из болтливых. Но сначала…
Герда поймала его взгляд, взялась за дверную ручку:
— Поняла. На повестке дня — второй вопрос. Я недалеко — вдоль дома и назад. Там киоск с мороженным. Вам купить?
Негромкий стук дверцы. Мужчина и девушка с синими глазами взглянули друг на друга.
* * *
— Кольцо вы, я вижу, сняли. То, с приметным камнем?
— Естественно. Настроилась играть учительницу пения из маленького городка в Тюрингии, заблудившуюся в каменных дебрях Берлина. А что, плохо получилось?
— Тюрингия? Почти угадал… Получилось неплохо, особенно шляпа хороша. Беда в том, что вывести вас в Швейцарию мне поручил сотрудник «стапо». Отказаться не могу, могу лишь предупредить.
— Катился черный мячик — и прикатился… За то, что сказали, спасибо, храбрый доктор Эшке. Я этого сотрудника знаю? Извините, глупый вопрос.
— Совсем не глупый. Вы его не знаете, Вероника. Значит, это не личная инициатива. То-то он мне про Козла рассказывал!
— Любите ходить в зоопарк? Герр Шадов, мы оба рискуем, но вы — не только своей головой. Поэтому раскрою карты, а вы решайте… Я — летчик, испытатель аппаратов совершенно нового типа…
— Затяжной с пяти километров — и сигарета в качестве премии.
— Да. Кстати, закурю. При вашей дочери, вероятно, не стоит?
— Ни в коем случае! Герда сигареты просто ненавидит. Пепельница должна быть на дверце. Вот, прошу… Так что случилось с вашим аппаратом?
— С ним все в порядке. Но меня долго не было на… В общем, в Германии. А когда вернулась, только и успела, что вывести корабль…. аппарат из строя и убежать самой.
— А еще предупредить меня.
— Не только вас, герр Шадов. Но это уже следующая карта. Джокер! Я догадываюсь, кто такой Козел. Но шеф «зипо» Рейнхард Гейдрих — все-таки не Герман Геринг. Копытом не вышел…
— Толстый Герман лично подобрал вам юбку и расписался в документах?
— Он мог просто позвонить Гитлеру. Но действовать официально — значит рассекретить проект, поэтому меня решили пока спрятать. Толстый Герман позвонил не Ефрейтору, а своему брату. Альберт Геринг, не слыхали? Аполитичный юрист, светский бонвиван, любитель скачек и гаванских сигар, — а также левая рука Германа, которой и положено умышлять втайне от правой. Быть может, ваш сотрудник «стапо» тоже работает на Геринга?
— Этого не знаю, Вероника. Зато ваш расклад дает надежду, что через границу нас все-таки пропустят. Имеет смысл рискнуть.
— Согласна… А вот и ваша дочь с мороженным. И, между прочим, она курит.
5
Лицо словно у дипломата, благообразное до приторности, а вот пробор подгулял — куцая стрелка среди густо смазанных бриолином волос, как у продавца в провинциальном магазине. И усики, словно у Адди Гитлера…
— Париж прекрасен, мадам! Весь — от кончика Эйфелевой башни до Люксембургского сада, от Монмартра до Монпарнаса. Он прекрасен весной, когда цветут яблони. Летом, когда он весь раскрашен яркими красками. Осенью… О, мадам, осенью Париж романтично печален…
Одет безукоризненно, даже богато, но рубин в заколке для галстука явно лишний. И наверняка фальшивый.
— Весна — это каштаны, мадам! Фонтаны — лето. Осень — конечно же платаны, их яркие неповторимые краски…
«А зимой, вероятно, вороны», — так и рвалось с языка. Нет, не стоит, пусть крутит пластинку дальше. Интересно, кто это? Просто скучающий фат или жиголо-профессионал, клюнувший на богато одетую тридцатилетнею (да! да!) иностранку? Камни в ее колье уж точно настоящие.
— Париж — это Вселенная, где место найдется всем. Город влюбленных, город тех, кто устал без любви — и от любви. И просто романтиков, мадам!..
Дикция превосходная, взгляд в меру томный. И годами подходит, старше лет на десять, самый мужской сок. Пусть его! Сюда, в Синий зал гостиничного ресторана она пришла не столько пообедать, сколько отдохнуть, отвлечься. Не думать же круглые сутки о шведской железной руде, южноафриканской меди, о карточках на питание для скота, которые вот-вот введут в Рейхе, — и о том обязательном наборе, который купит каждый европеец, когда узнает о войне. Соль, спички, мыло, иголки для примуса, кремни для зажигалок, нитки…
— Вы грустите, мадам? О, если бы вы могли кому-нибудь доверить свою печаль! Верный спутник — и верный Париж способны исцелить всё!
Она согласно кивнула. Париж остается Парижем. Город сумасшедших, город любовников по прейскуранту — и просто недоумков.
Рядом со столиком бесшумно соткался официант с подносом. В меню она даже не смотрела, поступила, как советовал муж. «На ваше усмотрение!» Таких клиентов гарсоны особо уважают — и никогда не обманывают. Репутация!
— Мадам! — поспешил откликнуться сосед по столу. — Вы, кажется, забыли заказать вино? Позвольте угостить вас…
— Не позволю! — Она положила локти на белую крахмальную скатерть, наклонилась вперед. — Вступительную часть завершаем. Что предлагаете?
Улыбнулась, села ровно, взялась за вилку для салата. Ответ ее не слишком интересовал, а вот реакция — пожалуй. Если этот, с гитлеровскими усиками, умен, то сейчас же сыграет отбой. И отступать станет красиво, с реверансами.
Усы еле заметно дрогнули, грустью сверкнул взгляд.
— О, мадам! Не ищите в моих словах подвоха! Мои обстоятельства печальны, и я могу лишь порадоваться за других. Если и вы печальны, мадам, не спешите искать спутника, ищите исцеление…
Отступал красиво. Женщина, одобрительно кивнув, взялась за иную вилку, для рыбы. Мужу долго пришлось объяснять, чем она отличается от обычной, столовой.
— …И это меня спасло, мадам! Представьте: река, наша красавица Сена, темная звездная ночь. И огоньки, повсюду, на реке, на берегу, на небе. Такие минуты вспоминаешь потом всю жизнь…
Надо было молчать и слушать, но слишком уж бархатным был голос этого самоуверенного болтуна.
— Река, огоньки… — Она вновь наклонилась вперед. — Хуанпу. Это приток Янзцы, чуть выше Шанхая. Ночь была действительно темной. И огоньки всюду. Я еще удивилась. Откуда? Вечером берег был совсем пустой. Вы правы, такое будешь вспоминать всю жизнь…
* * *
— Генерал умрет на рассвете[62], — зло усмехнулся О'Хара, доставая кольт из поясной кобуры. — Фильм такой был. Помнишь, Лиззи?
Она не ответила — смотрела вперед, на тихую в этот глухой час реку. Огоньки, огоньки… Откуда их столько? Китайцы верят, будто это неприкаянные души тех, кто погиб под черной водой.
Вздрогнула. И тут же почувствовала его тяжелую ладонь на плече.
— Может, не пойдешь, девочка? Это не годовой баланс подбивать.
Она очнулась, прогнала пустые мысли. Души — и пусть себе души. Они-то живы!
— Меня разве уволили, босс?
Достала парабеллум из сумки, наскоро проверила.
— Готова!
Легкий удар в висок — его поцелуй.
— Пошли!
Они у борта. Впереди — тьма, посреди, прямо по створу реки, сгусток тьмы, неясный продолговатый силуэт. Еще минуту назад оттуда слышалась стрельба, но теперь все стихло. Мелькнул неясный желтый огонек. Фонарь? Но почему такой маленький?
Ближе, ближе, еще ближе. Черный силуэт растет, распадаясь на различимые детали. Огромный квадратный парус, широкая, высоко поднятая корма, косой, словно обрубленный нос. Джонка…
Для европейцев корабли — рыбы, для китайцев — птицы на реке. Эта похожа на утку, но с отрубленной головой.
Выстрел… Тишина…
Темный борт совсем рядом, матросы приготовили трап. О'Хара повел широкими плечами, поднял подбородок:
— Быстрее! Кхуай и дьер!..
Женщина не стала поправлять, хотя местные едва ли поняли его китайский. Босс пытался говорить на «мандарини», здесь — совсем иная речь. Незачем — джонка уже рядом.
Толчок. Глухой удар… Двое телохранителей, тоже китайцы, серыми тенями скользнули вперед. О'Хара ждать не стал, оттолкнул третьего и сам шагнул на трап. На миг ей стало страшно, но женщина пересилила себя — и тоже ступила на неровные старые доски.
Тьма — и маленькие огоньки, их много, они повсюду, даже в недвижном, пропахшем порохом воздухе. Но вот ярко вспыхнул электрический свет — кто-то включил фонарь. Можно идти дальше…
Трупы она заметила не сразу. Вначале почудилось будто вдоль бортов беспорядочно навалены мешки, очень много мешков. И только потом, когда луч электрического фонаря случайно дрогнул, осветив левый борт, она поняла.
Солдаты… Знакомая серая форма, гимнастерки, кепи, ботинки с обмотками. Кое-кто даже не выпустил винтовку из рук. Не понимая зачем, женщина принялась считать. Дошла до двадцати. Бросила.
Убежавший далеко вперед телохранитель что-то крикнул по-китайски. Она не расслышала, но О'Хара понял. Повернулся, взял ее за плечо:
— Нам туда. Ступеньки, не поскользнись.
Деревянная лестница вела на кормовую надстройку, на самый ее верх. Вначале она удивилась: ступени были сухие. Но вот нога скользнула по чему-то мокрому, липкому… Женщина схватилась за поручень, с трудом устояла. Выдохнула, пошла дальше.
Здесь тоже были трупы, вповалку, один на другом. Она старалась не смотреть, следила за боссом. Тот был уже на противоположном краю. Лучи фонарей скрестились на чем-то белом. О'Хара удовлетворенно хмыкнул, повернулся:
— Лиззи! Где ты?
Она подбежала, чудом не споткнувшись о чье-то тело.
— Узнаешь?
Тот, в чье лицо безжалостно светил электрический фонарь, был еще жив. Серый френч дорогой ткани, орден — светлая серебристая звезда, офицерский ремень с тяжелой кобурой. Круглая бритая голова, неопрятные, словно приклеенные усы, оттопыренные уши. Глаза закрыты, на левой щеке — струйка крови.
— Узнаю, — кивнула она и, не думая, что говорит, добавила: — Здравствуйте, господин генерал.
Веки дрогнули, но глаза так и не открылись. О'Хара отошел назад, поднял руку с пистолетом. Опустил.
— Нет, в лоб нельзя, череп разнесет. Его должны обязательно опознать, иначе вся работа насмарку. В сердце — бесполезно, у него сердца нет…
Чуть подумал — и выстрелил навскидку. Раз, другой, третий… Она отвернулась.
— Вот и все, — ладонь босса вновь легла на ее плечо. — Генерал умрет на рассвете! Конец фильма, большие буквы «The End». Пошли, Лиззи, ну их всех к китайскому дьяволу!..
Женщина вдруг подумала, что так же равнодушно, почти шутя, О'Хара может убить и ее, и ее дочь. К китайскому дьяволу…
* * *
— Хочешь о чем-то спросить, Лиззи?
Джонка — смертельно раненая утка — осталась где-то вдали. Скоро Шанхай, вокруг — тихая черная гладь Хуанпу, спящие лодки у близкого берега. Огоньки…
— Да, — решилась она. — Почему ты — сам? Главнокомандующие в атаку не ходят.
О'Хара кивнул, словно ожидал именно этого вопроса. Обнял, поцеловал в щеку.
— Ты права, не ходят. Но некоторые вещи надо делать самому, чтобы потом не было сомнений. Спать стану спокойнее!
Она запомнила. Убила сама, не поручая никому. И спала спокойно.
Генерал умрет на рассвете… О'Хара ошибся, до рассвета было еще далеко.
* * *
— …И что же дальше, мадам?
Сосед по столу даже забыл о бокале с вином. Поднял, поднес к полным губам, да так и замер. Женщина пожала плечами:
— Дальше был трап — и мы поднялись на джонку. А там — ничего, только огоньки. Очень много огоньков.
6
Хинтерштойсер понял, что ему страшно, но вслух сказал конечно же совсем иное:
— Х-холодно!
Итальянцы взглянули сочувственно, Курц же — удивленно.
— Свитер достань, я давно надел. Тебе рюкзак передать?
Андреас отмахнулся. Не поможет свитер! Когда он только кончится, этот тоннель! Взгляд скользнул по черноте, заступившей окна, и Хинтерштойсер чуть не зажмурился. Устыдился, конечно, но делу это не помогло. Страшно — и баста!
Что такое «Basta!», Джакомо уже объяснил. Хватит! Тоннеля с него точно хватит. Как въехали, так и заныло сердце. Казалось бы, не с чего, мало ли он тоннелей повидал?
Они были в самом чреве Огра. Многокилометровый проход прогрызали сквозь Эйгер целых четырнадцать лет. Прогрызли. И теперь поезд неспешно двигался под неимоверной каменной толщей. Пассажиров стало заметно меньше, более половины сошло на перевале с непроизносимым именем Юнгфрауйох, что между Менхом и Юнгфрау-Великаншей. Дорога резко пошла на подъем, затем нырнула прямо в скальные глубины, и Андреасу почудилось, будто гора мягко, беззвучно легла ему на плечи.
Остальные держались бодро, но тоже притихли. Что могли, обсудили, кого хотели — вспомнили. Многого Хинтерштойсер не знал, а узнал — не обрадовался. Ефрейтор собирается к Эйгеру, французы же, напротив, отказались. Кто-то сослался на плохую погоду, но ребята из группы «Бло» врезали прямо: если Гитлер, то нам там не быть. А Пьер Аллэн добавил: «Это уже не спорт!»
Австрийскую команду, напротив, снарядила армия, но флаг ребята взяли не свой, а рейховский, со свастикой. Кажется, аншлюс — уже дело решенное.
Политика, fick dich!
Хинтерштойсер зябко повел плечами, взглянул на циферблат «Гельвеции» и затосковал. Надо было ехать с баронессой на авто, от друга Тони не убыло бы…
Кстати!
Курц сидел рядом, итальянцы напротив. Рыжий Чезаре, чем-то явно недовольный, громкой скороговоркой объяснялся с приятелем. Тот внимал молча, но кривился.
— E se la corda non e abbastanza, balordo? Babbeo! Che cosa sta, grullo, per appendere?
Судя по жестам, речь шла о самой обычной веревке. Красив итальянский язык!
Ни к месту вспомнилось: «Не взял веревку, такая вот беда».
Ну его!
— Тони!
Не проговорил, прошептал. Поманил пальцем. Курц, моргнув удивленно, наклонился.
— Тони, у нас как с Ингрид? Мир или война?
Приятель подумал немного и тоже зашептал в самое ухо:
— Не знаю. Она же еще девчонка совсем, такой в радость парнями командовать. Дорвалась! Молодец, конечно, но не ходить же нам перед ней строем!..
Спорить не приходилось. Андреас вспомнил шумный Бубенбергплац, ее взгляд — темные тучи в светлом северном небе. «Молчите, Антониус. Я на вас очень зла. Нельзя лгать в глаза!»
— А чего ты там ей говорил? На площади?
Курц оглянулся по сторонам, склонился пониже. И — еле различимым шепотом:
— Извинился.
— То есть? — Хинтерштойсер даже за голосом не уследил. — Сказал, что все наоборот? Она не хорошая, не замечательная и некрасивая?
Тони закусил губу:
— Нашел время и место!.. Я ей сказал, что такие слова не используют как аргумент в споре.
Андреас почесал стриженый затылок и рассудил, что для него все это слишком сложно. Впрочем, долго ему размышлять не пришлось.
— Signore! Signore! Arrivato!..
Перевода не требовалось. Приехали! Солнце! Слева и справа, изо всех окон. И — летняя небесная синева. Хинтерштойсер глубоко вдохнул. Выдохнул… Все в порядке, Огр их отпустил. Зря он боялся!..
…Нет, не зря.
— Станция будет справа, — тараторил всезнающий Джакомо. — То есть не будет, вот она! «Айгерглетчер»!..
— Рюкзаки! — ударил голосом Курц.
Поезд уже тормозил, и вся четверка поспешила вперед, к тамбуру. Идущий впереди Чезаре, бросив взгляд за окно, удивленно оглянулся.
— La vostra auto sul posto, Andreas!
— Твою машину подали! — так же на ходу перевел Джакомо.
Хинтерштойсер чуть не задел ногой за сиденье. Выпрямился, мотнул головой.
— К-какую?
Идущий сзади Курц, посмотрев сквозь залитое солнцем стекло, пояснил каменным голосом:
— «Испано-сюизу».
7
…Острые готические буквы цвета вырвиглаз. На капоте — поменьше, на боках огромные, каждая с кулак.
«Германский Рейх — германский народный автомобиль!» — слева, если от носа смотреть. «Народный автомобиль — в каждую немецкую семью!» — справа. «Народный автомобиль — показательный рейс!» — капот, с двух сторон. И просто «Народный автомобиль!» — багажник. Восклицательный знак сделали малиновым, похожим на длинный вытянутый язык.
Свастикой побрезговали, зато где можно и где нельзя влепили большие белые руны. «Эваз» — движение и прогресс, «райдо» — путь, «уруз» — сила, а на самом носу и на багажнике — защитную «альгиз». На всякий случай.
— Какой жуткий бред! — резюмировал художник.
— Какой жуткий бред! — восхитился Марек Шадов.
И — пожали друг другу руки.
* * *
Он остановил машину у тротуара прямо возле «Баварских сосисок», еще совсем недавно бывших просто «Хот-догами». Большие красные зонтики, белые столы… Где же экипаж? Открыл дверцу, выглянул, заглушил мотор…
Герда спряталась за ближайшим столбом. Не слишком удачно — нос торчал наружу. Вероника просто отошла подальше, но смотрела куда-то в сторону. Марек усмехнулся, хотел нажать на клаксон, но в последний момент передумал. Публика за столами начала переглядываться, кто-то уже встал, шагнул поближе…
Можно было просто подойти и позвать, но что-то удержало. «А вы, господин Эшке, прекращайте ваш цирк!»
Не дождетесь. Белый клоун снова на манеже!
Марек Шадов взял с сиденья купленную утром «Фолькише беобахтер», свернул в трубочку, поднял повыше.
— Майне геррен! Прошу минуту вашего внимания!..
Подождал немного, набрал в грудь побольше воздуха:
— Дамы и господа! Сейчас с этого места стартует показательный рейс немецкого народного автомобиля. Маршрут — Берлин — Берн, расстояние по трассе — 923 километра. Время пробега — 36 часов, время непосредственно на трассе — 20 часов. Читайте во всех завтрашних газетах!..
Толпа загустела, надвинулась. Опустели столики, люди стояли широким кругом, кто-то уже перебегал через дорогу. На тротуаре обозначилась знакомая шуцмановская каска.
— …В пути, дамы и господа, предусмотрены остановки с чтением лекций и катанием всех желающих. Начнем прямо сейчас. Девочка! Та, что за столбом! Подходи, не бойся! Это новый германский народный автомобиль, он тебе понравится. И вы, девушка! Да-да, именно вы!.. Давайте вместе проедем по Берлину — столице нашего великого Рейха!..
Полицейские были уже рядом — двое, помоложе и постарше. Марек улыбнулся, поднес руку к шляпе:
— Приветствую, господа! Надеюсь, вы обеспечите безопасный выезд?
Старший, молча козырнув, достал из нагрудного кармана свисток. Младший немного помешкал, не в силах оторвать глаз от коричневых боков «Антилопы».
— Неужели он такой и будет? Народный автомобиль? А-а… А двигатель… двигатель какой?
— Шесть цилиндров, четыре тысячи «кубиков»! — отрезал Марек. Наклонился и добавил вполголоса: — Вам, как представителю власти, назову точную цифру. Она пока секретная, учтите. Четыре тысячи восемьдесят шесть!
Полицейский, посуровев лицом, приложил руку к каске.
И тоже достал свисток.
* * *
— Вы сумасшедший, герр Шадов! — уверенно заявила учительница пения из Тюрингии. — Зачем все это? О нас же действительно газеты напишут! А если документы потребуют — на ваш «показательный рейс»?
Марек не отвечал, улыбался. Мотор-шмель гудел уверенно и мощно, «Антилопа Канна» набирала скорость. Широкий проспект, яркое летнее солнце, легкий ветер, бьющий в лицо через приоткрытое окно…
Что лучше? Слиться с уличной толпой — или пройти сквозь нее на ходулях, звеня в бубен?
— Документы? — наконец отозвался он. — От известного вам доктора мне достался чистый бланк общества «Сила через радость». Подписи, печать… Вас я уже оформил, фройляйн Трапп. Будете обеспечивать культурную программу.
— Все равно безумие, — вздохнула губастая. — Хоть бы с нами посоветовались!
Сидящая на переднем сиденье Герда обернулась, взглянула серьезно:
— Со мной — не надо.
Помолчала, улыбнулась кончиками губ, сразу же став похожей на мать.
— Им хотелось, чтобы мы испугались. А нам не страшно! Это на нашей «Антилопе» и написано. Только не все правильно умеют читать буквы.
Марек Шадов не стал спорить. Свистеть в машине не стоило, и он принялся негромко напевать:
Rjana Luzica, sprawna, precelna, mojich serbskich wotcow kraj…— Что это? — удивилась губастая. — На каком языке?
— Папина секретная песня, — сообщила всезнающая Герда. — Вы же нас не выдадите?
Вероника молча покачала головой. Отомар Шадовиц улыбнулся:
Ты — мой отчий сорбский край, Моих снов нездешний рай, Свят мне твой простор!Крабат, отправляясь в долгий и опасный путь, пел священную песнь своего народа.
8
Поезд тронулся дальше, в самое сердце швейцарских Альп, а они так и остались стоять возле брошенных на платформу рюкзаков. Хинтерштойсер схватился было за лямки, но поглядел на Курца и полез в карман штормовки за сигаретами. Тони же просто стоял и смотрел вперед. Не на Эйгер, что грозной громадой возвышался справа, а в никуда — в синее небесное пространство.
«Айгерглетчер». Название длинное, а станция всего на четыре вагона. Справа, если спиной к рельсам стать, черный зев тоннеля, слева — кирпичное здание под черепицей, чуть дальше — круглая башня водокачки с острой шапочкой-крышей. Впереди же, если платформу пройти, стоянка для машин. Тоже невеликая, как раз на три «Испано-сюизы». Но машина там одна, и баронесса одна. В их сторону не смотрит, курит. Мундштук все тот же, полуметровый, темного янтаря.
До отеля «Des Alpes», возле которого разбили лагерь скалолазы, километра два[63], сперва вверх по асфальту, потом резко вниз. Те же, кого авто не встречали, уже брели не спеша. Не все, правда. Итальянцы, Чезаро и Джакомо, вообще куда-то пропали. Вышли — и нет их. Дело странное, зато хороший повод никуда не спешить.
— Ждешь, пока она уедет? — не выдержал Хинтерштойсер, делая последнюю затяжку.
Друг Тони даже не соизволил повернуться.
— Она — кто?
Ну конечно! Андреас решил, что самое время внести ясность. Слушаться наглую девицу, конечно, незачем, но уж бояться ее — вообще ни в какие ворота. Только как бы это помягче высказать?
Первую фразу составил, взялся за вторую…
— Ингрид! Ингрид!..
Перед глазами промелькнуло что-то синее вперемежку с рыжим. Рыжее узналось почти сразу — Чезаре без кепи. Куртка нараспашку, рубаха на животе расстегнута. И скорость приличная, если не мотоциклу, то велосипеду впору. Слева направо, от кирпичного здания станции, по платформе, их не замечая… Интересно, что за тезка завелась у баронессы фон Ашберг-Лаутеншлагер Бернсторф цу Андлау?
…А синее — это же гентиана, синий альпийский цветок, по-простому — горечавка. Целый букет!
— Ingrid! E davvero lei?
Явление Джакомо, тоже с букетом, Хинтерштойсер воспринял уже как данность. Горы, Эйгер, скалолазы с букетами бегают. Толкнул локтем Курца, дабы тот тоже полюбовался.
— Hi! Ciao! Ingrid! Dov'e qui provengono da?
…«Испано-сюиза», баронесса, уже без сигареты, итальянец слева, итальянец справа. Подбежали, схватили в четыре руки…
Подбросили — вместе с букетами. Поймали. И букеты поймали. И снова подбросили.
— Ciao, ragazzi! Sono cosi felice di vederti!
А это уже баронесса, пойманная и схваченная. По-итальянски. И ей в ответ, без перевода, но понятно.
— E fantastico! Ingrid!
Наобнимались, по спинам нахлопались. Взялись за руки, словно в хороводе:
Будем, будем веселиться, Парапон, сипон, сипон! Чтоб с тоски не удавиться, Парапон, сипон, сипон!Громко, на все Альпы. Баронесса и Джакомо — по-немецки, Чезаре на родном, но тоже про «парапон»:
Собрались со всей Европы, Парапон, сипон, сипон! Отмораживаем… спины! Парапон, сипон, сипон!!Ингрид с рыжим умолкли, но Джакомо не остановить.
И на скалы грустно глядя, Парапон, сипон, сипон! Я мечтаю лишь о…[64]Недомечтал — ладонь Чезаре вовремя дала затрещину. И — хохот, такой, что позавидовать можно.
— Чего-то я не понял, — задумчиво проговорил Курц.
Хинтерштойсер думал недолго:
— Подменили!
* * *
Вблизи, когда до стоянки добрались, чары исчезли без следа. Баронесса все та же, с мундштуком в зубах, и лицо прежнее, и северное небо в глазах. Синие цветы — на капоте, рюкзаки друзей-итальянцев — в открытом багажнике.
Увидела, поджала губы. Дохнула альпийским морозом.
— Добрый день, господа!
Переглянулись, поздоровались. Ингрид покосилась на багажник.
— Рюкзаки сами загрузите — или ребят попросить?
— А-а… — начал было Курц, но мундштук негромко пробарабанил по капоту.
— Не обсуждается.
— Чего ты, в самом деле? — не выдержал Хинтерштойсер и взялся за лямки. Друг Тони поглядел нехорошо, но промолчал. Когда же багажник глухо хлопнул, поглотив добычу, девушка удовлетворенно кивнула:
— Урегулировали. А теперь, господа, не будете ли вы так любезны выполнить одну мою просьбу?
Чезаре, удивленно моргнув, проговорил что-то по-итальянски. Ингрид развела руками, ответив короткой фразой. Андреас разобрал лишь одно слово, но очень уж неприятное: «Ufficiale!»
— Дело в чем. Здесь, в самом начале тоннеля, есть смотровая площадка. Я там еще не была, и ребята взялись меня провести и все показать. Если не очень трудно, составьте нам компанию.
— Нетрудно, — негромко проговорил Курц. — Только, Ингрид, пожалуйста, не надо… «ufficiale!».
Ответить баронесса не соизволила, лишь плеснула взглядом. Хинтерштойсеру внезапно почудилось, что он тут лишний. И все тут лишние, включая «Испано-сюизу».
Андреас поглядел вверх на белую горную вершину. Хоть с этим, слава богу, полная ясность.
Хинтерштойсер смотрел на Огра.
Огр смотрел на Хинтерштойсера.
9
— Здесь, если можно!
Ладонь фройляйн Краузе-Трапп легко коснулась плеча. Марек, не став переспрашивать, притормозил. Если девушка просит… Впереди, кажется, галантерейный магазин?
Из Берлина почти выехали. Даалем, южный пригород, многоэтажки кончились, слева и справа — густые сады, кустарник вдоль дороги. И людей не слишком много. Поглазеть на «Антилопу» собралась всего-то дюжина. До толпы не дотягивает никак.
Герда тоже выбралась наружу, но далеко отходить не стала. Сигарета во рту, в руке — зажигалка.
Щелк!
— И не стыдно?
Марек Шадов безнадежно вздохнул, заглушил мотор, открыл дверцу. Выйдя на тротуар, не позабыл снять шляпу, дабы поприветствовать зевак.
— Не стыдно, — доложила девочка, глядя куда-то вдаль. — Органическая потребность. Тебе же не стыдно на госпожу Трапп смотреть! Между прочим, зеркало заднего вида для другого предназначено.
Не в бровь, а в глаз. Можно, конечно, уточнить, что интересовала его не столько сама губастая, сколько, то, чем она занималась…
— Госпожа Трапп очень красивая, Кай. Но ты поосторожней. Это я не потому, что ты Королеву давно не видел.
— А почему?
Почти всю дорогу Вероника рисовала. Из сумочки, той самой, памятной, были извлечены блокнот и две перьевые ручки. Одна с чернилами черными, с синими — другая. А вот что именно пыталась изобразить губастая, свет мой зеркальце уточнить не смогло.
— От нее ничем не пахнет. Так не бывает, Кай. Женщина — это духи. Или шампунь. Или чего похуже. А от нее — ни хорошо, ни плохо.
— Курить меньше надо, Герда. Обоняние пропадет.
Вероника уже возвращалась. Сумочка на боку, бумажный сверток под мышкой. Нелепая юбка, блузка-пиджак нараспашку… Марек, не выдержав, отвернулся. «Органическая потребность»!.. Где только Герда слов таких нахваталась?
— Вот и я! Ой, знаете, у нас, в Тюрингии, в магазинах почти ничего не купишь. А тут всё, буквально всё есть. Глаза разбегаются! Жаль, я большую сумку не захватила!..
Громко, считай, на всю улицу. Зеваки, явно оценив, отозвались дружным согласным гулом. Вероника, помахав им рукой, положила пакет на теплый капот.
Обернулась — резко, словно от удара.
— Вы были правы, герр Шадов, а я смалодушничала. Струсила! Извиняться не стану, лучше внесу свой вклад. Как вы это назвали? Культурная программа?
Негромкий шелест бумаги, легкий стук. На капоте — ленты, три разноцветных мотка.
— Черная, красная, золотая — цвета Германской революции. Белую не хочу, я не монархистка. Украсим нашу «Антилопу». Пусть ветер рассекают!
Подошла Герда, поглядела внимательно.
— Как у цыган на свадьбе.
Подумала.
— А в общем, вы наш человек, госпожа Трапп.
— Спасибо! И еще…
Девушка быстрым движением достала из сумочки блокнот. Раскрыла.
— Хочу поднять свой личный штандарт. Вы не против?
…Справа синее, черное — слева. Между ними — извилистая белая молния, вместо острия — острый излом. Посреди две белых буквы — «В» и «О». «В» — «Вероника», догадаться легко. «О»…
Герру Шадову оставалось лишь развести руками. К счастью, гдето сзади прятался забытый всеми доктор Эшке.
«Два вопроса — „face to face“. Согласны?» Но вопросов оказалось не два.
«Мария Оршич?»
Оршич!
— Под стекло пристроить можно, — Герда склонила голову набок, оценивая. — Приметный очень. Запомнят.
Девушка поглядела вверх, поймала зрачками синее бездонное небо.
— Пусть! Этот знак был на моем корабле. Перед самой посадкой отказал двигатель, но я не испугалась. Так неужели я стану бояться этих тараканов с «сигель»-рунами?
Мужчина и девочка переглянулись. Один поднес палец к губам, другая молча кивнула.
— Ну что? Ключ на старт? — улыбнулась «В.О.»
10
Свитера и кепи надели еще на платформе. Баронесса, накинув куртку, достала из багажника большой вязаный берет, с трех попыток, перемежаемых взглядом в зеркало у передней дверцы, пристроила его поближе к левому уху — и осталась довольна. Хинтерштойсер, видавший виды, извлек из рюкзака клетчатый шотландский плед. Ничто не помогло. Холод встретил их прямо у входа в боковую штольню, уводящую в самые недра горы. Дохнул, вцепился в кожу, добрался до мяса и костей. А потом, когда впереди забрезжил неясный дневной свет, к холоду присоединился его брат — ветер. Ударил в лицо, толкнул в грудь…
Площадка висела над пропастью. Ледяной каменный пол, невысокая, едва по пояс, чугунная решетка, а за нею — мороз и пустота. Справа и слева горный склон в клочьях сизого тумана, впереди же — вообще ничего, ни дна, ни покрышки, только серая дымка вместо сгинувшей земли.
Андреас был здесь не впервые, поэтому скромно отошел в уголок и достал сигареты. Смотреть не на что — горы себе и горы. Не так и высоко, ровно километр. Как раз для туристов — нервы перед обедом пощекотать. Закурил — стало теплее, а там и настроение пошло вверх, к самой снежной вершине.
…И в самом деле! До места, считай, добрались, даже вещи на горбу волочь не пришлось. Снаряга есть, консервов навалом, господин обер-фельдфебель получил законное право лично вычистить Sitzungssaal…
Погоды бы еще хорошей! И везения… Тони Курц прав, Норванд не только спорт, но и лотерея.
Он курил, наблюдая, как его спутники собрались у решетки, как Чезаре, словно неопытный дирижер, размахивает ручищами, тыча пальцем куда-то вниз, в сизый туман, как о чем-то громко тараторит неугомонный Джакомо…
Баронесса Ингрид стояла возле самого края пропасти. Слушала, не произнося ни слова, даже не кивая. Лицо застыло ледяной маской, сразу же став много старше и взрослее. Хинтерштойсеру почудилось, что светлое северное небо в ее глазах исчезло, сменившись безвидной туманной серостью.
Курц стоял рядом с баронессой, но молчал. Вниз не смотрел, косился куда-то в сторону. Андреас, немного подумав, подошел и так же молча отдал ему плед. Тот понял, кивнул, благодаря, и накинул клетчатое одеяло на плечи девушки.
Оставшись доволен, Хинтерштойсер вернулся в свой закуток, извлек из пачки новую сигарету, но так и не закурил. Каменное нутро горы неслышно дрогнуло. Черная тяжесть навалилась на плечи, мокрый белый снег ударил в глаза…
— Твой труп не найдут и не похоронят. Труп твоего друга будет пять дней висеть возле этого окна. Зачем вам это?
С ним говорил Эйгер.
Слова-скалы давили, не давали вздохнуть, но Андреас все-таки сумел разлепить бессильные губы:
— Мы хотим взять Северную стену!
Глухой утробный скрежет. И горы умеют смеяться.
— Северная стена — стена мертвецов. Даже я потерял им счет. Они лежат между камней, стоят по пояс в снегу, висят на своих жалких веревках. Где их мечты? Где их сила, их смелость, их страсть, их любовь? Я забрал все вместе с жизнями. Ты погибнешь, и погибнешь очень скоро, а мертвому нет доли в этом мире. Зачем всем вам такая судьба? Ради чего умирать — и тебе, и остальным?
Он пытался крикнуть, но из глотки вырвался еле слышный шепот:
— Мы… Мы хотим взять… Северную… стену!
Плечам стало легче, глаза вновь стали видеть. Хинтерштойсер облегченно перевел дух. Не зря ему так не по душе тоннели! Мерещится же такое!
…Нет, не мерещится!
— Ничто не вечно, — негромко пророкотал голос Огра. — Даже горы, даже я… Северную стену конечно же возьмут. Но не вы — и не сейчас. За каждый пройденный шаг к моей вершине приходится платить. Не золотом — жизнями. Счет не оплачен даже наполовину, вам его хватит, чтобы добраться только до Второго Ледового поля — и пополнить мою копилку. Идущие за вами сделают следующий взнос, но копилка наполнится очень нескоро. Ваши жизни — несколько мелких монет, плата за чужой успех. А у тебя не останется ничего — и от тебя ничего, даже могилы. И за этим ты пришел сюда?
Каменные слова звучали все тише, угасая в черных бездонных глубинах. Андреас же ответил во весь голос, громко, как на строевом смотре.
— Мы хотим взять Северную стену!
Он не ждал эха, но эхо пришло.
— Prendi! — Чезаре, громким басом.
— Prenderemo il Muro! Мы ее возьмем! — Джакомо, звонким дискантом.
— Возьмем, — Курц, тяжело и веско.
Андреас слегка растерялся. Неловко вышло, стыдно даже. Кто он таков, чтобы лозунги орать, словно крайсляйтер на партийном митинге? И перед кем? Перед теми, кто и так уже мыслями на Стене?
Улыбнулся, руками развел. Вырвалось, мол. Забудьте!
Не забыли. Та, что промолчала, шла прямо к нему. Остановилась в одном шаге, взглянула без улыбки:
— Вы пройдете стену, Андреас. Я не верю — знаю. И… Поступайте так, как считаете нужным. Вам виднее, а я была неправа. Простите!
Хинтерштойсер хотел было спросить «за что?», но не стал.
— Мы одна команда, Ингрид. Мы все — против Огра. Незачем извиняться. Вы и в самом деле хорошая, замечательная — и очень красивая!
В ее глазах вновь сияло северное небо. Но не холодное, а полное утреннего солнца.
— Все равно не убедили. Но… Спасибо за плед!
11
Она ждала вестей о мертвеце, однако откликнулись живые. Телеграмму от мужа принесли, как только она включила в номере свет. Женщина взглянула на желтый бланк, но открывать не спешила. Весть пришла не в срок, на день раньше, чем обычно. Значит, что-то не так, мальчишка оплошал. За него она не очень боялась, выкрутится. Но с ним Герда.
— Это не твои деньги, — сказал ей Марек Шадов. — Я заработаю сам.
В тот вечер, нет, в ту ночь у нее было очень хорошее настроение. Весь день гуляла с дочерью, потом сражалась с ней в «го», проиграла, затем сравняла счет. Наконец, уложив спать, приняла ванну и пришла к мужу, не забыв захватить с собой махровое полотенце. Когда из горла начинал рваться крик, она впивалась зубами в мягкий хлопок. Комната девочки рядом…
Марек ей не изменял. Она это очень ценила.
Под утро, когда женщина вся была в его семени, наступил короткий миг счастья. Ничего больше не нужно, жизнь к ней очень добра…
— Сколько нам хватит? — спросил муж. — Полмиллиона? Миллион?
Ей не хотелось ссориться и говорить не хотелось. Не то время и место.
— Заработаешь?
Улыбнулась, но тут же поняла, что муж не шутит. Пришлось объясняться всерьез — прямо на влажной от их пота простыне.
— Ты не в Шанхае, Марек! Мото продавал китайцам оружие и боеприпасы. В Европе нам никто этого не позволит, здесь нужно совсем другое. Доверь это мне! Оставайся, кем ты есть — хорошим человеком. Мы все вместе — ты, я, Герда. Года через два, если захочешь, сможем подумать о ребенке. Что тебе еще надо?
— Чтобы Герда бросила наконец курить. Я не хочу торговать смертью, Ильза! Пусть люди покупают то, что им дороже всего — собственные иллюзии.
Она не приняла слова мужа всерьез, но и не стала возражать. Того, что Марек зарабатывал, хватало на квартиру, школу для Герды и на мелкие подарки к праздникам. Пусть его! В той провинции, откуда муж родом, до сих пор уверены, что мужчина — глава семьи.
Телеграмма! Не в срок, совсем не в срок…
* * *
Мистер Мото, очень странный японец, уехал из Шанхая по-английски, не попрощавшись ни с кем из своих многочисленных друзей и врагов. Но с ней повидался — якобы совершенно случайно. Женщина оценила и охотно согласилась выполнить просьбу, странную, как и сам мистер Мото.
— Я люблю американский джаз, госпожа Веспер. Скоро в Шанхай приезжает очень хороший коллектив — «Серенады Джека Картера»[65]. Сходите на концерт, послушайте то, что мне не услышать. Я буду очень рад. Билет вам доставят.
Женщина обещала. Билет — второй ряд, седьмое место, ей прислали в простом белом конверте. На всякий случай рассказала боссу. О'Хара даже не удивился.
— Сходи!
Почти тем же тоном, как и чуть позже, когда она сказала, что выходит замуж.
* * *
Шифр, самый простой, предложил Марек. Ей казалось, что незачем. Они не в Китае, муж больше не офицер для поручений при отставном майоре разведки. В Европе не заставляют посылать телеграммы, приставив к виску пистолет. Возражать, впрочем, не стала. Почему бы и нет, если ее Мареку до сих пор кажется, что он — Желтый Сандал? Игра ее даже увлекла, в каждой телеграмме женщина прежде всего отыскивала нужные слова.
Прежде всего, «твой». Если в конце стоит «Твой Марек», значит, все в полном порядке. «Очень» — телеграмма действительно от него. Постороннему не догадаться.
«Очень» было, «твой» — исчезло. Зато ни к месту упомянуты «обстоятельства». Выходит, дела совсем скверные.
…Гертруда с ним. Хорошо! Муж не даст девочку в обиду.
Женщина разложила на столе карту, расправила ладонью. Итак, Швейцария, кантон Берн, отель «Des Alpes». Отеля на карте не оказалось, зато в нужном месте маленьким кружочком был обозначен какой-то холм.
Присмотрелась — не холм. Гора, хоть и не слишком высокая. 3970 метров — не Монблан.
Эйгер.
Огр!
* * *
На концерт женщина надела платье из тех, что попроще. Обычное, светло-бежевое в стиле Мадлен Вионне, смутное подражание японскому кимоно. Ни колье, ни сережек, только перстень поверх белой перчатки.
О Джеке Картере и его «Серенадах» спросила у знатоков. Похвалили, но весьма умеренно. Джек-соло, конечно, звезда, но все вместе — никак не созвездие. Для Шанхая — в самый раз.
Она пришла за десять минут до начала. Второй ряд, ее кресло. Место слева было уже занято. Молодая китаянка при муже, одеты по-европейски, но без всякого изыска.
Место справа пустовало.
Глава 5. Показательный рейс
Песня бабочки. — Бессмысленный вечер. — Сигарета. — Индийская притча. — Кольца Гиммель. — Где Вероника Оршич? — Драккар на рейде. — Альпийский гонщик.
1
— И ничего я не устала, — сварливо молвила Герда, подтягивая колени к самому подбородку. Сидя в этом положении на краю кровати, она умудрялась еще и курить, пристроив пепельницу поверх гостиничного одеяла.
— Но… Время! — Марек выразительно взглянул на часы. В ответ послышалось громкое фырканье.
— Ага! А вы без меня секретничать станете!..
Герр Шадов и госпожа Трапп переглянулись. Девушка выразительно развела руками, Марек же мысленно поблагодарил воспитанницу за «секретничать». Могла бы и на что иное намекнуть.
Мужчине положено принимать решение. Мужчина решение принял.
— Ровно час. Вероника, несите гитару.
— Два! — уточнила девочка. — А время я сама засеку.
Ночевать решили между Нюрнбергом и Штутгартом в маленьком городке, название которого Марек не удосужился узнать. К придорожной гостинице подъехали уже на закате, и «Антилопа Канна» почти не привлекла внимания. Лишь хозяин, плотный пожилой мужчина, взглянул с интересом, почесал подбородок, но так ни о чем и не спросил.
Большая часть дороги осталась позади. От Штутгарта до Берна — 240 километров. Если выехать на заре, когда трасса практически пуста, на границе можно оказаться как раз к завтраку. Потому он и хотел уложить девочку пораньше. Да где там!
Ехали же не с ветерком — с ураганным ветром, под веселое щелканье лент. Благо большую часть пути удалось проделать по новому автобану. За рулем менялись каждый час, Вероника оказалась прекрасным водителем. Марек даже немного огорчился: показательный рейс проходил как-то совсем не показательно. Только на остановках, когда наступало время обеда или заправки, приходилось отвечать на вопросы, а один раз даже показать бумагу с печатями. Впрочем, для любопытствующего шуцмана документ стал лишь поводом заглянуть внутрь машины, а затем осмотреть мотор. Служивый, как выяснилось, и сам шофер, «Антилопу» полностью одобрил, даже восхитился. Однако затем, отведя Марека в сторону, громким шепотом посоветовал быть осторожнее, особенно у швейцарцев. Новости оттуда — одна хуже другой, а на ближайшей станции стоят два эшелона с войсками. Говорят, в братскую Австрию собрались, вот только рельсы ведут совсем не туда.
Под конец бдительный шуцман обратил внимание «господина шефа рейса» на некое щекотливое обстоятельство. Автомобиль — народный, но «Лорен-Дитрих» — фирма совместная, и даже больше французская, чем немецкая. Неспроста! Фюрер думает на перспективу. Сегодня — совместная, а завтра, глядишь, и…
Марек Шадов сурово нахмурился. Полицейский молча пожал ему руку, но взглянул со значением.
В целом же «господин шеф» был слегка разочарован. Будь это, к примеру, в окрестностях Шанхая, останавливаться бы пришлось на каждом километре. Но там и пристрелить могли, даже не дослушав лекцию о всех достоинствах народного средства передвижения. Всюду свои традиции.
* * *
— В Берлин доложили, конечно, — согласился Марек, допивая яблочное шарли из маленькой глиняной кружки. — Но мало ли сейчас показательного устраивают, особенно перед Олимпиадой? Один начальник подумает на другого, тот на третьего… Надо будет только ленты перед границей снять, чтобы не цеплялись.
— Ленты или пограничники? — невозмутимо уточнила Герда. — Кай, не задерживай. Госпоже Трапп очень хочется сыграть на гитаре.
Расположились в номере у Марека. Заказали шарли, девушка принесла гитару, вынула из чехла. Пробежалась пальцами по струнам, подкрутила колки.
— А что сыграть?
Мужчина и девочка переглянулись.
— У нашей учительницы пения — мандолина, — Герда взглянула угрюмо. — Мы месяц разучивали песню — про козочку и розочку. Такое не надо. Сыграйте, что нравится.
Вероника, молча кивнув, взяла инструмент. Пальцы легли на деку, коснулись струн. Первые такты… Марек поразился. Чего можно ждать от синеглазой девушки, не испугавшейся, когда перед посадкой отказал двигатель?
…Ария на струне Соль. Бах.
Пальцы жили своей жизнью, перебирая струны. Лицо же внезапно обрело покой, словно девушка вернулась домой после долгого-долгого путешествия. Музыка никак не кончалась, текли минуты, и Марек, сам не понимая почему, ощутил смутную тревогу. С губастой что-то не так. И не потому, что от нее не пахнет духами.
Когда струны умолкли, никто не решился заговорить. Наконец отозвалась Герда:
— Это вы нарочно, да? Чтобы больше не просили? После такого ничего слушать не захочется!
— Извини!
Вероника отложила гитару, взглянула растерянно.
— Ты сказала «что нравится». А мне не по душе музыка, которую сейчас играют на…
Закусила губу, поправилась:
— …В Европе. И в Америке — тоже. Но если хотите… Сегодня это поют по всему миру. Слова у нас в эскадрилье подобрали, только припев оставили. Там как раз про небо.
Взяла инструмент, вскинула голову:
Южный ветер рассвет приносит. Ждем команды — и улетаем. Наше танго — под небесами. Ты ведущий, а я ведомый. Мы станцуем за облаками, Ты вернешься, а я останусь. В небе чистом найду себе покой. Ах, где найти покой? А любовь мелькает в небе, Волну венчает белым гребнем, Летает и смеется, и в руки не дается, Не взять ее никак! О Аргентина, красное вино!На этот раз Герда даже соизволила хлопнуть в ладоши. Но все-таки решила уточнить:
— А вам разве не нравится, госпожа Трапп?
Девушка улыбнулась.
— Скорее, смущает. Когда я… То есть полвека назад танго танцевали исключительно мужчины, причем в таких заведениях, о которых ты, конечно, знаешь, но при папе не упомянешь никогда.
Девочка задумалась, Марек же, немного знавший историю знаменитого аргентинского танца, и сам слегка смутился, поэтому поспешил спросить о другом:
— Вероника! То есть госпожа Трапп! Не так давно вы показывали одному почтенному доктору книжки. Там, кажется, тоже была Аргентина. Даже на обложке.
Синие глаза блеснули смехом:
— Она там всюду. Планета, сорванная с орбиты волей Черного Злодея и брошенная навстречу старушке Земле. О, где ты, Капитан Астероид? Какая чушь, Марек! Простите, герр Шадов… Планета Аргентина действительно существует — в поясе астероидов. Обычный булыжник, чуть больше сотни километров в диаметре. Тащить ее к Земле — мартышкин труд, все можно сделать проще и страшнее. К счастью, никто, даже Черный Злодей, на такое не способен. Пока…
«Пока» — прозвучало нехорошо, но Марек заставил себя об этом не думать. Как и о ее оговорке, наверняка не случайной. «Герр Шадов» — как-то спокойнее.
— Госпожа Трапп, а какая музыка на других планетах? — внезапно спросила девочка.
Вероника даже не удивилась:
— Разная, наверно. Планет очень много…
— А сыграйте — какую-нибудь!
Марек хотел было вмешаться, но губастая покачала головой:
— Не надо! Я объясню. На гитаре не смогу, Герда. И никто, думаю, не сможет. Разве что спеть… Это тоже очень трудно. Представь, что тебя попросили исполнить песню бабочки!..
Усмехнулась виновато. Встала.
— Мне пора! На других планетах очень рано ложатся спать. Гитару заберу завтра, если вы не против.
Подошла к двери, взялась за ручку.
Обернулась.
Что-то толкнуло Марека в грудь, бросив на спинку кресла и обездвижив. Незримая упругая волна накрыла с головой, чье-то теплое дыхание коснулось лица, растеклось по телу, убаюкивая и одновременно насыщая силой. Где-то совсем рядом закружился гигантский многоцветный водоворот, острые холодные волны подхватили, понесли с невероятной пугающей скоростью. Все стало синим, желтым, потом прозрачным. Стены исчезли, потолок унесся вверх, открывая бездонное черное небо.
Звуков не было, и Марек успел удивиться, почему у девушки приоткрыт рот.
Потом… Потом все оборвалось, но не сразу. Где-то еще беззвучно плескались волны, в оконных стеклах отражались цветные мерцающие огни…
«Спокойной ночи!» он все-таки сумел расслышать.
* * *
— …Она с другой планеты, точно! То, что ты видишь, защитный скафандр, а внутри — зеленая ящерица без хвоста. Трехглазая и с пупырышками.
— Может, все проще, Герда? Это похоже на… На гипноз!
— Ты еще скажи, что так поют бабочки.
2
Вечер тянулся, словно бракованный трос — длинной чередой бессмысленных пустых минут. Хинтерштойсер давно уже перестал прислушиваться к разговорам и лишь качал головой, когда к его кружке в очередной раз приближалось горлышко бутылки, тоже очередной. Оставалось одно — смотреть в… Нет, если бы в небо! В скучный серый потолок, такой же бессмысленный, как весь этот вечер.
Эйгер-Огр умел не только смеяться, но и шутить. Как только авто баронессы остановилось возле разноцветных палаток — лагеря братьев-скалолазов, что расположился в двух сотнях метров от входа в отель, с неба начало мелко и противно капать. Небесная синева не исчезла, даже солнце продолжало светить, но прямо в зенит нагло пробралась серая пузатая тучка. А от белой вершины Эйгера ей на подмогу уже спешили другие, такие же пузатые и серые.
Курц, поймав ладонью большую тяжелую каплю, резонно рассудил, что с устройством на ночлег следует поторопиться. С ним и не думали спорить, но как только из багажника была извлечена первая, итальянская, палатка, прямо над головами что-то противно грохнуло, и на истоптанную траву обрушился ливень.
Итальянцы высказались во всю красоту и ширь родной речи. Курц нахмурился, Андреас же слегка растерялся. Вместо поединка с Огром их просто-напросто полили водичкой, словно предлагая поумерить пыл.
Баронесса скомандовала «раз». Затем скомандовала «два». Голос был такой, что даже Тони Курц метнулся не хуже, чем по сигналу воздушной тревоги. Уже через несколько секунд Хинтерштойсер осознал, что все они вновь оказались в машине, которая с негромким рычанием пробивается сквозь тугие струи ливня прямиком к стеклянному холлу отеля. Когда «Испано-сюиза» затормозила, опомнившийся Курц предложил из авто не выходить. Некуда — в «Des Alpes», как всем известно, скалолазов из палаточного лагеря дальше порога не пускают.
Ингрид реплику проигнорировала и вышла прямо под дождь. Швейцар поспешил открыть двери.
— Si alla Eiger nell'intestino fallito, la Santa Vergine, essere andato tutto al diavolo! — резюмировал рыжий Чезаре. Джакомо поморщился и от перевода воздержался.
Баронесса вернулась через пять минут в сопровождении швейцара, несшего над нею зонтик. Села в машину и скомандовала «три».
* * *
Отель «Des Alpes», известный также как «Гробница Скалолаза», знал разные времена. В Великую войну жизнь в нем еле теплилась, в тяжелые послевоенные годы стало немногим лучше, зато в шумные и бесшабашные 20-е всё забило ключом. Что ни сезон, постояльцев приносило в «Des Alpes» прибойной волной, с каждым годом все больше и обильнее. Владельцы отеля воодушевились и раскошелились. Рядом с главным зданием начал расти огромный Северный корпус. Размахнулись широко, чуть ли не на чикагский небоскреб, однако Великая депрессия быстро расставила все по местам. Небоскреб растаял, словно весенний снег у подножия Эйгера, но три завершенных этажа все-таки успели кое-как подвести под крышу. Прибой сменился легким бризом, постояльцев стало заметно меньше, и в новостройке разместили часть хозяйственных служб заодно со складом. Только в самый пик сезона, и то не каждый год, Северный корпус открывали для тех, кому не хватило места в главном здании.
Постояльцев начали пускать в Нордхауз, как чаще всего именовали новый корпус, неделю назад. Некоторые номера еще пустовали, главное же, простаивал спортзал. Администрация отеля, держа нос на альпийском ветру, проявила чуткость, предложив бродягам-скалолазам разместится там на все время непогоды.
Рюкзаки и палатки поставили у шведской стенки, маты подтащили к окну, сняли намокшие куртки. Первую бутылку извлек на свет божий все тот же Чезаре. «Vino da tavola» — напиток, считай, диетический, поэтому никто не возражал. Первую налили баронессе, потом пустили кружку по кругу… И не было бы в том никакой беды, но под очередной тост («За вершину!») в дверь спортзала громко постучали.
Гости…
Сперва Хинтерштойсер честно пытался всех запоминать, но на втором десятке сбился. С Бартоло Сандри и Марио Менти, итальянцами из «категории шесть», он был знаком не первый год, австрийцев Ангерера и Райнера знал вприглядку, но в основном привалила молодежь, которым до «шестерки» было как до вершины Эвереста. Шумная, непосредственная — и уже успевшая крепко приложиться, вероятно, по случаю все того же дождя.
Достали, стукнули донышками по полу… Понеслось!
Вначале было интересно. Спели «Первый перевал», причем сразу на трех языках, Сандри и Менти (новые костюмы, прически, как у киноактеров) смешно важничали, через каждое слово поминая Дуче, австрийцы хвастались новой, только что с армейских складов, «снарягой», грозясь отметить неизбежный грядущий аншлюс прямо на вершине Огра. Но больше орали, а еще больше — пили.
Хинтерштойсер накрыл кружку ладонью почти сразу, как только в ход пошла итальянская граппа. Решил поглядеть, что поделывает Курц, но такового в зале не обнаружил. Произведя несложное умозаключение, Андреас пришел к выводу, что Ингрид наверняка тоже исчезла. Привстал, убедился в собственной правоте — и принялся глядеть в потолок.
— Perche non bere? — с обидой в голосе вопросила незнакомая небритая физиономия, возникая над кружкой.
— E perche — perche! — ответил на языке Данте Хинтерштойсер — и вышел из Северного корпуса прямо под дождь.
3
Не спалось. Марек Шадов встал, накинул рубашку и с нехорошим вожделением поглядел на пачку сигарет, лежавших на тумбочке возле кровати Герды. Доктор Эшке, распуская свой потрепанный павлиний хвост перед синеглазой фройляйн Краузе, несколько приукрасил собственную биографию. Курить он действительно бросил в голодном 1918-м, но в Берлине, когда завелись пфенниги, снова приучился и задымил всерьез. Расстался с табаком лишь в Шанхае, и то не сразу. И вот теперь снова потянуло — острой холодной волной, уносящей в самый омут многоцветного бездонного водоворота.
«От нее ничем не пахнет…» Герда ошиблась. Запах был еле ощутим, призрачен и непонятен, как сама Вероника, но запомнился и никуда не исчез. Марек приказал себе не вспоминать… Не представлять… Не…
Подошел, стараясь не шуметь, к тумбочке, протянул руку, коснулся пачки — сухой безразличной бумаги. Отдернул пальцы, усмехнулся горько. Можно и не курить. Одеться, выйти в коридор и постучать в соседнюю дверь.
Он знал — откроют.
Глаза — в глаза! Губы — в губы…
А потом… А потом — ничего. Совесть, как известно, самый лучший друг, с ней всегда можно помириться[66]. Уже сейчас бесенятами из табакерки выскакивают и строятся в долгий, бесконечный ряд самые убедительные объяснения, оправдания, обещания, даже клятвы — ЕЙ, всему миру, самому себе, — что это лишь досадный эпизод, что никогда больше впредь…
Сигарету из пачки он вынул, вернулся к своей кровати, присел — и только тогда вспомнил, что забыл зажигалку. Значит, судьба! Курить — вредить здоровью, а лучший способ победить искушение — выйти в коридор, не забыв аккуратно прикрыть дверь.
Герда тихо заворочалась во сне. Он замер, как был, с незажженной сигаретой между пальцев. «Учти, Марек! Тебе придется полюбить двух женщин», — сказала ОНА перед тем, как примерить кольцо.
Где-то далеко, у самой кромки земли, хрипло расхохотался Мастер Теофил.
— Крабат!.. Кра-а-абат!..
* * *
Работодатель рассчитался с ним за три дня до отъезда. То, что мистер Мото сворачивает дела, Марек, конечно, знал — сам их сворачивал, но скорый отъезд все-таки удивил. Странный японец, не став ничего объяснять, сообщил, что заказал билет и для своего «доктора Ватсона» — на другой пароход, идущий совсем на иной материк. Уехать же настоятельно советовал, ибо в Шанхае становилось слишком жарко.
«Буки-о сутэро! Тэ-о агэро!..»
«Доктор Ватсон» (титул был новый, неожиданный, как и сам отъезд) сначала проморгался, затем задумался, а после твердо заявил, что никуда не поедет. Японцы наглеют, это понятно. Однако имеются дела куда более важные, чем всякое там «нигэру-то уцу-дзо».
Взгляд мистера Мото был способен створожить целую бочку молока. Марек сообразил, что его видят насквозь, причем куда четче, чем на экране в кабинете рентгенолога.
Не сдержался. Кислота плеснула в огонь.
— Да-да, мистер Мото! Из-за НЕЕ! Но это мое дело! Личное, понимаете?
Работодатель вместо ответа пожал пиджачными плечами.
Войны между грозным О'Харой и скромным, хотя и странным японцем так и не случилось, и Марек несколько раз виделся с НЕЙ без всякого риска заработать случайную пулю. На улице, в клубе, у касс «Южно-Китайского банка» и, как в тот раз, среди ресторанных пальм. Хотел заговорить, объясниться — не смог. То ОНА была не одна, то он — в случайной компании.
Промолчал, но запомнил ЕЕ взгляд. Так смотрят на кота с помойки, посмевшего улечься посреди семейной кровати.
Марек понимал, что все безнадежно, бессмысленно. Но взять и сбежать?
Нет!
В порт мистер Мото ехать ему не велел. Незачем — и опасно. Простились в пустой гулкой квартире, откуда уже успели вынести вещи. Работодатель адреса не дал и писать не обещался. Совет дал один: не забывать, но вспоминать пореже.
Уже перед самым расставанием мистер Мото, хлопнув себя по лбу, посетовал на собственную рассеянность — и попросил выполнить одну пустяковую просьбу. Марек Шадов прекрасно знал цену пустяковых просьб странного японца, но отказать не мог. Мистер Мото открыл чемодан…
— Подставляйте ладонь!
Бумажная упаковка — легкая, маленькая, на две коробки спичек. Просьба же оказалась и в самом деле несложной. Следовало прибыть на место — и вручить посылку тому, кто будет слева. Но предварительно развернуть, дабы удостовериться в том, что нет никакой ошибки.
Марек понял далеко не все, но обещал. Простились. Через несколько дней посыльный принес простой белый конверт, внутри которого оказался билет в «Нанкин Гранд Театр». «Серенады Джека Картера», начало в 19.00, ряд второй, место восьмое. Итак, содержимое пакета предназначено тому, кто окажется рядом, на месте № 7. Лишь насчет ошибки ясности по-прежнему не было. Кто может ошибиться? И в чем?
На концерт Марек Шадов надел свой лучший костюм. Пистолет решил не брать.
* * *
Щелчок — сухой, но резкий. Взведенный курок…
Марек Шадов вздрогнул, сигарета выскользнула из пальцев. Рядом белым призраком стояла Герда. В первый миг он не мог понять, что с ней, и только потом сообразил. Простыня — закуталась до самой шеи, лишь рука торчит — с горящей зажигалкой. Не очень понимая, что делает, мужчина поднял с коврика сигарету…
Зажигалка погасла.
— Если ты… — девочка бросила быстрый взгляд на дверь, — если ты закуришь, Кай, я ничего не скажу Королеве. Не хочу, чтобы ей было больно.
Помолчала, закусила губу.
— Ты очень сильный, Кай. Я знаю.
Зажигалка негромко ударилась об пол. Герда поправила простыню, повернулась, добрела до кровати. Легла — упала — лицом вниз, рывком натянула одеяло, затем нащупала подушку и нырнула под нее, прижав растопыренной ладонью.
Замерла.
Мужчина поглядел на сигарету, хотел сжать пальцы, чтобы превратить в труху. Сдержался и просто положил ее возле пепельницы.
4
Прежде чем открыть темную полированную дверь и вдохнуть тяжелый, пропитанный винными парами воздух, Хинтерштойсер поразился собственной непоследовательности. Уйти с пьянки, чтобы оказаться точнехонько в гостиничном баре! Абсурд? Можно и хуже назвать.
Во всем виноват был швейцар. От входа в Нордхауз Андреас побрел куда глаза глядят. Глядели же они прямо, где совсем неподалеку горели огни главного корпуса «Des Alpes». Больше некуда, дождь слева, дождь справа, сверху тоже он, а там можно и под козырьком постоять возле стеклянных дверей. Даже покурить, если сигареты не промокнут.
До входа добрался, сигареты промочил. Первая не загорелась, вторая тоже. Verfickte!.. Собрался достать третью, но в этот миг совсем рядом могучей коренастой тенью соткался швейцар, в фуражке и при непременном зонтике. Взглянув недоуменно, достал из кармана форменной тужурки тяжелый серебряный портсигар. Негромко щелкнул замочек. Андреас поспешил поблагодарить — и был назван по фамилии. Хинтерштойсер немало изумился, но выяснилось, что он в этих местах — личность известная. Об их с Курцем приезде уже оповещен весь отель, в холле даже фотографии повесили.
Это еще можно было понять, гостиница не зря прозвана «Гробницей Скалолаза», но швейцар удивил еще больше, сообщив, что уже не первый день активно работает нелегальный, но никем не преследуемый тотализатор. Ставки на взятие Северной стены постоянно растут, и они с Тони в этом списке вторые. Первое место с большим отрывом занимает Эйгер Всемогущий.
Хинтерштойсер поглядел налево и вверх, где за темной ночной мутью пряталась неприступная снежная вершина. Сжал кулаки.
Швейцар посоветовал «герру Хинтерштойсеру» не мокнуть понапрасну, а смело идти в «Des Alpes», потому как его, равно как и «герра Курца», велено пускать. Отель в полном распоряжении гостя, более того, некоторые дамы уже спрашивали и весьма интересовались.
Андреас, бросив на служивого загнанный взгляд, спросил, где в отеле бар, не переехал ли. А куда еще идти в мокрой куртке и тренировочной обуви?
Бар оказался там же, где и год назад, в его последний приезд — прямо и сразу же налево. Хинтерштойсер нащупал в кармане мокрые купюры, прикинул, сколько может потратить…
А, прорвемся!
Прорываться пришлось не только сквозь спертый воздух, но и через немалую толпу. Бар был полон, причем публика уже успела отдохнуть ничуть не хуже, чем братья-скалолазы в спортзале. Свободных столиков не нашлось, даже у стойки сгрудилась немалая толпа. Андреас сперва хотел повернуть назад, но потом сообразил, что возвращаться некуда. Поминки по бездарно потраченному вечеру можно справить и здесь.
Очередь расползлась вдоль всей стойки, не поймешь, где хвост, слева ли, справа. Андреас предпочел стать по левую руку, забившись в самый угол. По крайней мере, тепло, не каплет — и музыка играет, причем американский джаз, который не часто услышишь в Рейхе. Кэб Кэллоуэй, мистер Длинный Пиджак, со своей «Минни-попрошайкой».
Хайди-хайди-хайди-хай! Ходи-ходи-ходи-хо! Хиди-хиди-хиди-хи! Совсем неплохо!Он сунул руки в мокрые карманы, пригладил ладонью волосы, тоже мокрые, и приготовился ждать, пока вечер кончится. «Хайди-хайди-хайди-хай! Ходи-ходи-ходи-хо! О-о-оп!.. Сошлась со Смуки Минни-шлюха. Она любила — он коку нюхал!..»
— Господин Хинтерштойсер!..
Голос был негромок, но Андреас услыхал сразу. Вероятно, потому, что прозвучало совсем рядом, пусть и не под ухом, но почти.
Обернулся.
— Присаживайтесь! Я уже ухожу.
Столик — как раз за спиной, маленький, только для двоих. Первый, крепыш лет тридцати, стоит, второй, в пиджаке штучной ткани, сидит, причем спиной, лица не разглядеть.
Хинтерштойсер думал недолго. Отчего бы не присесть, если приглашают? Подошел к тому, что стоял, хотел сказать «спасибо»…
— Роберт! — Крепыш протянул руку. — Кстати, если понадобится самолет, смело обращайтесь!
Рукопожатие — сильное, фигуре под стать, улыбка.
— Счастливо — и удачи!
Андреас не без опаски поглядел на свою ладонь. Не почудилось ли? Только что был здесь, руку пожимал — и сгинул, словно в табачном дыму растворился. И лицо… Совершенно не запомнилось, а ведь рядом стояли.
— Присаживайтесь!
Это уже сзади. Андреас, кивнув, обернулся, поглядел на толпу у стойки.
— Я… Я что-нибудь закажу.
— Уже.
Хинтерштойсер настолько удивился, что послушно присел.
* * *
— Имеется чисто техническая трудность. У меня есть привычка — обращаться к своим клиентам по фамилии. Ваша очень длинная…
Черная рубашка под темно-серым, из лучшего магазина, пиджаком, часы на серебряном браслете. Плечами широк, вполне под стать сгинувшему Роберту.
— Мне не трудно выговорить «Хинтерштойсер» нужное количество раз, но… Это вас не будет напрягать?
Лицом же, если не приглядываться, чистый азиат — раскосые глаза, короткие темные волосы. Нос, правда, подгулял — утиный, да еще слегка кривой. Годами неизвестный обременен, однако умеренно. Далеко за тридцать — или даже под сорок.
— По имени прошу не предлагать. Не тот формат.
Андреас открыл было рот, дабы разъясниться, особенно по поводу «клиента», но откуда-то сверху на столик спикировали две маленькие рюмки. Глиняные, в легкой белой изморози.
Рот сам собой захлопнулся. Тут бы неизвестному улыбнуться, самое время, но раскосые темные глаза глядели серьезно.
— Давайте по порядку. Итак?
— Х-хинтерштойсер! — решился Андреас. — Я, знаете, привык. Но…
Взгляд разрубил фразу, словно удар стального айсбайля.
— Прошу ознакомиться.
На широкой ладони — небольшой белый четырехугольник. Визитка… Хинтерштойсер осторожно приподнял ее за краешек, попутно сообразив, что своей не обзавелся. Повода не было. Не господину же обер-фельдфебелю вручать!
Ознакомился, взглянул недоуменно.
— Просто «Лекс», — кивнул владелец серебряного браслета. — Так и обращайтесь. Следующий пункт, Хинтерштойсер, эти рюмки. «Уникум», венгерский горький ликер. Обычно я говорю, что он проясняет разум и успокаивает нервы, но в данном случае ликер поможет вам слегка согреться. Не обращайте внимание на изморозь, его так пьют. Приступим?
Андреас сглотнул. Потом глотнул и прочувствовал. Г-горько, даже с избытком!
— Отменно, — рассудил Лекс, ставя пустую рюмку на стол. — Пункт следующий… Вас удивило слово «клиент». Могу все объяснить, однако… Оно вам надо?
— То есть? — совсем растерялся Хинтерштойсер.
— Я мало понимаю в альпинизме. Но мне почему-то кажется, что вам и вашему товарищу сейчас нужно смотреть на молоко — и только на молоко.
* * *
— Индийская притча, Хинтерштойсер. Кажется, из детского учебника, уже не помню… Некий магараджа, тамошний курфюрст, выбирал себе министра. Он объявил, что возьмет того, кто пройдет по стене вокруг города с кувшином, доверху наполненным молоком — и не прольет ни капли. Пробовали многие, но по пути их отвлекали, и они проливали молоко. Но вот пошел один. Вокруг него шумели, стреляли, пытались пугать, кричали, что горит его дом, что сына укусила змея. Но молоко он не пролил. «Ты слышал выстрелы? Слышал, о чем тебе кричали? — спросил победителя магараджа. — Видел, что творилось вокруг?» — «Нет, повелитель, я смотрел только на молоко!».
* * *
Бармен поставил новую пластинку — бесшабашную «Puttin' on the Ritz» Ирвинга Берлина.
Может, вы встречали их — Жирных, наглых и смешных. Носом кверху, как в раю, Ходят, топчут авеню?В баре шумно, в баре душно, никому нет дела до сидящих за маленьким столиком у самой стены. Немолодой, хорошо одетый мужчина что-то негромко рассказывает, его спутник, парень 23-х лет в старой спортивной куртке, слушает, время от времени вставляя короткие реплики.
Тесен ворот, это нынче модно! Шляпа-хомбург — превосходно! Туфли — блеск! — из светлой кожи! Каждый цент в одежку вложен.— На все можно взглянуть иначе, Хинтерштойсер. Политики, военные, репортеры… Пусть их! Вы сейчас у цели, вы — стрела, вам ничего уже не может помешать. Вперед! А по поводу «ничего» побеспокоятся ваши друзья. Не удивляйтесь, они есть.
— Стрела, говорите? А я себя больше с пулей… Разницы, конечно, нет, Лекс. И… вы правы. Но как-то все совпало. Гитлер, Муссолини, Судеты, аншлюс, войска на станциях…
Если скучно станет вам, Станьте модником вы сам, Галстук, куцее пальто, Идеальны, как никто!— Не ваша забота. Смотрите на молоко, Хинтерштойсер! Смотрите только на молоко!.. Кстати, из последних слухов. Бартоло Сандри сказал репортерам, что «двойкой» Норванд не взять. Только двумя «двойками». Понятия не имею, что это означает…
— Это означает, Лекс, что Сандри не думает, как подняться на Северную стену. Он думает, как остаться в живых.
В зубы трость — и вы Рокфеллер, Черный фрак, сзади пропеллер. «Риц-отель» любит удачу, Кто не с нами, тот пусть и плачет!Их не слушают, некому и незачем. Для того и встречаются в баре поздним вечером. За стенами дождь и сырая мгла. Мать-Тьма распростерла над миром свое покрывало.
Эйгер…
Старому Огру незачем напрягать слух. Отель стоит на его каменной плоти, и каждое слово глухими раскатами отзывается в темноте ущелий.
«Двойка» — два трупа. Две «двойки» — четыре.
5
Заметка оказалась в четвертой из просмотренных ею утренних газет. Женщина как раз успела допить чашку кофе по-венски. Последний глоток… «La Vie Mondaine», Ницца, раздел «Происшествия», под черной, словно траурной чертой.
На всякий случай (береженого Бог бережет) она велела доставлять в номер газеты не только с юга Франции, но также и нормандские и бельгийские. Лишние сразу откладывала в сторону, еле сдерживаясь, чтобы не сбросить на пол, на пестрый гостиничный ковер.
«Происшествия»… У репортеров из Ниццы с добычей было не очень, поэтому они не преминули заглянуть к соседям. Монако, суверенное княжество, династия Гримальди, знаменитое казино в Монте-Карло…
Вот!
Площадка признаний, она же Площадка самоубийц на горной трассе. Вид на залив, любимое место американской киноактрисы Мэдлен Кэррол, обменявшейся здесь обручальными кольцами со своим очередным будущим мужем. Два трупа с начала года, этот, свежий, уже третий. Оставшиеся ни с чем игроки бросают последний взгляд на погубивший их город. Традиция…
Итак, третий труп, мужчина, приблизительно сорока лет, национальность неизвестна. Не опознан, изуродован при падении, документов нет. Игрок — в кармане пиджака найдены фишки из «Солнечного казино», что на первом этаже отеля «Fairmont Monte Carlo», и проспект «Societe des Bains de Mer», знаменитого «Общества Морских Купаний». Полиция ведет расследование и обещает в ближайшее же время…
Женщина отложила газету и подняла трубку телефона, чтобы поторопились с завтраком. «Ближайшее же время» ее не слишком взволновало. Искать станут прежде всего в Монте-Карло, а ни она, ни третий труп там в эти дни не были. Фишка и проспект остались еще с прошлого года. Не выбросила, словно предчувствуя.
Она решила не торопиться и дочитать заметку. «В ближайшее же время…» Общественность требует прекратить «эпидемию смертей» и для начала ограничить посещение Площадки признаний светлым временем суток. Разумно! Взгляд скользнул по знакомой фамилии. Мэдлен Кэррол — та, что прославилась в «Тридцати девяти ступенях» британца Хичкока. А еще… А еще «Секретный агент» и…
…«Генерал умрет на рассвете».
Пальцы вцепились в газету, скомкали, порвав тонкую бумагу. Видит Бог, такое в ее планы не входило. Площадку самоубийц женщина запомнила еще пару лет назад. Взглянула в пропасть — и подумала о том, что полицейским придется немало поработать, если в кармане пиджака у очередного бедолаги не окажется паспорта. И что жертву станут искать прежде всего среди тех, кто польстился на манок «Общества морских купаний». А если просто ехать в ту же Ниццу, свернуть с главной трассы…
«На рассвете» опять не вышло. Время женщина запомнила до минуты — 22.03, почти сразу же после позднего июньского заката. На рассвете она проснулась уже в Авиньоне. «Мерседес» поручила перегнать прямиком в «Гранд-отель» и заказала билет на ближайший авиарейс до Парижа. О'Хара, не привыкший верить людям, сообщил подчиненным, что на выходные собирается в Шартр, где проживает его очередная пассия. Туда сейчас и шлют телеграммы.
Никому не верил… Странно, что поверил ей. Интересно, где он покупал кольца?
* * *
— Назовем это просто «Структура», — сказал однажды О'Хара. — Замысел тебе понятен. Чем ближе война, тем охотнее государства и люди тратят деньги. А когда начнется, то можно сразу же подставлять очень большой мешок. Главное, Лиззи, знать, когда начнется — и держать мешок под мышкой.
На столе лежала карта Европы, и женщина ждала, когда в нее ткнут пальцем. Обошлось, О'Хара держал в руке цанговый карандаш.
— Единственное табу, Лиззи, — никакого оружия. Рынок давно поделен, нас немедленно порвут в клочья. На нашу долю остается все остальное, а этого остального, поверь мне, очень и очень много.
— Не порвут? — улыбнулась она.
Босс привычно захохотал, но ответил очень серьезно:
— Не порвут. Мы будем отбивать хлеб у не слишком дружной компании. Каждый из них привык возделывать свою делянку. Сахар, консервы, алюминий, бензин — все отдельно. А где Структура, там и система. Главное, Лиззи, угадать, не пропустить момент, когда бабахнет. Но знать это будут всего несколько человек в мире.
Она подумала и решилась возразить:
— Так было раньше. Посол вручал ноту и лишь потом генерал поднимал солдат «в ружье». Сейчас все наоборот, войну объявляют по ее результату — или вообще не объявляют. Вспомни Китай! Здесь, в Европе, никто не будет знать, чем все кончится — большой войной или очередным «кризисом». Даже тот, кто прикажет войскам пересечь границу.
О'Хара, хмыкнув, порылся в стопке газет и бросил поверх карты номер «Le Matin» с большой фотографией на первой обложке. Цанговый карандаш вонзился прямо в усики a la Чарли Чаплин.
— Этот прикажет. Новый рейхсканцлер! Будем следить за ним — и не ошибемся.
— Грифель сломался, — сказала она.
О'Хара все же ошибся. Вначале, когда ждал войну в марте, во время вторжения в Рейнскую область, затем в мае, когда заполыхало в Судетах и Тешине. И, наконец, в тот день, когда решился купить обручальные кольца — очень красивые, но, к счастью, ничем не похожие на те, другие. Настоящие.
На Площадке признаний женщина, открыв коробочку, обшитую темным бархатом, первым делом подумала именно об этом. Тогда и решилась, уже окончательно, отбросив все сомнения, обручить босса с Костлявой.
Брак с О'Харой — очень выгодная сделка. Но бумажный фонарик с весеннего праздника Чуньцзе стоит куда дороже.
* * *
Марека Шадова женщина заметила сразу, как только он вошел в зал. Не удивилась: в «Нанкин Гранд Театре» собрался почти весь «европейский» Шанхай. Залетные джазисты с их серенадами оказались неожиданно популярны. Когда же помощник сгинувшего в океанской дали мистера Мото остановился у соседнего кресла, тем более не стала удивляться. Картинка калейдоскопа наконец-то сложилась, мелкие стеклышки с еле слышным хрустом заняли свои законные места. «Майор» уехал, оставив Желтого Сандала на хозяйстве. Говорить с самим О'Харой мальчишке не по чину… Остальное понятно, кроме, пожалуй, главного. Неужели наглец решил, что с ним кто-нибудь захочет иметь дело? Мистер Мото — фигура на шахматной доске, и немалая, его «перчатка» — всего лишь жалкая тень.
С самим мальчишкой она уже разобралась. Наглый сопляк, способный лишь на пьяный кураж. Признаться в любви перед хорошей поножовщиной — свежо, даже ее впечатлило. Но обошлось без драки, а потом парень протрезвел и поджал хвост. Женщине вспомнился старый американский фильм, еще немой, с белыми буквами на черном экране. «Самое глупое и опасное, — вещал некий персонаж, — это отбивать у гангстера его девушку». И — долгий, надрывный проигрыш тапера. Желтый Сандал тоже ходит в кино.
Марек стоял возле кресла — второй ряд, место восьмое. На нее не смотрел, глядел себе под ноги. Женщина ждала, пытаясь сдержать усмешку. Наконец…
— Добрый вечер, госпожа Веспер!
Глаз так и не поднял, зато полез в правый карман пиджака. Она знала, что мальчишка носит там черный каучуковый мячик. У каждого свои причуды. Сейчас достанет — и что?
Достал. Нет, не мячик, небольшой пакет в желтой оберточной бумаге. Значит, она не ошиблась. Важные послания принято пересылать в ларце, одна из традиций славного города Шанхая.
Женщина отвернулась, не желая помогать. Пусть сам крутится, Желтый Сандал. Смотрела на сцену, на тяжелый малиновый занавес. Пора начинать, но знаменитости, как и положено, тянут время.
— Разрешите… Разрешите сделать вам предложение, Ильза.
— Разрешаю, — даже не подумав, отозвалась она. Повернулась.
Сначала увидела его глаза. Удивилась, еще ничего не понимая, встала. Потом поглядела на то, что лежало на его широкой ладони. Не поверила, хотела протянуть руку.
…Колец было два — и в то же время одно, две разъединенные золотые половинки. Гиммель, Кольца-Близнецы, на каждом — протянутая ладонь. Если вставить одну половинку в другую — у алтаря, пред ликом Божьим, — ладони станут единым целым.
— Прошу вас стать моей женой.
Женщина заметила, как дрогнула его ладонь. Все еще не веря, решилась и взяла в руку маленькую, на два спичечных коробка, шкатулку. Надо было немедленно сказать «нет», мальчишка перешел все границы… Но кольца манили, ей вдруг до боли захотелось увидеть, как два маленьких золотых обруча входят друг в друга, как соединяются две ладони…
— Ты хорошо подумал, Марек Шадов?
Укусила себя за язык. Поздно! В его глазах что-то вспыхнуло. Маленький бумажный фонарик с весеннего китайского праздника, невесомый и хрупкий. Дунь — и погаснет.
— Если честно, совсем не думал.
Она умела решать быстро, не теряя ни секунды. Взяла одно из колец, поднесла к безымянному пальцу.
— Учти, Марек! Тебе придется полюбить двух женщин.
Кольца Гиммель превратились в одно, венчальное, в маленьком храме при германском посольстве. Женщина спрятала его в шкатулочку и надевала только перед нечастыми встречами с мужем. Марек Шадов купил себе другое, самое обычное, но тоже носил далеко не всегда.
— Я отбил у гангстера его девушку, — сказал ей Марек после венчания.
Ильза Веспер не стала его разубеждать.
6
Шут бил в колокола, рыцари, алебардщики и медведи деловито, сменяя друг друга, семенили по кругу прямо под золоченным престолом Кроноса, меланхолического бородача со скипетром и песочными часами. Слева на них взирал Петух, справа — Лев. Карнавал Времени башни Цитглогге в самом разгаре.
Марек Шадов не смотрел на заводных средневековых кукол. Наблюдать за Гердой было куда интереснее.
…Моргнула, приоткрыла рот, замерла, покачала головой, закусила губами палец. Все-таки ребенок. Приятно в этом убеждаться, хотя бы иногда.
Берн, Часовая башня, без двух минут полдень. Подойти? Нет, пусть досмотрит до конца. Чуть-чуть осталось.
— Кикерики!.. — подал голос Петух. Лев промолчал, но повернул голову к недвижному Царю-Кроносу. Пора! Тот понял и неторопливо, с достоинством, перевернул песочные часы. Проснулся скучавший чуть в сторонке Рыцарь, взмахнул тяжелым молотом…
— Бом-м-м!
Герда вынула палец изо рта. Нахмурилась, достала платочек и тщательно вытерла.
— Бом-м-м! Бом-м-м!..
Марек попытался незаметно подойти сзади, но не преуспел.
— Ты уже здесь, Кай? Надо будет через час с другой стороны понаблюдать, — девочка дернула подбородком в сторону башни. — Это больше для детишек. А там — астрономические часы, настоящие. Только Земля не вокруг Солнца обращается, а совсем наоборот. Они здесь про Коперника еще не знают.
— Бом-м-м! Бом-м-м!.. Бом-м-м!..
Кончик платка кокетливо выглядывал из кармана платьица. Мужчина сделал серьезное лицо.
— Медведи, что с них возьмешь?
— Бом-м-м!
Вероника появилась с последним ударом часов, как раз перед тем, как Петух выдал свое финальное «Кикерики!», прощаясь с публикой до следующего часа.
— Вот и я! Не опоздала?
Учительница из Тюрингии была при полном параде: шляпа, бабушкина юбка, безразмерная сумка в руке.
— Ой, здесь все так интересно, так красиво! Целый день бы гуляла.
И, без перерыва, понизив голос:
— Отойдем!
Народ уже расходился, поэтому свободное место нашлось сразу — на тротуаре, у высокого старинного фонаря. Девушка поставила сумку на истоптанные серые плиты, быстро оглянулась.
— Марек! Сейчас я исчезну. И вы исчезайте, немедленно. К машине не возвращайтесь, там могут уже ждать.
Поглядела на девочку, покачала головой.
— Предложила бы забрать Гертруду с собой, но — понимаю…
Герда взяла мужчину за руку, крепко сжала пальцы. Марек кивнул:
— И все понимают. Странно, что нас выпустили из Германии.
Соломенная шляпа нетерпеливо качнулась:
— Ничего странного. Там — немецкая полиция. Пришлось бы объясняться, составлять протокол, докладывать по инстанциям, а потом делиться добычей. Здесь они уже не церемонятся. А может, и ваш знакомый из «стапо» поспособствовал, не знаю… Пока ищут только меня, но это ненадолго. Уходим?
Марек Шадов полез свободной рукой в карман пиджака, достал сложенный вдвое бланк телеграммы.
— Жена приедет сюда, в «Des Alpes». Если нас там не будет, ее могут встретить другие.
Ногти Герды до боли впились в кожу.
— Извини… папа.
Отпустила руку, взглянула виновато. Мужчина прикоснулся рукой к светлым волосам.
— Пустяки, я даже не почувствовал… Уходите вы, Вероника. Исчезайте!
Яркие губы дрогнули:
— Придется. У меня приказ. Если можно… Гертруда…
Девочка насупилась, хотела что-то сказать, но промолчала. Отошла подальше, отвернулась.
— Она решила, что мы будем целоваться, — неизвестно зачем сказал Марек Шадов.
Синеглазая девушка попыталась улыбнуться:
— Не будем. Иначе я никуда не исчезну.
Взяла за руки:
— Спасибо за все! На всякий случай… Первая эскадрилья «Врил», пилот-испытатель Вероника Оршич. Я спрашивала про Марию — это моя мама.
Отступила на шаг, провела ладонью по лицу…
* * *
К ним подошли возле самой машины — трое, одинаковые, словно оловянные солдатики в штатском. Не очень и скрываясь: сначала выбрались из своего автомобиля, такого же черного, как их шляпы и костюмы, громко хлопнули дверцами, а потом без особой спешки направились к «Антилопе». Тихая улица в двух кварталах от Часовой башни больше походила на горное ущелье, здания, хоть и не слишком высокие, стояли плотно, впритык. Въезд-выезд только один, улицу-ущелье запирал огромный дом, горный пик с изысканным флюгером на крыше. Марек поставил «Антилопу Канну» в тупике, к самому тротуару. Черное авто затормозило чуть ближе к въезду, пытаясь перекрыть улицу.
Марек Шадов легко толкнул девочку в плечо:
— Назад! Близко не подходи.
…Он — у передней дверцы, двое одинаковых — в двух шагах, пиджаки расстегнуты, шляпы натянуты на нос. Тот, что слева, жует, тщательно двигая массивной челюстью. Третий чуть дальше, как раз между двумя авто.
Гости переглянулись, тот, который жевал, чуть помедлив, лениво сплюнул на брусчатку.
— Где эта женщина, Шадов? Где Вероника Оршич?
Второй плевать не стал, подбодрил взглядом:
— Говори, говори, Шадов, пока кости целы. И у тебя, и у твоей шмакодявки.
Марек ничуть не удивился. Берн — совсем не Шанхай, но разбираются везде сходно. Парней прислали правильных, при мускулах и реакции. Стоят хоть и расслаблено с виду, но каждое движение ловят. Еще и третий на подхвате, переступает с ноги на ногу.
Убежать не получится, напугать тоже… Что остается?
Он поглядел на жевуна, сначала на носки ботинок, после на пряжку брючного ремня. Лицом побрезговал.
— А перед Козлом ответить не боитесь? Вам что, жетончик давно в ноздрю не совали? Бронзовый, овальный — и на цепочке. Аверс — орел с крылышками, реверс — буковки с циферками…
Именно такой показал ему брат. Номер, правда, прикрыл большим пальцем.
— …Буквы в два ряда, а цифр ровно четыре. Ну?
Гости не испугались, а если и удивились, то не слишком. Но — покосились друга на друга, на какой-то миг отведя взгляд. Миг — это совсем недолго, однако вполне достаточно, чтобы превратить мир в прозрачный кристалл-многогранник. Иге, ля гё, сэн…
Иге — тыльной стороной ладони в глаз, резко, что есть силы. Левого!
Ля гё — шаг вправо и немного назад. Носком туфли — в колено, не в чашечку, сбоку. Правого!
Сэн… Как получится. Третьего!
Маленький злой шарик в самом центре мира-кристалла еле заметно дрогнул…
Иге! Ля гё!..
Третий сплоховал — купился на самое простое. Когда Марек на бегу сунул руку под пиджак, слева, где положено носить «скрытую» кобуру, оловянный солдатик в черном потерял лишнюю секунду, соображая, и лишь потом повернулся и кинулся наутек. Этого хватило, чтобы, зайдя справа, перехватить руку у плеча и локтя — точь-в-точь как на тренировках у английского боцмана. Дальше — совсем просто, хоть глаза закрывай: шаг правой поближе к чужой ноге, самому присесть на левую, правую — слегка вперед. И — рывком, изо всех сил, потянуть тяжелое, словно бревно, тело влево и вниз…
Бросок! Отскочить назад! Сэн!..
Всё? Всё! Первый стоит, обе руки прижаты к лицу, второй приклеился боком к пыльной брусчатке, пальцы вцепились в колено. Этому еще лежать и лежать. Третий… Встанет, но не сразу. Не слишком удачно приземлился.
— Полиция! Полиция! Убиваю-ю-ют! Помогите!
И маленькие девочки способны громко орать. А если еще и добавить визгу…
— Да помогите же! Папу убива-а-ают!..
Марек одобрительно кивнул. Герда успела спрятаться за коричневый бок «Антилопы». Сзади, в нескольких шагах, открытая дверь подъезда…
— Помогите-е-е-е!..
Берн — совсем не Шанхай. Китайскую полицию звать бесполезно, швейцарская же — вот она. Прибыла секунда в секунду, чтобы увидеть, как черное авто, слегка виляя, покидает улицу-ущелье.
Марек ошибся: второй сумел-таки стать на ноги, а вот третьего пришлось поднимать и вталкивать в открытую дверцу. Наблюдал он за всем этим вместе с Гердой возле подъездных дверей. Третьим в их компании оказался портье, маленький аккуратный старичок в больших роговых очках.
— Что случилось, господа? — служебным голосом вопросил старший наряда.
— Les boches malpropres![67] — доложил портье.
7
Эйгер над головами — и он же — резким карандашным силуэтом — на листке из блокнота. Сейчас, ясным днем, Огр-великан не кажется страшным. Просто еще одна вершина, которую обязательно нужно взять.
— Седлмайер и Мехрингер мочалили прямо, самой короткой проблемой, — карандаш Курца впивается в воздух, затем касается бумаги. — Думали, что хоть и насосом, рукоходом, но прогребут.
— Не прогребли, — Хинтерштойсер не смотрит в блокнот, взгляд его прикован к белой вершине. — Только по диагонали, Тони! Проблема на лишние двое суток, но иначе не выйдет. Сначала будем бить крючья каждый метр, потом крючья кончатся…
Военный совет открыли на невысоком холме, чуть в стороне от палаточного лагеря. Дождь перестал с рассветом. Через пару часов, дав траве подсохнуть, разбили палатку, заварили кофе на маленьком костерке…
— Предлагай! — Курц.
— По трещине — к Красному Зеркалу. Потом — Ласточкино Гнездо и Первое Ледовое поле.
Карандаш легко касается бумаги. Огр на рисунке слегка напоминает палатку — острый угол, впивающийся в небо. Настоящий Огр почти такой же, но полог палатки заметно вдавлен внутрь.
— Не выйдет, Андреас. Перед Первым Ледовым — скала, — грифель с силой упирается в бумагу, рисуя неровную трапецию. — Гладкая плита больше тридцати метров. Селдмайер назвал ее Замком Норванда. Не прогребем, только в обход.
Андреас не видит рисунка. Незачем, он уже там, на Стене.
— Прогребем, Тони, не сомневайся!.. За Первым Ледовым полем — Второе. Занудно, однако не критично — хоть и положилово, но хапалы есть, осилим. Потом «Утюг», «Рампа» и «Снежный Паук». Успеваешь?
Хинтерштойсер спокоен, как спокойна выпущенная из лука стрела. Как пуля в полете. Все решено, ничего уже не изменить, не повернуть назад. Андреас знает, что Огр слышит каждое их слово, но это только заводит его, бодрит, наполняя душу радостной, легкой злостью. Слушай, Огр, слушай. И готовься! Ход первый, ход второй, третий…
— После Паука — выходная трещина, ее даже отсюда видно. Оттуда — прямо к вершинному гребню.
…И — в дамки!
— Аллилуйя! — Карандаш Курца ставит жирный крест у треугольного острия горы-палатки.
Собственно, и все. Осталось только пройти. Замочалить. Решить проблему.
* * *
— А когда-нибудь на Стену станут подниматься за день[68]. Представляешь, Андреас? Утром выпили кофе в лагере — а ужин разогрели на примусе где-нибудь у вершинного гребня.
— Скажи еще за час! Если крылья изобретут, станут. Или тоннель еще один прогрызут, прямо к вершине. Но это, Тони, нечестно, хуже, чем политика. Нет, не хуже — то же самое.
С холмика никуда не ушли. Бросили куртки на высохшую до хруста траву, улеглись глазами в небо, достали сигареты. Никто, однако, не закурил, расхотелось. Курц сорвал травинку, закусил зубами. Хинтерштойсер же и без травинки обошелся. И так хорошо, лучше не бывает.
— Новости знаешь?
— Не знаю, Тони. И знать не хочу. Да какие новости? Ополченцы в Судетах освободили еще один город при поддержке заблудившегося в Рудных горах артполка Вермахта… Сегодня утром мне австрийцы газету сунули, так даже в глазах зарябило. Ну их всех!
На горизонте, слева, если от вершины Эйгера смотреть, вновь начали собираться серые тучи, их было много, одна поверх другой, но двое, смотревшие в бездонное летнее небо, еще об этом не знали. Через два часа снова пойдет дождь, синева сменится низким черным пологом, а над склонам Эйгера-Огра беззвучно вспыхнут первые молнии. Потом глухой артиллерийской канонадой докатится громовое эхо, ударит в уши, отзовется болью в затылке. На каменные склоны горы-великана обрушатся потоки воды, делая недоступное еще более недоступным. Старый Огр, радуясь своей безбрежной силе, грозно оскалится каменными челюстями.
Они не знали — неоткуда. День был ясен, воздух свеж, остро и пряно пахла выгоревшая на солнце альпийская трава.
— В отеле весь верхний этаж освободили — для немецкой делегации. Слыхал, Андреас? И еще несколько номеров в Северном корпусе. Сегодня к вечеру начнут подъезжать, там их целая толпа. Гитлера не будет, это точно, но кого-то очень важного ждут. И еще… Вроде бы решено на Стену послать не «двойку», а две «двойки»: эскадрилью «Эйгер» и кого-то из союзников. Итальянцев, австрийцев — не знаю.
— Две «двойки» — чтобы вернуться живыми, это понятно, Тони. Трое одного вытащат, а просто «двойка» обречена. Но и риска тоже вдвое больше. Ты сам говорил: Эйгер — это лотерея. Кто-то из четверки наверняка вытащит билет с черным крестом. У двоих еще есть шанс проскочить.
* * *
…Молодые ребята, обоим чуть за двадцать, немцы, говорящие на среднебаварском, уроженцы маленького Берхтесгадена, военнослужащие вермахта в самовольной отлучке, сами того нисколько не желая, посмели нарушить целостность мнящего себя единым и единственно возможным Мира. Они создали свой, пусть и маленький, но совершенно особый, отделив себя от всех прочих ледяными склонами Эйгера. В покинутом ими большом Мире было очень неспокойно, миллионы людей ждали всеобщей войны, кто со страхом, а кто с надеждой и плохо скрытой радостью. Горели Судеты и Тешин, города и села переходили из рук в руки, беженцы брели по дорогам, боясь даже оглянуться. Австрия, забывшая давнюю цесарскую славу, готовилась стать одной из провинций Рейха, даже не Остеррайхом — Остмарком,[69] чтобы навек исчезло гордое имя. Прошлым ненастным вечером в забитом разгоряченными потными «наци» Спортхалле колченогий доктор Геббельс впервые упомянул литовскую Клапейду — «исконно немецкий Мемель». По стране, в сердце которой молодые люди нашли приют, тоже дули холодные ветры. Над городами взвивались флаги со свастикой, хорошо проплаченные пропагандисты из ведомства все того же Колченогого призывали швейцарских немцев к восстанию против французов и евреев. «Пуалю» в касках-адриановках и красноармейцы в буденовских шлемах густой плотной стеной стояли у границ, ожидая лишь приказа. Газеты сходили с ума, политики срочно возвращались из летних отпусков.
В мире, который посмели выкроить себе Тони Курц и Андреас Хинтерштойсер, ничего этого не существовало — и существовать не могло. Только холм, только палаточный лагерь, только покрытый редким лесом склон — и Норванд, их Северная стена. Мир был мал и хрупок, ледяные склоны Огра в любой момент могли сомкнуться, уничтожая дерзких. Большой Мир, жаждущий войны и крови, не хотел отпускать бесстрашных беглецов.
Они об этом не думали, просто смотрели в небо. Тем и прекрасен был их Мир-Стена…
* * *
— Безнадежно, Андреас! У Ингрид жених, она собирается к нему в Штаты, уже билет на пароход купила. Там какая-то проблема с наследством, если не выйдет замуж, то ничего и не получит. Как в книжке, ей-богу! А что я? Слесарь — и еще горный гид. Год поработаю — скоплю на колесо от «Испано-сюизы».
— Они все очень маленькие, Тони. Когда ты посмотришь на них с вершины Огра, то поймешь это сразу. Пусть делают что хотят! Наша книга — она совсем другая. «Нас будет ждать драккар на рейде, и янтарный пирс Валгаллы, светел и неколебим…»[70] А как туда добраться, мы оба знаем.
8
Первой красный «Родстер» увидела Герда. Оглянулась назад, прищурилась.
— BMW 315/1, Roadster, «альпийский гонщик». Шесть цилиндров, первое место на весенней гонке в Нюрбургринге.
Девочка была занята делом. Как только выехали из Берна, она достала блокнот и принялась фиксировать все, что казалось ей достойным внимания. Такового оказалось не слишком много. Город кончился, горы еще не начались. Обычная трасса, не слишком широкая, немецким автобанам не чета. Вокруг лес — сосны, белый песок. Небо, несколько серых туч у горизонта. Смотреть не на что, только на шоссе. А чему на дороге быть, кроме автомобилей?
Марек, о «гонщике» даже не слыхавший, поглядел в зеркальце заднего вида. Оценил, проникся. Лупоглазая красная, в цвет пожарных машин, торпеда с открытым верхом. И спешит, словно на пожар.
— Альпы скоро, Герда. Вот и гонит. Соскучился!
«Альпийский гонщик» его не слишком беспокоил. Кружа по узким бернским улицам и позже, выезжая на трассу, ведущую от федерального города на юго-восток, Марек то и дело поглядывал назад, опасаясь увидеть знакомое черное авто. Пару раз невольно вздрагивал, но тут же успокаивался. Хоть и черное, но другое. Видать, потеряли след.
Полицейские составляли протокол без малейшего азарта. Ни стрельбы, ни грабежа, обычная драка между туристами, к тому же подданными Рейха, личностями с недавних пор заведомо подозрительными. Бдительный портье успел запомнить номера беглецов — немецкие, как и на «Антилопе». Сам «Lorraine Dietrich 20CV», а особенно его боевой раскрас, вызвали немало вопросов. На документ из общества «Сила через радость» взглянули кисло, но придираться не стали.
Отпустили, однако взяли адрес отеля «Des Alpes», велев не покидать территорию Конфедерации до конца расследования.
— Это значит, пока я не состарюсь, — резюмировала Герда.
В городе обошлось, на шоссе тоже. Черное авто словно кануло в воду. Теперь же, когда половина дороги осталась позади, Марек Шадов и вовсе успокоился. «Антилопа Канна» шла на приличной скорости, с каждой секундой удаляясь от Берна, крылья же на автомобиле конструкцией не предусмотрены. Даже на черном.
— Ух ты-ы-ы!.. Ну, помчал!..
Мужчина поглядел в зеркальце и внес поправку. Черному авто крылья не положены, а вот красному… Торпеда!
— Ж-ж-ж-жух-х-х! — и только ветер ударил в открытое окно.
«Антилопа Канна» обиженно рыкнула, но осталась ни с чем. «Родстер» обогнал ее играючи — рванул вперед, прямиком к горизонту. Марек ждал, что «альпийский гонщик» вот-вот оторвет колеса от асфальта и взметнется прямо в полуденный зенит, рассекая послушный воздух, но красная машина не стала покидать грешную землю. Даже скорость снизила, оставшись в пределах видимости — маленькое красное пятнышко на серой полосе асфальта.
Герда, спрятав блокнот, раскрыла маленький дорожный атлас.
— И что у нас впереди?
Впереди было Тунское озеро — длинная неровная капля, протянувшаяся вдоль шоссе. На карте оно замыкалось маленьким кружком с точкой посередине. Дерлиген — причал для «Антилопы». Лежавший в кармане документ предписывал оставить авто именно там. Однако инструкцией следовало пренебречь и ехать дальше — до поворота на юг, на узкую грунтовку, ведущую к Эйгеру. Случайно встреченный полицейский патруль, буде проявит любопытство, легко поверит в то, что владелец авто переехал из Дерлигена в близкие альпийские предгорья. Угонять машину некуда, грунтовка упирается прямиком в подножие Юнгфрау-Великанши.
Шоссе, сосновый лес слева и справа, вдали, серой неясной тенью, зубчатая горная цепь. Машин почти что и нет, сзади одна, спереди тоже — и красная капелька у горизонта. Можно не волноваться, никуда не спешить, не жать до упора на газ…
— Где они нас встретят? — спросила Герда. Не «могут», не «встретят ли», просто.
Марек Шадов ответил честно, как думал:
— На шоссе мы от них уйдем, у «Лоррен Дитриха» мотор помощнее. Возле озера, в городе и у отеля много людей — и наверняка полиция. Что у нас остается?
— У них, — поправила девочка, глядя в атлас. — Остается грунтовка, Кай. На ней не разгонишься и не развернешься.
Задумалась, подперла подбородок сжатым кулачком.
— И чего мы с ними сделаем? Перестреляем? Ты зря, Кай, патроны из пистолета вынул. Ничего, я новые зарядила.
— Перестрелять не сможем, — не без сожаления констатировал Марек Шадов. — А вот обмануть попытаемся. Передай-ка мне атлас!.. И почему сразу — перестрелять, Герда? Они ведь тоже люди. Достаточно вышибить коленную чашечку.
Учите детей добру!
Глава 6. Отель у подножия
Запах глициний. — Это — стреляют. — Голос мертвеца. — Патроны в обойме. — Буквы на рюкзаке. — Холл и бар. — «Добрый вечер, мистер Мото». — Живой пес и мертвый лев. — Scheisskerl! — Бильярдный шарик. — От привала до креста.
1
Она никак не могла сосредоточиться на разговоре. Мешало все — полутемная комната, тихая, едва различимая речь того, кто сидел в самой глубине огромного «вольтеровского кресла», а главное — цветочный дух. Слишком сладкий, слишком густой, словно в старом склепе через неделю после похорон. Запах был очень знаком, памятен, как и сами цветы, но женщина никак не могла ухватить исчезающее название.
Густые лиловые грозди заглядывали прямо в открытое окно, в узкую щель между тяжелыми шторами. Потому и света мало, хотя на дворе ясный день.
— …Обеспечьте капиталу 10 процентов прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживленным, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову…
Белая бородка клинышком, белые усы, большой ноздреватый нос. Глаза утонули в темных впадинах под редкими, почти незаметными бровями. На голове — большая белая панама, совершенно нелепая в четырех стенах, огражденных от Солнца.
— …При 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы. Знаете, кто это сказал, госпожа Веспер?
Надо было ответить, но женщина никак не могла забыть о цветах. Памятные, приметные, и запах известный, только здесь его слишком много…
..Глицинии!
— Это сказал Карл Маркс, сэр!
Сидящий в «вольтеровском» кресле и в самом деле был «сэром», британским баронетом. Всего лишь один титул из огромной коллекции орденов и наград. У него было много имен и еще больше прозвищ. Женщине запомнилось одно — Европейский Призрак. Очень подходит, особенно сейчас. Погребальный дух глициний, полумрак — и еле различимая тень среди теней.
— Вы ошиблись, уважаемая госпожа Веспер, — губы под белой полоской усов дрогнули в еле заметной улыбке. — Но не вы одна. Я хорошо знал Маркса. Сей господин никогда не отличался остроумием, зато был умелым вором. Эти слова, к примеру, он позаимствовал у Томаса Даннинга, обычного лондонского переплетчика. Написал — и забыл упомянуть автора. Цитату можно встретить всюду, некоторые даже принимают ее за руководство к действию. А это, госпожа Веспер, куда более серьезная ошибка.
Год назад она съездила в Монте-Карло. Знакомым и конечно же боссу сказала, что хочет наконец-то посетить знаменитые казино, детище всесильного и всемогущего «Общества Морских Купаний». Не столько себя показать, сколько взглянуть в глаза безумцам, тратящим все ради смутного призрака.
— В Монте-Карло? — О'Хара недоуменно пожал плечами. — Съезди, если хочешь!
Женщина солгала. Ее тоже позвал Призрак — тот, кто и основал «Societe des Bains de Mer». В казино она и вправду заглянула. Смело шагнула к ближайшему столу, выложив горсть фишек, выиграла, проиграла, снова проиграла. Равнодушно выслушав излияния лощеного хлыща, ловца залетных бабочек в бриллиантах, объяснила ему, в чем смысл жизни — на портовом шанхайском жаргоне. И села в такси.
— Господин О'Хара уверен, что деньги могут все. Всевластие капитала, как изъясняются последователи Маркса. Вы понимаете по-русски?
Женщина настолько удивилась, что не ограничилась коротким «да».
— Меня муж выучил, сэр. Он языки коллекционирует.
— Прекрасно…
Худой длинный палец возник словно ниоткуда. Перст. Заостренный кол.
«Vsjo moe», — skazalo zlato; «Vsjo moe», — skazal bulat. «Vsjo kuplju», — skazalo zlato; «Vsjo voz'mu», — skazal bulat.— Война — отец всему и царь, — вспомнила она. Перст дрогнул, обратившись в знак вопроса.
— Не будем шелушить луковицу дальше, уважаемая госпожа Веспер. Достаточно того, что господин О'Хара ошибается. Не деньги правят миром, и деньги не всесильны. Мои друзья вложили немало средств в его «Структуру», все они очень обеспокоены. Ваш босс торопится, хуже, пытается ускорить ход событий. Подкупает прессу, заигрывает с политиками. И не хочет слушать добрых советов…
Вопроса больше не было — пальцы сжались в кулак.
— Судьба Европы давно уже решается не в Европе, госпожа Веспер. Идет великий передел мира, мы — всего лишь небольшой континент. Господин О'Хара решил заработать на будущей войне, и это его право. Но войну начнет не он, даже если десять раз ткнет пальцем в карту…
Несмотря на полумрак, Призрак сумел что-то прочесть на ее лице. Из глубин кресла донесся негромкий смех.
— Нет, я этого не делал. Я сложил из карты Европы панамку — и носил, пока не истрепалась… Вразумите вашего босса, уважаемая госпожа Веспер! Он положительно готов сломать себе голову. Что дальше? Начнет попирать все человеческие законы? Его следует придержать.
Женщине вновь почудилась, что она попала в склеп. Запах глициний смешался с трупным смрадом.
— Это будет трудно, сэр. — осторожно подбирая слова, заговорила она. — Я хорошо знаю босса. Он слишком в себе уверен и…
— …Нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы, — холодно и четко проговорил Призрак. — Но все же попытайтесь. Я защищаю интересы моих друзей, их надежды, их деньги. Самому мне уже ничего не нужно. «Общество Морских Купаний» — последнее мое детище. Кстати, я его создал, чтобы выиграть пари.
Женщине показалась, что она ослышалась. Призрак, явно довольный эффектом, чуть подался вперед. Луч света упал на обтянутый желтой кожей череп.
— Один мой давний конкурент заявил, будто я умею зарабатывать только на оружии. Мы побились об заклад — ровно на одну гинею старой колониальной чеканки. Я приехал в это маленькое княжество, осмотрелся — и увидел, что деньги лежат буквально под ногами. Хотите взглянуть на гинею, госпожа Веспер? Редчайший экземпляр времен Георга II.
— Очень хочу, сэр! — улыбнулась она.
* * *
— …Луковицу можно чистить бесконечно, уважаемая госпожа Веспер. Ваш босс много лет торговал оружием в Шанхае, будучи уверен, что помогает одним генералам победить других. А между тем и он, и этот наглый мальчишка Вансуммерен вместе делали одно дело — готовили грядущее объединение Китая. Господин О'Хара, думаю, так этого и не понял. Вансуммерен догадался, умен, но даже ему не снять следующий слой. А что находится в самой сердцевине, не представляю и я. Подозреваю, какой-нибудь невероятный бред — с нашей, человеческой точки зрения. К примеру, Луну делают в Гамбурге, а весь ХХ век с его войнами и катастрофами выдумал один отставной полковник из города Хьюстона, что в штате Техас. Не ищите в происходящем логики, госпожа Веспер! Она есть, но нам, сотворенным из праха, эту логику не постичь. Смиримся же — и последуем примеру наших предков, не знавших о законах природы, но хорошо изучивших приметы. Лягушка, как известно, квакает к дождю…
* * *
Женщина внимательно просмотрела вечерние выпуски, но ни одна газета не помянула загадочный «третий труп». О Монте-Карло писали, но только в связи с очередным грандиозным проигрышем заезжего шейха из Хиджаза. Не объявился и О'Хара. В Шартре его не видели, а любовница, с которой у босса накануне вышла грандиозная ссора, в сердцах пожелала ему провалиться сквозь землю. Сотрудники парижского штаба, привыкшие к эскападам своего начальника, пожали плечами и напомнили госпоже Веспер, что совещание начнется завтра в 10 утра.
«Правая рука» уверенно бралась за штурвал.
О'Хара не верил в приметы. Она могла просто выйти из дела и начать свое, но босс очень не вовремя купил золотые кольца.
Женщина подняла трубку гостиничного телефона и заказала билет на маленький речной трамвайчик. Вечерняя экскурсия по Сене, лучшее лекарство от грусти. Багровый, словно кровь, закат, ранние бледные звезды… И огоньки — повсюду, на реке, на берегу, на небе. Такие минуты вспоминаешь потом всю жизнь.
Кольца она бросит в воду у моста Аустерлиц.
2
— Опять, — обреченно вздохнул Марек Шадов, услыхав щелчок зажигалки. Вторая сигарета за час! И курит какую-то совершенно невероятную гадость!..
Машину тряхнуло, не просто, а от всей души. То ли корень, то ли камень, то ли горный тролль пошутил. «Антилопа Канна» обиделась и грозно зарычала.
— Ты, Кай, лучше за дорогой следи, — наставительно заметила Герда, стряхивая пепел в окошко. — Органическая потребность, я же тебе говорила. Никотин, кстати, в малых дозах полезен для здоровья.
Мужчина хотел уточнить насчет малых доз, но решил не отвлекаться. Дорога оказалась и вправду хуже некуда. То есть дороги не было вообще, если верить картам. В атласе — полная ясность: прямое, словно древесный ствол, шоссе и две веточки-грунтовки, ведущие на юг. Одна — к Эйгеру и дальше, к Юнгфрау, вторая же, что к Берну ближе, упирается в никому не ведомый Горнерен. По всей ветке — листочки-городки: Райхенбах, Кинталь и еще несколько. Все понятно, кроме одного: как здешние обитатели до Эйгера добираются? Неужели в объезд?
Отомар Шадовиц вспомнил родные места. Дорога Курфюрста с ее указателями и каменными орлами у перекрестков вела, куда было нужно курфюрсту, его же земляки добирались до места по прямой. Засеянные поля объезжали, по болоту прокладывали гати. Повозки вязли, лошадей приходилось вытаскивать всем селом… Зато быстрее — и от чужих глаз скрытно.
Значит, и тут ездят. Или в Швейцарии люди другой породы?
Искали недолго. Сразу за Кинталем — пять домов под красной черепицей — между двух хмурых скалистых вершин обнаружился проход, он же проезд, если, конечно, верить местным Вильгельмам Теллям. Не дорога — широкая каменистая тропа, как раз на одну повозку — или на одну «Антилопу», если очень повезет. Прямо к Эйгеру выехать не получится, но выйдет где-то близко.
Марек посмотрел на тропу, на «Антилопу Канну», на Герду. Та почесала подбородок:
— Рискнем!
Рискнули — и пока везло. Подъем проехали почти без проблем, на второй скорости, временами переходящей в первую, на спуске же, как только горы-стражи остались позади, начало трясти. «Антилопа» вздрагивала всем корпусом, ревела, а временами, когда приходилось нажимать на тормоз, принималась повизгивать. Отвлекаться было опасно, вот Марек и проглядел, как Герда, улучив момент, достала неведомо откуда пачку дрянных местных сигарет.
Объехав очередной ухаб, мужчина вновь покосился направо, в сторону соседнего сиденья. От сигареты осталась ровно половина.
— Выедем на дорогу, заберу пистолет, — рассудил он.
Девочка презрительно фыркнула:
— Забирай! Я про тебя Королеве расскажу. Нет, не про ящерицу, Королеве такое понравится. Про те гадкие картинки, что ты в шкафу за одеждой прячешь. Черная кожаная папка, застежечка медная. И не стыдно?
Язык не показала, однако носом дернула. Марек вновь взглянул на дорогу, отметил взглядом очередной камень, так и норовящий прыгнуть под левое колесо…
— Сильно гадкие? Ты все посмотрела?
Авто вильнуло, недовольно рыкнув мотором. Герда поглядела на окурок и не без сожаления отправила его в окошко.
— Не волнуйся, все! Если другим можно, то, значит, и мне. Зачем тебе такое, Кай? Это же больные люди рисовали. Там только лошади хорошие — синие.
Мужчина кивнул:
— Франц Марк, погиб под Верденом. Еще, если ты помнишь, есть его автопортрет — с трубкой, в коричневой меховой шапке.
«Антилопа Канна» вновь подпрыгнула, недовольно заворчала, но внезапно сменила тон. Марек облегченно вздохнул — тропа пошла вширь, постепенно становясь обычной грунтовой дорогой. Скалы исчезли, сменившись редким альпийским кустарником. Еще чуть-чуть — и можно переходить на третью скорость.
— Это не картинки — репродукции. Картины же писали, Герда, не больные, а дегенераты. Их так лично Йозеф Геббельс окрестил. Дегенеративное искусство! Из музеев изъяли, выставлять запретили, а после Олимпиады хотят устроить какой-то цирк с публичным шельмованием. Кстати, тот художник, что нам «Антилопу» раскрасил, тоже дегенерат из самых-самых… А документы ты смотрела?
Третья скорость! Человек и автомобиль облегченно перевели дух.
— Не смотрела, — обиженно проговорила девочка. — Документы — не картинки, это твоя работа. Разве я не понимаю? Кай, а для чего устраивать это… шельмование? И почему они — дегенераты? Зачем обижать? Не умеют люди рисовать — и ладно. Просто не надо смотреть такое на ночь, чтобы страшное не снилось.
Марек смахнул пот со лба, потом подумал и вытащил платок. Считай, прорвались. Вот она, грунтовка до Эйгера! Узкая, двум машинам едва разъехаться, зато ведет прямиком к цели. И пустая, ни черных машин, ни красных.
Выдохнул, рассмеялся легко:
— А мне, Герда, мельница старая снится. И мельник, который не мельник, а злой вредный дух. Он с моим предком разговаривает, но получается так, что это не мой предок, а я сам.
— Здо-о-орово! — донеслось справа. — Мне бы такое увидеть!.. Твой предок? Который кофе любил? Кай, а скажи что-нибудь на твоем секретном языке.
Марек Шадов притормозил у перекрестка, взглянул, как правила велят, налево, потом направо. Пусто! Выехав на дорогу, остановил авто, повел устало плечами.
— Сказать? Imam veoma dobar dcho, ali pushi kao dimn'jak. Отдохнем?
Положил руку на горячий, словно из печки, ключ зажигания…
— Не отдохнем, Кай. Черная машина — сзади.
* * *
В горних высях звучат молитвы, В адских безднах — глухие стоны…Герда пела негромко, почти без выражения. На лице — ничего, взгляд устремлен вперед, на пустую влажную грунтовку, двигались только губы.
…В женском сердце — все арфы рая, В женском сердце — все муки ада…Черная точка в зеркале заднего вида превратилась в каплю, когда Марек Шадов позволил себе усомниться.
— Может, мы зря? Ну, едет кто-то…
Девочка молча покачала головой.
Путь мужчины — огни да битвы, Цель мужчины — уйти достойным…Перед тем как запеть, Герда не забыла спросить разрешения. Марек конечно же согласился. Не слишком любимое им танго сразу задало очень нужный в такие минуты ритм. «В гор-них вы-сях зву-чат мо-ли-твы…»
Капля росла, густела, наливалась чернотой, и мужчина понял, что сомневался напрасно. Они! Наверняка ждали у выезда на трассу, потом взглянули на часы, на карту…
Где, скажите, найти ему покой? Ах, где найти покой?Дальше следовал припев, но Герда им пренебрегла, перепрыгнув сразу на второй куплет:
В этой жизни танцуем танго, После смерти танцуем танго…— Достань из перчаточницы кобуру, расстегни — и положи мне на сиденье, под руку.
«Пос-ле смер-ти тан-цу-ем тан-го…»
— А-а-а-а… Сейчас, Кай.
Герда наклонилась вперед, открыла дверцу ящика.
— Точно! А когда ты успел его туда положить? Час назад ничего не было!
Отвечать Марек не стал, улыбнулся. Цирк доктора Эшке! Учись, поросль юная, лет через двадцать, может, и выучишься!
— Свой не доставай без приказа. Как поняла?
— Не доставать без приказа. Поняла!
Жизнь со смертью танцуют танго, Все танцуют, Господь и дьявол, Сеньорита, коснись устами…Звук был негромкий, даже не треск, хлопок, словно где-то сзади сигарету воткнули в воздушный шарик. Но девочка услышала. Перестав петь, повернулась, хотела привстать…
— Ай…
Марек успел. Положив ладонь на ее плечо, надавил посильнее…
— Ложись. И не смей поднимать голову.
— Это стреляют? — удивилась Герда. Немного подумав, рассудила: — Это — стреляют…
И — снова сигаретой в шарик. Уже ближе, громче… «Путь мужчи-ны — огни да бит-вы, цель муж-чи-ны — уй-ти дос-той-ным…» Капля в зеркале разрослась, набухла — и превратилась наконец в четкий черный силуэт, очень знакомый. Правая дверца открыта, уже можно разглядеть того, кто пытается стрелять, став на подножку…
Пока еще мимо! Мимо! Опять промазал!..
Марек поглядел вперед. Дорога неторопливо поднималась вверх, редкие кусты сменились лесом, от колеса до ближайших деревьев — дюжина шагов. Кювета нет, истоптанная земля просто обрывается, словно старое ветхое полотно…
Сеньорита, коснись устами, Прежде чем я с тобой расстанусь…Уже не в голос, еле различимым шепотом… Снова хлопок — нет, удар кнута. Близко, совсем близко!..
— Ка-а-ай!..
Марек успел и на этот раз. В миг, когда «Антилопа», словно обезумев, прыгнула вправо, он выжал сцепление и резко повернул руль — налево, к ближайшим соснам. Оторвал подошву от педали газа…
Тормоз!!!
Не дожидаясь, пока автомобиль мягко коснется бампером ближайшего дерева, он протянул руку к правой дверце. Пальцы скользнули по гладкому металлу рукоятки, нащупали, дернули…
— Герда! Вылезай и падай на землю, головой за колесо! Не вздумай выглядывать!..
Парабеллум, старый приятель еще с Шанхая, — в руку, левую дверцу — открыть. «Сеньорита, коснись устами, прежде чем я с тобой расстанусь…»
Палец на спусковом крючке.
Раз! Два!.. Три!!!
3
…В далеком, залитом беззаботным летним солнцем Париже женщина, идущая по широкой мраморной лестнице, внезапно схватится за сердце, покачнется, вцепится руками в скользкие перила — и услышит голос мертвеца.
— …Я хочу поскорее подружиться с твоей дочерью.
День исчезнет в неясном сером сумраке, воздух наполнится сладостным ароматом цветущих глициний. «Подружиться… с твоей дочерью… дочерью…» Ледяные иглы вопьются в пальцы, тяжелая холодная волна ударит в грудь, толкнет прямо на широкие ступени, покрытые нарядным красным ковром. Перстень-саркофаг на безымянном пальце станет свинцовым и тоже потянет вниз, сквозь ковер и камень, в безвидную колышущуюся бездну.
— …О нем забудь. Считай, что этого мальчишки никогда не было.
Она устоит, даже сумеет открыть глаза, остатками воли прогнав тьму и холод. Хоть и с трудом, не сразу, оторвет вросшие в камень перил пальцы, достанет из сумочки платок, вытрет мокрый лоб — и попытается вспомнить лицо дочери. Но память предаст, и на нее взглянут пустые недвижные глаза.
— Ты была голая, с синяком на левом боку, и от тебя скверно пахло…
Мертвец оскалится и протянет ладонь с открытой бархатной коробочкой. Пустой.
Женщина вспомнит, как кольца падали в тяжелую недвижную воду — и прогонит призрак.
…Гертруда!
4
Из движущегося авто стрелять удобно только героям голливудских фильмов. Тот, кто стоял на подножке черной машины, умел обращаться с оружием, но лишь седьмая пуля из обоймы табельного «люгера» достигла цели, попав в правое заднее колесо «Лоррен Дитриха». Оставался один патрон, последний, стрелок это помнил и не спешил.
Марек Шадов давно не брал в руки пистолет, но он стоял на земле, а не на трясущейся подножке, парабеллум хорошо пристрелян, черный же силуэт машины — всего в тридцати метрах. Марек опустился на левое колено, не глядя, выбросил руку с оружием в сторону цели, затем поймал зрачками черное авто…
Первые две пули прошли мимо, но третья попала точно — в лобовое стекло, в его правую часть. Стрелок на подножке среагировал вовремя, однако в последний миг, когда палец уже нажимал на спусковой крючок, машина внезапно и резко ушла влево, чтобы через секунду уткнуться бампером в невысокий земляной холм на опушке близкого леса. Рука дрогнула, верная пуля оказалась потрачена зря. Марек Шадов успел упасть на бок, прижаться к влажной земле и быстрым движением бросить тело вперед и вправо. Перекатиться, привстать — и прижаться к теплому металлу капота. «Антилопа Канна» заслонила его от врага.
Коричневый «Lorraine Dietrich 20CV» с прострелянным колесом и черное авто с разбитым ветровым стеклом бессильно застыли по разные стороны узкой грунтовой дороги.
Ничья. 1:1.
* * *
— Коленку вышиб? — осведомилась девочка, не отрывая носа от земли. Марек хотел переспросить, но вовремя вспомнил.
— Едва ли, — рассудил он, осторожно выглядывая из-под днища. Высокий клиренс удобен не только на скверной дороге.
…Черная машина стоит недвижно, тот, кто был за рулем, там и остался, свесившись через разбитое стекло, сидевший сзади наверняка лежит — головой к двери. Пока привстанет, пока до ручки дотянется…
Стрелок снаружи. Возле машины его нет, значит, на опушке, за холмом. Перезаряжает… То есть уже перезарядил.
— На стрельбище ходить надо!.. — Герда, засопев недовольно, чуть приподняла нос. — Кай, можно я закурю?
Он задохнулся от возмущения, открыл рот… Девочка негромко рассмеялась.
— Это я так шучу. Извини, Кай. Мне заткнуться?
— Не заткнуться, а замолчать, — наставительно поправил он, не отводя взгляд от врага. — Молчать не надо, только слушать не забывай. Если машина или человек — говори сразу.
В черном авто никто не двигался, опушка словно вымерла. Марек прилег поудобнее, уперся локтями в землю.
Ждем!
Можно было просто уйти. Лес за спиной, корпус «Антилопы» надежно прикроет от пуль, но мужчина решил не спешить. Ясный день, значит, по дороге наверняка проедут. Остановятся — неплохо, дадут газу, чтобы затормозить у ближайшего полицейского — еще лучше. Патронов хватит, пять в обойме и две пачки в кармане пиджака. И еще пистолет Герды — «жилеточный» Browning M 1906 третьего типа.
Шансы есть? Шансы есть!
— А чего им от нас надо? — осведомилась Герда, отрывая подбородок от земли. — Ящерицу ищут?
Марек дернул плечами:
— Наверняка. Иначе бы в Берне они вели бы себя иначе.
Как именно, уточнять не стал ввиду полной ясности. Дети тоже ходят в кино. Если бы «черным» понадобился он, то для начала схватили бы Герду. О том, что могло быть дальше, Марек не хотел даже думать.
За холмиком мелькнуло и пропало что-то темное. Наверняка шляпа. Свою мужчина потерял еще у левой дверцы, когда падал на землю. Стрелок же сохранил, и сейчас пытается выклянчить у противника лишний патрон. С новичками такое иногда проходит…
…В машине! Раз! Два!..
Шляпа мелькнула не зря. Отвлекла — и тот, что лежал на заднем сиденье успел открыть дверцу. Не выскочил, пули загнали назад, но двух патронов уже нет. Враги тоже умеют считать. В обойме парабеллума патронов осталось… восемь минус пять, потом неизбежная перезарядка, несколько «мертвых» секунд…
Марек решил забрать у девочки ее «жилеточный» пистолет, чтобы держать под рукой, но не успел. Шум мотора он услыхал раньше Герды, но оглянуться девочка успела первой.
— Сзади! Кай это же тот самый, красный! BMW 315/1, Roadster!
Альпийский гонщик?!
* * *
Красному «Родстеру» было все нипочем — дорога, горы, непогода. Там, откуда он приехал, накрапывал дождь, успевший промочить салон, но «альпийский гонщик» даже не попытался спрятаться под мягкую крышу-накидку, что ждала своего часа в багажнике. Беда невелика, пассажиры, такие же бесшабашные, как и сам «Родстер», стряхнули тяжелые капли со шляп, а пулемет был надежно укрыт брезентом. «Гонщик» неудержимо мчал по дороге, оставляя после себя неглубокий влажный след, из радиоприемника, новинки от компании Galvin Manufacturing Corporation, на всю округу разносился сладкий голос Джека Хилтона:
Мы с тобой расстались в тихий час, Когда веселый день погас, И море — словно серебро под молодой луной…Два автомобиля, разделенные узкой полосой дороги, «Родстер» заметил издалека и слегка снизил скорость. Сидевший за рулем кивнул тому, что рядом, тот повернулся, отдал команду.
Брезент исчез, являя миру черный вороненый ствол.
Ночь зажгла все звезды в небесах, Взметнулись чайкой паруса…Когда до ближайшей машины осталось всего ничего, метров двадцать, новая команда заставила взвизгнуть тормоза. «Альпийский гонщик» замер, а затем развернулся поперек дороги. Пулеметчик приник к прицелу.
…И нежной дымкой пал туман Над голубой волной.Первая очередь ушла с недолетом, взрыхлив землю как раз между двумя машинами. Пулеметчик, негромко ругнувшись, учел поправку.
Знаю, ты вернешься скоро, Скоро наша встреча, час тот недалек…Вторая легла именно там, где нужно, у самых колес черного авто. Пули мелкими земляными фонтанчиками обозначили четкую непроходимую грань. Стой! Назад! Убирайся!..
…Отчего же слезы льются в этот тихий вечер На золотой песок?Еще одна очередь прошла над самой крышей. Поняли? Кажется, да. Пулеметчик отлепил ладони от металла и достал пачку сигарет.
Дни к желанной встрече побегут, Любовь я нашу сберегу…Музыка заглушила негромкий щелчок зажигалки. Зато отозвался мотор, зарычал, пыхнув синеватым дымом. «Родстер» сдал назад, вновь занимая место в левом ряду — и неспешно, на второй скорости, двинулся дальше. Отъехал недалеко, всего на десяток метров. Остановился, мигнул фарами…
…И ждать тебя я буду здесь, На этом берегу.Двое из черного авто уже успели вытащить третьего, сидевшего за рулем. Открылась задняя дверца, впуская внутрь недвижное тяжелое тело. Фары «Родстера» вновь подмигнули, намекая и поторапливая.
Мир — любовью нашей полон он, И синий свет струит со всех сторон…Взревел мотор. Черный автомобиль подал назад, выбираясь на дорогу. Отъехал подальше, развернулся, вновь рыкнул двигателем, набирая скорость. «Альпийский гонщик», не слишком торопясь, поехал следом. Возле коричневой машины притормозил. Тот, кто сидел рядом с шофером, вежливо приподнял шляпу.
И ночь нежна, И счастье светит нам…[71]* * *
— Только позавчера голову мыла… Щетку надо достать, она в перчаточнице, слева от пистолета. То есть была слева… Не обнимай меня, Кай, не надо! Я грязная, ты грязный. В термосе есть вода, я умоюсь. Хорошо? А потом твой костюм почищу. А потом…
— А потом, Герда, ты будешь менять колесо. Не умеешь? Ничего, я помогу… Чего-то школа вспомнилась, уроки катехизиса. Изгоняет он бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского… Кому-то очень надо, чтобы мы доехали до отеля. Кому-то… Не буду вслух поминать… Держи платок! Нос вытри — и слезы.
— А я не плачу, Кай! Не плачу! Не плачу!..
5
По темной, вытертой ткани рюкзака — белые готические литеры. «Хинтерштойсер. Курц» — красиво и четко, хоть сразу в музейную витрину. На втором рюкзаке, что уже оформлен и в угол отставлен, все наоборот, сначала Тони помянут, Андреас же следом. Ради пущего творческого разнообразия.
Баронесса Ингрид фон Ашберг слегка поправила кистью последнюю букву. Теперь — точка, и…
— Готово!
Отошла назад, поставила баночку с краской на ящик с консервами.
— Красота! — честно отрапортовал Хинтерштойсер. — Вы, Ингрид, ну прямо художник. И цвет приметный, даже в темноте найдем.
Хвалить выпало ему. Курц, не соизволив выдумать причину, исчез сразу, как только девушка вошла в палатку. Андреас даже вздыхать не стал — привык. Втроем им и вправду как-то неуютно.
Работали при включенном фонаре, а по брезенту палатки нудно и неостановимо лупил дождь. Как зарядил с полудня, так и лил себе до самого вечера.
— Андреас! — Девушка замялась, взглянула неуверенно. — Может, я вам с загрузкой помогу? Это невысоко, а у меня и обувь есть, и куртка.
Хинтерштойсер задумался. Будь это просто тренировочный поход, и не будь Ингрид — Ингрид фон Ашберг… Впрочем, нет, он уже понял, что виной всему их не слишком удачное знакомство. Для итальянцев, рыжего Чезаре и Джакомо-полиглота, баронесса — обычная девчонка, верный товарищ, своя, можно сказать, в доску. И на Монблан вместе ходили, и на Юнгфрау. А тут — нате вам! — мундштук в полметра, камни-самоцветы и еще «Испано-сюиза».
Заброска же — дело нетрудное, хотя и хлопотное. Часть груза, самую тяжелую, следует заранее поднять повыше, лучше всего — к месту будущей первой ночевки и пристроить на склоне между приметными камнями. В изукрашенных готическими литерами рюкзаках — стальные «кошки», спальники, каски и прочие неудобства. Лишний человек, конечно, не помешает…
Андреас откинул полог, подставляя лицо дождю. Зажмурился, помотал головой.
— Взяли бы — если б не погода. Камни мокрые, скользкие, еще и сверху сыпаться станут. Мы же о вас будем думать, Ингрид, а не о проблеме. Придется страховать, все время на вас оглядываться.
— Меня не надо страховать!
За палаткой дождь, в ее голосе — лед.
— Но почему? Я же вам не мешаю, хочу только помочь. Я что — маленькая?
Андреас обреченно вздохнул. Тони, ну где же ты?
— Мы тоже не маленькие, Ингрид. Но вы же к нам целого секретного агента приставили.
— Что-о-о?!
* * *
— Еще раз, Андреас. И поподробнее, пожалуйста.
— Ну… Лет под сорок, зовут Лекс. Не имя, понятно, кличка. Одет прилично, даже богато… О! На японца чем-то похож. А то, что шпион, без всякой таблички ясно. Сказал, что у нас с Тони есть друзья, а мы — его клиенты.
— Секретный агент… Их только не хватало! Этот отель — настоящее шпионское гнездо, еще с Великой войны. Швейцарский нейтралитет — и нашим, и вашим, и тем, которые сбоку… Я никого не нанимала, Андреас, мне бы и в голову такое не пришло. Говорите, он в баре постоянно бывает?
— Да, Лекс предупредил. Столик возле стены, от стойки слева.
— Пойдемте!
* * *
Двое очень похожих, одного роста, разве что в плечах заметна разница — подходят к стеклянным дверям отеля «Des Alpes». Швейцар на посту — бдит, пронзает взглядом. Влажные куртки, капюшоны на головах, грязная тренировочная обувь, сигареты в мокрых пальцах. Сразу видно — бродяги-скалолазы, чужаки из разноцветных палаток. Таким тут не место!
Но это если сразу. У швейцара — глаз-алмаз.
— Добро пожаловать, госпожа баронесса! Добро пожаловать, господин Хинтерштойсер!..
Двое входят в огромное фойе, почти пустое в этот вечерний час. Девушка сразу же устремляется к зеркалу. Капюшон сброшен. Расческа… помада… Молодой человек терпеливо ждет, переминаясь с ноги на ногу. Наконец порядок наведен, зеркало за спиной, можно возвращаться.
— Добрый день! Ой, добрый вечер! Вы не подскажите, где здесь можно умыться? А то мы колесо меняли, меняли…
Девочка лет десяти. Мятое платьице, светлые волосы в беспорядке. Руки прячет за спиной, на лице — полосы, словно у зебры. Тут чисто, а тут совсем даже наоборот.
— Колесо? — Баронесса Ингрид фон Ашберг смотрит понимающе. — Сами меняли, фройляйн?
Девочка гордо расправляет плечи:
— Конечно, сама! Ну, Кай… То есть папа немного помогал. А грязь — это из-за домкрата. Там земля очень мягкая…
Баронесса кивает. Знакомо!
— Сейчас будем приводить вас в порядок, фройляйн. У меня, кстати, руки тоже в растворителе, мыло не помешает…
И тоже прячет ладони за спиной.
— Я — Ингрид.
— А я — Гертруда.
6
Лицо портье расплывалось, тонуло в мягкой податливой трясине из звуков и переливов света. Где-то далеко, на самом краешке сознания, спорили два голоса, две мелодии. «Сеньорита, коснись устами, прежде чем я с тобой расстанусь…» — молил один. «…И ждать тебя я буду здесь, на этом берегу», — негромко отзывался другой.
— У вас великолепная комната с видом на Северную стену, герр Шадов. Вашей дочери понравится, — совсем не к месту присовокупил портье.
Мужчина кивнул всем троим, соглашаясь, сжал пальцами белые бланки, которые еще требовалось заполнить, оглянулся. Столик сзади, рядом с ним огромный диван черной кожи, наверняка мягкий и удобный, не диван — перина…
Марек резко выдохнул, приказав себе: «Не спать!», и принялся без особого успеха вспоминать, в каком кармане у него авторучка. Как не позавидовать Герде, успевшей вздремнуть прямо на переднем сиденье? Уже и убежать умудрилась — мыться надумала. А у него сил хватило как раз до швейцара. Поздоровался, спросил, где регистрация, вошел…
Диван с негромким плеском толкнул в спину, оборачиваясь бездонным болотом, и Марек, устав сопротивляться, прикрыл веки. Ничего, Герда разбудит. Нет, не быть ему солдатом! Всего-то один бой, и патроны в обойме остались.
— Крабат!.. Кра-а-абат!.. — привычно позвала темнота.
В ответ он беззвучно шевельнул губами:
— Опять на мельницу в Шварцкольм? Надоели! Доктора Фрейда на вас нет!..
— Здесь нет и мельницы, Метеор, — темнота явно удивилась. — Буду ждать тебя на самом темечке Огра.
Настало время удивляться ему. Голос был незнакомый, женский. И кроме того…
— Метеор, фройляйн — это небесный камень. Совсем не по адресу.
Тьма колыхнулась легким необидным смехом:
— В незапамятные времена упал с неба камень и раскололся. Из-под осколков выбрался Крабат и зашагал по земле…
Ясное, без единого облачка небо, красная черепица на крышах, сладкий запах лета… детства… памяти…
— Кай! Кай!.. Ой, ты что, заснул?
— Заснул, — легко согласился он.
Открыл глаза. Герда. Лицо чистое, в глазах — очередная шкода.
— Тут спрашивают, не нужен ли нам самолет. Я сказала, что нужен. Вдруг пригодится?
Теперь Марек Шадов проснулся уже окончательно. Черный диван сотворил чудо, впитав, словно губка, всю тяжесть прошедшего дня. Мир вернулся на место, четкий, правильный и скучный. Ни Крабата, ни Метеора, ни той, что будет ждать его на самом темечке.
— Ну, где твой самолет?
— Добрый вечер, господин Шадов!
Герда отошла в сторону, уступая место невысокому плечистому крепышу. Пиджак старый, потертый и явно перешитый, лицо странное — никакое, взглядом не уцепить. А вот улыбка приятная.
— Я — Роберт, пилот. Если захотите прокатиться, то обращайтесь в Северный корпус, меня там знают. «Ньюпор-Деляж-29», серийная модель 1925 года. Незабываемый полет над снежными вершинами Альп! Для любителей острых ощущений — прыжки с парашютом.
Оставалось поблагодарить, пожать пилоту руку и пообещать, что как только — так сразу. Роберт, проявив чуткость, этим и удовлетворился. Одарил еще одной улыбкой…
Исчез.
Марек взглянул выразительно. Девочка потупилась.
— Готовься, Герда! Прыжки с парашютом — дело серьезное. Для начала попробуем с балкона, у нас третий этаж. Обвяжу веревкой за ноги и…
— Согласна!
Мужчина понял, что педагогика бессильна. Достал авторучку, паспорт, кивнул в сторону стола.
— Бланк регистрации. Два экземпляра, без помарок, красивым почерком. Пять минут, время пошло!
* * *
Рюмочки выдали правильные, глиняные, в легкой изморози. К ним полагался небольшой поднос, тоже глиняный, неяркого черного блеска. Хинтерштойсер, совершив ловкий маневр между двумя габаритными посетителями, аккуратно приземлил его на столик.
— Проясняет разум и успокаивает нервы, — торжественно объявил он, присаживаясь и расстегивая куртку. — Помогает согреться…
— …И подумать о смысле жизни, — покорно кивнула Ингрид фон Ашберг. — Андреас, может, хоть вы объясните, отчего я такая невезучая?
Шпион по прозвищу Лекс в баре не обнаружился. Вероятно, успел просочиться сквозь стену, пока баронесса возилась со встреченной в холле малолетней замарашкой. Убедившись в этом очевидном факте, Хинтерштойсер расстроился, но вовремя вспомнил о горьком венгерском ликере. Самое время проясниться и успокоиться. И согреться.
Баронесса пить не спешила. Достала сигареты, взглянула кисло.
— Только не говорите, что я красивая, замечательная и какая-то там еще. Мой американский кузен, о котором я вам уже все уши прожужжала, сравнил меня с зубной щеткой. Самое оно!
Хинтерштойсер собрался было возразить, опровергнуть на корню, но язык как-то сам собой повернулся, причем криво:
— Он вам очень нравится, да?
Если бы взгляд убивал… Андреас вжался в послушное кресло и притворился скальным выступом.
— Нет, не нравится, — голос девушки прозвучал на диво спокойно. — Наглый самоуверенный мужлан, типичный янки. Но раз вы спросили, Андреас… Как-то мы переночевали с ним на одной кровати. Нет, ничего не было, он слева, справа я, а кровать размером с Потсдамскую площадь. Но я не могла заснуть. Есть в нем что-то сильное, настоящее… Никакого сравнения с теми напомаженными мерзавцами, что целуют ручки и тонко интересуются, когда я, наконец, получу наследство. Есть и другие. Им деньги не нужны, зато сама я плоха, только выстирать и выбросить. Ваш друг, этот святой Антониус… А, не хочу! Ну что, пьем?
Была горечь, был сигаретный дым, негромкая музыка, чужие голоса. И была грустная девушка в так и не успевшей высохнуть спортивной куртке.
* * *
— Андреас, могу я попросить вас о серьезной услуге? Спасибо… Дело вот в чем. Я не прощу себе, если стану спаивать вас. Вам и Антониусу идти на Эйгер, вы на войне. У меня ситуация другая, поэтому… Себе — только безалкогольное и что-нибудь на ужин. Мне — бутылку «Вильямса». Вы станете слушать и поддакивать, потом оттащите меня в номер и уложите на кровать. И забудете — словно ничего и не было. Согласны?
7
Семь ступенек, лестница, ведущая на первый этаж. Дальше — широкий пролет и снова ступени под красным ковром. Они слева, справа лифт — большая зеленая кнопка, чугунная узорная дверь. Вещи взял коридорный, всего-то и осталось — одолеть семь ступенек и кнопку нажать. Марек хотел взять Герду за руку, но не решился. Не поймет, подумает, что принял за маленькую.
Надо было идти, добраться до номера, скинуть костюм, не забыв отдать его в чистку, наскоро умыться — и сесть у телефона. Разговор с Парижем он уже заказал, обещали в течение часа. И в то же время Марек Шадов понимал, что делает глупость, ступени ведут не в номер, а в заботливо заказанную и даже оплаченную мышеловку. Правильнее всего вернуться к верной «Антилопе», хлопнуть дверцей и рвануть с места. Разогнаться от души, с ветерком и… Ловите!
Он бы так и сделал, работа у странного японца мистера Мото научила многому, но догадывался — поймают. «Альпийский гонщик», прогоняя излишне обнаглевших «черных», заодно и намекнул. Да что там намекнул, прямо врезал, словно из пулемета. «Ты действуешь точно по плану, иначе погорим мы оба», — сказал ему гауптштурмфюрер СС Харальд Пейпер.
Кто выручит? Впутывать жену нельзя, друзья в Германии сами нуждаются в защите. Мистер Мото? Бывший работодатель, конечно, мог бы…
— Ка-а-ай!
Марек понял, что стоит на второй ступеньке и, кажется, достаточно долго.
— Извини, задумался. Мы на лифте? Пробежаться не хочешь?
Под возмущенное фырканье он подошел к чугунной решетке, оценил размеры кнопки, но, прежде чем нажать, поглядел налево, где начинался второй пролет. В маленьком угловом проеме, укрытом неожиданно густой тенью, кто-то курил. Ярко-красный огонек, неясный размытый силуэт.
— Добрый вечер, Марек!
— Добрый вечер, мистер Мото, — не думая, ответил он. Положил палец на кнопку и нажал бы, но Герда оказалась на чеку.
— А-а… А какой мистер Мото? О котором вы с Королевой спорите?
Рука скользнула по стене, верхняя пуговица рубашки вдавилась в горло, мешая дышать. Марек Шадов, Желтый Сандал, шагнул вперед, закрывая собой девочку.
— Я еще не записался в Мефистофели, Марек. По вашу душу придут другие.
Мистер Мото проявился, словно изображение на стеклянном негативе. Из тени — под неяркий электрический свет.
* * *
— Кажется, я начал терять квалификацию, Марек. О вашем предстоящем приезде узнал только вчера. Стыд и позор! Но мне и в голову не могло прийти, что вы рискнете сунуться в самое око тайфуна, к тому же с ребенком… Да, конечно, с очень взрослой и очень самостоятельной девочкой… Я даже не хочу читать то, что у вас, Марек, написано на лице, слишком все грустно. Завтра поговорим подробнее, а сейчас главное. В этой дыре готовится что-то упоительно мерзкое с резонансом на всю Европу, если не хуже. Помешать не способен, могу лишь наблюдать и быть готовым вовремя унести ноги. А тут — вы… Дьявол вас сюда прислал, Марек! Кстати, завтра именно с него и начнем, если не возражаете. Фамилия, имя, воинское звание, агентурная кличка… И — для ясности. Мистера Мото больше нет, утонул, бедняга, прямо посреди океана. Зовите «Лекс», просто, без титулов. Нет-нет, не от слова «закон», гордыней пока не страдаю. Лекс — маленький городок неподалеку от Брюгге, родина моей покойной матушки. Не приходилось бывать?
8
— Я тебя люблю, — выдохнула женщина в теплую телефонную трубку. — Я очень люблю тебя, Марек Шадов!
Солгала? Сказала правду? Сейчас это было совершенно неважно. Гертруда в безопасности, далеко от жадных глаз мертвеца. Мальчишка… муж сделал все правильно и быстро. Очередной намек на «обстоятельства» женщина поняла, но это они обсудят при встрече. «Des Alpes» — швейцарская глушь, даже в случае войны отель никто не станет бомбить и захватывать, значит, можно пока не очень торопиться. Еще несколько дней, чтобы утрясти и уладить дела. В последнее время О'Хара их изрядно запустил…
Мысль о покойнике сразу подняла настроение. Босс не слишком уважал Священное Писание, даже пошучивал порой. А зря! Псу живому лучше, нежели мертвому льву. Прав Экклезиаст! А вы, босс, даже не лев, просто «третий труп», неопознанный и никому не нужный. Таких в Шанхае грызут живые кладбищенские псы!
Муж еще что-то рассказывал, потом в трубку быстрой скороговоркой частила Гертруда. Женщина слушала, отвечала, пыталась шутить. Приехать она не сможет — прямо сейчас. Но помочь… Вовремя вспомнилась полученная утром телеграмма.
— …Целую! Еще раз и еще! В нос, да!.. Передай, пожалуйста, трубку Каю.
Обратный адрес тот же: Швейцария, кантон Берн, отель «Des Alpes». Совпадение странное, но в данном случае очень и очень полезное.
— Марек! Слушай внимательно, но лучше ничего не записывай. Запоминай! В отеле остановился наш деловой партнер. Ты его быстро найдешь, он летчик, у него свой самолет — «Ньюпор-Деляж-29». Он и его… его фирма мне многим обязаны. Тебе они помогут, обязаны помочь. Я пошлю срочную телеграмму, прямо сейчас. Зовут его Роберт…
9
Идти Хинтерштойсеру никуда не хотелось. Настроение как на отрицательной сыпухе — сперва плохо, а дальше хуже некуда. К утру дождь сменился туманом, да таким, что и вершину Огра не разглядеть. Какая уж тут заброска! И Курц учудил — явился далеко за полночь, но спать не лег. Сначала курил в палатке, потом накинул на голову куртку, выбрался под дождь. Хорошо, что за пологом уже не лило, капало.
На вопросы не отвечал, спросишь — молчит. И — трезвый.
Утром мало что изменилось. Разводить костер не имело смысла, и Андреас предложил сходить в отель, благо пускают. В баре тепло, в баре сухо, и запеченные яйца по-швейцарски диво как вкусны. Ответный взгляд был таким, что Хинтерштойсер предпочел остаться без завтрака.
А потом всех всполошили австрийцы, Вилли Ангерер и Эдгар Райнер. Заорали, ударили в кастрюлю. Большой сбор, братья-скалолазы! Слушайте — и не говорите, что не слышали.
Хинтерштойсер услышал и только плечами пожал. Никуда бы не пошел, если бы не Тони. Тот почему-то сразу стал собираться. То ли в лагере скучно, то ли ночью перекурил.
Сбились в пеструю толпу — и двинули. Не слишком далеко, прямиком к стеклянному холлу отеля. Но не в бар, и не к самим дверям. Стали чуть поодаль, кто-то достал бинокль…
— Экскурсия в седловину Девы! — слева, где большой деревянный щит с Эйгером в полный рост.
— Поход по леднику! — справа, где карта кантона Берн, тоже на щите. — Незабываемые впечатления! Вы ступите на Стену смерти, на ее заснеженный склон, — и вернетесь живыми, точно к обеду!
Дождь кончился, местные горные гиды выбрались на свой обычный промысел. Чужих и близко не подпускали, их горы, их и заработок. Скалолазов же из палаточного лагеря вообще в упор не видели, считая их опасной бандой самоубийц.
— От подножия Эйгера — к Мёнху и Юнгфрау, Сердце Альп, моря льда!..
Андреас поморщился. Хуже, чем на рождественской ярмарке! Будь он Эйгером, точно бы насмерть обиделся.
Рядом, у левого плеча, безнадежно молчал Курц. Зато шумно было справа, где пристроились итальянцы. Густой бас Чезаре легко заглушал потуги местных гидов. Джакомо все же умудрялся вставлять свое, но только когда приятель умолкал. К своему изумлению, Андреас сообразил, что соседи вовсю поминают его длинную, не слишком удобную в произношении фамилию.
— Per Hintershtoyser. Per Hintershtoyser, ti dico! Sei un coglione, non sai chi e?
Он хотел уточнить причину, но не успел. В плечо ударилось что-то тяжелое.
— Binocolo! — веско пояснил Чезаре.
Андреас перехватил помянутое, повертел в руках. Действительно бинокль. Армейский.
— Тебе нужнее, — добавил Джакомо.
Хинтерштойсер решил не спорить. Настроил по глазам. Куда смотрим? На гидов-крикунов? На первый этаж? На второй?
Туда!
Холл, что за стеклянной дверью, построен не вровень со стеной, а уступом, большим ровным квадратом. Прямо над входом в отель — каменный парапет, словно заборчик на кладбище. За ним — цветные зонтики, столики, легкие деревянные стулья. Вдоль парапета — несколько подзорных труб на железных треногах оптикой на Эйгер. Ночью там танцуют, если погода разрешит, днем же — смотровая площадка. Северная стена словно гигантский киноэкран: наводи, лови в окуляр, переживай, делай ставки, пока занавес-туман не опустится.
Итак, зонтики, трубы, стулья… Люди, причем много, и почему-то все мужчины. Присмотревшись, Хинтерштойсер уточнил: мужчины в штатском. Но выправку не спрячешь, как и повязки со свастикой на рукавах. Впрочем, есть и женщина, одна, зато с киноаппаратом. Белая длинная юбка, пиджак нараспашку, тоже белый. Знакомая? Очень даже знакомая.
Итак, соотечественники пожаловали…
— Ты не видел вчера Ингрид? — вопросил каменный голос слева. — Ближе к вечеру?
Все забывший Андреас недоуменно моргнул.
— Понятия не имею. Может, в баре была?
А на смотровой площадке… Забегали, засуетились, тетка с киноаппаратом голос обозначила, отгоняя тех, кто в кадр без спросу влез.
— Сейчас! Сейчас! Как появятся, приветствуем. По команде, по команде!..
А это уже сзади, на родном немецком с мягким австрийским акцентом.
Вилли Ангерер!
Переспрашивать Хинтерштойсер не стал. И так ясно: эскадрилья прикрытия «Эйгер» идет на посадку. Народ в восторге, бурные аплодисменты переходят в авиацию… То есть в овацию…
Есть!
Вначале он увидел что-то темное, потом — серебристое и лишь пристроив бинокль поудобнее, оценил все разом.
…Мундиры черные, пуговицы в серебре, лацканы в белой окантовке, воротники тоже в серебре, над левым карманом знакомая эмблема с рунами. Брюки черные, рубашки белые. Фуражки с высокой тульей, смешные ножики-кортики при ремне.
Блондины — оба.
В лица Андреас всматриваться не стал, не захотелось.
…Прошлись, перед кинокамерой постояли, обозначив стать, и, наконец, соизволили пожаловать к парапету. На братьев-скалолазов смотреть не стали, взгляды ударили выше.
Эйгер!
— Приготовились! — предупредил австрийский акцент.
Блондины замерли, словно в парадном строю. Миг — и правые руки рассекли воздух, грозя белой вершине.
— Зиг!.. — не своим голосом возопил Ангерер.
— …хайль! Зиг хайль!
Хинтерштойсер мысленно поблагодарил братьев-итальянцев за бинокль. Рад бы чувства выразить, да руки заняты. Покосился налево. Тони Курц стоял прямо, а вот смотрел куда-то в сторону. Ладони тоже при деле, каждая в кармане.
— …Зиг хайль!!!
Блондины услыхали и одобрили, даже соизволили кивнуть. Тетка с киноаппаратом свесилась вниз, грозя выпасть наружу.
— Еще раз! — чужим, даже акцент пропал, голосом рявкнул Ангерер.
— Зиг хайль! Зиг хайль!..
— Scheisskerl! — эхом донеслось откуда-то сзади. И чтобы никто в сомнение не впал, эхо поспешило уточнить:
— Гитлер — scheisskerl!
Хинтерштойсер почувствовал знакомый глубинный скрежет. Это смеялся Огр.
— Гитлер — scheisskerl! Нацисты — сволочи! Дахау! Дахау! Дахау!..
Курц разлепил каменные губы:
— Пошли отсюда!
Сзади уже дрались.
10
— А что вас так удивляет, Марек?
Лекс (уже не мистер Мото!) извлек из кармана пиджака пачку сигарет, но, покосившись на Герду, открывать не стал, положив на скатерть.
— Политикой я никогда не занимался. Обычное частное предпринимательство, business. Китайские эскапады мне уже не под силу. Возраст, увы! Подрабатываю консультантом. Отыскал самое тихое место в Европе… Но кто же его знал?
Марек Шадов, как раз допивавший кофе, понимающе кивнул. О подобном работодатель любил рассуждать и в Шанхае. Зачем, поди догадайся. Не иначе, тренировался на подчиненном. Наивный взгляд, убедительная речь…
Ресторан был практически пуст. Постояльцы предпочитали заказывать завтрак прямо в номер. Марек и сам был не прочь, но… Хорошо, что на столике обнаружилось отдельное детское меню.
Лекс составил компанию. Герда, оценив ситуацию, ела молча и даже не вредничала, когда подали манную кашу.
— Плохо то, что скоро мне придется уехать на пару дней. Попались весьма трудные клиенты. Поэтому вашей проблемой займемся прямо сейчас. Делим ее на две части: то, что вы рассказать можете, имеете право, — и на остальное.
Легкий стук — ложка легла на край тарелки. Манной каше пришел конец.
— Потом закажешь мне ривеллу, — девочка встала, оглянулась.
— Там рояль, попрошу, чтобы открыли.
Лекс проводил ее взглядом, сжал губы.
— Марек… Только честно. Вы меня не проклинаете? С моей стороны — чистое хулиганство, но когда-то я сам оказался в весьма сходных обстоятельствах…
Девочка была уже возле рояля. Поспешивший подойти официант застыл вопросительным знаком.
— Это — вторая часть проблемы, — ответил бывший Желтый Сандал. — Та, которая «остальное».
* * *
…ЕЕ платье было странного цвета. Не коричневое, не желтое… Нужное слово ускользало, секунды текли, малиновый занавес был готов вот-вот раздаться в стороны, а Марек Шадов все пытался вспомнить.
Беж!
И сразу наступила полная ясность. Работодатель отбыл, но осталась работа. В пакете наверняка шкатулочка с письмом на дорогой хрустящей бумаге, обычай шанхайских Триад. Он мельком пожалел, что не услышит Джека Картера. Придется уйти, не сидеть же рядом с НЕЙ после всего! То есть после того, чего и не было. Не случилось…
Слабак! Трус! Хвастун!..
— Добрый вечер, госпожа Веспер!
Бумагу снял, слегка при этом удивившись. Шкатулка показалась неправильной, в такой письма не хранят. Впрочем, какая разница? Отдать — и…
…ОНА смотрела куда-то в сторону.
Всё? Ах да, надо еще убедиться, что нет ошибки. Как? Да просто взглянуть, что внутри. Вдруг там не письмо, а…
Что именно, Марек Шадов додумывать не стал и открыл легкую, обитую темным бархатом крышечку. Изумился — да так, что даже о Джеке Картере забыл с его серенадами. Предупреждали, выходит, не зря! Не письмо. А что, простите? Похоже на звенья от цепочки, чьей-то волей разъятые и спрятанные неизвестно зачем в футляр.
И что с этим прикажете делать?
Удивлялся бы и дальше, но взгляд внезапно скользнул по золотой ладони, тоже разомкнутой, бессильной…
— …Крабат!.. Кра-а-абат!..
Понял Метеор, сын Небесного Камня, что нет ему больше спасения. Вода у самого горла, тело словно в свинец обратилось, вглубь тянет. Не совладать с заклятьем Теофила-Мельника! Тогда напряг он все силы, протянул ладонь, позвал девушку: «Спаси, помоги выбраться!» Девушка опустила руку в воду — и Крабат вынырнул на поверхность золотым колечком на ЕЕ пальце…
— Прошу вас стать моей женой.
* * *
Девочка играет на рояле вальс «Autumn Dream» сочинения английского композитора Арчибальда Джойса, для ценителей и знатоков — «Титаник-вальс». Очень старательно, нота в ноту, хотя и слишком медленно: пальцы левой не успевают брать бас и два аккорда в нужном темпе. Но вальс все равно звучит, плывет, катится стылой атлантической волной, безнадежный, бесконечный, пронзительный. Черная вода, белый лед…
— Вспомните, Марек, свою любимую игрушку. Вы сейчас — такой же шарик, только не каучуковый, а бильярдный. Выложили на зеленое сукно — и прикидывают, как ловчее загнать в лузу. Что довело вас до жизни такой, можете не рассказывать, давайте о перспективе. Можно сейчас же предупредить госпожу Веспер, чтобы не приезжала, но вы уверены, что до нее не доберутся в Париже? А вам, Марек, катиться отсюда и некуда, разве что к Дуче, но это как-то не слишком вдохновляет. Между прочим, сегодня ночью немецкий горнострелковый батальон перешел швейцарскую границу у Фрауэнфельда. По ошибке, естественно. В Судетах и Тешине почти все уже кончено, послезавтра плебисцит в Австрии… Вам не хочется обратно в Китай? Нет? Во всей этой комбинации мне меньше всего нравится ваше абсолютное сходство с братом. Сразу Шекспир в голову лезет с «Двенадцатой ночью», но у него близнецы все больше в комедиях… «В отчаяньи теперь осознаю, что страсть и смерть как близнецы похожи: в обоих случаях леченье не поможет».
Черная вода, белый лед… Светловолосая девочка играет на рояле «Титаник-вальс».
11
Снежная вершина в лучах беззаботного летнего солнца, серая мешанина скал, зеленые альпийские луга. Непогода ушла. Над всей Швейцарией — безоблачное небо. Гляди — радуйся!
Хинтерштойсер, достав из пачки последнюю сигарету, щелкнул зажигалкой и присел на корточки, прислонившись спиной к равнодушному холодному кирпичу. Он специально отошел подальше от стеклянных дверей, чтобы не распугивать народ старой грязной курткой и двухдневной колкой щетиной. Так и стоял — затылком к отелю, носом к горе, пока не надоело. Но и тогда не ушел. В лагерь возвращаться не хотелось. Незачем, а главное не с кем. Курц в очередной раз пропал. Вместе выбрались из шумной бурлящей толпы, Андреас на какой-то миг отвлекся… Был Тони — и нет его.
Оставалось одно — ждать, время от времени поглядывая в сторону входа. Смотреть на Эйгер Хинтерштойсер тщательно избегал, не тот настрой. Сигарета скоро догорит, Курц в нетях, и даже собственный стратегический план — от Красного Зеркала к Белому Пауку — перестал греть душу. У тех, кто ушел и не вернулся, тоже имелись свои планы. Как и у Эйгера-Огра.
…Мы хотим взять Северную стену. Северная стена хочет взять нас. Его и Тони жизни — всего лишь несколько мелких монет, плата за чужой успех…
— Типа-а-аж!
Прозвучало над самым ухом, но Андреас даже головы не повернул. Хотя и шаги услышал, и голос узнал сразу.
— Жаль, камеру не захватила. Хороший сюжет: швейцарские немцы прозябают в грязи и нищете под франко-еврейским игом. Станешь звездой экрана, Хинтерштойсер!
Молчать было неудобно, и Андреас без всякой охоты шевельнул губами:
— Добрый день, Хелена!
Подумал немного — и встал. Она была выше ростом и шире в плечах, она пахла дорогими духами, на ней была белая юбка тонкой шерсти, изящный пиджак нараспашку, приталенный, по последней моде. Немного французской косметики, гладкая ровная кожа и ослепительно белые зубы, острые, хоть стекло кусай.
Нос, как у ведьмы, крючком.
— «Гензель и Гретель», — сказал о ней Курц. — Старуха из сладкой избушки в гриме от «Universum Film AG».
— Тебя все ищут, Хинтерштойсер! — Длинный розовый ноготь коснулся его щеки. — Нашла я, но что теперь с тобой делать? Побрить, помыть, посадить за решетку и начать откармливать?
Она тоже читала братьев Гримм.
— Впрочем, за решетку тебя посадят и без моей помощи. Придется снимать другой сюжет — о двух дезертирах и их бесславной судьбе. Сейчас это объясняют твоему другу Тони.
Хинтерштойсер дернулся, ведьмин коготь глубоко вонзился в кожу.
— Пока еще объясняют, — крючковатый нос дрогнул. — Последний шанс, Хинтерштойсер! Ты никогда не отличался благоразумием, но на этот раз будь умницей!
Наклонилась, оскалила острые зубы…
Не укусила. Не поцеловала. Лизнула, словно он был из сахара.
* * *
— Тебя интересовали только горы и кино, Хелена! Что ты у них делаешь?
— Приехала в горы, чтобы снимать кино. Хинтерштойсер, не кажись наивным. Ты уже не тот наглый школьник, который подглядывал за мной у палатки. И… Я не хочу, чтобы этого наглого школьника отправили в Дахау. Слушай внимательно, Андреас! У них там серьезная накладка. Гитлер не просто приказал взять Норванд. Подняться на Стену должны были сразу три «двойки». Мы, понятно, первые, за нами австрийцы и итальянцы. Почему так, догадайся сам.
— А накладка в чем? Итальянцы отказались?
— Отказались. Сандри и Менти заявили, что их не устраивает метеопрогноз. Не тот ветер подул из Рима… Никого больше из «категории шесть» нет, весь план катится в тартарары. Начальство пьет бром и вводит в действие резерв. Догадался?
— Резерв — я и Тони? Хотят, чтобы мы пошли вместе с «эскадрильей»? Третьими?
— Меня интересовали только горы и кино. Тебя, Андреас, только горы. И еще некрасивая женщина на много-много лет старше. Хотела даже снять об этом фильм, но не решилась… Соглашайся, Хинтерштойсер, и уговори своего друга. По крайней мере, вернетесь домой живыми — и не в кандалах.
— И ты хочешь, чтобы я согласился, Хелена?
— Если бы я снимала фильм — никогда. Но жизнь — не кино, Андреас. Даже если вы взойдете на Стену первыми, об этом никто не узнает. Не удивляйся, они могут еще и не такое. Тебя не станут ломать, мальчик, просто раздавят.
— «Нас будет ждать драккар на рейде…»
— «…и янтарный пирс Валгаллы, светел и неколебим…» Все еще помнишь, Андреас? Там очень сложный размер.
— Ничего сложного. «Мы как тени — где-то между сном и явью, и строка наша чиста. Мы живем от надежды до надежды, как солдаты — от привала до креста…»
— Ничего не будет, Хинтерштойсер. Ни привала, ни даже креста.
— Не важно!
— Что же тогда важно?
— Северная стена!
* * *
Эйгер, старый Огр-великан, смотрел на человека в мятой куртке, маленького, жалкого и бессильного. Пропасти-глаза, скрытые в лабиринте скал, презрительно щурились. Людишки-букашки, возомнившие о себе безумцы, мечтающие одолеть Норванд, легкая пожива для верных слуг — Холода и Льда! Этот ничуть не лучше прочих. Не умнее, не храбрее, разве что еще безумнее.
Хочешь идти на Стену? Иди, я жду.
Человек услышал. Поднял голову, дернул упрямым подбородком.
Ударил взглядом-мечом.
Человек не видел камня, смотрел сквозь снег и лед. Перед ним был небесный чертог, зал с крышей из позолоченных щитов, подпертый жалами копий, и зеленое древо, упирающееся кроной в сияющий зенит. Драккар на рейде. Янтарный пирс.
Грозный Огр-великан, пожиратель скалолазов, исчез, став тем, чем и был изначально — неровной твердой поверхностью, годной лишь для того, чтобы взойти на нее, ступая по скалам-ступеням.
…По трещине — к Красному Зеркалу. Ласточкино Гнездо, Первое Ледовое поле, Второе. «Утюг», «Рампа», «Снежный Паук». Вершинный гребень.
Аллилуйя!
Глава 7. Танец «Апаш»
Ангар в горной долине. — И как ответить? — Не вербуйте меня. — Деньги или кровь. — Заброска. — «Jeh, prokachu!» — Мизансцена. — Бумажная Луна. — Капитан Астероид. — Апаш и змея. — Только нетронутый снег. — Герда не одобрит.
1
Мир-кристалл, прозрачный многоугольник, был совершенен, как никогда. Ясный, слегка мигающий свет, неправдоподобно четкие, словно вырезанные алмазом, грани… Черный мяч, маленький эфирный корабль из твердого каучука, следовал строго по расписанию… Девять, десять… двенадцать… четырнадцать!..
Посадка — резкий удар в протянутую ладонь.
— Восемнадцать! — сообщила Герда, высовывая нос из-за двери. — Я считала… Кай, а почему ты меня каждый раз в коридор выставляешь? Я дыхание могу затаить. И не моргать.
— Потому что я не Вильгельм Телль.
Марек Шадов спрятал шарик-корабль в карманный ангар, взглянул в окно, на острый белый силуэт Эйгера.
— Вроде распогодилось… Кстати, причесываться кто будет?
Девочка засопела и без всякой охоты шагнула к зеркалу.
— Ты прямо как Ингрид. Она мне только и рассказывает, какой должна быть настоящая фройляйн. Плечи налево, подбородок направо… А сама курит еще больше, чем я.
Про новую знакомую Герды мужчина был уже наслышан. И даже успел увидеть издалека.
— А ты от нее сбеги.
Расческа с легким стуком упала на столик. Девочка, поглядев в зеркало, пригладила волосы ладошкой.
— Нельзя, Кай. Ингрид сразу в троих влюбилась, разобраться никак не может. Будем решать вопрос… Кстати, я готова.
Перед тем, как закрыть балконную дверь, Марек вновь поглядел на недоступную горную вершину. Альпинизмом он никогда не увлекался, но оценить мог. Манит! «Буду ждать тебя на самом темечке Огра…» Кто бы возражал?
Сразу же после завтрака Лекс отправился по своим хлопотным делам, сообщив, что вечером непременно появится в баре. Марек простился с бывшим работодателем и с облегчением перевел дух. Рядом с не-мистером Мото начинало казаться, будто все вернулось: Шанхай, джонки с оружием в мокром трюме, ночные перестрелки, чужой нож возле горла… Нет-нет, жизнь прекрасна!
Герда готова? И он готов!
* * *
— Бе-е-едная! — Девочка погладила «Антилопу Канну» по коричневому боку. — Соскучилась!
Машина отозвалась низким обиженным ревом.
— Станешь тут бедной, — согласился Марек, прислушиваясь к звуку двигателя. — Карбюратор нужно чистить и… Съездим, отправлю в здешний гараж, пусть приводят в порядок… Садись!
Передать автомобиль в промасленные руки механиков можно было прямо сейчас, но человека, которому он позвонил в Северный корпус, в номере не оказалось. Значит, Магомету самое время идти к горе — то есть совсем наоборот, от горы подальше. Сначала полкилометра по знакомой грунтовке, а потом резко влево, курсом на спрятавшуюся среди невысоких холмов долину.
Дорога успела просохнуть. Альпийское солнце уверенно поднималось в зенит. Герда курила.
— Ты меня к скалолазам не отпустил.
Это был не вопрос, и мужчина предпочел промолчать. Грунтовка петляла, словно горная речка, а вдоль обочины среди свежей зеленой травы то и дело мелькали острые верхушки камней.
— Боишься?
Марек перешел с четвертой скорости на третью, поморщился, неохотно разлепил губы:
— Да.
Девочка нахмурилась, засопела и принялась смотреть в окно. Наконец резко повернулась.
— Я бы не одна была, а с Ингрид! Там очень-очень интересно, там альпинисты — настоящие! И ничего бы со мной не… Или… Или ты думаешь?
— Думаю! — отрезал он.
Поглядел направо, попытался улыбнуться:
— Извини, Герда! Но я не хочу увидеть, как к твоему виску приставляют пистолет. Так что вообрази себя портфелем, по крайней мере, на эти несколько дней.
Поворот. Даже не дорога — две колеи среди высокой травы. Сразу же стало жарко, словно из утра они въехали прямо в полдень.
— Хорошо, — негромко проговорила девочка. — Я отращу себе ручку… А-а… А сейчас мы куда?
Марек Шадов рассмеялся, на этот раз вполне искренне:
— Куда? А кто хотел с парашютом прыгнуть?
* * *
В середине 20-х, в самый туристский разгул, некий предприимчивый делец, побывав в «Гробнице Скалолаза», пришел к выводу, что ее постояльцам определенно чего-то не хватает. Отель в наличии, горы тоже, однако от вершины Эйгера до стеклянных дверей «Des Alpes» не так и близко. Не каждый доверится горным гидам, но и те, что посмелее, увидят немногое. Чуть-чуть вверх по склону, до первых снегов — и назад. А если хочется, чтобы вершина — рядом?
В небольшой долине — по грунтовке и направо — был воздвигнут ангар. Горный воздух рассекли дюралевые крылья. Два бывших истребителя фирмы «Юнкерс Флюгцойгверк», безработные пасынки войны, принялись за работу. Особенным успехом пользовался маршрут прямиком к вершине Огра с последующим облетом ее по часовой стрелке.
Через два года один самолет сломался при посадке. Второй честно дослужил до 1929 года, когда Великая Депрессия, широко шагая по Европе, вначале вогнала его в ангар и обездвижила, а затем разобрала на части.
Гул моторов над Эйгером стих. Ангар уцелел, бесполезный и бесхозный, огромный нелепый сарай среди густой зеленой травы.
* * *
— А он точно там? — осторожно поинтересовалась Герда, выглядывая в окно. В маленькой долине было удивительно тихо. Даже птицы не пели.
Марек кивнул на ангар:
— Ворота открыты. Портье сказал, что твой летчик еще на рассвете уехал. Вон, кстати, его мотоцикл, от ворот слева.
И нажал на класкон. Точка — тире — точка.
— «Dollar S3», — рассудила девочка. — Французский, 1930 года, с индейцем в перьях. Выходит, у Роберта и самолет французский, и…
Не договорила. Из-за створки потемневших от времени и непогоды ворот вышел человек. Комбинезон, летный шлем, промасленная тряпка в руках. Присмотрелся, махнул ладонью.
— Выходим! — скомандовал Марек.
2
— Ничего не скажешь? — спросил Хинтерштойсер.
Курц взглянул хмуро:
— Нет.
Отвернулся.
Приятеля Андреас все-таки дождался, там же, возле гостиничной стены. Засек время — два часа ровно. А если не появится… От первого этажа до третьего не так и высоко. Снаряги нет, зато можно за балконы цепляться. Первого же, который в черном, — в торец! И — допрос с пристрастием, благо учили. «Говори, куда Курца девал, с-сука!»
Обошлось. Приятель вышел из отеля ровно через час и двадцать минут. Только вот встреча вышла странной.
— Совсем ничего?
Тони дернул плечами.
— Итальянцы не пойдут, Бартоло Сандри и Марио Менти. Изза погоды. На самом деле Дуче запретил, не хочет, чтобы его парни были третьими.
Головы, однако, так и не повернул.
— Да знаю я, знаю! — не выдержал Хинтерштойсер. — Все знаю! И что у Ефрейтора план его сорвался, и что нас туда зовут — собачками на привязи. Мне даже про маршрут этой «эскадрильи» рассказали. Они ничего нового не выдумали, пойдут, как Седлмайер и Мехрингер, уступом влево. Снаряга у них какая-то особая, секретная новинка, за счет нее и думают проблему решить…
— Не только, — негромко перебил Курц. — Они на таблетках пойдут. Что за дрянь, не знаю и знать не хочу. И остальным этой гадости отвалят, не жалко им…
Повернулся, поглядел в глаза.
— Они… Они мне сказали, что ты, Андреас, согласился.
Хинтерштойсер онемел. Хинтерштойсер оглох. Не услышал, по движению губ догадался:
— Мне про трибунал песни пели. Потом — про любовь к родному Фатерланду. А тебе и этого не надо, Андреас. Подослали твою…
Хинтерштойсер зажмурился. Подождал немного, пока сердце снова забьется.
И как ответить?
«Нет!» «Как ты мог подумать?» «Мы же с тобой друзья!» «Не смей о ней так говорить!»
— Himmellherrgottsakramenthallelujamileckstamarsch! — сказал Андреас Хинтерштойсер[72].
3
На этот раз лицо Роберта-пилота Марек сумел рассмотреть во всех подробностях. Самое обычное, потому и запомнить сложно. Нос слегка картошкой, скулы острые, подбородок крепкий. Только глаза странные, бесцветные. Не серые, не белые даже.
Поздоровались, о погоде фразами перекинулись. Хорошая она, летная! А потом Роберт-пилот подбородком куда-то в сторону дернул, выразительно очень:
— Пройдемся?
Не тут-то было!
— Лучше я сама пойду погуляю, — хмуро заметила Герда. — Секретничайте, не жалко. Дядя Роберт, у вас тут маленьким девочкам пистолет к виску не приставляют? А то папа боится.
Пилот ответил неожиданно серьезно:
— У тебя очень хороший папа, Гертруда. А вот насчет пистолета поручиться не могу, поэтому тебе лучше далеко не уходить. Хочешь самолет осмотреть? Можешь и в кабину забраться.
— Годится, — рассудила девочка. — У меня самый лучший папа, дядя Роберт. А еще я стрелять умею. Двадцать метров, три патрона, два попадания.
Марек Шадов не стал поправлять врушку, хотя и стоило. Не метров — шагов. Не два попадания, а только одно. И левый глаз не надо закрывать, когда на спусковой крючок давишь!
* * *
— …Нет, не поляк. Я сорб. Просто «Марек», без всяких «господ». Как я понял, телеграмму вы уже получили?
— Утром. Госпожа Веспер мне все объяснила. Вас-то я вычислил сразу, потому и подошел. Интересно было взглянуть на мужа столь неординарной женщины. Вам, Марек, я бы помог и без всякой телеграммы. Нужен самолет?
— Нужен, но не сейчас. Если… Если все кончится плохо, вы увезете отсюда одну маленькую девочку — и желательно подальше. Денег я дам.
— Уверен, что в самом крайнем случае успею вывезти вас обоих. Будьте благонадежны! На этом и точку можно поставить, но… Госпожа Веспер — одна из немногих в Европе, кто серьезно помогает моей стране. В Шанхае вы продавали оружие и снаряжение Красной армии Китая. Здесь нет общего знаменателя?
— Обычное частное предпринимательство, Роберт. Business.
— А если дополним условия задачи? Вы сорб, Марек. Что делают наци у вас дома, уверен, знаете, причем куда лучше, чем я.
— У меня больше нет дома. Сорбов не существует, Роберт, их выдумал австрийский Генеральный штаб.
— И поэтому готовится переселение всех, кто еще уцелел, в Рурский бассейн — для «интенсивной германизации». Хотите подробности?
— Не вербуйте меня, Роберт. Ни на что серьезное я не гожусь, жена считает, что мой потолок — Желтый Сандал в Триаде.
— А если потолок разобрать — вместе с крышей? Помогите мне, Марек, в одном очень важном деле. Благодаря госпоже Веспер нам передали образцы новейшей и совершенно секретной техники. Прежде чем везти домой, я должен их испытать, причем в условиях, как мне приказано, максимально приближенных к боевым. Один не могу, привлечь посторонних не имею права. Вы, Марек, не посторонний. Будет очень интересно, обещаю.
— В кого станем стрелять?
— Ни в кого. Техника сугубо мирная — если, конечно, не брать на испытания пулемет… Чем бы вас, Марек, искусить? Хотите на вершину Эйгера? Нет, не на самолете, а просто. Раз — и там!
— На самом темечке Огра?
4
Она отпустила такси и, прежде чем перейти улицу, поглядела налево, где громоздил свои этажи обычный парижский доходный дом, из тех, что выросли словно грибы за последние полвека. Белый, квадратный, совершенно никакой, без малейшей выдумки. Разве что внизу, на уровне первого этажа, в светлую побелку зачем-то врезаны огромные двойные двери. Справа еще одна, самая обычная, а над всем этим — огромные пляшущие буквы в два ряда. Вечером они загорятся ярким переливающимся неоном, но и сейчас прочесть можно. «Paradis Latin» — коротко и не слишком ясно.
Женщина знала, что двойные двери закрыты, поэтому сразу же направилась к третьей, обычной. Взялась за бронзовую ручку, помедлила…
— У тебя очень усталый голос, Ильза, — сказал ей муж. — Отвлекись, развейся!
В другой семье это прозвучала бы странно. Как — и с кем! — может отвлечься женщина в Париже? А уж развеяться!.. Но Марек ей верил, сама же она давно не искала случайных знакомств. Мужчины — это работа, мужчины — то, что хочется и не получается забыть. Мужчина — это ее муж. Но вот отвлечься и вправду имело смысл.
* * *
Утром к ней на стол легли окончательные цифры. Март-июнь 1936 года, первая «военная тревога» в Европе после Перемирия 1918-го. Первое испытание для их детища — «Структуры». О'Хара, человек очень неглупый, предвидел все загодя, еще в марте прошлого, 1935-го, когда Гитлер объявил о создании Вермахта. Если в не слишком богатой стране начали строить армию, то, конечно, не для парадов. За год успеют развернуться, значит — следующий март!
Он и грянул, 17 марта немцы вошли в Рейнскую область. Потом — Судеты, Австрия, теперь, кажется, еще и Швейцария.
Чем ближе война — тем охотнее люди тратят деньги. «Главное, Лиззи, угадать, не пропустить момент, когда бабахнет», как верно заметил (бывший!) босс. Пока не бабахнуло, но и на «военной тревоге» можно заработать очень и очень много.
Цифры удивили даже ее. Если столько принес утренний бриз, чего ждать от настоящего шторма?
* * *
— Давно вас не было, мадам Эльза! Вернулись из дальних странствий?
Старичок за входной дверью, консьерж, гардеробщик и билетер по совместительству, всегда спрашивал у нее именно о дальних странствиях, хотя о своих поездках «мадам Эльза» (в этих стенах) никому ничего не говорила. Вероятно, был романтиком в душе.
Улыбнуться, спросить о здоровье, узнать, на месте ли мсье Жожо…
На месте. Значит, не зря приехала.
Второй этаж, длинный, пустой в этот час коридор, знакомый запах пыли. Третья дверь направо.
Постучать.
Прежде чем дверь дрогнула, женщина успела нацепить на лицо улыбку — не отработанную за долгие годы у зеркала, для приемов и важных бесед, а клоунскую, нелепую, рот до ушей. Вблизи смотрится глупо, особенно если не следить за глазами, однако на сцене, под горячим огнем ламп, улыбка должна быть именно такой. Иначе не увидят.
Легкий привычный скрип. В дверном проеме — высокий, широкоплечий и плоский, словно лист фанеры. Сухое жилистое тело кажется легким, толкни пальцем — и лови у противоположной стены. Почему-то в трико Жожо, ее партнер, выглядел именно так. Сценический костюм и парик возвращали все на место, делая его тем, кем есть, а точнее был лет двадцать назад — не слишком молодым, но дьявольски обаятельным мужчиной. Сейчас перед ней стоял лысый, ушастый, а поэтому немного смешной старик с татуировкой-«родинкой» возле левого глаза. Вторую — «стальное сердце» — скрывало трико.
— Добрый день, Жожо!
— Здравствуй! Ты, как всегда, пунктуальна, Эльза. Это отчасти примиряет меня с бошами.
Шутка была одна и та же, как вопрос о дальних странствиях и ее нелепая улыбка. В этих стенах чтили традиции и условности. Жожо звали совсем иначе, как и ее саму, имен они не скрывали, но в маленьком зале с зеркалом во всю стену и черным роялем в углу в ходу только сценические псевдонимы.
— Переодевайся, будем репетировать. Кстати, там, на рояле, афиша. По-моему, неплохо.
Прежде чем зайти за ширму, чтобы поменять платье на трико, женщина развернула пахнущий свежей типографской краской рулон. Три цвета, черный пугающий фон, прожекторный луч — огромное белое пятно посередине. В центре, кровавым пятном, резкие изогнутые силуэты, он и она. Лицом к лицу, тело прижалось к телу, в его руке — острый контур ножа. На кончике лезвия — маленькая серебристая звездочка. Сверху: «Paradis Latin», чуть ниже — «Сегодня в нашем кабаре», а над самым краем, подножием для их силуэтов: «Эльза и Жожо. „Апаш“ — танец смерти!».
Когда женщина уже скрылась за ширмой, прозвучало негромкое:
— Я, конечно, паршивое дерьмо, Эльза, но мне очень нужны деньги.
— Ты не дерьмо, — не думая, ответила она. — Заберешь мой гонорар, тебе и вправду нужнее.
Платье опустилось на спинку старого стула, женщина наклонилась, чтобы снять обувь.
— Запомни, Эльза. Апаш всегда платит долги. Деньги или кровь — на твое усмотрение.
Это могло показаться сценической репликой, причем не слишком удачной, манерной, как звездочка на острие ножа, но женщина знала, что партнер не шутит. Жожо, бывший грабитель и сутенер из предместья Сен-Жермен, в душе оставался настоящим апашем, диким индейцем, отродьем кровожадного племени парижских «апачей».
Бывший ли? Апаш в отставку не уходит.
* * *
— Зачем тебе шарик? — спросила она у мужа. — Веришь в талисманы?
Их медовый месяц в Шанхае. Удалось выкроить всего две недели, и то неполные. Маленькая гостиница во французском секторе неподалеку от залива, шторы на окнах, огромная квадратная кровать, нефритовый дракончик на столике рядом с телефоном.
Женщина — под простыней, натянутой до самого подбородка. Марек уже успел одеться, даже накинуть на плечи пиджак. Ее взгляд скользнул по слегка оттопыренному карману, и та, что носила на пальце кольцо Гиммель, вспомнила о каучуковом кругляше.
— Талисман? — его брови смешно вздернулись. — Я же пока не китаец, Ильза!.. Назови любое число, от двух до… ну, скажем, двадцати. Только, пожалуйста, не двигайся.
Женщина думала не долго.
— Сколько дней мы уже здесь? Одиннадцать?
— Да! — ответила ей черная молния.
В первый миг женщина испугалась, потом стало весело, и она даже принялась считать. Пять, шесть… девять… Но за миг до того, как шарик послушно ударился о подставленную ладонь, она увидела лицо мужа, его глаза, незнакомые, совсем чужие. Это был не ее Марек, смешной ласковый мальчишка, которого на этой кровати приходилось учить самому простому, ненавязчиво, чтобы не дай бог не обидеть.
…Каменная маска. Призрачный манящий огонь.
— Крабат!.. Кра-а-абат!..
Шарик лежал на ладони, недвижный, неказистый. По черной поверхности — трещинки, словно паутина. Муж улыбался, ожидая заслуженной похвалы.
— Ма-рек, — медленно, пробуя голос, проговорила она. — Иди… Иди ко мне!
О шторах, которые никто не догадался задернуть, женщина вспомнила, когда было уже слишком поздно.
…И китайский дьявол с ними!
* * *
— Апаши не вымерли, Эльза, — сказал ей где-то год назад партнер. — Они… Мы не мамонты и не динозавры. Мы — бандиты, мастера ножа из предместий. А что можно сделать с бандитами? Послать на каторгу, на Чертов остров, перестрелять из пулеметов, как в октябре 1914-го… Что еще?
После представления зашли в соседнее кафе, взяли по бокалу пурпурного «Chateau Bessan Medoc». Устали оба, женщина сильно ушибла ногу. Отработали по полной, да еще два «биса».
— Можно купить, — предположила она.
Жожо помотал лысой головой:
— Не купишь. Деньги возьмут — и пойдут грабить. Кодекс! Своего — или свою — апаш никогда не обманет, а всех остальных можно и нужно. Поступили проще — отправили на панель.
— То есть? — Она даже растерялась. — В каком смысле?
Партнер наклонился через столик, дернул губы в усмешке.
— Назови иначе, дочка. Апаш и под дулом пистолета не пойдет работать или воевать. Его судьба — грабить, резать глотки. И танцевать. Это мы умели, Эльза! Но за грабеж светила Кайенна, убийцы играли в кегли собственной башкой… А за танцы стали платить, и очень-очень прилично. Мода, высший парижский шик! Если за ночь в танцевальном зале дают сотню долларов — настоящих, серебряных, с орлом! — какой дурак станет рисковать головой? Вот и перевелись апаши.
Жожо отхлебнул из бокала, ударил стеклянным донцем о скатерть.
— Я ничуть не лучше прочих, а вот ты… Мы все ненавидим бошей, Эльза, но ты не из них, другая совсем. Не спрашиваю, и ты, дочка, не отвечай, но… У вас в Берлине, наверно, тоже были такие же индейцы. И тоже хорошо танцевали.
Партнер не спрашивал, и партнерша могла не отвечать.
— Я научилась у мужа. Не так важно, что человек делает — ловит резиновый мячик или танцует «Апаш». Важно, чтобы он умел превращаться в мячик — и становиться настоящим апашем!
Бокал в руке старого бандита дрогнул. Не слишком заметно, чуть-чуть.
— Апашем нельзя стать, Эльза. Им можно родиться — и умереть.
5
Курц наверху на скальном козырьке, Хинтерштойсер ниже по уступу, между ними, тяжелой темной бусиной на толстом шнуре — рюкзак с готическими литерами. Второй, с первым уже разобрались.
— Выдай!.. Вира помалу!
Бусина дрогнула, зацепившись за выступ, и неохотно поползла вверх. Метр, метр, еще метр… Андреас провожал ее взглядом, стараясь не морщиться. Еще немного — и финиш. Можно считать, повезло. А ведь чуть назад не повернули!
Fick dich!
Эйгер, старый Огр, в очередной раз показал характер. В лагере и на склоне — ясный день. И тепло, хоть рубашку снимай. Но уже у трещины, что вела к Красному Зеркалу, их встретил туман, тяжелый и липкий, словно сметана из погреба. На два метра видишь, а дальше белая клубящаяся стена. Чуть не накрылась заброска, но все-таки решились, поползли дальше, к Зеркалу.
…Выше, выше, еще метр, еще…
— Пойма-а-л!..
Курц! Хинтерштойсер вытер рукавом мокрый лоб. Порядок! Можно дыхание перевести — и даже перекреститься. Везде свои приметы, с маршрута дозволено и свернуть, чтобы продолжить на следующий день, на второй, на третий — и вновь до результата. Но заброска должна пройти удачно и только с первого раза. Иначе пути не будет.
— Мочаль!
Андреас поглядел наверх, прямо в белый туман.
— Мочалю-ю-ю!..
* * *
Крюк — острием к скале, молоток, веревка. Ног у рюкзака нет, нет и крыльев, но оставлять его без привязи опасно. Сбежит, и следов не найдешь.
— Стой!
Рука с молотком дрогнула. Курц оглянулся, моргнул удивленно.
— Левее, — рассудил Хинтерштойсер, — в самый угол, а то снесет первым же камнем. Знаю я эти скалы! И другой рюкзак туда же.
Тони спорить не стал. В угол так в угол. Тук-тук-тук! И еще раз — тук! Теперь веревку — в кольцо, затянуть, проверить… Годится? Годится! Стреножили.
— Курим?
Под ногами пропасть, отвесная влажная скала, но ее не видно. Туман! И сверху туман, и с боков. Огонек зажигалки вспыхивает неохотно и тут же гаснет. Еще раз!..
— По прогнозу завтра с утра опять дождь, а потом переменная облачность и сильный ветер. Это внизу, а что будет здесь, тролль горный не разберет, — Курц, с сигаретой у рта.
— Из итальянцев пойдут только Чезаре и Джакомо. Австрийцы отказались все, кроме, понятно, Ангерера и Райнера. Но эти с «эскадрильей», своя своих познаша, — Хинтерштойсер, тоже с сигаретой, но потухшей. Затянулся раз — и забыл.
Белая мгла повсюду, обступила, надвинулась. Ни дна ни покрышки! Туман заползает за ворот, лижет щеки, дышит сыростью в лицо.
— В дождь идти нельзя, накроемся сразу. «Эскадрилья» будет мочалить послезавтра утром и то не с рассветом, а когда солнце повыше поднимется. Там же еще кино, митинг, пляски у знамени под барабан… — Тони, уже без сигареты.
— Если завтра вечером не будет дождя, выходим после полуночи, часа в два. Плохо, что новолуние, придется на ощупь. Ничего, пройдем!
Ответа Андреас не ждет. Его и не будет, Курц даже не кивнет.
Оба встают разом, четко, словно по команде.
Решили!
* * *
У старика Огра много сюрпризов в запасе…
Хинтерштойсер упал на самом последнем спуске. Как и почему, сам не понял. Дюльферял по всем правилам — веревка пропущена между ног, обхватом через правое бедро, поднята через грудь, в левую руку зажата. Правая тоже при деле, скорость регулирует. Не спешил, не зарывался, уже и камень успел подошвой нащупать. Веревка-предательница почему-то ослабла, выскользнула из ладони…
Ganz plemplem!
Раз — и на боку! Два — больно. Три — очень больно…
Справился, вскочил, головой помотал. Потом, как и положено, вдохнул поглубже — себя прочувствовать. Раз, другой, третий… Главное, чтобы кости были целы.
Каменная Дева Баварская, не попусти, выручи!..
Успокоился, даже попытался улыбнуться. Ноги держали, руки двигались. Болели только ушибленные ребра и еще правое бедро — место, откуда нога расти начинает, но только сбоку. Ерунда, если подумать.
Андреас так и подумал. Надавил там, где совсем невтерпеж, зашипел, ругнулся негромко. Куртку поправил и стал дожидаться Курца.
Другу Тони ничего не сказал. И так забот хватает[73].
6
— Галстук нужен? — каменным голосом вопросила Герда. — Если что, в шкафу, слева на дверце.
Марек, еще поглядевшись в зеркало, провел расческой по волосам, пиджак одернул.
— Обойдусь, — рассудил. — А почему таким тоном?
— Я же портфель. Не забыл?
Девочка подошла к столу, взялась за телефонную трубку.
— Можно, я Ингрид позвоню? Если она в номере, ты меня сам туда отнесешь и у двери поставишь. А я на замочек закроюсь.
Мужчина, не возразив, подошел к балконной двери. Эйгер-Огр был в сизой вечерней дымке. Он попытался представить, каково сейчас тем, кого нелегкая занесла на ледяные склоны, но память, своенравная хозяйка, подсказала иное: черная речная вода, прилипчивый гнилостный дух прибрежного тростника, желтый луч фонаря, темные пятна на простреленных гимнастерках. С детства он боялся покойников, и даже не мог вообразить, что сможет спокойно и методично расстегивать нагрудные карманы, складывать стопкой липкие от крови документы, вглядываясь в мертвые лица.
— Напейтесь! — велел ему мистер Мото.
Приказ Марек выполнил, хотя и очень опасался, что после первой бутылки к нему неслышно подступят четверо в светлой полевой форме. Случилось иначе — к нему пришла ОНА.
«Титаник-вальс»…
А если и в сам деле занесет на ледяную вершину? Раз — и там! Кого он встретит на каменном темечке?
— Мне не нравится, — сообщила Герда, подходя и становясь рядом. — Гора — она солнце заслоняет. Вроде как тучу в землю вкопали… Можешь меня никуда не относить, Кай. Ингрид в номере нет. Ушла.
Подумала немного.
— Это плохо.
— Потому что сразу в троих влюбилась? — уточнил Марек, берясь за шляпу.
Девочка взглянула выразительно.
— Это не смешно, Кай.
Марек Шадов вспомнил виденный им неясный силуэт. Ничего особенного, зубочистка в бриллиантах и в платье из журнала мод.
— Такие, как она, Герда, много о себе воображают. Принца ждут, чтобы на белой лошади приехал — и в ножки упал. Некоторым приходится ждать очень долго.
Сказал — и язык прикусил. Поздно! Сзади сердито засопели.
— А принцы, между прочим, по вечерам неведомо куда уходят. И даже галстук не надевают. Вот возьму — и спрошу!
Марек взялся за дверную ручку, оглянулся.
— Вот возьму — и отвечу.
Герда покачала головой:
— Не надо, Кай. Я же маленькая, а не глупая… Может, все-таки дать тебе пистолет?
* * *
— Ничего не успеваю, Марек, хоть плачь! Завтра утром еду в Берн по делам клиентов, а там паника, немцев ждут. Швейцария обратилась в Лигу Наций за защитой. Не выйдет, Конфедерация-то и вступила в Лигу с условием, что иностранные войска не будут входить на ее территорию. Словами Гитлера, увы, не удержать. Из Берлина обещают прислать кого-то важного для подписания документа об особых правах немецких кантонов, а в Вене, между прочим, завтра плебисцит по поводу аншлюса. Такая вот «Песнь о Нибелунгах»… Это понятно, а вот что с вами, Марек, делать, ума не приложу.
— Ничего делать и не надо, мистер… Ну, никак не привыкну, Лекс! Давайте прикинем… Приедет кто-то важный, подпишет, не подпишет — это еще два-три дня. Войска с ходу не введут, сначала ультиматум, статьи в «Фолькише беобахтер»… На все — неделя, не меньше. Кроме того, сейчас в отеле целая толпа в черной форме с киношниками. Не думаю, что сюда сбросят воздушный десант, им Северная стена нужна. А мы с девочкой дождемся Ильзы — и спокойно отчалим.
— Спокойно — не выйдет в любом случае, Марек, уж поверьте. Но — допустим. Однако в ваш план следует внести одно очень важное уточнение. Если увидите своего брата — бегите немедленно, даже не думая.
— Белый клоун, Черный клоун… Принимается. Сам бы я не уехал, взглянул бы в глаза, но Герда… Нет, не хочу рисковать.
— И правильно. А у меня к вам, Марек, будет просьба. Присмотрите пока за баронессой фон Ашберг-Лаутеншлагер. Она — из числа моих клиентов, хотя об этом и не догадывается. Ваша дочь ее знает.
— Ингрид? А-а… А как за ней присматривать?
— Инфантильная особа с претензиями не по уму — и, одновременно, не слишком счастливая девушка, к тому же, подозреваю, невезучая почти до безнадежности. В общем, назначаю вас, Марек, доктором Ватсоном. Крутитесь! Полезет на Эйгер, берите за ухо и тащите вниз.
— А мне на Эйгер можно?
— Можно, Марек. Только вернуться не забудьте.
* * *
Индеец — горбоносый профиль под густыми перьями — обнаружился прямо над колесом, рядом с номером. И в целом мотоцикл пришелся Мареку по душе — сильный красно-черный зверь с наглой надписью «Dollar» на всех возможных поверхностях. А уж рычит, заслушаться можно!
— Садитесь! — Роберт-пилот, успевший удобно устроиться за рогатым рулем, кивнул на заднее сиденье. — Как говорится в одном романе, «Jeh, prokachu!»
Встретились у Нового корпуса. Летчик возился с мотоциклом. Увидев, махнул рукой, заулыбался. Нашел клиента!
— Садитесь, садитесь! Техника надежная.
Марек, однако, не спешил. Роберт ему понравился, мотоцикл тоже, но вот грунтовка, особенно та, что после поворота… Трава, острые камни, пара весьма подозрительных колдобин. Сначала тряхнет раз, потом еще, еще…
— А может, я свой «Лоррен-Дитрих» возьму? Его только завтра разбирать начнут. Дорога больно паршивая.
Грозный рык смолк. Роберт, взглянув странно, не спеша слез с мотоцикла. Подошел ближе.
— Не хотел вам говорить. Вы, Марек, не мой подчиненный, слушаться не обязаны…
Бесцветные глаза ударили нежданным огнем.
— Иначе бы я снял вас с задания и отправил на родину с таким рапортом, что вашей недоступной мечтой стала бы должность участкового где-нибудь за полярным кругом.
Марек Шадов сказанное оценил. Но не проникся.
— А что такого? «Народный автомобиль — показательный рейс!» У меня и документы есть. Общество «Сила через радость», там столько идиотов, что всякий поверит.
— Нет, Марек! — Летчик безнадежно вздохнул. — Это уже трибуналом пахнет. С ума сошли? Одна из самых престижных машин в Европе, да еще французская! Это после того, как Гитлер запретил выпускать «Хорхи», потому что «Летящее ядро» не по карману рядовому немцу?[74] Представляете, какие пошли разговоры? А потом вся Германия увидит настоящий «народный автомобиль», сравнит… Да лучшей антифашисткой агитации и придумать нельзя!
— Тогда чем вы недовольны? — искреннее удивился шеф показательного рейса.
Роберт сглотнул, попытался что-то ответить, но не выдержал — захохотал.
7
Возле стеклянных дверей отеля Хинтерштойсер окончательно убедился, что все в полном порядке. Ничего не болит, даже не беспокоит, хочешь, гуляй, хочешь — на месте стой. При одном, правда, условии — все надо делать очень медленно.
И еще шум в ушах. Откуда взялся, совершенно непонятно. Прямо морской прибой. Волна за волною: «Ш-шух! Ш-шух!..»
Волны Андреас смело проигнорировал, делал же все, не слишком торопясь. Помылся голышом под краном… Постоял, пока не начал дубеть… Затем принялся одеваться, тоже медленно, по подразделениям. Носки, рубашка, брюки. Лишь накидывая пиджак, сообразил, что зачем-то надел костюм, вещь в палаточном лагере совершенно лишнюю. Подумал — и побрел к отелю. В бар пустят, а там коньяку взять можно. Не слишком много, в самый раз, чтобы только подлечиться. Нет-нет! Он совершенно здоров, но… Скажем, для пущей бодрости.
Одно хорошо: Курца куда-то унесло. Сразу после заброски друг-приятель скинул куртку, свитер наскоро почистил — и был таков. То ли к итальянцам в гости обещался, то ли к австрийцам. И ладно!..
Швейцар, не став ничего переспрашивать, распахнул дверь. Хинтерштойсер хотел поблагодарить, но в уши ударила очередная, особенно забористая волна.
Ш-ш-шух! Ш-ш-ш-шух!
Что-то все-таки сказал, но что именно, сам не понял. Новая волна ударила, подхватила, понесла (Ш-шух! Ш-шух!), и стать на твердый грунт Андреасу удалось только с третьей попытки. Когда же прибой слегка поутих, он обнаружил, что бар остался позади, перед ним же — ступеньки, ведущие на второй этаж. Справа — лифт, зеленая кнопка, чугунная дверь, слева — баронесса. Не в мятой куртке, но во всем своем блеске, хоть глаза закрывай. И мундштук при ней, заряженный, с сигаретой.
— Добрый вечер, Андреас! Могу узнать…
Это услыхать успел, а дальше снова «Ш-шух!» да «Ш-шух!..». Оставалось наблюдать, как сверкают камни в диадеме Ингрид фон Ашберг-Лаутеншлагер Бернсторф цу Андлау и как постепенно меняется ее лицо. Все это было не слишком приятно, поэтому Хинтерштойсер пару раз честно пытался что-то сказать, объясниться, но незримые волны захлестывали, заглушая голос. Северное небо в ее глазах светилось недоумением, разочарованием… гневом. Андреас все понимал, все чувствовал, но проклятые волны становились сильнее и круче, а затем вернулась боль. Вцепилась в бедро, в ребра, расползлась по телу…
Спасения не было. Но спасение пришло. Чья-то теплая ладонь легла на затылок. Нажала, пробежалась пальцами по загривку, по острым косточкам позвоночника…
— Кажется, я испортила мизансцену, Хинтерштойсер?
Легкий шелест. Очередная волна плеснула, уползла вспять… Высокая широкоплечая женщина с крючковатым носом уже не в белом пиджаке, в темном вечернем платье, поглядела прямо в глаза.
— Никогда бы не стала вмешиваться в твою личную жизнь, но мне не понравилось, как ты стоишь, мальчик.
Дрогнула губами:
— Где?
— Ребра справа, — честно пожаловался он. — И бедро, онемело совсем. Помнишь, Хелена, мы с тобой познакомились, а на следующий день…
— Заткнись. Хватайся за шею!
Хинтерштойсер промедлил. Было крайне неудобно перед Ингрид. И не хотел, но обидел, причем совершенно непонятно чем. А теперь и вообще стыдоба.
Долго рассуждать Андреасу не дали. Не пожелал сам хвататься, схватили его. Да так, что не пошевелиться.
— Это называется «травма», госпожа фон Ашберг, — ледяным голосом пояснила ведьма из «Гензель и Гретель». — А само состояние — «посттравматический стресс». Мальчик приполз искать защиты, между прочим, у вас. Но мизансцена была неплоха, признаю. Вы, госпожа фон Ашберг, талант, хотя и несколько своеобразный… Врача вызову сама, не беспокойтесь.
— Н-не ругай ее, — сумел выговорить Хинтерштойсер. — Она же… Она не понимает ничего.
Лицо Ингрид внезапно оказалось совсем рядом.
…Бледное северное небо. Отчаяние. Страх.
8
Бумажная Луна[75] получилась роскошной и праздничной, почти на весь потолок. В самом центре, вместо кратеров и безводных морей, два четких контура — он и она, сплетенные в танце. Декорации просты и незамысловаты: мостовая в брусчатке — и дома темными пятнами. Два окна светятся, издали напоминая чьи-то недобрые глаза.
На сцене — пятеро. Он — худой очкарик, костюм не по росту, нелепый котелок, словно у Чарли Чаплина, она, гибкая кошечка в изящном чепчике и коротенькой юбке — и три черные тени без одежд и лиц. Кульминация! Кошечка под плач саксофона изящным маневром отступает назад, очкарик в ужасе прикрывает котелок ладонями, тени же подступают все ближе, окружают, растут…
Оркестр, нагнетая темп, лихо наигрывает «Мою милую Бабетту» из «Мадемуазель Нитуш» Флоримона Эрве в бесцеремонном переложении для джаза. Слова не нужны. Немудреная история простака и хитрой девицы, заманившей наивного воздыхателя в темный закоулок, разыграна в танце со всеми подробностями. «Весь от страха холодея, в темноте Каде дрожал. Вдруг выходят два злодея, и у каждого кинжал…» Расщедрившийся постановщик выпустил на сцену лишнего злодея, а вот кинжалы убрал. Ни к чему, это всего лишь комедия. «Говорит опять Каде: Моя милая Бабетта, странно это, странно это, странно это, быть беде…» Никакой беды не случится, сейчас тени отступят, и Каде-простофиля останется в одном трико телесного цвета. Котелок ему, впрочем, оставят — в качестве библейского фигового листа. «Для одних грабеж беда, а другим и горя нету, странно это, странно это, странно это, господа!»
Женщине были по душе и очкарик Каде, и кошечка Бабетта. Талантливы, молоды, красивы. Ее, правда, не любят, причем крепко. В обычные дни их номер — гвоздь вечерней программы «Paradis Latin», одного из лучших кабаре Парижа. Но два-три раза в месяц на сцену выходят они с Жожо.
В «Латинском Рае» она работала третий год. Об этом ничего не знали ни муж, ни О'Хара. Марек был далеко, боссу же свои нечастые, но регулярные отлучки женщина объяснила просто: завела любовницу. Такое не афишируют даже в помешанном на нежных чувствах Париже.
— Дожили! — резюмировал О'Хара. Подумал и махнул ручищей: — Валяй!
Их номер объявляли заранее, чуть ли не за неделю. Билеты раскупались с лету, даже в «мертвые» летние месяцы. «Эльза и Жожо. „Апаш“ — танец смерти!». Постановщик угадал идеально. На той же сцене, под той же бумажной Луной, где только что разыгрывалась немудреная комедия, зрителям предстояло увидеть кровавый фарс.
Апашем нельзя стать. Им можно родиться — и умереть.
* * *
Танцевать ее учили с детства, но «Апаш» женщина впервые увидела не на сцене, а на белом полотне киноэкрана. Один из самых ранних звуковых фильмов, почти след в след знаменитому «Певцу джаза». Сюжет столь же немудрящий: молодая актриса ищет работу, и молодой актер ищет, находят же они, как и положено в Голливуде, друг друга. Весь Шанхай рвался в кинотеатры. Звук! Звук! Великий Немой заговорил!..
Звук ей не слишком понравился, как и весь фильм. Но «Апаш» поразил. Вначале женщина даже не сообразила, что это танец, приняв его за неплохо поставленную поножовщину. Потом ощутила ритм, всмотрелась, вслушалась. Кажущийся хаос распался на череду тщательно выстроенных головокружительных трюков, намертво сцепленных кровавым сюжетом. Вечный любовный треугольник с маленькой поправкой: Он, Она и Смерть.
Две «медовые» недели кончились быстро. Надо было спешно завершать дела и покупать билеты на пароход («Не огорчайся, Марек! У нас — отдельная каюта!»), но женщина все-таки нашла время, чтобы навести справки. В Шанхае никто не танцевал «Апаш», но один из старых «пехотинцев» О'Хары, дезертир из французского Иностранного легиона, вспомнил о своем дяде из предместья Сен-Жермен, дал адрес и написал короткую записку.
— Сто франков, мадам! — сказал ей Жожо при встрече. — Это за разговор. За все остальное — отдельно.
Эти деньги он отдал ей через два года. Женщина отказывалась, но старый апаш настоял.
— Я принял тебя за очередную дуру из богатеньких. Кто же знал, Эльза, что ты — наших кровей?
* * *
Пуста сцена, белым прожекторным огнем горит бумажная Луна. Зрители молчат, стих даже вечный «парижский» кашель. Дирижер обернулся, палочка в руке вот-вот дрогнет… Ничего уже не изменить, не повернуть назад, можно только вперед, на сцену, на брусчатку, в узкий переулок между черными домами.
Эльза и Жожо. «Апаш» — танец смерти!
Ваш выход!
9
— «Plenniki Zemli»… — Капитан Астероид был явно удивлен. — Net, ne slyshal. Avtor kto?
Марек Шадов на миг замялся. Не так-то легко говорить на межпланетном языке!
— Kakoj-to Manuil Semenov. Izdano, esli ne oshibajus', v Harbine.
Звездный герой кивнул и, проявив такт, перешел на общепонятный «хохдойч».
— За сведения спасибо. Проверим! Интересная, Марек, ситуация вырисовывается. Кто-то уже не первый год вбрасывает информацию о самых секретных разработках. Да так, что не сразу поймешь и не ухватишь. Бульварные книжонки, такие вот лекции, как ваши…
Капитан Астероид попался правильный, точно как с картинки. Шлем, тяжелые «летные» очки, перчатки до локтя, широкий пояс, за спиной вместо рюкзака — плоский металлический блин в плотном чехле из кожи. И разговор вел вполне по-геройски — стоя в воздухе. Не слишком высоко, всего в метре над землей. Не летал, не кружился. Стоял. Ноги на ширине плеч, руки на груди сложены. Залюбуешься!
Любоваться звездным героем пришлось задрав подбородок, но Марек Шадов, он же циркач доктор Эшке, ничуть не возражал. А больше никого, если не считать бывший истребитель «Ньюпор-Деляж-29», в ангаре не случилось. Обидно, право слово! Улетит Капитан Астероид на очередную битву с Черным Злодеем, дабы Вселенную от верной гибели спасти, и даже не расскажешь. Кто такому поверит? Сам Марек, к примеру, так до конца и не осознал. Видеть — видел, слышал, разговоры вел, но где-то в самой глубине сознания тревожно звенел маленький стеклянный колокольчик: «Нет! Нет! Перекрестись! Нет! Дзинь!» Приходилось успокаивать себя словами неизбывного оптимиста доктора Эшке. «Что мы узнаем завтра?»
Завтра наступило.
— С фантастикой пусть начальство разбирается, — продолжал герой, смело игнорируя сомнения в собственной реальности. — Приказ у меня другой. Аппарата два, и оба следует испытать, причем в совместном полете. Так сказать, нащупать границы возможного. Управление самое простое, нечто вроде гироскопа, освоите быстро. Перчатка — главный штурвал, на поясе — запасной. Смотрите, Марек!
Правая рука еле заметно дрогнула. Отважный Капитан неспешно поднялся под самую крышу, с достоинством сделал сальто и неторопливо, словно от поверхности воды, опустился вниз, на тот же метр от пола.
— В общем, будем с вами, Марек, figurjat'. Как это лучше перевести, а? Нет, слаб немецкий язык!.. Вопросы?
Отставному филологу-германисту очень захотелось почесать затылок под шляпой ради стимулирования умственных процессов.
Сдержался, хоть и не без труда.
— Я, конечно, в шпионских делах мало понимаю…
— И кто это говорит? — сверху весело засмеялись. — Вы сколько лет с майором Вансуммереном работали? Семь? Больше? Не прибедняйтесь, Желтый Сандал!
Марек прищурился.
— Значит, кто-то другой мало понимает. По уму эти аппараты следует немедленно перебросить через границу и там уже испытывать хоть десять лет…
— …А не светить на всю Европу.
Бесстрашный герой вновь шевельнул перчаткой. Подошвы тяжелых ботинок мягко коснулись пола.
— Летал всего пару раз, ночью, понятно, но по отелю уже слухи пошли — об очередном неупокоенном призраке с Норванда. А уж когда вдвоем приспособимся…
Очки, металлический шлем, кожаный подшлемник… Был Капитан Астероид — стал Роберт-пилот. И глаза те же, и улыбка с хитринкой.
— Все зависит от поставленной задачи. Аппараты переданы нескольким странам. Франция, Чехословакия, Великобритания. Теперь еще и мы. Порядок улавливаете?
— Противники Гитлера, — понял Марек. — И Гитлер должен об этих аппаратах узнать. То есть узнал уже.
— Именно.
Роберт принялся отстегивать блин-рюкзак. Снял, подержал на весу.
— Вся хитрость — в этом. Вскрыть основное устройство, чтобы скопировать и пустить на поток, невозможно. Получите расплавленное месиво: металл, пластик, провода, какие-то кристаллы. Французы так оба свои аппарата потеряли. Внутри что-то невероятное, не удивлюсь, если и в самом деле неземное. Нам пока не по уму, если вас же процитировать. Но Гитлер этого не может знать наверняка! Значит, опаску будет иметь. Вдруг через полгода на Берлин спустится с небес целая дивизия? Во всяком случае, мне так объяснили.
За рюкзаком — пояс, за поясом — перчатки…
— Ну что? Рискнете? Безопасность гарантирую, проверено.
Трудно удержаться от соблазна! Марек Шадов все-таки провел ногтями по затылку. Полегчало, пусть и не сильно.
— Ну… Давайте попробуем.
И не выдержал:
— А может, и с фантастикой разберемся? Я-то был уверен, что на лекциях байки пересказываю. Выходит, Козел не ошибся? Но если в книжках правда, то нам на головы еще и Аргентина свалится. Астероид, чуть больше сотни километров в диаметре!..
— «А любовь мелькает в небе, — негромко пропел пилот. — Волну венчает белым гребнем. Летает и смеется, и в руки не дается. Не взять ее никак!» Жаль времени нет, а то бы с удовольствием послушал вашу, Марек, знаменитую лекцию. Байки, сказки… Вдруг там есть за что ухватиться? Если вспомнить не танго, а марш… «My rozhdeny, chtob skazku sdelat' byl'ju…»
…Preodolet' prostranstvo i prostor, Nam razum dal stal'nye ruki-kryl'ja… —охотно подхватил читавший Чехова Марек Шадов.
— Совершенно верно, — уже без всякой улыбки согласился летчик. — Именно этим мы с вами и займемся.
10
Им незачем встречаться, но они — встретились.
Ночь…
На нем — рубашка с большим отложным воротником, открывающим горло, широкие расклешенные брюки, яркий шейный платок, кепка, четырехугольный картуз «домиком», широкий пояс, в зубах — папироса.
На ней — черное вечернее платье, гладкий, ничего не скрывающий шелк. Вместо шейного платка — сверкающее камнями ожерелье. Темные перчатки, маленькая смешная сумочка.
Двое — и белая бумажная Луна.
Бежать некуда. Пуст переулок, окна-глаза и те погасли. Женщина, ее сумочка, бриллианты, платье, трепещущее тело, в полной власти апаша, мастера ножа. Тот знает это и не спешит, растягивая удовольствие. Подходит медленно, враскачку, без особой нужды поправляя кепку, окидывает жертву выразительным взглядом…
Женщина замирает, перестает дышать. Она бы охотно притворилась мертвой, но поздно, и живая, доступная, становится добычей в чужих безжалостных руках.
Нелепая сумочка улетает прочь. Блестят сорванные с горла бриллианты…
— Это обычный вальс, Эльза, — объяснял Жожо. — А еще акробатика и много киков ногами. Остальное и главное — театр. Представь, что ты кошка, которую хотят утопить.
Женщине не хотелось становиться кошкой.
— Я — не Бабетта. Это ей положено мяукать и вертеть хвостом. Я стану змеей!
Черный шелк…
После бриллиантов настает черед тела. Ладони апаша ложатся на ее бедра, скользят выше, вцепляются в плечи. Что можно сделать? Как помешать? Женщине не под силу…
Зато под силу змее!
Торжествующий апаш на какой-то миг ослабляет хватку — и змея обвивается вокруг его шеи. Захват прочен и нежен, руки-кольца молят и одновременно сдавливают, смыкаясь на горле. Апаш отступает на шаг… Рывок!.. Змея падает, катится по брусчатке, свертываясь в черный каучуковый мячик. Останавливается, бьет взглядом — и снова вперед, к его горлу. Умолять — и душить! Руки-кольца нежно ложатся на плечи, на лице по-прежнему отчаяние и страх, но хватка крепчает, ладони ползут к шее с ярким платком…
Падает! Кидается вновь — и снова падает. Апаш бьет ногой, пытаясь достать верткий черный шелк… Мимо!
И — снова бросок.
Падать — не самое сложное, хотя синяки доставались женщине регулярно. Куда труднее успевать, выдерживая ритм, но особенно следить за лицом. Тело — черная змея, ведет бой, в глазах же, как прежде, ужас, губы шепчут, моля о пощаде… Приходилось вспоминать старые немые фильмы, запоминать, фиксировать.
— За двадцать шагов видна лишь маска, — соглашался с ней Жожо. — Не бойся кривить рожи, Эльза, для зрителей будет самое то.
Апаш не слабее змеи. Змея не слабее апаша. Сцеплены объятия, тела кружатся в танце. Ярко горит бумажная Луна. Женщина откидывается назад…
…Кик ногой!
Апаш наклоняется, становясь похожим на хищную птицу, губы тянутся к губам.
Самый обычный вальс, короткие минуты отдыха. Но публика не замечает, смертельная схватка в самом разгаре. Пуст переулок, окна темны, и никто не желает уступать.
* * *
Апашей соблазнили серебряными долларами. Сто за ночь, десять — за один танец. Этого женщина не знала.
Гитлер, из апашей апаш, получал куда больше. Это ей было известно. Вначале женщина только догадывалась, а затем на ее стол легли документы — цифры, имена, названия банков.
— Я циник, Лиззи, — заметил по этому поводу босс. — Но подобное уже за гранью. Такое впечатление, что наши кошерные банкиры платят мерзавцу за Нюрнбергские законы. Хотят, чтобы евреи бежали из Германии? Но зачем и куда? Британцы не пускают их в Палестину, и в Штатах им не слишком рады. Какой смысл прикармливать бандита? Если бы это было в Мексике, я бы еще понял. Но Ефрейтор — не Панчо Вилья!
Тогда она не знала, что ответить. Помог Жожо с его рассказом. Если за ночь в танцевальном зале дают сотню долларов, какой дурак станет рисковать головой? Куда спокойнее разыгрывать историю любви и смерти на сцене. Но если апаш привыкнет к дармовому серебру, а танцевальный зал внезапно закроют?
— Все банки частные, — констатировал О'Хара. — В Белом доме не хотят пачкаться.
Теперь она понимала, что дело не только в имидже «законно избранной» власти. Государство отвечает за свои действия, хотя бы на словах. Спрос с банкира совсем другой, сегодня он на Уолл-стрит, завтра — в бразильской сельве с фальшивым паспортом в кармане. Ничего личного, просто business.
Гитлер борется с безработицей, строит автобаны, обещает каждой немецкой семье «народный автомобиль». Олимпиада, цеппелины над океаном, реконструкция Берлина. Внутренний долг такой, что и за сто лет не расплатиться. Доллары — настоящие, серебряные, с орлом! — позволяют сводить концы с концами.
Женщина поняла, в чем тайна будущей европейской войны. Судеты, Австрия, испанский мятеж — всего лишь фигуры Apache Dance. Надо ждать, когда кто-то незримый, но всесильный, запрет двери танцевального зала. Апаш и под дулом пистолета не пойдет работать или воевать.
Гитлер, пусть он и апаш, воевать пойдет.
* * *
Вальс-перемирие недолог, как и всякий обман. Апаш сжимает объятия, чтобы сковать, обездвижить, лишить последних сил. Женщина в смертельном ужасе закрывает глаза. Она проиграла, она — бессильная покорная жертва.
Бросок!
Змеям нельзя верить. Змею опасно обнимать. Теперь уже апаш катится по брусчатке, вскакивает, яростно кидается вперед, пытаясь ухватить черный шелк.
Бросок! Бросок! Кик ногой! Удар! Еще, еще… Теперь уже не она — жертва. Не ей уклоняться и вертеться ужом, спасаясь от верной гибели.
Удар! Мимо! Подсечка! Змея слишком увлеклась, слишком рано поверила в победу. Она на брусчатке, апаш бьет ногой, жестоко, что есть сил. Женщине больно, она вновь сворачивается в черный блестящий клубок, победитель радостно скалится…
Подсечка! Повержены оба.
Кто встанет первым?
Жожо разменял седьмой десяток. Крепок, сух в кости, быстр, словно пуля. Но годы, годы…
— Чаще раза в неделю выступать не смогу, Эльза. Я же потом пластом лежу два дня, внуков пугаю. Один раз, представляешь, даже кюре позвали. Спятили совсем! Апаш — не цыган, с попaми не дружит.
Он занимал у партнерши деньги и редко отдавал. Женщина никогда не напоминала о долге. Жожо помнил и время от времени предлагал расплатиться кровью.
— Работаю чисто, дочка. Ты только пальцем укажи.
Она чуть было не указала на О'Хару. Однако в последний миг палец дрогнул. Некоторые вещи приходится делать самой, чтобы потом не было сомнений. Босс был по-своему мудр.
…Апаш вскочил первым, ненамного, всего лишь на краткий миг. Женщина опоздала ровно на столько, сколько надо, чтобы поднести руку к широкому поясу. Зубы змеи остры. Нож апаша — острее.
Луч прожектора дрогнул. Серебряная звездочка — на стальном острие.
…Скрипку взял скрипач слепой, приподнес ее к плечу. Что ж, апаш, станцуй со мной, я танцую — и плачу[76].Упасть он ей не дал. Подхватил, бережно опустил на брусчатку. Наклонившись, коснулся пальцами лица, поцеловал в лоб, а затем поймал зрачками черное ночное небо.
Бумажная Луна погасла.
* * *
— Здорово навернулся, с коленом что-то. Ты не виновата, Эльза, и я не виноват. Стар стал, в тираж выхожу.
— Лучше тебя нет, Жожо. Держись, апаш, надо еще «бисок» отработать.
За «бис» женщина не волновалась. Пока горят софиты, пока аплодируют, несут цветы и вызывают на поклон, можно слегка отдышаться. Она тоже ушиблась, и очень сильно, но боль придет позже. А сейчас в зале ненадолго исчезнет свет, чтобы вновь загореться, но уже не белым огнем бумажной Луны, а багровым тревожным контуром неведомой планеты. О Аргентина, красное вино!
Танго! Из Жожо получился бы превосходный тангейро. У него хватит сил. И у нее хватит!
А любовь мелькает в небе, Волну венчает белым гребнем, Летает и смеется, и в руки не дается, Не взять ее никак!* * *
Слежку женщина не заметила бы, но таксист оказался бдителен. Оглянулся пару раз, нахмурился, а потом резко свернул в ближайший переулок. Поглядел в зеркальце.
— Мадам! Признаюсь, этот «ситроен» мне крайне не нравится, мадам. У вас, вероятно, очень ревнивый муж, мадам.
Она поглядела в заднее стекло, запоминая. «Citroen Rosalie» 1932 года, темно-синий, если не лгут редкие фонари.
— Спасибо.
Таксист, однако, ничуть не успокоился.
— Я специально повернул сюда, мадам. Какой смысл им делать крюк, если речь идет не о вас, мадам? С мужем можно помириться ночью, если приложить достаточно стараний, мадам. Но вдруг это бандиты, мадам? Не остановиться ли нам у ближайшего комиссариата, мадам?
— Не стоит, — женщина улыбнулась. — Я — апашка.
11
Хинтерштойсер понял, что сейчас заплачет, и здорово испугался. Или наоборот, испугался до того, что едва сдержал слезы.
— Я должен встать! Обязательно. Сегодня! Ну… Завтра к вечеру, в крайнем случае.
Прозвучало не слишком убедительно. Трудно настоять на своем, когда лежишь голый под простыней на чужой кровати, к тому же в чужом гостиничном номере.
— Кому должен? — Ведьма из «Гензель и Гретель» склонилась над ним, оскалив острые зубы. — Курцу, что ли? Этот самовлюбленный нарцисс даже не полюбопытствовал, целы ли твои кости. Лучше молчи, Хинтерштойсер, а то злиться начну.
Андреас понял, что имеет смысл и вправду замолчать. Злиться Хелена умела и могла. К тому же кости были целы, лекарства сняли боль (ну почти), в каком же шкафу спрятана его одежда, Хинтерштойсер успел заметить и запомнить. А то, что доктор прописал три дня покоя… Мало ли что доктора пишут в своих бумажках?
…И не виноват Тони, не виноват! Он же Антониус Курц, а не Вильгельм Рентген!..
Кажется, не сдержался, вслух проговорил. Крючковатый ведьмин нос оказался совсем рядом.
— Хинтерштойсе-е-ер!
Теперь и язык прикушен. Поздно!
— Я хочу снять фильм. Хороший фильм, Хинтерштойсер! Там будут горы, снег и много крупных планов. Художнику без разницы, кто его натурщик — эсэсовец или «болотный солдат». Фюрер приказал Стену взять — и ее возьмут. Любой ценой — и тебе, мальчик, лучше не знать, какой именно. Спать крепче будешь!..
Андреас вспомнил слова Курца о таблетках и невольно вздрогнул. Женщина заметила. Оскалилась, высунула язык.
Лизнула — прямо в горячие губы.
— Они умрут, Хинтерштойсер. После того, что с ними сотворили, долго не живут. Эти белокурые парни уже калеки, големы на один рывок. Их отправят в Судеты или еще куда-нибудь — и торжественно похоронят. Крупный план… Это не спорт, мальчик, это scheisse-политика. А фильм останется. И ты останешься, Андреас. Когда-то я сделала тебя мужчиной. Не хочу, чтобы ты умер — или попал в Дахау. Впереди целая жизнь.
— Нет, — хрипло проговорил Хинтерштойсер, пытаясь поймать ее взгляд. — Впереди только Норванд, только Стена. Если я не пойду сейчас, Хелена, у меня не останется ничего! Совсем ничего, понимаешь?
Ай! Пощечина была настоящей, до звона в ушах.
— Идиот! Тебе двадцать три года, ты — лучший скалолаз Германии, земляки тебя на руках носят, девки сходят с ума. Я сниму о тебе фильм, каких еще не было. Только фамилию сократим, чтобы на афише вместилась… А еще я тебя бешено хочу, Хинтерштойсер — и всегда хотела. Тебе мало?
Андреас взял ее ладонь, приложил к горящей огнем щеке.
— Все это только будет, Хелена. Между мною и жизнью — Северная стена. Я должен ее пройти. Сейчас! И ты это знаешь.
Ее лицо исчезло. Андреас приподнялся на локте. Женщина стояла к нему спиной, сгорбившись, словно постарев сразу на много лет. И голос прозвучал незнакомо, хриплый, надтреснутый:
— Чего ты хочешь, мальчик? Что я могу сделать?
— Ты и так все уже сделала, — заспешил он. — Но… Помнишь, когда мы встретились, я тоже сильно разбился. А ты меня за день на ноги поставила. Ты умеешь, Хелена. Выручи!
Спина дрогнула.
— Хорошо. Только не смей меня потом благодарить, Хинтерштойсер. Я тебя не выручу, я открою тебе дорогу на Эйгер… В титрах не будет слов «The End». Только нетронутый снег — и пустое небо.
12
Вначале Марек хотел проследовать мимо, прямо к лифту. Мало ли кому захочется посидеть на ступеньках в поздний час? Но все же не удержался, взглянул. Вдруг что-то не так? И — поспешил подойти.
Девушка. Платье богатое, вроде как виденное. Лица же не разглядеть, в колени спрятано. Не человек, а какой-то ежик.
— Простите, вам помочь?
Ежик издал странный звук, словно он резиновый и продырявленный насквозь.
— Еще один помощничек. Оставьте меня в покое!
Совет был здравым, а голос подозрительно сиплым. Но мужчина все-таки рискнул. Протянул руку, нащупал подбородок. Развернуть ежа не удалось, но взгляда он все-таки удостоился. На ногах устоял, пожал плечами:
— Дело хозяйское. Но если Гертруда о вас спросит, я ей правду скажу. Не привык лгать.
— При чем здесь…
Баронесса Ингрид фон Ашберг-Лаутеншлагер Бернсторф цу Андлау попыталась встать, опираясь на руку. Не вышло, кисть подломилась. Марек Шадов, не став миндальничать, просто вздернул ежика за плечи и прислонил к стене.
— Вас куда оттащить?
Девушка взглянула мутно.
— Я… Я н-не пьяная. То есть я сама дойду. А вы — отец Гертруды, личность во всех отношениях положительная. О таких, как вы, даже слушать противно. Но если вы, герр Шадов, положительный…
Покачнулась, однако была поймана и возвращена на место.
— …Тогда скажите, положительный, почему я все ломаю? Хотела… Хотела помочь хорошим людям… Хотела… Много чего я хотела.
— Хотели — так помогите, — резонно рассудил Марек. — Только помогают обычно трезвые.
Пальцы с аккуратным маникюром нащупали ворот его рубашки. Мужчина порадовался, что не надел галстук.
— Вы… Вы как мой кузен. Он тоже… положительный. А я для него — зубная щетка. Как я помогу, герр Шадов? Андреас и этот… святой Антониус уйдут на Эйгер — и всё!
— То есть как всё? — удивился он. — Они уйдут на Эйгер, поднимутся, постоят на самой макушке. А дальше?
Муть исчезла из глаз. В бледном северном небе вспыхнула искра.
— Дальше… По Северной стене спускаться нельзя — смерть. Они пойдут по Западному склону. Но… В Германии их тут же арестуют! Или даже прямо здесь, наци не церемонятся. Арестуют — и…
Убрала руку, выпрямилась.
— Если не трудно, помогите добраться до номера, герр Шадов. Но сначала врежьте мне как следует. Можно два раза.
— Нельзя, — не без сожаления констатировал Марек. — Герда не одобрит.
Глава 8. Траверс Хинтерштойсера
Лягушка в Спортхалле. — Правдоподобное отрицание. — На два Эйгера хватит. — Кинем в небо. — Раз! Два! Три!.. — Два призрака. — Просто камешек. — Полтора рюкзака. — Железная Маска. — Не пройти и не проползти. — Полетное задание. — Дуэльный шрам.
1
«Excelsior», радиоприемник солидный, словно старый шифоньер из провинции, был, кажется, готов сорваться с места и пуститься вскачь по гостиничному номеру:
— …Один народ! Один Рейх! Вековечная мечта миллионов и миллионов немцев сбылась! Рухнули и расточились в прах все преграды. Австрия наша, наша, наша!..
В ответ — многоголосое эхо, белогривая, сметающая все волна:
— Зиг хайль! Зиг хайль! Зиг хайль!..
— Зло угрожало каждому человеку и даже ребенку великой германской нации. Мы должны были предпринять — и предприняли — шаги по обеспечению безопасности и защиты страны, народа, грядущего тысячелетнего Рейха. Германское единство — отныне реальный и неоспоримый факт!..
Эхо! «Excelsior», привычный к фокстротам и танго, натужно захрипел. Женщина, поморщившись, убрала звук. Перо паркера дрогнуло, проведя по листу бумаги неровную волнистую черту. Она хотела записать самое главное, чтобы обдумать на досуге, но куда важнее пустых звонких слов был шторм, бушующий в эти минуты под сводами Спортхалле. Волны не мыслят, не рассуждают, они просто бьют, снова и снова, безжалостно и беспощадно.
Гитлер выступал уже два часа, умудрившись ничего толком не сказать. Даже не произнес слово «плебисцит» и тем более не упомянул части вермахта, перешедшие австрийскую границу за два часа до начала голосования. Лондон глухо сообщал о боях возле Граца, а еще о том, что германские колонны, не останавливаясь, идут через австрийскую территорию к границе с Чехословакией. А на юге изготовились к удару венгерские войска.
— …Мерзкая, оплаченная деньгами загнивших плутократов, клевета на нашу, национал-социалистическую политику. Враги считают, что если говорить неправду достаточно долго, достаточно громко и достаточно часто, люди начнут верить. Но есть вещи сильнее денег, весомее их грязного золота. Это — наша правда, это — наша воля, это — единая, сбросившая версальские оковы Германия!..
Эхо! Женщина вновь убрала звук, записала «Враги» и поставила вопросительный знак. Ни Франция, ни Великобритания, ни Штаты помянуты еще не были. И о большевистском СССР, который полагалось ругать в каждой речи, фюрер словно забыл. Неспроста! Никто в Европе не попытался заступиться за австрийцев, даже Муссолини. Франция выразила «сожаление», британцы предпочли промолчать.
«Плутократы» тем и хороши, что их, как и вездесущих масонов, можно ловить под каждой кроватью всю свою сознательную жизнь. Есть еще евреи, но о них, как и о большевиках, вождь германской нации отчего-то запамятовал.
— …Ложь, ложь и ложь! Нас хотят поссорить со Швейцарией, нашей соседкой, где живут братья-немцы. Мы не хотим обострения конфликта. Мы лишь хотим помочь им в справедливом переустройстве Конфедерации, ставшей кормушкой для шайки…
Та, что танцевала «Апаш», невольно усмехнулась. Опять плутократы?
— …Безродных банкиров и торгашей!
Она оценила — и записала.
— Нас хотят представить врагами целой расы — славянской. Ложь! Мы противостоим Чехословакии, нежизнеспособной конструкции, задуманной и созданной в Версале. Однако наши отношения с другой славянской страной — Польшей с каждым днем становятся все лучше. Польша и Венгрия — надежный гарант стабильности на востоке Европы. В этот радостный час, когда осуществилась наша великая мечта…
«Excelsior» облегченно перевел дух. Звук снова убран, не придется хрипеть и рычать. На белой бумаге — два слова «Польша», «Венгрия». И снова — знаки, но уже восклицательные.
Женщина отложила в сторону паркер и протянула руку к стакану с виски «Dallas Dhu». Вспомнилось слышанное в комнате-склепе.
Нет! Лягушка в Спортхалле не всегда квакает к дождю.
2
— В Китае интереснее, — решила Герда. — Там барабаны были. И еще бумажные драконы.
Марек Шадов не мог не согласиться. Со стороны то, что происходило на смотровой площадке отеля «Des Alpes», выглядело не слишком серьезно. Черненькие фигурки резво махали руками, строились, расходились, а главное, все время орали. Если не прислушиваться, один в один собачий лай.
— Зиг хайль! Зиг хайль! Зиг хайль!..
Если же прислушаться, слова разобрать, выйдет еще хуже. Чистый швейцарский воздух начинал горчить.
«Эскадрилья прикрытия „Эйгер“» торжественно демонстрировала знамя со свастикой, которому предстояло вознестись над гребнем Норванда. На праздник звали всех, намекая, что есть шанс попасть прямиком в Историю. Женщина в белом пиджаке приступила к съемке своего великого фильма…
Мужчина в модном костюме, но без галстука, и светловолосая девочка в легком платье предпочли отойти от Истории подальше. Не всем по душе собачий лай.
— Ингрид занята, — Герда нахмурилась. — Очень-очень занята. Я ей звонила. Так что придется тебе оставить портфель в номере и запереть на ключ.
Марек развел руками.
— Извини, но я тоже…
— …очень и очень занят, — девочка кивнула. — Портфелю больше знать не положено. Я могла бы сильно обидеться, Кай. Но не обижусь. У тебя, как и у всех взрослых, искажение восприятия. Если мне десять лет, это не значит, что я проговорюсь или предам.
Мужчина присел, взял ее за плечи:
— Не предашь. Но так мне будет легче. И тебе тоже, Герда. Случиться может все. Представь, что даже я не смогу нас защитить. И тогда тебя станут спрашивать… Пополни свою коллекцию мудреных слов. «Правдоподобное отрицание». Ты скажешь «Нет!» — и рассмеешься им в лицо.
— Правдоподобное отрицание, — медленно проговорила девочка. — Запомнила, Кай. А представлять, что ты помочь не сможешь, не хочу!
Со смотровой площадки донеслись резкие звуки «Хорста Весселя». «Знамена ввысь! В шеренгах, плотно слитых…»
— Зиг хайль! Зиг хайль!..
«…СА идут, спокойны и тверды. Друзей, Ротфронтом и реакцией убитых, шагают души, в наши встав ряды».
— Ты права, — согласился мужчина. — Не представляй.
«Свободен путь для наших батальонов, свободен путь для штурмовых колонн!..»
— Хайль Гитлер!.. Зиг хайль! Зиг хайль! Зиг ха-а-айль!..
* * *
— Мне ящерица снилась, Кай. И теперь мне плохо.
— Ящерица была с хвостом или без хвоста?
— Можно я не буду смеяться? Кай, ты помнишь сказку о Снежной Королеве?
— Благодаря тебе — наизусть.
— Спасибо. Снежная Королева поцеловала Кая, и он позабыл и Герду, и бабушку, и всех домашних. Потом Кай спал в санях у ее ног, и ему было хорошо. А потом?
— Мерз в нетопленном замке и пытался складывать слова из льдинок. За слово «Вечность» ему были обещаны власть над миром и новые коньки. А Королева постоянно ездила в командировки по делам фирмы.
— Зачем Снежной Королеве это было нужно? Чтобы мерз и чтобы слова из льдинок? Кай ей нравился. Она его любила!
— «Если ты сложишь это слово, ты будешь сам себе господин». Не слишком понятно, согласен. Думаю, правду знала только Снежная Королева. Но — зачем-то было очень нужно. Может, дела фирмы?
— Может. Ты помнишь сказку наизусть? И я помню. «Кай совсем посинел, почти почернел от холода, но не замечал этого, — поцелуи Снежной Королевы сделали его нечувствительным к холоду, да и самое сердце его стало куском льда…»
3
Курц поставил диагноз с ходу:
— Dumkopf!
Подумал и добавил:
— Rotznase!..[77] Сказать не мог, что ли? Я заметил, что ты как-то боком ходишь, хотел спросить… Но ты же «категория шесть», Андреас! А если бы такое на маршруте случилось?
К приходу приятеля Хинтерштойсеру были выданы свежевыстиранные трусы и майка. А вот костюм из шкафа исчез вместе с обувью и носками.
— Ох, дать бы тебе, болвану, с носока в торец, чтобы на всю жизнь запомнил!
— Можно, — покорно согласился Андреас. — Меня уже били, ты Хелену знаешь. А Ингрид…
Курц поморщился.
— Не обращай внимания. Она почему-то решила, что ты с ней разговаривать не желаешь, вообразила невесть что. Потом плакала…
Отвернулся, кулак сжал.
— Ладно!.. Хелену твою, я, как ты догадываешься, не перевариваю, даже если с тушенкой. Но лечить она умеет, про ее секретную мазь легенды ходят. Сильно печет?
Хинтерштойсер поспешил принять страдальческий вид, хотя не пекло совершенно, пользовали же его не только мазью. Более того, как выяснилось, не всякая секретная мазь — лечения для. К счастью, внести ясность в этот вопрос оказалось некому. С ведьмой из «Гензель и Гретель» Курц столкнулся в дверях, когда та уже убегала на съемки. Был обруган, облит презрением — и оставлен в качестве сиделки. Андреас не мог не оценить того, что наряду с вручением ему трусов, Хелена не забыла сменить простыни.
— Печет — еще ничего, — рассудил он. — А вот массаж она как зверь делает. Потом лежишь, словно мертвый. Берется прямо за кость, и…
Курца передернуло. Помнил!
— Да, Хелена может… Но если она тебя, Андреас, на ноги поставит, лично за все извинюсь. Альпинист она неплохой, а человек… Вредная, конечно. Но фильмы хорошие снимает, особенно когда про горы.
«Торец» не был помянут, и Хинтерштойсер начал успокаиваться…
Ой, зря!
— Вот! — Тони извлек из кармана мятый бланк телеграммы. — Привет от родного вермахта. И здесь нашли! Рядовым действительной службы имярек категорически запрещается подъем на Северную стену. Причина: сложные метеорологические условия. И подпись: полковник Оберлендер. Значит, Андреас, если мы все-таки помочалим, то нарушим прямой приказ командования. Со всеми вытекающими. А еще у нас самоволка и преднамеренный обман все того же командования. Это я так, напоминаю.
Хинтерштойсер почему-то не удивился. И не расстроился.
— Не «если», Тони, а «когда». Оберлендер сам скалолаз не из последних, поди, завидует, что не ему идти. Хелена, между прочим, рассказала, что «черные» нас засланцами от вермахта считают. ОКХ дает бой Генриху Гиммлеру!.. И ребята в лагере так думают, не все, но многие. Будто бы мы на Стену — по приказу… Ну и вихтляйн с ними! Нам, Тони, на молоко смотреть надо.
Притчу про будущего министра он уже успел пересказать, поэтому Курц ничуть не удивился. Телеграмму спрятал, встал, шагнул к балкону, к распахнутой настежь двери. За нею — яркое летнее небо, облака… Эйгер.
— Про молоко… Я ведь куда спешил? Ну, сразу после заброски. Чезаре позвал — планом своим поделиться. Как младший товарищ со старшим…
Поглядел на белую вершину, обернулся:
— Лежишь? Вот и лежи, чтобы падать не пришлось. У них, у Чезаре и Джакомо, план точно такой же, как наш, один в один. Представляешь? Слушал я их и думал: сказать, не сказать?
— И? — Андреас даже на локтях приподнялся.
— Что — «и»? — Тони невесело вздохнул. — Чем мы им поможем? Итальянцы — ребята хорошие, но слабоваты, а на Стене нянек нет. Сказал, что у нас план похожий, но уточнять не стал. Правильно, что мы с тобой ночью уходим. Без нас они и до Первого Ледового поля не доберутся, назад повернут. Пусть опыт зарабатывают, полезно… Ты-то сам, Андреас, отсюда сбежишь? Постарайся, чтобы не позже полуночи.
Хинтерштойсер решил, что самое время обидеться. Тоже мне проблема! Балкон открыт, трусы в наличии, а до лагеря можно и босиком. Правда, Хелена… Вдруг вдогон кинется?
По коже поползли мурашки, но Андреас, робость преодолев, глянул соколом:
— В полночь — ровно! Ложись спать, я тебя разбужу. А пока давай еще раз прикинем насчет снаряги. Вдруг забыли чего?
— Веревку? — брови Курца взметнулись вверх.
Возможно, это была шутка, но Хинтерштойсер ответил серьезно:
— Лично уложил, на два Эйгера хватит.
Веревки уже наверху, в надежно стреноженных рюкзаках. Волноваться не с чего и незачем, но Андреас внезапно вспомнил, что пророк из Штатов выразился как-то иначе. Не «уложил», не припас в заброске, не спрятал…
«Не взял веревку, такая вот беда».
4
Бум! Точно по макушке, вроде как поленом. Хоть и шлем на голове, но тоже весьма чувствительно.
— Вниз! Руку вниз! — донеслось откуда-то из-под подошв.
Марек и сам помнил про руку. Подъем — кисть плавно вверх, спуск — то же самое, только наоборот. Но — растерялся слегка, слишком быстро все случилось. Только что стоял возле самолета, а теперь тоже стоит, но только шлемом в потолок упираясь.
— Плавно! Медленно! — подсказали снизу.
Роберт-пилот рассказал, что в этом и состоит главная трудность. Управление чуткое, дернешь рукой — и унесет со скоростью истребителя. Пусть не современного, а такого, как внизу скучает, но все равно — опасно. Потому предусмотрен учебный режим, чтобы не летать, а плавать. Но и к нему привыкнуть надо. Марек Шадов, несмотря на все старания, бился головой в потолок ангара уже третий раз подряд.
Кисть вниз. Пла-а-а-авно!..
Сперва было страшновато. Марек не то чтобы страдал боязнью высоты, но и не слишком любил удаляться от земли дальше чем на высоту стула. Однако успокоился быстро. Сколько ни поднимайся, внизу все равно будет опора, словно под ногами не пустота, а упругая твердь. Нажмешь — поддается, но не сильно. «Это не совсем полет, — туманно пояснил Роберт. — Скорее, перемещение в пространстве. Или даже — пространства. То ли ты двигаешься, то ли мир вокруг тебя».
О таких абстракциях Марек решил не думать. Не до того! Тут главное, чтобы пла-а-а-авно-о-о!..
Есть! Подошвы коснулись тверди — настоящей. Земляной пол ангара, «Ньюпор-Деляж-29», отставной истребитель и — Капитан Астероид при полном параде: шлем, пояс, блин-рюкзак, тяжелые перчатки.
— Ничего, освоитесь! — блеснули очки-консервы. — Но знаете, Марек, есть у меня мысль…
Снял перчатки, расстегнул ремешок шлема.
— Начинающих пловцов следует кидать в воду. А вас…
Без шлема — уже не Капитан, а просто Роберт-пилот.
— …Кинем в небо.
Марек Шадов чуть было не крикнул «Нет!» Сдержался, вдохнул поглубже.
— А-а… А когда кинем?
— А когда стемнеет.
* * *
Кофе пили там же, в ангаре. В одном из закутков пилот оборудовал маленькую кухоньку. Электричества не было, зато имелся примус, отчего чашка слегка попахивала керосином.
Мареку был предложен подозрительного вида стул с высокой резной спинкой, напоминающей готический собор, однако он, вежливо отказавшись, предпочел старый ящик с плохо читаемой готической вязью: «Юнкерс Флюгцойгверк».
— …Я мог бы ответить, что это — военная тайна, — Роберт щелкнул зажигалкой. — Но не скажу. Вычисляется на раз, стоит лишь подшивки газет полистать.
Прикурил, откинулся назад, прямо на готический собор. Стул угрожающе затрещал, и летчик поспешил выпрямиться.
— Вся эта непонятная техника появилась года три тому, причем сразу в нескольких точках. Полинезия, север Канады, Анды и где-то на Голубом Ниле. Это Англо-Египетский Судан, глушь невероятная. Никакая мысль в голову не приходит?
Бывший Желтый Сандал, офицер для поручений при странном японце, даже не стал пожимать плечами.
— Не приходит. И так все ясно. Испытания.
— Испытания, само собой…
Летчик встал, затянулся резко.
— А если следовать логике, то корень всего — где-то в самой недоступной точке Земли.
— Подкаменная Тунгуска, — ничуть не удивился филолог-германист, тоже бывший. — Прилетели гости с 61-й Лебедя, обосновались в тайге, а лет через двадцать вышли в люди. Для фантастического журнала — в самый раз. У вас за такие версии под трибунал не отдают?
Роберт взглянул грустно:
— А с 61-й Лебедя — почему?
Насчет трибунала уточнять не стал, Марек же, проявив чуткость, решил не настаивать.
— Больше неоткуда. Все, кто видели Тунгусский метеорит, утверждают, что он появился с юга. Угол наклона к горизонту — градусов семьдесят. Значит, то, что прилетело, двигалось от звезды с наклоном сорок градусов или немногим больше. Берем звездный атлас…
— Сами брали? — вздохнул пилот.
Вольфанг Иоганн Эшке гордо выпрямился.
— Сам! В университетской библиотеке. Открыл, закрыл и отдал назад… 61-я из созвездия Лебедя имеет склонение 38 градусов 15 минут. Расстояние до Земли — чуть больше одиннадцати световых лет. Для простоты представим, что Тунгусский феномен двигался со скоростью света. И что мы в результате получим?
— Строгий выговор по партийной линии, — рассудил летчик. — Но трибунал тоже возможен.
Марек охотно кивнул:
— И перед трибуналом вы, Роберт, откроете первопричину всего. Те, с Лебедя, решили, что их сюда позвали. Одиннадцать плюс одиннадцать — время прохождения световых волн туда и обратно. Плюс пару лет на раскачку, не сразу же планетобус построишь! 27 августа 1883 года взорвался вулкан Кракатау. Инопланетяне приняли взрыв за сигнал — и стали собираться в гости… Вас, конечно, спросят, кто в такую чушь поверит…
— Рейнхард Гейдрих, шеф тайной государственной полиции Рейха, — негромко проговорил пилот. — И не он один. Во всяком случае, делают вид, будто верят. Нет, для дезинформации слишком глупо и сложно. Куда проще по примеру Жюля Верна выдумать безумного профессора Шульце с его секретным городом Штальштадтом.
Затушил окурок, бросил в ведро.
— И ладно!.. Ну что, Марек, в небо?
5
Цеппелин, громадная серебристая сигара с черной свастикой на хвосте, появился над Парижем перед заходом солнца. На улицах темнело, но в небе еще хватало света. Дирижабль был превосходно виден — весь, от острого носа до округлых алюминиевых стабилизаторов. Вдоль корпуса-сигары — надпись, массивные черные литеры: «OLYMPIA». И еще одна на белом полотне-транспаранте под наполненным водородом брюхом: «Берлин, 1936».
Гостя не ждали, он явился сам. Не пущенный на землю, цеппелин неспешно плыл над старыми кварталами центра. Круг, еще один круг, еще… Порывы ветра разносили из-под небес обрывки бодрого марша.
Свободен путь для наших батальонов, Свободен путь для штурмовых колонн! Глядят на свастику с надеждой миллионы, День тьму прорвет, даст хлеб и волю он.Люди на улицах смотрели вверх. Молчали. Очень немногие пытались приветствовать, снимали шляпы, тянули вверх руки. На таких оглядывались, даже плевали вслед. Куда больше было тех, кто грозил небу бессильным кулаком, однако серебристому гостю не было дела ни до друзей, ни до врагов. Винты рассекали послушный воздух, ветер трепал белое полотно транспаранта.
В последний раз сигнал сыграют сбора! Любой из нас к борьбе готов давно. Повсюду наши флаги будут реять скоро…Слова уносились прочь, негромко гудели шершни-моторы, сигара с фирменным знаком «Хакен Кройц» заходила на очередной круг. А из-за острых шпилей Собора Богоматери на тихий беззащитный город уже смотрела Мать-Тьма.
* * *
Женщина наблюдала за цеппелином от храма Святого Сердца, с небольшой площади перед главным входом. Попала сюда случайно, после важного разговора в одном из старинных особняков Монмартра. Ничего нового не узнала, лишь убедилась в собственной правоте. Франция не станет воевать — ни из-за братски воссоединенной Австрии, ни из-за обреченной Чехословакии. «Пуалю» еще некоторое время постоят на границах, демонстрируя французскую непобедимую мощь — и разойдутся к началу августа. Самое время отпусков… Это было уже решено, в правительстве яростно спорили совсем о другом: посылать ли команду на Берлинскую Олимпиаду или все-таки объявить бойкот. Это и вправду — вопрос вопросов. А война? Какая еще, sangbleu, война? Избиратель хочет мира, только мира!..
Велев остановить машину, она вышла на площадь, сунула руки в карманы легкого летнего пальто и поглядела в небо. Охрана, двое мрачных парней из «старой гвардии» О'Хары, ненавязчиво топталась в стороне. Синий «Citroen Rosalie» больше не появлялся, но женщина решила не рисковать. Ездила только с шофером, а в перчаточнице авто ждал своего часа пристрелянный «парабеллум». И все равно было тревожно, цеппелин же, нежданно-негаданно появившийся в парижском небе, принес с собой настоящий страх.
Очень хотелось курить. Женщина держалась из последних сил, хотя в сумочке лежала пачка купленных в гостиничном киоске красных «Gauloises». Но сдаваться рано — и бояться никак нельзя. Еще немного, и на сухой парижский асфальт незримо ступит беспощадная дочь греческого бога Пана, вцепится в горло, вонзит острые ногти в сердце…
…Серебристая сигара с черными свастиками на хвосте никак не хотела улетать. Кружила, кружила, кружила…
Женщина знала, как победить страх. Надо рассечь его на части, беспощадно, безжалостно, даже если кровь брызнет из пальцев. Раз! Два! Три!..
Она не забыла про «третий труп», хотя газетчики, ловцы свежих новостей, о нем больше не вспоминали. Молчание подобно омуту, в его темных глубинах может таиться все, что угодно. К примеру, полиция все-таки вышла на след, но не спешит оповещать прессу. Могли что-то заподозрить и ее подчиненные. Пока они тоже молчат и честно пытаются искать пропавшего босса. Версия про внеплановую поездку на Канары с юной манекенщицей из дома моды «Paul Karre» остается наиболее популярной. Семнадцатилетняя звезда подиума действительно исчезла, скандал только начинает разгораться, причем О'Хару поминают все чаще. Слишком известны его вкусы.
«Когда мы впервые встретились, ты была голая, с синяком на левом боку, и от тебя скверно пахло». Неудачливой эмигрантке из портового Гамбурга было тогда пятнадцать…
Ее никто ни в чем не подозревал, но женщина понимала, что обезображенный мертвец может ступить на парижский тротуар в любую секунду. Прямо сейчас!
Она вздрогнула, сжала кулаки в карманах. Пусть приходит. Она готова Раз!..
А дальше — самое простое и вероятное: конкуренты, которых за эти годы босс успел порядком раздраконить. «Военная тревога» принесла доход очень многим, но львиную долю отрезала себе «Структура». Значит, можно ждать чего угодно, вплоть до очереди из автомата «Томсон». Традиции славного города Чикаго успешно приживались в Париже подобно пырею на ухоженной грядке. Уберечься трудно, но можно, особенно если не проявлять излишнюю храбрость. Конкуренты даже полезны, именно на них, кровожадных и завистливых, следует спихнуть исчезновение несговорчивого босса.
А еще она сама неплохо стреляет. Если что, не промахнется.
Два!
Цеппелин исчез, оставив небо пустым, но где-то совсем неподалеку продолжали жужжать шершни-моторы. Значит, еще вернется. Страх не так легко прогнать…
Гертруда… Разум был бессилен, хотя женщина понимала, что среди швейцарских гор безопаснее, чем в беспокойной Франции. Несколько раз она порывалась послать телеграмму мальчишке, чтобы бросал все и ехал с Гердой прямо сюда, в Париж. Пусть дочь будет здесь, рядом с нею, а не в пугающем далеке. Она бы виделась с девочкой каждый вечер, урвала бы полдня и прошлась бы вместе с нею по самым дорогим магазинам (с охраной! да-да, обязательно с охраной!). У женщины был даже приготовлен сюрприз, открытый чек в знаменитом книжном клубе «Shakespeare & Сo». То-то бы у Гертруды глаза разбежались!..
Телеграмму посылать не стала, проявила характер. Еще несколько дней, всего несколько. Даже если вопреки всем прогнозам вермахт перейдет швейцарскую границу, бояться нечего, в ее коллекции паспортов есть и германский…
Три…
Шершни загудели прямо над головой, низко, басовито. Вот она! Серебристый корпус, черные свастики на стабилизаторах, острый хищный нос. «OLYMPIA»… Горячие головы предлагали поднять в воздух истребители, но на самом-самом верху рассудили в духе учения «чань». Улетит же она когда-нибудь!
Не улетает…
Пальцы в карманах пальто заледенели. «Раз-два-три» не помогло. Что-то женщина не учла, не продумала. Опасность была где-то рядом, кружила, подбиралась все ближе. Незримый, беззвучный цеппелин, несущий гибель…
Парижский вечер рассыпался маленькими дрожащими огоньками. Черная река, неприкаянные души.
* * *
А над ледяной вершиной Эйгера бушевали ветры. Острый пик исчез за густой завесой туч, словно старый Огр утомился породившим его в незапамятные дни миром. Туман полз по ущельям, камни срывались с круч и катились вниз, снег на склонах твердел, превращаясь в ледяной острый наст. Северная стена нависла над долиной тяжелой темной тенью. Черные скалы, серые осыпи.
Эйгер спал, но спал очень чутко, готовый в любой миг пробудиться и открыть тяжелые веки глаз-пропастей. Огр вовсе не устал, напротив. Ветер, туман и тучи придали ему сил, и старый великан был готов встретить каждого, кто посмеет ступить на неприступный Норванд. Вечер неспешно сменялся ночью, темный горный силуэт густел, раздавался вширь и ввысь, закрывая от людских глаз первые робкие звезды.
Ветер стих с последним лучом заката. Тишина, глухая и стылая, сползла со склонов, укрывая долину своим нестойким пологом.
День умер. Пришла Мать-Тьма.
* * *
— Уходи, Хинтерштойсер! На Эйгер, на свою Стену, куда хочешь. Тебя все равно не удержать. Я могла бы сделать укол и успокоить глупого мальчишку, уложить в кровать, укрыть теплым одеялом. Но тогда бы ты проклял меня, Андреас. Лучше я прокляну себя сама. У нашего с тобой фильма скверный сценарист. Нетронутый снег — и пустое небо, снимать нечего и некого. Но я отобью у тебя охоту умирать, Хинтерштойсер! Ты не железный и не каменный, мальчик, ты живой, теплый… У женщины случаются такие дни, когда ей достаточно легкого ветерка, чтобы завязать узелок — мужчине на память. Сегодня именно этот день, мой маленький Андреас. Ручаться не могу, но… скорее всего. Молчи! Убирайся! И не смей оглядываться — плохая примета!..
6
После полуночи облака разошлись, над Эйгером горели звезды, но свет их был слишком слаб, чтобы сделать призрачное явным. Тени — скалы, деревья — тени, треугольные тени спящих палаток.
Два призрака — тени среди теней.
— Готов?
— Как Квекс из гитлерюгенда[78].
Луч фонаря вспыхивает внезапно, высвечивая циферблат старых часов «Helvetia». Десять минут третьего.
Фонарь гаснет…
— Идем тихо, будто в разведку. Незачем народ смущать. Чезаре и Джакомо помочалят с рассветом, «Эскадрилья» с австрийцами — еще позже. Несколько часов форы не помешают. А если узнают о нас, догонять бросятся, а оно надо? И не вздумай, Андреас, песни петь. Знаю, что традиция, но — не сейчас. К Красному Зеркалу поднимемся, там и орать будешь. И шепотом тоже нельзя.
Призраки поправляют куртки, лямки рюкзаков, узлы на шнурках тяжелых горных ботинок.
— Все, пошли!..
Уходят беззвучно, как и положено призракам. И так же беззвучно шевелятся губы одного из них, повторяя знакомые слова. «Среди туманных гор, среди холодных скал, где на вершинах дремлют облака…»
Исчезли. Мать-Тьма укрыла их. Но внезапно налетевший ветер нарушил стылую тишину. Качнул деревья, хлопнул брезентом палаток, зашумел, набирая голос. И наконец ударил, звонко и чисто.
…На свете где-то есть Мой первый перевал, И мне его не позабыть никак. Мы разбивались в дым, И поднимались вновь, И каждый верил: так и надо жить! Ведь первый перевал — Как первая любовь, А ей нельзя вовеки изменить!7
Марек Шадов вошел в гостиничный номер, даже половицей не скрипнув. Таковой не оказалось, прочные доски пола покрывал густой ковровый ворс, гасивший звук шагов. Дверные петли смазаны, каждое движение рассчитано. От порога сразу к вешалке. Шляпу — на крючок, пиджак расстегнуть, снять, перекинуть через руку. Дверь ванной — направо…
И тихо, тихо, тихо…
Так он и сделал, но добрался только до вешалки. Из темноты послышался сухой резкий щелчок, и тут же загорелась лампа — маленькое бра над кроватью у окна.
— Половина третьего, — сообщила Герда, закуривая. Присмотрелась, даже глаза протерла.
— Ты что, Кай… выпил?
Пиджак Марек все-таки снял и на руку набросил. Прошел через комнату — прямо к балконной двери, за которой густилась тьма.
— Нет.
Сообразив, что прозвучало как-то не так, обернулся. Девочка сидела, прислонившись спиной к стене, сигарета в руке, взгляд — не на него, даже не насквозь, а в себя, в самую глубину. Неизвестно откуда взявшаяся пепельница на прикроватной тумбочке полна окурков. Мужчина понял — не спала. Подумал, полез в карман пиджака, сначала в левый, после в правый. Отыскав нужное, сжал в руке. Теперь можно и подойти.
— Подарок.
На то, что лежало в ладони, девочка взглянула неохотно. Потом присмотрелась, убрала подальше сигарету.
— Это…
— Просто камешек, — констатировал Марек. — Я не геолог, захочешь, потом сама определишь. Бери!
Взяла — двумя пальцами, осторожно. Поднесла к глазам, прищурилась:
— И откуда?
Отвечать мужчина не стал. Вернулся к балкону, растворил пошире дверь, впуская бодрый ночной воздух — и посмотрел прямо в глаза Тьме. Так и стоял, пока не почувствовал ее руку на локте.
— Там ничего нет, Кай. Только Эйгер.
Марек Шадов негромко рассмеялся. Герда ахнула, пальцы соскользнули с мятой рубашки. Теперь они стояли рядом, светловолосая девочка, от которой несло табаком, и усталый мужчина в грязных ботинках.
— Ты стал таким, как… ящерица? — наконец спросила она. Марек прикинул, что «нет» будет ложью, что же касается «да»…
— Ну, почти, только без корабля. И не испытателем, а совсем наоборот… Даже не знал, что там так холодно! Но имей в виду, Герда, все это тебе…
Девочка даже не дослушала:
— …Приснилось, я знаю. Вспомнила сказку про Снежную Королеву. Про то, как она помогла Каю подняться на темное облако, и они вместе полетели в ледяной город… Ты… Ты ей расскажешь?
— Королеве — обязательно! — улыбнулся Марек. — И тебе тоже, но чуть попозже. Когда Герда пройдет через ворота и попадет в зал, где стоит ледяной трон. Помнишь, как он называется?
Гертруда Веспер ответила без запинки:
— Зеркало Разума.
Потом сжала губы, нахмурилась.
— Я не потому не спала, что за тебя волновалась. То есть волновалась, но не потому. Не из-за ящерицы… Знаешь, Кай, балкон по-моему, лучше закрыть. Здесь тоже очень холодно.
* * *
— Мы сегодня ходили смотреть на «Антилопу». Пока ты там, Кай, разговаривал, я познакомилась с господином старшим мастером. На самом деле он не старший, не старый, и даже не мастер, но я спорить не стала. Он хорошо в автомобилях разбирается, картинки собирает, журналы. Ты разрешил мне после ужина сразу спать не ложиться, а еще немного погулять.
— И ты сходила в гости к господину старшему мастеру. Интересно, одобрила бы этот визит госпожа фон Ашберг-Лаутеншлагер?
— Ингрид не знала. Она тоже ушла в гости. К скалолазам, в палатку. А я — в Северный корпус. Господин старший мастер был там не один, а с госпожой супругой старшего мастера. Она, кстати, чай хорошо заваривает, травяной, вкусный очень. Так вот, господин…
— …Старший мастер, который не старший и не мастер…
— …Знает все машины в округе. Самые интересные — фотографирует. Вчера как раз новые снимки отпечатал.
— Я догадался, Герда. Хотя лучше бы мне ошибиться. «Альпийский гонщик»?
— Да, BMW 315/1, Roadster. Я и про черную машину узнавала. Mercedes-Benz 260 D, дизельный, его только начали выпускать. Таких в округе нет. А «гонщик» в Гринденвальде, это совсем рядом.
— То есть достаточно кому-то в отеле снять телефонную трубку, позвонить — и нашу «Антилопу Канну» перехватят, причем с гарантией. У «альпийского гонщика» и скорость выше, и проходимость. На железной дороге нас найти еще проще, пешком идти далеко, остается…
— …Дядя Роберт и его «Ньюпор-Деляж-29». Но, Кай, мы не можем улететь без Королевы!
— Не можем, Герда. А Королева как назло сама улетела — в теплые края, чтобы заглянуть в черные котлы.
— «Котлами она называла кратеры огнедышащих гор — Везувия и Этны…» Зачем это ей нужно, Кай? Это же опасно, очень опасно!
8
Хинтерштойсер поэтом не был, стихи уважал, только если они песни и, в отличие от друга-приятеля Тони, сочинительским зудом не страдал. Однажды все-таки уговорили. Редактор местной газеты, дальний родственник, попросил написать заметку об очередной взятой «стенке» для воскресного выпуска. Андреас заправил авторучку, вырвал из тетради листок в косую линейку и сел к столу, упершись локтями в скатерть. Набросал, перечитал, одобрил, исправил, перебелил. Потом проглядел раз, уже чужими глазами. И снова одобрил. Неплохая вышла инструкция для начинающих скалолазов! И сколько чего брать, и как маршрут прокладывать, и насчет техники безопасности при пересечении бергшрунда. Все на месте, но не в газете же такое печатать!
— Горы — это так красиво! — говорили ему. Хинтерштойсер не спорил. Мир вообще красив. И родной Берхтесгаден, и Мюнхен с его дворцами и музеями, и замки безумного короля Людвига, и Адриатика, где довелось однажды побывать. Но у гор, прекрасных, безобразных — не важно, была особенность, тайна, вeдомая лишь альпинистам «категории шесть». Во всем подлунном мире люди — только часть пространства. В горах люди способны им управлять. Подобное не объяснишь на словах и не проверишь обычной логикой. Но это было и это есть. Андреас Хинтерштойсер не покорял вершины, он прогибал их под себя. Ради такого и в самом деле имело смысл рисковать.
Выше, выше, еще выше… Скала тонула в предрассветной дымке, двигаться приходилось на ощупь, но Хинтерштойсера это не слишком волновало. Со стороны он напоминал осеннюю муху, медленно, но упрямо ползущую вверх по оконному стеклу. Сам же Андреас видел и ощущал совсем иное. Вертикаль исчезла почти сразу, на первых же метрах, и теперь перед ним лежал неровный пологий склон. Двигаться по нему было сплошным удовольствием, и Хинтерштойсер с трудом сдерживался, чтобы не встать на ноги — перпендикуляром к каменной толще. Лишь иногда, на редких сложных участках, пространство вздыбливалось, и тело, переставая слушаться, начинало тянуть вниз нежданным тяжким грузом. Тут приходилось быть осторожным, переходя от одной зацепки-хапалы к другой. Но вертикаль быстро смирялась, теряя градус за градусом, и перед Хинтерштойсером вновь простирался не слишком трудный склон, большой неровный камень, повитый утренним туманом.
Самая легкая часть маршрута — до первых снегов. Здесь можно двигаться по одному, не связанными, враздробь. Курц где-то рядом, такая же муха на стекле, подминающая под себя гору.
…Пространство поддавалось легко, словно детский пластилин. Выше, выше, выше! Склон опрокидывался навзничь, тело теряло вес, хотелось вскочить — и бежать прямо к вершинному гребню, нарушая закон тяготения.
Нельзя, нельзя!.. А жаль!
— Эгей! Я на месте!..
Голос друга Тони прозвучал откуда-то спереди, из-за невысокого каменного балкона. То есть конечно же сверху и не откуда-то, а прямиком с площадки, где ждут рюкзаки. Обогнал!
Хинтерштойсер, слегка обидевшись, с упреком взглянул на склон. Тот послушно выровнялся.
Вперед!
* * *
— Ругаться буду, — решил Хинтерштойсер, поддевая носком ботинка ни в чем не повинный камешек. — Это уже свинство!
Курц взглянул грустно:
— Не надо, не поможет. Но ты прав — свинство.
Эйгер, старый Огр, в очередной раз проявил характер. Пусть и по мелочи, но все равно — неприятно. Знакомая площадка, крюк в стене, рюкзаки на привязи. Только их уже не два — полтора. Каменный обвал сработал не хуже гильотины, разрубив тот из них, что «Хинтерштойсер. Курц» пополам. Левая часть на месте, лохмотьями по ветру полощет, а правая же — неведомо где.
Поскольку его фамилия стояла первой, Андреас воспринял случившееся как персональное оскорбление. Ругаться все же не стал. Не лучшая примета, когда мочалишь. Осмотрелся на каменном пятачке, надеясь найти хоть что-нибудь из унесенного камнем. Да где там!
— Много пропало? — поинтересовался Курц, глядя куда-то в туман. Хинтерштойсер, вновь пнув попавший под ногу камешек, без особой охоты наклонился, отвязал огрызок рюкзака. Отволок в сторону, заглянул.
— Консервы остались. И спальник, целый совсем. «Кошек» нет, убежали…
— В моем еще одни есть.
Андреас, не удержавшись, поморщился. «В моем»! Вроде не упрек, а слышать неприятно. Как и думать о том, что на Ледовых полях придется идти след в след, меняясь: сначала обутый, а после — босой. Без «кошек» не разбежишься.
— Больше ничего и не пропало. Каски в… в твоем, фонарь тоже…
— Веревки? — все так же, не оглядываясь, коротко бросил Тони.
Хинтерштойсер вначале удивился, даже обиделся. Веревки, веревки!.. Обратно покойника несут! Да полно!.. Замер. «Полно» было в «Хинтерштойсер. Курц», а в том, что наоборот — запас есть, но невеликий. Хватит, конечно, если не слишком увлекаться…
— А с собой не взял?
Курц наконец повернулся, скользнув взглядом по разоренному хозяйству. Андреас лишь пожал плечами вместо ответа. Зачем спрашивать, если каждую вещь вместе обсуждали и вместе же укладывали?
Тони прошелся по площадке, поглядел вверх, на затаившуюся за туманом скальную вертикаль.
— Не взял… Такая вот беда[79].
* * *
Сигаретный дым горчил, табак был влажным, камень под ногами — мокрым. Свитер не спасал от сырости, а первая, самая вкусная, затяжка — от невеселых мыслей. Пространство, осмелев, вздыбилось, каменная толща подступила со всех сторон, грозя сомкнуться в самом зените.
— Мы и так, Тони, много лишнего набрали. Легче мочалить будет. А за веревками я лично следить стану, чтобы и сантиметр зря не пропал. И вообще, на каждом маршруте есть свой лимит неприятностей. Свой мы, считай, выбрали.
— На Стене лимита нет, Андреас. Здесь, увы, лотерея. Докурим — и обязательно наденем каски, Огр — мастер камешками кидаться. С веревкой никакой беды, конечно, нет. Но… странно как-то совпало.
Двое в отсыревших куртках и тяжелых горных ботинках на маленьком скальном выступе. Под ногами — почти километр, над головами… Лучше пока не думать. На каменном пятачке мокро и неуютно, но чуть выше по склону вода превратится в снег и лед, и перекур возле разоренной заброски покажется отдыхом в саду Эдемском.
— Она… Ингрид меня с собой в Штаты зовет. Говорит, что в Рейхе с каждым годом все хуже, и ничем хорошим это не кончится. Будто мы с тобой сами не понимаем! Я уже прикинул, кем работать смогу. Да-да, в Штатах, такой я, Андреас, дезертир. Но загвоздка в том, что Ингрид все равно должна замуж выйти, иначе наследство дядино не получит. Значит, она будет с мужем, а я, простите, с кем? Ты не поймешь, Андреас, ты у нас человек легкий. Тебе только скалу покажи…
— Точно! Я не только легкий, Тони, я еще и скучный. Для Штатов документы нужны, и деньги на обзаведение, чтобы на Бродвее милостыню не просить. А нам с тобой для начала из Швейцарии надо выбраться. Я тоже дезертир, как вспомню господина обер-фельдфебеля, так сразу в дальние края тянет. Если совсем припечет, можно и горами уйти. А что? Нас же с тобой, Тони, ни один патруль не заметит, до самой Испании доберемся. Но это — потом. У нас сейчас с тобой все — потом.
Двое на каменном пятачке-карнизе говорят негромко, словно боясь чужих ушей. Никто их не слышит, кроме, конечно, Огра. Но и тому не слишком интересны чужие надежды. У Эйгера свои планы насчет «потом».
Последняя затяжка. Встали.
— Ну что, мочалим?
9
На этот раз репродукторы на смотровой площадке извергали не марш («Свободен путь для наших батальонов…»), а нечто густое, тягучее, хоть на булку намазывай.
— «Нюрнбергские мейстерзингеры», — чуть подумав, определила Герда. — Увертюра. Если тебе интересно, Кай, это Рихард Вагнер.
Мареку было не слишком интересно. Он и выходить никуда не хотел. Его б воля, спал бы до полудня, но… Можно заказать завтрак для девочки прямо в номер и вновь нырнуть под одеяло, однако не хотелось подавать дурной пример. Все должно идти как заведено. Встать, отжаться сотню раз, проследить, чтобы некоторые не забыли про зарядку… Некоторые и потащили его сюда, к главному входу в отель. Старт «Эскадрильи прикрытия „Эйгер“»! Что ни говори, а событие. К тому же распогодилось, ветер разогнал тучи над долиной, ярко и празднично сияло летнее швейцарское солнце…
Народу, несмотря на все усилия Вагнера, собралось немало. К постояльцам «Гробницы Скалолаза» добавилось десятка три гостей, приехавших кто поездом, кто на авто. На машины Марек и поглядел первым делом. «Альпийский гонщик» отсутствовал, не было и черного «дизеля», что, однако, ничуть не успокоило. На всякий случай мужчина предпочел держаться подальше от толпы, собравшейся возле входа в отель. Герда предложила подняться на небольшой холм, служивший подножием для огромного рекламного плаката, на котором уместились название отеля, его изображение в три краски и синий силуэт Эйгера. Место оказалось удачным — почти на уровне смотровой площадки. Девочка удовлетворенно кивнула и принялась настраивать взятый с собой маленький театральный бинокль.
…Черные мундиры, свастики на рукавах, девушки в старинных крестьянских платьях, суровый оратор в окулярах и шляпе, надвинутой на самый нос. Съемочная группа: женщина в белом пиджаке нараспашку, при ней два суетливых помощника. Кинокамеры тоже две, одна с «ногами», вторая без.
Вагнер…
Ветер, покончив с тучами, взялся за оратора, разнося по долине обрывки слов и фраз. «Весь мир с восхищением… Железная воля фю… манское единство… Плутократы, унижающие и грабящие трудолюбивый на… Взятие Норванда — великий символ… Лучшие сыны Германии…»
Лучшие сыны Германии появились только к самому концу действа, причем не в альпинистском снаряжении, а, как и прежде, в черной форме с серебристыми побрякушками. Рядом с ними одетые в штатское австрийцы смотрелись откровенно неказисто.
— Они на гору строевым шагом пойдут, — констатировала Герда, отводя от глаз окуляры. — Кай, хочешь взглянуть?
Мужчина молча покачал головой. Любоваться блондинами не было ни малейшей охоты. Он оглянулся назад, где за легкой пеленой туч угадывалась хмурая снежная вершина. В этом поединке он был на стороне Огра.
К микрофону подошел один из блондинов, вероятно, главный, но расшалившийся ветер разорвал его речь в клочья. «Великий фю… икая Герма… Олимпи… СС — лучшие сы…» Зато ответное «Зиг хайль!» прозвучало так, что даже ураган не смог бы заглушить.
Герда спрятала бинокль в кармашек платья и заткнула пальцами уши.
И снова Вагнер.
Относительно строевого шага девочка ошиблась. «Эскадрилья» отбыла к подножию Стены на трех громоздких авто, украшенных флажками со свастикой. К некоторому удивлению Марека, женщина в белом пиджаке предпочла остаться у отеля. Камеры еще долго фиксировали толпу, лишь изредка обращая свой черный зрачок в сторону горного склона.
— Эйгер в павильоне снимут, — рассудила Герда. — И весь подъем тоже. Они бы и гостиницу там построили, но это дорого. Лучше командировочные оплатить.
Марек Шадов нашел эти слова несколько циничными, но по сути возразить не смог.
…Бинокль был не нужен — брата Отомар узнал бы даже ночью, однако Гандрия Шадовица ни среди «черных», ни в толпе гостей не оказалось. Но это тоже ничуть не успокоило.
* * *
— Герр Шадов! Герр Шадов!.. Разрешите вас…
Баронесса Ингрид фон Ашберг-Лаутеншлагер подбежала к ним возле стеклянных дверей. Именно подбежала, умудрившись едва не упасть прямо на кинокамеру, все еще снимавшую собравшихся у входа в отель. Толпа расходилась, но медленно. «Черные» убыли на свой этаж, все же прочие не спешили под крышу. Погода хорошая, Эйгер прекрасно виден, а до обеда еще полно времени.
— Добрый день, герр Шадов! Добрый день, Гертруда! Видите ли, я…
Марек уже увидел. Ингрид была трезвой, как стеклышко, но это единственное, что могло порадовать. Девочка, тоже что-то почувствовав, нахмурилась и взяла мужчину за руку. Разговаривать среди толпы не имело смысла, и все трое отошли к ближайшей урне. Баронесса, выхватив из сумочки пачку французских сигарет, нервно щелкнула зажигалкой. Мундштук на этот раз отсутствовал, вероятно, попросившись в отпуск. Герда тоже полезла в один из карманов, но Марек вовремя успел кашлянуть. Девочка вынула руку и наивно моргнула.
— Может, я погуляю? А вы тут о погоде побеседуете.
Ответа дожидаться не стала. Исчезла. Марек навострил уши, готовясь услышать еще один щелчок, но баронесса, явно не уловив тонкость ситуации, уже перешла к делу.
— Герр Шадов, вы давно знаете человека по прозвищу Лекс?
Бывший Желтый Сандал, мысленно отметив «прозвище», принялся считать.
— Двенадцать лет, фройляйн Ингрид.
Девушка вздернула светлые брови.
— Ого! Целая жизнь. Герр Шадов, мне объяснили, что здесь, в «Des Alpes», никому верить нельзя…
Замялась, сдернула с правой руки перчатку, скомкала.
— Что здесь — все…
— Шпионы, — подсказал Марек. — Из «всех» смело вычитайте себя и Гертруду. И будьте снисходительны, фройляйн. Люди названной вами профессии тоже имеют право на отдых. Не на Эйгер же им взбираться!
Взгляд баронессы был способен растопить лед, но помощник странного японца мистера Мото даже не моргнул.
— Пусть так! — Скомканная перчатка исчезла в сумочке. — Я к вам по делу… доктор Ватсон.
* * *
— Мы поговорили с господином Лексом накоротке, перед самым его отъездом. Если честно, коллизия сложилась крайне странная и неприятная, герр Шадов. Неизвестно кто приставил ко мне персонального агента! Но вы его, как я поняла, хорошо знаете. Двенадцать лет — много… Мы с вами практически незнакомы, однако я вижу, как относится к вам Гертруда. Я сирота, герр Шадов, и некоторые вещи чувствую очень остро. Можете не отвечать, но она — не ваша дочь?
— Теперь — моя.
— Вы правы, герр Шадов, извините. Рискну! Мне поручили помочь двум альпинистам, двум очень хорошим людям. Сейчас они уже на Северной стене. Что случится там, ведает лишь Творец. Но вы сами мне сказали насчет «дальше». Господин Лекс прислал письмо, получила час назад. В Германии этих ребят немедленно арестуют и отдадут под суд. Но это не самое худшее…
— Вы уже намекали, фройляйн. Их могут арестовать прямо здесь.
— Именно так, доктор Ватсон. Но тогда я лишь предполагала, а теперь знаю точно. Распоряжение из Берлина уже получено. Если же учесть, что Вермахт стоит на границах, а немецкие кантоны собираются провозгласить Германскую швейцарскую республику…
— Давайте поделим проблему надвое, фройляйн Ингрид. Когда ваши подопечные поднимутся на Стену, начнется «дальше». Тут есть варианты. Но на склоне тоже опасно. Здешние брокеры упорно ставят на Эйгер, вчера вечером было уже пять к одному. Поэтому предлагаю не ждать милости от помянутого вами Творца — и взять Норванд под контроль.
— Я плохо разбираюсь в людях, герр Шадов. И в технике, признаться, тоже. Постояльцы отеля имеют возможность смотреть на Северную стену в подзорные трубы. Почти как в римском Колизее… Даже самолет бесполезен, ему не сесть на склон. Вы же не ангел!
— В незапамятные времена упал с неба камень и раскололся… Нет, фройляйн, не ангел. Если верить преданиям, ангелы — народ ненадежный. И души у них нет.
* * *
Они чуть не столкнулись возле стеклянных дверей отеля — мужчина с девочкой и широкоплечая женщина в белом пиджаке нараспашку. Девочка и ее спутник собирались войти, женщина — наоборот. Мужчина успел уступить дорогу, та, что была в пиджаке, поблагодарила небрежным кивком.
— Какой фактурный ребенок! — Палец с острым ногтем нацелился прямо в лицо Герды.
И поспешила дальше. Гертруда Веспер взглянула в широкую белую спину.
— Какая невоспитанная фрау!
Спина дрогнула. Женщина в пиджаке повернулась, подошла к девочке. Присела, чтобы взглянуть в глаза.
— Извини, не хотела обидеть. Фактурный — значит своеобразный, запоминающийся. Я снимаю кино, это профессиональное. Привычка! Зовут меня Лени, но лучше — просто Хелена. Мир?
— Мир! — чуть подумав, согласилась своеобразная и запоминающаяся. И протянула ладошку:
— Гертруда, лучше просто Герда.
Инцидент был улажен. Женщина встала, собираясь уходить, но внезапно посмотрела на Марека.
— У вас совсем другое лицо, но вы, конечно, отец Герды.
Задумалась на какой-то миг, закусила губу:
— Идите со мной!
И поманила пальцем, тем же, с острым ногтем. Марек покосился на девочку. Та пожала плечами.
— Это у нее профессиональное. Привычка!
Отошли недалеко, к ближайшей стене. Женщина остановилась, повернулась резко:
— Я вас ни разу не снимала, иначе бы запомнила. Но лицо знакомое. Можете объяснить?
— Могу, — согласился Марек Шадов. — А надо?
— Вспомнила! Нет усов. И глаза совсем другие.
Теперь ноготь был нацелен прямо в нос. Мужчина улыбнулся.
— Историю Железной Маски знаете? Предупреждаю сразу: я не король Людовик.
Палец исчез. Женщина по имени Хелена взглянула без особой приязни.
— Историю знаю. Мой вам совет: держитесь подальше от объектива, если не хотите в Бастилию. И от меня тоже на всякий случай. Кстати, черная форма вашему… Людовику очень идет.
10
Итальянцев встретили у самого Красного Зеркала, на выходе из трещины. Увидел их Тони, который шел первым. Оглянулся, придержал рукой веревку:
— Андреас, у нас гости!
Потом, чуть подумав, уточнил:
— То есть это мы — гости.
Хинтерштойсер лишь кивнул. Доползем — тогда и разбираться будем. И — раз, и — раз, и — раз!
Подъем по узкой ледяной трещине оказался неожиданно труден. Может, из-за глубокого снега, а может, потому, что заныла предательница-нога, причем не там, где ушиб, а вся сразу. Андреас решил не обращать внимания (и — раз, и — раз!), но пространство, что-то почувствовав, внезапно вышло из повиновения, склон вздыбился, обернулся почти вертикальной стеной. Хорошо еще, что идти выпало вторым. Первому еще и путь выбирать, и крюки в камень впечатывать. Тому, кто на веревке, все же легче, ступай след в след да за дыханием следи.
И — раз! И — раз! И — раз! И — раз!..
К тому же здорово мешала каска. Она была полегче, чем та, что пришлось надевать в полку, неведомый мастер вырезал часть металла из полусферы, впуская внутрь воздух и экономя граммы, но железо все равно так и норовило надавить на нос, а ремешок — впиться в горло. Трещина все змеилась, неторопливо ползя вверх по склону, снег обжигал лицо, а веревка (такая вот беда!) обрела собственную волю, так и норовя пойти в пляс. «Пляшут танец озорной Ганс и Грета в выходной…» И — раз! и — раз!.. Хинтерштойсер, не удержавшись, ругнул веревку как следует, та притихла, но ненадолго. «…Под веселый перепляс в них врезается фугас»[80]. И — раз!
Поэтому на итальянцев он поначалу почти не отреагировал. Почему-то подумал о Сандри и Менти, потом сообразил, что их тут нет и быть не может, затем пришлось поправлять каску.
…И — раз! И — раз!..
И только в тот миг, когда Хинтерштойсер почувствовал под подбородком пустоту, а под животом — влажный камень, он понял все сразу, причем без малейшего труда. Трещина наконец кончилась вместе со снегом, впереди — узкий карниз, над ним еще один, а итальянцы…
* * *
— А мы в десять вечера вышли, — усмехнулся Джакомо. — Будто бы погулять. Poco a piedi! Сделали еще одну заброску — у тропы, что на склон ведет, и тихо, тихо…
— …Piano, piano! — густым басом пропел рыжий Чезаре. — Terra terra, sottovoce, sibilando, va scorrendo, va ronzando!..[81]
Андреас и Тони переглянулись. У каждого — своя хитрость в рогоже. И крыть нечем, честно предупредили и опередили тоже честно.
— Насчет касок вы молодцы, — продолжал полиглот. — Камни здесь сыплются, как конфетти на карнавале.
Вжал голову в плечи, взглянул наверх.
— И вообще скверное место. Мы, собственно, уже назад собирались, а потом Чезаре вас заметил.
— Назад?! — обомлел Хинтерштойсер. — С какой стати?!
— Roccia аccidenti, accidenti specchio! — доходчиво пояснил рыжий, для убедительности сложив вместе большой и указательный пальцы. — A tutti loro cadere in Hell! Diavolo di culo!..
— Скала, — Джакомо дернул подбородком. — Которая Замок Норванда. Ребята, там точно не пройти. На каждом метре крюки бить нужно, если, конечно, найдется куда.
— Abbiamo provato, provato, provato. Ma tutto inutile!..[82]
Речь рыжего Чезаре прозвучала весьма убедительно, но Андреас все-таки поглядел в указанном направлении. На карте все выглядело иначе, проще.
…Две скалы, две громадные серые глыбы. Одна, отчего-то прозванная Красной, прямо над головой, ее только на крыльях облетишь. Вторая, такая же серая и неприветливая, слева. За нею — Первое Ледовое поле, прямой путь наверх. Но пройти можно лишь до половины, дальше — гладкое зеркало, то ли тридцать метров, то ли даже побольше.
Замок Норванда…
— Тупик, — резюмировал Джакомо. — Не пройти и не проползти. Баста!
Курц молчал, но Андреас хорошо помнил их разговор на маленьком пригорке с видом на Эйгер. «Не прогребем, только в обход». А он тогда ответил…
Хинтерштойсер встал, отряхнул куртку, каску поправил.
— Прогребем!
11
Капитан Астероид думал не долго — героям сомневаться не положено.
— Принято. Обсудим после, а сейчас…
Поглядел вниз, затем по сторонам, кивнул удовлетворенно.
— В начальную точку вышли. Слушайте, Марек, полетное задание.
Слушать Марек Шадов был готов, а вот смотреть — нет. По сторонам незачем, всюду небо. Вниз же — не решался пока. Как ни бодрись, а под подошвами ровно километр, только что замерено. Проще представить, что просто стоишь, не так важно на чем. Держит, пусть и пружиня слегка, и ладно.
— Как бы сформулировать поточнее? — Капитан Астероид на миг задумался. — Воздушный бой — слишком серьезно, не для этого случая. Точно! Догонялки! Kvach! Я убегаю вы, Марек, за мной. Задача — дотронуться рукой до моего плеча. Можно и одним пальцем, считается. Потом — наоборот, убегаете вы, я — следом. И учтите, вначале лечу по прямой, скорость средняя, затем форсаж — и начинаю figurjat'… Ну, как это перевести, а?
— Ne nado, tovarishh komandir, ja ponjal.
Марек решился — и поглядел-таки вниз. Ничуть не страшно! Прямо под ногами — долина, тонкая нить знакомой дороги-грунтовки, горы по правую руку, ангар, коробок малый, — по левую. Отель за спиной остался. Роберт-пилот уверен, что человека на такой высоте не разглядеть, а подзорные трубы, что на смотровой площадке, в сторону Эйгера развернуты. Но если кто очень захочет, пусть любуется высшим пилотажем, не жалко. Легендой больше, легендой меньше…
— Готовы? — Капитан Астероид.
— Готов! — Пилот-испытатель Крабат.
Полетели!
12
— …Но ты-то летать не умеешь! — сварливо молвил старый Огр. — Стенку там искривить, склон подправить, это я еще понимаю. Но в воздух крюк не заколотишь, верно? Брось, не старайся!
Хинтерштойсер решил не отвечать. Старик сегодня не по-людоедски многословен, зудит и зудит надоедливой мухой. Разве что удивило «но». Выходит, кто-то крыльями обзавелся? Ничего, мы и без крыльев!
Эйгер-людоед прав в одном — скалолазам полеты противопоказаны, потому что летать приходится главным образом сверху вниз. Однако в любом правиле имеются исключения. Верно, старик?
На этот раз промолчал Огр. Обиделся, видать. И ладно! Крюк вбит в скалу, от зеркала-замка справа, страховочные веревки вдеты, проверены, по рукам розданы…
— Тони?
— Порядок.
Братцы-итальянцы?
— Pronto! Pronto, Andreas!
И спрашивать не пришлось.
Хинтерштойсер на миг прикрыл глаза. Черная Каменная Дева Баварская, не попусти!..
Все! Дюльферяе-е-е-м!..
Скала выскользнула из-под ног. Метр, два… Правая рука — стоп, левая — стоп! Висим? Висим! Впереди — оставленный карниз, слева и выше — гладкая скальная поверхность, внизу пропасть, и сверху она же, до самого зенита. Веревка (да хватит веревки, хватит!) натянулась струной. И как тут полетишь? Можно только ногами в камень упереться и рукой слегка помочь. Влево, потом вправо… Качнуться, веревку напрягая, сместиться на полметра. И тут же обратно — на те же полметра.
Влево — вправо, влево — вправо.
Рукой упереться, ногой оттолкнуться… Полметра… Метр… Уже два… Рука… Нога, обе ноги сразу…
Был человек — стал грузик на веревке, маятник у пустого циферблата. Влево-вправо! Три метра, три с половиной, четыре… Нет, еще не четыре… Влево-вправо. Влево… Уже пять!
«Пляшут танец озорной Ганс и Грета в выходной…»
Маятник ускорял ход, маленький, еле заметный на фоне огромной серой скалы. Влево-вправо, влево-вправо! В ушах свист, во рту солоно, видать, губу прикусил. А перед глазами камень, камень, камень. Толкнешь ногой — и снова камень…
«Под веселый перепляс в них врезается фугас. Раз — ха-ха! Два — ха-ха!..»
…А потом стало легко, неожиданно, мягким сильным рывком. Веревка-струна как будто ослабла, перестав резать руки, ботинки уже не касались камня, скала отступила назад, теряя высоту и размер. Затем и вовсе исчезла, превратившись в гладкий пирс из желто-медового янтаря. Андреас Хинтерштойсер летел, парил, рассекая послушный воздух. Он мог теперь все — подняться к самой вершине, спуститься вниз, на зеленую траву, мог даже застыть на месте, презирая закон тяготения…
Человек опомнился, выдохнул, слизал кровь с губы. К вершине он еще успеет, сейчас нужно влево, только влево — туда где из стены выпирает острый выступ-хапала. Подлетаем… хватаем. Мимо! Ничего, вторая попытка!..
Летим!
«После танцев сам собой возникает мордобой. Нет под глазом фонаря…»
Обратно…
«…Значит, вечер прожит зря. Раз — ха-ха! Два — ха-ха…» Н-ну! Есть!
Его тряхнуло, приложило скалой в грудь, выбивая из легких остатки воздуха, но Хинтерштойсер все же успел вцепиться в холодную каменную твердь всеми пальцами — и самому окаменеть.
Есть! Е-е-есть!..
Маятник замер. Маятник исчез. Человек перевел дух, нащупал подошвами узкий скальный карниз, встал, все еще не веря. Взмахнул рукой.
— Я здесь, здесь! Ого-го-го-го! Здесь!..
Эхо ответило неохотно, словно сквозь зубы. Старый Огр-людоед, насупив ледяные брови, поспешил укрыться за сизым щитом тумана. Тщетно! Кто хотел — тот уже увидел его поражение, его вечный позор. Дуэльным шрамом поперек каменного лика — острая прямая отметина.
Траверс Хинтерштойсера!
Глава 9. Замок Измены
Телефоны молчат. — Мы могли бы встретиться? — Первое Ледовое. — Домик на Монмартре. — Над пропастью. — Dressed to Kill. — Место в самолете. — Обратный траверс. — Кто кого первый измельчит. — Я — Капитан Астероид! — Телеграмма. — Печать на конверте. — Степень пульверизации. — Каменный клык.
1
Она покинула номер в «Гранд-отеле» ровно через двадцать три минуты после того, как не ответил третий, последний из телефонов. Время засекла чисто по привычке. Отчитываться ни перед кем не придется, разве что пред ликом бородатого старца с ключами на поясе. Если спросит, можно и доложить: охрана исчезла, никто из помощников не отозвался, вымерли. Действовала по обстановке, но где-то и в чем-то ошиблась. Вы уж простите, месье Симон!
Но пока еще есть надежда, что доклад не состоится — или будет отложен хотя бы на полвека. До июля 1986-го потерпите, πάππας?
…Два чемодана, сумочка, летнее пальто перекинуто через руку, чтобы не измялось. Все? Нет! Расстегнуть замочек на сумке, где спрятан пистолет — если что, стрелять первой, ни о чем не спрашивая. Иначе ответ придется выслушивать в присутствии месье Симона.
С утра все шло штатно, и женщина уже собралась на очередную встречу. Добираться всего ничего, десять минут пешком и то без особой спешки. Пару дней назад, до вечера в кабаре «Paradis Latin», она бы так и поступила, даже оружие не стала бы брать. Самый центр Парижа, ясный день, улицы полны народа. Не Чикаго же здесь, в самом деле!
«…Париж — это Вселенная, где место найдется всем. Город влюбленных, город тех, кто устал без любви — и от любви…»
Проявила характер, велев подать авто, позвонила парням из охраны, чтобы те не дремали. Удивилась, вновь набрала телефонный номер, уже другой — тот, что на крайний случай. Потом попыталась отыскать своего помощника. Первый звонок, второй…
Когда-то очень давно ей объяснили, что настоящая женщина должна уметь раздеться за минуту, от шубы и шапки до застежки бюстгальтера. Умение полезное, но иногда важнее одеться. Пусть не за минуту, а за пять. Самое скромное платье, удобные мягкие туфли, шляпка, чтобы надвинуть на самые брови. Папки с документами — в чемодан, шкатулку с драгоценностями — туда же, на самое дно. Патроны, косметичка…
Перед тем как в последний раз позвонить помощнику, женщина набрала номер дежурного и распорядилась подать такси к боковому входу. Собравшись с мыслями, продиктовала телеграмму в Швейцарию, назвала адрес, по которому следует отогнать «Мерседес» и велела отнести вниз бутылку виски «Dallas Dhu».
Таксисту верить было нельзя, и женщина решила ехать до Gare du Nord. Там — всегда толпа, десятки машин, можно выбрать любую. А если такси попытается свернуть не туда, приставить «парабеллум» к затылку водителя.
Ничего личного, просто business!
На пороге, уже отдав вещи коридорному, женщина оглянулась. Пожалела не о брошенных вещах (тряпье!), а лишь о том, что не сможет выполнить обещанное. Гертруда, наверняка наслушавшись мужа, каждый раз кривилась при упоминании гостиниц. Женщина соглашалась, но добавляла, что исключение есть.
— «Гранд-отель»! Тебе там понравится, дочка, обещаю. Вот увидишь!..
Теперь уже не увидит.
Жаль!
2
Герда встретила его на пороге, насупленная, мрачная.
— Я — к Ингрид. She has a problem.
— What is the problem? — не думая, уточнил Марек, но тут же спохватился. — А по-английски — почему?
Девочка вздохнула:
— Не по-английски, Кай, а по-американски. На другом языке нельзя сказать, что у человека есть проблема. Плохо звучит, даже если на китайском. У Ингрид дядя умирает, только что телеграмма пришла. Он ее с детства воспитывал, когда родителей не стало.
«Я сирота, герр Шадов, — вспомнилось Мареку, — и некоторые вещи чувствую очень остро…»
— «Problem» in the present case does not fit, — тщательно подбирая слова (не силен!), возразил он. — Это называют иначе, дочка.
Герда быстро кивнула, закусила губу.
— Проблема в другом, Кай… Папа… Ингрид обещала помочь двум альпинистам, а теперь ей придется уехать. Тебе она просила передать, что надеется на доктора Ватсона. Конан Дойль какой-то… Пойду помогу вещи собрать. Ну и вообще. Сам понимаешь.
Марек, закрыв за девочкой дверь, снял пиджак, кинул, не глядя, в сторону кровати. Настроение, боевое и веселое, разом свалилось к точке замерзания. Отомар Шадовиц знал, что такое стать сиротой.
За открытой балконной дверью — знакомый острый силуэт. Эйгер… К полудню белую вершину затянуло туманом, потом из-за каменного хребта одна за другой неспешно, но уверенно потянулись тяжелые темные тучи. В отель Марек вошел с первыми каплями дождя, успев порадоваться тому, что не пришлось мокнуть. Любопытствующие на смотровой площадке срочно накрывали подзорные трубы чехлами.
Колизей…
Мужчина подумал о тех, кто сейчас взбирается вверх по Стене. Кто они? Безумцы, герои, пешки в чужой игре? Нет, не ему судить!
Когда зазвонил телефон, Марек не сразу смог оторвать взгляд от вершины Огра. Потом, спохватившись, вспомнил о Герде, заспешил, ударился боком о стул.
— Слушаю!
— Герр Шадов? — осведомился знакомый голос. — Мы могли бы встретиться?
Он хотел спросить «Зачем?», но губы ответили сами:
— Да, конечно. Где и когда?
— Вершина Эйгера, ровно в полночь, — ответила трубка. — На самом темечке. Гору не перепутаете, их тут много?
Метеор, сын Небесного Камня улыбнулся.
— Не перепутаю. Эйгер. На темечке. Ровно в полночь.
3
Вместо снега на Первом Ледовом поле их встретил лед, твердый и ломкий, белая хитрая обманка. С виду обычный фирн, но ботинок каждый раз скользит, норовя съехать вниз. Приходится ступать со всей силы, пробивая лунку. Острые края так и норовят впиться в ногу, словно собачьи зубы. Шаг, еще шаг, еще…
Северная стена оскалилась злобным псом.
Хинтерштойсер шел первым в связке. «Кошки» на ногах, каска почти на носу. Склон задирался вверх, то и дело норовя опрокинуться, поэтому приходилось делать все медленно. Пройти всю длину веревки, вырубить ступень пошире, забить страховочный крюк, завязать узел…
— Готово! Мочаль!..
…Помочь подняться Курцу, передохнуть несколько секунд, и снова вверх. Шаг, еще шаг… Друг Тони пока что сзади (смена через час), но завидовать ему совсем не тянет. Без «кошек» каждый шаг — почти что пытка, приходится напрягать все мышцы, ловить равновесие. Потому и взяли две пары, новеньких, удобных, зубастых… Эйгер, Эйгер! И тут подгадил, людоед. Еще шаг, еще, каску поправить… Шаг, еще шаг…
Итальянцы отстали, хотя оба при «кошках». Неудивительно, такой склон — это уже «категория шесть». Хотя на первый взгляд ничего военного, сплошная рутина. Подняться, вырубить ступень, найти место для крюка… Говорят, жизнь прожить — не поле перейти. Верно, но на такое поле может не хватить и целой жизни.
Шаг! Шаг! Еще шаг!..
А потом с серых небес полило. Разверзлись хляби…
* * *
Последние недели Тони редко улыбался, но тут не удержался, показал белые тридцать два. Без малейшей зависти, от всей скалолазной души.
— Твой траверс, Андреас! Так и назовут. Считай, уже назвали.
Чезаре и Джакомо вообще онемели. Молча перебрались по перильной веревке, так же молча оглянулись назад, на сломанный «замок». Наконец переглянулись да и выдохнули разом:
— Grandioso!!!
Хинтерштойсер даже слегка смутился. У иных бывает звездный час. Ему выпал — ледяной. Но задирать нос ой как рано. После переправы Андреас первым делом подумал, нет, не о грядущей славе (траверс Хинтерштойсера!!!), а о все той же веревке. Вспомнилось, как во время сборов говорили о тридцати метрах. Да тут и трехсот может не хватить.
…Такая вот беда!
Ревизия рюкзаков, как итальянских, так и баварских, показала — в обрез. А ведь будет еще проход между Первым и Вторым полями, настоящий «взлет», почти вертикальный, и «Рампа» будет, и «Снежный паук». Над каждым метром трястись придется. Хинтерштойсер поглядел на перильную веревку, протянутую вдоль «зеркала».
— Снимаем?
Никто и не пытался возразить. Зачем бросать? Обратно все равно идти по Западному склону, где веревки без надобности. Только Курц поглядел не слишком уверенно. Промолчал, и лишь потом, уже на Ледовом поле, когда отдыхали на очередной ступеньке, проговорил, глядя куда-то вверх:
— Траверс обратно не пройти.
Андреас и сам это понял, хотя и не сразу. Сидела дрянь-заноза у самого сердца, но он сперва внимания не обратил. А теперь увидел, словно на панорамной фотографии: скала-«замок», справа, откуда шли, выступ, в него крюк вколочен, слева же ничего, гладко. И туда железо вбить можно, но в настоящий полет не уйти. Маятник качнется лишь до середины «зеркала», и то если очень повезет.
Обсуждать не стали ввиду полной ясности. Поздно, поздно!..
Шаг… Еще шаг… Еще…
* * *
— Андреа-а-ас!
Веревка еще не успела натянуться, и Хинтерштойсер сперва решил не смотреть назад. Еще три шага… К тому же изрядно злил дождь, ливший неведомо откуда. Тучи высоко, тумана нет, а молотит вовсю. Под ногами, считай, каток, если бы не «кошки», улетел бы уже со свистом прямо к подножию.
— Андреа-а-а-с! Сто-о-ой!..
Делать нечего, стал. Повернулся, хотел крикнуть в ответ («Чегоо-о-о?»), но промолчал. Уж слишком не понравилось то, что он увидел. С другом Тони все в порядке, стоит где и положено, на другом конце веревки. А вместо итальянской «связки» — не пойми чего. То ли оба лежат, то ли один, а второй присесть рядом пытается. На таком-то склоне!..
Бац! Бам! Бум!.. Прямо по каске, до звона в ушах.
Андреас помотал головой, добрым словом помянув чудесную девушку Ингрид. Не в первый раз, камешки начали сыпаться сразу, как только на поле ступили. Джон Гилл, Паук из Кентукки, оказался, увы, пророком. Хорошо еще, что падала всякая мелочь, которую каска держала. Один раз, правда, угодило по щеке, но вскользь, не до крови.
У Чезаре и Джакомо касок нет, только вязаные шапочки. Теперь братцы-итальянцы лежат… Нет, лежит Чезаре, Джакомо рубит ступеньку, чтобы самому разместиться сбоку. А снег возле них не белый, не серый даже…
Хинтерштойсер всмотрелся и пожалел обо всем сразу.
Снег был красный.
4
Этот неказистый флигель в глубине двора женщина окрестила Замком Измены. Думала назвать иначе, перебирала варианты, а потом махнула рукой. Пусть будет, не для бумаг же, там все под номерами, для нее самой. Чтоб не забывать.
Полгода назад, вскоре после рождественских праздников, она пошла гулять по Монмартру. Погода была не ахти, дождь пополам со снегом. Январь — не лучшее время в Париже. Осенью город романтично печален («о, мадам!»), зимой же бывает откровенно мерзок. Как раз под настроение.
На рождество ее пригласили в гости. Небольшой замок возле Труа, нужный человек, перспективный партнер. Усики, осанка, модный костюм, графский титул в довесок.
— Зовет? — ничуть не удивился О'Хара. — Тот еще бычок, Лиззи, давно на тебя пялится.
Поглядел странно.
— Человек полезный, но приказать не могу. Хочешь — валяй!
Ей даже почудилось, будто боссу неприятно такое внимание. Может, это и стало последней каплей. К тому же в Берлине, за месяц до того, они плохо поговорили с Мареком, поссорились, помирились…
Съездила в гости. Изменила мужу. А потом, вернувшись и бросив вещи в отеле, отправилась бродить по узким улочкам Монмартра, подняв воротник мокрого пальто. Мальчишку не жалела, не жалела и себя, просто в очередной раз убедилась, что в мире не бывает чудес. Даже кольца Гиммель бессильны. А еще женщина знала, что Гертруда обязательно что-то поймет, почует, заметит. Она — не наивный Марек, до сих пор верящий в святость алтарных клятв.
Иногда Ильза Веспер ловила себя на мысли, что дочь знает ее лучше, чем она сама.
Тогда и довелось зайти в небольшой дворик в самой глуши Монмартра. Париж современный, лощеный и парадный, остался далеко, словно в ином мире. Здесь стоял еще настоящий XIX век. Сперва женщина заглянула в арку, чем-то напоминающую полуразрушенные средневековые ворота. За аркой был высокий платан, обшарпанные двухэтажки, идущие неровным квадратом, а за платаном, в глубине двора — домик-голубятня. Высокий цоколь, человеку в рост, два окна под желтой черепичной крышей, деревянная лестница с перилами. Точно как на старой картине — или на пожелтевшем от времени дагерротипе.
Дождь вновь сменился снегом, пальцы мерзли даже в карманах пальто, но женщина не поленилась и обошла двор, переступая через лужи. То, что увидела, очень понравилось. За домиком-голубятней имелся выезд на улицу, параллельную той, с которой она зашла, а на домах не было ни одной муниципальной таблички. Propriete privee, значит, договариваться будет проще.
Домик она сняла сразу на три года, заплатив за самый простенький ремонт. Дороже всего обошелся тяжелый шкаф-сейф фирмы «Fichet», который пришлось врезать в стену. К нему — фигурные решетки на окнах и дубовая дверь с двумя замками.
Посреди старого двора на Монмартре вырос Замок Измены. Женщина заезжала сюда каждую неделю, проверяла замок на сейфе и выпивала стакан вина, сидя у старого колченогого стола. Внутрь никого не пускала, соседям платила за то, чтобы подметали и мыли лестницу. Хотела повесить на стену фотографию дочери, но в последний миг не решилась. Будет отвлекать, а здесь — крепость.
Она расплатилась с таксистом возле ворот, велев не въезжать во двор. Прежде чем взять чемоданы, еще раз проверила пистолет в сумочке. Взглянула на часы, по привычке засекая время.
Война? Ладно, будет вам война!
5
К траверсу удалось вернуться только часа через три. Чезаре пришлось спускать от ступеньки к ступеньке, хотя парень пытался многословно протестовать, вначале бурно, в полный голос, а потом еле слышно. Рана под бинтом кровила, лицо стало бледным, подернулось синевой. Глоток спирта немного помог, щеки порозовели, но главного было не изменить. Идти итальянец не мог. Стоять еще так-сяк, но уже после второго шага парня начинало валить набок.
Удалось найти узкую щель в скале. Чезаре втиснули в спальник, накрыли еще одним и пристроили рядом с ним Джакомо-полиглота, велев ему заняться консервами. Аппетита не было. Ледовое поле вымотало напрочь. Сначала туда, затем обратно…
— Вы, ребята, нас здесь оставьте, — сразу же попросил Джакомо. — Мы передохнем слегка — и дюльфернем вниз. Ничего страшного, раза за четыре управимся. А там склон, доползем.
— Siamo in grado di gestire! — громким шепотом подтвердил рыжий. — Andare oltre!
Андреас и Тони молча переглянулись. Посмеяться бы, только не смешно. «Дюльфер» годится для здоровых, Чезаре придется спускать осторожно, страхуя со всех сторон. И не четыре раза, а минимум семь. Нужны крючья и побольше, веревка, а главное — силы и время. Именно то, чего напрочь нет. Есть только дождь, мокрый лед и близкая холодная ночь.
Огр, старый людоед, уверенно выигрывал по очкам.
* * *
— Все-таки попытаюсь, — решил Хинтерштойсер. — Если пройдем траверс обратно, прогребем вниз за день. Чезаре — парень крепкий, продержится.
Курц отвернулся, не став отвечать, но в воздухе валтасаровым письмом проступило слово «если». Левый край скалы-замка осмотрели вдвоем, сантиметр за сантиметром, даже наметили место для крюка, но каждый понимал: бесполезно. И снова проклятое «если». Если бы оставили на месте перильную веревку, были бы, считай, уже на другой стороне. Но как оставить, если (если! если!) нужна позарез?
«Не взял веревку, такая вот беда».
— Генрих Харрер рассказывал, — по-прежнему глядя куда-то в пространство, заговорил Тони. — У высотных альпинистов, которые по семитысячникам ходят, на маршруте чужих спасать не положено. Мимо мочалят, могут и не оглянуться. Словно тигры на охоте. Каждый подъем стоит, как два «хорьха», и готовится год, а то и больше. Вот и не хотят рисковать.
Андреас ничуть не удивился.
— Тигры — звери, чего от них еще ждать? И чужих я тут никого пока не вижу.
Тони молча кивнул. Повернулся, взглянул в глаза.
— Помнишь, я говорил тебе, что не начальства боюсь. Что есть судья иной, нелицеприятный, для которого нет людского закона, и жалости тоже нет? Чезаре нашу пайку получил. Мы касками прикрылись, но все равно нас достали. Мы итальянцев не бросим, а значит, и сами не уйдем. Всех мы с тобой обманули, вокруг пальца обвели — обер-фельдфебеля, штаб, полковника, «эскадрилью». А с Огром не выйдет, Андреас. По полной получим. Сам знаешь, есть за что.
Хинтерштойсер быстро оглянулся. Никого вокруг, только скалы. И Эйгер — он-то слышит.
— Мы никого не убили, Тони! Никого! Они уже были мертвые, мертвые!..
Курц горько усмехнулся в ответ.
* * *
Армия — не клуб по интересам. Начальству нет дела до солдатских причуд. Кто станет отпускать двух рядовых срочной службы на прогулку по горным склонам? И не раз в год, а чуть ли не каждый месяц? За опоздание журили, отправляли чистить Sitzungssaal, господин обер-фельдфебель привычно разевал хлеборезку на ширину приклада:
— Под тр-р-рибуна-а-а-ал!
А через пару недель — снова в поход. Одна стенка, другая, третья. Опоздание, выволочка от начальства…
— Куда теперь помочалим, Тони?
Командование знало, что и кому разрешать. Курц и Хинтерштойсер — лучшие из лучших, такие на особом счету. И спрос с них другой.
— Документы придется сдать, ребята. Если арестуют, крутитесь как хотите, выручать вас не стану. По всем штабным бумагам вы в самоволке. Вернетесь благополучно — с меня отпуск. Вопросы есть?
— Никак нет, герр оберст!
Бывают приказы, которые не положено оглашать перед строем. Но выполнять их тоже надо. Полковник Оберлендер, опытный альпинист, привычно доставал из рукава два проверенных джокера. Скалолазы «категории шесть» не подведут.
Поначалу Хинтерштойсеру это нравилось, да и Курцу тоже. В детстве, начитавшись Карла Мая, они играли в отважных индейцев. Теперь игра стала явью. Пробраться через границу мимо застав, встретить в горном ущелье нужного человека, передать-получить тяжелый пакет, обшитый грубым брезентом, поймать в объектив «лейки» чужой танк…
— Их новинка — D2, очередная модификация старичка «Рено». Сегодня же отправлю в Берлин. Спасибо за службу, горные стрелки!..
Работали чисто, ни стрельбы, ни драк, разве что дежурные синяки, спутники скалолаза. Отважным индейцам везло.
Последний приказ поначалу удивил. Не самоволка — отпуск по всем правилам. И задание смешное: помочь чудаку-ученому обследовать пещеру с привидениями.
— Меня зовут Отто Ган, господа. Привидений там, конечно, нет, но кое-что интересное обещаю. Пещера называется очень красиво — Bocca del Lupo. У вас как с итальянским?
Задание оказалось совсем не смешным, но чудак-ученый об этом так и не узнал.
— Когда мы пришли к пещере, они все были уже мертвые, Тони. Все трое! Их наверняка погубил красный свет — или луч, Filo di Luna. Мы ни в чем не виноваты!..
— Мы во всем виноваты, Андреас. У нас был приказ: подняться на гору и убить тех, кто окажется у пещеры. И мы шли убивать. Не наша заслуга, что опоздали. Просто кто-то перехватил заказ…
Хинтерштойсер хотел запротестовать, возразить, напомнив о самом простом. Они — солдаты, а приказ — он приказ и есть. Недаром сказано: «Солдат, не спрашивай!» Для того и присяга дается, перед Богом, не перед Ефрейтором. И не им отвечать, а тем, кто смерти тех троих возжаждал.
Не возразил, чудака-ученого вспомнил. Хороший он парень, доктор Отто Ган, хотя, конечно, на своем Граале повелся.
…Нет, не на своем. Грааль — Чаша Христова.
— Говорят, что Грааль отыщет тот, кто безгрешен, — сказал он как-то. — Ерунда, ребята, безгрешных среди нас нет. Но грех — он разный, главное, чтобы изнутри не грыз. Иначе никуда не попадешь — и голову зазря сложишь.
Туман сгущался, клубился перед самым лицом, дождь сменился градом, мелкими колкими льдинками. С недалекой вершины тяжелой волглой волной наползал холод.
Два человека над пропастью. Малый карниз — ладонь Огра-людоеда.
6
Пижама была испорчена напрочь, стирай не стирай, а масляным пятнам никуда не деться. Женщина подумала об этом мельком, по старой привычке. Когда-то вещи приходилось жалеть. Разделась, тщательно вытерла пальцы, сперва тряпочкой с ацетоном, потом все той же пижамой, и остановилась в нерешительности возле открытого чемодана. Что бы надеть по случаю войны? Что бы снять?
Сняла кольцо с саркофагом, спрятала подальше. Надела же брючный костюм, тот самый, памяти босса. Только пиджак оставила, повесив на спинку старого стула. Отошла к самой двери, взглянула, оценив.
Сейф недаром стоил дорого — индивидуальный заказ. Нижняя часть — обычная ячейка, в верхней же — сюрприз, складное нечто, очень похожее на гладильную доску. Если развернуть и закрепить шарниры, выйдет узкая, но прочная полка, как раз на уровне груди, металлический перпендикуляр, если считать от сейфа. От двери же — параллель.
На полке — гладильной доске — крепления, тугие винты. С ними она и возилась, устанавливая то, для чего они и предназначены. Управилась за час, спрятала инструмент в маленький чемоданчик, а потом занялась одеждой. «Dressed to Kill» — не ею придумано.
Женщина посмотрелась в маленькое зеркало над кроватью, поправив челку, и для верности еще раз вымыла руки у антикварного фарфорового рукомойника, помнившего еще баррикады Коммуны. Оставшись довольной, водрузила посреди стола бутылку «Dallas Dhu», чисто вымытый стакан, «парабеллум» и купленные в привокзальном киоске газеты.
Все? Нет! Из сумочки была извлечена ждавшая своего часа пачка красных «Gauloises» вместе с зажигалкой, а в шкафу нашлась старая треснутая чашка с павлином. Пить из такой не стоит, для пепельницы же — в самый раз. Сколько лет она не курила? Пять? Больше?
Первая затяжка обожгла. Женщина резко вдохнула воздух, с трудом сдерживая кашель.
Улыбнулась. Нет, оскалилась.
* * *
Замок Измены рассчитан на двоих. Она — комендант и начальник гарнизона, сам же гарнизон — Жожо, мастер ножа. Долги следует отдавать. Можно было заехать за старым апашем, раньше ночи сюда не придут, но в последний момент женщина решила воевать сама, без гарнизона. Жожо ей еще понадобится — живой и здоровый. Ничего, справится и так!
Виски пился, как вода, никакой минералки не надо. Женщина, с трудом заставив себя убрать подальше стакан, развернула газету, свежую «Le Matin». Если она уже на войне, то какие там сводки с фронтов? Ответил заголовок прямо на первой странице. «Вторжение! Немцы и венгры вошли в Чехословакию!» Читать не стала, слишком предсказуемо. После аншлюса Австрии ее соседка, приютившая чехов, словаков и русинов, была обречена. На австро-чешской границе нет своей «Линии Бенеша», как в Судетах. Зато есть венгры, мечтающие о восстановлении довоенных границ. И поляки в Тешине. Сталин обещал помочь, но между ним и чехами — все те же поляки. Амен!
Zemrel Ceskoslovensko, как сказал бы ее многоязыкий супруг. Подробности уже не важны. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов!
Женщина хотела отложить газету, но вовремя вспомнила, что Прагой мир не кончается. Есть еще Берн, федеральный город, — и Берн-кантон с горой Эйгер, 3970 метров над уровнем моря. Пока чехи еще воюют (если воюют!), старине Адди будет не до Швейцарии, что полностью отвечало ее планам.
Где тут у нас Гельвеция?
Новости отыскались на третьей странице. Женщина прочла, задумалась, плеснула виски на дно стакана и принялась читать еще раз, уже очень внимательно.
* * *
— Обычный рекламный ход, Лиззи, — объяснил ей О'Хара. — Вроде лаборатории Теслы. Не слыхала? У нас в Штатах хорвату долго не давали денег на опыты с электричеством. Слишком все сложно для тупых толстосумов из техасской глубинки. Однажды, уже ни на что не надеясь, Тесла повез очередного миллионщика в свою лабораторию, обычный такой домик в три этажа. А она возьми и взорвись — прямо на их глазах. Бах! Вместо домика — воронка, как от снаряда с линкора, только еще глубже. Чек Тесле выписали прямо в машине, штаны от пыли не отряхнув[83]. Я не уверен, что хорват сам все подстроил, там куча народу накрылась, его друзья, коллеги, но… Очень удачно совпало. Так и этот… Как его? «Пульверизатор-измельчитель для особо сложных горных работ»? Ну и название! Для шахтеров он слишком дорого стоит, разорятся. Но если эта штука, по ошибке, естественно, измельчит что-то другое… Спрячь подальше, Лиззи, нам таких подарков не надо.
На следующий день она заказала сейф.
7
Руку — вниз, точно в сторону цели. Посадка! Упругий воздух становится мягким, словно жидкое масло, серо-черные пятна растут, густея и распадаясь на фрагменты: гора, склон, неровная кромка ледника, снег на серых скалах. Облака остались позади, Метеор, сын Небесного Камня, завершает полет.
…В незапамятные времена упал с неба камень и раскололся. Из-под осколков выбрался Крабат…
Возле нужной точки — усыпанного белым нетронутым снегом горного ребра — скорость уменьшить, руку убрать назад… Медленнее, еще медленнее. Стоп! Перчатку-гироскоп параллельно камню. Вниз… Есть!
Под подошвами негромко скрипнул снег. Пилот-испытатель Крабат выпрямился, нащупал ногами твердь и отключил управление. Земля! Пусть не совсем, скорее, гора…
— Ребро Миттелледжи, — пояснил Капитан Астероид, успевший уже снять летные очки. — Путь к западному гребню Эйгера. Я первый раз чуть не промахнулся, скорость не рассчитал.
Марек оглянулся. Немудрено! Ребро — действительно ребро, слева и справа отвесный склон, путь-дорожка же — хорошо если в полтора метра шириной. А еще снег. С высоты и не разглядеть.
Негромкий щелчок. Отважный защитник Вселенной, в очередной раз обернувшись Робертом-пилотом, самым прозаическим образом закурил. Марек Шадов подумал о Герде, вспомнив пепельницу на ее тумбочке, и вздохнул.
— Вещи собрали?
Вначале Марек не понял и вновь оглянулся, зачерпнув глазами чистый белый снег. Чьи вещи? Где?
— Вы о чем, Роберт?
Пилот взглянул удивленно:
— О чемоданах. Ваших, Марек. Надо прикинуть, хватит ли места в самолете. У меня груз, не слишком много, но все-таки. И еще пассажиры. Я обещал вас отсюда вывезти, не забыли? Самое время, поверьте.
Марек Шадов поверил. Он бы и сам с большим удовольствием убрался подальше от всех здешних красот, но…
— Не могу, Роберт. Жду супругу, должна подъехать со дня на день.
— Предупредите, пошлите телеграмму, — пилот бросил недокуренную сигарету в снег, затоптал ботинком. — Вы что, газеты не читаете? Сегодня в Берн пожаловал сам Йозеф Геббельс, собственной колченогой персоной.
Марек смутился. Газеты он и вправду читал далеко не каждый день. Новости ему пересказывала Герда. Про колченогого и в самом деле что-то было. Какие-то переговоры по урегулированию…
— Ну, приехал. И что?
— Na politzanjatie by vas, tovarishh Shadov!
Роберт-пилот даже головой покачал:
— Какие вы тут все в Европе аполитичные! А потом еще удивляетесь, откуда Гитлеры берутся! Колченогий приехал, чтобы подписать декларацию об особом статусе немецких кантонов Швейцарии, естественно, при полном сохранении суверенитета, нерушимости границ и прочего подобного. Но даже если это вам не интересно, Марек… Из Берна Геббельс едет прямо сюда, в «Des Alpes». Оценили?
Марек хотел спросить зачем, но вовремя прикусил язык. И в самом деле, пора na politzanjatie. «Эскадрилья прикрытия „Эйгер“» уже на полпути к скальному гребню. «Свободен путь для наших батальонов, свободен путь для штурмовых колонн!..» Кто первый поздравит покорителей Норванда, если не министр пропаганды?
— Нам с Гердой придется остаться, Роберт. Если бы вы могли подождать еще дня два…
Пилот шагнул ближе, поглядел прямо в глаза.
— Попросите мое начальство. А лучше сразу — Кремль. Приказ на эвакуацию пришел прямо оттуда. Дело не только в колченогом, Марек. В Европе назревает что-то серьезное, хуже войны в Чехословакии. Я сделал что мог, выполнил все приказы. Осталось одно — спасти вас и вашу дочь. Мы своих не бросаем, tovarishh Shadov.
— Спасибо…
Белый снег потемнел, скалы подернулись сизой дымкой. Солнце исчезло, скрывшись в густом облачном месиве. И сразу же тугой упругой перчаткой ударил холод.
Вечер наступил слишком рано.
8
— Предупреждали тебя, между прочим. Не умеет человек летать. Не дано! Что на этот раз ушиб?
В каменном голосе Огра-людоеда то ли сочувствие, то ли злорадство, не разберешь. Хинтерштойсер и не пытался. Встав на ноги, вытер кровь с лица, выплюнул изо рта соленую горечь и отбросил подальше бесполезную веревку.
Больно!
Обратный траверс — четвертая попытка. Четыре раза маятник взлетал над холодным скальным «зеркалом». Андреас делал что мог, работал на пределе сил, за пределом, без сил… Не вышло!
Болело все: старый ушиб на боку, новый — плечо и локоть, разбитая в кровь скула. Камень отталкивал человека прочь, бил, резал, кусал.
— Умный в гору не пойдет, — подвел итог голос-людоед. — Знаешь, не так и глупо звучит.
Андреас помотал головой, прогоняя наваждение и слабость, прикинув, как в следующий раз взлететь половчее. Оттолкнуться раз, оттолкнуться два…
— Хватит на сегодня, — негромко проговорил Курц. — Уже темнеет. Завтра с утра сам попробую. Иди сюда, лечить тебя будем.
Хинтерштойсер хотел возразить, но понял, что друг Тони прав. Силы ушли, и день ушел. Остались холодные скалы, неприступный замок, снежная вершина в туманной дымке. А еще — боль.
Курц достал аптечку, помог снять куртку. Холод, словно того и ожидая, вцепился в тело. Андреас героически превозмог и лишь зажмурился, когда йод коснулся кожи.
— Итальянцы — как?
Спросил шепотом, но Курц ответил в полный голос:
— Да все в порядке. Джакомо ужин приготовил.
Хинтерштойсер от удивления даже открыл глаза, но тут же все понял. Оба, полиглот и рыжий, были рядом. Джакомо стоял, Чезаре честно пытался держаться на ногах, цепляясь за каменный выступ. Поверх окровавленной повязки кое-как пристроилась вязаная шапочка с помпоном.
— A proposito di unguento, — непривычно тихо, осенней пчелой, прогудел рыжий. — Pomata raccontare! Molto, molto buono!
Джакомо кивнул:
— Да, конечно… Ребята, у нас есть отличная мазь от ушибов. Два часа — и все, как рукой. Сейчас принесу.
Андреас прикинул, что придется снимать свитер вместе с рубашкой, заранее вздрогнул.
— Неси!
* * *
Все было бессмысленно, и Хинтерштойсер это прекрасно понимал. Траверс обратно уже не пройти. Остается искать обход, дюльферять вниз, тычась из стороны в сторону слепыми беспомощными щенками. Бесполезно, склон практически отвесный, не пройти, не зацепиться. Разве что дальним крюком, через Первое Ледовое, но Чезаре нужен врач, и чем скорее, тем лучше. Если (когда!) свалится, далеко не унести.
Вспомнилась смотровая площадка отеля. Каменный парапет, стулья, зонтики. Подзорные трубы. Весь день постояльцы от них, поди, не отлипали, любовались под свежее пиво с солеными сухариками. Репортеры исписывали листок за листком, составляли тексты телеграмм, брокеры принимали ставки, просто любопытствующие охали и ахали, тыча свернутыми газетами в сторону склона. Каждому свое! Suum cuique, если на подзабытой латыни.
Хелена наверняка тоже там, но смотрит не на них, а на «эскадрилью». Ей фильм снимать, хороший фильм. Там будут горы, снег и много крупных планов. Художнику без разницы, кто его натурщик, эсэсовец, «болотный солдат» или покалеченный горный стрелок двадцати трех лет от роду. Но эсэсовцы — они фактурнее, киногеничнее, им каждый кинотеатр в Рейхе будет рад. А ему, дезертиру, даже надпись «The End» не положена. Только нетронутый снег — и пустое небо. Драккар не пристанет к янтарному пирсу.
«Мы как тени — где-то между сном и явью, и строка наша чиста…»
Он честно пытался заставить себя думать о чем-то другом, хотя бы о завтрашнем утре, но стало еще хуже. Когда рассветет, все, даже Курц, будут смотреть на него, Андреаса Хинтерштойсера. Что им сказать? А главное — что сделать?
Тяжелый сон накрыл его вязким влажным одеялом, но Хинтерштойсер все не мог успокоиться, все искал ответ. Не находил, отчаивался. И снова искал.
«…Мы живем от надежды до надежды, как солдаты — от привала до креста…»
9
…И только когда за окном стемнело, и тени на полу сомкнулись густым черным ковром, женщина поняла, чего не достает в ее Замке: напольных часов — с медным маятником, больших, со шкаф размером. Самое им место слева от двери, от дальнего же окна — справа. Негромкое «тик-так!» распугивало бы тишину, а ежечасное гулкое «бом-м-м! бом-м-м!» бодрило бы, не позволяя уснуть. Но часы имелись лишь наручные, на тонком золотом браслете, бесшумные и бесполезные.
Когда она первый раз поднялась по скрипучей внешней лестнице, стараясь не касаться грязных, давно не крашенных перил, ей подумалось, что внутри нет даже электричества, только керосиновая лампа, а то и подсвечник с пыльным огарком. Ошиблась. По стенам змеилась новая проводка, а ламп было целых две — люстра под потолком и бра над железной кроватью, тоже современные, не в тон эпохе. Ничто не мешало щелкнуть выключателем, достать недочитанную «Le Matin», и под очередную сигарету (уже полпачки! боже!) прочесть о чем-нибудь совершенно постороннем. Допустим, о грандиозном скандале, устроенном великой Кирией в Мельбурне во время выступления в зале Элизабет Мердок. Лирико-драматическое сопрано учиняет драку с рукоприкладством прямо на сцене. Браво! Бис! Репортаж на всю полосу!..
Свет, однако, женщина включать не стала. Зажигалку спрятала, отставив подальше недопитую бутылку, и устроилась в глубоком продавленном кресле. Укрылась одеялом, положила «парабеллум» под руку. Чувствовала — придут, и скоро, до ночи ждать не станут. Что ж, она готова. «Пульверизатор», толстая стальная труба, похожая одновременно на ручной фонарик и на маленькую турбину, направлен точно на середину двери. Все по инструкции: расстояние, диаметр «зоны пульверизации», характер горной породы. С последним решилось просто, режим «Прочее», расстояние же выставлено впритык к противоположной стене — той, что за дверью. Что из этого всего выйдет, женщина даже не представляла, но «измельчать» собственный Замок ей не хотелось. А если не сработает… Пистолет под рукой, патроны тоже.
С рукоятками и верньерами она разобралась, вывинтила предохранительный колпачок, нажала на кнопку. «Турбина» осталась недвижной и безгласной, но на левом боку вспыхнула маленькая красная лампочка — предварительная готовность.
В доме было тихо, тихо во дворе, в окна глядела Мать-Тьма, воображаемые часы в углу пробили девять. «Бом! бом! бом!..» Женщина в очередной раз попыталась поставить себя на место тех, кто начал охоту. Хотели бы убить, убили бы сразу, еще в отеле. Значит, решили для начала спугнуть, заставить уйти в бега. А затем, проследив, перехватить в глухом месте, хотя бы среди швейцарских гор… Замок Измены спутал все планы, следовательно, надо ждать поздних гостей. Армию не пришлют, она здесь одна, хватит и двух-трех отставных апашей. Идеальные условия для испытания устройства для горных работ.
Странную, ни на что не похожую технику им начали поставлять три года назад, по смешным ценам, а то и бесплатно. Объяснили просто: рекламная кампания, пробные образцы должны привлечь внимание потенциальных клиентов. «Структуре» предлагали быть посредником за процент в грядущих прибылях. Такое еще можно понять, но слишком уж невероятным казалось то, о чем рассказывали проспекты. Все это походило на нелепый розыгрыш, но проспекты не лгали. Неправда была в ином: фиктивные адреса, несуществующие фирмы-производители. «Пульверизатор» был записан как детище компании «Rolling, Garin and Monroz». Одна из фамилий походила на русскую, и женщина решила посоветоваться с многоязыким супругом. Тот очень долго смеялся[84].
— Никто торговать не собирается, Лиззи, — рассудил О'Хара. — Всю эту технику хотят подбросить военным — с нашей помощью. А вот для чего? Самое простое — думают кого-то здорово напугать. Кандидатур не так много, мы вправе передавать экземпляры всем, кроме Германии. Кстати, самые интересные из образцов, представь, описаны в фантастических книжонках, даже чертежи умудрились туда вставить. Марсианские технологии, оружие Черного Злодея. Неглупо, Лиззи! Вот только нам не стоило с этим связываться.
Она не спорила с боссом, но поступала по-своему. Оружие Черного Злодея (из «особого списка», как выразился ее знакомый по имени Роберт) позволило приобрести очень полезных друзей.
…И врагов тоже. О'Хару откровенно побаивались, но теперь, когда он исчез, «Структуру», кажется, хотят испытать на прочность. Осталось узнать, кто кого первый измельчит…
* * *
Тень за окном — дальним, рядом с воображаемыми часами, она заметила в девять тридцать пять. Темное стекло, как раз над деревянной лестницей, стало еще темнее. Всего на миг, но женщине этого хватило. Началось! «Поздно ночью переулком шел с Бабеттою Каде. Темнота кругом, ни звука, ни живой души нигде…»
Пистолет — в руку. Замереть. Самой стать тенью.
«Побледнев, сказал Каде: „Моя милая Бабетта, странно это, странно это, странно это, быть беде“».
10
— …Четыре писсуара в здании персонала и две уборных в пятом бараке, — добродушно пророкотал господин обер-фельдфебель голосом Огра-людоеда.
Хинтерштойсер понимал, что самое время пробудиться, но, вопреки всему, упорно цеплялся за ускользающий из рук краешек сна-одеяла. По другую сторону тоже не слишком весело.
— И… и еще дважды пройти травер-р-рс, — прибавил забот Эйгер голосом господина обер-фельдфебеля. — Кстати, Хинтер-р-рштойсер-р-р, плечом ты пр-р-риложился очень кр-р-репко. Сейчас заболит… Хинтер-р-рштойсер-р-р!..
Андреас, зная, что и это правда, попытался сжаться в маленький круглый комочек, чтобы закатиться в самые глубины сна…
— Хинтерштойсер! Это вы?
И все-таки проснулся.
— Я. Так точно!..
Ответил даже не думая, уж слишком веско спросили. Хотел даже доложить по всей форме: горный стрелок, в самоволке, высота приблизительно два километра двести метров… Не успел — открыл глаза.
Мир выглядел неправильно. Кто-то всесильный, не слишком считаясь с реальностью, подмял его под себя, уверенно и мощно. Слева и справа — скалы, он, Андреас Хинтерштойсер, между, в узком проеме, по подбородок в спальном мешке. В полуметре от его ног — пропасть, те самые два двести. А над пропастью, упираясь ногами в черную пустоту…
Ударил белый электрический луч фонаря, и Андреас поспешил закрыть глаза. Когда же открыл и проморгался, пропасть попирали уже двое: тот, что с фонарем, — поближе, и еще один, подальше, почти незаметный в сырой темноте.
Белый луч пробежался вдоль каменного карниза, дрогнул, исчез.
— Эй, Андреас! — громким шепотом позвал Курц. Друг-приятель устроился в таком же проеме, но правее. А слева, за острым скальным зубом…
— Oh, mio Dio! Il mio Angelo custode e sempre con me! Madonna! Madonna, salvami, e abbi pieta!..
Стоявший над бездной, подождав немного, поднял правую руку вверх.
— Внимание! Все, как я слышу, проснулись, поэтому будем знакомиться. Я — Капитан Астероид!
* * *
Луч фонарика, вновь проскакав по камням, скользнул левее — туда, где ночевали итальянцы, заплясал и наконец замер, словно тонкая белая шпага.
— Questo sono io, signor Capitano! — невесело констатировал голос рыжего Чезаре. — Tutti fallito! Questo quanto ho sfortunato!
— Va bene![85] — согласился голос-полиглот. — Мы всех подвели, синьор. Если будет ваша воля, помогите ребятам, а меня здесь можно оставить. Доползу как-нибудь.
Докладывать выпало Курцу, как самому основательному. Друг-приятель уложился в три минуты с несколькими пфеннигами. Андреасу хватило бы и одной фразы, даже слова. Влипли! И обсуждать тут нечего.
Как выяснилось, он слегка ошибся.
— Наблюдатели заметили, что ваша четверка повернула назад, — негромко заговорил Капитан Астероид. — И что один из вас, скорее всего, ранен. Что ж, вопрос ясен. Итальянскую команду мы эвакуируем…
— Синьор! — отчаянно воззвал Джакомо. — Синьор!..
— Вы же не бросите товарища? Там, внизу, вы теперь нужнее, сюда едет итальянский консул, будете с ним разбираться… Итак, это мы организуем прямо сейчас, но что делать с вами, ребята?
— С нами?!
Вместе выдохнули, в один голос. Капитан Астероид, однако, ничуть не впечатлился.
— Вы потеряли целый день, устали, вымотались, потратили силы. Уверен, были травмы. Погода отвратительная, прогноз еще хуже: туман, дождь и, вероятно, сильное похолодание. «Эскадрилья» еле ползет, австрийцы сильно отстали. Букмекеры, сволочи, перестали принимать ставки, так что вы, ребята, уже вне игры. Был бы я вашим командиром, просто отдал бы приказ. Вы хотите победить, понимаю, но побеждают только живые.
Андреас и не пытался спорить. Все так и есть, он бы и сам снял их «двойку» с маршрута. И «гангстеров» с австрийцами снял бы, Эйгеру-людоеду плевать на приказы фюрера. «Мы разбивались в дым, и поднимались вновь…» Но погибшим не подняться, не пойти в новую атаку.
«…Я отобью у тебя охоту умирать, Хинтерштойсер!» Я не хочу умирать, Хелена!
Спорить и в самом деле незачем и не с кем. А если не спорить?
— Погодите немного! — попросил он. — Мне нужно подумать… Нет, мне нужно увидеть!..
* * *
И Хинтерштойсер увидел. Мать-Тьма неслышно отступила, отдавая пространство глубокой вязкой синеве. Ни ночи, ни дня, лишь Небо и Гора. Эйгер, не людоед, не великан из страшной легенды, просто очень большой камень треугольной формы.
…Нет, не треугольной! Это на картинках и в туристских проспектах он такой. В реальности — трапеция, почти правильная, только верхний край скошен острым углом вправо.
Андреас закрасил гору серым. Большая красная точка — их ночной приют. Прошли не слишком много, едва больше трети. Устали, набили синяки, а впереди Первое Ледовое (на бис!). Однако теперь у каждого будут «кошки», можно взять у Чезаре. Дальше взлет-проход, гладкая опасная «вертикалка», считай, отрицалово. Трудно, но решаемо… Второе Ледовое поле — не поле, конечно, стена, местами сплошной рукоход…
…Но прогрести можно! И похуже проблемы выпадали. Если не спешить, не гнать волну… А зачем спешить? Припасы есть, итальянцы своими поделятся, не откажут. Погода? Дрянь погода, но за Первым Ледовым дождя уже не будет, тучи останутся внизу.
Ярко-желтая, в цвет полуденного солнца, линия уверенно ползла вверх, рассекая серую трапецию. «Утюг», «Рампа», «Снежный Паук», небольшой, но опасный ледник… День? Меньше? Пусть даже целый день, но за «Пауком» — выходная трещина, прихожая, за которой вершинный гребень. Солнечная линия разрубила его пополам. Вершина! Есть!
— Так мы же прогребем! Замочалим!..
Он понял, что сказал это вслух, но ничуть не смутился.
— Тони! Господин Капитан! Мы пройдем Стену. Мы можем пройти!
11
Она услыхала звук мотора и с трудом удержалась, чтобы не вскочить. Нельзя! Тот, кто смотрел в окно, мог никуда не уйти, затаиться на лестнице. Встать ей все равно придется, но чуть позже, перед тем, как постучат в дверь. Женщина вспомнила темно-синий «Citroen Rosalie» 1932 года. Не он ли сейчас въезжает во двор? «Говорит Каде Бабетта: „Полно трусить, мой дружочек…“» Вполне возможно, только в голливудских фильмах гангстеры каждый день меняют машины… Мотор рычал уже совсем близко, у самой лестницы. Значит, остановились. «…Тут мы ставим много точек, здесь у нас конец куплета».
Стихло! Ключ зажигания повернут, вынут, сейчас хлопнут двери. Хлопнули! Одна, вторая… Третья? Женщина ждала, что гости заговорят, но услыхала лишь скрип старых деревянных ступеней. «Весь от страха холодея, в темноте Каде дрожал. Вдруг выходят два злодея, и у каждого кинжал…» Не два, минимум трое, как на сцене «Paradis Latin», под бумажной Луной.
Пора!
Она вскочила, как и полагается в танце «Апаш», рывком, бросив тело направо, под защиту стальной трубы. Пальцы легли на холодный металл. Рукоять переключателя в самом торце, вправо — и до упора, до щелчка. Но тогда уже пути назад не будет. Сейчас? Нет, немного погодить, стрелять через дверь не станут, не за тем приехали. А послушать интересно.
…Шаги на лестнице, шаги за дверью, тяжелые, уверенные. Наглые. Кашель. Неужели так и будут молчать? «Говорит опять Каде: „Моя милая Бабетта…“».
Не заговорили — врезали по дереву чем-то увесистым, словно ночные сторожа в старину своей колотушкой. Спите спокойно, жители города Парижа! «…Странно это, странно это, странно это, быть беде…»
— Кто там? — спросила она, желая услышать чужую речь. Пальцы на рукояти переключателя стали льдом.
— Телеграмма, — ответили ей, грубо и хрипло. — Отворите!..
Женщина поразилась наглости незваных гостей. Назвались бы еще смотрителями Лувра, выдумщики! Впрочем, каков вопрос — таков и ответ. «Говорит Каде Бабетта: „Что тут странного не знаю…“».
— Подсуньте телеграмму под дверь.
«…Здесь, пожалуй, запятая, и опять конец куплета».
— Когда говорят — отворите, нужно отворять, — наставительно заметил гость, но уже другой. Женщина понимающе кивнула. Все по сценарию. Как там дальше? «Вор сказал: „Гони монету. И часы с Каде сорвал…“» Не выйдет, гости дорогие, изменение в программе. Вместо кошечки-Бабетты, на сцене Эльза, женщина-змея!
…Что ж, апаш, станцуй со мной, я танцую — и плачу.
Легкий щелчок. Из раструба на другом конце трубы ударил красный — нет! — багровый луч. На дверь словно плеснули кровью. Яркий огонь, широкий ровный круг высотой под самую притолоку, прогнал тьму прочь. В пурпуре света бешено заплясали потревоженные пылинки. Можно засекать время, пять минут, если верить инструкции.
Или все-таки предупредить? Вдруг и вправду — телеграмма?
12
— …Веревки бы еще нам, — Хинтерштойсер честно попытался улыбнуться, но губы плохо слушались. — Чтобы каждый метр не считать. А то неудачно вышло…
— …Такая вот беда, — равнодушным голосом закончил Капитан Астероид.
Андреас решил, что ослышался. Или совпало просто. О словах же своих пожалел — откуда у этих, из поднебесья, специальный альпинистский шнур? Обычная веревка на Стене без надобности. Хотел сказать, что пошутил…
— Есть веревка!
На этот раз голос был незнакомый. Тот, кто прятался в темноте, незаметно подобрался к самому краю скалы. То есть не подобрался даже, не подлетел, а… Подплыл? Да, похоже.
— Пилот-испытатель Крабат! — Небесный гость не слишком ловко подбросил ладонь к шлему. — Благодарите ваших товарищей, весь лагерь скинулся. Там еще всякая мелочь, но вы уж сами разберитесь.
Рюкзак, достаточно увесистый, бухнулся прямо в протянутые руки. Хинтерштойсер сглотнул:
— Сп-пасибо!
Прозвучало как-то несерьезно, словно за сигарету поблагодарил. К счастью, друг Тони не зевал, выручил:
— И от меня — спасибо! Вы не просто спасли четырех человек, вы сделали больше — доказали, что люди остаются людьми!
Андреас одновременно и восхитился (ух, завернул!), и слегка позавидовал. Не сподобил такому Творец!
Капитан Астероид отдал честь — четко, словно на плацу:
— Принято! Будем такими и впредь!.. Ребята, мы сейчас займемся раненым и его товарищем, а потом сразу — вниз. Какие-нибудь просьбы есть?
— Нет! Остальное мы сами, — Курц.
«Нет!» — хотел повторить Хинтерштойсер, но внезапно ответил «Да!» Устыдился (при всех же!), но понял, что отступать некуда.
— В отеле живет одна женщина, она кинорежиссер, фильм снимает…
Небесные гости переглянулись.
— Встречались, — кажется, пилот-испытатель Крабат улыбнулся. — Носит белый пиджак и ловит фактурных детей.
Хинтерштойсер подался вперед, рискуя слететь со скалы:
— Она, точно! Передайте, пожалуйста, ей… Хелене, что у нас все в порядке. И еще…
Записку писать было некогда и не на чем, и Андреас просто сунул руку в карман куртки. Нащупал, первое, что попалось, протянул:
— Это вроде печати на конверте.
Не одному другу Тони говорить красиво!
— Обязательно передам, — пообещал пилот-испытатель. — Фактурно выйдет.
* * *
— Тони, Тони! Ты чего-нибудь понял, Тони?
— А что тут понимать, Андреас? Военные, ясное дело. У Капитана, между прочим, акцент. Чья-то армия готовит хороший сюрприз Ефрейтору. Представь, сотня таких — да с неба. Перед рассветом, когда все в окопах дрыхнут. Ganz plemplem!..
— Ничего-то ты не понял! Их же Ингрид прислала. Веревка — это, думаешь, случайно?
— Все-то я понял, Андреас. Замечательная она девушка. Только…
— Только ты, Тони, болван болваном. Как с горы скатимся, лови ее, хватай и увози, хоть в Северную Америку, хоть в Южную. А жениха мы на Второе Ледовое поле подгребем — и там оставим.
— Я — болван, а ты, Андреас, умник, кто бы сомневался… Кстати, что ты своей Хелене передал? Кольцо?
— Чего-о-о? Да я просто из кармана… Стоп! Мы крючья отбирали, еще в Берхтесгадене. Один бракованный был, помнишь? Мы его слегка тюк, а он, мерзавец, пополам. Я тогда половинку в карман сунул, чтобы продавцу в нос ввинтить вместо…
— …Кольца. Верхняя часть крюка с проушиной. А что, на палец как раз налезет.
— Нет, Тони! При чем здесь… Нет, нет! Нет!!!!
13
Круг на двери стал заметно светлее. Уж не багрец — рассвет над морем. Корпус «пульверизатора», нагревшись, мелко завибрировал. Одна за другой начали вспыхивать лампочки — белая, синяя, красная, снова белая.
…Низкий тревожный гул, еле различимый, на пороге слышимости.
— Господа! Кто бы вы ни были, прошу оставить телеграмму под дверью и немедленно уйти. Через пару минут здесь будет очень опасно. Я не желаю, чтобы кто-нибудь из вас пострадал…
Женщина старалась говорить как можно спокойнее и четче. В этот вечер ей не хотелось убивать.
— …Если не верите мне, сойдите вниз и перезвоните своему начальству. Но — уходите. Сейчас! Быстро!..
За голосом не уследила, последние слова ударили криком. Круг на двери был теперь бледно-розовый, словно кожа младенца. Сколько осталось? Минута? Меньше?
Гости промолчали, ответом стал удар. На этот раз били основательно, дверные петли выдержали, но на последнем пределе. С тихим шелестом осыпалась штукатурка. Женщина взяла парабеллум, сжала в руке.
— Не вздумай стрелять, la tabarnac de pute! — предостерег голос, уже третий. — Прямо на кровати, une vieille bique, разложим, а потом в ножи возьмем, на ломти настругаем! Открывай, ta me`re est une salope!..
И снова — удар в дверь. И снова — шелест штукатурки. Розовый свет сменился белым, звук загустел, надавил на уши. Световой круг, словно отделившись от дерева, стал осязаемо тяжелым, объемным. На левом боку стальной трубы вспыхнула и замигала большая зеленая лампа — кошачий глаз…
— Saperlipopette, открывай!!!
Дверь упала — точно навстречу вырвавшемуся из турбинного зева огненному шару — маленькому, раскаленному добела солнцу. Вспышка!
Тишина…
Женщина отскочила назад, прижавшись затылком к холодной стене. Ну что, моя милая Бабетта? Неужели это все? Дверь никуда не делась, лежит вдоль стены, петли сорваны, выбита задвижка. И за дверью, на лестничной площадке, все по-прежнему, только пусто. Сгинули! «И дрожа, сказал Каде: „Моя милая Бабетта…“».
Гудение стихло, потухли лампы на стальных боках, светил лишь «кошачий глаз». Женщина хотела вытереть пот со лба, но вовремя сообразила, что держит в руке парабеллум. Оглянулась, посмотрела в темное окно. Никого! Все трое были на лестничной площадке, — где сейчас тоже никого, пусто! «…Странно это, странно это, странно это, быть беде».
Она осторожно шагнула вперед, к упавшей двери. За спиной что-то взвыло. Женщина быстро обернулась, подняла пистолет…
«Кошачий глаз» мигал. Аппарат вновь ожил, но теперь не гудел, а резко и противно пищал. Женщина вспомнила — и перевела дух. В инструкции о таком ничего не говорилось, но был указан срок — полчаса. Затем — «самоликвидация», понимай как знаешь. «Но молчит в ответ Бабетта, зарумянившись, как роза…» Образец рекомендовалось перенести в дальний штрек и не подходить к тому, что от него останется, в течение суток. «Rolling, Garin and Monroz» заранее извинялись за доставленные неудобства. Коммерческая тайна, ничего личного! «…Тут мы ставим знак вопроса, здесь опять конец куплета».
Отсчет начался, слушать писк было невыносимо, и женщина, решившись, включила люстру и подошла к двери. Желтый электрический свет прогнал тени.
«А потом быстрее ветра друг ее домой сбежал…»
…Вначале она увидела круг — ровный выжженный контур на противоположной стене. Кажется, с расстоянием слегка не угадала, пусть всего на пару миллиметров. Дверь же, пусть и лишившись петель, уцелела — «зона пульверизации» начиналась как раз за нею. Но там все было по-прежнему, так же, как и до прихода незваных гостей, по крайней мере, на первый взгляд. Стены, потолок, слева порожек, за ним еще одна дверь, ведущая на лестницу. «…А злодей всю ночь Бабетту, обнимая, провожал…» На полу — ничего, то есть почти ничего…
Шляпа!
Обычный фетр, не слишком модный «котелок» — в углу, слева от выжженного круга. «Для одних грабеж беда, а другим и горя нету…» А еще левее, там, где должна быть внешняя дверь… Женщина нащупала левой рукой платок в кармане брюк, вынула, долго протирала лицо. Ни двери, ни стены, за порожком — наружная лестница без двух верхних ступенек. Она учла высоту, но не подумала о диаметре.
«…Странно это, странно это, странно это, господа».
Срезало!
Женщина, ступив на упавшую дверь, вышла на площадку, прикидывая, можно ли будет сойти вниз. Решила — можно, только с чемоданами придется повозиться. Под каблуком что-то хрустнуло. Не обратив поначалу внимания, она попыталась пройти дальше. И снова хруст, словно под ноги попал мелко дробленый уголь.
Удивилась, скользнула взглядом, затем наклонилась.
Это и был уголь, небольшие острые кристаллики, только не черные, а темно-красные, в цвет спекшейся крови. Неровная горка-террикон — прямо за дверью, россыпью. Кто-то не слишком ловкий опорожнил ведро — и ушел себе дальше.
«И едва наступит ночка, вновь идет гулять Бабетта…»
«Пульверизатор-измельчитель для особо сложных горных работ». Степень пульверизации — максимальная. Характер породы — прочее. От лаборатории хорвата Теслы осталась воронка. Здесь все кончилось ведром мусора.
Обычный рекламный ход…
«…Тут пора поставить точку, хоть и странно очень это!»[86]
* * *
Телеграмму она нашла в перчаточнице темно-синего «ситроена», уже уложив вещи в багажник и заведя мотор универсальным «ключом угонщика», подарком Жожо-апаша. Следовало спешить, время текло слишком быстро, а рядом не было подходящего штрека. Во что превратится Замок Измены, ей не хотелось и представлять. Пусть! Домик снят на чужое имя, а небольшая кучка угля ничему никому не докажет. Перчаточницу женщина открыла больше по привычке. Мало ли? Марек, рисковый мальчишка, обычно кладет туда пистолет… Нащупав хрустящий бланк, удивилась совпадению, но все же решила взглянуть. Включила свет в салоне…
Прочитала. Задумалась.
Женщине не нравился запах глициний, слишком приторный, слишком сладкий. А еще меньше ей хотелось вновь оказаться на Площадке признаний, именуемой также Площадкой самоубийц. Запах остывающего асфальта, пустое шоссе, ровный чистый гравий под ногами, густой хвойный дух…
Европейский Призрак сложил из карты континента панамку — и носил, пока не истрепалась. Война — отец всему и царь. Царь и отец Войны очень хотел видеть госпожу Ильзу Веспер.
14
— Вам точно сюда, Марек? Вы не ошиблись?
На этот раз голос Капитана Астероида звучал совершенно не по-геройски. Спаситель Галактики был явно растерян.
— Да! — как можно тверже ответствовал пилот-испытатель. — Именно сюда!
Поглядел вниз. Поежился. Вздрогнул.
Марек Шадов был уверен, что вершина Эйгера — темечко Огра! — выглядит иначе. Ему представлялась площадка, пусть небольшая и не слишком ровная, но все-таки твердь, на которую можно стать ногами. Где там! Белый пик, хорошо различимый с балкона, оказался таковым и вблизи — острый, покрытый слежавшимся снегом. Слева — резкий уклон, справа — обрыв, ровная вертикаль. Взобраться в принципе можно, но это уже не альпинизм, а чистый балет.
…Черное небо, яркие летние звезды. Облака остались далеко внизу. Ветер. Мороз.
— Без десяти двенадцать, — Роберт-пилот взглянул на светящийся фосфором циферблат наручных часов. — Если слегка отвлечься от реальности… Удачное, я вам скажу, место для встречи с агентурой. Летающую контрразведку пока еще не изобрели. Снимаю шлем!
Шлем, летные очки, равно как и все прочее, герой снимать, естественно, и не пытался. Комбинезоны оказались с подогревом — маленький переключатель слева на поясе, но холод все равно пронимал до костей. Внизу — почти четыре километра, даже подумать страшно.
— Почему сразу — с агентурой? — удивился Марек. — А вдруг у меня свидание с прекрасной синеглазой девушкой, которая летает на эфирном корабле и поет марсианские песни?
Спаситель Галактики негромко рассмеялся:
— Нет, такое в отчете писать нельзя, лечиться отправят… Ладно, Марек, рискну, оставлю вас тут, только до рассвета не забудьте вернуться. И не вздумайте выключать аппарат, мигом унесет. А я в ангар, стану собираться, завтра с утра — взлет. Может, все-таки забрать вас с дочерью? Я не стану вас вербовать, Марек, незачем. Но один вы ничего не сможете. Сами погибнете — и семью не защитите. Вы точно решили остаться? Не передумали?
Пилот-испытатель понимал, что это было бы самым разумным. Кого он здесь ждет — и дождется? Ильзу — или Черного клоуна? Если бы Роберт мог хотя бы денек повременить!
Порыв ледяного ветра ударил в лицо, зыбкая твердь под подошвами дрогнула, заходила ходуном.
— Остаться не могу, — понял его Капитан Астероид. — О наших полетах, уверен, уже доложили в Берлин, а дня через три узнает и Муссолини. Итальянцы — ребята честные, но мой давний знакомец Антонио Строцци разговорит их с ходу, легким касанием.
Марек не стал спорить. Пусть и так. А все равно, хорошо вышло!
* * *
Чезаре и Джакомо они доставили почти к самому палаточному лагерю. Это оказалось не слишком сложно, пристегнутый ремнями «пассажир» сразу терял вес, подхваченный неведомой энергией рюкзака-«блина». Труднее было остановить бурный поток красноречия — спасенным очень хотелось найти нужные слова. В кармане комбинезона лежал серебряный нательный крест — подарок Джакомо-полиглота. Отказаться Марек не смог.
Итальянцы в единый голос обещали молчать о небесных гостях. Чезаре даже сложил легенду о героическом «дюльфере» — прямо от Красного Зеркала к самому подножию.
— Lungo la corda, signore! Очьень! Ну совсем очьень длинная вере-вика! Molto, molto lunga corda! Lunghezza!..[87]
Ребят, конечно, заставят говорить. И пустят гончих по следу. Черный клоун окажется в хорошей компании.
И ладно!
…Из-под осколков выбрался Крабат и зашагал по земле. С тех пор он среди людей и делает то, что велит ему совесть.
* * *
Мать-Тьма смотрела в глаза. Холод и ветер мешали вздохнуть. Белый снег на каменном клыке равнодушно отблескивал в неярком свете звезд. Метеор, сын Небесного Камня, остался один на самом темечке Огра-людоеда.
Он ждал — и дождался. Светящиеся фосфором стрелки еще не успели сойтись на цифре «12», когда тьму рассекла беззаконная белая молния. Пронеслась над каменным острием, зависла на миг — и ударила в пустоту прямо перед его лицом.
— Здравствуй, Отомар! — улыбнулась Вероника Оршич. — Я знала, что ты не опоздаешь!
Глава 10. Призрак
«Черное общество» и Желтый Сандал. — Зал ожидания. — Свободный полет. — Чужой сон. — А потом выкурил сигарету. — Пасть льва. — Веранда. — Белая птица. — Чужак в чужой стране. — Солдаты разных армий.
1
Разговор о «Черном обществе», чаще именуемом «Триадами», состоялся за два года до отъезда из Шанхая и за полтора до того, как Марек встретил ЕЕ. Поводом стало очередное поручение работодателя. Желтому Сандалу, еще не носившему столь сомнительное звание, предстояло встретиться с настоящим Желтым Сандалом, офицером по связям одного из тайных обществ с неброским названием «12 К». Марек мог лишь подозревать, что связывало скромного мистера Мото с китайскими разбойниками, на дух не переносившими сынов Ямато. Впрочем, его работодатель был очень странным японцем, что, вероятно, учли в «12 К». Миссия казалась на первый взгляд несложной. Требовалось вручить деревянный ларец с письмом — и выслушать собеседника, ежели таковому приспичит поговорить.
Приспичило. Сколь Марек, в китайских церемониях весьма поднаторевший, ни был вежлив, Желтый Сандал, молодой парень, годами его слегка старше, что-то почувствовал. Отставив в сторону чашечку с чаем (желтым!), офицер по связям общества «12 К» на неплохом немецком сжато и весьма понятно объяснил собеседнику, что тот попал вовсе не в разбойничий вертеп. Европейцы («заморские дьяволы» из вежливости помянуты не были) действительно в подобном уверены, но для них и ихэтуани, великие борцы за гармонию и справедливость, всего лишь «боксеры». А это далеко не так. И даже совсем не так.
— Неплохая вербовочная беседа, — оценил мистер Мото, выслушав подробный пересказ. — А вы как считаете, Марек? Чего он от вас хотел?
Помощник, поднаторевший не только в церемониях, уже знал ответ.
— Самое простое — напугать. Мол, четыре сбоку, ваших нет, где «Триады», там всем прочим ловить нечего. Так все бандиты говорят. Как и про то, что они вовсе не бандиты, а герои-революционеры, борцы на народное дело. Я такого, мистер Мото, еще в Германии наслушался. Брат мой с подобными типами спутался, мне даже не хочется его письма читать.
Работодатель кивнул, соглашаясь, однако взгляда не отвел. Марек слегка призадумался.
— И еще… Он, Сандал Желтый, утверждает, что «Черное общество» и есть истинный правитель Поднебесной. А все прочие — куклы на веревочках или бумажные драконы. Это вроде наших европейских масонов, которые под каждой кроватью сидят.
Мареку собственное сравнение понравилось, а вот работодателю — нет.
— Конспирация бывает разной, — наставительно заметил он. — Иногда нарочито глупой, абсурдной. Про кровать с масонами каждый повторяет, но не каждый догадывается под эту кровать заглянуть. У «Черного общества» и в самом деле очень серьезные претензии. «Боксерское» восстание — это они, и доктор Сунь Ятсен с его Синхайской революцией — они. Кстати, Чан Кайши тоже из их числа. Не слыхали разве?
Этого Марек Шадов не знал и устыдился.
— Выходит, «Триады» и в самом деле Китаем правят?
Мистер Мото наставительно поднял палец вверх:
— Я сказал «претензии». Подобраться к власти «Триады» могут, руководить — нет. Это большая разница. Ни одно тайное общество, в Китае или не в Китае, управлять не способно. Учтите на будущее, когда вам станут рассказывать про Сионских мудрецов, Комитет Трехсот — или про тех же масонов, которые гнездятся под кроватями и царят над миром.
Тут явно следовало спросить «почему».
— Почему? — спросил Марек Шадов.
* * *
— Чтобы управлять человечеством, требуются невероятные технические возможности и средства. И мозги, об этом тоже не следует забывать. Ну, пусть будет не весь мир, а Китай или наша Европа. Представим себе некую организацию, тайную и всемогущую. У этой организации есть и силы, и амбиции. Но с чего вы взяли, что организация будет одна? В подполье можно встретить только крыс, а крысы не слишком дружны. Это, Марек, причина первая. Допустим, крысы перегрызлись, и победил некий Крысиный Король, всех прочих загрыз и обглодал до косточек. Однако Король правит не сам, а с помощью таких же крыс, подобранных им по своему образу и подобию. Очень скоро одно из подобий само захочет стать образом. Грызня вспыхнет по новой, и все придется начинать сначала. Такова, Марек, вторая причина. Упростим задачу. Наш Король оказался жесток и хитер, всё видит, за всеми следит. Регулярные чистки, террор, отбор самых верных и преданных, каждые несколько лет — смена караула, скобление до белых костей. Власть абсолютна, никто не спорит и не возражает, даже в мыслях. Но беда в том, Марек, что отбор будет отрицательным, верные и преданные — не всегда самые умные. Крысиный Король неизбежно станет ошибаться, но поправить его некому. В результате количество ошибок растет, достигает критической точки — и власть рушится. Это третья причина — и самая главная.
— Вы говорите не только о тайных обществах, мистер Мото.
— Да, таковы Муссолини и Сталин, таким хочет стать Гитлер. Еще один парадокс: чтобы взять власть, общество должно перестать быть тайным. А крысам на свету не слишком уютно. Поэтому наиболее умные из вождей всех этих всесильных, хоть масонов, хоть розенкрейцеров, хоть «Триад», удерживают остальных от последнего шага к реальной власти. Куда выгоднее оставаться в тени и получать регулярный доход от торговли той же властью. А заодно и всем прочим: оружием, золотом, наркотиками, девицами из борделя. Да чем хотите!
— Выходит, они все-таки бандиты?
— Конечно бандиты.
2
Женщина заснула прямо на деревянной скамье в новом, огромном и неуютном, зале ожидания аэропорта Ле Бурже. Нужный ей рейс задержали на час, потом на два, а затем — и до самого утра.
— Непогода! Увы, увы, мадам! Под Парижем — облачный фронт. Но, между нами, хорошо, что этот фронт — облачный!
Следовало взять номер в местной гостинице, но женщина почувствовала, что силы кончились. Она села на жесткую скамью, надвинула шляпку на нос и спрятала ладони в карманы летнего пальто. В последний момент подумалось о сумочке, оставленной практически без присмотра, под правой рукой, но тяжелая темная волна уже накрыла ее с головой и, завертев, закружив, утащила в безвидную бездну. Подбородок упал на грудь. Женщина спала.
Не спал молодой ажан-полицейский, еще не разменявший первый год службы, а потому очень рьяный. Женщину он приметил сразу и уже успел узнать и номер ее рейса, и то, что рейс отложен, и даже про облачный фронт. Мысленно посочувствовав, он заметил лежавшую на скамье сумочку. Ворья в Ле Бурже хватало, поэтому добросовестный ажан переместился поближе и принялся наблюдать. Иных дел в этот глухой ночной час все равно не предвиделось. Зал ожидания был почти пуст, начальство ушло спать, а «особое положение», введенное из-за подлецов-бошей, посмевших напасть на бедных чехов, отменили еще вчерашним утром.
Ильза Веспер спала.
Морфей, капризное, непредсказуемое божество, в эту ночь оказался по-своему добр. В ее снах не было ни Замка Измены, ни падающей двери, ни кучки красноватого угля на полу. Женщина забыла всех, кого довелось убить, даже О'Хару, снившегося ей почти каждую ночь. Зато она увидела черный каучуковый мячик, любимую игрушку (игрушку ли?) ее мужа, Марека Шадова. Во сне мячик заметно вырос, мир же исчез, превратившись в огромный многогранный кристалл, опутанный тонкими белыми нитями. Она находилась в самой середине, а каучуковый кругляш безостановочно и упрямо носился из угла в угол, от одной грани кристалла к другой. Женщина знала, что шевелиться нельзя, стояла ровно, боясь лишний раз вздохнуть, но черный шарик все равно сумел ее почуять и с каждым разом пролетал все ближе и опаснее.
А потом женщина догадалась, что мячик — никакой не мячик и не игрушка. Он и есть Марек Шадов, ее случайный муж, о котором она так и не сумела ничего толком узнать. Кай из детской сказки — Крабат из древней легенды. И его судьба столь же непредсказуема и своенравна. От одной грани кристалла — к другой, не оглядываясь назад, по белой нити — дороге, известной лишь ему одному.
— Крабат!.. Кра-а-абат!..
Женщина наконец-то поняла, когда и в чем ошиблась. Каучуковый шарик невозможно приручить и спрятать в сумочку. Марек-мячик, Марек-Крабат — опасен, и для нее, и для Гертруды. Фонарик с весеннего праздника Чуньцзе оказался мертвецким речным огоньком.
Но если так… Генерал умрет на рассвете. Марек Шадов… Посмотрим!
Тяжелая волна вновь накрыла ее с головой, унося в безмолвие и мрак, но прежде чем мир-кристалл исчез навсегда, женщина успела подумать о дочери. Гертруда, не верившая никому, поверила Мареку, своему Каю из сказки. Если он исчезнет, девочка станет такой же, как она сама, Ильза Веспер. И Герде придется всю жизнь танцевать танец «Апаш» под Бумажной Луной.
Морфей — божество не только капризное, но и милостивое. Новый сон-волна унес, рассеял по песку прежний, и женщина все забыла. Осталось лишь дальнее, едва различимое эхо, отозвавшееся негромким напевом, знакомым манящим ритмом.
Пляшут тени, безмолвен танец. Нас не слышат, пойдем, любимый, В лунном свете, как в пляске Смерти, Стыд бесстыден — и капля к капле Наши души сольются вечно…* * *
Полицейский-ажан, уже отвадивший мановением служебного кулака непутевого воришку, пытавшегося подобраться к сумочке, глядел с симпатией. Женщина, спавшая на деревянной скамье, чем-то напомнила ему покойную тетушку, старую деву, любившую и баловавшую непоседу-племянника.
Не слишком молодая. Некрасивая — что скрывать! Но наверняка очень добрая.
3
На ней были тяжелые летные очки, на нем — тоже, что крайне неудобно, когда целуешься на высоте четыре тысячи метров над уровнем моря. Но Вероника Оршич все-таки сумела коснуться губами губ — легко, словно погладила. Отодвинулась, выдохнула белым морозным паром.
— Давно хотела! Сразу, как только увидела тебя в твоем нелепом парике, Отомар. Почему ты скрывал свое имя? Оно очень красивое. Марек — плохо, ничуть не лучше, чем «доктор Эшке». Ты…
Не договорила, сдвинула очки на лоб, плеснув синим взглядом. Вторая попытка, на этот раз куда более успешная.
…Черная ледяная ночь, бесстрастное звездное небо, белый лед, острый камень. Двое в летных комбинезонах и шлемах застыли в пространстве и во времени, не в силах оторваться друг от друга.
— Не надо, — жалобно попросил Марек, когда наконец-то смог дышать. — Мы же потом не остановимся, Вероника!
Пилот-испытатель услышал собственный голос и по-настоящему испугался. Девушка взяла его за руки, перчатками за перчатки.
— А ты не думай о «потом». И вообще — не думай пока.
Разжав ладонь — правую, она быстро и уверенно пробежалась пальцами по кнопкам на поясе, где блок управления, сначала на своем, потом на его.
— Вот так! Уверен, этой хитрости тебя, Отомар, еще не научили. Запрещенный прием, за подобные вещи у нас с полетов снимают. А теперь приготовься, будем падать на землю. Это недолго, чуть больше минуты, но я успею тебя еще раз поцеловать.
— Как приготовиться? — совсем растерялся Марек.
Синий взгляд внезапно стал очень серьезным.
— Закрой глаза — и не открывай, пока не разрешу. А главное, Отомар, никуда меня не отпускай. Представь, что вокруг смерть, и только я — твоя жизнь.
— Погоди, погоди! — заспешил он. — Падать — зачем? Спустимся вниз, это тоже недолго…
Не договорил, перчатка легла на губы.
— Потому что я так хочу, Отомар Шадовиц.
Ударила голосом:
— Глаза!
Марек зажмурился. Их тела сплелись, губы вновь коснулись губ.
— У каждого есть мечта, — шепнула она, отрываясь на малый миг. — У меня она такая, Отомар. Ты, я — и Небо… Старт!..
Неверная зыбкая твердь ушла из-под, и Марек Шадов провалился в разверзнувшуюся бездну. Метеор, сын Небесного Камня, и Звездная Ящерица ушли в свободный полет.
4
Андреасу Хинтерштойсеру приснился доктор Отто Ган. Как-то странно приснился. Они сидели за большим деревянным столом в «Хофбройхаусе», знаменитой пивной при не менее знаменитой пивоварне, гордости родного Берхтесгадена — там, где пиво согревают, бросая в бочки раскаленные лошадиные подковы. И одновременно — в тесной кабине-кунге «Понтиак-кемпера», тоже за столом, но очень маленьким, как раз на бутылку «Сильванера», что из монастыря Новачелло, — и на два глиняных стаканчика. За окном зеленел склон Lupo-Волка, смешной горушки, на которую можно мочалить с завязанными глазами. А еще Хинтерштойсеру почему-то подумалось, что это не ему доктор снится, а совсем даже наоборот.
— А может, мы оба снимся кому-то третьему? — Отто Ган дернул в улыбке тонкими губами.
От удивления Андреас чуть не разлил пиво из кружки — вино из стаканчика. Возражать, однако, не решился. А вдруг?
— Нас обоих считают сумасшедшими, Андреас. Вам нужна Северная стена, мне Грааль. Вам грозит трибунал, мне — концлагерь, но не это самое плохое.
Сколь ни странен был сон, но на этот раз Хинтерштойсер нашел что сказать.
— А почему сразу — плохое, доктор? И никакие мы не сумасшедшие, ни вы, ни я, ни Тони. Как бы вам объяснить-то, ученому человеку? Вспомнил! Вы же сами нам с Курцем рассказывали про древних германцев. У них, у древних, мальчишке, чтобы взрослым стать, требовалось пройти испытание, вроде экзамена.
— Инициация, — тонкие бесцветные губы дрогнули. — Есть разница, Андреас. После испытания начиналась настоящая жизнь. У нас с вами иначе. Грааль — моя мечта, мое безумие, но больше всего на свете я боюсь его отыскать. Потому что это и будет конец всему.
Хинтерштойсер настолько изумился, что даже не сообразил, чего отхлебнуть довелось: монастырского вина или пива с подковами.
— Чему конец?! Мы с Тони Северную стену возьмем — и дальше помочалим. Да хоть на… на Эверест! Почти девять километров вверх! А что? Генрих Харрер как раз в Гималаи собирается, мы деньжат подзаработаем — и с ним. Вершин много, доктор. А кончатся, мы в Берхтесгадене школу альпинистскую откроем. Или вообще… О! Мы с Тони и с Капитаном Астероидом на Марс полетим, тамошние стенки брать. Только сначала Норванд пройти нужно, иначе никуда пути не будет. Вот и весь сказ!
— Завидую…
Голос Отто Гана прозвучал глухо, словно не за одним столом сидели. А и вправду, уже не за столом. Ни знакомой пивной, ни чудо-машины «Понтиак-кемпер». Снег словно на склоне Эйгера, камень во льду, чуть поодаль — темный зев пещеры. И доктор не в костюме, в расстегнутом зимнем пальто. Без шляпы, а в руке — вот тебе и на! — шприц.
— Вы правы, Андреас. Гор много, но Грааль — истинный! — всего один. Как и моя жизнь. Только Грааль вечен…
Плохо сказал, неправильно. А пуще того Хинтерштойсеру не понравился шприц. Для чего он? Отто Ган хоть и доктор, но историк, не врач. И пещера по душе не пришлась, мрачная, словно вход в Нифльхель, Землю Мрака.
И тут Андреас все понял. Это и вправду — не его сон. И не Отто Гана. И сон ли вообще?
Хинтерштойсер выдернул шприц из докторской ладони, словно редиску с грядки. Поднял Отта Гана за плечи, встряхнул от души.
— Уходить надо только в Валгаллу, доктор, — туда, где янтарный пирс и зал с золотыми щитами. А без Грааля вас туда не пустят, ясно? Вы его найдите сначала, а потом и вопросы насчет жизни задавайте.
Подумал немного — и рассудил:
— Не зря мы с вами кому-то привиделись. Видать, помочь придется. Вы, доктор, нам с Тони только пальцем укажите, в какой стороне Грааль искать. Не подведем!
Ответа не дождался. Пещера сгинула, пропал и снег. Камень же никуда не делся. Андреас лежал в спальнике между двух скальных зубьев, продрогший и голодный, до рассвета осталось всего ничего, одеяло сна, и без того тонкое, готово вот-вот истаять без следа. Но доктор Ган был все еще здесь, невидимый и неощутимый. И уже просыпаясь, Хинтерштойсер услыхал знакомый негромкий голос:
— Монсегюр… Монсегюр… Монсегюр…
5
Марек Шадов честно пытался убедить себя, что спит. Отчего бы и нет? Налетался, устал, перенервничал слегка. Потому и сон такой. Белая простыня под самый подбородок, темный незнакомый потолок, бронзовая люстра — и странное чувство абсолютного покоя. Ничего не надо искать, все уже есть, найдено, здесь, совсем рядом. И эти мгновения следует растянуть надолго, лучше — на целую вечность, иначе все кончится, потолок рухнет, и под обломками окажется вся его прежняя жизнь.
…Нет, не окажется. Уже оказалась!
Марек знал, что настоящая боль придет позже, когда он увидит Герду, когда наконец-то встретится с НЕЙ. И ничего уже не исправить, даже если выключить ранец-«блин» в самом поднебесье. Четыре километра до земли — семьдесят две секунды. Не считал — само сосчиталось.
— Говорить ты, как я понимаю, еще не можешь? Я читала — типичная мужская реакция.
Вероника Оршич пододвинулась ближе, обняла, коснулась губами губ. От нее пахло духами, машинным маслом и самую малость — кровью.
— Тогда слушай, Отомар. Я не стану тебя успокаивать, говорить, что это лишь моя вина. Мы падали вместе — и вместе приземлились на эту кровать. Синхронный полет, высший пилотаж! Ничего было не изменить, мы оба знали, что остановиться уже не сможем. А потом в мире стало на одну счастливую женщину больше. У меня нет никакого опыта, об этом написано красным прямо на этой простыне, но из книг знаю, что мужчины любят задавать вопрос: «А что дальше?» Не спрашивай, Отомар, любовь моя. Иначе я отвечу.
Она встала, не забыв завернуться до самого носа, подошла к столику, вытрясла сигарету из пачки. Прежняя жизнь кончилась, и Марек, даже не думая, последовал ее примеру.
Двойной щелчок зажигалки. Сизый горький дым.
— Знаешь, Отомар, женщина, если она действительно женщина, очень похожа на волчицу — чувствительна, игрива, необыкновенно предана, неистова в верности и чрезвычайно отважна. А еще у нее очень сильная интуиция, на грани ясновидения[88].
Марек заставил себя улыбнуться:
— И ей ничего не стоит перекинуть мужчину через загривок и утащить в свое логово. Вероника, кто перед кем оправдывается?
— Я не оправдываюсь, — очень серьезно ответила она. — Я отвечаю на вопрос, тот самый — «что дальше?» Мы солдаты разных армий, Отомар Шадовиц. Но сейчас появился повод все переиграть.
Мужчина покачал головой.
— Переиграть! Волчица чувствительна и игрива… Погоди, погоди! В парке, когда мы только познакомились, ты спросила меня…
Простыня с тихим шорохом сползла на пол. Ее губы не дали договорить.
— Ты не такой догадливый, как считаешь, Отомар, — наконец выдохнула она. — Тогда, на скамейке… О какой ерунде мы с тобой болтали! Глупый, глупый доктор Эшке! Но по поводу вопроса ты не ошибся.
— «Бегущие с волками»?
— Да.
Обе простыни — на полу. Тела вновь сплелись, но теперь им не мешают комбинезоны из плотной ткани. Им ничего не мешает.
— Только не смей думать, Отомар, что я тебя куда-то зову, волоку силком, — успела шепнуть она, прежде чем все слова закончились. — Того, кто в небе, не вербуют, ему указывают маяк. В одиночку — спасаются, вместе — спасают других. Это и есть наше «дальше»… А сейчас мы снова будем падать, падать, падать…
* * *
Когда он вошел в свой номер, Герда еще спала. Балконная дверь приоткрыта, маленькие лохматые тапочки стоят возле кровати, на столике — аккуратно сложенная «Neue Zurcher Zeitung», явно из гостиничного киоска. Но что-то было определенно не так. Марек Шадов остановился посреди комнаты, вдохнул поглубже…
— Я не курила, — сообщил сонный голос. Девочка привстала, опираясь на подушку, и открыла один глаз. Марек кивнул: точно. Со столика исчезли пепельница вместе с зажигалкой. Самое время похвалить, и не походя, а с полным пониманием.
…Догадалась сразу. Очень сильная интуиция, на грани ясновидения…
— А я курил, — честно признался он. — Две сигареты, кажется. Нет, три.
Если начинать врать, то не с таких же мелочей!
— Ух ты-ы!
Полосатый пижамный тигрик в мгновение ока оказался возле жертвы. Обхватив маленькими, но крепкими лапками, вскинул восторженную мордочку, чтобы заглянуть в глаза.
— Ка-а-ай! Попался! Больше никогда, никогда не будешь меня упрекать! Слышал? Капля никотина убивает лошадь, сигарета — право на издевательство над ребенком! Никотин — витамин! Никотин — витамин!..
Он присел на кровать, прямо на аккуратно застеленное покрывало и принялся снимать пиджак. Ткань сопротивлялась, липла к рубашке, кусала за кожу.
— Не буду, Герда. И… Дай, пожалуйста, сигарету.
Буйный тигрик исчез. Девочка, внезапно став серьезной, закусила губу.
— Сейчас, папа.
Они молча курили, сидя рядом и пристроив пепельницу на стуле. Содранный с плеч пиджак Герда, подняв с пола, повесила на спинку.
— Ты можешь ничего не рассказывать, Кай, — наконец сказала она. — И я могу ничего не рассказывать. Нет, все-таки скажу. Мне снилось очень-очень страшное. Шанхай, я тогда была еще совсем маленькая. Ночью в нашу комнату вошли какие-то чужие, с оружием. Они искали Королеву… маму, ее, к счастью, не было. Меня не тронули, а няню стали бить, она сильно кричала. Я это вижу во сне и тоже кричу. Королева водила меня к доктору, он таблетки дал…
Марек обнял ее за худые плечи, девочка уткнулась головой ему в грудь.
— Только не говори Королеве про этот сон. Он очень плохой не потому, что страшный. Это про нее, про Снежную Королеву, сон, ищут маму, не меня. Я проснулась, темно, а тебя нет. Но все равно не закурила.
Отстранилась, взглянула, уже с улыбкой:
— А теперь — ты, Кай! Тебя не было всю ночь, от твоей рубашки пахнет машинным маслом и еще чем-то, не могу понять… Точно, духами Королевы! Где ты их взял? Носишь с собою флакончик?
Самое время каяться. Или — не каяться. Или все-таки солгать. Или не лгать, просто выстроить факты иначе.
— Ночью с горы сняли двух альпинистов, итальянцев. У одного — серьезная травма. Теперь он в безопасности, с ним врач, вылечит. А у наших, у Хинтерштойсера и Курца, все нормально, у них теперь даже веревка есть.
Герда вскочила, схватила мужчину за руки.
— Ка-а-ай! Вот это да-а-а! Я знала, что — герой, всегда знала! А сняли — как? На самолете?
— Сняли — и сняли, — Марек улыбнулся. — Никакой я не герой, просто новости рассказываю. А еще я видел «альпийского гонщика», который BMW 315/1, Roadster. Он действительно в Гринденвальде. Там есть трехэтажная гостиница, «гонщик» стоит справа от входа. Только не спрашивай, проколол ли я ему шины. Не проколол, новые поставят.
…Красный «Родстер» он заметил, как только открыл глаза на гостиничном балконе, куда они упали прямиком с небес. Виду не подал, но Вероника, что-то почувствовав, тоже поглядела на красное авто — внимательно, запоминая. И только потом, сцепив руки на его затылке, впилась губами в губы.
Герда отошла к столику, взяла пачку сигарет, взглянула с вопросом. Марек махнул рукой:
— Неси! И еще новость, не слишком хорошая. Самолета у нас больше нет. Роберт улетел домой, велел кланяться и обещал похлопотать, чтобы тебя приняли в юные пионеры.
— Pioner — vsem primer! — Герда задумалась. — Нет, не хочу, им курить запрещают… Держи!
Марек взял сигарету, но понял, что она — лишняя. Во рту и так горько.
В омут? Да, в омут!
— Не так давно ты уверяла меня, Герда, будто я очень сильный. Ты, к сожалению, ошиблась. А еще ты пообещала ничего не говорить Королеве, если я… закурю. Не говори, расскажу ей сам. Или не расскажу… Первый раз в жизни я не знаю, что делать, Герда! Не знаю…
Девочка не ответила. Сидела молча, сгорбившись, словно на ее плечи, затянутые полосатой пижамной тканью, легла каменная скала. Наконец выпрямилась, попыталась вздохнуть. Получилось, но не с первого раза.
* * *
— Я знала, что ящерица тебя найдет, Кай. Она крылатая, правда? И еще очень-очень красивая. На твоем месте я бы, наверно, тоже… закурила. Только я не такая красивая, у меня большой подбородок и плохой характер. И еще я никому не нужна, лишь Королеве и тебе. Погоди, Кай, дай сказать… Книжку про анатомию я прочла в пять лет, но до сих пор не могу понять, почему это называют «измена». Изменить — поменять на другое? Ты меня на что-то поменяешь, Кай?
— Я скорее умру.
— Я была еще совсем маленькая, когда умер мой отец. Его убили на глазах Королевы… мамы. Она тебе не рассказывала — и не расскажет. С тех пор Снежная Королева не может никого полюбить, у нее сердце стало ледяным. Поэтому я все время вспоминаю сказку про мальчика Кая и девочку Герду.
— Никто не умрет — и никто никого не бросит. Не знаю, как у нас теперь сложится с Королевой, но другой Герды у меня никогда не будет.
— Мне ты не изменял, Кай. Этой ночью ты спас людей, а потом выкурил сигарету, потому что тебе очень хотелось. Вот и все! Остальное в книжке про анатомию, но она скучная. Не надо рассказывать Королеве. Ей будет плохо, а я этого не хочу. И ты не хочешь.
— Это нечестно, Герда.
— Улетать на целые месяцы ради каких-то черных котлов тоже нечестно. Значит, у ящерицы такие же духи, как и у Королевы? Жаль, что она зеленая и в пупырышках. Зато фактурная.
— Точно! Хорошо, что напомнила. Мне сегодня же надо повидать одну женщину…
— К-кай! А сколько ты… сигарет выкурил? Ты сказал, что… две. Нет, три! Ой, Кай, а так тоже можно?
6
Женщина поняла, что ошиблась, когда под серебристым крылом двухмоторного «Фармана» компании Air Union показалось залитая горячим солнечным огнем взлетная полоса аэропорта «Ницца Лазурный Берег». До княжества Монако гражданские самолеты не летают, единственный путь — через столицу Французской Ривьеры.
Телеграмма… Значит, именно здесь ее и будут ждать. Нехитрый план сработал, она все-таки ударилась в бега, причем по заранее намеченной дорожке. В Замке Измены просто хлопнул стартовый пистолет.
Но разве у нее есть другой выход? Прятаться в Париже? Улететь в Швейцарию к дочери? Пустят ищеек по следу, найдут. «На кровати, une vieille bique, разложим, а потом в ножи возьмем…» И — saperlipopette! Лучше уж сразу в львиную пасть!..
Пистолет спрятан в одном из чемоданов, замотанный в тряпки, но женщина об этом не жалела. Не поможет — даже если она шагнет на трап с «Томсоном» наперевес. Подойдут, поздороваются вежливо…
Подошли — сразу четверо, в одинаковых светлых костюмах. Приподняли шляпы, один, самый плечистый, вручил букетик фиалок.
— С приездом, мадам Веспер!
Обошлось без «Пройдемте с нами!» И так все яснее ясного. Отвечать не стала. Дернула плечами — и пошла, куда указали. Конвой не отстал, двое «светлых» впереди, двое — сзади, коробочкой.
Фиалки ничем не пахли, словно восковые.
В заполненном людьми здании аэровокзала «коробочка» стала теснее. Один из сопровождающих, внезапно сократив дистанцию, легко толкнул женщину локтем, но тут же поспешил извиниться:
— Прошу прощения, мадам! Такая толпа…
Слово «мадам», всегда ее раздражавшее, внезапно заставило остановиться. Всего на какой-то миг, идущим сзади даже не пришлось умерять шаг. Но этого хватило, чтобы разрозненные кубики, беззвучно кружившие, не находя себе места, так же неслышно сложились отчетливой многокрасочной картинкой. Женщина улыбнулась. Наконец-то хоть какая-то ясность!
Настроение сразу же пошло вверх. Когда, выйдя на привокзальную площадь, столь же многолюдную, сопровождающий указал на скромно стоявший в сторонке черный «Citroen Traction Avant», она вновь улыбнулась. «Ситроены» здесь в чести.
…Как и нелепые гитлеровские усики под породистым носом с крупными ноздрями.
— О, мадам! Ницца — прекрасна! Париж тоже прекрасен, но чтобы описать его, требуется множество слов. Здесь, на Французской Ривьере, они лишние. Ницца — и этим все сказано, дорогая мадам Веспер!
Куцая стрелка среди густо смазанных бриолином волос, благообразное до приторности лицо. Безупречный белый костюм — и тяжелый перстень-блямба с безвкусной печаткой. Помесь дипломата с приказчиком из лавки.
Она ждала, что случайный знакомец потянется к руке, дабы облобызать по всем жантильомским обычаям, но этого не случилось. Человек в белом костюме даже слегка попятился, словно опасаясь внезапного удара.
— Вечерняя Сена и вправду хороша, — постаравшись не дрогнуть лицом, сказала она. — Благодарю за совет. Но вообще-то партнеры так не поступают. И войну, и мир принято объявлять по всем правилам. Как и представляться при знакомстве.
Темные усики смешно дернулись.
— Что вы, мадам! Бумаги с моей подписью вы получаете регулярно. Но я романтик, да-да, мадам Веспер. Прежде чем нас официально представят, а это обязательно произойдет, позвольте побыть для вас инкогнито. Нет, даже лучше, мадам! Сами дайте мне имя, выведите, так сказать, из тьмы на свет!
Человек в белом костюме начинал ей нравиться. Речами — нелепый смешной позер, видом — ничуть не лучше. И глаза под стать, словно маслом залиты. Кто под всем этим прячется, она уже догадалась. Но — играть так играть!
— Адди, — мстительно усмехнулась она. — Меня называйте по имени. Услышу еще раз «мадам» — укушу за ухо.
Масло в его глазах на миг превратилось в кованое железо.
— Вы это можете, Ильза, поэтому повинуюсь. Прежде чем мы подъедем в «Прекрасное чувство», где нам заказан обед… Какое название, Ильза! Какое название! И кухня, уверяю вас, ничуть не хуже… Предлагаю накоротке обсудить наших баранов.
Из открытой дверцы черного «Ситроена» доносились звуки вальса.
Пасть льва.
* * *
— Зачем вы убили моих людей, Ильза?[89] Я послал их сказать, чтобы вы не искали О'Хару на Канарских островах, его там нет. Вашего босса вообще нигде нет, что весьма печально. Мне очень хотелось поговорить с вами об этом. Я в нелепом положении, Ильза! Мы с вами, с вашей «Структурой», — конкуренты, и злые языки уже начали на что-то намекать.
— Небольшое недоразумение, Адди. Мне отчего-то почудилось, что ваши бандиты собрались резать меня на куски. Может, им тоже было интересно, где мой босс? А перехватывать чужую почту — вообще моветон. Так что, у нас война?
Вальс сменялся вальсом. Раз, два, три… раз, два, три… В салоне черного авто было душно, на лбу проступил пот, и женщина с трудом сдерживалась, чтобы не достать платок. Мешал букет фиалок. Положить некуда, сидели бок о бок.
— О, что вы, ма… Молчу, молчу, не надо смотреть на мое ухо. Никакой войны, Ильза, напротив! Впереди большие дела, поэтому хотелось похоронить наших мертвецов, прежде чем двигаться дальше. Нет-нет, ничего не имею в виду, всего лишь фигура речи. А насчет телеграммы вы не совсем правы. Тот, кто вам ее направил, мой родственник, двоюродный дед. Само по себе это ничего, конечно, не значит, но с недавнего времени я его наследник и душеприказчик. Не знали, Ильза? Гоните со службы ваших шпионов, даром хлеб едят. Так вот, меня, признаться, очень удивило, отчего наш дорогой Призрак желает видеть вас, а не О'Хару.
— Лишний повод пустить в ход ножи, понимаю. И вообще, лучше всего вести переговоры, когда твой партнер раздет догола, избит и перепуган до смерти. Мой босс всегда начинает с удара кулаком в нос… На все вопросы я отвечу после того, как нас… Как вы это, Адди, назвали? Официально представят? Но, знаете, в виде кучки угля я вас уже представила.
Музыка кончилась, диктор начал читать новости. Поначалу женщина пропускала их мимо ушей, хватало иных забот. Ее собеседник, напротив, внезапно потеряв всякий интерес к беседе, весь обратился в слух. Удивившись (хитрит?), она и сама стала ловить доносившиеся из динамика фразы. И поразилась еще больше.
— Риббентроп? Кто это, Адди? В Берлине есть один, он из СС, следит за дипломатами. Его хотели отправить послом в Лондон, но так и не решились, слишком мелкая шавка.
— Сам ничего не понимаю, Ильза. Вчера эту шавку назначили министром иностранных дел вместо фон Нейрата, а сегодня он зачем-то прилетает в Париж. Кажется, нам с вами, Ильза, надо срочно договариваться. Иначе, боюсь, мы все станем углем.
Диктор, между тем, перешел к сводке погоды. Она обнадеживала. Над всей Францией — безоблачное небо. И над Испанией. И над Швейцарией.
Над всей Европой…
7
— Чего-то не хватает, — констатировала Герда. Прищурилась, шевельнула носом. — Наклонись!
Марек повиновался, хотя, с его точки зрения, всего хватало с избытком. Костюм только что из-под утюга, новая рубашка, галстук в тон. Сам он побрит, наодеколонен, причесан до противной гладкости.
— Вот!
В петлице пиджака — белый цветок орхидеи. Откуда только взяла?
Собрались на смотровую площадку. Дело, казалось бы, плевое, на этаж спуститься да коридором пройти. И сама площадка, гордость «Гробницы Скалолаза», ничем, кроме подзорных труб, не интересна. По первому солнышку там народ собирается — в костюмах, но гимнастических, зарядкой здоровье крепить. Это утром, после полудня же площадка — не площадка, а Veranda, если по-французски. Впрочем, на иных наречиях звучит весьма сходно.
На Веранде — собираются. Там — гуляют. Того, кто, традицию отринув, придет без галстука или, не попусти господь, в костюме для гимнастики, в полицию сдавать, конечно, не станут. Но — не поймут.
Марек Шадов, человек глубоко несветский, старался бывать там пореже и все больше по утрам. Но сейчас особый случай, без бутоньерки не разберешься. Герда целый час от зеркала не отлипала.
— Если ты, Кай, курить будешь, возьми сигаретницу. У меня есть, серебряная. Пачку доставать из кармана не принято.
На такое Марек предпочел не отвечать.
Вышли, прошествовали коридором. Лестница, снова коридор, широко распахнутые двойные двери.
Солнце!
Погоды все эти дни стояли странные. То ясно, то дождь с туманом, то просто туман, а порой и все сразу, каруселью. На этот раз повезло, туман отступил к горным склонам, тучи — к горизонту. Гуляй — не хочу!
Гулять Марек не собирался. Негде, сама Веранда меньше тюремного двора, да еще столики со стульями, не развернешься. К подзорным же трубам подходить смысла нет. У половины — очередь, не достояться, остальные по персонам расписаны: ключик, замочек, стальной колпачок. Удовольствие не из дешевых, особенно в такие дни.
— Ничего не вижу, — констатировала Герда, отводя от глаз театральный бинокль, маленькую игрушку в перламутре. — Кай, а где они, альпинисты?
С ответом Марек затруднился. Поди пойми! Из разговоров уже ясно: «эскадрилья» слева, впереди всех. Австрийцы за нею, но с сильным отставанием. Наиболее глазастые утверждают, что у одного из них, Вилли Ангерера, травма. Идет медленно, останавливается через каждые десять шагов.
Зато итальянцы! Итальянцы, о-о-о! Длинная, длинная веревка! «Дюльфер», господа, настоящий «дюльфер»!
«Горные стрелки» (попробуй выговори «Хинтерштойсер»!) пока на третьем месте. Форсировали Первое Ледовое, ко Второму подступают. Но там какая-то особо трудная «вертикалка», возле нее и топчутся.
Но как все это увидеть, если к подзорной трубе не подпускают? Запасливые прихватили с собой настоящие бинокли, не театральные, некоторые даже с артиллерийской сеткой. Наводи — и любуйся, пока «Огонь!» не скомандовали.
Марек Шадов решил гору игнорировать. По скалам лазить — не его, а зрителем быть не слишком интересно. Смотрел на публику, считал бутоньерки. На двадцатой (желтая гвоздика) сбился — то ли видел уже, то ли нет. Знакомых, даже шапочных, не обнаружилось. Самое время начинать скучать.
Не довелось.
— Фактура! — Пальцы Герды коснулись его ладони. — Пиджак не ищи, она в платье. Дальний вход, чуть левее.
Девочка не ошиблась, ни с направлением, ни с платьем. Хелена была затянута в нечто серое до самых пят. На голове — серый же беретик-блин. Кинокамеры нет, зато есть сумочка, белая, не в цвет.
Вошла — вбежала, чуть кого-то не сбив. Поглядев на затянутый туманом склон, дернула щекой, выхватила из сумки сигаретницу.
— Сам подойдешь? — странным тоном поинтересовалась девочка. Не дождавшись ответа, кивнула:
— Все ясно! Уже иду. Какой ты скромный, Кай, а еще курильщик! Это какая сигарета, вторая или третья?
Марек, без вины виноватый, тем не менее был очень благодарен. Предстоящий разговор заранее не нравился. Что сказать почти незнакомой и, если честно, совершенно не симпатичной ему женщине? С чего начать?
«Летим мы, значит, с Капитаном Астероидом. Он — ведущий, я, барон Мюнхга… То есть пилот-испытатель Крабат, ведомый. А на склоне — темень, ничего не разобрать…»
* * *
Пальцем не ткнула, и то приятно. А то, что на лице, можно и проигнорировать.
— Что вам нужно, герр Шадов? Я же просила держаться подальше.
Улыбаться Марек не стал, не тот случай. Конверт с непонятной железякой лежал наготове, в левом кармане.
— Это вам. И еще… Парень, там, на склоне, его Андреас зовут, просил передать: «У нас все в порядке». Дословно.
Рядом тихо-тихо дышала Герда. Женщина дернула крючковатым носом, повертела конверт в пальцах.
— Если это розыгрыш, то не слишком умный. К тому же сегодня у меня плохо с юмором.
Достала то, что внутри, положила на ладонь, взглянула брезгливо. Замерла. Так и стояла — с протянутой рукой. Наконец пальцы дрогнули, сжимаясь в кулак.
— Значит, вы действительно брат Харальда, — острые длинные зубы закусили нижнюю губу. — Такое только он смог бы.
Кусочек металла исчез в сумочке, конверт, сделав круг, неслышно скользнул на землю.
— Отправить бы этих зевак на Второе Ледовое, — Хелена резко, по-волчьи, оглянулась. — Без «кошек», с одной веревкой!..
Взяла мужчину под локоть, покосилась на девочку.
— Герда, мне надо поговорить с твоим отцом.
* * *
— Вас зовут Марек, да? Вы похожи на поляка, как и ваш брат, хотя он, в отличие от вас, истинный ариец и борец за чистоту расы. Иногда так и тянет его пристрелить, поэтому я на вас и взъелась. К тому же у Харальда Пейпера нет никаких братьев, а тайны Железной Маски мне совершенно ни к чему. Иногда я бываю невыносимой, Марек, так что извините. Хинтерштойсер… С ним действительно все в порядке?
— Когда я увидел Андреаса, он выглядывал из спального мешка и моргал. Голова на месте, руки-ноги тоже, однако досталось вашему знакомому, похоже, крепко. Я не скалолаз, Хелена, и мало чего в этом деле понимаю, но он и Курц уверены, что до гребня дойдут. Теперь у них есть «кошки», веревка — и неплохой запас продуктов. Спасибо итальянцам, натащили всякой всячины.
— Марек, Железная Маска, откуда вы только взялись?.. Вчера я уже похоронила этих ребят. Итальянца бы они не бросили, единственный выход — «дюльферять» на двести метров вниз, но там сыпуха, почти верная гибель… Мне сейчас трудно говорить, Марек. Даже в кино такой поворот невозможен, разве что в детском фильме, для самых маленьких. Когда я узнала, что итальянцев какой-то ангел стащил вниз, мне подумалось страшное. Так не должно быть, нелогично, невозможно. Неправильно! Я даже не обрадовалась, Марек, я испугалась. Наверно, так и реагируют на чудо… А теперь забудьте, пожалуйста, все, что я наговорила. И — спасибо!
— Уже забыл, Хелена. И вообще, мы с вами не встречались.
— Встречались, Марек. Здесь слишком много хроникеров, камеры работают круглосуточно, никакой пленки не надо… Слушайте! Завтра сюда пожалует Геббельс. Колченогий — редкая сволочь, а еще у него есть качество, тоже очень редкое, — приносить с собой беду. Уезжайте, Марек, сегодня, сейчас же. Если с вами что-то случится, это будет несправедливо. Не хочу тащить этот камень всю оставшуюся жизнь! Не убедила? Тогда скажу иначе. Я режиссер, Марек, говорят, хороший. Зачем вставлять в сценарий двух абсолютно похожих героев? Именно героев, без шуток. Вариантов несколько, но в любом случае они встретятся, и кто-то непременно погибнет. Скорее всего, оба.
— Белый клоун, Черный клоун…
— Клоуны? Погодите, я, кажется, поняла! Вы — поляк…
— Я — сорб, Хелена.
— Значит и ваш брат, гауптштурмфюрер СС, семь поколений арийских предков, такой же сорб! Славянин, недочеловек, клоунская маска! А теперь представьте, что об этом пронюхало его начальство.
8
Белую птицу Хинтерштойсер увидел в тот самый момент, когда втягивал тяжеленный рюкзак на заботливо вырубленную ступеньку, третью по счету. Если уж строить бивак, то по всем правилам. Душа, правда, ныла, а ноги так и норовили шагнуть дальше — и выше. Ясный день на дворе, а они ночлег готовят.
— На каску свою посмотри! — развеял его сомнения Курц.
Андреас посмотрел и проникся — словно молотком по металлу лупили. И в голове шум, будто под колоколом побывал. Предсказание Паука из Кентукки сбылось не на сто, а на триста процентов с большим хвостом. Хоть знак в лед вмораживай: «Здесь падает все! И на всех!»
Первое Ледовое поле не прошли — пробежали. Ступени уже выбиты, крюки готовы, веревок — хоть Эйгер узлом вяжи. Пространство, наконец-то став послушным, стелилось белым ковром под подошвы. Хинтерштойсер, мельком взглянув на циферблат верной «Гельвеции», решил, что обедать они будут уже на пороге «Утюга». Про Второе Ледовое он не то чтобы забыл, но как-то проигнорировал. Что то Поле, что это…
Огр-людоед — мастак читать чужие мысли. И шутить не разучился. Дальний край склона вздыбился скользкой ледяной стеной. Сверху полилась вода, проникая даже под майку, а потом на головы посыпались камни.
Прогребли и стену, насквозь мокрые и побитые в кровь. Втянули рюкзаки, перекурили, все еще не веря, что выбрались…
«Мы разбивались в дым, и поднимались вновь…»
И вот Второе Ледяное — такая же стена, только без водопада. Зато камней со льдом пополам еще больше, так и стучат по каске. Хинтерштойсер даже слегка растерялся: не маршрут, а расстрел.
— Мочалить можно только ранним утром, когда не тает, — вынес приговор Курц. — А пока — туда!
Туда — к рыжей скале, что по маршруту справа. Бивак «Дождись рассвета».
Остальное просто. Хинтерштойсер дополз, нашел укромное место, чтобы сверху не падало, вбил крюки в послушный камень, взялся за ледоруб. Курц возился внизу с рюкзаками…
Птица!
Андреас вначале даже не слишком удивился. Отчего бы божьему творению не летать над Вторым Ледовым? Потом задумался. Рюкзак втянул, взялся за страховочную веревку — друга Тони тащить наверх, сам же поглядывал, чтобы весь интерес не пропустить.
…Птица — белая, снега белей. То парит, то к самому льду спускается. Застынет в воздухе — и свечкой вверх, в самый зенит. Потом обратно, крутым пике.
Какая же это птица?!
Курц оказался на ступеньке вовремя. Белая птица… Белая девушка… Девушка в белом комбинезоне, шлеме и летных очках, плоский рюкзак за спиной, широкий пояс, тяжелые перчатки…
— Ребята-а-а!
Уже совсем рядом — стала ровно, ногами в пустоту опираясь. Лица не разглядеть, но ясно: улыбается. И рукой машет:
— У вас все в порядке?
Горные стрелки переглянулись.
— Полный порядок! — Курц, очень ответственно.
— Все отлично! — Хинтерштойсер, не слишком солидно, зато громко.
Птица-девушка вновь помахала рукой:
— У меня очень счастливый день, ребята! Самый счастливый в жизни!.. Вам тоже — счастья!
Ответа ждать не стала, ушла уже не свечкой — белой молнией — прямо в солнце.
— А я еще думал книжку написать, — молвил Тони Курц, отмолчав свое. — Про то, как мы с тобой Стену брали. А о чем писать-то? О Капитане Астероиде?
Поглядел на солнце из-под ладони.
— Таких, как она, только в небе и встретишь!..
9
Они шли по знакомому саду, вокруг цвели глицинии — тяжелые лиловые грозди, но женщина видела, что перемены случились и здесь. Сад словно стал меньше, усох, дорожки расступились, тесня зелень, и даже запах приутих, потеряв прежнюю силу. Буйство жизни, отшумев и отгуляв свое, сменилось тихим, покорным прозябанием. Ни надежды, ни грядущего.
Ее спутник, многоликий Адди, ступив на посыпанную серым гравием дорожку, тоже стал другим. Странно даже представить, что этот человек мог изрекать нелепое «О, мадам!» и рассыпать мелким бисером цветастые слова. Не слишком молодой, неулыбчивый и, кажется, не очень-то счастливый.
Переменился и перстень на его руке. Нелепая золотая блямба каким-то неведомым чудом обратилась в печатку со сканью изысканной старинной работы. Женщина, решив ничему не удивляться, просто приняла это как факт, еще один в ее коллекции.
— Дед давно уже оставил дела, — негромко рассказывал Адди. — По крайней мере, официально. Полгода назад его признали недееспособным, я подписал все бумаги. Этим вечером, Ильза, мы будем присутствовать на собрании тех, кто мнит себя его преемниками. Будет много слов, обещаний, может быть, угроз. Не обращайте внимания. И сейчас, и даже после смерти все решать будет лишь он, Европейский Призрак.
Женщина вновь не удивилась, но любитель усиков a la фюрер явно ждал вопроса.
— После смерти — тоже?
Остановилась. Протянув руку, коснулась лиловой грозди. Цветок обдал внезапным холодом.
— Да, — не слишком охотно, как ей почудилось, подтвердил Адди. — «Каппо», босс итальянской мафии, имеет под рукой хорошо вооруженный отряд, который обеспечивает исполнение его воли — даже после того, как сам «каппо» отправится к праотцам. Дед придумал нечто куда более хитрое, чуть ли не целый генеральный штаб. Я прислал к вам своих парней, но у вас, Ильза, уже был аппарат фирмы «Rolling, Garin and Monroz». Меня в очередной раз щелкнули по носу.
Тоже остановившись, Адди шагнул ближе, поглядел ей в глаза.
— Уверен, мы родственники. Так дед защищает только своих, самых близких. Постараюсь узнать, Ильза, иначе спать спокойно не буду.
— Ревнуете, — улыбнулась она.
Он, молча кивнув, поморщился.
— Ладно! Не дети же мы, в конце концов. Я рассказал вам об этом для того, чтобы вы и не думали спорить с дедом. Даже в мыслях почует. То, что мы сейчас услышим, — его последняя воля, Ильза. Дед скоро уйдет, но Призрак не может умереть. И от того, чем кончится разговор, будет зависеть, кто им станет.
Вновь посмотрел — зрачки в зрачки, словно чего-то ожидая.
— О'Хара уже пытался, — догадалась она.
Адди внезапно оскалился:
— Очень хотел! Очень! Ваш босс подражает деду во всем, по крайней мере, ему так кажется. Наверно, уже десяток карт пальцам проткнул.
Она хотела спросить о невесте, уведенной из-под венца прямиком в купе второго класса, но не решилась. А вдруг она — бабушка этого лицедея?
— Вы, Ильза, чем-то пришлись деду по душе. Спрашивать не рискну, но…
Женщина ответила серьезно, хотя очень хотелось рассмеяться:
— Я русский язык немного знаю. Призрак, насколько я помню, вырос в бывшей Империи? Там есть один поэт, который отвечает за все на свете…
— «Vsjo moe», — skazalo zlato, — дернул губами Адди. — «Vsjo moe», — skazal bulat… Очень может быть, Ильза. В России дед не просто вырос, именно там он стал тем, кто он есть, — Европейским Призраком… Чужак в чужой стране. Кровь и почва, вечный спор.
Они шли по аллее умирающего сада сквозь тихий шелест и еле ощутимый, но стойкий запах тлена.
«Vsjo kuplju», — skazalo zlato; «Vsjo voz'mu», — skazal bulat.* * *
— Да, сэр. Я все поняла, сэр.
Женщина сделала последнюю запись в блокноте. Подчеркнув нужное, несколько секунд вглядывалась в каждую фразу. Затем, вырвав листок, скомкала, сжала в кулаке.
— Извините, сэр. Так мне легче запомнить, особенно цифры. Сейчас сожгу.
Белые губы под белыми усами улыбнулись. Худая костистая рука приподнялась, указав куда-то вбок.
— Камин там. Я тоже так делал, уважаемая госпожа Веспер, пока не научился записывать сразу в память. Это надежнее всякого шифра. Некоторые, правда, предлагают потратить деньги на какой-то железный хлам.
— «Энигма» — надежная машина, дед, — попытался возразить Адди. — Модель «D», шведский выпуск. Там миллионы комбинаций…
Пальцы нетерпеливо дернулись, и многоликий ценитель парижских радостей умолк. Женщина почему-то решила, что в этих стенах усатый Адди и слова не решится сказать поперек. Ошиблась, внук выдался в деда, проявляя характер. Но и тормозил очень вовремя, не заступая за невидимую черту.
…Вольтеровское кресло исчезло, как и нелепая белая панама. Уходящий в Вечность старец лежал на простой деревянной кушетке, укрытый клетчатым шотландским пледом. Негромко и уютно потрескивали дрова в камине. Жизнь догорала.
В отличие от Адди женщина и не пыталась спорить. Решение о ликвидации «Структуры» выслушала спокойно. Аргументы убеждали. За последние дни привычная всем Европа исчезла, сократившись чуть ли не вдвое. На уцелевшем обломке требовалось создать нечто единое, чтобы не дробить зря силы и деньги — «Структуру структур». Адди, наследник Призрака, ее глава. Она? Женщина не спешила с вопросами. Разговор шел пока о мелочах. Ценою в миллионы и миллионы, но все-таки ничтожных по сравнению с главным.
— Конверт на столе!
Голос Призрака прозвучал неожиданно резко. Встали оба, Адди чуть не уронил стул. Поспешил подойти, рыскнул взглядом.
— Этот, дед?
Седые брови еле заметно дрогнули. Конверт оказался самым обычным, почтовым, для крупных отправлений, как раз на одну сложенную вчетверо газету. Хрустящая под пальцами желтая бумага, ни адреса, ни печати.
— Подходите, Ильза!
Она взглянула на старика. Тот кивнул и вновь улыбнулся в поредевшие усы.
…Фотографии — веером на столе. Одна, другая, третья… седьмая. На каждой одно и то же, только под разным ракурсом. Неведомый фотограф очень старался, не жалея ни пленки, ни бумаги.
— Нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы, — негромко прозвучало с кушетки. — Такие люди нам не нужны, они опасны. Бросьте снимки в камин — и забудьте о нем. Навсегда!
Имя не названо, умирающий не пожелал поминать мертвеца. Двое, стоявшие у стола, переглянулись. «Третий труп» на снимках был страшен и почти неузнаваем, но догадаться оказалось несложно.
«Когда мы впервые встретились, ты была голая, с синяком на левом боку, и от тебя скверно пахло», — сказал ей О'Хара. От фотографий несло могильным смрадом.
* * *
— Ты, внук. И вы, госпожа Веспер. Слушайте! В ближайшие месяцы большой войны не будет, Гитлер получил все, что хотел, даже с избытком. Войны он не хочет, она ему совершенно не нужна. Но через несколько лет Германия все равно начнет очередную Мировую. Европа сейчас уже ничего не решает, она лишь — шахматная доска, одна из нескольких, на которой идет Большая Игра за право владеть миром. Штаты готовятся сокрушить Британскую Империю. Нет, не своими руками, ее заставят сражаться на два фронта — на Тихом океане и в Европе. Там спустят с цепи японцев, здесь — Бесноватого. Это сделать просто, достаточно отрубить кредитные линии из тех же Штатов. Помешать мы не сможем, планета Аргентина, о которой сейчас всюду говорят, все-таки настигнет Землю. Начнется война — и старая Европа погибнет. Вы должны заработать на этой войне как можно больше денег — и построить новую Европу. Это сделаешь ты, внук, госпожа Веспер тебе поможет.
— Мы сделаем все, что можно, дед.
— Все, что нужно, внук! И не вздумайте ссориться, иначе я приду из Преисподней и покараю всех! Вам будут многие мешать. На политиков и генералов не обращайте внимания, но есть те, кто до сих пор уверен, что правит континентом, как это было многие века назад. Правительства — лишь верхушки айсбергов, опасайтесь того, что в глубине. Братство Грааля и «Бегущие с волками» — не забывайте прежде всего о них. Это касается и вас, госпожа Веспер. К вашей семье уже начали подбирать ключик.
— Я разберусь с этим, сэр.
— Полвека назад я сказал бы: И да поможет нам Бог! Нет, не поможет! Поэтому выражусь иначе: И да поможем мы Ему, Господу нашему! Амен!
— Амен!
— Амен, сэр!
10
— Но я ничего не умею, Отомар! — жалобно выдохнула Вероника. — Совсем ничего, я даже книжек об этом не читала. Неинтересно было. Я что-то не так делаю?
На такие вопросы не отвечают. Марек поцеловал ее в приоткрытый рот, провел ладонью по щеке, по волосам, потом еще раз поцеловал, прямо в нос. Пилот-испытатель, смешно всхлипнув, приподнялась, обхватила руками за шею.
— Не привыкла быть ведомой. С двенадцати лет села на планер — и сама себе командир. В эскадрилье вечно гоняли за дисциплину… Отвернись, пожалуйста, я… не привыкла еще.
В комнате было темно, лишь из окна лился серый сумрак, но мужчина не стал спорить. Простыня на плечи (уже традиция!) — и марш-марш к подоконнику. Вот и раскрытая пачка при зажигалке…
Пальцы дрогнули. «Выкурил сигарету, потому что тебе очень хотелось…» Герде он не изменял. Это было единственным, что примеряло с реальностью. Гиммель, Кольца-Близнецы — протянутая ладонь — распались. Приходилось привыкать.
— И мне! И мне!..
Вероника появилась уже полностью облаченная, в простыне под самый нос. Выпростала руку, вытрясла сигарету из пачки.
…Щелк! Щелк!
— А там что?
Вначале Марек не понял. Там — это где? За окном? За прозрачными стеклами целый мир, в котором им двоим нет места. Можно порвать в кровавые клочья его семью, но что ждет сорба из рода Крабатов рядом с офицером Люфтваффе? «Мы солдаты разных армий…» В тот раз он просто не услышал.
— Зонтики, — уточнила Вероника, попытавшись указать в нужную сторону подбородком. — И столики. И еще… Это что, телескопы?
Под окнами — знакомая Веранда, в этот ночной час — просто смотровая площадка. Нордхауз, Северный корпус, третий этаж. Не пришлось ни летать, ни падать.
— Телескопы, Вероника. На альпинистов смотрят. Многим нравится.
Отпустить синеглазую? В пике, свободный полет, с четырех километров, без ранца и парашюта? ОНА, может, и простит. Потом и он сам простит себя за лишнюю случайную сигарету.
— Отомар, у тебя сигарета погасла!
* * *
Они встретились совершенно прозаично, возле входа в Северный корпус. Вечер выдался прохладный, и Вероника была в сером плаще и шляпке. В первую секунду Марек ее даже не узнал. Ни скафандра, ни ящерицы, ни звездной песни. Просто его любовница, снявшая гостиничный номер, чтобы не тратить время на дорогу. Он представил, как все это выглядит с Веранды. Ничего особенного, двое у стеклянных дверей, букет цветов, поцелуй в щеку, улыбки. А потом — на третий этаж, где чистые простыни и бутылка минеральной воды «Valser» посреди стола. Гостиничная романтика…
Ah, gostinica moja, ah, gostinica! Na krovat' prisjadu ja — ty podvinesh'sja…[90]
Она почувствовала. Уже возле самого номера, почти на пороге, остановилась, взглянула в глаза:
— Если что-то не так, Отомар, любовь моя, уходи. Я не обижусь, ты все равно — лучшее, что со мной случилось в жизни. Ты старше, ты умнее. Решай за нас двоих.
Он хотел ответить, но утонул в синем омуте.
* * *
— Знаешь, Отомар, только сейчас начала соображать. Вышибает, посильнее затяжного прыжка! А раз уж начала… Ты мне все-таки не веришь?
— Почему? Не спросил, откуда тебе известно мое имя? Не хочу знать, Вероника. Мы — солдаты разных армий.
— Это правда, любовь моя. Ты антифашист, я присягала фюреру. Но если ты решишь, Отомар, что меня к тебе приставили, что я тебя предала… Мне незачем станет жить. Просто — незачем… Не смей ничего отвечать, Отомар! Есть вещи, которые не обсуждают.
— Иногда мне кажется, что Герда права, и ты — с какой-то другой планеты, где живут прекрасные синеглазые ящерицы — и очень игривые волчицы.
— Очень неумелые волчицы. Приходится быть ведомой, старое правило: «Делай, как я!» Буду стараться, Отомар… Намек я поняла, но о «Бегущих с волками» больше ничего не скажу. Я зажгла маяк, остальное зависит только от тебя… Однако кое в чем другом отчитаюсь. В Берне меня должны были встретить на вокзале и увезти подальше. Встретили, но передали совсем другой приказ — и ключ от камеры хранения. Там меня ждал марсианский летательный ранец и письмо от мамы. Не удивляйся, Отомар, она мой командир. Мне велено остаться здесь, в Швейцарии, — до нового приказа. Мама написала и о тебе, Отомар Шадовиц, советовала верить во всем. Как видишь, я поверила! А кто рассказал ей — Геринг, твой знакомый из СД, кто-то еще — не знаю. Вот вся правда! А сейчас, мой Отомар, можешь делать с пилотом-испытателем первой эскадрильи «Врил», что пожелаешь… Кстати, у тебя опять сигарета погасла.
* * *
Они целовались возле темного окна, сбросив уже ненужные простыни, когда ночь внезапно исчезла, пронзенная лучами автомобильных фар. Резкий голос клаксона. Одна машина, вторая, третья, четвертая…
Марек Шадов даже не оглянулся. Приехавший за полночь Геббельс Колченогий того не стоил.
Глава 11. День Колченогого
Мякиш. — «Рампа» — Под душ! — Мир для нынешнего поколения. — Сколько лет Герде. — Сестричка Лавина. — Сорванец в кепи. — Шлейдек, кефирный город. — Дуви-ду дуви-дуви-ди! — Помогли тебе твои марсиане? — Все в сборе. — Южная стена.
1
Именующий себя Теофилом-Боголюбцем, Мастером, иногда Мельником, все-таки сумел подстеречь в эту ночь неприятеля своего, Крабата. День Мастеру Теофилу не подвластен, равно как и отринувшая его в давние годы явь, но есть еще сон, время вне времени, когда человек доступен Врагу. Теофил терпеливо ждал, но и дождавшись, долго не мог подойти к Метеору. Отомар Шадовиц, заснувший ненадолго на третьем этаже Северного корпуса отеля «Des Alpes», был под надежной стражей. Его обнимала девушка с белыми крыльями, и волчьи тени неслышно скользили вдоль незримого огненного кола. Теофил оказался бессилен переступить черту, слишком сильна была любовь Небесной Вероники. Когда же Метеор, прорвав покрывало сна, вернулся в явь, Мастер отступил, но недалеко и ненадолго. Ночь Колченого еще не закончилась.
Мастер дождался. Марек Шадов вновь уснул за час до рассвета, но уже в своем номере в главном корпусе отеля. Здесь он стал наконец-то доступен. Душа Крабата была неспокойна, волшебство же маленькой девочки из сказки Ганса Христиана Андерсена оказалось слишком нестойким. Теофил растоптал ее защитный круг и, подступив ближе, возложил костлявую длань на плечо сына Небесного Камня.
— Крабат!.. Кра-а-абат!!!
* * *
— Кра-а-абат! Час настал, Кра-а-абат!..
Он проснулся, сразу, рывком, готовый к бою на тверди реального мира, но явь выскользнула из-под ног. Гостиничный номер исчез, не стало и призрачной мельницы. Перед ним расстилалась неровная каменистая равнина, освещенная багровой предрассветной луной.
— Сколько можно убегать, Крабат? Век? Два?
На Мастере Теофиле камзол с потертым шитьем, старая треуголка, тяжелая трость в левой руке. Таким его видели на Рождество, в этом убранстве и похоронили его испепеленную плоть, закопав забитую осиной домовину на ближайшем перекрестке неподалеку от Шварцкольма.
— Мир не слишком велик, Крабат, и слишком тесен для нас двоих.
Метеор, сын Небесного Камня, не ведал страха, но умел удивляться. Взглянул в пустые глазницы, улыбнулся — прямо в желтый оскал.
— Но почему сейчас, старый скелет? Я никуда не убегал, я жил, умирал и вновь рождался на родной сорбской земле, в нашем вечном Лужицком крае. Это ты, Teufel-оборотень, прятался в своем гробу. Решил, что нынче твое время?
Теофил рассмеялся так, как может смеяться только мертвец:
— Да, мое! Оно наконец-то наступило. Ты стал слаб, Крабат. Родная земля давно уже не дает тебе силу, ибо ты отринул ее. Тебя, счастливца, хранило волшебное кольцо Гиммель, сильнейшее из всех колец, но теперь оно сломано — по твоей вине. Сейчас ты слабее меня, давно истлевшего в вашей проклятой земле.
Метеор поймал зрачками багровый лик нездешней луны. Камни, воздух и даже свет, падающий с низких небес, все, как губка водой, пропиталось холодом. Не звонким рождественским морозом, но сырым ознобом старой могилы.
— Проклятой? Ты тоже сорб, Теофил. Как и все мы, ты жил на родной земле и ушел в нее. Наша вражда вечна, но чем провинилась перед тобой Лужица?
— Слабостью! — клацнули желтые зубы. — Мы, сорбы, растеряли наследие предков, отвернулись от богов, не вышли на бой с поработителями. Bitwu bijachu, horcu, zeleznu, nehdy serbscy wotcojo, wojnske spewy spewajo. И где оно все, Крабат, куда исчезло? Сила теперь у тевтонов, и слава у них, и мудрость, и власть. Я проклял нашу слабость, наше бессилие и вверился чужим богам — богам победителей. Разве ты, Крабат, поступил иначе? Теперь мы с тобой вровень.
Пустые глазницы взглянули в упор, ударили тьмой. Крабат устоял.
— Не вровень, нелюдь! Но хватит болтать. Мякиш?
— Мякиш!
Живая ладонь — и желтая кость полуистлевших пальцев. На каждой — маленький кусочек пумперникеля, черного ржаного хлеба с непромолотыми зернами. Крабат сжал его в руке, сминая в бесформенный катышек-комок. Мастер пристроил хлеб между желтых зубов, заскрипев челюстью, раскусил, принялся жевать. Наконец выплюнул, чуть не уронив, поймал и принялся давить пальцами-костями.
Отомар Шадовиц поднял руку с мякишем:
— Я готов!
— Не спеши! — Тьма из глазниц плеснула ненавистью. — Забыл, чему я тебя учил на мельнице? Пумперникель нужно мять очень долго, пока не почувствуешь зерна, пока хлебная плоть не растечется под пальцами…
Успел! Заставил себя слушать — и бросил первый. Прямо под ноги, между истлевших кожаных сапог с позеленевшими пряжками. Крабат опоздал всего на какой-то миг, на одно биение живого сердца. Каменистая земля всколыхнулась, пошла волнами. Там, где только что стоял Теофил, вырос, закрывая собой багровую луну, темный вал-великан, увенчанный желтой, в цвет мертвецкой кости, пеной. Мякиш, кинутый Крабатом, обратился стеной ровного белого известняка. Вал колыхнулся и беззвучно обрушился вниз. Вода ударила в камень.
Марек Шадов проснулся в самый разгар битвы. Открыл глаза, растерянно потер лоб.
— Тебе снилось что-то плохое, Кай? — спросила Герда.
Он ответил не в лад:
— Я ошибся. Вода сильнее камня.
2
Курц сорвался в самом начале «Рампы», на первом страховочном крюке. Хинтерштойсер, стоявший много ниже, даже не успел сообразить, что, собственно, случилось — рука ли ослабла, нога потеряла опору. Тони поскользнулся — и тут же исчез, словно его стерли с поверхности льда. Андреас знал, что крюк забит прочно, сам вколачивал, только вот камень никуда не годился, трескался, рассыпался в крошку. Оставалось одно: упереться посильнее — и ждать. Страховочная веревка, змеей обвитая вокруг плеч, должна выдержать, выдержать, выдержать!.. Хинтерштойсер зажмурился.
Рывок! Тело отозвалось болью, заныло ушибленное бедро.
— Э-ге-гей! Я ту-у-ут!..
Снизу! Хвала Каменной Деве! Можно и глаза открывать. Андреас, скользнув взглядом по натянувшейся струной веревке, убедился, что друг-приятель хоть и висит, но висит вполне надежно.
— А я тут. Может, Капитана Астероида кликнем, а то мне тебя тащить чего-то лень.
Тони извернулся и показал кулак. Вариант с Героем Галактики явно откладывался. Хинтерштойсер, смирившись, поудобнее перехватил веревку.
— Вытащу — перекурим. Понял?
И только дождавшись ответного: «Ло-о-одырь!», принялся тянуть.
Матч команды «Людоед» против «Горных стрелков» в самом разгаре. Голы уже устали считать. Мяч из сетки — и снова в атаку.
* * *
Бивак обманул. «Дождись рассвета» превратилось в «Доживи». Переодеваться не рискнули, сухая «сменка» в рюкзаках была последней. Так и сидели, мокрые и продрогшие, надеясь, что одежда высохнет сама собой. Не дождались, солнце вскоре исчезло за тучей, потом пришел старый приятель — туман, обнял, ласковым псом облизав лица. А после заката обрушился холод, беспощадный, всепроникающий.
До рассвета как-то досидели, спиной к спине, опасаясь заснуть. Хинтерштойсер время от времени щелкал зажигалкой, любуясь маленьким синим огоньком. Курить не решался, сигареты мгновенно напитались бы водой. В серой рассветной пелене начали собираться, злые и готовые на все.
Ну, держись, Огр!
Как прогребли Второе Ледовое, даже не заметили. Пять часов, для тех, кто понимает, рекорд. Уже потом, на первом перекуре возле «Утюга», Курц воздал хвалу десятизубым «кошкам» итальянца Гривеля. Они и выручили, иначе бы пришлось рубить ступени через каждые пять метров у подножия очередной ледяной «волны». Андреас, подумав, согласился. Такого же мнения был и Огр. Старый людоед сыграл в поддавки, позволив так же быстро, почти без задержек пройти «Утюг» — и, ухмыльнувшись в серые трещиныусы, выставил каменную ладонь — «Рампу», для пущего эффекта накрыв склон своим колпаком — «комком ваты», предполуденным сизым туманом. Далеко внизу, на Веранде, наблюдатели в костюмах и при галстуках разочарованно отворачивались от окуляров. Не видать ни зги!
Стен-«вертикалок» на склоне хватает, но на этот раз Эйгер расстарался. Прошлый раз его союзником была вода. Не помогло, настырные людишки все равно ползут вверх. Не мытьем, так катаньем! Камень «Рампы» был гладок, словно стекло, и так же хрупок. Сталь уходила в него, словно в песок.
— Himmellherrgottsakramenth… — выдохнул Андреас Хинтерштойсер.
— …allelujamileckstamarsch! — довершил Тони Курц.
Первый крюк! Второй!.. Четвертый! Седьмой!.. В песок, в песок, в песок! На восьмой раз «Рампа» сдалась — поддалась, принимая в себя закаленный металл.
Мочалим!
* * *
— А морду я тебе все-таки набью, — рассудил Тони Курц, раскуривая мокрую сигарету. — Хорек ты, Андреас, причем мохнорылый.
Мохнорылый хорек отреагировал философски. Куда больше его занимала собственная сигарета, не мокрая, но весьма влажная. Курц, невниманием огорченный, повернулся рывком, рискуя соскользнуть в ледяную бездну.
— Что у тебя с Ингрид было, а? Когда мы с ней… То есть когда она… Она же только о тебе и говорила! И смелый ты, и умный, и тактичный. А еще она, Ингрид, перед тобой виновата и не знает, понимаешь, как загладить. В общем, ты хороший, я плохой, тобой, хорьком, помыкаю. Ты, мохнорылый, сначала с Хеленой своей разберись, она тебя, поди, внизу поджидает — чтобы кольцо в нос вкрутить.
Драться все-таки не полез — опасно оно без страховки. Хинтерштойсер же, сигарету раскурив, и вовсе впал в неведомую ему прежде мудрость.
— С Хеленой разберусь, не маленький. Но если я хорек, Тони, тогда ты крот-слепыш, который огороды портит. Я в этом раскладе вообще сбоку. Ингрид по американцу, кузену своему, сохнет. А мы с тобой — подопечные.
Тони взглянул нехорошо, кулак обозначив, но внезапно обмяк, разжал пальцы.
— Точно, Андреас! Она как о нем, об Уолтере, заговорит, так прямо зеленеет. Навешает на него всякого, словно на рождественскую елку, а потом вздохнет: зато, мол, мужчина, не прочим чета. Представляешь, он рыцарь, настоящий!
Рыцарей Хинтерштойсер видел только на картинках, а еще в музее, в виде старых доспехов. Поэтому совсем не впечатлился.
— Уолтером, говоришь, зовут? Прямо как нашего Вальтера, который Перри. Но Вальтер скромняга, на такого Ингрид и не взглянет. У них, у фон-баронов, и кость белая, и кровь голубая, и дым из ноздрей.
Крот-слепыш даже не попытался возразить хорьку. Выкинул окурок, проследил полет.
— Я вот понять не могу, Андреас, чего мы на нее запали? Мало ли девушек хороших?
Хинтерштойсер подумал и рассудил:
— Мало!
Старый Огр-людоед, сам-третий в этой беседе, слушал и поражался. Поди пойми этих букашек! Три километра с лихвой под ногами, а они о чем беседы ведут? Обиделся крепко, сделав очередную зарубку на ледяном щите. Но и опасность почуял. Если для этих двоих некая девица его, Эйгера, важнее, то нет ли за ними силы, ему неведомой?
Нахмурился Огр, туманный колпак надвинул по самые седые брови. «Рампы» не испугались? «Снежный Паук» впереди!
3
Лекс обнаружился в баре, на прежнем месте. Маленький столик у стены, пустая глиняная рюмка (проясняет разум и успокаивает нервы), чашка кофе с дымящейся сигаретой на блюдце. Увидев Марека, бывший работодатель сделал рукой странный жест, то ли подзывая, то ли отсылая прочь. Желтый Сандал заказал и себе кофе, двойной и покрепче, купил пачку сигарет, после чего без особого стеснения приземлился на свободный стул. Лекс поглядел кисло:
— Ночью не спали, курите, красное пятно на горле, которое вы очень неумело припудрили, галстук завязывали не глядя. Чем еще удивите, Марек?
— «Бегущие с волками» — кто это, мистер Мото?
Про «Лекса» вспомнил, только фиксируя вопросительный знак. Уточнять не стал. Надоели эти игры!
— Очень своевременный вопрос, — теперь в раскосых глазах плескалась истинно самурайская печаль. — Рушится мир, приезжает Геббельс, венгры сцепились с поляками за Карпатскую Русь, куда-то исчез Сталин… А вы чем заняты?
Можно было ответить коротко, можно — пространно. Но Марек Шадов просто улыбнулся.
— Вижу, в роли доктора Ватсона придется выступать мне, — констатировал Лекс. — Пейте, Марек, кофе, а то заснете. Про итальянцев знаю, сработали на «отлично», потребую от клиентки выписать вам премию… «Бегущие с волками» — это легенда, такая же, как сказки о столь любезных вам «Триадах».
Кофе Желтый Сандал не разлил только чудом. Занятия с каучуковым мячиком не пропали зря.
— В Европе, как вам рассказывали в школе, существовали рыцарские ордена. Это вы, Марек, знаете. А вот о том, что некоторые ордена были женские, может, и не слыхали. Первый, насколько я помню, основали в Каталонии, в двенадцатом веке — Орден Топора. Последний относительно недавно, в Австрии, — Рабынь Добродетели. Это были отнюдь не сестры милосердия, Марек. Враги дали им прозвище Бегущих с Волками, но воинственные дамы и сами с удовольствием стали себя подобным образом именовать. Такова история, легенда же гласит, что ордена никуда не исчезли, и до сих пор пытаются править Европой. Не сами, у них есть могучий соперник — Братство Грааля. Это, как вы догадываетесь, рыцари-мужчины. А дальше вспомните про масонов, сидящих под каждой кроватью. Удовлетворены?
— Почти, — Марек на миг задумался. — Что они не поделили, мужчины и женщины?
Лекс пожевал губами.
— Скорее всего… Не поделили они Господа нашего. Иногда важнее не во что веруешь, а как. Больше скажу. Некоторые считают, что уже тысячи лет Европа расколота на тех, кто поклоняется Великому Воителю — и на адептов Предвечной Дамы. Бог и Богиня, как говорят философы, дихотомия. Большинство наших неприятностей, включая войны, революции и даже эпидемии, якобы происходит из-за их вечной вражды… Ну что, Марек, проснулись? Готовы говорить о серьезных вещах?
Он был готов. Достал из пиджачного кармана телеграфный бланк, прижал ладонью к столу.
— Ильза приезжает сегодня после полудня, поездом из Берна. Чемоданы в машине, номера я поставил новые — те, что вы сказали. В отель возвращаться не будем, сразу к границе. Поедете с нами?
— Обо мне не беспокойтесь, Марек, — бывший работодатель вновь добавил во взгляд кислоты. — Ценю вашу бодрость, но мы оба слегка опоздали. С Геббельсом сюда прикатила целая толпа в черном. Они расставили людей по всем этажам, на въезде и, подозреваю, в гараже. Пока ничего не делают, просто скучают. Но это — пока. В любую минуту гостиницу могут замкнуть в кольцо — и кольцо это сжать. Может, обойдется, может, и нет. Геройствовать и не думайте, с вами ребенок.
Пилот-испытатель, теперь тоже бывший, с грустью вспомнил о «марсианском» ранце. Он есть у Небесной Вероники, но нет ее самой. Из Северного корпуса они вышли вместе. Оставалось узнать, имеется ли поблизости тропа через горы, но Лекс внезапно поднял указательный палец. Марек прикусил язык.
— Не помешала, господа? Знаю, что помешала, но как-то не хочется пить в одиночку.
На стол спикировала тяжелая, полная, до краев рюмка. Женщина в белой юбке и пиджаке нараспашку, присев на свободный стул, вынула из сумочки серебряную сигаретницу.
— Что смотрите, Марек? Да, набираюсь с утра, но снимать это не помешает. А вы — Лекс, вас тут все знают.
Очень странный консультант молча поклонился.
— К сожалению, вы не метеоролог. Война — un truc, главное — прогноз погоды. Если затянет тучами, можно сразу стреляться.
Хлоп — и рюмки нет. Хелена долго и старательно выбирала сигарету. Закурив, ударила локтями в стол.
— Он назвал меня стервой. При всех. Хотела дать ему по роже, но охрана просто выкинула меня из номера. Он еще, miststueck, крикнул вслед, что в следующий раз лично сбросит меня с лестницы. А потом целый час, verfluchte Hund, объяснял публике, почему я не умею снимать кино. Schwuchtel! Не может простить, что я отказалась стать перед ним на колени и расстегнуть ширинку. Himmelherrgott, все равно буду снимать, ясно?
Кого имела в виду разгневанная до белого огня женщина, Марек даже не пытался угадать. Баронессу Ингрид он оттащил в номер без особого труда. С режиссершей, если что, придется повозиться.
— Снимайте, — разрешил Лекс. — А вот прогнозом погоды не порадую. Облачность, местами дождь. Эйгер наверняка будет в тумане.
Хелена, повертев в руках пустую рюмку, брезгливо опустила ее на скатерть.
— Fick dich! Сниму все в павильоне, не впервой. А вы тоже фактурный, Лекс…
Консультант вновь отдал поклон, не забыв со значением поглядеть на Марека. Доктор Ватсон уже все понял: чашка крепкого кофе не поможет — срочная эвакуация с отправкой под душ.
— …Если бы не один парень с травмой бедра, у вас, Лекс, был бы хороший шанс. Кстати, приходите на сегодняшнее цирковое представление. Парад-алле! Лицезрение великого подвига, hure, немецких альпинистов! Он — и Эйгер! Сниму вас на память. Крупный план, вам, Лекс, понравится. Ровно в полдень на Веранде.
— Слоны будут? — невозмутимо уточнил «крупный план».
— Ослы будут! Козлы, scheisse! Бременские музыканты! Катились бы они все leck mich am Arsch!..
Дальнейшее Марек предпочел не слушать. Счастье, что Герда, проявив сознательность, согласилась вновь стать портфелем. Такая фактура даже для нее — перебор.
Уже у самой стойки он сообразил, что кофе Хелене не поможет.
Под душ!
4
Новый мир складывался из мелких разрозненных осколков. До цельной мозаики, витража во всю стену с холмами, замком, угрюмыми рыцарями и трудолюбивыми пейзанами — как на иллюстрациях к средневековому часослову, было еще очень далеко. Пока лишь стеклышки — возьмешь в руки, поглядишь на свет, удивишься.
В Берне женщине приходилось бывать регулярно, и она хорошо помнила, что в чинном Федеральном городе, в отличие от Парижа и Шанхая, мальчишки-газетчики не бегают по улицам с дикими воплями: «Новости! Самые свежие новости! Киноактриса искусала до смерти нильского крокодила!» Газеты принято приобретать в киосках — и не читать на ходу. Этим утром она впервые заметила у бернских киосков очереди. Не у всех, только у тех, где утренние выпуски еще не раскупили.
— Простите, майне фрау, но… газеты остались только вчерашние. Не желаете последний сборник скандинавских кроссвордов?
И читали где попало, даже переходя улицу. Мальчишки-газетчики еще не появились, но лиха беда — начало.
Осколочек…
Еще одним кусочком стекла стал личный самолет. Прямых рейсов из Ниццы до Берна не было, и усатый Адди, даже не дослушав, поднял телефонную трубку, чтобы позвонить в аэропорт «Ницца Лазурный Берег», где ждал своего часа «Фарман», такой же, как у компании Air Union, только его собственный. Один из трех.
— Ривьера прекрасна, мадам! Она — древний многоцветный гобелен, вытканный самой Историей. Его так приятно рассматривать с высоты птичьего полета! О, мадам, вам пойдут крылья!.. И вообще, Ильза, отвыкайте штопать чулки и ловить такси по переулкам. Нам с вами уже не по чину… мадам!
И подставил, мерзавец, ухо. Советовал взять охрану, уже знакомых плечистых парней. На вопрос, куда девалась ее собственная, состроил скорбную мину:
— Ушли в кино и не вернулись. Издержки нашей профессии… сестренка.
Новоявленный братец рекомендовал поторопиться. Через два дня, уже не в Монте-Карло, в Париже должна состояться встреча учредителей новой «Структуры». Коронация… Ее роль пока что скромная, тень слева от трона. Но самолет уже полагался.
…Название решили сохранить прежнее. «Структура структур» — СС — слишком двусмысленно.
Усатый Адди как бы невзначай обмолвился, что очень скучает по внучке. Сын — прыщавый болван, невестка — только что с тротуара, еще не отмыли, а девочка — сущий ангелок. Увы, даже на личном самолете через океан не налетаешься. Далеко? Да, к счастью, очень далеко.
— Ваша семья в Швейцарии? Ой, как неосторожно, Ильза! Будете отправлять в Штаты, посоветуйтесь со мной по поводу пароходной компании. Скучать лучше, чем вздрагивать от каждого телефонного звонка. А потом телефон замолчит, и начнутся бомбежки.
Еще осколочек — малая часть того, что грядет. Газеты ей были не слишком нужны, новости женщина узнала по радио, еще в самолете. Но местную «Blick» все-таки купила прямо на перроне — последнюю.
В купе читали все, и она решила не выделяться. «Наступает время теней, пора и самому становиться тенью», — молвил как бы между прочим Адди. Узнав же, как женщина его окрестила, хмыкнул, но не стал возражать. Имя оставили для переписки, но усатый выговорил себе право лично подобрать для нее псевдоним. И оскалился, предвкушая.
Новости обнаружились и на первой странице, и на второй. «Blick» издавался в Берне, поэтому передовица была о делах швейцарских. Подписание декларации об урегулировании отношений с Рейхом, огромная фотография Геббельса, совместное заявление об особых правах немецких кантонов, решение о плебисците по пересмотру Конституции 1876 года. Все это венчал внушительный заголовок: «Мир и добрососедство!»
Но это уже не так интересно. То, что Швейцарию заставят уступить по всем пунктам, было вполне предсказуемо, Колченогий лишь прилетел принять капитуляцию. Зато вторая страница…
Буквы заголовка на этот раз поменьше и расположены гуще: «Пакт Дельбоса-Риббентропа. Мир для нынешнего поколения?» Осторожные швейцарцы не поскупились на вопросительный знак. Женщина пристроила газету поудобнее…
Вот!
«Договор о ненападении между Германией и Французской республикой.
Правительство Франции и Правительство Германии, руководимые желанием укрепления дела мира между Французской Республикой и Германией и исходя из основных положений Локарнского и Лондонского договоров, заключенных между Францией и Германией в 1925 году, пришли к следующему соглашению:
Статья I
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздерживаться от всякого насилия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения в отношении друг друга как отдельно, так и совместно с другими державами…»
Нового мира еще не было, цветные стеклышки неслышно парили в потревоженном воздухе, подобно осколкам творения злого тролля — зеркала, посмевшего отразить Небеса. Но смутные контуры проступали, обозначались, и Снежная Королева уже могла представить, какой станет Европа. Не патриархальным замком с сеньорами и вилланами — карточным домиком, игралищем бурь. Злой тролль же оставался недоступен в своем заморском далеке, всезнающий и всесильный. Он уже давно стал тенью, опустив между собой и миром непроницаемый полог забвения. И в самом деле, кому интересен доживающий свой век отставной полковник из Хьюстона, что в штате Техас?
В годы Великой Войны Призрак не позволил Эдварду Манделу Хаусу подмять под подошвы его кожаных ковбойских сапог землю Старой Европы. Наступала эпоха реванша.
Женщина была готова к танцу «Апаш». Но в пустом переулке с разбитым черным фонарем (тем самым, с весеннего праздника Чуньцзе) она должна быть одна. Гертруда, живой комочек ее ледяного сердца, обязана исчезнуть где-то за океаном, стать строчками писем, буквами на телеграфном бланке. Ильза Веспер готова была принять и перенести эту боль. Дочь, ее плоть и кровь, ее малый слепок, не простит — но выживет и вырастет, став частью восставшего из руин мира, его новой Королевой.
Мареку Шадову, смешному мальчишке с мячиком в кармане, в этом мире места нет.
Женщина, аккуратно сложив газету, достала из сумочки кольцо с черненым египетским саркофагом. Надела на безымянный, полюбовалась. Ее верный амулет, несущий смерть врагам.
Гиммель — стиснутые ладони — она утопит в черной воде, где уже лежат на дне золотые кольца «третьего трупа».
…Сена, темная звездная ночь. И огоньки, повсюду, — на реке, на берегу, на небе. Такие минуты вспоминаешь потом всю жизнь.
Мальчишка должен уйти. Если не захочет… Что ж, они встретятся на рассвете.
5
— Женщины любят богатых, — авторитетно заявила Герда, гася в пепельнице очередную сигарету.
Марек Шадов, докуривший первым (прощай, педагогика!), и не думал спорить.
— Точно. Богатых и толстых.
— Напрасно шутишь, Кай. Был бы ты богатый, Королева никуда бы не уезжала. Ты бы, Кай, каждый вечер полотенце из ванны брал. И ящерица была бы тебе не нужна, и та носатая тетка, и… И третья сигарета тоже.
Мужчина покосился на излишне самоуверенную нахалку. И по носу не щелкнешь, только обрадуется.
— Хочешь, разбогатею?
Разговор был совершенно бессмысленным, словно коан о застрявшем коровьем хвосте. Только сидели не на циновках в сарае мастера Дэна, а в гостиничном номере, на кровати Герды. Курили. Марек только что вышел из душа — после водных процедур, устроенных буйной Хелене, и самому пришлось мыться.
…В коридоре — двое в штатском. Никого не трогают, просто гуляют. Поглядывают, ведут негромкую беседу. На Марека даже смотреть не стали, отвернулись. Герда время от времени приоткрывала дверь — не уйдут ли. Не ушли, пару раз исчезали за углом, где еще один коридор, но непременно возвращались.
Наручные часы — на столике, рядом с пепельницей. Стрелки спешат, а коровий хвост так и не желает, зараза, пролазить.
— Разбогатей, — разрешила Герда. — Королева считает, что ты не сможешь. Это тебе не оружие китайским генералам продавать.
Коан коаном, а Желтый Сандал слегка обиделся. Понимал, чей голос приходится слышать, и это огорчило сугубо.
…Двое в коридоре — не обязательно по его душу. Кто его ведает, как положено охранять Колченого? Но они есть, значит, возможен и худший вариант. Самый худший.
— Помнишь, Герда, гадкие картинки — за одеждой, в шкафу? Застежка медная, черная папка. В Германии сейчас много художников, чьи работы не слишком покупают. Эрнст Барлах, Ханс Беллмер, Жорж Грос, Отто Дикс… Много! Они пишут не так, как прежде, это непривычно, странно. Раньше над ними просто смеялись, но с 1933 года начали душить. Картины изымают из музеев, запрещают выставляться, кого-то уже и арестовали…
— Fucking Nazi, — негромко проговорила Герда. — Мыть рот мылом не буду. Это правда, Кай?
— Это правда. У меня есть среди художников друзья, не так и мало. Уже три года мы переправляем картины во Францию. Я договорился с моим тезкой, Марком Шагалом, он нам очень помогает. Там, во Франции, картины тоже никому не нужны — пока. Но после Олимпиады нацисты устроят нам такую рекламу, что эти холсты станут золотом. У нас, считай, своя фирма, Шагал называет ее «Кисти и тюбики». Он — председатель, я — технический директор. Езжу по Германии, валяю дурака… Кто станет подозревать клоуна, который идет на ходулях и звенит в бубен? Года через два, Герда, куплю тебе самолет. Хочешь?
— Не хочу. Он обязательно разобьется. Я невезучая.
Девочка встала с кровати, поглядела мужчине в глаза.
— Двое за дверью. Или за тобой, или за мной. Или просто так. Верно?
Он кивнул. Герда улыбнулась.
— Тебя, Кай, узнают по фотографии. Твоей — или этого… герра Пейпера. Меня тоже могли сфотографировать. Но искать будут девочку со светлыми волосами. И не одну, а рядом с тобой. Если я исчезну, они когда спохватятся? Когда увидят тебя в машине — без меня. Не раньше, правда?
Марек протянул руку, коснулся ее щеки.
— Тебе сколько лет, Герда?
— Не спрашивай! — Девочка отступила на шаг. — Я невезучая, Кай. Слишком поздно родилась, понял? Но если хочешь… Спроси меня об этом через десять лет, Марек Шадов! Тебе нравится, когда я называю тебя папой. Больше ни разу, ясно? Потому что это будет нечестно, нечестно, нечестно!..
Он долго молчал, пытаясь понять, что свалилось на плечи. Наконец заставил себя усмехнуться:
— Жаль, что я ничего не услышал, Герда.
— А я ничего и не говорила, Кай…
6
Огр, старый людоед, все-таки смог подкараулить Андреаса Хинтерштойсера. Рассчитал все верно: Курц наверху, в двадцати метрах, легкий, без вещей. Его друг-напарник, вредная букашка, внизу, в самом начале трещины, всего-то на одну веревку от точки подъема. Хинтерштойсер и сам виноват — успокоился слишком рано. Вырубил неплохую полочку, где можно стоять без «кошек», забил надежный крюк в лед. Веревка пропущена через карабин, что на кольце железяки. Порядок! Стой себе, отдыхай — и жди команды, пока Тони не обустроится и не приготовит место для рюкзаков. Андреас даже рискнул сунуть руку в карман, к сигаретам поближе. Это и стало сигналом для Эйгера. Дать тебе прикурить, букашечка?
Н-на!!!
Сверху загудело. Неясный туманный день померк, подернувшись серой завесой. Что-то резко и зло ударило по каске. Хинтерштойсер все понял, но только и успел, что вжать бестолковую голову в плечи. И — рухнуло.
Братья-убийцы Холод и Лед не справились с дерзкими, и Огр кликнул из белого ада их сестричку — Лавину.
* * *
К подножию «Снежного Паука» прошли скальным траверсом. Не слишком сложным: зацеп, вполне приличных хапал, на скалах навалом, лед между ними крепок, только и вбивай крюки. Отдышались — и взглянули вверх. Грех не полюбоваться!
«Паук» был изумительно красив. Издали — просто белое пятно на склоне, вблизи же гладкая поверхность распадалась на полосы, змеившиеся во все стороны: вниз, к уже пройденной «Рампе», но больше вверх — к снежной шапке-вершине. Присмотришься: и вправду паучьи ноги — или раскрытая ладонь, мечта хироманта. По кривым лапам-трещинам можно подняться наверх. Узко, скользко, туман у самых глаз. Но — можно.
Огр-людоед это тоже знал и ударил наверняка. В трещине, больше похожей на щель, от лавины не спрятаться. Даже если устоишь на куцей полочке, вцепившись одной рукой в крюк, а другой в веревку, сверху непременно, просто по теории вероятности, чем-то припечатает. Каска? Она, конечно, выручит — но не от всего.
Андреас выстоял почти до конца, даже не зажмурился, контролируя намотанную на руку веревку. Выпустит — другу Тони крышка, улетит — не поймаешь. Камни били по плечам, по спине, каска уже не звенела — гудела, проснулась давняя боль в бедре, однако Хинтерштойсер держался, словно и сам стал частью горы. Но человек — не камень. И когда что-то ударило в висок, он успел присесть на холодный лед и навалиться на веревку уходящим от него телом. А больше Хинтерштойсер ничего не успел.
* * *
— Андреас! Андреас! Андреас!..
Он уходил туда, где ждали. Темная дорога широка и легка. Ни скал, ни льда-предателя. Под ногами что-то мягкое, похожее на сухой мох. Страх и боль позади. За безвидной долиной, устланной мхом и поникшей травой, его ожидало холодное пенное море, янтарный пирс и драккар на рейде. Путь горного стрелка двадцати трех лет от роду — от надежды до надежды, от привала до креста — близился к концу. Он помнил о друге Тони, оставшемся на так и не взятой Стене, о замечательной девушке Ингрид, о тех, кто ждал его в родном Берхтесгадене, но темная дорога стелилась, словно льняное полотенце, а вдалеке тонким краешком нездешней зари уже проступало свечение золотых щитов Валгаллы.
— Андреас! Андреас!..
Он разбивался в дым, и поднимался вновь, зная, что так и надо жить. Совесть чиста. Веревка выдержит, Тони не погибнет. А больше волноваться и не о чем. Воздух прозрачен и чист, словно на снежной вершине, мягкий податливый мох так и зовет сделать следующий шаг…
— Хинтерштойсер, стой! Не смей!..
Тьму сменил огонь. На Хелене, ведьме из детской сказки «Гензель и Гретель», не привычный белый костюм — туника светлого пламени. Только здесь, среди долины, которую проходят лишь один раз, Андреас понял, насколько прекрасна его женщина.
— Возвращайся! — Пламя, взметнувшись вверх, закрутилось беззвучным смерчем. — Потом, через много-много лет мы с твоим сыном встретим тебя на янтарном пирсе. Но не сейчас, Хинтерштойсер! Я переписала сценарий. Возвращайся!
Огненный смерч плеснул в глаза, стирая нестойкую память о виденном и слышанном, ударил в грудь, отозвавшись болью в каждой клеточке живой, не желающей умирать плоти. Андреас застонал, с трудом разлепил веки.
— Ты чего там разлегся? — донеслось из поднебесья.
Он поглядел вокруг. Удивился. Привстал, придерживая прикипевшую к ладони веревку. Все в порядке? Вся в порядке! Болит, правда, но где именно, и не поймешь. То ли бедро, то ли рука, то ли голова-бестолковка. Дотронулся свободной рукой до виска, взглянул на кончики пальцев…
…И только тогда сообразил, что все-таки выпустил из ладони спасительный крюк. Но, вопреки неизбежному, не упал.
— Сейчас, Тони! Мне бы еще минутку. Перекурить!..
— Ну ты и лодырь!
7
Наглого вида сорванец — курточка не по росту, горное кепи по самые уши, подвернутые штанины поверх тренировочной обувки, тощий рюкзак за спиной — не спеша прошелся мимо сувенирного лотка, сунул вздернутый острый нос к гидам («Экскурсия в седловину Девы!») и, не приметив ничего интересного, столь же неторопливо направился к стоянке такси. На полпути оглянулся, скользнув взглядом по чисто вымытым окнам отеля. Показал язык — неведомо кому, не иначе от хорошего настроения.
Марек Шадов оторвал от глаз перламутровый бинокль-игрушку. Герда не ошиблась, мальчишка, выскользнувший из бокового входа «Могилы Скалолаза», никого не заинтересовал. Таких и без него хватало, и тех, что помогали гидам, и просто любопытных. Ближе к полудню толпа возле стеклянных дверей «Des Alpes» загустела, раздалась вширь. Слух о грядущем явлении Колченогого обежал окрестности. Некоторые захватили с собой складные стулья, кое-кто даже пытался приспособить подзорную трубу. К таким подходили люди в штатском и вежливо убеждали оптику убрать. Фотографов пускали, но предварительно просили показать аппарат.
Женщина в белой юбке и пиджаке нараспашку, к некоторому удивлению Марека, была уже на посту, прямо посреди Веранды, с кинокамерой наготове. Заметив его на балконе, махнула рукой.
— Вещи мне Ингрид оставила, целый рюкзак, — сообщила Герда, вертясь перед зеркалом. — Я кое-что перешила, пока портфелем была. Не всем же за сигаретами ходить! Чего ты удивляешься, Кай? Я и на машинке могу.
Уже возле самых дверей, убедившись, что коридорные «топтуны» в очередной раз свернули за угол, Марек поднял девочку на руки. Поцеловать не решился, просто прижал к груди.
— Не бойся, Кай! — сдавленно проговорила она. — И… И отпусти, задушишь!..
Дверь негромко хлопнула. Коровий хвост проскользнул в щелку.
Встретиться решили на железнодорожной станции, прямо на платформе, если дорогой случайно разминутся. Идти, пусть и в гору, не больше получаса. И таксисты от лишних франков не откажутся.
Мужчина поглядел на циферблат, легко щелкнул по стеклу ногтем.
Пора!
Портфель (все прочее уже в багажнике) — в левую руку, правую в карман, к черному мячику поближе. Если двое в штатском попытаются бросить косой взгляд, каучуковый шар ударит в стену. И никаких «Не двигайтесь!» Одному крупно не повезет, а со вторым ученик английского боцмана как-нибудь справится.
Марек представил, что за дверью не коридор с красной ковровой дорожкой, а знакомый многоугольник — кристалл с прозрачными гранями. И не каучуковый мячик, подарок мастера Дэна, он сам рвется в полет. Раз! Два! Три!..
8
— Все беды от плохого пищеварения, — уверенно заявила соседка по купе, полная румяная дама весьма преклонных лет. — У этого Гитлера, говорят, неприятности с кишечником. Неудивительно, что он бесится! Раньше такое лечили в кефирном санатории, в Шлейдеке, например, а сейчас даже не знаю.
Ильза Веспер, отложив газету в сторону, взглянула в окно. Вот уже горы. Невелика страна Швейцария.
— Надо попробовать свинцовые примочки, — рассудила она. — Некоторым помогает с первого раза.
Соседка взглянула с уважением:
— О, вы разбираетесь в медицине!
За окнами вагона — ничего интересного, гор женщина насмотрелась. В газете тоже, если не считать первых двух страниц. Что-то непонятное происходит в большевистской Москве, но в европейском раскладе эта карта весит не больше, чем китайская.
О муже она решила не думать. Решено — и с плеч долой. Если мальчишка не станет делать глупостей, она оставит Марека в покое. Пусть живет! Это лучшее, что заслужил Желтый Сандал.
«О нем больше не думай, мальчишка тебя недостоин. Я не сделаю ему ничего плохого, но о тебе он забудет. Навсегда!»
Все вышло, как и хотел босс. Только без босса, свинцовая примочка — очень действенное средство. Странно, но лишь сейчас, увидев страшные фотографии, женщина поняла, что сцена на Площадке признаний была изначально неправильной, фальшивой. О'Хара, которого она знала и научилась понимать, сделал бы предложение прямо в кабинете. Поцеловал бы в щеку, положил на стол кольца.
— Давай поженимся, Лиззи!
И весь сказ.
Зачем ехать так далеко, прятаться, заметать след? Не затем ли, чтобы обезображенный труп упал прямо под ноги Призраку? «Бросьте снимки в камин — и забудьте о нем. Навсегда!» Мог ли уходящий в Вечность старец устроить спектакль, потешить напоследок душу? О'Хара хотел занять его место, Призраку стоило лишь намекнуть, что преемнику требуется надежная опора. Госпожа Веспер — очень удачная партия.
…Европейский Призрак увел чужую жену прямо из-под венца — в пыльный вагон второго класса. О'Хара, шедший за ним след в след, предпочел Площадку признаний. Место мог указать сам старик, отчего бы и нет? Станьте романтиком хотя бы на один вечер, мистер О'Хара! А может, Призрак и не жаждал крови, просто хотел, чтобы рядом с беспокойным янки была она? «Ваш босс торопится, хуже, пытается ускорить ход событий». Вместе бы они справились, шелушили бы луковицу, аккуратно, без лишней спешки, снимая слой за слоем.
О прошлом женщина не жалела. А вот о будущем следовало крепко подумать.
— У вас не слишком здоровый цвет лица, милочка, — бесцеремонно прервала ее размышления кефирная соседка. — Раз уж вы в Швейцарии, то непременно посетите Шлейдек. Увидите, вам сразу полегчает.
Ильза Веспер невольно улыбнулась. «Милочкой» бывать еще не приходилось.
— Я с мужем развожусь. Думаете, поможет?
Горы за окном надвинулись, дохнули прохладой. Скоро будет тоннель, черная нора в чреве Эйгера. А года через три в такую же темную нору-ловушку угодит вся старушка-Европа, припечатанная рухнувшей с небес беззаконной планетой. О Аргентина, красное вино!
В горних высях звучат молитвы, В адских безднах — глухие стоны, В женском сердце — все арфы рая, В женском сердце — все муки ада.…В первый же день большой войны усатенький Адди, мнящий себя новым Призраком, умрет. Старый апаш Жожо отработает долг. Ничего личного, просто business!
9
Марек Шадов притормозил уже на грунтовке, отъехав от отеля на пару сотен шагов. Времени — навалом, почему бы не поглядеть на парад-алле? Когда еще увидишь Бременских музыкантов?
На Веранде — красные полотнища с Хакен Кройцом в белом круге, свисают чуть ли не до земли. Репродукторы, толпа в черной форме, дюжина фотографов при аппаратах. В самом центре, у балюстрады — фигурный микрофон с набалдашником, фаллический символ. Огромный, без всякого бинокля видно. Возле него пусто, Колченогий еще не пожаловал.
А из репродукторов пенной струей:
Я, ребята, загорел, Как лесной орех. Я и ловок, я и смел, Веселее всех.Песня местная, швейцарская, исполнение же привозное, по последней моде, в тысячу глоток:
Дуви-ду дуви-дуви-ди ха-ха-ха! Дуви-ду дуви-дуви-ди ха-ха-ха! Дуви-ду дуви-дуви-ди!Внизу тоже толпа, но уже в штатском, слушает про «Дуви-ду дуви-дуви-ди». Оцепления нет, но крепкие ребята все же стоят, присматривают. На грунтовке — машины, с дюжину, не меньше. Всем интересно.
Крепок ты, лесной орех, Так же крепок я, ох, крепок я! Быть такою же, как я, Должна жена моя!Марек подумал и решил остаться — ненадолго, до явления главного проказника, по-старому если — Арлекина. Того, кто учиняет разные неприятности себе же во вред — и тем весьма доволен бывает. Намечалась очередная историческая речь часа на два, но ее можно смело пропустить. Иное интересно. Колченогий пожаловал в «Des Alpes», дабы, на Эйгер взгляд кинув, полюбоваться победоносной «эскадрильей» во всей ее красе. Но у Огра — свои планы. Туман, непроницаемый «ватный колпак», над вершиной, на склонах — серая дымка. А что под нею, поди разбери.
Пилот-испытатель Крабат вспомнил Андреаса и Тони, храбрых ребят над скальным обрывом. Они-то где? Со вчерашнего вечера подзорные трубы ослепли. Геббельсу все равно, ему бы до микрофона-фаллоса добраться.
Марек заглушил двигатель, поднес к глазам перламутровый бинокль.
Дуви-ду дуви-дуви-ди ха-ха-ха! Дуви-ду дуви-дуви-ди ха-ха-ха!..* * *
Черный мячик пролетел без помех. Не задержали нигде, ни в коридоре (пусто!), ни у стеклянных дверей отеля. В гараже, возле самых ворот — трое братьев-близнецов в костюмах с одного прилавка. Но им тоже без разницы, в какие края и за надобностью какой собралась «Антилопа Канна».
…Не коричневая уже — бодрого кофейного колера, хоть в чашку наливай. Надписи («Народный автомобиль — показательный рейс!») исчезли, номера новые, документы к ним тоже. Спасибо Лексу-консультанту!
— А что-нибудь поскромнее нельзя было угнать, Марек? Бросьте ее на первом же перекрестке.
Мистер Мото, он же майор Вансуммерен, он же консультант при отеле и прочее, прочее, встретил бывшего подчиненного возле левой передней дверцы. В зубах — незажженная сигарета, под серым пиджаком — отчетливый контур пистолетной кобуры.
— Расслабляться рано, Марек. Вот пересечете границу… мексиканскую, тогда уж.
И поглядел грустно. Ход с мальчишкой-сорванцом в альпийском кепи оценил, кивнув одобрительно:
— Пусть привыкает!
Пожали друг другу руки. Марек хотел сказать «До встречи!» или даже «До скорой встречи!», но язык отчего-то не повернулся. «Спасибо!» — и все. А очень странный консультант вообще промолчал.
Так и расстались.
* * *
Дуви-ду дуви-дуви-ди ха-ха-ха! Дуви-ду дуви…Отрезало — прямо между двумя «дуви». Марек без особой охоты вновь поднес к глазам бинокль. Все, что хотел, уже увидел. Хелена при деле, крупный план снимает, черные мундиры, оптику расчехлив и к глазам приспособив, пытаются что-то разглядеть на утонувшем в тумане склоне. Репортеры мечутся, охрана, периметр обозначив, бдит. Бременские музыканты готовы к выходу.
Харальда Пейпера, Черного клоуна, нет. И не надо!
Между тем, тишину прервав, репродукторы угрожающе заскрипели, затем, того пуще, мяукнули перепуганным насмерть котом.
…Пара-а-а-ад-алл-е-е-е!..
«Свободен путь для наших батальонов!..»
Он!
Колченогий вынырнул возле микрофона, словно бес из омута, маленький, темноволосый, узкоплечий. В черном, как и все на Веранде, однако не в форме, в цивильном костюме. Марек даже сумел разглядеть галстук — красно-синий, в полосочку.
…Сегодня на арене… проездом из Берлина… единственный и непов-то-ри-мый!..
Пауль Йозеф Геббельс, рейхсминистр народного просвещения и пропаганды, осторожно, ласково притронулся к фаллическому символу, словно все еще не веря своему счастью. «Тук-тук-тук!» — ноготком. Прислушавшись к тому, что вышло, осмелел, раздался в плечах, налился тяжелой мужской силой.
«Свободен путь для штурмовых колонн!..»
Правая рука — вверх!
— Зиг!..
Полагалось добавить «хайль!» — или, как уж получится — дождаться ответного рева. Но — не судилось. Кто-то совсем рядом, слева, где Северный корпус, сделал «пиф-паф!». Но это лишь называется — «пиф-паф!», пули же сказали иное:
— Рдах… Рдах… Рдах!..[91]
Очередь — три патрона, и все три — в яблочко, чернявое и червивое. Марек, и не такое видевший, все же поморщился. Не слишком аппетитно рейхсминистр раскинул мозгами.
— Рдах… Рдах… Ррдаум!..
Фаллос-микрофон осиротел безвозвратно, но пули продолжали кого-то искать. Ударили по черным мундирам, разрывая в клочья дорогое сукно, сбили с ног бедолагу репортера. Марек Шадов, не глядя, повернул ключ зажигания. Если не Геббельс, то кто?
— Ррдаум… Ррдаум… Рдах… Рдах… Рдах!..
Пули ответили. Две первые прошли мимо, но третья угадала — врезалась в левое плечо под белым пиджаком. Четвертая и пятая не дали уйти — добили. Падали вместе — женщина и ее киноаппарат.
Отомар Шадовиц закрыл глаза и проклял себя. В душ ее затолкал, идиот! Что стоило уложить Хелену на кровать и укрыть одеялом?
Простишь ли, Господи?
На Веранде уже кричали, неуверенно лаяли пистолеты охраны, микрофон-сирота надрывался хрипом, в толпе возле стеклянных дверей забурлил водоворот. Все это выглядело — было! — жалко и совершенно бессмысленно. Но сзади, где скрывалась за туманом недоступная Северная стена, с малым запозданием прозвучало настоящее эхо. Горный склон, дрогнув, загудел, зашелестел начинающими долгий путь к подножию камнями. «Ватный колпак» накренился, обнажая острые зубья скал. Трещины-глаза в упор взглянули на смешных суетящихся букашек.
Огр-людоед веселился.
Надо было уезжать, и Марек Шадов уехал, покинув и людей, и отель в разгар их злополучья. Парабеллум лежал где положено, в перчаточнице, однако веры ему не было. Слишком резко выросли ставки.
— Крабат!.. Кра-а-абат!.. — позвали сзади.
Он не оглянулся.
10
На этот раз Эйгер не спешил начинать разговор. Пришел и просто присел на каменный уступчик. Сам огромный, гора горой, седая шапка — до небес, склоны — полы серого тулупа, считай, до горизонта. Борода — ледником — немного наискось, под скалами-бровями — очи-пропасти. Как на маленьком пяточке вместился, и сам наверняка не понял. Но вместился, даже для Хинтерштойсера место оставил. Тот, правда, не сидел, не лежал (негде!), а вроде как комком свернулся, улиткой без панциря. Даже страховочный трос крюку доверил, потому как мог и не удержать.
До выхода из щели-трещины — две веревки, не больше, а там и «Паук» позади. За ним уже выходная трещина и все. Гребень! Андреас же, всякую сознательность потеряв, решил в улитку поиграть. Вцепился руками сам в себя, словно упустить боялся, и замер у трещины на самом краешке.
Друг-приятель Тони, что-то почуяв, про «лодыря» забыл, лишь время от времени окликал. Не торопил, а вроде как хотел голос услышать. Улитка-Хинтерштойсер честно пытался отвечать, даже рот открывал, но что из этого получилось, и сам не понял.
Больно… Очень больно… Висок, бедро, плечо. И еще все сразу.
Тут-то и пришел к нему Огр-людоед. Смеяться не стал, сочувствовать, впрочем, тоже. Долго — каменно — молчал, потом бороду-ледник тяжелой скальной рукавицей огладил.
— Ну что, сынок? Помогли тебе твои марсиане? А ведь предупреждал! У тебя не останется ничего — и от тебя ничего, даже могилы. Видишь, как оно скверно — умирать?
— И ничего не скверно! И ничего не умираю! — как можно громче подумал Хинтерштойсер. — Сейчас встану — и дальше мочалить буду. А боль всю здесь оставлю, тебе на память.
Эйгер качнул седой шапкой:
— Этих, которые слева от вас мочалили, я только что убил. Двоих сразу, двоих камнем присыпал, чтобы прочувствовать успели. Раз уж вы, букашки, сами себя не жалеете, под корень изводите, чего мне, старику, стесняться? А тебя и дружка твоего под конец припасу, вроде как на сладкое. И будет мне обед из трех блюд.
— Scheiss drauf! — подумал в ответ Хинтерштойсер. Остаток сил собрал, замешал на горькой слюне и выплюнул разом, уже в полный голос:
— Scheiss!.. Drauf!.. Сраная каменюка!
Распрямился, пусть и не до конца, взялся пальцами за холодный крюк. Сейчас встанет! Сейчас… Глаза бы кто помог открыть, веки поднять. Спеклись…
— Это, наверно, неправильно, Андреас, — сказала ему баронесса фон Ашберг-Лаутеншлагер Бернсторф цу Андлау. — Любить надо кого-то одного. Иначе не любишь, а просто ищешь или ждешь. Выбираешь… Это же не любовь, правда? Только не сердитесь на меня. Вы с Антониусом такие взрослые, а я — спичка-недоучка из старшего класса. Вот и дядя умер, похоронила вчера. Одна осталась, даже коробка нет. Не сожгут, так сломают — или просто выкинут, когда размокну.
Хинтерштойсер настолько возмутился, что о веках болью склеенных, позабыл. Ударил живым взглядом в северное небо.
— Я тебе размокну! Я тебе сломаюсь! Бросай к бесу своих фон-баронов, мундштук об колено располовинь — и делом займись. Сама не сможешь, так мы с Курцем подсобим. «Категория шесть» своих на склоне не бросает.
Улыбнулся хорошей девушке Ингрид, вверх поглядел:
— Тони-и-и! Я иду-у-у!..
Тихо-тихо ползи, улитка…
11
От стеклянных дверей «Гробницы Скалолаза» до железнодорожной платформы — три километра. По крайней мере, так говорят таксисты, что при отеле кормятся. На самом деле поменьше, но дорога не из лучших. Если от станции, то почти все время вниз, зигзагами, изгибы склона повторяя. От «Des Alpes» — наоборот, причем подъем такой, что не всюду третью скорость включишь. Где-то на трети дороги, если от гостиницы считать, — ложбина, не слишком крутая, но все же отдельного знака удостоенная. Увидишь — притормози, потому как нырять придется. А что в самой ложбине, снизу не увидать.
BMW 315/1, Roadster, прозываемый «альпийским гонщиком», поджидал Марека Шадова именно там. Не на самой дороге, чуть сбоку, чтобы пулемет развернуть удобнее. В красном авто — трое, пулеметчик на посту, прочие рядом, с сигаретами в зубах. Кричать не стали, даже рукой не махнули.
— Дах-дах-дах-дах! — и пыль перед колесами.
Когда Марек остановил «Антилопу», старший, шляпа набекрень, указал пальцем на левую обочину. Катись туда, мячик черный, самое тебе место!
И не поспоришь.
Марек Шадов отъехал, куда сказано. Двигатель заглушил, пистолет из перчаточницы брать не стал. Вышел. Двое уже рядом, у капота, пулеметчик же по-прежнему на месте, стволом двигает.
Шляпа Набекрень без спешки достал из бокового кармана слегка примятую фотографию, сличил, бросил окурок в пыль.
— Руки!
Марек подумал, что вверх, оказалось, нет, вперед. Второй, шляпа на нос, уже достал наручники. Клац! И стальные зубья на запястьях. А дальше совсем просто. Взяв за плечо, отвели к правой передней дверце, прислонили, поглядев с прищуром, словно продавать собрались. Переглянулись — и обратно к красному авто.
Марек стоял ровно. В «Родстере» — только трое, сорванца с упрямым мужским подбородком нет. Коровий хвост все же проскользнул в щелку.
«Не бойся, Кай!» Он не боялся.
Прошлый раз «Гонщик» услаждался музыкой, на этот раз радио передавало новости. В скороговорке диктора мелькнуло вполне понятное: «Швейцария… рейхсминистр… „Des Alpes“… жертв уточняется…» Трое в шляпах не слушали, скучали, поглядывая в затянутое тучами небо. Минуты текли неспешно: одна, другая… пятая.
Шум мотора Марек услышал в тот самый момент, когда новости закончились, и радио разразилось веселым фокстротом. Со стороны отеля кто-то натужно газовал на подъеме. Мотоцикл — и со скоростями ездок явно не в ладах. Шляпа Набекрень кивнул подчиненным, те поспешили застегнуть пуговицы на одинаковых темных пиджаках. Пулеметчик вылез из машины, уже с пистолетом, табельным «Вальтером», показал оружие пленнику, ухмыльнулся.
Отомар Шадовиц на него не смотрел. На дорогу тоже. Мир исчез, поглощенный черной ледяной пучиной. Известняковая стена рухнула под неудержимым напором вознесшейся до самых небес волны. Он ошибся. Вода сильнее камня.
Мякиш! Мастер Теофил победил.
— Крабат!.. Кра-а-абат!..
Мотоцикл гремел уже совсем рядом, затем двигатель смолк, знакомый голос что-то приказал экипажу «Гонщика»… Отомар не слушал, пучина тянула вниз, на самое дно.
«…Ты стал слаб, Крабат. Родная земля давно уже не дает тебе силу, ибо ты отринул ее…»
— И кто тут у нас? Никак вы, герр Шадов? Поздравляю, ребята, вы только что задержали убийцу рейхсминистра Геббельса.
На этот раз гауптштурмфюрер СС Харальд Пейпер был без усов. Зато при новом костюме, точно таком же, как на убийце рейхсминистра. Пуговицы чуть другие, но с трех шагов не отличишь.
* * *
— Pa, zdravo, Otomar!
— Zdravo, Gandrij, bratec Kain!
— Каин?! Ой, не спеши брат, не спеши. Ne zhuri! Операция-то не закончена. Давай пока похвастаюсь… То есть хвастаться нечем. Колченогого грохнули, ужас! Представляешь, что начнется? Швейцарии — poklopac, крышка, это, считай, факт. Самое смешное, брат, Швейцария — не цель, всего лишь побочный эффект. Иногда приходится разжечь войну, чтобы поджарить яичницу. Кому я рассказываю? Ты же профессионал, с Вансуммеренем в Китае работал. Или тебе Геббельса жалко?
— Ti јe zhao, Gandrij. У твоего начальства два убийцы на выбор, одинаковы с лица. Но разбираться-то будут всерьез, никакой Козел уже не поможет. И кого из нас выберут?
— Тебя. Борхардт-Люгер 1914 года, карабинная модель, диск на 32 патрона, экспериментальный оптический прицел. Твои отпечатки пальцев, помнишь? В Северном корпусе меня — тебя! — видели, потом ты угнал мотоцикл… Не бойся, не поймают, они в другую сторону поехали. Мотоцикла-то два… Это не все, Отомар, но остальное приберегу, не хочу эффект портить. Ну, оцени!
— «Бога Черного, царства древнего позабыт алтарь. Крячут вороны, камень мхом зарос. Бог ушел от нас…»
— Э, нет! Мы хлебаем из одного котла, герр Шадов. Фамилии-то меняли вместе, не забыл? I uopshte, Sorbi izumeo јe austriјskog Generalshtab. Ну, пора! Фильм-эпопея «Smrt hromi», серия вторая.
— Фильм? Хелену-то за что?
— За то, братец Железная Маска!
* * *
Отвели в сторону, от «Антилопы» подальше, толкнули в спину, ткнули коленями в пыль. Чья-то ладонь надавила на затылок. Марек Шадов закрыл глаза. Секунды тянулись невыносимо долго, вокруг плескалась черная вода, и где-то далеко, на краю сгинувшего мира негромко смеялся Мастер Теофил.
— Крабат! Кра-а-абат!.. Иди в Шварцкольм на мельницу! Не пожалеешь!..
Наконец металл прикоснулся к шее. Марек невольно вздрогнул — смерть была холодна.
— Пистолет твой, — пояснил брат. — Ты не против? Извини, что задерживаю. Это все трюк с мотоциклами, слишком удачно вышло, пока сообразят, пока назад повернут… Кстати, тебе грех жаловаться. Все, что обещано, я выполнил, zar ne? Разве мы не в Швейцарии? А насчет «потом» уговора не было.
Отвечать не имело смысла — черная вода не знает жалости. Отомар Шадовиц, последний Крабат, стоял на коленях в придорожной пыли и ждал выстрела. Понимал, что не услышит, умрет прежде, но все равно ждал. Хоть какой-то смысл в том, что еще осталось от жизни.
…Прошу вас стать моей женой… Я отбил у гангстера его девушку… Ничего было не изменить, мы оба знали, что остановиться уже не сможем… Тебе нравится, когда я называю тебя папой… Я не Каин и никогда им не стану…
А еще ему очень хотелось, чтобы кто-то милосердный сыграл «Титаник-вальс». Марек попытался вспомнить мелодию, однако ноты ускользали, смытые с палубы черной ледяной водой. Вальс умер. И тогда стоящий на коленях заставил себя разлепить сухие губы:
— Не томись тоской бесплодной… Ведь не вечен снег зимы… Будет родина свободной…
— Рдах… Рдах… Ррдаум!.. Рдах!..
Он все-таки услышал. И в то же миг металл оторвался от его шеи.
— Не двигаться! — ударил голос с небес. — Следующая пуля — твоя, stricher!
* * *
Экипаж «Альпийского гонщика» отъездил свое. Все трое — в пыли. Шляпа Набекрень успел напоследок дотянуться до пулемета, но и только. Кровь, еще не успевшая впитаться в сухую землю, казалась тяжелыми красными гроздями. Беспощаден серп…
Вероника Оршич, пилот-испытатель Первой эскадрильи «Врил», коснулась подошвами грунтовки. Ни шлема, ни тяжелых очков, только ранец и пояс. Черный зрачок пистолета — Гандрию в лицо.
— Опусти оружие, Пейпер!
— Шадовиц-младший к вашим услугам, — Марек почувствовал, что брат улыбается. — Не хотите же вы осиротить своего любовника?
Черный зрачок дрогнул. Гандрий взял старшего за плечи, помог встать.
— Вот теперь все в сборе!
Шагнул вперед, поглядел на трупы возле красного авто.
— Полная смена караула! Я почему, Отомар, твой пистолет взял? Чтобы этих ухлопать. Но так даже лучше… Уберите оружие, фройляйн, больше никто никого не убьет.
Девушка, чуть подумав, спрятала пистолет в поясную кобуру.
— Отомар! Иди ко мне!..
— Стоп! — гауптштурмфюрер СС поднял вверх руку. — Сначала мой брат должен узнать, с кем имеет дело. В плане операции было слабое место. Как удержать преступника в отеле? Ребята, конечно, присматривали, но знаешь, Отомар, есть такой коан про корову и хвост. Ты бы выскользнул! Требовалось занять тебя чем-нибудь приятным, еще лучше — какой-нибудь тайной. Фройляйн Оршич девушка не только красивая, но и загадочная…
Синий взгляд ударил молнией.
— Не слушай его, Отомар!
Брат весело рассмеялся:
— А знаешь из какого номера стреляли? Из того самого, из вашего гнездышка. Отпечатков пальцев — на три процесса хватит. А снял номер не кто иной, как Марек Шадов, что и записано в соответствующей графе. Такая вот, я тебе скажу, загогулина. А теперь подумай, кто тебя тащит в могилу?
Девушка покачнулась, с трудом устояв.
— Н-не-е-ет!!! Неправда, Отомар! Я показала свой паспорт. То есть не мой…
Новый взрыв смеха не дал договорить:
— Нельзя же быть такой наивной, фройляйн! Вы вошли в Северный корпус, вам предложили свободный номер… О чем вы думали? Да будь у меня завербованный агент, он не сработал бы чище. А если это глупость, то за глупость надо платить.
Марек понимал, что брата нужно немедленно остановить, заставить молчать, но руки были скованы, а слова куда-то исчезли. Синеглазая ни в чем не виновата, это все он, Отомар! Нет, это все Гандрий!..
…Но брат был далеко. Вероника — рядом… За левым ухом негромко хихикнул Мастер Теофил.
И снова тянулись секунды, кровь впитывалась в землю, красные грозди темнели, теряя форму. С близкого горного склона подул легкий ветер, плеснув пылью в лицо.
— Я предала тебя, Отомар, любовь моя, — послышался мертвый голос. — Прости! И прощай!..
Пистолет у виска.
* * *
…Два черных мячика, близнецы-братья едва не столкнулись в полете. Разминулись, пройдя крестом, и оба попали в цель. Тот, что брошен скованными наручниками рукой — в металл, в ствол «полицейского» «Вальтера ППК». Второй, не столь милосердный — между синих глаз. И в тот же миг Марек почувствовал, как земля уходит из-под ног.
Подсечка!
— Полежи немного, — посоветовал брат. — Потом дам ключ от наручников — и уматывай подальше. Я не Каин, ты мне нужен живым и свободным. Пока тебя ловят, и я им еще пригожусь.
Марек, привстал, опершись на локоть. Вероника лежала недвижно, закрытыми глазами в небо.
— Жива, не волнуйся, — понял его брат. — У тебя мячик из каучука? У меня тоже, но со свинчаткой. Откачаем! Вот, собственно, и все, Отомар. Козел, будь он неладен, получит свой марсианский аппарат вместе с марсианкой, наш фюрер — Швейцарию, а я — шанс выжить… Лежи!..
Пистолет смотрел Мареку в лицо. Гандрий поморщился.
— Связывать тебя нечем, придется глушить kao riba. Не вышибать же тебе коленную чашечку!
— Рдах!.. — внесла ясность пуля из «жилеточного браунинга», и гауптштурмфюрер СС Харальд Пейпер, выронив оружие, послушно завалился набок.
— В коленную чашечку! — отрапортовала Герда, выглядывая из-за красного авто. — Вставай… папа.
Что оставалось делать? Только встать, отобрать у девочки пистолет, напомнив, что после выстрела ствол следует поднять вверх, а не наоборот. И отряхнуть брюки.
По поводу «папы» Кай, персонаж из детской сказки, предпочел не переспрашивать.
* * *
— И что прикажете с вами делать, Марек? — искренне огорчился консультант Лекс. — Всего-то и требовалось — до станции доехать!
Доктор Ватсон не нашелся с ответом.
Зеленый «Fiat Balilla» с серебряным мальчишкой на капоте затормозил как раз в тот момент, когда Отомар заканчивал перевязку. Коленная чашечка уцелела, однако бегать Гандрию не придется еще долго. Брат негромко стонал и ругался по-сорбски. Веронику усадили на заднее сиденье «Антилопы». Девушка пришла в себя, но молчала, не проронив ни слова. Герда, непривычно тихая, пристроилась рядом.
Майор Вансуммерен вышел из машины, осмотрелся по-хозяйски и подвел итог:
— Насвинячили!
12
Предвершинное поле встретило их густым снегом, завертело белой круговертью. Хинтерштойсер изо всех сил старался не терять из виду спину идущего впереди Курца. Склон оказался внезапно пологим, вполне по зубам «кошкам». Ни крюков, ни веревок, только шагай по диагонали направо, к скальному гребню. Шаг, еще шаг, еще…
Андреас шел и удивлялся, отчего из-под снега проступает не лед, а желтый прозрачный янтарь, почему он видит себя со стороны, и кто те, неведомые и незримые, что поддерживают его и отгоняют боль. Хинтерштойсер не видел черного гребня, но сквозь метель ему светили золотые щиты. Валгалла — совсем рядом, за близкой кромкой скал, а попадает ли он туда сейчас или через полвека, не так и важно.
Шаг, еще шаг…
Среди туманных гор, Среди холодных скал, Где на вершинах дремлют облака, На свете где-то есть Мой первый перевал, И мне его не позабыть никак.Андреас знал, что боль, которую чьи-то руки сдерживают, словно злого пса на сворке, вцепится в него сразу за гребнем, и он упадет, даже не успев прокричать «Ура!» Но пока еще можно было двигаться, преодолевая метр за метром, и Хинтерштойсер, морщась от налипшего снега, поднимался все выше и выше по Предвершинному Последнему полю.
Эйгер молчал, укрывшись снежной пеленой. Эти двое уже не в его власти.
Мы разбивались в дым, И поднимались вновь, И каждый верил: так и надо жить! Ведь первый перевал — Как первая любовь, А ей нельзя вовеки изменить.Странно, но с каждым шагом сил прибывало. Снег, правда, исчез, сменившись ярким золотым огнем. Пропал и дружище Тони, даже склон куда-то сгинул. Что вокруг? Небо? Бездна? Пучина? Не так и важно, его дело — идти, неспешно, шаг за шагом, храня остатки дыхания. Тело стало невесомым, а потом и вовсе перестало быть. Хинтерштойсер решил не удивляться. Есть ли он, нет ли, главное — вперед. Вперед — и вверх!
…Шаг! Шаг! Еще шаг, еще!
Идет без лишних слов На смену яви — новь, На смену старым — новые года. Но первый перевал, Как первая любовь, Останется с тобою навсегда.Внезапно Андреас понял, что может бежать, прямо с «кошками» на ботинках. А если разогнаться немного — взлететь в золотой сияющий зенит. Почему бы и нет? Он уже и так выше птиц, выше облаков. Сейчас соберется с силами и…
— Сто-о-ой! Свалишься!..
Хинтерштойсер резко выдохнул, призывая явь. И она вернулась. Снег — перед лицом и под ногами, слева — неясный силуэт Тони Курца. И темные пятна — не впереди, а очень, очень далеко внизу.
— Ты куда? — удивился друг-приятель. — Дальше, Андреас, уже другая стена — Южная.
Хинтерштойсер стер с лица мокрую снежную кашу.
— То есть как, Южная? А Северная где?[92]
Глава 12, она же Эпилог А. То, что было
Две Королевы. — Харрер собрался в Гималаи. — Любовь и ажан. — Марк Шагал.
1
Ильза Веспер рассталась с мужем в маленьком швейцарском городке Шатель-Сени-Дени за два часа до прихода французских войск[93]. То, что вторжение началось, стало ясно еще вечером, когда дорога на Лозанну оказалась намертво перекрыта бесконечной колонной идущих навстречу грузовиков с «пуалю» в серой походной форме. Рисковать не имело смысла, и Марек на ближайшем перекрестке повернул на север, где было еще тихо.
— Паспорт я уничтожил, Ильза. Отныне я голландец, уроженец славного города Батавии, что в Нидерландской Индии. Фамилия, правда, трудная, никак не запомню. Документы на машину новые, номера тоже. Ну и… Еще очки — и большие усы.
— Тебя ищет самая опасная банда в Европе, Марек. И будет искать еще долго, пока жив Бесноватый. Ты объявлен личным врагом Гитлера. Повтори это вслух — а потом попытайся осмыслить. Никакие усы не помогут, тебе нужно уезжать немедленно, куда-нибудь за океан, в Нидерландскую Индию. Ты теперь — носитель чумы, несчастный лабораторный кролик с отравленной кровью. Умрешь ты — умрем и мы с Гертрудой.
Переждать решили в первом же попавшемся городе, самом обычном, швейцарском, но с двусмысленно звучащим в такой момент французским названием. В придорожной гостинце нашлось два свободных номера, оба с единственной кроватью, но большего и не требовалось. Задремавшую еще в пути Герду уложили спать, а сами, наскоро перекусив в пустом ресторанчике, закрылись на ключ.
— Ильза! Я… Я спрячусь, затаюсь. В конце концов, здесь французы, а не вермахт!
— Марек, Марек! Прекрасная Франция тебе чрезвычайно признательна за возможность разделить Швейцарию с немцами. Репортеры, правда, уверяют, что войска перешли границу за час до того, как ты пристрелил Геббельса, а у Пакта Дельбоса-Риббентропа имеется тайный хвост о сферах влияния в Европе. Но тебе-то, Марек, легче не будет! В лучшем случае станешь мелкой разменной монетой. Вероятно, сразу немцам не отдадут, но чуть позже, под следующий договор… Можешь, конечно, попытать счастья у Муссолини. Итальянцы, по слухам, занимают Тичино, им тоже кусок положен… Нет, не советовала бы, Дуче перевяжет тебя ленточкой и пошлет в Берлин. Исчезай! Мне будет плохо без тебя, но… Исчезай!
Разговор женщина продумала заранее, рассчитав по давней привычке варианты и повороты, но случившееся учесть все же не смогла. Поэтому Ильза, поставив на стол бутылку виски «Dallas Dhu», позволила мужу выговориться вволю. Слушала, не перебивая, лишь время от времени подливала в стаканы.
— Исчезнуть… Как?
— Прямо сейчас. Скоро утро, сядешь на первый же автобус и уедешь подальше, в какую-нибудь глухомань. Там отсидишься дня три, пока все не успокоится — и к ближайшему порту. Только не попадись немцам, у каждого патруля, уверена, уже есть твоя фотография.
Оба курили, и никто этому не удивился.
С каждой минутой, с каждым новым выпитым глотком, женщине становилось легче и спокойнее. Мальчишка, умудрившийся, сам ли, не сам, но всколыхнуть всю Европу, разрубил и гордиев узел — сцепленные намертво их золотые кольца. Не придется лгать, выстраивая мудреные логические цепочки, взвешивать и спорить. Ее заботы, наследство Призрака, грядущая Большая война — все это можно не упоминать.
— Куда тебе писать, Ильза? И… Когда мы увидимся?
— Никуда, Марек. И никогда. Я помню, что обещала у алтаря. «В богатстве и в бедности, в болезни и в здравии, пока смерть не разлучит нас». Но о Гертруде… О Герде там не было ни слова. Я бы согласилась умереть рядом с тобой, Марек Шадов. Дочь я не отдам — ни тебе, ни Смерти.
Ильза Веспер была очень благодарна мужу. Когда Марек, кусая губы, рассказал о случайной девке, залетевшей в его кровать, женщина чуть не рассмеялась. Легко хлопнула по щеке — и, поцеловав, простила. А потом поцеловала еще раз — в память о фонарике с весеннего праздника Чуньцзе.
— Гертруда спит, Марек. Пусть спит, не буди… Неужели ты думаешь, что я ничего не вижу и не понимаю? Она не станет плакать, она просто убежит с тобой. Что будет дальше, подумай!
— Ты сказала: «Учти, Марек! Тебе придется полюбить двух женщин». Но не сказала, как их забыть.
* * *
Они простились на пустой автобусной остановке в серый предрассветный час — время призраков и неупокоенных мертвецов. Марек поставил на землю чемодан, Ильза Веспер затоптала каблуком окурок.
Кольца Гиммель, две сомкнувшиеся ладони, лежали у нее в сумочке. Маленькая, на два спичечных коробка, шкатулка — память о джазовом концерте, на котором им так и не удалось побывать. Ильза Веспер, почувствовав, что не сможет бросить их под черную воду, думала вернуть. Но так и не решилась.
Расставаться без слов было слишком жестоко, и она сказала единственное, что пришло на ум:
— Прощай! И прости!..
Марек Шадов отшатнулся, сжал кулаки:
— Нет! Никогда!..
— Почему? — Женщина заставила себя улыбнуться. — Мы все живы, и, дай бог, проживем еще долго. Нам было очень хорошо вдвоем, Марек. Вспомни! Положено прощать даже врагов. Почему для меня исключение?
— Я тебя люблю.
* * *
Гертруда Веспер встретила ее возле запертых дверей номера — в полосатой пижаме и пушистых тапочках. Курила, стряхивая пепел в мыльницу. Женщина, все поняв, отперла дверь.
— Заходи!
Сигарету отбирать не стала, пододвинула поближе пепельницу и, щелкнув зажигалкой, закурила сама. То, что сейчас придется сказать, она тоже продумала, проговорив про себя не один раз. Знала, что дочь не простит, и заранее смирилась. Так даже проще. Хорошую частную школу, в глубинке, в самом сердце солнечного Прованса, она уже подобрала. Гертруда будет там в безопасности — до зимы, когда решится вопрос с переездом в Штаты.
Отрезано! Уже не болит. Почти…
Ильза Веспер решила начать разговор после того, как сделает последнюю затяжку. Дочь ее опередила, затушив сигарету первой.
— Сказка про Снежную Королеву кончилась, мама.
— Да, — неохотно согласилась она. — Сказки всегда кончаются, девочка. Мне очень жаль, что это случилось сейчас. Марек мог бы стать тебе хорошим отцом.
Дочь поглядела ей в глаза, и женщина вспомнила, что означает такое привычное имя. Гертруда — Сила Копья.
— Нет, мама. Мой отец — Шарль Грандидье, lieutenant de vaisseau Национальных военно-морских сил Франции. Его убили в Шанхае, когда он выполнял секретное задание.
На этот раз женщина не смогла выговорить короткое «Да», просто кивнула. Гертруда, подождав, пока мать загасит сигарету, отодвинула пепельницу. Локти — на скатерть, подбородок — в ладони.
— У тебя, мама, осталась его фотография. Ты ее прячешь, но я нашла. На обратной стороне — фамилия и адрес в Париже. Когда мы приехали в Берлин, я написала письмо.
Ильза Веспер на миг прикрыла веки, заставляя себя забыть, что перед нею — десятилетняя девочка, ее плоть, ее кровь. Разговор будет на равных.
Королева — против Королевы.
— Ты — незаконнорожденная, Гертруда. Родители Шарля и слышать не хотели о браке. В Шанхае меня продали в публичный дом. Я вырвалась, но такое не смоешь, даже с кожей не сдерешь. Лейтенант французского флота не мог жениться на мадам Баттерфляй.
Дочь сжала губы.
— Я так и написала, мама. Мне не нужно от них ни фамилии, ни денег. Просто пусть знают, что я есть. Ты дала Мареку копию свидетельства о рождении, я пошла к нотариусу и тоже сняла копию. И фотографию выбрала, самую лучшую.
Ильза Веспер горько пожалела о том, что отпустила мальчишку. Сказка про Кая и Герду не кончилась. Зеркало тролля смотрело ей в глаза.
— Ответ пришел через полгода. Наверно, проверяли, писали в Шанхай. Мой дед, он тоже моряк, contre-amiral, разрешил присылать ему письма и открытки на праздник. Не обещал ничего, но я ничего и не просила. Адмирал ничем не рисковал, правда, мама?
— Очень умно, — кивнула она. — Какая же ты маленькая расчетливая дрянь!
Герда улыбнулась.
— Спасибо, мама. Потом мы стали переписываться, а потом адмирал приехал в Берлин. Марека тогда не было, а когда он вернулся, я сказала, что у нас гостил мой дальний родственник. Бывают же у людей родственники! Вот тогда мы с дедом договорились, что мне делать, если станет совсем плохо.
Ильза Веспер едва сдержалась, чтобы не ударить собственное отражение. Знала — не поможет. Осколки вонзятся в сердце.
— Вчера, когда мы остановились пообедать, я сказала тебе, что зайду в магазин. А зашла на почту и отправила телеграмму. Дед знает, что я в Швейцарии, неподалеку от Лозанны. Завтра, если я не дам отбой, меня будет искать вся французская армия.
— Ты… Ты кое-что забыла, — слова рождались с трудом, цепляясь друга за друга. — Ты моя дочь. И никакой адмирал, никакой суд…
Взгляд из глубин зеркала был так холоден, что губы Ильзы Веспер обратились в лед.
— Немецкий суд, мама. Здесь уже — Франция. У тебя нет французского паспорта. А на суде станут задавать вопросы. Я подскажу своему адвокату, какие именно. Но зачем нам суд? Дед приедет и меня заберет. Я не стану тебе больше мешать, мама.
Пепельница врезалась в пол, покатилась, теряя окурки.
— Убирайся!
Дочь была уже на пороге, когда женщина, не сдержавшись, ударила криком.
— Это все из-за него? Из-за мальчишки, без которого жить не хочешь? Может, ты и в постель к нему прыгала?
Гертруда Веспер поступила, как истинная Королева. Не услышала.
2
Первым свет фонаря заметил Хинтерштойсер. Курц был занят, волок рюкзак и самого Хинтерштойсера. Тот честно пытался помогать, время от времени перебирая непослушными ногами. Иногда доставал ботинками до заснеженного камня и порывался освободить левую руку, перекинутую через плечо друга Тони. Тот в ответ рычал и пинал его в бок.
«Железо», включая «кошек»-спасительниц, оставили на гребне, возле приметного камня. В рюкзаке — спальники и остаток продуктов. Но все равно — тяжело. Снег перестал, зато начало быстро темнеть. К вечерней заре сумели добрести только до порога Западного склона, небольшой ложбины между двух скал. Дальше тропа резко сваливалась вниз, расширяясь и становясь вполне проходимой. А там и потеплеть должно. Решили идти, пока хватит сил. Не у обоих, понятно, у друга Тони. Хоть и невелик ростом горный стрелок Хинтерштойсер, и мясом оброс по голодной фронтовой норме, но тащить все равно не очень сподручно. Андреас, это осознав, искренне пригорюнился, потому и глядел вперед, глаз не жалея. А вдруг?
Вдруг!
— Свет, Тони. Там свет! Эй-эй, мы здесь! Здесь!..
Луч фонаря, дрогнув, метнулся влево, потом вправо. Наконец скользнул острой болью по глазам.
Погас.
— Господи! — дохнула тьма голосом Генриха Харрера, скалолаза «категории шесть». — Ребята! Тони, Андреас! Неужели вы? Хинтерштойсера неудержимо потянуло на что-нибудь заковыристое. Он вдохнул побольше воздуха…
«Это я-я-я, добрый О-о-огр, пришел за ужино-о-ом!»
Курц опередил:
— Генрих, ты? Андреасу срочно нужен врач! Срочно!..
* * *
Палатка, спрятанная между двух скальных зубьев, была настолько маленькой, что разместиться втроем даже не пытались. Хинтерштойсеру достался спальник, Курц присел рядом, упираясь спиной в полог, а Генрих-австриец прикрыл собой вход, устроившись на порожке. Он и светил фонарем, пока Тони, перемежая вздохи непереводимым баварским диалектом, вливал в друга-приятеля коньяк, раздевал, растирал, смазывал и накладывал повязки. Хинтерштойсеру было очень больно, но он честно терпел, Харрер, хоть и не разбиравший westmittelbairisch, но все видевший и понимавший, морщился сразу за двоих.
— Стену хоть взяли? — спросил он, когда основная повязка — на виске — заняла свое законное место.
Курц пожал плечами:
— Вроде бы. На гребень вышли, дальше — обрыв. Я сфотографировал, что мог, но там сплошной снег, боюсь, ничего не получится.
Генрих долго молчал, затем подсветил фонариком циферблат.
— Еще час, ребята. Точнее, пятьдесят семь минут. И — уматывайте. Аптечку и коньяк забирайте и валите на все три стороны — кроме западной.
Тони даже не обиделся — рассмеялся.
— Ночью? И по какой Стене спускаться велишь? По Южной? Или обратно, по Северной? Может, у тебя и пистолет есть? Тогда пристрели нас, Генрих, меньше мучиться будем.
Харрер взглянул странно.
— Кобура сбоку, у Андреаса как раз под рукой. Рядом с ракетницей.
Хинтерштойсер нащупал помянутое и только тогда удивился:
— Война, что ли? А-а… А мы за кого?
— Verdammte Scheisse! — ответил Генрих, — «категория шесть».
Свет фонаря погас. Может, палец Харрера случайно задел кнопку и к ней и примерз, а может, сидевший у входа испугался, что ему посмотрят в глаза.
* * *
— Всё накрылось, ребята! Моя Австрия, Швейцария, Геббельс, «эскадрилья». Обвал был, слышали? Всех снесло, и «гангстеров», и Райнера с Ангерером. Аминь парням, отмочалили! А, beschissen, грех говорить, но сами виноваты. Scheisse! Вздумали обколотыми, под наркотой, на Стену лезть, hall die Fresse!
— Не ругайся, Генрих, ты же не пруссак.
— Извини, Андреас. Допекло… Не это сейчас важно. Ниже, в полукилометре, если по Западному склону спускаться, лагерь разбили. Одиннадцать человек, я — двенадцатый. Трое, как и вы, горные стрелки, их не знаю. Остальных тоже не знаю — и знать не хочу, «эсэсы», scheiss drauf! Приказ простой: «эскадрилью» — вдруг кто выберется! — спасать, остальных к ногтю. Если Стена не Гиммлеру, то — никому! Траур тоже решено объявлять только по «гангстерам». Всех прочих здесь не было, ясно?
— Но мы тоже немцы!
— Кому ты это говоришь, Тони? Нет вас, ребята, дезертировали — и без вести пропали. Беда в том, что «эсэсы» каждые два часа караулом ходят, от своей палатки к моей, даже сейчас, когда ни зги не видно. Ночной дозор ублюдков, ganz plemplem! Я тоже дозор, но передовой. И тоже ублюдок, недавно заявление в СС написал. Гималаями поманили… Провожу вас немного, фонарь дам… Что еще могу?
— Можешь, Генрих. Если сраного Богемского Ефрейтора все-таки повесят за яйца…
— Не «если», Тони, а «когда».
— Верно! Спустись со своих Гималаев и расскажи, как все было.
— Я лучше сделаю, ребята. У тебя, Андреас, под ухом — фотоаппарат, между прочим, со вспышкой. А блокнот и карандаш у меня в кармане. Времени — двадцать минут. Поняли?
— То-они! Кто из нас хотел книжку написать? Генрих, включай фонарь!
* * *
Когда Генрих Харрер ушел в свои Гималаи, и они остались одни на узком каменном зубе между двумя пропастями, Курц, выключив дареный фонарь, поставил Хинтерштойсера на две подошвы, придержал за плечо.
— До утра, может, и дотерпим. А потом? Три стены, Северная отпадает. Куда идем?
Андреас, отогнав тьму, высветил знакомый контур неровной трапеции. Развернул, прокрутил перед глазами. Исчислил, взвесил — и нашел слишком легким.
…Мене, мене, текел, упарсин.
— И думать нечего, Тони. Вдвоем — никуда. Мне и километра не прогрести. Уходи один.
Курц взял друга за плечо, развернул — и врезал от всей души, до хруста в зубах.
— Давно хотелось, — пояснил. — И так каждый раз будет, если подобное услышу. Давай направление, fick dich! Может, по ребру Миттелледжи?
Побитый Андреас провел языком по десне.
Слышишь? Выгляни в окно! Средь дождя и мрака Я торчу давным-давно, Мерзну, как собака.Встряхнулся, поправил каску.
— Помочалим маршрутом 1927 года, между восточным и южным склонами. Японцы проблему решили — и мы попробуем. И учти, Тони, я тебе не рюкзак, сам буду грести, пока не свалюсь. А по роже ты еще получишь, когда спустимся.
Курц что-то ответил, но порыв ветра украл его слова. С низких туч вновь повалили холодные хлопья, укрывая белым саваном живых, мертвых и тех, кто собрался переступить черту, проходимую лишь однажды. Каменный гребень осиротел. Никого и ничего.
Горный стрелок Антониус Курц, альпинист «категории шесть», двадцати трех лет от роду.
Горный стрелок Андреас Хинтерштойсер, альпинист «категории шесть», тоже двадцати трех лет.
…Только нетронутый снег — и пустое небо.
3
Женщина, кивнув расторопному швейцару, ступила на гладкий мозаичный пол огромного, заполненного шумной толпой холла. Все вернулось на круги своя. «Гранд-отель», гигантское шестиэтажное здание на Рю Скриб, совсем рядом с Парижской оперой. Очень удобно, центр буквально в нескольких шагах, а главное — привычно. Тот же номер, те же газеты ранним утром, гренки с молоком на завтрак, полстакана «Dallas Dhu» перед сном.
Охрана другая, прежнюю так и не нашли. Разница невелика, что тот солдат, что этот. А еще — сигареты, но к ним она уже успела привыкнуть.
Ильза Веспер не спешила к лифту. Наверху в номере ждали очередные бумаги, очередные цифры, очень-очень много цифр. «Швейцарский зигзаг», как выразился усатенький Адди, стал полной неожиданностью, но «Структура» не подвела. Паника, еле заметная в Париже, но очень ощутимая в Провансе, тысячи беженцев, истерика на биржах, крушение сразу дюжины банков с безупречной репутацией… И новые отчеты об успехах. Можно гордиться — и она гордилась. Война — отец всему и царь. Булат прорубал дорогу злату.
Европейскому Призраку об этом уже не узнать. Старец ушел в край вечно цветущих глициний, оставив бессильное, бессмысленное тело, зачем-то еще подпитываемое безотказными лекарями. Циничный Адди намекнул, что похороны будут хорошо смотреться осенью, под листопад. Платаны, их яркие неповторимые краски… Пусть! Флаг не спущен, и дело в надежных руках.
Но сейчас женщине хотелось просто постоять среди суеты, прямо в сердце «Гранд-отеля», приглядеться, прислушаться к пульсу. Десятки людей, которых ей никогда не узнать, круговорот чужих судеб, лица, взгляды, обрывки фраз. Жизнь, как она есть — и какой ей быть вечно.
* * *
Париж оставался Парижем. Печатались афиши кабаре «Paradis Latin» («Эльза и Жожо. „Апаш“ — танец смерти!»), Дом моды «Paul Karre» устроил новый показ, пообещав предъявить гостям наконец-то отловленную звезду подиума. Ушлые репортеры искали свежие сенсации. «Швейцарский зигзаг», став уже прошлым, не забылся пока, но и не слишком волновал. И в самом деле, что случилось? Гитлер сказал, что злодейское убийство рейхсминистра навеки вычеркнуло Швейцарию из числа цивилизованных стран, премьер Леон Блюм пообещал лично защитить каждого француза в бывшей Конфедерации, Дуче в очередной раз помянул славу римских легионов. Выразил протест новый Предсовнаркома СССР Влас Чубарь, сменивший сгинувшего невесть куда Молотова. Но кого в Европе интересует мнение Власа Чубаря?
Изменилась не История, всего лишь География.
А сенсации уже на пороге. Для всех и каждого — Олимпийский огонь, который вот-вот вспыхнет в столице Рейха. Для знатоков — дела в далекой, на самом краю мира, Литве, где тоже нашлись те, кого следовало немедля защитить. На этот раз не французы — немцы и поляки, Мемель и Каунас. Ультиматум — 36 часов. Богемский Ефрейтор спешил завершить скучные дела перед великим праздником Олимпиады.
Траур в Берлине тоже закончился. И по Колченогому, и по белокурым героям Норванда. Наступало время радости. «Ты сближаешь без усилья всех разрозненных враждой. Там, где ты раскинешь крылья, люди — братья меж собой…»[94] И — никакой войны!
Женщина стояла в толпе, улыбалась, глядела вокруг — и тоже радовалась. Все шло, как надо. Ночами было одиноко, но это легко исправить. Еще и тридцати нет, жизнь лишь идет к зениту. «Вечность», хрупкое слово из льдинок, наконец-то сложено, Зеркало Разума, трон для Королевы, ждет. Она одна? Но Снежной Королеве и положено быть одной. Единственной!
Ильза Веспер услыхала крик, но поначалу не обратила внимания. Холл-водоворот, место встреч и прощаний, не всегда сдерживает голос. Но потом женщина заметила непонятную суету возле стены, серый полицейский мундир, спешащего администратора.
Решила узнать. Пошла, сперва не особо торопясь, потом в полный шаг.
Побежала…
И снова крик:
— Я врач! Пропустите, пропустите!..
Вслед за человеком в белом халате она и проскользнула, когда в стене-толпе образовалась малая брешь. И сразу же взгляд зацепил маленькую красную точку. Не кровь, нет, всего лишь розетку Почетного легиона на лацкане. Старый пиджак, брюки со штрипками, сбившийся на сторону галстук, желтое недвижное лицо…
— Все, — негромко проговорил врач, пряча стетоскоп. — Ничем не поможешь. Вызывайте машину!
…Пустые пуговочки-глаза, за которыми уже ничего нет, смешные оттопыренные уши, белые губы.
«Голуби, мадам! Почему они вогкуют, мадам?»
Искатель любви, нелепый лысый старикашка, совершил свой последний побег. Женщина и не знала, что ее минутного знакомца вновь занесло в «Гранд-отель», место случайных встреч и вечных прощаний.
«Стгасть! Теплота в ладонях, стганная тяжесть во всем теле, огонь на губах, вызванный не жаждой. О нет, мадам! Но тем, что в тысячи газ сильнее, непгеодолимее жажды!..»
Ильза Веспер перекрестилась, пожелав кавалеру Ордена Любви легкого пути в вечность, и отошла, чтобы не мешать. Врач прав, ничего уже не поделать, разве что позавидовать. Не всем дарован столь долгий век. Не каждый умрет с мыслями о воркующих голубях и переплетающихся змеях. «Любовь, любовь, мадам! О, знаете ли вы, что такое любовь?»
Она почти что успокоилась, но, уже вновь окунувшись с головой в кипение людского водоворота, внезапно услыхала голос. Не стариковский, шамкающий — тяжелый, мерный, проникающий сквозь камень и лед. Голос-колокол, голос-приговор.
— Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто[95].
Гладкий полированный пол с мозаичным узором выскользнул из-под ног, помчался навстречу.
* * *
Молодой ажан-полицейский, только что доложивший начальству о чрезвычайном происшествии в холле «Гранд-отеля», был глазаст и быстроног. Реакцию имел отменную, снайперу в пору. На будущей войне это спасет жизнь и ему, и еще очень многим, пока же он свершил малое — успел подхватить падающую женщину в дорогом белом платье и шляпке от Эльзы Скьяпарелли. Узнать тоже сумел, а заодно и устыдился. В зале ожидания Ле Бурже незнакомка казалась старше самой себя лет на двадцать. Теперь же она была молода и прекрасна.
Поддержал, не дал упасть, осторожно опустил на пол, заранее жалея, что испачкает платье. Решил поймать убежавшую шляпку, но женщина открыла глаза.
— Извините, ради бога! Я… Не знаю, что случилось. Оступилась, наверно. Спасибо вам огромное!
Отвечать на все сразу было слишком долго, и ажан просто улыбнулся. Помог встать, отряхнул и вручил шляпку-непоседу. Хотел, как и положено, подбросить пальцы к козырьку, но женщина его опередила.
— Я вас где-то видела, инспектор. Может, во сне…
Повышенный сразу на несколько званий, ажан растерялся. Женщина, напротив, словно что-то решив — или решившись, взглянула прямо в глаза.
— Не важно. В любом случае, это не случайность. Меня зовут Ильза. А как ваше имя?
Полицейские представляются по всей форме, но молодой ажан рискнул — и нарушил правила:
— По документам — Марк, мадам Ильза. Но так меня никто не называет, моя мама — полька. Так что… Марек!
Молодому ажану будет суждено дожить до седин, правнуков и бригадирской пенсии, увидеть грядущий, XXI век. Но до последнего дня он не сможет забыть взгляд женщины с красивым именем Ильза, с которой столкнула его судьба в холле парижского «Гранд-отеля». Ажана трудно испугать, но в тот миг Мареку-поляку стало по-настоящему страшно. Куда страшнее, чем в июле 1943-го, когда боши прислонили его, взятого в плен макизара, к теплой от полуденного солнца каменной стене, и мордатый обер-фельдфебель с эдельвейсом на отвороте горного кепи прорычал: «Feuer-r-r!»
4
— Мы не сможем помочь всем, — голос Шагала зазвенел металлом. — Мы не сможем спасти каждого, Марек. Сживитесь с болью, она теперь часть души, и вашей, и моей. Делайте, что должно — и будь что будет!
Качнул лохматой головой, отхлебнул из кружки.
— И пьете вы много. Стыдно воспитывать вас, взрослого человека, но так нельзя. P'jan da glup — bol'she b'jut!
Нидерландский поданный Йоррит Альдервейрельд, уроженец далекой Батавии, невольно вжал голову в плечи. Своего тезку он слегка побаивался. А еще говорят, что художники — мечтатели не от мира сего!
Кружки, глиняные, с маленькими веселыми бесенятами по бокам, были подарком самого Шагала к новоселью. Летучий нидерландец, занесенный случайным ветром во французскую столицу, искал жилье поближе к центру, чтобы не тратить время на разъезды. Нашел, да такое, что хоть музей открывай. Настоящая мансарда, чердак под скатной изломанной крышей, причем не где-нибудь, а на Монмартре. Помог все тот же Шагал, безошибочно указав на двор, куда вела арка, напоминающая ворота средневекового замка. За нею — старый платан, знавший еще времена якобинцев, а дальше неровный квадрат обшарпанных кирпичных двухэтажек. В одной из них и удалось задешево снять мансарду. Художник, мрачно усмехнувшись, пояснил, что двор пользуется дурной славой. Совсем недавно во флигеле, что врос в землю прямо посередине, нечистая сила испекла заживо целую дюжину апашей, заглянувших на огонек к местной колдунье. Уроженец далекого Витебска презирал суеверия, нидерландцу же было все равно. Испекут — так испекут!
…Фамилию он выучил, хоть и не без труда, с именем же вышла загвоздка. «Йоррит» никак не выговаривалось, даже после полной шагаловской кружки. Выкручивался просто, сразу же поясняя, что, mijn naam is не просто Йоррит, а еще и Марк. Именно так, de tweede doopnaam[96], его звали в детстве, zelfs in Batavia. «Марк» же без особых трудов превращался в «Марека», чтобы с Шагалом не путали.
И все бы ничего. Но слишком много этого «ничего».
* * *
— Не все такие железные, как вы, Марк. Я потерял семью. Они живы, но я их больше не увижу. Брат… Даже не хочу о нем говорить. Мне снятся люди, которых я убил или не смог спасти. Вы читали в газетах: Хинтерштойсер и Курц, прекрасные ребята, скалолазы. Сейчас спорят, взяли они Северную стену, не взяли. Это не важно, главное то, что их больше нет. А мне стоило протянуть руку — в буквальном смысле! — и они были бы живы. И Хелена бы не погибла, если б не моя глупость. А еще я искалечил жизнь замечательной девушке. Мне не сжиться с этим, Марк. Вы сильный, я — нет.
— Я не железный, Марек. И счет у меня ничуть не меньший. Но когда боль становится невыносимой, я вспоминаю боль иную, куда более страшную. Боль моего народа! Боль тех евреев, кто сейчас там — в Германии, Чехии, Австрии, Швейцарии… Но о евреях знает весь мир, а кто помнит о сорбах? Я не смею учить вас любви к Родине, Марек. Просто когда вы решите, что спустились на самое дно, вспомните, что под вами не песок, а крышка адского котла.
— После Олимпиады Бесноватый объявит поход против «дегенеративного искусства». Устроит выставку — а мы устроим свою, а потом проведем несколько аукционов. Пусть платит за рекламу, сволочь! С нацистского пса — хоть шерсти клок! А будут деньги — будет и оружие.
— I posle jetogo vy skazhete, Marek, chto vy taki ne evrej! Не спешите покупать пушку, придумаем что-нибудь получше. Но это потом, а завтра вы нужны мне трезвым, выбритым и соображающим. Ясно?
— Tak tochno, tovarishh komissar!
— Комиссаром я был очень давно, еще в Витебске. Но, знаете, кожанка, почти новые галифе и сапоги из настоящего желтого «шевро» у меня еще где-то лежат[97]. Был бы сейчас 1919-й!.. Однако время на дворе почти вегетарианское, поэтому выражусь мягко: закисли вы тут, Марек. Пожалуй, следует вас как следует взбодрить.
— Не надо, Марк. Пожалуйста!
— Nado, Marek! Nado!..
* * *
Мансарда сразу напомнила ему мельницу из сна. Отомар даже хотел отказаться, но не отыскал подходящего предлога. Говорить же правду — опозориться перед Шагалом. Согласился, а потом каждый вечер смотрел, как растут тени на полу. Ближе, ближе, еще ближе…
…Вода у самого горла, тело словно в свинец обратилось, вглубь тянет. Не совладать с заклятьем Теофила-Мельника! Тогда напряг Крабат все силы, протянул ладонь, позвал девушку: «Спаси, помоги выбраться!»
Теофил, проклятый чернокнижник, не подавал голоса, но был где-то рядом, то ли за стеной, то ли уже здесь, под изломанной скатной крышей. Пару раз Отомар порывался его окликнуть, но вовремя запечатывал ладонью рот.
…Девушка опустила руку в воду — и Крабат вынырнул на поверхность золотым колечком на ее пальце…
Сейчас был день, но тени все равно густели, а еще давила тишина. Радиоприемник, старая полированная коробка, скучал в углу без половины ламп и проводов. Надо было сразу отнести в починку, но все время что-то мешало. Тишина оборачивалась немотой, ни услышать, ни слова молвить. Некому — и незачем.
…Вернулась девушка в дом и скоро назад вышла с фартуком, полным зерна, — кур кормить. Незаметно соскользнул с ее пальца Крабат-колечко и упал на землю зернышком. А Теофил-Мельник тут как тут, петухом среди кур красуется, землю гребёт, наставил клюв, чтобы Крабата-зернышко склевать.
Потому он и пил, щедро наполняя подаренную Марком Шагалом кружку. Помогало не всегда. После двух бутылок дрянного «шато» начинало казаться, что Мельник уже здесь, за столом с кружкой-близняшкой в руке.
— Крабат!.. Кра-а-абат!.
…Мигом зернышко лисом обернулось. Схватил Крабат-лис петуха острыми зубами и разорвал в клочья. Вот и конец пришел Мельнику с Черного Холма.
Ничто не мешало блудному нидерландцу привести в мансарду гостей, тех же друзей-художников, познакомиться — почему бы и нет? — с хорошей девушкой. Накрыть стол, зажечь свечи… Но Отомар Шадовиц, последний Крабат, никого не звал на свою мельницу. Слишком опасно! Приходил лишь Марк Шагал, которому нипочем и Bog, и chert, и загадочный voronij graj. Отомар задерживался в городе как можно дольше, переступал порог, прогоняя тени желтым электрическим огнем, выпивал из глиняной кружки — и падал на кровать.
…Потом рассказывали люди, что в тот день, в тот час занялась мельница огнем, костром вспыхнула, дотла сгорела. А Теофиловы ученики, все одиннадцать, по белому свету разбежались-рассеялись.
Электрический звонок мансарде не полагался, зато над дверью висел настоящий медный колокольчик. Он тоже был тих и нем. Шагал предпочитал стучать азбукой Морзе — точка — тире — точка, а больше звонить и некому.
— Дин-дин-дин! — запротестовал колокольчик.
…Крабат же пошел себе дальше, к самому краю земли. Он и сейчас среди людей и делает то, что велит ему совесть…
Отомар Шадовиц очень удивился. Спрятал бутылку под стол, накинул пиджак и шагнул к двери.
В. Хеппи-энд. Исключительно для любителей хеппи-эндов События даны в обратной последовательности
Чем закончилась сказка. — Монсегюр. — Дядя Фантомас. — Белая Оршич. — Подмастерье.
5
Герда стояла на пороге — незнакомая, в дорогом взрослом платье с высоким воротом и широкой серебряной каймой. Стрижка «гамен», маленькие бриллиантовые висюльки в ушах, сумочка-крошка, точно на одну шоколадку.
— Goedemiddag, beste meneer Alderweireld!
Выговорив тщательно, по буквам, протянула сумочку:
— Брось куда-нибудь.
Марек, не глядя, пристроил взятое из ее рук на подоконнике.
— Goedemiddag, mijn dochter!
Девочка, молча кивнув, поглядела в пол — и внезапно прыгнула. Повисла на шее, сцепив руки замком, ткнулась носом в щеку, зажмурилась. Долго молчала, не дыша, наконец проговорила низким, чужим голосом:
— Поставь, пожалуйста, на место.
Он вновь повиновался. Герда провела ладошкой по лицу, отступила на шаг.
— Это не считается, папа. Совсем не считается. Я… Хотела плохое тебе сказать. Шла сюда — и повторяла. Как же ты мог!
Марек понял.
— Не разбудил и не попрощался?
Герда поглядела на подоконник, где скучала сумочка.
— А еще я вспоминала, сколько раз мы должны извиниться. И ты, и я. Очень много получилось. Извиняться мы не будем, Кай. Хорошо?
— Конечно, — заспешил он. — Ты проходи, садись куда-нибудь. У меня не убрано…
Герда дернула носом.
— Ты пил какую-то гадость, Кай. А я, между прочим, курить бросила. И не ругай мсье Шагала за то, что дал твой адрес. Я от него целую неделю не отлипала.
* * *
Тени, поспорив с солнцем, отступили, теряя форму и пропадая без следа. Мельница исчезла вместе с тишиной. За открытым настежь окном шумел листьями двухсотлетний платан, где-то совсем рядом играл аккордеон, а в синем безоблачном парижском небе еле слышно перекликались птицы.
«…Так сидели они рядышком, оба уже взрослые, но дети сердцем и душою, а на дворе стояло лето, теплое благодатное лето».
— Никакого чая! — Герда поднесла к глазам циферблат маленьких платиновых часов. — У нас еще двенадцать минут, а потом мы пойдем знакомиться. Дед ждет в машине. Он, Кай, моряк, и говорит, как моряк. Про то, где ты живешь, он уже высказался. Так что будем тебя, папа, определять.
Марек покорно кивнул.
— Ты мне кого-то очень напоминаешь.
Девочка вновь посмотрела на подоконник, но уже на другой, за которым зеленел платан.
— Дед хочет, чтобы ты переехал к нам, у нас большой дом в Пасси. Жить ты там, Кай, не сможешь, сразу в окошко улетишь. Откажись, придумай что-нибудь. Лучше всего снять квартиру где-нибудь рядом. И чтобы гараж был, а то «Антилопе» тут во дворе неуютно. А насчет денег в Париже заведено так. Без отдачи, просто, дают лишь нищим, но их здесь не уважают. Поэтому ты возьмешь у деда семейную ссуду, восемь процентов годовых. Ее можно не возвращать много лет, это вроде традиции. И еще… Тебе с дедом будет трудно, а с бабушкой — так вообще. Но они хорошие люди, Кай. Постарайся поладить!
Марек потянулся к сигаретам, но отдернул руку — и тоже посмотрел в окно.
— Я тебя уже как-то спрашивал…
— Не помню! — девочка соскочила со стула, топнула ногой. — И ты не помнишь, Кай! И не будешь помнить еще…
Раз ладошка, два ладошка. Растопыренные пальцы. 5+5.
— Да, — очень серьезно ответил мужчина.
Герда, громко вздохнув, улыбнулась через силу:
— А еще у меня есть дядя, брат отца. Он — шпион, настоящий.
Подбежала к подоконнику, где сумочка, щелкнула замком, вернулась.
— Вот!
Вчетверо сложенный листок папиросной бумаги. Измятый, с оторванными краями.
— Адрес ящерицы. Телеграмму посылай без подписи — или выдумай имя, но так, чтобы она поняла.
Бывший пилот-испытатель хотел что-то сказать, но ладошка вновь взлетала вверх.
— Я читала книжку по анатомии. Ты взрослый мужчина, Кай. Пусть — ящерица! Она хорошая, мы с ней подружимся. Знаешь, я подумала… Сказка про Снежную Королеву закончилась точно, как у Андерсена. Герда и Кай ушли из ледяного замка. Замок развалился, растаял. И правильно!..
Он подошел к девочке, взял за плечи, наклонился, ловя взгляд:
— Андерсен не знал одну вещь, очень и очень важную. Я люблю твою маму, Гертруда.
Где-то рядом играл аккордеон, шумел листвой старый платан, негромко тикали часы на дорогом браслете. Но присмиревшие тени уже набрались силы, готовясь к прыжку, еле-еле слышно скрипнуло колесо старой мельницы, призрак в старой треуголке оскалил желтые зубы.
Мать-Тьма заглянула в окно.
— Я ее тоже очень люблю, — всхлипнула Гертруда Веспер.
И день вернулся.
4
Доктор Отто Ган, аккуратно разместив по брезенту ломти ароматного пшеничного «фугаса», пододвинул поближе банку с рыбными консервами. Затем, тщательно укутав старым полотенцем котелок с чаем, присел на траву и сложил ладони перед лицом. Так читают молитву, благодаря Творца за ниспосланный хлеб, но в теплом вечернем воздухе прозвучало иное, непривычное:
— Что есть Бог? Приходящие в этот мир, мы молчим, Имени Его не зная. Безмолвные, тихо молимся, ибо возжелавший сказать, Кто Он есть, поистине должен быть тем, Кто Он есть. Аминь![98]
— Откуда это, доктор? — негромко спросила Ингрид фон Ашберг, когда молчание слишком затянулось.
Отто Ган сжал тонкие губы.
— Так было написано на стене пещеры, где я нашел могилы последних катаров. Совсем близко отсюда. Кто написал, когда — уже и не скажешь… Ну, чего сидим? За стол, за стол!..
Тони Курц и Андреас Хинтерштойсер, переглянувшись, потянулись к ближайшему куску хлеба, одному и тому же. Курц, опередив друга-приятеля, не преминул щелкнуть того по лбу. Очень и очень аккуратно, чтобы не задеть повязку. Андреас обиженно засопел.
— Как дети, ей-богу, — строгим голосом заметила баронесса. — Доктор, поверьте, я очень честно пыталась их цивилизовать.
Издалека эти четверо ничем не отличались от прочих туристов, поставивших палатки у подножия высокого холма, почти на самой опушке редкого леса, взявшего твердыню в зеленое кольцо. От пологой вершины к самому небу тянулась серая отвесная скала, увенчанная каменной короной — руинами башен и стен, рухнувших много столетий назад.
Монсегюр…
* * *
Путь горного стрелка Хинтерштойсера в Валгаллу оказался не столь прям, как думалось, но Андреас был совсем не в обиде. Доктор Ган пояснил, что в Небесном Чертоге небытие павших героев достаточно однообразно. С утра, как воскреснешь, вручают меч — и дерись, пока вновь не прикончат. Хинтерштойсеру, равно как и другу Тони, наверняка полагался бы ледоруб — и очередная отрицательная сыпуха или, вообще, гладкая «вертикалка». А в придачу много-много льда со снегом. Андреас рассудил, что охотно отложит прибытие в Асгард минимум на полвека, а то и вообще до 2000 года. «Миллениума», как выразился высокоученый доктор.
…О Хелене горный стрелок старался не думать. И так слишком больно. Пожилой бородач из соседней палатки, оказавшийся врачом, настойчиво советовал лечь в стационар. Повязки менял, но смотрел хмуро. Хинтерштойсеру очень не хотелось в больницу. Там пахло смертью.
«…У нашего с тобой фильма скверный сценарист. Нетронутый снег — и пустое небо, снимать нечего и некого. Но я отобью у тебя охоту умирать, Хинтерштойсер!..»
Однажды Андреас не выдержал и заплакал — прямо при всех. Устыдился было, но понял, что никто ничего не видит. Зрячей оказалась лишь Ингрид. Подбежала, поцеловала в щеку, обняла. Так и стояли рядом — и этого тоже никто не заметил, даже друг Тони.
У подножия древней твердыни было спокойно. Можно хоть и ненадолго, но забыть о янтарном пирсе, о ледяной вершине Эйгера, о погибших на снежном склоне, о собственной странной судьбе.
Очень ненадолго, конечно.
* * *
— В такие времена побег — единственное средство, чтобы выжить и по-прежнему мечтать[99], — доктор Ган, отхлебнув чая, отставил кружку, потянулся за сигаретами. — Честно говоря, думал, что меня начнет мучить совесть, но после Бухенвальда она стала какой-то молчаливой. Сейчас там, возле Веймара, где еще блуждает дух Гёте, построили концлагерь, по сравнению с которым и Дахау покажется курортом. Возможно, честнее было сорвать при всех петлицы унтершарфюрера и стать в строй «болотных солдат». Но я подумал о Монсегюре… А еще курить начал — и тоже не стыдно.
— И нам не стыдно, — отозвался Курц. — Когда хоронят живьем, о другом думаешь.
— Врачи приходят после воронья, Когда не разберешь, где рот, где нос. И только форма рваная моя Им может сделать на меня донос, —негромко, чуть нараспев прочитала Ингрид.
Доктор пересел поближе, вжал кулак в мятую траву:
Но я ее заставлю промолчать. Потом лопаты землю заскребут, И где-то снова можно жизнь начать, Когда тебя заочно погребут[100].Хинтерштойсеру сказать было нечего. О жизни, которую следовало строить заново, как-то не думалось. Она и так, начавшись без спросу и предупреждения, неслась-катилась нежданной лавиной со склона. О Монсюгере он заговорил сразу, как пришел в себя, даже не очень понимая, почему. Тони, сообразив, что друг-приятель не бредит, вначале глядел дико, а потом махнул рукой. Если некуда — так отчего бы не в Монсегюр?
Доктора Гана они встретили прямо в центре Лавеланета, на автобусной остановке. А на следующий день их нашла Ингрид.
— Мне гордиться нечем, — рассудила баронесса фон Ашберг-Лаутеншлагер Бернсторф цу Андлау. — Если я и дезертировала, то из-под венца, это не Бухенвальд и не Норванд. А человек, которого я, кажется, люблю, считает меня зубной щеткой… И воспитательницы из меня не вышло. И спасла вас, ребята, не я.
Курц, вдохнув поглубже, открыл рот, но Андреас его опередил.
— Вы тоже нас спасали, Ингрид. Это как на траверсе, важен первый толчок…
— Не надо! — ее ладонь со всей силы врезалась в землю.
— Не надо! — повторил доктор Ган. — Иначе я вспомню, как в одну черную ночь, когда жить не хотелось, я увидел чей-то чужой сон и узнал, что без Чаши Господней путь в Валгаллу мне закрыт. Во сне я очень удивился. Грааль — и Дворец Павших, что общего? Разные миры, и боги разные. Потом понял, что связь все-таки есть, и до утра имеет смысл дожить… Так что бросим все в пропасть — и забудем! Завтра вытащу свои записи, карты, фотографии — и станем вместе думать… Только что мы будем делать, если и в самом деле найдем Грааль? Боюсь даже представить.
Андреас и Тони переглянулись.
— А чего представлять? Найдем — и решим, — рассудил Хинтерштойсер.
Курц, подумав немного, уточнил:
— Решим — и найдем!
3
Перед тем, как нажать на кнопку электрического звонка, Марек Шадов избавился от накладных усов, а заодно и от окуляров с простыми стеклами. Спрятав все в портфель, привычно полез в карман за ключами, и только потом сообразил, что напоминают ему и замок в двери, и сама дверь, и даже белая кнопка-пуговичка. Район Пренцлауэр берг, поселок Карла Легина, первый подъезд, второй этаж. Вероятно, и ключ бы подошел, но Марек рисковать не стал — и позвонил.
Открыли почти сразу. Светловолосая голубоглазая девочка лет семи, отступив на шаг, взглянула с интересом.
— Ай!
Марек снял шляпу, улыбнулся.
— В-вы кто? — теперь в голубых глазах плескался страх. Мужчина, поспешив достать из кармана шоколадку «Золотая печать», вручил с поклоном:
— Это вам, фройляйн! От дяди Фантомаса.
Девочка осторожно взяла плитку с улыбающимися мордочками на обертке, спрятала за спину.
— Откуда вы узнали… А, вы же Фантомас! Вы меня похищать пришли — или к папе?
— Кто там, Катарина? — донесся из глубины квартиры знакомый голос.
— Это дядя Фантомас!
Характер девочка все же проявила. Впустила, аккуратно закрыв дверь, проводила по коридору и только потом, уже в спину, шепотом:
— I zashto — Fantomas? Zar ne uјka Otomar?
* * *
Брат полусидел на диване. Подушка за спиной, еще одна — под укутанным бинтами коленом. Увидев, махнул рукой:
— Pa, zdravo, Otomar! Козел — действительно козел. Приказал искать тебя в каждом порту и на каждом пароходе, даже в Штатах агентуру на ноги поднял. А я вот дочку предупредил, чтобы не слишком пугалась. Фантомас, Фантомас! Выдумал же!..
— Мячик из-под подушки не доставай, — посоветовал старший, присаживаясь на стул. — Я вместо своего «жилеточный браунинг» прихватил. Тот самый.
Брат усмехнулся, и Отомар понял, что не он один столь предусмотрителен. Виду не подал, ответил улыбкой на улыбку:
— Нам с тобой, Гандрий, в карты играть не имеет смысла. Сквозь рубашки видим. Зачем я пришел, знаешь?
Усмешка на лице гауптштурмфюрера СС превратилась в оскал:
— Знаю, Отомар! Видел фильм «Laugh, Clown, Laugh!»? Чейни и Янг играют? Мы с тобой вроде тех клоунов, Белого и Черного. Разные, но все равно — в паре. Почему бы нам еще кого-нибудь не укокошить, а?[101] Мысль верная, но… Не сейчас, братец Белый Клоун! Гейдриха я бы и без тебя оформил, но не хочу из-за этой сволочи семьей рисковать. А выше — не получится.
Марек окинул взглядом комнату. Двери в их квартирах и вправду похожи, но внутри все иначе. Он не мог жить без света. У брата было темно, словно на старой мельнице.
— Ты ошибся, Гандрий. Я пришел не убивать. Твоя Катарина знает сорбский. А то, что творится у нас дома, она знает?
Брат, попытавшись привстать, скривился, провел рукой по колену.
— Лучше бы училась стрелять!.. Ничего я не ошибся, Отомар, всего лишь пропустил одно звено. Чтобы спасти сорбов, чехов, евреев, цыган — и сотни тысяч немцев в придачу, — надо убрать Бесноватого. Но если его прикончить, все посыплется, снова начнется хаос, как в 20-х. Гитлер — плата за порядок, за маргарин по карточкам, за поезда, приходящие по расписанию. А еще за Олимпиаду, Судеты, а там, глядишь, и Данциг с Ригой и Ревелем…
— Угу, — кивнул Отомар. — «Свободен путь для наших батальонов, свободен путь для штурмовых колонн!..» От Атлантики до Урала, понял. А потом, Гандрий, потом?
— Потом, брат, к звездам! Вслед за твоей Вероникой и ее эскадрильей. Жаль только, что не с нею вместе. Правительственное постановление от февраля 1933 года «Против измены германскому народу и против изменнических действий», пункт первый: смертная казнь без права апелляции. Если схватят, никому не спасти, даже Герингу. Сейчас бедняжку с собаками ищут. Хочешь ей помочь?
Взгляд брата плеснул черной ледяной волной. Отомар выстоял, подперев ладонью хрупкий камень.
— Я не смогу. Ты сможешь! Но сначала — о «потом». Рига с Ревелем, говоришь? Звезды? А знаешь, сколько простоит ваш поганый Рейх, если разом отрезать внешние кредитные линии? Не все, только американские, от частных банков — те, что поступают через «Шрёдер, Рокфеллер и Кo»? А еще запретить «Пратт и Уитни» и «Дугласу» передавать технологии для Люфтваффе — и намекнуть «Стандарт Ойл», чтобы заморозила строительство нефтеперерабатывающих заводов. На чем к звездам полетите? На ядре, как барон Мюнхгаузен?
Ильза Веспер и Марек Шадов не слишком часто встречались, еще реже говорили о работе. Но и такое случалось.
— Молчишь? Так я тебе скажу. Без внешних вливаний Рейх продержится три-четыре года, а потом — ад, хуже, чем в 1923-м, когда мы из дому бежали. Можно начать большую войну, мобилизовать собак и кошек, ввести карточки на воду и воздух. Это даст еще шесть лет, но после этого Германия вообще исчезнет[102].
— Есть иной вариант, — негромко проговорил брат. — За эти шесть лет победить весь мир. А потом отпраздновать — и уложить Бесноватого в мавзолей, можно и в живом виде. И знаешь, Отомар, имеются шансы. Прошлый раз я говорил тебе, что Ефрейтор зарвался, выступил против всей Европы. Но ведь получилось, не свернули шею! Мир очень велик, его можно резать ломтями.
Стена не рухнула, однако и волна не стала слабей.
— Но это все теория, Отомар. О практике подумай, о своих личных шансах. Тебя по всему миру искать будут. Надеешься выжить?
…Теофил-Мельник тут как тут, петухом среди кур красуется, землю гребет, наставил клюв, чтобы Крабата-зернышко склевать.
— А ты, Гандрий? Сколько твои истинные арийцы будут терпеть недочеловека в СС? Это сейчас ты нужен, пока я жив. Или они к сорбам подобреют? Sorbi izumeo јe austriјskog Generalshtab.
…Мигом зернышко лисом обернулось…
Гауптштурмфюрер Пейпер откинулся на спину, закрыл глаза. Молчал долго, наконец неохотно разлепил губы:
— Поэтому я и ждал тебя, vishi brat…
Крабат оторвал занемевшую ладонь от камня.
2
— Точка… Тире… — шептал Хинтерштойсер, зачарованно глядя на маленький, еле заметный огонек в черном небе. — Точка, точка, точка…
Курц покачал головой:
— «AS», грамотей ты наш. «Ждите». Ответ на твой «SOS».
Закрыл глаза, прислонился затылком к ледяному камню.
— Может, простили нас, Андреас? За Италию, за тех погибших у пещеры? Я когда Харрера увидел, почти не обрадовался. Чувствовал! Эйгер, конечно, сволочь и людоед, но судит без ошибок.
Андреас отвечать на такое не стал. Приподнялся, сдерживая стон, выпрямился, вздернул повыше фонарь — и ударил белым лучом навстречу сигналу. Тире, точка, тире, точка. Точка, точка, тире, точка…
«CFM» — «Подтверждаю».
Вершина говорила с Небом.
«SOS» — «Спасите наши души», «Спасите От Смерти» — просто так не посылают, даже если это луч фонаря, направленный прямо в полуночный зенит, в низкие тяжелые тучи. Батарейка долго не проживет, и увидеть некому, разве что заждавшимся Валькириям, Девам Валгаллы. Но Курц разрешил, когда оба поняли, что до утра не протянут.
«Три точки — три тире — три точки». Это мы, Господи! Мы здесь, мы еще живы!..
До нужной площадки между восточным и южным гребнями добрались быстро, но это был единственный — последний — успех. Под ногами «вертикалка» на много веревок, а тьма такая, что и пальцы на руке не разглядишь. Ледяной ветер, хрустящий снег… Сели у камня плечом к плечу, завернулись в спальники, допили коньяк. Вроде все сделано — и сделано правильно, только умирать очень уж не хотелось. И тогда Хинтерштойсер попросил у друга дареный фонарь.
Три точки! Три тире! Три точки! Небо, ответь!..
«…Мы как тени — где-то между сном и явью, и строка наша чиста…»
Ответили — очень быстро, у Андреаса даже палец не успел к кнопке примерзнуть. Вначале неясным светлячком где-то у горизонта, а потом четким и понятным «AS». Хинтерштойсер почему-то не удивился. Должна быть там, в Небесах, справедливость? От Огра-людоеда ушли, от «эсэсов» спаслись, Стену, в конце концов, одолели! И после всего погибать — без толку, зазря? Неправильно это!
«…Мы живем от надежды до надежды, как солдаты — от привала до креста…»
Огонек в небе погас, над вершиной Эйгера вновь распростерла свой покров Мать-Тьма, но Хинтерштойсер спокойно ждал, Курц, выбравшись из спальника, стал рядом. Хлопнул перчаткой по карману, удивился:
— Знаешь, сигареты кончились.
Не то пожаловаться хотел, не то, напротив, похвалиться. Все до последней крошки скурили, а до сих пор живы! Вместо ответа Андреас взмахнул фонарем — рассек лучом ночь:
— Вот!
Белая молния. Белая птица. Белая девушка.
— Хинтерштойсер? Курц?
— Мы-ы-ы-ы-ы!!!
* * *
Шлем, летные очки, белый комбинезон, плоский рюкзак за спиной, тяжелые перчатки, широкий пояс…
— Пилот-испытатель Оршич. Еле нашла вас, ребята.
На этот раз Хинтерштойсер и в самом деле удивился. Голос той, что не так давно желала им счастья, звучал глухо и страшно. Словно с похорон прилетела Белая Оршич. Курц тоже понял, шагнул навстречу.
— Извините, фройляйн! Мы, вероятно, нарушили ваши планы.
— Да, — ответил мертвый голос. — Я собралась в рейс, очень важный, но меня не пустили. Хотела попробовать снова, сейчас, написала письмо матери, а потом вспомнила, что есть еще те, кому нужна помощь. Эвакуирую вас вниз — и стартую на рассвете, с первым лучом.
Дрогнув плечами, согнулась, словно от невыносимой боли, всхлипнула…
— Взяли! — не растерялся Хинтерштойсер.
…Усадили на спальник, вытряхнули из фляги последние капли коньяка.
— Ваш рейс мы отменяем, — сурово молвил Курц. — А будете так себя вести, фройляйн, вообще от полетов отстраним. Андреас, доставай чистый платок!
1
Йван Шадовиц, мельничный подмастерье, стоял возле деревянных ступеней, что вели прямиком в покои Мастера Теофила, и думал о многих вещах сразу. Иначе не выходило, потому как жизни осталось всего ничего: по ступеням подняться, взять со стола скибку пумперникеля, ржаного хлеба с непромолотыми зернами, мякиш скатать… На том все и кончится. Не он первый, каждый год Теофил старшего подмастерья на бой кличет. Весь выгон в могилах, точно после битвы. Не убежать, не спрятаться — и милости не выпросить.
— Не ищу я вашей смерти, — разъяснил им Мастер. — Но только одному мельницей править. Я ли старшим буду, иной кто, пусть бой рассудит. Учил я вас, как и меня учили. Сражайтесь!
Негромкий стук мельничного колеса, плеск воды, скрип старого дерева… В семнадцать лет жизни хочется. Пусть и скверная она, из года в год все хуже. То война, то мор, то хлеб не родит, неделями молоть нечего. Саксы, враги вечные, обещания и клятвы забыв, их, вендов, исконную жизнь ломают. Не венды они уже — сорбы, даже имя в запрете. А с севера пруссы-заброды приходят, те и вовсе собак злее.
Поговаривают, что добр к вендам полуденный цесарь, что селянам своим вольную выписал. Йван даже хотел податься в Видень, где цесарское войско собирают. Зольдаты ныне в чести, а уж конные, при сабле и усах, так и вовсе герои. И мир посмотришь, и скучать не станешь.
— Глупое дело — воевать, — сказал на то Теофил-Мастер. — Венды, предки наши, много веков на брани первыми были. Помогло ли? Мудрость нужна, она настоящую силу дает!
И не поспоришь. Первый человек во всей округе Мельник, саксы и те шапки ломают. Потому как недолго его обидчикам жить-поживать. И никакой суд не докажет. Свой же бык на рога поднимет, пуля из незаряженного мушкета в лоб угодит. Страшна Теофилова мудрость. И не жесток вроде Мастер, и разъясняет понятно, ничего не скрывая.
— На мякишах бой чем опасен? Не просто колдовской он, когда ты мышь, а я хорек. Такое любой чернокнижник осилит. На две стороны сразу биться надо, а для этого стену построить. Иначе захлестнет черной водой в самый разгар и унесет, куда и бесам саксонским ступить боязно. Стена же разной бывает, у кого огонь, у кого лед, а у тебя, Йван, камень, не иначе.
Шадовиц и сам камень чувствовал, по запаху различал, по мелким пылинкам. Мастер спрашивал, не потомок ли он Метеора, о котором в песнях поют? Йван отмолчался, хоть в семье и вправду древнего героя, что из Небесного камня вышел, поминали. Но Метеор с отчими богами вровень, не ему, мельничному подмастерью, чета.
…Под ступенями, что в хозяйские покои ведут, зеленеет чистотел-трава. Она, как и сам Мастер, мертвой плотью сыта, но соком своим врачует живых. И смерть, и жизнь в едином стебле.
— Камень слабее воды, — говорил ему Теофил. — Вот и мозгуй, Йван, чем стену укрепить, пока мы с тобой биться станем.
Не боится Мастер, прямо в глаза смотрит. Может, в том и сила его, в бесстрашии? Но как живому человеку пред ликом Костлявой труса не спраздновать? Нет такого заклятия в черной книге, что в сундуке у Теофила заперта.
Значит и ему, Йвану, амен. Жалко, если подумать. Не жил — и жизни не видел. Даже с Ильзой-саксонкой из Шварцкольма успел лишь словечком перемолвиться. И то приятно, только слово разным бывает.
— Не смотри так, парень, — сказала. — Кликну братьев, возьмут тебя, венда неумытого, в ножи. И Мельник твой не спасет.
Какой ответ дать? Только тот, что на душе накипел:
— Я тебя люблю!
Встретились взгляды, и не позвала гордая девица братьев, платок с кружевом на землю уронила. У сердца тот платок, в узелок связан.
…люблю!
Вчера все и случилось, суток не прошло. А сегодня с утра, как похлебку доели, встал Мастер Теофил из-за стола.
— Готовься, Йван, подмастерье старший! Настал твой час.
Настал и прошел. И ни о стене уже не поразмыслить, ни о бое с его хитростями, ни о заклинаниях из черной книги. Поздно! Вот-вот откроется дверь.
…Зелена мертвецкая чистотел-трава.
«Крабат!.. Кра-а-абат!» — скрипнули медные петли.
Удивился подмастерье Йван. Крабат — отчего? Так порой кроатов, что с гор полуденных, кличут. И кажется, будто и не Мастера голос, и не человека вовсе…
Треснуло старое дерево под подошвами, и Шадовиц, гибель чуя, обо всем позабыл, даже о близком бое. Лишь об Ильзе-саксонке вопреки всему помнил. «Я тебя люблю!» И умереть не страшно.
Но умирать не хотелось. Не из-за себя — ЕЕ ради.
И стали камнем ступени.
С. То, что было в книге «Квентин» Эпилог после эпилога
Песок в подшипниках. — Мастер танго.
1
— …Я, Анна Фогель, обращаюсь к вам, соотечественники, из Нью-Йорка от имени только что созданного Национального Комитета. Здесь, на земле Свободы, мы начали борьбу, которая обязательно закончится победой. Слушайте нас — и будьте с нами!..
…Красная лампа, тяжелый микрофон.
Говорилось легко, дыхание было ровным, пульс не частил. Анна вспомнила зелень тамарисков, серые известняковые стены, добрых сестер-монахинь, инвалидное кресло. Ей все сочувствовали, врач отводил глаза, когда Мухоловка, теряя непослушные слова, пыталась спросить, будет ли лучше. И даже Уолтер Перри, когда понял, какой она стала…
Слушай меня, лопоухий маленький Вальтер!
— Не сдавайтесь! Не верьте этим fucking nazi! Сыпьте песок в подшипники! Гитлер — scheisskerl! Гитлер — scheisskerl! Гитлер — scheisskerl!..
Лампочка погасла. Силы кончились. Мухоловка попыталась непослушными пальцами собрать раскиданные по столу листы.
Аплодисменты…
Она удивилась, приподнялась, опираясь на локоть. Все, кто был в студии, стояли рядом. Режиссер поднял правую руку. Указательный и средний пальцы — вверх.
Victory hand. Победа.
2
В коридор Анна вышла на костылях. Счастье еще, что не пришлось брать в Нью-Йорк инвалидное кресло. Мухоловка горько усмехнулась. Каждому — свое счастье.
Уолтер Квентин Перри и Старуха стояли чуть в стороне. У него в руке — смятая газета, у нее — большой букет белых роз. Цветы для искалеченной героини.
…Умна, богата, необыкновенно красива. Увидев ее, не хочется смотреться в зеркало. Счастлива — и не скрывает этого.
«Госпожа Анна Фогель. Позвольте сделать вам предложение. Руки, сердца, прав гражданки Соединенных Штатов… В общем, всего, что у меня есть…»
Теперь у Анны Фогель нет ничего — кроме букета белых роз.
Костыли упали на пыльный паркет. Секретный агент Мухоловка, Сестра-Смерть, выпрямилась, закусила губу. Коридор исчез, смытый ночной тьмой.
…Электрический огонь фар, негромкий шум мотора, лопоухий парень на соседнем сиденье.
— Знаешь, Анна, я танцевать совсем не умею. То есть всякое обычное умею, а танго — нет.
— Не грусти, маленький Вальтер. Я тебя научу.
Зыбкие минуты счастья.
Скачет всадник, к горам далеким, Плащ взлетает ночною тенью, Синьорита глядит с балкона, Черный веер в руках порхает,Сделала шаг, как в танце — ровный темп, 33 такта в минуту. Отогнала боль, выдохнула.
Ты скажи мне, о синьорита, Что за слезы твой взор туманят, Что за страсти тебя забрали в плен? Ах, где найти покой?!Второй шаг, третий… Танго — танец двоих, но иногда приходится брать все на себя. Она справится!..
А любовь мелькает в небе, Волну венчает белым гребнем, Летает и смеется, и в руки не дается, Не взять ее никак!Чудес не бывает. Анна упала бы на пятом шаге, но руки неведомо откуда взявшегося тангейро подхватили…
О Аргентина, красное вино!
…И, чуть придержав, позволили стать ровно.
— У вас обязательно получится, мисс Фогель. Не спешите. Время иногда — лучший союзник.
У тангейро — длинное лицо, высокий лоб, седые усы, сильная загорелая шея, широкие плечи. Не старик — мужчина очень преклонных лет. Мастер танго.
— Спасибо! — Она попыталась улыбнуться.
Очень старый мужчина покачал головой:
— Спасибо вам! Сегодня я услышал голос Истории. Мое время уходит, наступает ваше. Мы очень старались, но сделали мало. Вам предстоит изменить мир.
Усмехнулся в седые усы:
— На известность не претендую. Эдвард Мандел Хаус. Для друзей: полковник Хаус. Очень надеюсь, что отныне вы из их числа.
Подбежал Вальтер, принес костыли, Старуха одарила цветами, полковник же незаметно исчез. Его фамилия показалась Анне знакомой, но мало ли на свете Хаусов? Полковников, впрочем, тоже.
Что тот полковник, что этот!
Авторское послесловие
«Крабат» — вторая книга из запланированного цикла под общим названием «Аргентина».
Автор не видит необходимости что-либо объяснять сверх того, что уже сказано в тексте. Для писавшего книгу она является опытом чистого постмодернизма, смешивающего эпохи, стили и голоса. Одновременно «Аргентина» — ответ на вызов Времени, куда более тяжелого и фантастического, чем порожденное авторским воображением.
Андрей ВалентиновБлагодарности
Автор благодарит Тех, кто был рядом и не рядом, помогая и поддерживая
Ирину Владимировну Цурканенко.
Моих друзей Дмитрия Громова и Олега Ладыженского.
Всех, кто помог автору своими отзывами о первой книге цикла. Всех, живых и пребывающих в вечной Ноосфере, чьи образы, творчество и поступки позволили роману появиться на свет
Авторов и исполнителей великой «Кумпарситы».
Майкла Лоуренса Наймана, автора музыки к кинофильму «The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover».
Героев-музыкантов оркестра лайнера «Титаник».
Олега Ладыженского, написавшего слова танго «Аргентина».
Олега Медведева, автора песни «Вальс Гемоглобин».
Отфрида Пройслера, автора книги «Крабат: Легенды старой мельницы».
Итальянского астронома Луиджи Карнера, открывшего астероид Аргентина (1901 GE).
Поэтов, писателей, драматургов и кинорежиссеров, чьи произведения довелось прямо или непрямо цитировать в тексте.
Актрису Татум О'Нил, одухотворившую образ Гертруды Веспер.
Любимого актера Петера Лорре, без которого не обходится ни одна книга автора.
Храбрых людей Тони Курца и Андреаса Хинтерштойсера, героев Норванда.
Всех писавших и снимавших о Северной стене и ее покорителях.
И еще очень-очень многих, незримо стоявших возле моего ноутбука.
Январь — март 2015 г., Харьков
Примечания
1
Время действия книги — лето 1936 года. В нашей реальности Судетский кризис и последующие события произошли два года спустя. «Аргентина» — произведение фантастическое, реальность, в нем описываемая, лишь отчасти совпадает с истинной. Автор сознательно и по собственному усмотрению меняет календарь, географию, судьбы людей, а также физические и прочие законы. Исследование носит художественный, а не исторический характер.
(обратно)2
Все упоминаемые в тексте автомобили и мотоциклы не более чем авторский вымысел.
(обратно)3
Здесь и далее сказка Г. Х. Андерсена «Снежная королева» цитируется в переводе А. В. Ганзен.
(обратно)4
Здесь и далее будут приводиться цитаты из замечательного художественного фильма «Nordwand», режиссер Филипп Штёльцль.
(обратно)5
Здесь и далее персонажи будут использовать обсценную лексику, переводить которую автор не считает возможным.
(обратно)6
Эйгер (нем. Eiger) — горная вершина в Бернских Альпах высотой 3970 м. над уровнем моря. В русском языке возможна также транскрипция «Айгер».
(обратно)7
Реальная личность, известный альпинист.
(обратно)8
Здесь и далее в некоторых случаях обращения «герр», «геррен», «фройляйн», «фрау», «синьор» оставлены без перевода.
(обратно)9
Макс Седлмайер и Карл Мехрингер, альпинисты из Мюнхена, погибли при попытке взять Северную стену летом 1935 года.
(обратно)10
Эсэсовцев пренебрежительно именовали «асфальтовыми солдатами».
(обратно)11
Норванд (Nordwand) — Северная стена (нем.).
(обратно)12
Текст танго «Аргентина» написан Олегом Ладыженским, за что автор ему чрезвычайно признателен.
(обратно)13
Тем, кто не любит географию: действие происходит на территории княжества Монако.
(обратно)14
Из фильма «La belle captive» (1983 г.).
(обратно)15
Имеется в виду не Крабат из замечательной детской книжки Отфрида Пройслера, а мифологический образ из фольклора лужицких сербов, не слишком с ним сходный.
(обратно)16
Реальный исторический персонаж.
(обратно)17
Сорбы, упоминаемые в книге, — авторский вымысел, они имеют лишь отдаленное сходство с реальными лужицкими сербами.
(обратно)18
Персонаж из одноименного романа Владимира Померанцева.
(обратно)19
Среднебаварский диалект.
(обратно)20
Слова из католической мессы. В некоторых случаях латинские цитаты переводиться не будут, как вполне понятные по контексту.
(обратно)21
Здесь и далее упоминается различное альпинистское снаряжение. Автор в нем совершенно не разбирается, посему все термины следует считать фентезийным антуражем.
(обратно)22
Здесь и далее: А. Краснопольский. «Первый перевал»
(обратно)23
В подлиннике песни — «шарф». «Шар» появился в трилогии про Максима.
(обратно)24
Мистер Мото — частный детектив, персонаж нескольких американских фильмов 1930-х годов. Его роль исполнял Петер Лорре.
(обратно)25
Здесь и ниже: взято наугад из военного разговорника.
(обратно)26
Как и в предыдущей книге, двигатели грохочут в вакууме в честь великого Джорджа Лукаса, создателя «Звездных войн».
(обратно)27
Аненербе (нем. Ahnenerbe — «Наследие предков», полное название — «Немецкое общество по изучению древней германской истории и наследия предков»). В описываемое время — скромная группа дилетантов от истории, на которую академическая наука смотрела с откровенным презрением.
(обратно)28
Здесь и далее будут упоминаться художественные фильмы. Часть из них является авторским вымыслом. Фильм «Laugh, Clown, Laugh!» имеет совсем иной сюжет.
(обратно)29
В 1936 году во Франции пришло к власти левое правительство т. н. Народного фронта. Леон Блюм был премьер-министром.
(обратно)30
Все упоминаемое в романе оружие является плодом авторского вымысла.
(обратно)31
Это стало известно благодаря Генриху Альтову и Валентине Журавлевой («Путешествие к эпицентру полемики»).
(обратно)32
Мануил Семенов. «Пленники Земли». В нашей реальности повесть была издана в 1937 году. Автор также использовал иллюстрации художника Е. Шукаева.
(обратно)33
То же, что и «гестапо».
(обратно)34
Автор и сам не знает, что такое общество «Врил». И никто не знает. Все, что нам известно о тайном союзе, которым заправляли женщины с длинными волосами, слишком похоже на сказку.
(обратно)35
Ныне используется термин «аллоскоп», но в 1930-е годы одного «л» еще не было.
(обратно)36
Персонаж негативно оценивает сложившуюся ситуацию.
(обратно)37
Здесь и далее персонажи изъясняются не на классическом пекинском диалекте китайского языка, а на шанхайском (диалектная группа «У»).
(обратно)38
Здесь и ниже: «раз, два три» (шанхайский диалект).
(обратно)39
«Мильх» — молоко, «Дикмильх» — кислое молоко (нем.).
(обратно)40
Здесь и далее персонажи (и автор вместе с ними) используют сленг скалолазов.
(обратно)41
Автор предоставляет читателям возможность самим узнать, кто это такой. Не любящие читать могут посмотреть художественный фильм (их шесть). Автор рекомендует фильм 1956 года с замечательным немецким актером Хайнцем Рюманом.
(обратно)42
Сохранилась запись вальса, сделанная оркестром незадолго до трагического рейса (дирижер Уоллес Хартли). Вечная слава храбрым людям!
(обратно)43
Здесь и ниже цитируется монолог о любви из замечательного фильма «Ninotchka» (1939 г.).
(обратно)44
Все упоминаемые в тексте самолеты являются плодом авторского воображения.
(обратно)45
Мнение тов. Сталина, высказанное на переговорах с Гарри Гопкинсом 30 июля 1941 г.
(обратно)46
Перевод Л. Гинзбурга.
(обратно)47
Описан реальный дом и столь же реальная квартира. Автор — большой поклонник конструктивизма.
(обратно)48
Автор отнюдь не выдумал «германскую весну» в Швейцарии. В историю она вошла как «весна фронтов». В нашей истории конфедерация сумела устоять, но главным образом потому, что Рейх не поддержал сторонников пересмотра Конституции в пользу немецкого большинства.
(обратно)49
Здесь и ниже автор использует не язык лужицких сербов, а родственный ему сербохорватский, как более понятный читателю. Персонажи радуются встрече, после чего обсуждают, куда следует повесить шляпу.
(обратно)50
Автор ни на что не намекает.
(обратно)51
Нацистский молодежный союз.
(обратно)52
Автор выполняет свое обещание и предъявляет читателю «люгер» с оптическим прицелом. На очереди револьвер «наган» с барабаном на восемь патронов.
(обратно)53
Использованы переводы С. Болотина и А. Штейнберга.
(обратно)54
Его и хуже называли.
(обратно)55
Петух кричит, естественно, по-немецки.
(обратно)56
Из легенды о Крабате.
(обратно)57
На тот момент — министр иностранных дел Рейха.
(обратно)58
Автор намекает на некий очень известный фильм-мюзикл.
(обратно)59
Автор напоминает, что персонажи используют сленг скалолазов.
(обратно)60
Реплики на итальянском языке (здесь и ниже) оставлены без перевода, как вполне понятные по смыслу.
(обратно)61
Здесь и ниже: персонаж относится к слышанному с неодобрением.
(обратно)62
Намек на фильм «General Died at Dawn» (1936 г.). Из фильма же взят образ генерала Янга.
(обратно)63
И тоннель, и станция, и гостиница вполне реальны, но автор расположил их несколько иначе, чем в действительности.
(обратно)64
Песня Юрия Визбора.
(обратно)65
Желающие могут послушать сохранившиеся записи.
(обратно)66
Эта фраза из романа «Небеса ликуют» почему-то особенно понравилась читателям. Автор с удовольствием ее повторяет.
(обратно)67
Портье выразился о немцах не очень политкорректно.
(обратно)68
На сегодняшний день рекордное время — чуть меньше пяти часов.
(обратно)69
То есть не «империей», а просто «областью». Как и в нашей истории.
(обратно)70
Здесь и ниже: Олег Медведев. «Вальс Гемоглобин».
(обратно)71
Знаменитая песня «Midnight blue» цитируется в варианте, который исполняла Эдит Утесова.
(обратно)72
Самое длинное из известных немецких ругательств.
(обратно)73
Для автора остается загадкой, насколько серьезной была травма Андреаса Хинтерштойсера, полученная накануне подъема, но поскольку она упоминается в источниках, речь явно шла не о простом ушибе.
(обратно)74
На «Летящем ядре» (выпущено шесть машин) ездили Геринг и, если верить Юлиану Семенову, Штирлиц. Гитлер постеснялся.
(обратно)75
Бумажная Луна — в честь одноименного кинофильма («Paper Moon», 1973 г.).
(обратно)76
Стихи Н. Р. Эрдмана.
(обратно)77
И тут Странник приоткрыл глаза и сипло произнёс: — Dummkopf! Rotznase!.. (Аркадий и Борис Стругацкие. «Обитаемый остров»)
(обратно)78
Намек на одноименный фильм.
(обратно)79
Реальный факт.
(обратно)80
Песня «О, прекрасный Вестервальд». Автор приносит свои искренние извинения переводчику Ромену Нудельману за варварское обращение с его текстом.
(обратно)81
Джоакино Россини. «Севильский цирюльник».
(обратно)82
Чезаре объясняет, насколько неприступна скала и как они старались ее пройти.
(обратно)83
Реальный факт.
(обратно)84
Автор даже не представляет причины этого.
(обратно)85
Va bene! — мультфильм «Приключения капитана Врунгеля» (1979 г.).
(обратно)86
Данная сцена — дань памяти Алексею Николаевичу Толстому и его великой книге.
(обратно)87
Чезаре подробно объясняет, насколько длинной была веревка.
(обратно)88
Эстес Кларисса. «Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказаниях»
(обратно)89
«Зачем ты убил моих людей, Саид? Я послал их сказать, чтобы ты не искал Джавдета в Сухом Ручье, его там нет» (кинофильм «Белое солнце пустыни» (1970 г.).
(обратно)90
Марек Шадов не имел возможности вспомнить песню Юрия Кукина. Это сделал за него автор.
(обратно)91
«Голос» пуль взят из произведений Алексея Кулакова. Автор искренне благодарит коллегу.
(обратно)92
При описании подъема на Северную стену автор использовал книгу Г. Харрера «Белый паук», а также фильмы «Nordwand» и «The Beckoning Silence». Многие детали соответствует реальности, в том числе потеря части вещей, траверс и лавина. Однако это реальность двух походов — 1936-го и 1938 гг. Знатоки, естественно, уже заметили, что в книге австрийскую «двойку» заменила итальянская.
(обратно)93
Автор ни в коей мере не принижает обороноспособность Швейцарии. Однако, по мнению самих швейцарцев, именно в описываемое время страна была практически беззащитна. Все изменилось лишь с назначением на должность главнокомандующего знаменитого Анри Гизана, но это произошло только 30 августа 1939 года.
(обратно)94
Ф. Шиллер. «К радости»
(обратно)95
1Кор.13:1.
(обратно)96
По второму имени (голланд.).
(обратно)97
«И галифе на нем почти что новый, и сапоги из настоящего шевра». («История Каховского раввина»).
(обратно)98
В подлиннике:
Dedie aux pretres! Qu'est-ce que Dieu? Loin de rien decider de cet etre supreme, Gardons en l'adorant un silence profond — Le misterе est immense et l'esprit si confond, Pour dire ce qu'il est, il faut etre Lui. (обратно)99
Слова Анри Лабори, итальянского философа.
(обратно)100
Редьярд Киплинг. «Добровольно „пропавший без вести“». Перевод Константина Симонова.
(обратно)101
«…Есть одна штука еще получше: подговорите четырех членов кружка укокошить пятого, под видом того, что тот донесет, и тотчас же вы их всех пролитою кровью как одним узлом свяжете». Ф. М. Достоевский. «Бесы»
(обратно)102
В нашей реальности такие подсчеты были сделаны по поручению правительства США в 1939 году.
(обратно)



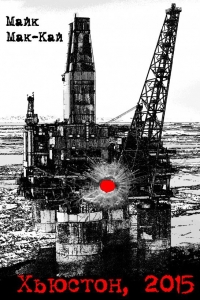




Комментарии к книге «Крабат», Андрей Валентинов
Всего 0 комментариев