Борисов Александр Анатольевич Хрен знат
Глава 1. Из дома домой
Я шел получать пенсию. Это дело долгое и ответственное. Сегодня одни только сборы заняли не менее часа. Опять потерялись очки. Вот прямо какая-то чертовщина: с вечера лежали в футляре, а с утра уже нет. Весь дом перерыл - тщетно. Хотел уже, было, идти, просить у соседа, да во время увидел лопату. Только тогда вспомнил: это ведь я вчера котенка закапывал! Задавил бесхозную животину какой-то лихач, и бросил мне под калитку, чтобы в следующий раз колеса не пачкать. А может, это не он, а кто-то из брезгливых прохожих. Мол, твоя территория - тебе и за порядком следить.
Нет, не те люди пошли! Мальчишкой я знал на этой улице всех. Не только людей, но даже собак и кошек. Жизнь была нараспашку. Женили и хоронили, детей в армию провожали всем обществом. А теперь? Давеча встал напротив меня какой-то нерусский хлыщ на черной машине и давай приставать:
- Где здесь, отец, Мнацаканов Миша живет? Полный такой, армянин, золотом занимается?
А хрен его знает, где? Отвяжись, человек, занят я. Не видишь? - яму копаю. Безлюдье у нас. Отгородились соседи от жизни заборами да воротами. Когда никогда поднимутся жалюзи, выплюнут иномарку, а кто там за окнами? - поди, разгляди: может, Колька Петряк, может, дети его, может внуки? Может, нет уже того Кольки, закопали по-тихому. Кто ж по нынешним временам будет старого деда на похороны звать? Нерентабельно это. Больше штуки в гроб не положит, а ну как сожрет на две?!
В общем, нашел я свои очки под старым орехом. Снял, наверно, вчера, чтобы с носа не падали и положил на видное место. Да так и забыл. Хорошо хоть лопату занес.
Иду я себе, опираюсь на тросточку, посматриваю на часы. Хочется успеть до обеда, да разве дотелепаешь с такой ходовой частью? Беда с этим тромбофлебитом! Три шага шагнул - перекур, иначе совсем упадешь, боль такая, что ноги не поднять. Через железную дорогу я давно не ходок: ни под вагоном пролезть, ни до подножки тамбура не добраться, ни, даже, через рельсы переступить. Это в детстве я летал напрямик, через железку: восемь минут - и там. Еще успевал по дороге камешки подфутболивать. Теперь вот, приходится делать крюк, до ближайшего подземного перехода. Хм, до ближайшего! Их тут поблизости два, и оба ближайшие: что туда, что сюда - полтора километра.
Ну, вот, светофор опять не работает! Смотрит на меня красным глазом и не моргает. Машины потоками в обе стороны, ну, хоть бы одна падла притормозила! С двух попыток добрался до островка безопасности. Выбрал момент и дальше трусцой... еле успел! Выскочил на тротуар, нога по траве поехала, и так ее болью скрутило, аж искры из глаз! Чуть не упал. Да что ж это за день такой невезучий?!
Вслепую дошел до заборчика, оперся на него. Стою, отдыхаю, а сам себе думаю: и откуда бы здесь взяться траве? Так нет, вроде бы видел, под ногой зеленела и запах...
Тут слышу, кто-то за плечи меня обнимает, и голос знакомый:
- Санек, это ты, что ли? Хоть бы, бляха, предупредил, что в шутку. Я и зарядил с разворота...
Смотрю и не верю глазам: да это же Колька Лепеха, которого мы схоронили лет тридцать назад. Он первым из нашего класса в гору пошел. В том смысле, что кладбище у нас на горе.
Вот тут-то я и смекнул, что тоже, стало быть, помер. То ли от машины не увернулся, то ли сердце вразнос. А Колька - он у меня
типа предсмертных воспоминаний.
В общем, стою я, жду продолжения, а их, эти воспоминания, будто заклинило. Лепеха не пропадает, на цырлах танцует, в извинениях рассыпается. Что типа стоял он, последней спичкой бычок прикуривал, а тут - я его в спину! Окурок сломался, спичка напрасно сгорела - налицо материальный ущерб. Но если б он знал, что это моя светлость...
Еще бы он, падла, не извинялся! Тоже, наверное, помнит, как в рыло от меня получал. Я хотел было подсчитать, на сколько ящиков он меня наказал, когда мы в подшефном колхозе огурцы собирали. Но вовремя вспомнил, что о покойниках плохо не говорят. Вот когда закопают, тогда буду и я таким же, как он, а пока есть надежда, что скорая откачает, нужно держать язык за зубами.
Потом, наконец, сгинул Лепеха. Не исчез, как рассказывали по телеку очевидцы, пережившие смерть, а сдернул на полусогнутых. Сказал, что водички сейчас принесет, чтоб я морду свою умыл. Он жил здесь неподалеку - направо четвертый дом.
А я, значит, стою, в подвешенном состоянии. Можно сказать, между жизнью и смертью. Кровища из носа самая натуральная, под глазами свербит, наливается, быть к вечеру темным очкам. В переносицу, падла, попал! И, главное, знаю, что все это фикция, что лежу я сейчас в реанимации, и врачи надо мной колдуют. А хочется догнать стервеца и отвесить ему полновесный подсрачник. За "нечаянно" положено в бубен!
Потом это дело мне надоело. Что толку вот так вот, стоять? Тросточку потерял, очки, черт его знает, где. Пластиковая карта? Какая тут, нахрен, карта, если я в грязной майке, линялых спортивных штанах и китайских кедах?! Сходил за пенсией, называется! Не вернуться ли мне домой, пока ноги не возражают? Может, успею увидеть кого-нибудь из родных? А то всех вместе: бабушку, дедушку, маму? Ради такого дела можно и помереть!
Повернулся я - моп твою ять! - асфальт с главной дороги будто грейдер ковшом смахнул! На ней ни единой машины, только цыган на бричке лошадку свою нахлестывает. Поравнялся со мной, черным взглядом в душу заглядывает. Цыгане - они ж, говорят, с чертом запанибрата. Прознал, наверно, падлюка, что перед ним натуральный покойник, или как его? - приведение. Ан, нет! - поравнялся и говорит:
- Эк тебя, пацан, угораздило! Ты бы голову запрокинул, да пару минут так постоял. Сопли б и успокоились. - И дальше - цок, цок!
Ну, что ж, - думаю, - дельный совет. Я его и сам знал, да с детства забыл. Лет сорок в сопатку не получал.
Перешел через улицу, прислонился к тополю у обочины, в небо смотрю. Там синь без единой слезинки насквозь просматривается. Кобчик на горизонте сужает круги. Пыль, как табачный дым, языками стелется над листвой. Кажется, прищурю глаза - каждую молекулу воздуха рассмотрю. Хорошо! Только домой надо, а то не успею. Как у них там? - прямой массаж - и будьте любезны на зассанную кровать!
Иду я и удивляюсь. Насколько, все же, духовный мир точней материального! Я уже и помнить забыл, какие деревья росли у забора "Заготконторы", а память услужливо все преподносит, в мельчайших подробностях. И тополек белолистый, и вербу кривую, и клен недоросток, родившийся сам по себе, там, где ларечек пивной когда-то стоял. Вытряхивал кто-то из мужиков мелочь из кармана фуфайки, да обронил кленовое зернышко.
Ноги-то, ноги как радуются! Надоело им, бедным, шлифовать поверхность земли - так и норовят разбежаться, подпрыгнуть, чтобы нижнюю ветку руками достать. Только я воли им не даю. Поспешаю, но марку держу: негоже солидному человеку изображать из себя кенгуру. Здесь каждый шаг, как зарубка на сердце.
Вот у этих деревянных ворот, откуда выходит железнодорожная колея, мы с дедом, всегда покупали две новогодние елки. Были они настолько худыми и жидкими с одной стороны, что приходилось покупать именно две. Дома их связывали стволами, и получалось нечто приемлемое, за игрушками дефект не видать. А их в нашем доме было! - большой зеленый сундук. Дед доставал его с чердака, и начиналось творчество.
Нет уже той колеи - на металлолом разобрали. И деревьев тех тоже нет - сейчас на том месте ряды коммерческих магазинов. Вместо складов "Заготконторы" - четыре оптовых базы одного и того же хозяина. Единственное, что было здесь до меня и останется после - это огромная лужа. Сколько разных организаций пытались ее засыпать! Сколько вбухали денег в щебенку и гравий! А она все стоит в прежних границах. Зимой радует пацанов, а летом лягушек. Разгонишься, было дело, когда на ней лед встанет - и прешь без всяких коньков на подошвах своих керзачей!
Я, честно сказать, и забыл что помер. Так оно все натурально, как будто в кино "шесть дэ". И запах тебе, и цвет, и полный эффект присутствия. Вон, угольной пылью как потянуло! А че удивляться? - паровоз под парами стоит. Отсюда не видно, какой. Наверное, "эрка". И состав за ним длинный-предлинный. А вдоль вагонов - осмотрщик - дядька Ванька покойник. Он жил по соседству, на другой стороне нашей речушки. Молоток у него в правой руке, а в левой - масленка. Подходит к колесной паре - стук по бандажу, стук по буксе. И так у него ладно все получается! Молоточком крышку открыл, масла долил - следующий вагон. Все видит, все слышит, все замечает. Это же Дядька Ванька тетрадку мою нашел и деду отдал. Я ее на платформу под бревна засунул, сверху корой прикрыл. Лети, - думаю, - моя двойка, подальше от нашего дома! А он углядел. Вот и сейчас, скользнул по мне взглядом - будто сфотографировал, и подбородком кивнул: Давай, мол, пострел, пока безопасно.
- Здравствуйте, дядя Ваня! - сказал я на всякий случай, и нырнул под вагон. А голос у меня тонкий-претонкий. Еще не ломается.
На железной дороге я тоже когда-то знал каждого. И со всеми здоровался. А попробуй пройти мимо! Во-первых, дома будут проблемы, а во-вторых, самый первый телевизор на нашей улице появился в депо. Назывался он несолидно - "Комбайн", но зато по нему показывали кино про майора Вихря. Всех телезрителей Красный уголок не вмещал. Одних только взрослых - по три кандидата на стул. Пускали и нас, пацанов, если общество было не против. Одним разрешали полежать на полу в проходе, других разворачивали с порога:
- Потом приходи. Когда папка научит шапку сымать.
Да, времена! Никаких тебе омбудсменов, а дети всегда под присмотром.
Дядька Ванька пошел дальше. Я слышал его шаги и стук молотка. Вспомнил, как лет тридцать назад, видел его, умирающего, чуть ли не каждый день. Он был желтый, худой и очень страдал от боли. Уже не хватало сил управляться с домашним хозяйством. Все, кроме него, знали диагноз - рак. Другой бы криком кричал, требовал врачей и уколов, а этот терпел. Вместо наркотиков, предпочитал рыбалку. Сидел на своем самодельном стульчике, да таскал пескарей для кошки. Все прибыток семье.
Как-то утром проснулся - соседка в калитку стучит:
- Иди. Дядька Ванька зовет.
Зашел к нему в хату. Лежит мой сосед, в потолок смотрит. Увидел меня, встрепенулся:
- У тебя, - говорит, - Сашок, дед вроде как плотником был?
Ты острогай мне дощечку поглаже, чтобы с краю огородить. А то я с кровать падаю.
Просил еще закурить, да только не дал я. Бабы вцепились в руку, вытолкали взашей.
Ну, что ж, - думаю, - надо уважить. Достал с чердака досточку липовую. Прошелся шерхебелем, вывел фуганком уровень, загладил шлифовальной машинкой. Назад возвращаюсь - заказчика нет. В морг увезли.
Эх, жизнь! Не скажешь, что так уж она и коротка, а всегда чего-то не успеваешь. Кто покурить, кто попрощаться, кто получить пенсию.
Я вынырнул из-под вагона и замер, не успев выпрямиться. Ни за что б не поверил, что узнаю по голосу этого пса! Звали его, как и добрую половину собак с нашей улицы, Мухтаром. Ну, дворняга дворнягой! Черно-белый, с рыжим лохматым загривком. Я его, помнится, не очень то и любил за то, что ни капли не похож на овчарку. Был он старым, слепым и доживал свой век в дровяном сарае. Собачьим умом, Мухтар понимал, что уже никуда не годится, но очень хотел доказать, что он еще ого го! На чужаков громко не лаял - боялся: вдруг прилетит камень, а откуда - не уследишь. Зато на своих отрывался по полной. Меня, к примеру, чуял метров за сто. Выйдешь, бывало, на край насыпи, а он уже давится гавом, исходит слюной. Я на него не обижался. Наверное, понимал, что когда-нибудь стану таким же, как он. Калитку откроешь, окликнешь его: "Мухтар, да ты что ж, дурачок?" - и он - ну извиняться! Ползет по земле, наяривая хвостом, и белыми пятнами глаз в душу заглядывает. Да! Жила когда-то в этом месте любовь, а теперь - одна ностальгия.
Дом я узнал издали, каким он когда-то был. Две комнаты, коридор и небольшая прихожая, укрыты в зарослях винограда. Из трубы вьется дымок, отбрасывая легкую тень на серебро крыши. Без более поздних пристроек, есть в нем гармония воплощенного замысла.
В открытые емкости напротив моего огорода, из цистерн сливают жидкий гудрон. Две смоловозки ожидают погрузки. Возле сторожки суетится и падает дядя Вася Культя. Он ремонтирует тэн, а напарник готовит шланги. Под ногами пузырится земля. Я всегда обходил это место, а сейчас иду напрямик. Дяде Васе нужно подать руку, извиниться за прошлое.
Его прозвали Культей из-за согнутой в кисти правой руки. Она у него до плеча в белесых глубоких шрамах - посекло на фронте осколками, и хирурги добавили. Тем не менее, этой рукой он вполне управлялся: мог из ружья стрелять и, даже, стакан держал. Был ли у него дом? - этого я не знаю. Мне почему-то всегда казалось, что он навсегда приписан к смоле. Ночевал дядя Вася в железнодорожной теплушке, снятой с колес и поставленной на высокий фундамент специально для сторожей.
Мальчишки - народ, по сути своей, жестокий. Леху Звягинцева, который носил корсет, мы дразнили "Горбатым". Сорокалетний даун с соседней улицы был для нас "Сашкою дурачком". Деда Корытько, с пробитою насквозь шеей, из-за дефектов речи, мы за глаза называли "Кугук", или "Кецеке".
Никому на моей памяти дядя Вася не досаждал. Но появилась у нас, пацанов, забава "громить Культю". Летом, когда темнело, мы вброд пробирались на островок, намытый течением между двух рукавов реки. (Он граничил с нашим участком и был продолжением огорода). Оттуда сторожка, как на ладони, метрах в пятнадцати по прямой.
Когда внутри угасал свет, мы начинали бросать комья земли. Считалось особым шиком попасть по железной крыше. Кончались эти погромы всегда одинаково. Дядя Вася долго терпел, потом выскакивал на порог с берданкой в руке и громко палил в воздух. И мы убегали против течения речки, сбивая о валуны босые ступни.
Сколько ему сейчас, сколько мне? Впрочем, какая разница? Время идет только вперед, нет у него минусовых значений. И то, что я сейчас вижу - только дань благодарной памяти.
Все у дяди Васи наладилось. Темно зеленый "ЗИС" с черной цистерной в кузове, встал под погрузку. Шофер, пережевывая окурок, одною рукой поправляет шланг, другой вытирает пот.
Жарко. На растущих поблизости деревцах - черный налет сажи. Судя по зеленым плодам, сейчас середина весны.
Культя идет к рукомойнику, подтягивая штаны. Увидел меня, обрадовался:
- Здорово, барчук (он всех барчуками дразнит), кто это тебя так?
Я что-то порываюсь сказать, но он недовольно перебивает:
- Слушай сюда! Ты слишком не торопись. Не до тебя там. В общем, дождись, когда дед успокоится. Скажешь ему потом, что цемента мешок стоит. Ребята хотят рупчик. Ну, давай! Запарка у нас.
Мягкая пыль лежит на дороге тонким ковром. Ей припорошены лужи. Двадцать шагов - и я дома. И тут до меня доносятся громкие голоса.
- Степан, ты прости, Степан! - с надрывом кричит незнакомый голос.
- Вон, сволочь пошел! - свирепо орет дед.
Все верно. Ему, похоже, не до меня. Сторонюсь, отхожу к забору.
Пьяный мужик в расхристанном пиджаке, спотыкаясь, летит на дорогу. Поднимается, падает на колени.
- Ты бей меня, бей, только прости!
- Сволочь! Какая же ты сволочь! - дед толкает его прочь от двора и почему-то плачет.
Вот тут моя память ошиблась. Этот случай я помню, даже знаю, что сейчас происходит. Человек, который стоит на коленях - бывший полицай, недавно досидевший свой срок. Когда-то он выдал немцам мою бабушку. Сказал, что ее муж коммунист, бывший председатель колхоза и воюет сейчас в Красной Армии.
А потом моя мама и бабушка прятались у людей в погребах до самого конца оккупации.
В прошлый раз я видел все это, стоя в проеме распахнутой настежь калитки. А теперь мне ее не открыть...
Я присел на бревно, лежащее у забора, которое было у нас вместо скамейки, и засопел от обиды. Не такой я представлял эту встречу, нет, не такой. Лепеха узнал, дядя Ваня узнал, Культя поздоровался, а дед прошагал мимо. И бабушка хороша! - слышит же, как Мухтар разрывается? Хоть бы вышла, проведала, кто там? Полвека считай, не виделись! Так нет, возится со своими борщами...
И тут мне реально жрать захотелось. Так захотелось, что криком кричи. Только я это желание в себе придавил. Пожрать я и в больнице успею, когда в лица родные напоследок взгляну.
А над головой листочки трепещут. Яблоня "белый налив" роняет излишки плодов. Два воробья сорвались с дерева на дорогу. Волтузят друг дружку, как оглашенные - бабу не поделили.
Тут слышу - мой дед возвращается. Шоркает чеботами, как и я поутру. Увидел меня, рядом присел. Ну, думаю, сейчас что-нибудь скажет. А он только хмыкнул, да за цигаркой полез. Такая вот, лирика. А что ему? Он, наверно, в прошедшем времени, где видит меня каждый день. Эка диковина? - внук. И ведь не скажешь, типа того, что я, мол, сейчас помираю, что попрощаться пришел. Да что там слова? Просто сидеть рядом - это уже счастье.
Пахнет от него дымом костра, жареными семечками и табаком. Настоящим табаком, а не разным говном в пачках по сто рублей.
Любил я смотреть, как дед курит. Он тогда "Любительские" предпочитал. Выбьет из пачки одну, постучит мундштуком по ногтю, разомнет между пальцами, еще постучит. И все это степенно, не торопясь. Потом достает серники. Чиркнет, прикурит, пыхнет два раза - и тоненькой струйкой дыма гасит горящую спичку.
Сколько ему осталось? А это, в зависимости от того, сколько сейчас мне. Он умрет летом, когда я окончу школу, и уеду в Ленинград с направлением. Буду сдавать экзамены в училище имени Фрунзе, потом в Институт Водного транспорта, а поступлю в мореходку. Дед будет лежать на кровати у печки и говорить:
- Сашка не подведет, он молодчага!
А уже перед смертью скажет, что видел меня в форме капитана дальнего плавания.
Не в настроении он сейчас. За прошлое сердце болит. Повздыхал, покашлял, и нараспев произнес:
- Ох, черт его зна-ает!
А больше ничего не успел. Паровоз у щита начал пары спускать. Тут говори, не говори - друг друга ни за что не услышишь. Хоть и сидишь рядом.
Вдруг, чувствую: руку на голову кто-то мне положил, аж мурашки по коже, и в глазах темнота. Прям, какая-то волна узнавания. Я сразу понял, что это бабушка, в чьих же еще руках может быть столько любви и ласки? Оглянулся - точно она: молодая еще, на целую голову выше меня. Рукой машет: домой, мол, пора, деда тоже зови.
Послушно иду во двор. В этом времени я не хозяин, а безропотный исполнитель. По дороге глажу рукой родную калитку, которую разобрал и сжег в прошлом году. Берег до последнего, это ведь все, что осталось в память о детстве.
Бабушка за спиной конкретно наезжает на деда. Куда до нее паровозу!
- Тю на тебя! Куды ж ты поперся, старый дурак? У него же глаза залиты, а нет бы ножом ширнул?
- До черт его зна-ает!
Увидев меня, кот чухает на чердак, а куры, наоборот, бегут к загородке. Я им частенько траву приношу, всегда наливаю воду. У меня много обязанностей.
Скандал за спиной не утихает. Прихожу деду на помощь:
- Там дядя Ваня, что со смолы, про цемент говорил.
Бабушка поворачивается ко мне:
- Ой, горе ж ты луковое! Да кто ж тебя так? А если бы глаз вышиб?! Майку то всю изгваздал, а ну-ка сымай!
И не поймешь, кого ей сейчас жальче: то ли меня, то ли майку?
Дед у калитки вставляет свои пять копеек:
- Бьют меня, так я ж и добрый!
Вот такое оно прощание. Ни вздохов, ни слез, ни платочков. Кажется, эти люди живут, и собираются жить вечно. И я тоже впрягаюсь в эту реальность, хоть в душе понимаю, что она может оборваться прямо сейчас.
Бабушка толкает меня в шею, склоняет над рукомойником.
По позвоночнику льется струя теплой воды.
- И в кого ж ты такой неслухмянный? - в сердцах повторяет она.
Для нее нет мелочей, и порядок вещей незыблем. Если завтра придут девчонки из школы и скажут: "Ваш Саша сегодня был грязным", она всегда может ответить:
- Брешете, сучки! Я сама ему шею мыла!
Всегда поражался умению бабушки содержать в чистоте дом, двор, огород. Даже на кладбище возле ее памятника всегда образцовый порядок. Как будто выходит она по ночам из могилы цветы поливать и пропалывать сорняки. И ведь бываю там от Пасхи до Пасхи, раз в год. У деда, к примеру, часами муздыкаешься, а у нее? Вырвешь пару сурепок, листву подметешь и все.
- Ну, сбегай, воды принеси, - бабушка шлепает меня по спине мокрой ладонью, - да курям не забудь налить! А я пока хлеба нарежу, и накрою на стол. Деда дождемся, сядем снедать.
Хватаю ведра. А что ж тут не бегать? Огород у нас вона, какой громадный! И это не только потому, что я сейчас такой маленький. Нет забора, что делит его по меже. Вместо него дорожка, мощеная камнем. От кого загораживаться? В другой половине дома живут бабушка Паша с дедом Иваном. А это, как ни крути, родная сестра моей бабушки. Мчусь вдоль кустов винограда туда, где глядит в небо колодезный журавель. Ступни обнимают теплые камни, узнавая каждый на ощупь. Откидываю железную крышку. Пускаю солнечный свет туда, где бьют родники. С нижних колец свисает зеленая челка мха. Любуется, как песчинки танцуют на пузыре, рвущейся на волю, воды.
Ну, здравствуй! А я уж не чаял напиться твоей живительной влаги. Мои руки ничего не забыли. Отвожу ведро к дальнему краю, резким движением, врезаю его в глубину. Закольцованное пространство порождает глухое эхо. Мне кажется, этот колодец понимает, что его уже нет. Что он снова увидел мир только волей моего разума. А ведь когда-то с него начинался дом. Здесь в каждом замесе раствора есть и его частица. Кольца вырвали, а яму засыпали, когда мамка сошла с ума. Так приказали ей голоса. Я тогда в море ходил. И, приехав ее навестить, столкнулся с уже свершившимся фактом.
- Да что ж ты так долго? Ведро, что ли, упустил?
Кричу:
- Я сейчас!
Бегу, перебираю ногами. Чтобы ведра не цеплялись за камни, их приходится приподнимать. Гримасы возраста. Малому тяжело, а старому тяжко. Ну, попал! Что творится в моей голове?! Прошлое становится настоящим, а настоящее прошлым. Но, черт побери, как оно хорошо! Если это и есть смерть, поклон ей до самой земли. А если еще и успею пожрать...
Вот я в доме. Ставлю ведра на лавку, закрываю деревянными крышками. Дед уже за столом. Влажный седой чуб гладко зачесан. Левая нога согнута в колене и убрана под себя. На ней он сидит. Привык после ранения. Бабушка орудует уполовником. Разливает в тарелки свой знаменитый борщ. Когда на нашем краю кто-нибудь умирал, готовить поминальный обед приглашали только ее. Сегодня и мне доведется вспомнить его вкус.
- Сашка! - дед задорно поблескивает молодыми глазами. - Сбегай, сорви там перчину.
Там - значит, в конце огорода. Я помню. Это тоже когда-то было моей обязанностью.
Вылетаю из кухни. Стремглав бегу по дорожке. Не мною придуманы правила этого времени. Не мне их нарушать. Чего я сейчас больше всего боюсь, так это сфальшивить. На душу налип неприятный осадок. Пусть временно, но я занимаю чужое место.
На столе дымятся тарелки. Дед ждет. Протягиваю ему зеленый стручок. Боясь не успеть, налегаю на ложку. Бабушка округляет глаза.
В детстве я не любил борщ. Ценил его вкус, но выхлебывал только юшку. Смотрел на капусту, понимал, что это капуста, но не мог ее проглотить. Сырую - за милую душу, а вареную никогда. Брат Сережка как то сказал, что "это похоже на червяков". С тех пор, как отрезало.
Теперь же, на глазах у семьи, происходило чудо. Я вымахал всю тарелку и попросил добавки.
- Ты, часом, внучок, не сказился? - осторожно спросил дед.
- Знатный сегодня борщ! - промычал я его словами.
Бабушка застыла у печки, прижав кулачки к груди. В ее карих глазах светилось тихое счастье.
Потом была картошка толченка с румяной котлетой. После нее - "какава" на молоке. В хрустальной розетке розовело варение из айвы...
В общем, я наелся от пуза. Погостил, попрощался. Только жаль, не увидел маму. Серега то хрен с ним. Заходил на прошлой неделе. Все такой же круглый, вальяжный. Ну, еще бы! Ветеран МВД, старший следователь шестого отдела. Мент поганый, короче. Ничего не наворовал на старость! Ну, разве что писатель Бушков про него книжки писал. Так книжками сыт не будешь.
- Письмо Надя прислала, - бабушка словно читает мои мысли. - Жалуется, что не пишешь ты ей.
- Вот приедет - ухи тебе надере-ет! - ворчливо зевает дед. - Пойду я, прилягу. Мне сегодня в ночную.
Он работает охранником при железной дороге. Ну, там, где лес разгружают.
Честно сказать, я и не знаю, что делать. Визит непозволительно затянулся. Что они там, совсем охренели? Не идти ж в таком виде в реанимацию, требовать главврача? "Да кто ты, - скажут, такой?"
Но у деда Степана есть готовый ответ на все:
- Давай, милый друг Гандрюшка, уроки учить, стишок повторять. Смотри мне, проснусь - проверю. И письмо матери напиши!
И то правда! Пойду хоть, узнаю, какое сегодня число.
Глава 2. Первое несовпадение
Комната, где мы с Серегой всегда учили уроки, называлась "большой". Четыре светлых окна, беленые стены. В центре ее круглый стол, покрытый зеленой бархатной скатертью. Слева от входа шкаф, буфет и небольшая койка. У правой стены - широкий комод и никелированная кровать. Из украшений - домотканый ковер "дорожка" из грубой цветной шерсти. Стулья не в счет. Они кочуют из комнаты в комнату и даже во двор. Красивые стулья, с ажурными гнутыми спинками. У меня на чердаке сохранился один.
Портфель я нашел там, где ставил его всегда, с левой стороны от комода. Не успел вынуть дневник, слышу - Мухтар заливается. Весело лает, звонко, не иначе, свои. И бабушка от порога:
- Иди, там тебя Витька зовет! - шепотом, чтоб деда не разбудить.
На носочках иду в прихожую. По пути успеваю взглянуть на "численник" - в меру упитанный отрывной календарь. На нем красная дата 21 мая 1967 года. Да тут и учиться всего ничего! Обуваю шлёпки без задников, бегу к калитке.
От всех пацанов с нашего края, Витька Григорьев отличается тем, что не умеет свистеть. Подойдет ко двору и начинает из себя извлекать: у-р-р-р, у-р-р-р. Тоненько так: у-р-р-р! Вот буква "р" у него всегда лучше всех получалась. Натуральная трель! А кличка у Витьки совсем неказистая - Казия. Она ему очень не нравится. Когда его так называют, он всегда кидается в драку. Естественно, получает. Еще у Витьки глаза темно вишневого цвета, и точно такой же румянец на смуглом лице.
- Че надо? - спрашиваю.
- Лепеху пойдешь смотреть?
- А че на него смотреть?
- Так помер он, в речке утоп. Нырнул головой об карчу - она его к низу и потащила. Дядьки достали возле моста. Все лицо, говорят, камнями побито. Так пойдешь? Его из морга должны сейчас привезти.
Я не поверил:
- Брешешь!
- Спорим на шалабан?
- Ладно, пошли, проверим.
- Тогда рогатку возьми.
- Это еще зачем?! - я искренне удивился.
- Заодно воробьев постреляем. Их на путях много!
С недавнего времени я трепетно отношусь к каждой маленькой жизни, поэтому вру:
- Нет у меня рогатки. Резинка порвалась.
Путями в те годы называли железнодорожное полотно. Витька
бежит впереди, я отстаю. Негоже мне, старику, водиться с такой мелюзгой, хоть это и друг детства. В жизни ему очень не повезло: мама, папа, дедушка, бабушка - все оказались идейными пьяницами. Детям в этой семье было негде учить уроки.
Витька умер от пневмонии, не дотянув до своих сорока. За месяц до смерти зашел, попросил сохранить пакет. Там была книга Владимира Гиляровского с вырванной первой главой, фотография дочери, две отцовских медали и единственная тетрадка с пятеркой по арифметике, которую он хранил с первого класса.
- Ты че, оглох? Кто, говорю, тебя?
Прогоняю воспоминания. Кажется, Витька спросил про фингал,
или про два? - не знаю, в зеркало еще не смотрел.
- Он, - отвечаю, - Лепеха.
- Да ты че? А когда?
- Пару часов назад жив и здоров был.
Слово какое: был, быльем поросло... мимо могилы Лепехи я всегда захожу на погост. Не то чтоб скорблю, останавливаюсь, вспоминаю о нем что-то хорошее. Как он, к примеру, в четвертом классе задачки в уме решал. Быстрее всех! Отличники рты раззевали. Или как в финальной игре на первенство города, Колька единственный гол закатил. А теперь... это что ж получается? - целый пласт из моей памяти брошен коту под хвост? Колька погиб, не успев стать наркоманом. Похоронят его теперь в конце старого кладбища, там, где сейчас автозаправка. Если, конечно, Витька чутка, не соврал. А, похоже, что не соврал: идет мой дружбан, скорбно пинает камни. У перекрестка остановился, дождался меня и говорит:
- Если б вы сегодня не подрались, он бы сейчас живой был.
У меня аж дыхание перехватило, слезы на глаза навернулись.
Знал бы мой старый друг, как он сейчас прав! Дети - это маленькие боги, а жизнь делает из них взрослых.
Во дворе у Лепехиных настежь открыта калитка. Из грузовой машины мужики выгружают обитый бархатом гроб, пространство возле глухой стены беленой саманной хаты, зарастает траурными венками. Приходят люди, слышался женский плач. А вот самого Кольку из морга не привезли, в этом Витька сбрехал.
- Тут и без нас тошно, - сказал я ему. - Врачи еще будут вскрытие делать. Долгая это песня. Пойдем-ка лучше домой. Уроки надо учить - завтра ведь в школу.
- На похороны пойдешь?
- Нет.
- Из-за фингалов?
- Нет.
- А почему?
Я глянул в его глаза и честно сказал:
- А потому, Витька, что я сегодня тоже умру.
- Тю на тебя! - он сунул руки в карманы штанов и зашагал прочь. Наверное, не поверил.
По дороге домой я старательно вспомнил все, что когда-то читал о предсмертных воспоминаниях. Угасающий мозг чередует фрагменты памяти, как видеомагнитофон, поставленный на обратную перемотку. То есть, наоборот. Не завтрак - обед - ужин, а ужин - обед - завтрак. Если верить общеизвестной теории, это не мой случай. Нет ускоренного движения, нет
хронологии. Этот видик заклинило. Пленка смакует один небольшой фрагмент, события в нем трактуются очень вольно, помимо моей воли. Нет, это не оригинал, а как говорят музыканты, вариации и фантазии на тему прошедшей жизни. Значит, что? - спросил я себя, - значит, будем смотреть правде в глаза: мозг мой давно умер. В своем настоящем, я уже бездыханный труп без надежды на реанимацию. Эх, знать бы, что это так хорошо, давно б наложил на себя руки.
Мысли роились. В последние годы я проштудировал множество книг о человеческих душах: ну, что с ними бывает после того как. Надо же знать, что ожидает внутри, когда стоишь на пороге? Читал, даже, про попаданцев, хоть это совсем несерьезно.
Не теория, а массовый бзик.
Набрел как-то в поисках чтива на лежбище воинствующих фанатов. "В вихре времен" называется. Подобрал подходящую книжку, пью кофе, смакую. Интересно написано, образно, зримо! Как будто бы человек из нашего времени попал на прием к товарищу Сталину. Я, было дело, в том времени растворился, чувствую даже аромат табака "Герцеговина Флор". И тут отрывок кончается - начинаются комментарии.
"Э-э-э, Вася, - пишет один, в форме красного комиссара на аватаре, - тут ты неправ! К товарищу Сталину так просто не попадешь! Вот тебе ссылка на систему его охраны. Ознакомишься, завтра придешь".
"Автор! - орет другой, - с какого ты хрена нацепил на героя погоны?! Ты разве не знаешь, что в сороковом году..."
В общем, с ладошку текста - десять страниц комментариев. Перелистал я эту бодягу, дальше читаю. А там тот же отрывок, но с учетом пожеланий трудящихся. И главный герой размыт, и запах табака испарился. Плюнул я от досады, ушел и больше не возвращался...
Вот и со мной так. Закружил этот вихрь времен и бросил неизвестно куда. Все, вроде, как было, а чего-то важного не хватает. Будто тот хмырь, в форме красного комиссара, глянул на мою жизнь из-под стекляшек пенсне и строго сказал Господу:
- А зачем тут Лепеха?! Тут никакого Лепехи быть не должно!
Хорошо хоть, Витька оставил в его первозданной дурости. Догоняет меня, и как ни в чем ни бывало:
- Спорим, я этим камнем в дерево попаду? - разгоняется, и "пыром" его - шарах!
Голыш, естественно, полетел, хрен знает, куда.
- Эх ты, - говорю, - рохля! Учись, пока я живой.
Подобрал подходящий кругляш, щечкой его подрезал, чуть не попал! Не докрутил малость.
Так и дошли до мостика через речку. Ему прямо, а мне направо.
Иду мимо смолы, подбиваю итог своим мысленным изысканиям.
Тому, что сейчас происходит со мной, есть только одно разумное объяснение: я уже умер. Моя душа привыкает сейчас к своему новому состоянию. Скоро она улетит, а пока находится в том времени, где ей было когда-то комфортней всего. Не случайно ведь, в домах, где кто-нибудь умирает, люди на девять дней занавешивают зеркала. Значит, и мне столько отпущено.
Ладно, примем на веру. Теперь, что касается смерти Лепехи: человеческий разум - он тебе, что хошь нарисует. Взять того же Витю Григорьева. Он, когда в стационаре с белой горячкой лежал, так клялся потом, и божился, что видел три тыщи рублей одною бумажкой.
Я вернулся домой в дурном настроении. Вспомнил, что технический паспорт положил в шкаф, под белье. Серега, наверное, обыскался! Ему ведь, в наследство вступать. Похоронит меня - и прямым ходом к нотариусу, застолбить свое право. Будут ему расходы и головная боль.
Мухтар чесал заднею лапой свой рыжий загривок. Он никогда не лает, когда отдыхает дед. Бабушка во дворе мыла посуду.
- Куда это вы галасвета? - спросила она.
- Да Колька Лепехин утоп, мой одноклассник.
- Ай-яй-яй! - она всплеснула руками. - Вот горе! Это не той Лепехин, что наспроть Чаленкиных жил? Тоже, наверное, неслух. А матери каково? Сколько раз я тебе говорила, чтоб на Лабу ни на шаг...
Я проскользнул в дом. Дед проснулся. Он стоял на пороге большой комнаты и слушал радио. Женский голос рассказывал о реакции в мире на решение Стокгольмского Международного трибунала по расследованию военных преступлений, признать США виновными в агрессии против Вьетнама.
- Ни фига себе! - вырвалось у меня.
Дед обернулся и строго сказал:
- Тише!
Наивные новости того наивного времени. Де Голль наложил вето на вступление в ЕЭС Великобритании, по требованию ОАР, ООН выводит своих миротворцев из района египетско-израильской границы. Сейчас бы это звучало, как бред сумасшедшего.
Когда зазвучал концерт камерной музыки, дед посмотрел на стол. Там не было ничего, кроме чернильницы.
- Уроки до сих пор не поделал? Ох, и будет тебе хворостина!
- Сейчас сяду.
- Ну, добре.
Я вытряхнул из портфеля все содержимое. Перелистал дневник. Трояков мало, как и в былые годы, иду хорошистом. Посмотрел расписание на понедельник. Стандартный набор: русский, литература, математика, история, география...
Любопытно взглянуть, а вот делать не хочется ничего. Может, ну его на фиг? - мелькнула спасительная мыслишка, - несолидно мне, старику, уроки учить.
А хворостиной по сраке очень солидно?! - возмутилось мое чувство долга, - ты что сюда, жрать пришел? Давай ка не будем расстраивать деда. Тебе же упрямства не занимать. Пусть эти девять дней и для него будут праздником.
Итак, русский язык. Открываю учебник, нахожу упражнение 629. Читаю задание: "Образовать действительные причастия настоящего времени".
Мама моя, а это еще что такое?! И компьютера нет под рукой, не погуглишь.
Перелистываю страницы назад. Хорошо хоть, все правила выделены жирным курсивом.
Через сорок минут разобрался. Взял авторучку. Стоять! Низзя!
Вспомнил, что наша Надежда Ивановна в этих случаях ставит пару. Для нее существует только обычная ручка с железным пером. Все остальное изымается на уроке с вызовом родителей на ковер.
Открываю тетрадь - и сразу же ставлю кляксу. Я давно разучился писать от руки. Все больше на клаве. Вспоминаю уроки чистописания. Тренируюсь на черновике. Дело пошло.
"Высоко над цветущими полями нашей страны реют чудесные птицы". Прерываюсь, подчеркиваю "ущ"...
К ужину я успеваю сделать только русский язык. Деду сегодня к семи. Надо нажарить семечек, собрать тормозок, потому так рано садимся. За окнами день, а на часах уже вечер. Куры забираются в саж, рассаживаются по жердочкам. У них свое время. Дед дожевывает котлету, выпивает компот. Сейчас скажет:
- Вот закончишь четверть без троек, возьму на дежурство!
Я прикидываю отпущенный срок. Нет, не получится. Мне улетать, а ему возвращаться в могилу.
Жизнь это череда парадоксов. Я так и не успел прочитать его письма, которые он писал бабушке с фронта. Они всегда лежали в буфете, в верхнем выдвижном ящике - аккуратная стопка, перетянутая резинкой от какой-то микстуры. Сначала я думал, что это кощунство, а потом, когда бабушка умерла, мать сожгла их на островке. Так сказали ей голоса.
Дед никогда не рассказывал о войне, а ведь был он в составе группы, которая брала Паулюса. Когда я учился в восьмом классе, его вызывали в военкомат, чтобы вручить медаль "За отвагу". Награда искала его ровно двадцать пять лет с того самого дня. Он ведь жил под другой фамилией. Под той, которую вспомнил в военном госпитале через четыре года после войны. Был Дронов, а стал Дранёв.
Дед ушел на работу, а я долго еще сидел за столом. Писал, считал и учил, пока не услышал: "Ложись спать, полуночник!" А уже перед сном подумал, что если свершится чудо, и меня все-таки откачают, надо будет написать завещание. Прежде всего, спрошу у врача про очки.
Утро моего детства. Только бабушка знает, что это уже утро. Время она чувствует без будильника. За ставнями ни проблеска света, а она уже на ногах. Скрип кровати в маленькой комнате - и ее вечное "О-хо-хо". Она начинает греметь заслонками, вьюшками и чугунными кольцами нашей уютной печки. В доме не холодно. Просто надо готовить обед.
Я все это слышу. Наверное, полчаса таращу глаза в темноту. Мои биологические часы настроены на прежнее тело, на то, что уже без души. Очнулся от страха. Первая мысль: где я?! Потом отлегло, понял, что не в больнице. Разве смог бы я там лежать на левом боку с ущемленным-то сердцем? Так что вчерашний день я не заспал, даже помню, что дед сейчас на дежурстве. Хотел, было, встать, стишок повторить, да одолела дума. Вот хочется мне понять, а будет ли день вчерашний считаться как полный из отпущенных мне девяти, ведь почти до обеда я был еще жив?
По всему выходило, что будет. И тут я поймал себя на подленькой мысли, что это несправедливо. Хотелось урвать, как минимум, еще двенадцать часов. Может, годочков полста? - спросила моя совесть. - Ну, ты, братец, и жлоб!
Я долго ворочался, прикидывал так и эдак, и честно ответил себе, что нет, не хочу. Какое же это детство, если в душе ты старик? - да это ж эрзац! Вот если бы все забыть? А с другой стороны, для чего же тогда я жил?
Ладно, время рассудит. Меньше спишь - больше живешь.
- Гля! - удивилась бабушка, увидев меня на пороге, - проснулся ни свет ни заря! Еще ночь на дворе, чи ты на ведро?
В детстве Серега закрывал меня в темном шкафу и рассказывал разные ужасы. С тех пор я боюсь темноты. Бабушка это знает и всегда выставляет на ночь ведро, которое называют "поганым".
- Стишок хочу повторить, - брякаю от балды. И это почти правда.
- Ну, сейчас я водички поставлю.
Она и сегодня помоет мне шею теплой водой. Я могу помыться и сам, под умывальником, но не буду этого делать. Пусть все идет, как идет. Зря я, что ли, уроки учил? Мне важней выяснить главное: настоящий этот мир или нет, что это за время, в котором мы сейчас существуем? А, самое главное, куда подевался я? Ну, я... это точно такой же мальчишка, но немного другой. У него не болит память о будущем.
- Бабушка!
- Аю? - ласково спрашивает она.
Я чуть не спросил: "Почему ты не чувствуешь, что меня подменили?" Но во время спохватился:
- Бабушка, а какая она, душа?
В этом вопросе все. Помнит ли она свою прежнюю жизнь, нравится ли ей новый памятник из белого мрамора, правда ли, что на Пасху умершие навещают свои дома?
Для нее это, кажется, перегруз. Бабушка садится на стул, складывает руки на фартуке.
- Душа - это, внучек, котомка, в которую люди собирают любовь. У кого-то она большая, у кого-то не очень, у кого-то вообще одна видимость. Чем больше собрал - тем легче идти.
- А почему тогда душа часто болит?
Бабушка глядит на меня внимательно и серьезно.
- Есть, значит, чему болеть. Бывает такая боль, которая лечит.
Я хочу еще что-то спросить, но ей уже не до меня. В кастрюле вода закипела.
- Ох, светает уже, а я тут с тобой калякаю языком! Сбегай, внучок, ставни открой, да выпусти курей из сажка.
К возвращению деда, я сидел уже с вымытой шеей и завтракал - пил кипяченое молоко. Его покупал я. Вернее, не я, тот, кто жил в моей нынешней шкуре, когда я еще был жив. Такое вот, раздвоение личности. Один, оседлав тросточку, шкандыбает за пенсией, а в это же самое время, другой его экземпляр идет в магазин. Но память об этом факте осталась только у бабушки. Это она давала, семьдесят две копейки и мыла трехлитровый "битон". Бабушка здесь, молоко здесь, куда подевался тот, кто его покупал?
Задать бы учителю природоведения эту задачку на сообразительность.
- Ты еще не одевшись? Смотри, опоздаешь! - дедушка входит в комнату, и тоже садится за стол.
И то правда, в школу ж к восьми! По армейской привычке, одеваюсь предельно быстро: и пары минут не прошло, а на мне уже синий костюмчик, голубенькая рубашка и красный галстук. Выскакиваю во двор. В спину несется торжественный звук горна и девчоночий голос по радио:
- Здравствуйте, ребята! Слушайте "Пионерскую зорьку!"
Лает Мухтар. За калиткой Витькино "у-р-р-р!" Сейчас спросит:
- Арихметику дашь содрать?
Он именно так и спросил. И от этого у меня поднимается настроение:
- Без базара.
- Че ты сказал?!
- Дам, говорю. Только пойдем лучше дальней дорогой, не хочу вспоминать.
Витька кивает. Он понимает меня с полуслова, если, конечно, не грузить его фразами из лихих девяностых. До этого времени он еще не дорос.
О будущем больше не думается. Хочется вдоволь напиться детства, окунуться в него с головой. Но сначала неплохо бы было разведать глубины. Я ведь даже не помню большинство своих одноклассников, ни по именам, ни в лицо. Встретил как-то на автовокзале прилично одетого мужика. Подошел он ко мне с двумя кружками пива.
- Привет, - говорит, - Санек!
Смотрю в его рожу - и ноль эмоций.
- Не помнишь? Мы же с тобой в одном классе учились. Это же я, Женька Таскаев.
Напряг я свою башку. Единственное, что выцепил из ее мутных глубин, так это два факта. Первый, что был такой, и второй - что носил очки. И ничего больше: ни хорошего, ни плохого.
А Витька все "арихметику" передирает. Высунул набок язык, и наяривает моей авторучкой. Математичка не придирается, что не простым пером, это я помню.
До школы идти пять минут. Это там, где сейчас офис сбербанка. Витек по дороге успевает поведать все свои домашние новости. Брата Петра в армию призывают, Танька в кого-то снова влюбилась, все плачет в подушку.
Ну, перед нами такой вопрос не стоит. Все пацаны в классе поголовно сохнут по Соньке. У "ашников" свой идеал - Олька Печорина. Обе они отличницы, а это для нас решающий признак девчоночьей красоты. Хорошистки и троечницы не катят.
Там, где вчера стоял банкомат, сейчас небольшая калитка в невысоком деревянном заборчике. За ним начинается школьный двор. Сегодня никто не бегает, не шалит, не смеется. Разбившись на группы, все обсуждают Колькину смерть. Рассказывают мистическим шепотом: кто, где и когда видел его в самый последний раз. Только Валька Филонова в стороне. Сидит себе на скамейке, кутается в цветастую шаль и читает "Историю". Она не дружит ни с кем.
Трогаю себя за распухшую переносицу и прошу:
- Не говори никому, что это я с Лепехой подрался.
Витька, чувствую, подмывает, но пацан есть пацан. Он косит на меня своими вишневыми зенками, солидно высмаркивается и цедит сквозь зубы:
- Без базара.
Надо же, прижилось.
Мы пришли под первый звонок. Повезло мне. Почти никто не подкалывал, откуда, мол, у тебя такие очки? Только Славка Босых толкнул меня пузом в дверях и ехидно спросил:
- Пусть не лезут?
Где находится наш класс, я, честное слово, запамятовал. Поэтому держусь за теми, кого точно помню. Сажусь на свободное место в третьем ряду. Филониха с фырканьем чухает на другую сторону парты. Судя по ее поведению, я сел не туда. Ну и ладно! Кому не понравится - пусть пересаживают.
Валька вообще-то девка что надо: умная, и симпотная. Я даже хотел за ней приударить классе в восьмом. Да побоялся, что на смех меня поднимут. Был у Филонихи большой недостаток - лишняя извилина в голове. И втемяшилось в эту извилину стать кинозвездой. Она по натуре максималистка: или все - или ничего.
Все девчонки перед зеркалом крутятся, и ни единой трагедии. А Вальке оно не в жилу пошло. Вот чем-то она себе не понравилась. В общем, решила она, что артисток с такими рожами быть не должно. Даже хуже того, стала себя за это казнить и родителям своим выговаривать за хреновый генный набор.
Появились на юной девчонке старушечьи платки, платья и кофты. Зажила она, замкнувшись в себе. С пятого класса ее за глаза звали бабой Валей, или бабкой Филонихой.
Откуда я это знаю? Да она мне сама потом обо всем рассказывала. Я ведь последние восемь лет работал электриком. Ходил по домам и квартирам, счетчики менял у людей. Так и набрел на ее нору. Валька меня не сразу узнала, а я так с первого взгляда. Над щекой такая же завитушка, и фамилия в наряде - как
перепутаешь? Посидели, чайку попили, вспомнили школу. Поведала она за столом свои девичьи сердечные тайны.
А сейчас вот, рожу воротит. Да и я на нее не смотрю, слава Богу, не педофил. Мне сейчас интересней учительниц своих оценить с позиции возраста.
Минут, наверное, пять, как звонок прозвенел. Математички нет, взрослых, кроме меня, никого. Все, - думаю, - ясно. В связи с трагическим случаем, готовят мероприятие. Не факт, что урок вообще будет. А пацаны бесятся! Шум перерос в гвалт, Витька с Босярой по партам начали бегать, кто-то с задних рядов жеваной шпулькой в меня запустил. По затылку попал, падла.
Поворачиваюсь, смотрю на Камчатку. У всех невинные рожи, никто ничего не видел. И так мне обидно стало!
- Ну, что, - говорю, - дорогие мои детишечки, кто из вас давненько не обсирался в мозолистых руках рабочего человека?
Все засмеялись, а Юрку Напреева это сильно задело.
- Ну, я, - отвечает, - а че?
Ему действительно че? Он самый здоровый в классе, на целую голову выше меня. Да и мне тоже ниче. Зря, что ль, я помер со свернутым набок носом?
И тут открывается дверь. Входит наша математичка, за нею милиционер с директором школы. И началось! Чтобы со скуки не помереть, я сидел и подсчитывал, сколько раз наш Илья Григорьевич скажет свое знаменитое "не було", а товарищ из внутренних органов - страдательное причастие "данный".
Нельзя сказать, чтобы в классе царила мертвая тишина. Все занимались своими делами. Кто читал, кто рисовал. Валька штудировала "Историю". Юрка бомбил меня воинственными записками. Нагнетал, так сказать, атмосферу, страхом казнил. В одной из них был нарисован кулак. Я добавил к нему загогулину, чтобы стал он похожим на дулю, и отправил записку обратно.
На первой же перемене, Напреев прислал секунданта. Это был, конечно же, Славка Босых - худощавый, резкий, чрезвычайно смешливый пацан с феноменальной реакцией и бешенным темпераментом. В детстве мы с ним не дружили, но никогда и не ссорились. Дышали друг к другу ровно. А сблизились только на старости лет, когда нас из целого класса осталось всего трое.
- Ох, и схлопочешь ты! - сказал он сочувственно. - Злой сегодня Напрей. Как будете драться: до первой слезы, или до первой крови? Ты вызвал, тебе и условия выдвигать.
Я смотрел на его лицо, на задорно торчащий вихор. Хотел, но не смог узнать в этом белобрысом создании, лысого, пузатого мужика с потухающим взглядом. Такого, каким он был буквально на прошлой неделе.
- Так че передать Юрке? - не унимался Босяра. Судя по подтанцовке, у него еще были дела.
- Не знаю, - нерешительно вымолвил я, - обо всем, вроде, договорились? Ну, если хочешь, скажи, чтобы плотно покушал на большой перемене. Я его буду бить, пока он не обосрется.
Славка сначала взвыл от восторга, и только потом залился серебряным колокольчиком.
- А ты молодец! - вымолвил он, отсмеявшись. - Так я ему и передам.
На следующем уроке я, наконец, увидел Надежду Ивановну. Было ей не больше тридцатника. Большие глаза за линзами толстых очков казались лесными озерами в крапинках зеленых кувшинок. Не читалось в них ни строгости, ни занудства. Только любовь. Почему же мы, дураки, до дрожи в коленях, боялись ее окриков?
Изложение - мой конек. Пока наша классная читала занудный текст, я на листочке бумаги рисовал синее дерево. Потом открывал тетрадь и, глядя на фрагменты рисунка, восстанавливал слово в слово, все, что она в это время произносила.
А больше уроков не было. Наш класс в полном составе пошел прощаться с Лепехой. Постояли у гроба, получили по узелочку с конфетами - и разошлись по домам.
Колька лежал в наглаженном школьном костюмчике с чернильным пятном на левой груди. Игрушечный гробик стоял на низкой скамейке. Лепеха был самым мелким из пацанов - на два сантиметра ниже Витьки Григорьева. Вот только его лицо поражало своей взрослостью. Его крепко побило в реке. На месте правого глаза чернела огромная гематома. Сквозь щеточку коротких ресниц, виднелось глазное яблоко. Он будто подмигивал мне, и мысленно говорил: "Какие дела, Санек? Сегодня я, а через неделю - ты!"
Глава 3. Дуэльный кодекс
Не знаю, сколько бы я простоял, если бы Славка не подергал меня за рукав. Будьте любезны, мол, на расправу! Ну да, это для них сейчас самое главное.
Я погладил Колькину руку. Перекрестился. От меня не убудет, а ему, глядишь, пригодится. Бабка читалка, в изумлении, уронила очки.
- Во чеканутый! - сказал Босяра, выходя за мною во двор. - А если в школе узнают? Ты это нафига? Тебя пацаны заждались, думают, что зассал, а ты тут...
По другую сторону улицы Юрка с Витьком - моим секундантом резались в ножички. Они сидели у самой обочины. Тротуара, на котором я вчера поскользнулся, еще не было. Люди там вообще не ходили из боязни промочить ноги в липкой, вонючей жиже. В том месте росла густая трава, а под ней - мочаки, не высыхавшие даже летом. Сахарный завод еще не построили и там, за забором кустарного предприятия, давили свеклу.
- А вот и Пята! Я думал, он смылся давно, - усмехнулся Напрей, как только мы подошли. - Ну, че, где будем обсераться?
- Есть место, - успокоил Босяра, - за мной, пацаны!
Я двинул следом за ним, а Юрка с Витьком почему-то отстали.
Шли, держась метрах в пяти от нас, и продолжали свой разговор, начатый во время игры.
- Кто это тебе фингалов наставил? - первым делом, спросил Славка.
- Не видел, темно было, - привычно соврал я.
- Ну-ну, - не поверил он.
Пару минут шли молча. И тут мне некстати вспомнилось, что этот ершистый пацан - мой будущий крестный отец.
Я вернулся из Мурманска в разгар перестройки. Нужно было досматривать мать, зализывать раны и привыкать к нищете. Серега пристроил меня в авторемонтные мастерские. Я менял сайлентблоки и шаровые опоры, короткие и длинные рычаги, втулки маятника. Три машины пропускал через кассу, четвертую - через себя. В цеху было холодно. Клиент шел небогатый. Предпочитал расплачиваться жидкой валютой. Да и деньги теряли вес еще на пути из кармана в карман. Чтоб не упасть до конца рабочего дня, приходилось ходить за закуской. Это недалеко.
Чуть правей наших ворот был небольшой рынок. Там я и встретил Славку. Он со своей первой женой продавал копченое сало.
- Вернулся? - спросил Босяра, - правильно сделал! Земля прокормит. Деньги у нас валяются под ногами. Только не ленись, подымай.
Было оно действительно так. Сваривай железный киоск, ставь его, где душа пожелает, чем хочешь, торгуй. Купил водку за сто - продал за триста. И никакого надзора. Даже налоговую еще не придумали. Настоящий Клондайк для тех, кто забыл, что такое совесть и советское воспитание.
Ну, постояли, поговорили. Узнав, что я только "с морей", Славка пришел в восторг и пригласил меня на крестины своей маленькой дочки. Я хотел отказаться, сказал, что я еще "нехристь", а он еще больше обрадовался:
- Санечек, не переживай! Для брата моряка все сделаю, как положено. И серебряный крестик куплю. Ты только не напивайся.
Он, как оказалось, тоже три года отмантулил в "Тралфлоте" электромехаником. И тоже в Мурманске. Вот так, работали в одном городе, а ни разу не встретились.
Стал, короче, мой одноклассник моим крестным отцом. Встретишь, бывало, его в городе и ну, прикалываться! Идет он, вальяжный, с бухгалтерским пузом под кожаным пиджаком, супругу под локоть поддерживает. И тут я выступаю из-за угла: рожа небритая, с перегаром. Руки раскину крестом, да как заору:
- Папаня!!!
Народ в ахуе, а из него чуть сопля не выскакивает.
Славка вообще-то после морей закодировался. Пьяных людей не переносит на дух, поубивать готов. А вот на меня у него не было сил обижаться. Посмеется, обнимет, купит бутылочку пива:
- Кушай, сынок, наедай шею!
Он к тому времени возглавлял службу личной охраны у одного бизнесмена, а я работал корреспондентом в местной газете.
Есть, наверное, в человеке какая-то память о будущем. Наверное, неслучайно Славка сейчас идет рядом, и за меня очень сильно переживает.
- Ты, - спрашивает, - что, Напрея совсем не ссышь?
- А че его ссать? Чай, не убьет.
- Ну, слушай тогда. Он, когда свой кулак в чью-то рожу сует, всегда глаза закрывает. Машется мельницей, выдыхается быстро. И еще, нос у него слабый. Только смотри, о том, что я тебе говорил, никому!
- Могила! - заверил я.
Место, куда мы пришли, я знал хорошо. Это как раз напротив моего дома. Там за железной дорогой контейнерная площадка, а между ней и забором "Заготконторы" - глубокий овраг. Дед всегда там копал целинную землю для огородной рассады. А у Славки где-то недалеко работала мать. Наверное, потому он сюда нас и затащил.
Был в то время у мальчишек дуэльный кодекс: ногами не драться, свинчатки не применять, не бить ниже пояса, лежачих не трогать. Ну, и, естественно, "двое в драку, а третий - в сраку".
Мы с Напреем разделись до пояса. Показали друг другу руки.
- Начинать по команде! - крикнул мой будущий крестный отец. - Сошлись!!!
Юрка рванулся вперед, как молодой бычок, рогами вперед, намереваясь ударить меня головой в живот. Сжатые кулаки висели на вытянутых руках, чуть позади тела. Будучи уверен в своем подавляющем превосходстве, он решил испытать на мне новый бойцовский прием. Было видно, что драться он еще не умел, не знал, что такое коленка. Я не стал его бить по-взрослому. Не велика честь, да и кодекс не позволял. Просто качнул корпусом влево, а когда он повелся, перепрыгнул через него, как через спортивный снаряд, звонко хлопнув ладошками по голой спине. Что не прыгать с такими ногами? Что не драться, если каждая клеточка тела дрожит от избытка энергии?
Славка заржал. Напреев был озадачен. Эксперимент ему явно не удался. Он тоже не ожидал от меня такой прыти. Смешок секунданта, шлепки по спине - все это показалось ему очень обидным. И Юрка завелся. Он полетел на меня, следом за кулаками, взрезавшими воздух в безудержной серии. Я спокойно нырнул под эту деревенскую мельницу и встретил его ударом под дыхало.
- Разошлись! - крикнул Босяра.
Я послушно присел на траву, а он поспешил на помощь своему подопечному. Юрка стоял, обхватив руками живот, и пытался поймать порцию воздуха.
- Гля, че это он? - не понял Витек.
- Не знаю. Наверно, случайно куда-то попал.
- А здорово ты через него сиганул!
Я ничего не сказал, просто сидел и думал о том, что в недавно законченной жизни, мы с Напреем ни разу не подрались. Вот как-то не довелось. Нам осталось быть одноклассниками чуть больше недели. Первого сентября, всех, кто живет за железной дорогой, тупо переведут в новую школу. Если, конечно, оно настанет, это первое сентября. И для меня, и для этой псевдореальности, где слишком много несовпадений.
Мой соперник, тем временем, вполне оклемался.
- Драться сможешь? - спросил у него Босяра.
Юрка кивнул и глянул на меня исподлобья:
- Ну, сука, убью!
Он попытался сразу же ринуться в бой, но Славка не дал, и отвел его в сторону для короткого инструктажа.
Витек, на правах секунданта, тоже вставил свои пять копеек:
- Ты, - говорит, - Санек, лодочкой ладошку согни и постарайся ему попасть между ухом и шеей. Это будет двойной удар.
Вот, сколько раз приходилось мне выходить один на один, Витька всегда одно и то же советует. Хоть сам я ни разу не видел, чтобы он этот прием на ком-нибудь применил.
- Готовы? - снова спросил Босяра. - Сошлись!
Напреев не зря проходил инструктаж. Мой соперник больше не лез на рожон. Он спокойно стоял в позе, похожей на стойку, и выжидал. Наверное, Славка ему посоветовал поработать вторым номером и попытаться меня подловить на сильный удар.
Я попрыгал вокруг него, спровоцировал пару атак. Юрка отстреливался одиночными. Бил он как-то не по-людски. Вместе с правой рукой, выносил вперед и плечо. В один из таких моментов, я просто шагнул вправо и снова воткнул кулак в его голое пузо.
- Разошлись!
В этот раз, Напрей оклемался намного быстрей.
- Что делаешь, падла? - выдавил он. - Куда ты все время бьешь?! А если я тебя так?
- Ну, попробуй, кто ж тебе не дает?
- Хорош, пацаны! - вмешался Босяра. - Мы уже полчаса тут валандаемся, а вместо драки одно название. Один за живот держимся, другой на траве отдыхает. Давайте договоримся бить только по роже.
- И до первой крови, - добавил Витек. - Согласны?
Я кивнул. Мне было все равно. Юрка пробурчал, типа того, что он тоже не возражает. В общем, мы снова сошлись.
Предыдущие два раунда ничему Напрея не научили. Он по-прежнему топтался на месте, изредка, наудачу, выбрасывая вперед правую руку. Она у него становилась все тяжелей. Я легко уходил вправо и бил раскрытой ладонью по его потному лбу. Не сильно, но так, чтобы щелкнуло. Можно было, конечно, пустить ему кровь, но совесть протестовала. Слишком уж не равны были силы.
Наконец, мой соперник врубился, над ним просто-напросто издеваются, и рассвирепел. Ему уже было наплевать на защиту. Главное дело - попасть, заехать хоть раз в мерзкую рожу врага. Он махал своими клешнями, покуда не выдохся окончательно. Глаза Юрка действительно закрывал, и это сыграло с ним злую шутку. На развороте его занесло, он споткнулся, упал и сильно порезал ладонь донышком битой бутылки.
Я думал, Напреев от злости заплачет. Нет, вид собственной крови успокоил его. Он осторожно поднялся, держа на излете руку, чтоб не испачкать штаны.
- Разошлись! - запоздало скомандовал Славка.
Через пару минут мы уже хлопотали над раненым. Витька схватил пустую бутылку и побежал в депо за чистой водой. Я отыскал подходящий лист подорожника, развернул узелок с конфетами и разорвал платок на три лоскута. Босяра руководил.
Рана была неглубокой. Ее промыли водой, наложили повязку.
Потом мы сидели на склоне оврага и поминали Лепеху. Ели конфеты с печеньем, запивая водой из бутылки.
Никто не смеялся, а Юрка вообще потух.
- Ни хрена себе, веники! - сказал он в раздумье. - Пята, получается, меня отхреначил. Вот уж от кого не ожидал!
- А я тебе давно говорил, - завелся Босяра, - будешь во время драки глаза закрывать, скоро и Витя Григорьев навешает тебе звиздюлей. Дело даже не в том, что у тебя первого кровища пошла. Ты ведь ни разу в него по-хорошему не попал. А он мог бы тебе раза четыре сопатку разбить. Но почему-то не стал. Мне кажется, Пята, потихаря, где-то занимается боксом. Нет, как он через тебя перепрыгнул!
И Славка залился колокольчиком. Так смеяться умел только он.
Прощаясь, мы с Юркой обнялись, и пожали друг другу руки. Это тоже из дуэльного кодекса. Драки один на один не плодили врагов, если все было по-честному.
Витек провожал меня до двора. Нам было по пути.
- Слушай, - спросил он, - как же Лепеха умудрился тебе приварить?
- Шел, в небо смотрел, и в спину его случайно толкнул. А он не заметил, что это я.
- Научишь меня?
- Драться, что ли?
- Ага.
- Научу, - согласился я, - если скажешь мне одну вещь.
- А я ее знаю?
- Всегда говорил, что знаешь.
- Ну, спрашивай.
И тут я решил проверить одну из своих гипотез:
- Сколько будет семью восемь?
- Сорок восемь! - отчеканил Витька на автомате, и покраснел. - Ой, нет, погоди, сейчас посчитаю...
Он думал, что я засмеюсь и приготовился психануть. А мне просто стало грустно. Таблицы умножения мой маленький друг не знал и очень стыдился в этом признаться. Я обнял его за плечи.
- Спасибо тебе, корефан, что не соврал.
- Так научишь? - Витька смотрел на меня исподлобья, ожидая подвоха.
- Без базара! - Я чиркнул, для верности, ногтем большого пальца по верхним зубам. - Завтра же и начнем. Только сначала ты мне расскажешь все, что ты знаешь про умножение на один.
- На один?! Ха! Да я хоть сейчас могу!
- Нет, завтра. Послезавтра расскажешь на два, ну, и так далее. Спрашивать буду вразброс. Если не выучишь, тренировки не будет.
- Какой-то ты Сашка стал не такой, - возмутился Витек, - вредный, как мой пахан. Ну, где я тебе найду эту таблицу? Тот учебник давно уже в печке сгорел.
Я достал из портфеля чистую тетрадь в клеточку, ткнул пальцем в последнюю страницу обложки:
- А это тебе что?
Витька долго и основательно следил за моим пальцем. Наконец, разродился своей знаменитой фразой, почерпнутой им у отца:
- Крову мать!
На том мы и разошлись. Перед тем, как войти во двор, я немного еще посидел у калитки, послушал, как лает Мухтар. На смоле у сторожки жгли грязную паклю, просквозил на своем газончике дядька Ванька Погребняков. И все. На улице было пусто.
Жара. Пацаны, наверное, все на речке.
Погода моего детства радовала теплом. Без рукотворного Кубанского моря климат был совершенно другой. Купальный сезон у нас, пацанов, начинался в конце зимы. Февральские окна - это десять дней полноценного лета. Глубокие рытвины на разбитой грунтовке, которую бабушка называла не иначе, как "прохвиль" наполнялись талой водой. Под солнечными лучами они исходили паром. В субботу и воскресенье у лесовозов был выходной, и вода в колее отстаивалась до нормальной прозрачности. Для мелюзги самое то! В самых глубоких местах можно было даже нырять.
А больше по этой дороге никто не ездил. Частных машин на нашем краю было всего две: убитая "инвалидка" безногого дядьки Мишки и невыездной "Москвич" дядьки Сашки Баранникова по кличке "Синьор Помидор". Это было не средство передвижения, а, скорее, предмет роскоши. Помидор являл его миру лишь в погожие летние дни. Естественно, все пацаны сбегались взглянуть на этот спектакль.
Хозяин открывал кирпичный гараж. Выкатывал на руках свою дорогую игрушку. Приближаться не позволял, а уж руками трогать - ни-ни! Потом Помидор доставал из салона чистые тапочки. Переобувшись, садился за руль и заводил двигатель. Некоторое время погазовав, он проделывал то же самое, но уже в обратном порядке. Дядька Ванька Погребняков называл этот процесс "боевым проворачиванием механизмов".
К началу марта высыхала дорога. Приходили машины с гравием, грейдеры, трактора. Ровняли, закапывали, утаптывали. Но купальный сезон продолжался. Прогревались мелководные притоки нашей горной реки. Все глубинки на ней мы знали наперечет. У каждой было свое название: "Тарыкина", "Лушкина", "Застав"...
К старому новому дому я быстро привык. Не глядя, кинул портфель на штатное место. За окном, на меже, дед ремонтировал летнюю печку. Баба Лена в огороде полола свеклу. На столе, укутанные в тряпье, хранили тепло кастрюли с едой.
После сладкого есть не хотелось. Поэтому сразу пошел с докладом, прихватив по дороге, оба пустых ведра.
- Что получил?
Традиционный вопрос. Дед всегда его задавал, если сам не успеешь гаркнуть с порога: "Четыре, четыре, пять!" Сегодня пришлось оправдываться:
- Не спрашивали. Да у нас всего два урока и было. Потом все ходили с Колькой прощаться.
- И где же ты столько блукал?
- С пацаном одним подрались. Один на один.
- В школу не вызовут?
- Нет.
- Ну, добре! Иди уроки учи. Да не забудь переодеться.
Ох, и нудное это дело! Но такова жизнь. За все на свете нужно платить. Даже за счастье.
Набирая воду, заметил на дне колодца четыре пустых ведра. Взял на заметку.
Уроки я всегда делал под радио. Телевизор мы купим нескоро. Посторонние звуки мне, в принципе, не мешали. Наоборот, грамотный русский язык дисциплинировал речь. Если нужно что-нибудь выучить наизусть, можно всегда выйти во двор. Бывало, скрипишь перышком, кладешь на бумагу какое-нибудь скучное упражнение, а в уши тебе "Театр у микрофона", "КОАП", или, того лучше, "Клуб знаменитых капитанов". Всегда, с предвкушением, я ожидал вечера четверга, когда выходили в эфир юнга Захар Загадкин и корабельный кок Антон Камбузов в интереснейшей передаче "Путешествие по любимой Родине". А больше всего не любил "Пионерскую зорьку". Если я слышал ее позывные, значит, проспал. И в школу придется не идти, а бежать.
Судя по записям в дневнике, с расписанием на завтра мне повезло. Кроме стандартного набора - арифметика, русский - будет еще "инглиш", физкультура и труд. А с учетом того, что сегодня у нас был только один урок, тут вообще делов на один чих. Хоть и длинное, но только одно упражнение.
С иностранным у меня всегда без проблем. Стоп, вру. Сначала они были. И очень большие.
Английский язык я изучал с первого класса, когда еще жил на Камчатке. В память об этом, хранится в моем доме накрахмаленная салфетка с надписью, которую я вышил собственноручно на уроках труда: "A happy new year!". Ничего, кроме этой фразы, в моей голове как то не задержалось.
Переехав сюда, я очень обрадовался, что ненавистный English отсутствует в школьной программе. Но к пятому классу, он меня все же, догнал. И, к моему удивлению, дело пошло. В отличие от своих сверстников, я уже нахватался верхушек и получил какую-то фору. Да и во взрослой жизни английский язык шел со мной рука об руку: мореходка, загранка, какая-то разговорная практика. Так что, если завтра я проявлю "недюжинные способности", фурора не будет.
Упражнение было длинным, но простеньким. Всего-то делов, вставить пропущенные буквы. Писать металлическим перышком я потихоньку приноровился. И, даже, нашел в этом нудном занятии своеобразный шарм. Да и текст был знаком. "Баржа и лодка возле нее, понемногу терявшие очертания...". По-моему, это из Серафимовича.
Я уже подходил к последнему предложению, как вздрогнул от неожиданности. Ручка была в чернильнице, а то бы поставил кляксу. Наша "тарелка", вдруг, ожила и, хорошо поставленным голосом, внезапно произнесла: "Уважаемые радиослушатели! Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует пятнадцати часам московского времени".
Вот, честное слово, меня на слезу прошибло. Как давно я не слышал этой простенькой фразы! Казалось бы, мелочь, но из таких вот, штрихов складываются картины эпохи.
Будильник передо мной отстал на четыре минуты. Я подводил стрелки, пропуская через себя каждое слово.
"В столице 15 часов, в Свердловске и Кургане 16, в Волгограде - 17, в Душанбе и Караганде - 18, в Красноярске - 19, в Улан-Удэ - 20..."
Это был голос великой страны, еще не подпорченной шашелем перестройки.
Потом зазвучали новости.
Молодые строители из Апатитов передали эстафету ЦК ВЛКСМ "Юбилею революции - подарки молодежи" городу Кириши.
В Москве открылся четвертый съезд советских писателей.
Гамаль Абдель Насер объявил о закрытии залива Акаба для израильских судов. В Египте и Израиле объявлено о призыве резервистов на действительную военную службу.
В Адене продолжаются переговоры верховного комиссара Великобритании Хэмфри Тревельяна и президента Йеменской Арабской Республики о мирной эвакуации британских войск и передаче власти освободительному движению.
На пожаре в крупнейшем универмаге Брюсселя "Инновасьон", погибло 322 человека. Очень многие получили ожоги и ранения, отравились угарным газом...
Я дописал последнее предложение и глянул в настольное зеркало. Да, это я. Рожа вполне узнаваема, хоть и смотрится непривычно. Фингалы в самом соку. Так и наливаются синевой. Я с размаху вписался в мир, бывший когда-то привычным. Все, по большому счету в нем неизменно. Вот только рядом со мной сплошная чересполосица. Я получил от Лепхи, Напрей - от меня.
А в недавно законченной жизни такого не было. Это точно. Такие воспоминания не стирает даже склероз. Получается что? - даже в таком положении есть у каждого человека свобода выбора. Пошел направо - нашел кошелек. Налево - попал под машину, или в речке утоп. Нужно быть осторожней. Интересно, а в этой псевдо реальности смерть настоящая, или так, понарошку? Типа того, что смотали кассету и положили в коробку? Может, и Колька Лепехин получил свои девять дней и пребывает сейчас в новой реальности? Ладно, закончится срок, там будет видно. А сейчас что гадать? Начать бы сначала! Я бы прожил жизнь по-другому, с учетом предыдущих ошибок. Стал бы лучше, добрей. Как поется в известной песне, "когда изменяемся мы, изменяется мир".
Полный сил и благих намерений, я забросил в портфель учебники. Хотел, было, делать крючок и идти, доставать из колодца упущенные туда ведра, но на улице "зауркал" мой корефан. Кажется, его рожа меня уже начала доставать.
- Что тебе?
У Витьки в руках тетрадный листок и карандаш.
- Санек, я тут пару примеров решил из задачника. Проверь, а?
- Что тут стоять? - пошли в дом.
- Некогда мне. Пахан отпустил на пятнадцать минут. В поле, на огород собираемся.
Вот Казия! Ну, ни капли не изменился. Он ведь ни разу не был у меня дома! Я его в детстве несколько раз на день рождения приглашал. Помню в отпуск приехал, привез из Дании бутылку "Смирновской" - и тут мой старинный дружбан на улице подвернулся.
- Пошли ко мне, посидим, вмажем!
- Нет, - говорит, - давай тут.
Ну, сбегал я в дом, принес эксклюзив, стаканы, по куску колбасы.
Витька глянул на это богатство, поморщился.
- Знаешь, Санек, сидеть, разговоры длинные заводить - это я не мастак. Ты мне сразу налей стакан, я махну и пойду по своим делам.
Вот такой занятой человек. Ну, сейчас хоть примеры начал решать. Я пробежался глазами по цифрам и честно сказал:
- Молоток! Пятерку за это дело я бы тебе не поставил, но твердый трояк ты заслужил.
- Что не так? - забеспокоился Витька.
- Начеркано много, и почерк у тебя ни в дугу. Вот если бы ты постарался...
- Ты мне, Санек, честно скажи: зачем оно надо? В институт я не собираюсь. Отслужу - на работу пойду. А деньги и я и сейчас лучше тебя могу посчитать.
Вот так. Он свое будущее уже тогда запланировал. А я до восьмого класса не мог связать обучение в школе с перспективами на дальнейшую жизнь.
Кем работать-то собираешься?
- Шофером. Как мой пахан.
- Как же ты будешь заполнять путевой лист?
- Че?!
- У папки спроси, чёкало! Без этой бумажки ни одного водителя не выпустят из гаража. Там в каждой графе арифметика:
сколько километров проехал, сколько бензина ушло и сколько осталось в баке.
- Ты-то откуда знаешь?
- От дядьки Ваньки Погребняка. Он моему деду...
- А-а-а! Ну, ладно, потом расскажешь, а я побежал. Пахан, наверно, уже психует.
Я смотрел ему в спину и думал о том, что если бы в прошлой жизни, Витьке кто-нибудь помог с математикой, он, возможно, и стал бы шофером, а не грузчиком в мебельном магазине. Машина дисциплинирует. В сфере торговли, с ее леваками и дефицитами, он спился буквально за год.
Пока я делал крючок, и прилаживал его к деревянному шесту на носу журавля, стало смеркаться. Дно колодца перестало просматриваться, а на ощупь, я смог достать только одно ведро.
После ужина в доме пропал свет. Я наведался на подстанцию. У стенки, возле открытых дверей РУ 0,4 кВ стоял велосипед. Все как положено, полный обвес: на руле когти и моток линейного провода, на багажнике сумка с инструментарием. В недрах распределительного щита с нашим присоединением, копался электрик.
- Кыш отсюда, пацан, - сказал он, не оборачиваясь, - а то придеть дядька ток, дасть тебе хворостины!
Я узнал е го и по голосу, и по коричневому портфелю с "гэдээровской" переводною картинкой чуть ниже замка. Солнечная блондинка еще не покрылась сетью морщин и скалила ровные зубы в беззаботной улыбке. Когда я пришел в Горсети, Старому было под семьдесят, а он продолжал работать линейщиком и ползать по опорам на лазах.
- Привет, Алексей Васильевич, - сказал я его спине. - Что, снова пээн сгорел?
Он дернулся, ударился головой о раскрытую дверцу ячейки и почему-то рассвирепел:
- Пошел вон, паршивец! А то я тебе сейчас надеру вухи! Будешь ты тут еще глупости за взрослыми повторять. Зуб, это опять ты со своими под..ками?!
Шутка не удалась. Пришлось ретироваться.
Пока суть, да дело, стало смеркаться. Домашние сидели у обновленной печки. В кои веки они собрались вместе: обе моих бабушки и два деда. Говорили о внуках и детях. Не разошлись даже тогда, когда Алексей Васильевич закончил свою работу.
В топке потрескивали дрова. На фоне мерцающих звезд, легкие искры, как светлячки, вылетали из невысокой трубы. На плите закипало ведро с одуряюще пахнущим варевом. Это дед Иван запаривал овес для своей рабочей лошадки. В прошлой жизни я это не знал и, выждав момент, спросил:
- Это кому?
- Кто любит Хому!
Что такое "хома" я не имел представления, но на всякий случай сказал:
- Я люблю! - и все засмеялись.
Теперь я не стал ничего спрашивать. Молча, сидел в стороне, смотрел на родные лица и наслаждался, свалившимся на меня, волшебством. Черные тени гуляли по огороду. В воздухе мельтешили летучие мыши. Кроны деревьев клубились у края межи. Где-то там завел свою песню сверчок: "кру-у, кру-у"...
В детстве мне представлялось, что где-то там, меж густых веток, есть комнатка размером со спичечный коробок. В углу топится печка, горит каганец. За столом стучат ложками маленькие сверчата. А мама сверчиха наливает в тарелки ароматное варево и поет своим детям эту грустную песню.
Глава 4. Опять Горбачев
Человек, говорят, ко всему привыкает. А я все не мог слиться с этой реальностью. Память о прошлом довлела над бытом в режиме онлайн. Новое тело не жало в плечах. Но оно не спешило сдавать в утиль старческие привычки. Вставал я по-прежнему в шесть утра, чем сильно расстраивал бабушку. "Да что ж это за дитё!" - ворчала она.
Пришлось придумать отмазку. Дескать, утром, на свежую голову, мне легче учить уроки.
В школе мои дела шли тоже ни шатко, ни валко. Слишком многое подзабылось за долгую жизнь. Впрочем, дело не только в этом. Я и сам старался по минимуму. Можно сказать, не учился, а отрабатывал номер. Мол, я в этом времени временно, сойдет и так. Сам удивляюсь, как не скатился на трояки. Спасибо за это моей детской смекалке. Первые две недели каждой начавшейся четверти, я занимался зубрежкой. Отвечал у доски так, что отскакивало от зубов. Потом можно было ничего не учить. Пробежишься глазами по материалу перед уроком - и все. Если вызовут, главное бойко начать. Скажешь два-три предложения - учитель перебивает:
- Достаточно, пять.
Что самое странное, меня этот новый мир принял за своего. Никто ничего не заподозрил: ни в школе, ни дома. Один только Витька несколько раз сказал:
- Тебя, Санек, будто бы подменили.
Ну, его интуиция сродни волшебству. Послали нас как-то в подшефный колхоз на прополку свеклы. Бригадирша построила нас у межи. "Выбирайте рядки", - говорит. Мы чуть ни на драку. И как-то так получилось, что Витьке Григорьеву достался самый зачуханный. Все уже метров по двадцать прошли, а он все с началом муздыкался. Пока были силы, ох, как словесно над ним издевались! Мол, Казия, что с него взять? Потом приуныли. За первым пригорком у всех начались настоящие джунгли, а у Витьки ни сорняков, ни свеклы. Наверное, после перезарядки, сеялка забыла закончить этот рядок. Так он и шел до самого края поля, поплевывая в разные стороны.
Мы с Витькой теперь ежедневно общались. Сразу после уроков шли на место нашей с Напреем, дуэли, где я пытался его обучить хотя бы азам бокса. Все пытался растолковать, зачем "челночок"
нужен и что он дает.
- Руки, Витек, у людей разной длины. Плюс пять сантиметров на ринге это уже преимущество. А мы с тобой ростом еще не вышли. Нужно сначала сблизиться до ударной дистанции. То есть, хитрить, двигаться, маневрировать. Иначе жопа: он тебя будет конкретно бить, а ты колотить руками по воздуху.
Пару дней я пытался поставить ему защиту. Тщетно. Витька даже ходил как-то асимметрично. Мало того, что вразвалку. Он будто не шел, а дрался в открытой стойке - столь беспорядочно двигались его плечи и руки.
А когда я достал из портфеля скакалку, мой корефан конкретно забастовал.
- Ну его на фиг, Санек! Не по мне это дело.
Насколько я понял, Витьке был нужен один единственный универсальный прием - такой, чтоб валил всех, невзирая на рост, длину рук. И желательно, без малейших усилий с его стороны. А так не бывает.
В общем, он к боксу остыл. Но нельзя сказать, что наши занятия не принесли никаких результатов. Даже, наоборот. Витька перестал "сдирать" у меня "арихметику". Все решал сам, и на последней контрольной, честно заработал трояк.
Меня эта тройка тоже порадовала, хоть она и не совпадала с моим каноническим детством. То, что оно неповторимо, я с каждым днем все более убеждался. Все в этом мире было немного не так. И дело тут не только во мне. Он сам изменялся по каким-то своим законам.
Возможно, я был причиной. Ведь не встреть Лепеха меня, он бы спокойно докурил свой бычок и ушел по своим делам, которые были изначально намечены. Не стал бы возвращаться домой, где кто-то его подбил искупаться в горной реке. А то, что он утонул, стало настоящим катализатором для тех изменений, которые стали постепенно происходить. Сколько его родственников из других городов побросали начатые дела и примчались на похороны! Все были при деле, не тунеядцы. Пришлось им отпрашиваться меняться рабочими сменами. Скольких людей это коснулось! А дальше - как снежный ком.
В школу нагрянула комиссия из краевого отдела народного образования. В нее случайно затесался огромный мужик с широко расставленными глазами. Был это, как оказалось, председатель Крайисполкома Иван Ефимович Рязанов. Он приехал в наш город совсем по другим делам - изучать производственный опыт местных животноводов, а в школу пришел за компанию. Следом за ним потянулось и наше районное руководство. Народу собралось столько, что тесно было даже в учительской. Потом все быстренько разошлись. Остался только Рязанов. Они, вместе с нашим Ильей Григорьевичем, заперлись в директорском кабинете и сидели до темноты.
Об этом нам рассказал Зеленкевич Колька. Его мамка работает в школе техничкой и ее несколько раз посылали за коньяком. Если Зеля не врет, Рязанов и наш "Небуло" вместе учились во время войны в Сталинградском авиационном училище летчиков.
Чем это дело закончится, можно только гадать. Но что-то мне говорило: Илью Григорьевича не накажут. А если накажут, то несильно, любя. Я всегда уважал этого человека. За кажущейся его простотой, скрывался недюжинный ум и тончайшее чувство юмора.
Он у нас вел историю. Материал излагал доступно, своими словами. О причинах великой древнегреческой колонизации рассказывал так:
- Земли у них не було, пастбищ у них не було, ничего у них не було.
Как то директор вызвал к доске Витьку Григорьева. Тот, как обычно, надеялся выехать на подсказках. Стоял, округлив глаза, и кивал подбородком в сторону первых парт.
Илья Григорьевич что-то там записал в классном журнале, посмотрел на него из-под толстых очков и грустно сказал:
- Садись. Правильно думаешь.
Такие вот, перемены. На первый взгляд, ничего кардинального. Ну, школа, переполох в городе, связанный с приездом начальства. Я здесь всего-то три дня, но, по-моему, и в стране тоже стало что-то происходить. Достал вон, вчера из почтового ящика свежую прессу, пробежался глазами по первой странице, и что-то меня ударило по глазам. Со второго раза нашел фамилию Горбачев жирным курсивом. Инициалы те же. Блин, он и здесь на виду! Читаю. В длинном списке фамилий делегатов от Ставрополья на партийно-хозяйственной конференции, третьим стоит Горбачев М.С. - зам. председателя Комитета госбезопасности при Совете Министров СССР по Ставропольскому краю.
Я, сдуру, помчался искать деда, хотел поделиться с ним этой нечаянной радостью. Да во время спохватился. Как я ему объясню, что это так важно? На политику государства мои старики дышали достаточно ровно. К высшему руководству относились со снисходительностью ровесников.
Как то, в той еще жизни, бабушка ощипывала цыпленка и волей - неволей слушала радио.
"Вчера в Москве, - рассказывал диктор, - состоялась встреча Генерального Секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева с Президентом Финляндии Урхо Калео Кекконеном, прибывшим в нашу страну с официальным визитом. В честь высокого гостя в Кремле был дан обед. Обед прошел в теплой, дружественной обстановке".
Диктор сделал короткую паузу, чтоб перейти к другим новостям, и бабушка тут же ее заполнила.
- Еще б подрались! - сказала она.
Эх, знал бы Колька, чем обернется его смерть для огромной страны! Ведь одно дело давить крота внутри комитета госбезопасности, и совершенно другое - в недрах Политбюро.
Все будет не так. Лучше, хуже? - но точно не так.
Внешне наш город ни капли не изменился. Те же саманные хаты, одноэтажные домики, улицы, белые от гусей и китайских уток. Бедность и чистота. Не было ни помоек, ни свалок. Все, что горело, сжигалось в печи. Все, что имело остаточные калории, съедала домашняя живность. Стеклотара сдавалась в приемные пункты. Дырявые ведра, тазики и корыта тоже шли в дело. Раз в месяц по улице проезжал дед на понурой лошадке, запряженной в громыхающую подводу. Мы, пацаны, тащили ему весь этот неликвид, получая в награду глиняные свистульки и сахарных петушков на палочке.
В центре, как встарь, выстраивалась очередь у пункта заправки шариковых авторучек, а около автовокзала шли на ура "песенки на костях" - самопальные пластинки с хитами того времени, записанные умельцами на рентгеновских снимках. В парках и скверах, вечерами звучали гитары. Те же песни, "восьмерочкой",
на семи струнах: "Любка", "Искры в каминах", "Дымит сигарета с ментолом", "Поезд в синем облаке тумана". Про "Битлов" и группу "Кристи" здесь еще даже не слышали. Даже перепев "Yellow river" в исполнении "Поющих гитар" до провинции еще не дошел. Это годика через два, когда я сам возьму в руки гитару, аукнется по всем подворотням:
"В Ливерпуле, в огромном зале,
В длинных пиджаках,
Четыре чувака стоят
С гитарами в руках...
Прическа битла,
Брюки клеш,
И ты уже поешь:
Can't buy me love, no, no, no, no..."
Нет прически "под Битла" еще не носили. У "стиляг" были в моде узкие брюки и "коки" на шевелюрах. Их было мало. Поэтому их били. Не за что-то, а просто так. На всякий случай, чтоб не выделывались. Тут люди на танцы ходят с заплатками на обох полужопиях, а они...
В общем, эти три дня были просто отдохновением для души, погружением в ожившую ностальгию. Просыпаешься утром, а по радио: "Здравствуйте товарищи! Утреннюю гимнастику начинаем с ходьбы на месте". И рояль - бодренько так - трам-тарарам! Что интересно, фамилии те же самые: "Урок провели преподаватель Гордеев, музыкальное сопровождение - пианист Ларионов".
Такой вот, антураж. Честно сказать, мне стало стыдно. Я больше интересовался своим, личным, чем временем, в которое меня занесло. Брал от него, ничего не отдавая взамен. Витька не в счет, Витька друг. Его и похоронили в моем костюме.
И тут эта газета. Прочитав фамилию Горбачев, я впервые серьезно подумал о том, что все в этом мире может быть настоящим... кроме меня. Люди живут, и не собираются умирать, а я в этой реальности единственное слабое звено. Уже через пять дней произойдет рокировка. Вместо меня вернется в свой дом мальчишка, у которого отомрет память о своем вероятном будущем. Только жаль, что не будет он помнить, как победил самого Напрея.
В общем, решил я оставить этому времени что-нибудь от себя. Какой-нибудь эксклюзив, на долгую память. А лучше всего, электрическую виброплиту.
Эта идея пришла не спонтанно. Она зрела давно. Лет десять назад, я уже делал такой агрегат и, в процессе изготовления, не раз вспоминал, как дед, в свое время, "асфальтировал" двор нашего дома. Он рубил топором застывший гудрон, которого возле железной дороги было немеряно (стелился по насыпи жирными языками), отдирал его от земли и свозил на тачке во двор. Потом разжигал костер и грел этот гудрон до жидкого состояния в двух оцинкованных ведрах. Кипящая черная масса ложилась на землю в границах опалубки ровно по горизонту. Дед посыпал ее чистым песком и укатывал сверху обрезком тяжелой железной трубы. И так, ровно три слоя.
По нынешним временам, это смотрелось бы дико, но не время диктует свои законы, а люди, живущие в нем. Это было общество не потребителей, а созидателей. То, что можно сделать своими руками, делалось, не смотря на трудозатраты. Дед убил на эту работу все лето и половину осени.
Даже на мой неискушенный взгляд, получилось не очень. Во время летней жары, "асфальт" становился мягким и весь покрывался тонкими трещинами, сквозь которые сочилась смола. Приходилось опять и опять посыпать его свежим песком.
С годами, конечно, все устоялось. К моему возвращению с Севера, поверхность заливки была похоронена под слоем земли в четверть штыка и обрела плотность природного камня. Ломом не угрызешь, только промышленным перфоратором. Копал яму под столб, чтобы сделать загородку для кур, не раз вспомнил своего деда.
Виброплита - так виброплита. Как и любой нормальный мужик, у которого руки растут из нужного места, я всегда обращаю внимание на разные бесхозные мелочи, которые могли бы сгодиться в домашнем хозяйстве. Прошлое, в котором я оказался, было в этом плане настоящим Клондайком. Многое из того, что меня сейчас окружает, я взял бы в свое будущее, почему-то не ставшее светлым. Ну, начнем хотя бы с того, что весь берег реки, протекавшей вдоль железной дороги, был буквально завален бревнами. Настоящей, деловой древесиной, которую в наше время пересчитывают до долей кубометра. И никто это богатство не охранял, более того - не растаскивал. Что касается металлолома, об него спотыкались. Метрах в пятнадцати от нашей калитки, стоял на осыпавшемся бетонном фундаменте огромный железный бак. Чем он был раньше, я не вникал. Знаю только, что паровозы в то время переводили на жидкие виды топлива, и в тендерах, вместо угольных куч, стали появляться цистерны.
Ходил как-то в депо, за банкой солярки к новому поколению железнодорожников, они меня и озадачили:
- Дядя Саша, а почему насыпь везде высокая и короткая, и только у нас длинная и пологая?
- Так у вас же здесь ремонтная яма.
- Ну и что?
- Как, - говорю, - что? Тормозные колодки меняли - и старые сюда, под откос. А как спотыкаться начнут, сверху шлаком присыпят. Так что, вы, мужики, на железе стоите.
- Да ты что?! И сколько, примерно, тут?
- Не меньше двух третей объема. Тонны, наверное, три, а то и четыре.
Поверили мужики. Трактор пригнали, прошлись по самому низу, наковыряли КАМАЗ с прицепом, остальное оставили "на потом". Говорил им, что надо было две машины заказывать - так не послушали.
Хотели деповские мне за наводку денег отсыпать, только я отказался.
- Отдайте, - сказал, - мне лучше лист нержавейки.
- Какой еще лист? Нету у нас...
Пришлось показать.
- Вот тут, - говорю, - дерево когда-то росло. Под ним он и стоял. Отрезали ремонтники сколько надо, остальное к стволу прислонили. Вон, видишь, уголок из земли торчит? Пока трактор тут, можно и раскопать...
Не зажлобили мужики. Отдали мне этот трофей. И до дома помогли донести, хоть видно было по рожам, что жалко. Еще бы! Полтора на два метра, и толщина не меньше десятки.
- И как, - сокрушались, - никто этот лист домой не упер? Это ж, наверное, было когда-то рабочим столом какого-нибудь станка?
- Весь в смоле, оттого и не взяли, - пояснил я, - в те времена чистую нержавейку можно было добыть без проблем. Да и куда ее в домашнем хозяйстве? Виброплиты еще не делали, даже не знали, что это такое. За токарный, или слесарный станок можно было в ОБХСС загреметь. Из такого железа варили памятники. Вон, у моего деда, полсотни годов на могилке такой простоял, и еще б протянул пару веков, если бы я его на мрамор не поменял...
Такой вот, парадокс времени. Тот самый лист нержавейки, из которого, лет через сорок, я сделаю виброплиту, стоял сейчас под раскидистой алычой, которая еще не засохла. И знаю на этом железе каждый надрез, и разметить могу по памяти, и весь двор им протоптал, а оно еще не мое!
Думал я, грешным делом, на правах будущего хозяина, темной ночкой домой его упереть, но силенок еще маловато. Да и дед бучу поднимет: "Где взял? Почему без спросу? Сейчас же тащи назад!"
Опыт есть. Сорвал я как-то за двором у соседки Пимовны горсточку шпанки, бабушке на компот. Так заставил вернуть все, до последней вишенки и прощения попросить. Уж я и плакал, и ногами сучил, и говорил, что больше не буду, а дед ни в какую: "Сам сорвал - сам и отнеси!" Правда, Пимовна совсем не ругалась. Сама прослезилась, у меня на лице слезы вытерла и разрешила рвать свою вишню, сколько и когда захочу. Только я к этому двору больше не подходил. Стыдно.
Понимание жизни я еще не пропил. Все вопросы в то время были решаемы. Они делились на две категории: "уважить" и "магарычовое дело". В первом случае, услуга оказывалась безвозмездно, поскольку самому исполнителю она ничего не стоила. Или почти ничего. Или она была связана с его основной работой. Уважить могли не каждого, а только хорошего человека.
Таких определяли издали, визуально, по двум основным критериям. Если двор возле дома бурьяном не зарос, огород в полном порядке, а родные могилки на кладбище содержатся в чистоте, значит, этот человек со всех сторон положительный и может рассчитывать на уважение. Отдельной статьей стояли фронтовики. То, что другому стоило бы накрытой поляны, они могли получить без всяких материальных затрат. В то время копейка была на счету потому, что имела цену. С людей за работу брали по совести.
Под категорию "уважаемых" я не канал. Поэтому, начинать надо было с магарыча, трясти копилку. Была у меня голубка из гипса, заполненная на треть железными "рупчиками". Монет с другим номиналом там, отродясь, не бывало. Гнутые медяки на дороге я не находил, пустые бутылки не собирал, не сдавал, сдачу из магазина отдавал до копейки и вообще к презренному металлу был равнодушен. Не сказать даже, чтобы я на что-то копил. Процесс стяжательства больше напоминал ритуал. Ни с того ни с сего, появлялись деньги. Я их опускал в узкую прорезь на спинке голубки просто потому, что не знал, как ими по-иному распорядиться.
Как это, "ни с того ни с сего?", - спросите вы. А вот так. Просыпаешься утром, идешь в огород, а дедушка, к примеру, и говорит:
- Ну-ка сбегай к бабушке Паше, постучи в калитку, скажи: "Сею-вею, посеваю, с Новым Годом поздравляю! Вынай сало, колбасу, а то хату разнесу!" Запомнил?
Чего ж не запомнить? Тем более, стучаться не надо. Дед Иван уже у калитки стоит, улыбается в черный ус. А за его спиной - баба Паша, держит в руках тарелку со сладостями. Подбежишь, выпалишь слово в слово - все гостинцы твои, а сверху - железный "рупчик".
Мне кажется, все бабушки того времени собирали металлические рубли, чтобы одаривать ими своих многочисленных внуков. А их у меня было больше десятка. Раз в месяц, а то и чаще, когда позволяли полевые работы, мы ехали кого-нибудь из них навестить. Рубили самую жирную курицу, набивали авоську подарками и тряслись в дребезжащем автобусе в Майкоп, Армавир, или село Натырбово. Из каждой такой поездки я возвращался с двумя рублями, так как в каждом из этих мест у меня проживало по две бабушки.
Сколько в итоге там накопилось? - одному богу известно. С Камчатки приехал мой старший брат, начал покуривать, увлекся танцульками и девчонками. В общем, когда я разбил голубку, в ней оказались только железные шайбы и свинцовые пломбы.
Без угрызений совести, я уменьшил Серегин потенциал сразу на три рубля, рассовал их по разным карманам, чтоб не звенели, и направился прямиком к дяде Васе Культе - связующему звену между жителями окрестных домов и железной дорогой.
На смоле было затишье. В конце рабочего дня рассосалась очередь из машин. Раздаточный шланг был отведен в сторону. Дядя Вася с напарником сидели на улице за столом и потребляли "Портвейн-72". В жилу попал.
Приблудный щенок, живший под вагончиком при смоле, несколько раз тявкнул. Обозначил служебное рвение. Но и без этого мое появление не прошло незамеченным:
- Здорово, барчук! Есть вопрос, или мимо шел?
- Да вот, - говорю, - дядя Вася, магарычовое дело.
- Магарычо-овое? - усмехнулся его напарник, - задачку, что ли не можешь решить?
У мужиков сегодня благодушное настроение. Отчего бы не поприкалываться?
- Да нет, - отвечаю в такт общему настроению, - задачки мне бабушка помогает решать, а я по другому вопросу. Мне нужен вон тот лист нержавейки.
Дядя Вася проследил за моим указательным пальцем и задал встречный вопрос:
- Зачем тебе? Это железо серьезное, деловое. Если на металлолом, возьми лучше старые тормозные колодки. Хоть все забирай. Скажешь, что я разрешил.
- Так мне для дела и надо. Хочу сделать деду электрическую трамбовку.
- Электрическую трамбовку?! - изумился Культя, доставая из кармана химический карандаш, - никогда про такую не слышал! А ну, нарисуй!
Я достал из кармана заранее заготовленный лист с эскизом и чертежами, разложил на столе.
Дядя Вася отодвинул стакан, углубился в его изучение.
- Ты смотри! Даже размеры проставил, - одобрительно хмыкнул он. - Только не будет работать эта чертовина.
- Будет! - отрезал я.
- Ну и молодежь пошла! Ты ему "стрижено", а он тебе "кошено"! А ну-ка скажи, Петро, - Культя обратился к напарнику, - сможет ли эта чертовина что-нибудь трамбовать?
Напарник пожевал папироску, скосил глаза на эскиз и задумчиво произнес:
- Если двигун стуканет, то какое-то время и оно постучит. Как
сильно не знаю, но постучит. Только с какого бы хрена он стуканул? У тебя, как я понял, мотор электрический?
- Можно приладить бензиновый, только где ж его взять? Поставлю что есть, от старой стиральной машины.
Мужики ненадолго задумались. Обо мне как будто забыли. Дядя Вася разлил по стаканам остатки "Портвейна", поставил пустую бутылку у ножки стола и спросил:
- Ты про эту чертовину где вычитал? Там о принципе действия ничего не написано?
- В "Юном технике", - мгновенно соврал я, заворожено глядя на ходящие ходуном кадыки, и хотел, было, замолчать, но
напарник Петро сделал рукой отмашку: мол, говори!
- Можно сделать вибрационный двигатель, - послушно продолжил я. Чтобы он хорошо трамбовал и долго работал, по обе стороны ротора ставят эксцентрики, которые нужно выставлять симметрично. Каждый из них представляет собой два полукруга. В нулевом положении двигатель почти не стучит, но по мере расхождения лепестков, увеличится мощность, с которой основание аппарата будет давить на грунт...
- А если, к примеру, ротор с одной стороны на подшипнике в обойме сидит? - перебил меня дотошный Петро.
- Тогда подойдет второй вариант. Вал с эксцентриками выполнить в виде отдельного блока и приварить его к раме. Сам двигатель посадить на резиновую подушку, на ротор поставить шкив...
- Убиться веником! - сказал дядя Вася, - ты откуда слова-то такие знаешь: вал, эксцентрики, ротор?
- Как? Я же в школе учусь. Мой одноклассник Рубен уже со второго класса двигатели для турчков собирает и ремонтирует (турчками у нас называют велосипеды с моторчиком).
- Да?! - удивился Культя, и поплелся в вагончик, - а я думал, вы больше из рогатки по воробьям...
- Есть в этой задумке что-то рациональное, - размышлял, между тем, Петро, - сита на элеваторе работают по такому же самому принципу. И двигатель очень похож. Но в качестве электротрамбовки, никто его, кажется, не применял. Ты что трамбовать то собрался?
- Гравий.
- Гравий?! А зачем его трамбовать?
- Можно песок, или мелкий щебень. А на поверхность укладывать тротуарную плитку. Вот, к примеру, фундамент дома, - я взял со стола химический карандаш, оберточную бумагу и провел по ней тонкую линию.
- Он меня еще будет учить, как плитку укладывать! - усмехнулся Петро. - Ты бы лучше сказал, где ж ее взять? Чай, не Москва...
А действительно, где ж ее взять? В то время мы, пацаны, плевали на дорожную пыль, растирали плевок камешком и называли асфальтом, получившуюся в итоге, блестящую гладкую полосу. А другого асфальта наш городок не знал. И центр, и грузовые площадки вокруг железной дороги, были выложены крупным булыжником, а двор элеватора покрыт слоем бетона. Все остальное - грунтовка. Даже междугородние ПАЗики и ЛИАЗы были вечно покрыты облаком поднятой пыли, что делало пейзаж за окном грустным и серым. Какая уж тут тротуарная плитка! Об этом я как-то и не подумал.
- Самому можно сделать, - вымолвил я неуверенно.
- Из чего?! - Петро презрительно высморкался и посмотрел на меня уничижительным взглядом.
- Цемент марки 500, речной песок, мелкий щебень, разведенное мыло, краситель, обрезки проволоки для армирования...
- А мыло зачем?
- Для пластичности. Говорят, такой раствор не расслаивается, лучше контактирует с арматурой. С ним готовая плитка станет прочной, морозостойкой, не сотрется и не рассыплется через год...
- Ну-ну...
Петро намеревался еще о чем-то спросить, но тут из вагончика вышел дядя Вася Культя с дымящейся сковородкой, на которой шкворчала яичница, и бутылкой "Портвейна" в правом кармане штанов.
- Как будем решать вопрос? - спросил он у напарника, водружая закуску на стол, и тут же обратился ко мне. - Ты магарыч принес?
- Только деньги, - ответил я и выложил стопочкой свой трояк.
- Где взял?
- Известное дело, в копилке. Все равно пропадут.
- Почему пропадут?
- Старший брат приезжает скоро, - сказал я со вздохом. - Он сейчас в пионерском лагере, на Алтае. Но вчера почтальон притащил письмо на его имя. Девчонка какая-то пишет. Зовут Паркала Марэ. Где имя, и где фамилия - поди разберись.
Рабочие рассмеялись.
- Так это же хорошо! - улыбнулся Петро. - Еще одним мужиком прибыло на земле!
- Ничего не вижу хорошего, - отпарировал я. - Мне кажется, новый мужик быстро найдет применение содержимому этой копилки.
- А хоть бы и так! - задорно сказал дядя Вася, собрал со стола рубли в свою искалеченную ладонь и протянул их мне. - Пойди, положи на место и заруби себе на носу: без разрешения деда, из дома нельзя ничего выносить. Особенно деньги. Даже, если они твои. Ну что, Петр Васильевич, уважим этого пацана?
- Надо уважить. Ты, Василий Кузьмич, пока яичницу жарил, самое интересное пропустил. Он ведь меня учил, как правильно делать тротуарную плитку.
- Да? - удивился Культя. - Что-нибудь толковое говорил?
- Как по писанному! Если б такие слова я услыхал от тебя...
- Ну вот, а я еще сомневался. Ты знаешь, - Василий Кузьмич подтолкнул меня в спину, - иди-ка домой. Не мешай работному люду отдыхать, как он привык. А железяку... мы ее с дядей Петром сами тебе принесем. Вечером, как стемнеет. Чтобы никто не задавал лишних вопросов. И деньги в копилку не забудь положить!
Глава 5. Я приступаю к модернизации
Человек с годами мудреет. Однажды, во время очередного похода за пенсией, я вспомнил слова из Нагорной проповеди: "...и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим".
Этой молитве лет двадцать назад, меня научила Екатерина Пимовна. Та самая бабушка, у которой я в детстве украл горсточку вишни. И не просто так научила, а заставила записать на тетрадном листке и выучить наизусть. Было ей, как бы ни соврать, лет девяносто семь. Соседи ее боялись потому, что считали колдуньей, а я иногда заходил, пропустить рюмку-другую калиновой самогонки. Вот и тогда, зашел попрощаться, поскольку собрался в Майкоп на химеотерапию. На очередной медкомиссии горе врачи нашли у меня белокровие.
- Болеешь ты, Сашка, лечить тебя надо, - сказала бабушка Катя.
- Да вот, на неделе ложусь в клинику.
- С работы не выгнали?
- Нет еще. Дали отпуск без содержания. Да все извинялись, что деньгами не могут помочь. Предприятие, мол, на грани банкротства. А сами глаза отводят...
- И то хорошо. "Отче наш" знаешь?
- Какой отче наш? - сразу не понял я, не о том были мысли.
- У-у-у, милый мой! - возмутилась старушка. - Да ты, я вижу, совсем серый! А крест на груди носишь! Хороший крестик, сандаловый, привезенный с горы Афон. Ну-ка садись к столу! Будешь записывать, а то не налью!
На память свою я в то время еще не жаловался. Пару раз прочитал, отчеканил, как на духу. Только Пимовна все равно была недовольна:
- Ты к кому обращаешься?! Ты к отцу небесному обращаешься, здоровья у него просишь. Ну-ка слушай, как надо, и повторяй следом за мной...
Екатерина Пимовна была очень строгим экзаменатором. И то ей не эдак, и это не так. Наверное, только раза с седьмого она снисходительно произнесла:
- Вот так бы давно. Надеюсь, Господь услышит. И в кого ты такой бестолковый?
Мы выпили с ней. Пообщались на общие темы. Закусили "чем бог послал" - пирожками с яйцом и зеленым луком. Потом баба Катя запалила лампаду и приступила к инструктажу:
- Ты, Сашка, сегодня рано спать не ложись. Сразу после полуночи пойдешь босиком к реке, повторяя эту молитву. Три раза должен прочесть! Потом войдешь в воду и встанешь на перекате спиной к течению...
Я представил всю эту бодягу и поскучнел. А ну как соседи увидят, подумают, что рехнулся?
- Слушай сюда! - рявкнула Пимовна, ощетинившись колющим взглядом. - Соседей он испугался! Не сделаешь, как я говорю, в дом ко мне ни ногой! Значит так, встанешь спиной к течению и зачерпнешь воду. Не ладонями нужно зачерпывать, а как бы наоборот, этими, вот, местами!
Она показала на тыльную часть кистей и строго спросила:
- Понял?
Я кивнул головой. Как ни понять?
- Зачерпнешь из реки воду, умоешься тем, что осталось, потом тихо скажи: "Что сделано мне, возьмите себе!" Три раза водичку из реки зачерпнешь, три раза умоешься, три раза скажешь. Запомнил?
Я снова кивнул.
- Теперь самое главное. По дороге домой будет казаться, что кто-то тебя зовет, окликает издалека. Оборачиваться нельзя. Навстречу тебе попадутся два человека: старая бабка, вроде меня, и молодая девка. О чем бы они тебя не спросили, нужно молчать и читать про себя молитву. А как доберешься до хаты, ни слова не говоря, сразу ложись спать.
Казалось бы, все просто. Но когда бабушка Катя попросила меня повторить инструктаж, я все время что-нибудь забывал и путался в простейших деталях. Это ей не понравилось:
- Ох, водит тебя нечистый, ох, водит! Ну ладно, я сегодня до часу под иконками посижу. Помогу тебе, неразумному. Завтра зайдешь, заберешь лекарство. К утру приготовлю.
Как же мне, здоровому мужику возрастом под полтинник, было жутко и стыдно! Дослушав полуночный гимн, я вышел из дома в одних трусах и крался по ночному шоссе, стараясь держаться ближе к кювету, чтобы никто не увидел. Ступни, отвыкшие от ходьбы босиком, больно кололи мелкие камни.
Я выполнил в точности все, что наказала мне Пимовна. Может быть, чуть быстрее, чем надо, умывался и читал заклинания. Уж слишком холодной была вода. На дворе середина марта. До настоящей весны еще надо дожить.
Особенно страшно было на обратном пути. Меня действительно звали. И мама звала, и дед, и Витька Григорьев кричал свое "ур-р-р". Вот только старуху с молодкой я почему-то не встретил. Когда закрывал калитку, заметил на нашей дороге два движущихся силуэта. А может быть, просто, это мне показалось.
- Ты молодчага, - сказала бабушка Катя, - вижу, что помогло. Ступай, Сашка, домой, закройся на ключ и никому калитку не открывай. Особенно мне. Лекарство будешь пить натощак. По две столовые ложки перед едой, - и она всучила мне стеклянную банку с жидкостью желтого цвета, подозрительно пахшую чесноком.
Я продержался четыре дня. Из дома не выходил даже когда закончился хлеб. В калитку ломились, стучали в окно, но я не поддался. Потом прикатили менты и тупо взломали дверь.
Серега орал, что ему остохренели мои закидоны, что "нужно быть мужиком и не прятать, как страус, жопу в песок".
С порога орал. Странный он человек. Считает, что рак - это болезнь заразная. Ни к матери не подходил, ни ко мне. Хорошо хоть, дал денег. Вернее, не дал, а положил на стол. На тот самый стол, за которым мы с ним когда-то учили уроки.
В общем, в Майкоп меня отвезла ментовская "Нива". За рулем сидел старший следователь ГУВД Краснодарского края Серега Журбенко - корефан моего брата. Был он в форме и при погонах майора. Наверное, потому в клинике посчитали, что я - арестант и допустили к амбразуре без очереди. А ну как карманы обчистит?!
Я сунул в окошко паспорт, карточку медстрахования, медицинскую карту с результатами злополучной комиссии и направление лечащего врача. В ответ получил талончик в лабораторию для повторной сдачи анализов.
Серегу такое положение дел очень обрадовало. Он уже, было, настроился убить на меня весь день. Ну, еще бы! Очередь в регистратуру здесь занимают с пяти утра, каждые полчаса ведут пересчет, пишут номерки на руках. А мы - пять минут не прошло - раз! - и уже в дамках!
Мне тоже понравились местные ништяки, поэтому я не протестовал, когда он схватил меня за руку и повел на второй этаж, грубовато толкая на поворотах.
И снова у нас срослось. Люди безропотно расступились и я, не успев покурить, проник в лабораторный предбанник, разделся и закатал рукава. Журбенко присел рядом и строго следил за происходящим, положив руку на кобуру.
Меня обслужили как VIP-персону и, даже, пообещали "сделать все как можно быстрей".
Мы спустились во двор, покурили на одной из скамеек и уже сговорились "рвануть по пивасику", но получился облом. На крыльце объявилась лабораторная тетка и пригласила нас на "еще один повторный анализ". Что-то у них там, в машине сломалось.
Это был уже перебор. После откачки двадцати кубиков, я и так чувствовал себя некузяво, а тут и вовсе поплыл. Меня водрузили на стул возле какого-то кабинета, где я и вырубился. В голове гремели колокола, перед глазами кружилась черная бездна.
Увидев, как мне хреново, Серега рванул в аптечный киоск, запасаться нашатырем. В это время я и очнулся. Пришел в себя оттого, что кто-то из этой бездны, громко и четко, назвал меня по фамилии.
Я встрепенулся, как полковой конь при звуках походной трубы, и тут же открыл глаза. Над дверью, что напротив меня, мигала красная лампочка. Стало быть, вызывают. Я встал и нетвердой походкой вошел в кабинет.
Чернявый мужик в белом халате отшатнулся, роняя очки, и нервно сказал санитарам:
- Пусть подождет в коридоре. Позовите сопровождающего!
Меня вежливо выгнали вон. И вовремя. Серега уже собирался подавать сигналы тревоги.
- Тебя! - сказал я ему и уселся на прежнее место.
Он вышел минут через десять. В руках - полный пакет документов, которые я отдавал в регистратуру, и какая-то бумажка с печатью.
- Ну что там? - спросил я, внутренне холодея.
- Погнали!
- Куда?
- Домой!
- Что, безнадежен?
- Нет, годен к нестроевой.
Заметив, что я останавливаюсь, Серега схватил меня за руку и подтолкнул к выходу.
- Ты от меня ничего не скрывай, - сказал я, послушно семеня впереди, - готов ко всему. Честно скажи, что врач говорил?
- Сказал, что здоров.
- Брешешь!
- Пошел нах!
Вот так мы дошли до скамейки. Журбенко сел, закурил. Мне не хотелось.
- Сколько там времени? - лениво процедил он, и посмотрел на часы, - ого, половина двенадцатого! Можно не торопиться. Ты сядь, почитай заключение, а я расскажу, о чем говорил онколог. Тебе в подробностях, или как?
- Или как, - попросил я и впился глазами в бумагу.
Буквы сливались и прыгали. Руки дрожали. Наверное, от потери крови.
- Наорал на меня врач, - флегматично сказал Серега. - "Ты что, - говорит, - своих подопечных пускаешь в кабинет без наручников?! Это очень опасный тип. Он подменил лабораторные образцы, или кому-то дал хорошую взятку!" В общем, здоров ты. Хошь верь, хошь не верь, но здоров. Ошиблась твоя медкомиссия. Надо обмыть.
И действительно, слово "здоров" было дважды подчеркнуто красным карандашом. Вот тебе, блин, и бабушка Катя!
Мы заехали в магазин, взяли бутылку водки и выпили ее, не выходя из машины. Потом... впрочем, это совсем другая история, а тогда...
А тогда, по пути в Сбербанк, я вспомнил слова молитвы, которой меня научила Пимовна: "...и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим". И не просто так вспомнил, а понял, заложенный в них, посыл и глубинный смысл.
Мы все безнадежно должны. Должны своим дедушкам, бабушкам, матерям и отцам. За то, что лечили, кормили, одевали, воспитывали, ставили в угол и били ремнем. За то, что сделали нас людьми. За то, наконец, что мы не успели отплатить им добром за добро. Они нам на это не оставили времени - у нас подросли свои должники, которым мы все простим.
Наверное, этот посыл заставил меня по-другому взглянуть на свое нынешнее пристанище и сформулировать кредо: Если есть у тебя возможность быть ласковей и добрей - будь. Можешь чем-то помочь - помоги, не считая, что эти труды спишет иное время. Ведь что старикам надо? Похвалить бабушкин борщ, лишний раз не расстраивать деда, успеть, в меру сил, помочь по хозяйству. Да и не такие уж они старики...
Когда дядя Вася с напарником приперли мне лист нержавейки, дед уже уехал "в ночное". Бабушка думала, что это его заказ и не протестовала. Она даже держала калитку, пока работные люди заносили поклажу во двор и ставили у поленницы. Возмущался только Мухтар.
Мы присели на бревно у забора. Мужики степенно перекурили, и дядя Петро сказал, делая паузы между затяжками:
- Если бы точно знать, что эта хреновина будет работать, я бы сделал такую. И нам, и тебе. Ну ладно, бывай. Если что, заходи.
Честно скажу, это меня воодушевило.
Действующую модель виброплиты я мог соорудить хоть сейчас. Был у меня трофейный электродвигатель. Два пацана с нашего края тащили его для сдачи в металлолом, а я предложил обмен, отдав за него цокалку, поджиг и рогатку с резиной из молокодойки. Цокалку я, помнится, сделал из бронзовой трубки, бывшей когда-то соском автомобильной камеры. Из нее можно было палить не только серой от спичек, но и бездымным порохом - пробовал, не раздувало. Поджиг был тоже надежный, стальной, из толстостенной сверленой трубки. Поэтому пацаны согласились.
Электрический шнур с вилкой я планировал срезать со сгоревшего утюга, что пылился на чердаке. Мне оставалось сделать эксцентрик и временное основание из толстой дубовой доски, но было уже темно. К тому же я вспомнил, что нужно успеть написать домашнее сочинение по картине Саврасова "Грачи прилетели". Сразу же испортилось настроение. Картинка была в учебнике. Общих фраз на пару страниц у меня в голове достаточно. Но писать перьевой ручкой?! Эх, скорей бы!.. нет, не скорей. Мне многое нужно успеть...
- Федул, что губы надул? - ехидно спросила бабушка и сама же продолжила поговорочный диалог. - "Кафтан прожег". "А большая дыра?" "Один ворот остался". Пошли вечерять, шибеник!
Курей я уже закрыла.
После ужина я сел за уроки. Бабушка слушала радио и занималась штопкой. Выворачивала носок наизнанку, вставляла в него перегоревшую лампочку и ловко орудовала иглой. Боже ж ты мой! Как я рад, что она жива!
Обзор последних известий порадовал новизной. Председатель Совета Министров СССР Алексей Николаевич Косыгин озвучил ответные меры в случае размещения в ФРГ американских ракет "Першинг". Канцлер ФРГ Гельмут Шмидт вылетел в Вашингтон для консультаций.
Гм, интересно! Надо будет в завтрашних газетах зачесть, что там за ответные меры. Насчет "Першингов" точно не помню. Кажется, под эти ракетные комплексы американцы запустили больше десятка военных программ. Мы на это ответили - и понеслась!
В остальном все было как прежде. США призывают египетское руководство уважать право свободного судоходства в нейтральных водах. СССР предупреждает Израиль о недопустимости агрессии против арабских стран. В нашей стране запущен очередной спутник, первый из серии "Молния-1". Колхоз "Приамурье" награжден орденом Ленина и прочая лабуда, которая даже не запоминалась. Ну, и в конце новости спорта: Шотландский "Селтик" стал первой британской командой, завоевавшей Кубок Европейских чемпионов. В финале они обули Миланский "Интер". Кажется, в прошлой жизни тоже так было.
Ночью я долго ворочался. Покидать этот мир почему-то уже не хотелось. Мне снился Серега. Он стоял на пороге с моей разбитой копилкой и меня же обзывал вором. Следователь, етить твою в кочерыжку!
А я ведь совсем забыл, как он выглядел на пороге седьмого класса, ведь мамка сожгла все фотографии. Ничего, к середине лета приедет, будет учить меня продвинутым песням:
"Джон родился на юге Конго,
Там, где всегда жара,
Там, где танцуют под звуки гонга
Негры вокруг костра.
О, вал вал Кейти,
О, вал вал Кейти, ай лов ю!
Кто же поможет, кто же поможет негру?
Белую-белую девушку я люблю..."
Впрочем, нет. Наверное, не меня.
Я проснулся мокрым от пота. За окном голосил петух. Было совсем светло, но гимн еще не играл. Осторожно, чтоб не шуметь, оделся, собрал портфель и вышел во двор.
Бабушка уже в огороде. Срезает листья свеклы и собирает в пучок. Потом она будет рубить этот пучок топором, мешать с горсточкой комбикорма или молотой кукурузы для того, чтобы накормить кур. С утра до ночи в трудах. Как она говорила при жизни, "отдохну на том свете". Наверно, наотдыхалась. Но все равно, надо помочь...
К приезду деда мы вместе наворотили кучу текущих дел. Завтракали "всем миром" - заедали горячий "кохвий" вчерашними пышками, которые напекла бабушка Паша.
"Кохвий" с "какавой" готовился по одному рецепту: горсточка порошка на кастрюлю кипящего молока.
- Кто это у нас во дворе железо свое оставил? - откушав, спросил дед.
- Это моё! - быстро сказал я.
- Твоё?! За какие такие заслуги тебе его принесли?
- Сказал Василию Кузьмичу, что собираюсь сделать электрическую трамбовку.
- Васька культяпый, что со смолы, вечером его притащил, - вставила слово бабушка.
- Тако-ое... добро на говно! - сморщив нос, проронил дед.
"Такое" в его устах - высшая степень презрения. Оно относилось к моей задумке.
Я ничего не ответил. Пошел собираться в школу. Что толку сотрясать воздух, если дело еще не сделано? По пути, небрежно смахнул листок отрывного календаря. 25 мая, пятница. Впереди два выходных, а до "дембеля" остается ровно четыре дня.
Вспомнив о новом кредо, я протиснулся в дверь сквозь толпу перед самым звонком, и с размаху уселся рядом с бабкой Филонихой. Ее аж перекосило.
- Че приперся? - прошипела она, и с размаху атаковала меня своей мощной кормой, - пош-шел на свое место!
Все захихикали.
Я сдержал этот натиск, упершись ногой в соседнюю парту. Вот это трактор! Валька сейчас на целую голову выше меня, и крупнее по габаритам.
- Че приперся? - сказал я, глядя в раскосые зеленые очи, - нравишься ты мне, потому и приперся! Рядом с тобой и сидеть приятно! Симпотная, умная и простая. И на артистку похожа, нечета задаваке Печорихе!
В классе повисла мертвая тишина. Филониха отшатнулась. Ее изумленное личико постепенно вскрывалось красными пятнами. Как будто бы я не говорил, а с размаху бил ее по щекам. На слове "артистка" она вздернула брови и упала лицом в ладони.
- Обидели деточку, - пропищал мой крестный отец.
Я хотел погрозить ему кулаком, но не успел.
- Так!!! - прогремело из поднебесья. Черной грозовой тучей над столом возвышался Илья Григорьевич.
Захлопали крышки парт. Их обитатели стремглав вознеслись ввысь. Поднялся и я. Сидела только Валюха, она продолжала плакать.
- Кто?!
Директор оценил обстановку и в три шага оседлал истину. Сразу несколько классных сексотов вломили меня с потрохами. А Катька Тарасова изложила подробности в цвете: Ах, Денисов сказал, что ему Филонова нравится! Ах, он хочет сидеть с ней за одной партой! Ах, он вообще-то на другом месте сидел! Ах, плачет она потому, что Денисов сказал, что она на артистку похожа!
- Встань! - сказал мне Илья Григорьевич. - У тебя что, другого времени не було говорить такие слова? Ну и что, что она на артистку похожа? У нас половина девчат на артисток похожи! Потому, что артист это - это не только внешность, а еще и знание жизни плюс трудолюбие. В общем, как бы там ни було, а ты должен сейчас извиниться. И перед Валей Филоновой, и перед всем классом. Потому, что сейчас, вместо того, чтобы ставить годовые оценки, я вынужден проводить воспитательную работу.
Да и хрен с ним! От меня не убудет:
- Простите, - с трудом выдавил я, - ребята, девчата, Илья Григорьевич... ты, Валюха, прости. - И добавил окрепшим голосом, - только я все равно здесь буду сидеть!
- Садись!
Директор повеселел. Проблемные дети были все у него под контролем. Это я знал по педагогическому опыту мамы. Он, наверно, и сам не раз порывался поговорить с Филоновой, но не нашел конца, с которого можно к ней подступиться. Ведь главный принцип учителя и врача - не навреди. А я за него вскрыл этот нарыв.
Незаметно начался урок. Оглашались результаты за четверть и, в целом, за год. Тот, у кого, по мнению Небуло, оценка склонялась в сторону повышения, или наоборот, вызывался к доске, на "третейский суд". И каждый сидящий в классе, мог задать ему вопрос "на засыпку", легкость которого, зависела от личного отношения.
Филониха успокоилась, немного повеселела. Девчоночьи слезы, что на солнце роса. Я сунул ей под локоть записку, три слова карандашом: "Пойдем завтра в кино?" Валька прочитала, подумала и написала: "Дурак". "Знаю, - ответил я, - в 11 около входа". Она отвернулась и вздернула нос.
- Ты че, шизанулся? - спросил у меня Босяра, как только мы вышли на перемену. - Тебя ж пацаны засмеют!
- Нет, это я пацанов засмею, когда в понедельник Валюха войдет в класс!
Я этот ответ еще на уроке придумал. Получилось цик в цик, Славка ушел озадаченный.
Дома я сунул в угол портфель и, даже не пообедав, взялся за дело. Подобрал подходящий обрезок доски, углубил на шурупах шлицы и присобачил движок точно по центру. С эксцентриком не мудрил. Нашел подходящий кусок толстой алюминиевой проволоки, накрутил витками на ротор, а оба свободных конца согнул пополам, чтоб не слишком большой была амплитуда.
Дед вернулся домой, когда я уже изолировал скрутки на проводах. Был он в сером полосатом костюме, при шляпе, ручном костыле с резиновым набалдашником и в очень дурном настроении. Я уже знал, почему. Вернее, не знал, а вспомнил, увидев в авоське россыпь рентгеновских снимков. Сегодня ему урезали инвалидность. Перевели со второй группы на третью. Как будто осколки, что вращались у него вокруг мозговой оболочки, рассосались, или вышли из головы вместе с потом.
Он тогда очень переживал. Рассказывал бабушке о своем диалоге с руководством комиссии ВТЭК, пряча каждый свой вздох под коротким наигранным смехом: "Хэх-х!" Я тогда еще был дурачком. Мне было глубоко фиолетово все, что рассказывал дед. И лишь через месяц понял, что ему урезали пенсию на целый двадцарик. Было шестьдесят - стало сорок.
Без меня на плечах, они бы и это осилили. Мясо и яйца кудахчут во дворе у сажка, картошка и кукуруза произрастают на десяти сотках, что ежегодно выделяет совхоз для своих бывших работников, фрукты и овощи - в огороде. А тут... стремительно взрослеющий внук, который "не жрет абы че", на котором горит обувь, одежда и семейный бюджет.
В общем, в дом я не стал заходить, отложил агрегат в сторону. Не в том дед сейчас настроении, чтобы чему-то радоваться. Хотел, было, отправиться к смоле на разведку, но услышал бабушкин голос:
- Сашка, обедать! - Она тоже была не в себе.
Этот злосчастный день я хорошо помню. Было так: не доев тарелку борща, дед сильно закашлялся, откинулся к беленой стене
и медленно сполз со стула. Так и лежал, неловко поджав ноги, большой и беспомощный. Я со своего места видел только глаза бабушки. Они наполнялись слезами.
- Степан! - закричала она, - Степан!!!
Через пару минут, дед тяжело заворочался на полу, хрипло спросил "что?" и хохотнул, натянуто и натужно.
В этом коротком смешке, я тогда еще прочитал потрясение человека, который сорвался в бездну. Мне тоже не раз доводилось, как выражаются в послеоперационных палатах, "уйти". Как же мерзко я себя чувствовал после каждого такого полета! Метался по горячей кровати, не находя себе места и умолял деловито хлопотавших врачей: "Уйдите, не мешайте мне умереть!"
Дед в этом плане был крутым мужиком. Он не только поднялся и уселся на стул, но заставил себя доесть все, что осталось в его тарелке, и только потом завалился в кровать. Бог ты мой! Как же он любил мою бабушку! Как же она потом жила без него?!
Если мерить рамками прошлого, жить ему остается чуть больше пяти лет. В этом огромном теле уже начинаются необратимые изменения, которые пока не видны. В отличие от меня, дед так и не смог справиться с раком, а ведь бабушка Катя живет по-прежнему рядом. Нет, надо ломать эту вероятность, отвлечь стариков от тяжелых дум, и начинать прямо сейчас.
- Дедушка, - сказал я самым просительным тоном, - можно мне рубль из копилки взять?
Он отложил в сторону ложку:
- Зачем?
- Девчонку одну в кино пригласил, завтра в одиннадцать...
И я рассказал про бабку Филониху, про ее закидоны с одеждой по причине неартистической внешности, про то, что было сегодня в классе.
По мере повествования, настроение у моих стариков несколько приподнялось.
- От сучка! - смеясь, возмутилась бабушка, - как же она крутит матерью и отцом! Спасибо б сказала за то, что родили на свет. Вожжами надо ее учить, а не в кино приглашать!
- Хорошее дело, - одобрил дед, - рубль я тебе и сам дам, только про уроки не забывай. Что ты там за чертовину смастерил?
- Вечером покажу.
Этот обед закончился без эксцессов. Дед, кряхтя, полез на кровать:
- Ты бы мне, Елена Акимовна, банки поставила. Продуло сегодня ночью, ноет в боку...
Я мысленно перекрестился и, убрав агрегат в сарай, направился к Пимовне.
Справа от деревянной калитки, грел свой бетонный бок круглый колодец. Я встал на железную крышку и заглянул во двор.
Вертлявая собачонка выпрыгнула из будки и залилась лаем. Бабушка Катя в то время еще работала продавщицей в мясном отделе, но сегодня она была дома и, сидя на низком крылечке, кормила цыплят подсушенной пшенною кашей.
- Пуль-пуль-пуль! Пули-пули-пули! - повторяла она.
Так в наших краях подзывают кур. Литературное "цып-цып-цып" не прижилось.
Мне почему-то казалось, что ей не составит труда увидеть во мне "новопреставленного", во временном своем воплощении, ан нет. Пимовна скользнула по мне не узнающим взглядом, вытерла руки о фартук и беззлобно прикрикнула на собачонку:
- В будку пошел, зараза!
- День добрый, бабушка Катя! - поздоровался я, дождавшись ее у калитки.
- Что тебе, Сашка? - устало спросила она, - давай, говори, выварка на огне, вот-вот закипит...
Пришлось начинать без предисловий:
- Мне нужен рецепт лечения рака.
Брови у бабушки Кати удивленно приподнялись:
- Это еще зачем?
- Дедушка у меня заболел, или вот-вот заболеет.
- Типун на язык! - с чувством сказала Пимовна, - Смотри, накаркаешь! Приснилось тебе, али как?
- Нет, - говорю, - не приснилось. Просто вижу, когда беру в руки "Земляничное" мыло. Так будет пахнуть дедушка, когда он умрет. Я приеду за час до похорон и его не узнаю. Гроб будет стоять в большой комнате у окна...
- А ну-ка пошли в хату!
Бабушка Катя схватила меня за руку и потащила во двор. По пути она сняла с огня закипевшую выварку, ошпарила руку брызгами кипятка и коротко матюгнулась.
В стандартной саманной хате ничего, по большому счету, не изменилось со времени моего последнего посещения. Не было холодильника (тогда ни у кого не было холодильников), да не стояла в углу, за легкой перегородкой, походная койка Василия Ивановича Шевелева - героя артиллериста, с которым, лет через пять, Пимовна будет сожительствовать.
- Садись, Сашка, к столу, - строго сказала она и откинула полотенце с широкого блюда, - ешь пирожки. Сейчас я тебе молока стаканчик налью...
- Мне бы рецепт...
- Ешь!
Молоко было с легкой кислинкой, а пирожки... я сразу узнал их фирменный вкус. У каждой хозяйки свои заморочки и маленькие секреты. Даже Прасковья Акимовна - родная сестра моей бабушки - была в кулинарном плане ее антиподом. В домашней готовке, она налегала на сдобную выпечку и супы, картошка и мясо подавались на стол в жареном виде, а "хворост" всегда получался сухим и ломким. Казалось бы, одна школа, но разные направления.
Елена Акимовна часами корпела над кастрюлей с борщом. Картошка толченка была, хоть на хлеб намазывай - сама по себе вкусная. Помнится, она добавляла в небольшую кастрюльку три яичных желтка, стакан молока и добрый кусок масла...
- И давно ты стал видеть... такое? - спросила бабушка Катя.
- Ровно пять дней назад, - честно признался я.
- "Отче наш" ты, конечно, не знаешь...
- Почему это я не знаю? Очень даже хорошо знаю!
- Да ну? - удивилась Пимовна, - может, расскажешь?
Последний вопрос она задала со скрытым сарказмом. Ну кто же поверит, что в нашей стране, где атеизм считался чуть ли ни официальной религией, в голову советского школьника смогут проникнуть слова из Нагорной проповеди?
В общем, я ее скорей напугал, чем удивил. Прочел эту молитву так, как когда-то учила она. С теми же паузами, интонациями и ключевыми словами. Даже катрен о хлебе произнес на ее манер: "надсущный", а не "насущный".
Бабушка Катя сидела, белея лицом, а услышав эти слова, встала, зажгла лампадку и трижды перекрестилась.
- Кто ж тебя этому научил? - сурово спросила она.
Пришлось врать:
- Вы научили. Этой ночью мне снилось, что я приходил к вам за лекарством. А вы мне сказали, что пока я молитву не выучу, дедушке оно не поможет.
- Дала хоть?
- Дали. Литровую банку, накрытую крышкой. А в ней - желтая маслянистая жидкость с запахом чеснока.
- Это другое лекарство, - отмахнулась бабушка Катя. - Оно помогает от наведенной порчи, а я тебе сейчас приготовлю что-нибудь посерьезнее. Когда в твоих видениях Степан Александрович помер?
- Через пять лет и четыре месяца. От рака легких.
- Значит, точно поможет.
Пимовна хлопотала у печки. Сыпала в банку с калиновой самогонкой какие-то снадобья, добавляла настойки из квадратных бутылок с черным стеклом.
- А про меня... в своих снах... ты ничего больше не видел? - спросила она между делом.
- Оно вам надо, бабушка Катя? - чуть не взмолился я, - какой интерес жить, если знаешь, когда умрешь?
- Та-а-ак! - протянула она и подсела к столу. - Ну-ка давай, говори, а то не будет тебе никакого лекарства!
Я впервые взглянул прямо в ее глаза и произнес, чеканя каждое слово:
- Вы ровно одну неделю не доживете до полных ста лет. Если хотите, все расскажу в подробностях: кто вас обнаружил, кто в дом заносил, кто глаза закрывал...
- Значит, я не в доме умру?
- Вы, бабушка Катя, приготовитесь гнать самогон в летней кухне. А заодно затеете стирку, чтоб кипяток из выварки со змеевиком, зря не пропал. И, наверное, забудете спички. Пойдете за ними в дом, по дороге умрете. Будете лежать на спине и удивленно смотреть в небо. Куры столпятся у вашего тела, как цыплята вокруг наседки, но ни одна из них...
- Спасибо тебе, Сашка, - перебила меня Пимовна, - сто лет это много, столько мне и не надо. А теперь, честно скажи: откуда ты знаешь, когда у меня день рождения?
- 1 января 1912 года. Так будет написано на кресте...
Глава 6. Первые сдвиги
По дороге домой, я обследовал содержимое банки и, даже, попробовал на язык. Зелье пахло степным покосом и по цвету напоминало "мужика с топором". Только градус намного солидней. От одной единственной капли, во рту у меня запекло, а в желудке зажглась лампочка. Нет, от такого лекарства ни один мужик не откажется!
- Где взял? - строго спросила бабушка, лишь только я водрузил банку на стол.
- У Пимовны. Я розетку ей починил. Это для дедушки, чтобы бок у него не болел. Столовая ложка из банки плюс стакан молока. Пить натощак. Как он?
- Да все еще спит. Ты уж там не греми железяками, пусть как следует отдохнет.
Я сбегал к почтовому ящику, достал свежую прессу.
Ответным мерам СССР на размещение в ФРГ систем "Першинг-1" там уделялось всего несколько строк. Суть сводилась к переукомплектованию ракетного арсенала, дислоцированного в
Восточной Европе. Морально устаревшие "СС-4" и "СС-5" будут заменены на более новые системы "СС-20" класса "Пионер".
Ну, это уже что-то. Так их, пендосов!
На смоле под погрузкой стояли четыре машины. Казалось бы, пятница - ан, нет, все что-то строят. Я доставал из колодца утонувшие ведра думал о дне завтрашнем. Угостить Вальку Филонову пломбиром по 18 копеек, или жирно ей будет? С одной стороны, моряк, пусть и бывший, должен держать марку, а с другой? Сорок рублей пенсии на троих. Прожить, конечно же, можно, если без шоковой терапии, но экономить надо. Да и шиковать я привык только на свои.
Перед смертью, говорят, не надышишься. За оставшиеся четыре дня столько надо успеть, что голова кругом! Тем не менее, в эту минуту мне хотелось пришпорить время. Пусть или дед скорее проснется, или очередь за смолой рассосется сама собой.
Чтобы хоть чем-то занять себя и оказаться поближе к центру событий, я решил подпушить картошку на островке. С момента моего появления в прошлом, с неба не упало ни капли дождя, и почва в рядках покрылась плотною коркой. Я выбрал тяпку себе по руке, перекинул сходню через протоку и взялся за дело.
Плескалась река, журчала на перекатах. Радужные крылья стрекоз трепетали в зарослях ивняка. На песчаную отмель зачем-то садились пчелы. Все казалось незыблемым, настоящим. Так было, так есть и так будет всегда.
Тяпка была немного тяжеловатой, но я еще в детстве умел работать с обеих рук, поэтому почти не устал. Мне оставалось пройти всего четыре рядка. Я настолько увлекся, что сразу и не расслышал, как кто-то меня окликает.
- Привет, говорю, Кулибин!
Это были мужики со смолы. Войдя по колено в воду, они смывали пот и потеки грязи метрах в трех от меня.
- И вам не хворать! - поздоровался я, пряча тяпку между рядков.
- Что не заходишь? - спросил дядька Петро. - Плитку делать, еще не передумал?
Нет, кое в чем я все-таки изменился в худшую сторону. Куда-то исчезла сдержанная немногословность солидного человека. Сквозь поры моей души проступил хвастливый пацан. Я выложил в подробностях все о действующей модели электротрамбовки: где взял, что сделал, как подключил. Не упустил даже то, что дедушка спит и поэтому я ее еще не успел испытать.
- Неси, - прервал мои словеса Василий Кузьмич, - покумекаем вместе.
Я пулей понесся к сараю, забыв про еще не окученную картошку.
Бабушка стояла возле колодца, разговаривала с сестрой. Она ловко поймала меня на ходу, заправила рубашку в штаны и строго спросила:
- Ты тяпку мою не видел?
- Там она, на островке, - скороговоркой выпалил я пританцовывая от нетерпения.
- Пойди, принеси!
В общем, когда я пришел к сторожке, мужики уже переоделись и готовились принять на грудь. Вареные яйца, сало, черный хлеб и молодой чеснок, были разложены по тарелкам. В ведре с холодной водой ожидали звездной минуты две бутылки "Портвейна" по рубль семнадцать.
Нет, сейчас так не пьют. Верней, не сейчас, а... ну, в общем, вы поняли. На те же, рубль семнадцать, можно было нажраться вусмерть. Бутылка хорошего самогона стоила пятьдесят копеек, домашнее вино - максимум, тридцать. Да только статус рабочего человека не позволял мелочиться. Пили "покупное" вино не для того, чтобы покуражиться, или пустить пыль кому-то в глаза, а просто из самоуважения. И пойло было другим, и люди.
- А вот и Кулибин, - констатировал дядя Вася, - быстро же ты! Правда, что ли, собрал? Ну-ка, Васильевич, тащи переноску. Сейчас испытаем - будет чего обмыть.
Петро отложил в сторону нож, которым только что очищал от соли шмат сала, вытер его об газету и осмотрел конструкцию.
- Шурупы могут не выдержать, - сказал он с сомнением в голосе и придавил комара. - Это у тебя что, эксцентрик такой? Сорвет его, к чертовой матери! Ты бы его эпоксидкой залил, что ли?
Ворча и почесываясь, он проверил соединение и стал выбирать место, которое можно утрамбовать. Вся грузовая площадка была залита смолой, и единственный кусочек сравнительно чистой земли, до которого дотянулась его переноска, был под чумазой, приземистой яблонькой.
Мой аппарат затрещал, и стал деловито постукивать. На поверхности почвы проступила лужица влаги.
- Ни себе хрена! - удивился Культя, - это сколько же надо ручною трамбовкой землю охаживать, чтобы дойти до воды!
- Слабовато! - сказал Петро и стал сматывать провода. - Бут под фундамент эта хреновина ни за что не протопчет, посади ты ее хоть на чугун. Сантиметров пятнадцать песка - это да, в самый раз. Только Кулибин все равно молодец. Ты свой вчерашний чертеж еще не скурил? - он повернулся в мою сторону и весело подмигнул.
- Нет, - пропищал я.
- Вот и отлично. Тащи-ка его скорее сюда.
Я вернулся минут через пару минут. Протянул тетрадный листок с эскизом и чертежами. Петр Васильевич внимательно его осмотрел, как будто бы раньше не видел, кое-что уточнил:
- Это что за хреновины в месте крепления ручки?
- Сайлентблоки от "Москвича". Ну, втулки такие, резиновые, чтоб не сушило руки.
- А колеса зачем?
- С места на место переезжать.
- Лишнее... колеса здесь не нужны. Они усложняют конструкцию и будут ломаться в первую очередь. Проще плиту с двух сторон закруглить.
- Можно и так, - согласился я.
- Нет, ты видишь, Кузьмич, - вдруг засмеялся Петро, - какой толковый пацан? "Можно и так", говорит!
Что-то, наверное, с этой фразой было у них связано.
Мужики беззлобно захохотали. В другое время, я бы обиделся и ушел. Сейчас терпеливо ждал, хоть, честно сказать, не знал, куда себя деть. Сам виноват. Нужно было им отвечать с поправкой на возраст.
Вечерело. Шальной ветерок бережно перебирал гроздья зеленой глючины. На деревянном столбе истошно орала горлица: "Че-куш-ку! Че-куш-ку!"
Увидев, что я заскучал, дядя Вася тряхнул меня за плечо:
- Не обижайся, Кулибин. Просто Семен Михайлович, начальник грузового участка, тоже всегда говорит, "можно и так".
- Надумаешь делать плитку, - сказал, отсмеявшись, Петро, - про мыло забудь. Это дело такое: с концентрацией не угадаешь - все прахом пойдет. Немцы, в таких случаях, добавляют в раствор кровь. Специально привозят с бойни. Так что, будет бабка цыпленка рубать, ты не зевай. На наше оцинкованное ведро - четыре-пять капель. И не надо армировать.
Я ушел с пустыми руками. Трамбовку с эскизом Петр Васильевич придержал у себя. Сказал, что "надо мараковать". Я не мог предсказать его дальнейшие планы. Для меня этот человек был загадкой. Память о детстве хранит все, а он почему-то в ней не удержался. Наверное, близко не сталкивались. Не было в нем ни ярких примет, ни внешней харизмы. Не привлек он мальчишеского внимания.
Бабушка ковырялась на островке. Сквозь заросли ивняка, мелькал ее белый платок. Я перешел через речушку вброд, на всякий случай, спросил:
- Дядя Петя, а кто он такой? Почему я его раньше не замечал?
- Петька то? Оттого и не замечал, что он из Москвы недавно вернулся. На заработки ездил, за длинным рублем. Это кум Василия Кузьмича. Он на смоле давно, но больше наездами.
Она уже подпушила оставшиеся четыре рядка и теперь собирала в кучку, срезанные мной кустики молочая. Это, конечно, сорняк, но куры любят его на драку. Больше, чем коты валерьянку.
Я хотел еще что-то спросить, но бабушка перебила:
- Иди, там тебе дед приготовил работу.
Во дворе меня ожидали два ведра кукурузы в початках и четыре снопа проса. Ну да, впереди воскресенье, базарный день. Деду нужно успеть навязать веников. Сам он сидел у входа в сарай и готовил лозу. Каждый побег вербы нужно было расщепить надвое, выбрать ножом сердцевину и запарить в ведре с кипятком. Только тогда вязки на ручках обретут благородный коричневый цвет, а сам веник будет похож на тот, что рисуют художники в своих иллюстрациях к сказкам.
Я в таких случаях не заморачивался. Провязывал ручку белой полипропиленовой нитью. Вид, понятное дело, не тот, но на качестве это не сказывалось. Главное - скорость. Вязать приходилось в количествах, приближенных к промышленным. Семь КАМАЗов сырья с гектара - это вам не хухры-мухры.
Была у меня приспособа и для очистки семян с веничья - полый большой барабан, с наваренными на поверхность гвоздями, кусками прутка и прочим железным хламом, сидящий на электрическом двигателе. Я включал его в сеть, семена, под своей тяжестью, ложились на барабан и, соприкасаясь с ребристой поверхностью, разлетались в разные стороны. К концу рабочего дня, по двору было трудно ходить. Ноги вязли в густом, красно-коричневом слое. Вечером приезжал знакомый мужик, и выгребал все под метелку. Он разводил бройлеров в подвале своего дома и тоже "ковал железо, пока горячо" - вдруг, передумаю? Ведь никто, кроме меня, не дал бы ему и ведра бесплатного корма.
Дед работал еще по старинке: в основе - железная полоса из проволоки-катанки, на брезентовом ремешке - деревянная ручка, с пробитой понизу точно такой же проволокой. Вставил в раскрытый зев пару метелок, придавил, потянул на себя.
Я делал эту тупую работу, и вспоминал о будущем. Был в моей жизни долгий период, когда только веники и помогли выжить.
Лет через тридцать пять, меня научит этому ремеслу дедушка Ваня, мой родственник и сосед, после смерти бабушки Паши, оставшийся бобылем. На зиму он уезжал к дочери в Сочи. Запирал изнутри все двери, прыгал через забор - и на вокзал. И в восемьдесят лет прыгал, и в девяносто, и в девяносто пять.
Возвращался он в конце марта. Забирал у меня своего Шарика - помесь дворняжки с болонкой, и начинал зарабатывать деньги. Кормился от земли. Для начала выкапывал в огороде луковицы тюльпанов, собирал в пучки молодой укроп, доставал с чердака пару веников прошлогоднего урожая, грузил в тачку и отвозил на базар. Случая не было, чтоб не продал. Там тоже не зевал. Увидит косу без ручки, купит за пять рублей, дома "сгандыбачит" косьё, на следующий день продаст за червонец. Что только ни выпускала его домашняя мастерская! Ручки для топоров и напильников, приспособы для кос и граблей, кисточки, ящики для посылок, веники, растительное масло. Ну, да, вы не ослышались, растительное масло.
Водил дедушка Ваня дружбу с директором маслозавода и ежегодно, в качестве благотворительной помощи ветеранам войны,
получал от него машину отходов - семечковой шелухи. Ко двору подъезжал самосвал - мечта оккупанта, и вываливал кучу добра возле его калитки. Не ему одному привозил, а всем ветеранам и работникам МЭЗа, имевшим приусадебные участки. Это идеальное, экологически чистое удобрение. Разбросаешь слоем по огороду, за зиму отходы перегниют, и земля обретает плодородие целины.
Получали то помощь многие, но не каждый имел хозяйскую жилку. Иван Прокопьевич лучше других знал, что наряду с шелухой, мелкими камешками кусочками листвы и будыльев, конвейер отбраковывает и, сросшиеся между собой, "обоймы" из крупных семечек. Он пропускал сырье через несколько разнокалиберных сит, провеивал его на ветру и добывал в итоге, два с половиной мешка полноценной ядреной семечки. Потом он сдавал добычу на частную маслобойню в обмен на молочную флягу ароматного масла и полмешка жирной макухи. Какую-то часть хабара дед оставлял себе, остальное шло на продажу.
С нее, с этой странной дружбы пенсионера с директором крупного предприятия, и началась моя смычка с землей.
Была мечта у Ивана Прокопьевича - посадить гектар веников. Он лелеял ее все девяносто семь с половиной лет, что были ему отпущены на грешной земле. Не срослось у него. Не было в те времена столько бесхозных земель. И решил он тогда хоть посмотреть, как выглядит этот гектар со стороны. Уболтал, короче, дедушка Ваня директора МЭЗа на авантюру. Посидел тот с карандашом, прикинул все риски, возможную выгоду и сдался.
Из-под каждой колонки цифр перла рентабельность.
С деньгами у меня было в то время никак, хоть пахал я на трех
работах. Газета была на грани банкротства. Учредитель изъял денежки за подписку и приказал долго жить. Приходилось мотаться по городу, но в поисках не материала, а спонсоров. На телевидении, денег почти не платили, как, впрочем, и в управлении культуры. Ничего, кроме престижа, мои должности не приносили. Я уже начал подумывать, не вернуться ли мне к ремонту автомобилей, но вечером пришел дед Иван и потребовал помощи. Мол, надо вязать
веники. Он никогда ничего не просил. Всегда говорил "надо!"
- Я ж не умею, дедушка Ваня!
- Ничего, набирать будешь. А как - я покажу. Дело срочное,
каждый день на счету.
Надо так надо. Плюнул я на производственные дела, мы сели на велосипеды и, где-то к семи утра, были на территории МЭЗа.
Там уже собрались несколько вольных старателей, выбирали удобное место, прилаживали станки.
Мы с дедом расположились около тракторной тележки, сходили в гараж за сырьем, принесли по охапке.
- Вязать будем до обеда, - сказал мой наставник, - четыре веника в склад, пятый - наш. Поэтому работаем быстро. Смотри и запоминай: прутья нужно равнять в ладони. Сначала клади мелочь, около семи штук, потом обложи их по кругу крупной метелкой. Заготовка будет готова, если метущую часть уже невозможно удерживать в жмене. Передавай ее мне, понял?
И дело пошло почти без простоев. Нет, лично я мог позволить себе выкурить сигаретку-другую, но на общем процессе это не сказывалось. Пока набирался третий пучок, дед Иван надрезал с одной стороны первые два, соединил их между собой и начал формировать ручку.
Станок для вязания веников представляет собой длинный кусок сыромятной кожи с деревянной педалью внизу. Обхватил заготовку петлей - ногой придавил - провязал. В принципе, ничего сложного, если иметь в руках и ногах чувство меры. Ну, и кроме того, есть в каждом ремесле свои подводные камни. Их постигаешь только в рабочем процессе, исподволь. Ручка должна быть удобной в обхвате, но сгонять ее толщину нужно не пожарными темпами, а ступенчато, поэтапно, с присутствием головного мозга, удаляя из будущей середины не более трех прутков. Вязка должна не врезаться в ручку, не болтаться на ней, а надежно обхватывать и, даже, слегка пружинить. Идеальный вариант для нее - ивовый прут. Но если работаешь на хозяина, это уже извращение. Все остальное для избранных. Веник нужно запарить, замочить в соленой воде, чтобы гнулся на круг с любой стороны и служил не недели, а годы.
Все это я освоил потом, а тогда, в первый рабочий день, всего лишь, нахватался верхушек.
- Хватит! - сказал дед, когда я набрал очередную жменю сырья. - Теперь становись на вязку, а я начну прошивать.
Он, как оказалось, не только работал, но и вел точный подсчет тому, что уже сделано. А если копнуть глубже, воплощал в жизнь норматив, просчитанный им заранее, с учетом производственной мощности нашей бригады. Даже запасная игла и вторые ручные тисочки нашлись в его брезентовой сумке. И я тоже сел за прошивку, когда довязал и обрезал последнюю ручку.
Дед все рассчитал правильно. За пятнадцать минут до обеда, мы предъявили кладовщику ровно полсотни веников. Сорок из них отдали ему, остальные забрали домой.
Работы на МЭЗе хватило на пять дней. Мы брали свою норму и уходили. Остальные бригады вязали до вечера, поэтому сырье так быстро закончилось.
Я, честно сказать, на оплату труда не претендовал. Какие могут быть деньги за помощь? Но вечером воскресного дня, снова пришел дед и сказал, что надо вязать, что материал "тяжелый" и один он не справится. Прощаясь, спросил:
- Тебе деньги сейчас, или потом, кучкой?
Да сколько там, думаю, тех денег! Сказал, что потом.
В понедельник с утра я отметился на работах, выслушал несколько невыразительных "фэ", получил триста рублей суммарной зарплаты, а когда вернулся домой, не смог подойти ко двору. От калитки до владений деда Ивана все пространство было забито развалами веничья. Его даже не собрали в снопы, потому, что это был неликвид - сырье, от которого отказались вязальщики.
То, что обычно называют метелками, было самых уродливых форм - скручено, вывернуто, заломлено.
Глядя на мою унылую рожу, дед успокоил:
- Тут делов-то на один чих! Кое-что придется замачивать. Остальное запхаем силком!
В общем, сладили мы и с этой напастью. Вот тогда-то я и постиг изнутри высший пилотаж мастерства. На мой просвещенный взгляд, веники получились не очень красивыми, но зато не мели, а пели.
Дней через пять, Иван Прокопьевич притащил деньги. Их было много, целых две с половиной тысячи. Насладившись моим изумлением, он убил меня наповал:
- Остальные отдадут завтра. Вечером принесу.
В общем, так: за неполные две недели моей помощи деду, я получил больше, чем за год пахоты на трех уважаемых должностях.
Можно было ехать за матерью.
Ее увезли в "психушку" две недели назад. Я в это время находился в командировке - освещал ход демократических выборов в одной из отдаленных станиц. Мамка уперла на островок телевизор и холодильник, стулья и стол, обложила все это своей одеждой, облила соляркой и запалила. Что там рвануло? - не знаю. То ли кинескоп в телевизоре, то ли фреон в холодильнике. Слава богу, она к тому времени ушла с островка - отлучилась за новой порцией горючего материала. Когда ее "накрывало", а это случалось осенью и весной, в период беспрестанных дождей, в ее тело вселялась такая силища, что просто диву даешься.
Кто-то из соседей позвонил брату. Тот прислал на место события скорую помощь с нарядом милиции, и мамку определили в закрытый стационар станицы Удобной, больше напоминавший тюрьму.
Я приехал туда с Серегой Журбенко, на, тогда еще, новой "Ниве". "Заключенные" гуляли по двору, окруженному сеткой рабицей метров пяти высотой. Все были в казенных пижамах мышиного цвета. Какая-то лихая бабуся, по виду "смотрящая", сначала стрельнула у меня закурить, а потом выцыганила всю пачку.
Минут через десять вывели мать. Она была потухшая и худая, стрижена на лысо. В застывших глазах застыло смирение и покорность. И тогда я поклялся себе: что б ни случилось, какие бы коленца она не выкидывала, ни в какой "лечебный" стационар я больше ее не отдам.
На придорожном рынке я купил ей конфет, пирожков и сладкой воды. Она ела и плакала, а я думал о том, что за матерью нужен постоянный догляд, что с моей собачьей работой я все реже бываю дома, что веники, если сеять их не меньше гектара, позволят убить сразу двух зайцев. В идеале бы было привести в дом нормальную бабу. Да только какая ж нормальная баба согласится войти в дом, где живет такая свекровь?
В конце октября дедушка Ваня стал усиленно продавать свою половину дома. Он делал это и раньше, чисто из спортивного интереса, чтобы поторговаться. А тут... дело дошло до серьезного. Из Сочи приехала тетя Лида. Я, как "первый покупатель", был поставлен в известность, что дом будет "типа продан", что здесь будет жить младшая сестра ее мужа. Типа - в смысле того, что деньги поступят на счет, но для широкой общественности она ничего не купила, а будет типа досматривать деда.
Никаких претензий, ни финансовых, ни моральных, я не имел.
Той же зимой прикатила из Казахстана фифа в темных очках - вдова профессора и бывший директор ювелирного магазина. При знакомстве со мной, с ее "фамильного" носа упали очки:
- Да?! Это наш родственник?!
Это была кулёма чистой воды. Всю зиму она занималась херней: резала на тонкие полосы рулон туалетной бумаги, а потом, через равные промежутки, наклеивала на них семена морковки. Завела себе большую собаку - породистого кавказца. Держала его на привязи, не выводила гулять и каждый день била за то, что он "срет во дворе". Когда пес первый раз огрызнулся, наняла соседских бомжей, и они закололи его на мясо. В огороде и комнатах развела такой срач, что муж тети Лиды - родной ее брат, приехавший навестить сестру, предпочел ночевать в машине.
Когда по весне дед Иван приехал из Сочи, сразу же забастовал:
- Нет! В этом доме я жить не буду!
Пришлось тете Лиде покупать ему веселую, аккуратную хатку в одной из окрестных станиц. К хатке прилагался огромный, по нашим меркам, участок земли. Старик снова расцвел и постепенно довел свои плантации сорго до половины гектара. Как у него было со сбытом? - этого я не знаю. Но рынок - он и в Африке рынок, и никто лучше деда Ивана не умел договариваться.
Пару раз он приезжал ко мне, такой же порывистый, сухой и поджарый. В свою половину даже не заходил. Сидел на кухне, пил чай, придирчиво рассматривал веники, произведенные мной, делал мелкие замечания.
- Эх, пожить бы еще! - говорил он, прощаясь, - интересно было бы знать, чем все это дело закончится?
Под "всем этим делом", он имел в виду нашу страну.
Страшная цифра сто, к которой он подбирался вплотную, убивала его морально. Он готовился к ней, как к рубикону, через который не перешагнуть. На мой беспристрастный взгляд, с его образом жизни, лет двадцать сверх нормы, он бы запросто протянул. И убила его не смерть, а постоянные мысли о смерти. Это случилось, когда дал дружные всходы мой первый личный гектар...
Я чистил дедово веничье, и непроизвольно, раскладывал его на три кучки: мелочь, средний размер, "крупняк". Сырье было так себе. Все лучшее выбрано еще осенью, когда покупателю есть из чего выбирать. Сейчас же и это отлетит по рублю. До нового урожая еще далеко. Товар деда Степана тоже никогда не залеживался, хоть бывал он на рынке редко, исключительно с вениками. Это у меня были вечные проблемы со сбытом. Сдавал одному барыге за полцены. Зато оптом, в любое время и без пропарки.
До ужина я успел выполнить поручение. Кукуруза была порушена, перемолота ручной мельницей и высыпана в ведро.
Рабочее место подметено. Дед вынул из кошелька мятый рубль, добавил немного мелочи:
- На! Купишь невесте мороженое.
За столом бабушка не могла нахвалиться, "какая я" у неё "вумница" и как хорошо подпушил картошку. Дед молчал и довольно хмыкал. А мне почему-то подумалось, что тому, кто придет на мое место, будет несладко. Слишком уж высоко я задрал для него планку.
Работа по дому не заканчивалась никогда. Из нее вычленялось самое неотложное, остальное переносилось на завтра. Дел еще было много: полить огород, опрыскать виноград от вредителей, прополоть наш участок "в поле", где после минувших дождей все заросло осотом, сурепкой и ползучим пыреем, еще - навязать веников, вывезти их на базар, продать, если повезет. И это с учетом того, что завтра к одиннадцати я собираюсь в кино, а в воскресенье с утра, у деда дневная смена, нужно просить отгул.
Текущие планы всегда обсуждалось за чаем. Справедливости ради, стоит сказать, что меня, как работника, не брали в расчет. В нашем небольшом коллективе, я в то время считался отстающим звеном. "В поле" меня брали скорей для того, чтобы был на глазах и во время пообедал. Дед обрабатывал три рядка за прогон, бабушка два, а я и с одним не мог угнаться за ними. В сорняках совершенно не разбирался. Поминутно спрашивал, что рубить, а что оставлять? А когда припекало солнце, начинал потеть и чесаться. Через каждые двадцать минут, ходил к роднику за водой, которую сам же и выпивал.
На домашних "летучках" я обычно молчал. Поэтому дед несказанно удивился, услышав мое предложение:
- А давай, мы сейчас с бабушкой начнем поливать огород, а ты - опрыскивать виноград. Я буду перетаскивать шланги, качать для тебя насос. Глядишь, до темноты и управимся.
Наверное, мои старики разобрались бы и "без сопливых". Во всяком случае, огород бы точно полили. Но что-то заставило их поверить в этот порыв, искренне желание помочь.
Я летал как на крыльях, старался поспеть везде. Прыгал на насос всем своим телом, пока ручка не начинала держать меня на весу. Сколько во мне было? - килограмм тридцать пять? Ничего, подрастем. Скоро приедет мама и, будущей весной, отвезет меня в Армавир, вырезать гланды. Я сразу пойду в рост и быстренько наверстаю упущенное. А уже к середине лета на плечо мое ляжет первый мешок цемента.
Когда мы пошабашили, было еще светло. Из потаенных мест вылетели летучие мыши. Напоенная почва делилась с ними прохладой. Я проложил шланг к молодой раскидистой груше. Деревце встрепенулось и откликнулось благодарною дрожью.
Глава 7. Бес в ребро
Без десяти одиннадцать я уже заходил в фойе единственного в городе кинотеатра "Родина". Стоял он, естественно, как и положено в наших краях, на улице Красной. Клубов, домов культуры, где тоже крутили фильмы, было у нас навалом, а кинотеатр один "В кино" приглашали только сюда.
Его сожгут в конце девяностых два брата, два лихих бизнесмена, чтобы освободить ходовое место для своего киоска "Табак". Только где-то в их бизнес-плане случится просчет. Обоих завалит потом из охотничьего ружья бывший муж их младшей сестры, которого оскорбленные братья старательно сживали со света. Он сделает это прилюдно, в разгар торгового дня, на центральном продовольственном рынке, умудрившись больше ни в кого не попасть. Блаженны те, кто не знает свою судьбу.
Долго еще будут мозолить глаз закопченные стены, стыдливо задрапированные рекламой. Потом их снесут и на скорбном месте
разобьют нечто вроде садика дзен, а читатели нашей газеты все еще будут задаваться вопросом: "Когда восстановят?" Пришлось отвечать, что когда будет восстановлена наша Родина, будет восстановлен и кинотеатр с "одноименным названием".
Примерно в это же время, но в прошлой своей жизни я был в этом фойе. Только купил один билет, а не два. Фильм был тот же самый, "Неуловимые мстители". Даже фотки рекламного стенда не отличались от оригинала. Яшка цыган с ножом, в позе завзятого бандюка. Я тогда, помнится, думал, что это отрицательный персонаж.
Сеанс был на одиннадцать - десять. В то, что Валька не опоздает, мне почему-то не верилось. Время лениво текло, карало предполуденным зноем. Потенциальные зрители спасались от жары
под матерчатыми навесами, раскинутыми в месте постоянной стоянки большой желтой бочки-прицепа с лаконичной надписью "Пиво". К своему удивлению, я увидел там Петра со смолы в компании какого-то невзрачного работяги. Они деловито сдували пену из рифленых стеклянных кружек и о чем-то оживленно беседовали.
Дядя Петя выглядел боссом. Был он в бежевых наглаженных брюках и белой рубашке навыпуск.
По другую сторону бочки смаковала свое пивко дурочка Рая - наша местная достопримечательность, тогда еще моложавая тетка с габаритами шпалоукладчицы. Она была типа юродивой. Ходила всегда в сатиновых шароварах и цветастой мужской рубашке с засученными выше локтей рукавами. Рая всегда бесплатно ходила в кино. Ее законное кресло в зрительном зале никто, на моей памяти, не занимал. Да и кассиры никогда не продавали билет на седьмое место в первом ряду. Еще Рая бесплатно ездила на автобусах, даже междугородних. А вот за пиво, водку и папиросы платила всегда. Был в ее слабоумии такой непонятный пункт. Развлекалась "достопримечательность" тоже всегда одинаково. Встретит вальяжную семейную пару и давай приставать к мужику: "Что ж ты, подлец, обещал жениться и обманул?!" От Раи можно было спастись только бегством.
Вальку Филонову я увидел случайно. Почувствовал спиной ее настороженный взгляд. Она стояла у ящика тетки мороженщицы, и жрала, падла, пломбир. Если бы не эти глаза, я бы нипочем ее не узнал. Пышные желтые волосы обрели, наконец, свободу и были пущены с плеч в вольный полет. И как она умудрялась их заплетать в два куцых мышиных хвоста?! Разительные перемены произошли и в Валькином гардеробе: синее, расклешенное платьице до колен, белая блуза с кружевными манжетами и круглым воротничком. Под ней откровенно просматривался бюстгальтер. Но что самое интересное, кое-где по ее личику фрагментарно пробежалась косметика. Вот тебе и бабка Филониха!
Валька держала пломбир аккуратно, двумя пальчиками. Но так, чтобы я сразу увидел, белое металлическое колечко с синим граненым камушком. Естественно я к ней подошел, хотел протянуть руку, но, поняв двусмысленность жеста, спрятал ее за спину и покраснел.
- Что, хочешь мороженого? - ехидно спросила она.
- Не хочу, - отозвался я. - Слопал уже две порции, пока тебя дожидался. Пошли, что ли? Скоро первый звонок, в зал уже запускают.
- Пойду. Если скажешь, зачем ты меня пригласил?
Вот дура! Хотела загнать в тупик старого ловеласа! Я мог бы повесить ей на уши четыре тонны лапши, но, подумав, решил отпускать только скрытые комплименты. Целомудренность отношений превыше всего.
- Зачем пригласил? - переспросил я и сделал пристрелочный выстрел, - а затем, чтобы ты хоть что-нибудь сделала для меня. Хотя бы пришла.
Валька прожевала услышанное, наконец, проглотила и опять разродилась вопросом:
- Почему ты сказал, что я на артистку похожа?
- А на кого же еще?! - я тупо посмотрел на нее и, даже, пожал плечами, всем своим обликом говоря: "Дура, что ли?! Не понимаешь?"
Филониха промолчала. И я понял, что "зачтено".
- И что же во мне такого уж артистического? - жалобно спросила она.
- Потом расскажу, - я схватил ее за руку и потащил в фойе, - пошли, а то опоздаем!
И она снисходительно затопала позади.
Мы пробирались к своим местам в полностью заполненном зале. Приходилось протискиваться в узком пространстве между людских колен и спинками предыдущего ряда. Я поминутно бормотал: "Извините!"
Услышав шевеление за спиной, дурочка Рая встала, окинула зал внимательным взглядом и сказала, засучив рукава:
- Встаньте, падлы! Королева идет!
Это было, наверное, самое-самое, что Филонихе запомнилось сегодня в зрительном зале. Нет, фильм ей точно понравился. Во всяком случае, я впервые услышал, как Валька смеется - искренне и расковано. Я тоже, еще раз, пересмотрел "Неуловимых" и подумал, что настоящие киногерои не умирают. Их передают по наследству следующим поколениям.
Час пролетел незаметно. Нас подхватила людская волна и вынесла из кинотеатра. Я цепко держал "королеву" за руку, чтобы не потерять.
Мы перебрались на другую сторону улицы, где Валька опять стала приставать со своими глупостями:
- Так что же во мне артистического?
Кому что, а барыне - зонтик!
- Глаза, - сказал я, - твои глаза. Ты можешь молчать, они все за тебя скажут. В театральном училище такому не учат. Это природное. Оно или есть - или нет. А еще губы. Целовал бы такие
всю жизнь, да еще не умею.
Уже и не помню, когда я в последний раз так вдохновенно врал.
- Да?! - неизвестно чему удивилась моя королева, - И что же мои глаза тебе сейчас говорят?
- Они сожалеют, - подумав, ответил я, - что только один пацан внимание на них обратил. Да и тот маленький и невзрачный, но ты...
- Ой! Мой автобус! - неожиданно всполошилась Валюха.
Я замолчал, сбитый с толку и с мысли, а она чмокнула меня в щеку и упорхнула в сторону остановки. Вот падла! Не поймешь этих баб.
Гнаться за ней я, понятное дело, не стал. Не стариковское это дело, да и ноги не шли. Щеки горели. Что интересно - обе. Люди обтекали меня с обеих сторон, толкали локтями, а я ничего не чувствовал. Стоял, как стамуха в судоходном ледовом канале и улыбался. Ох, черт побери, как хотелось тряхнуть стариной!
Я нес ее поцелуй до самого дома. Обратный путь пролегал по "вражеской" территории. Но никто из пацанов не остановил, не сказал "дай двадцать копеек", не потребовал закурить, чтобы потом набить морду. Можно сказать, и тут повезло.
Дед закончил уже пропаривать веники, выставил их сушиться: вдоль забора, на ручки, метелками вверх. Хорошо, что у нас только одни соседи, и те родственники. А вот Ивану Прокопьевичу в этом плане не повезло. Его участок граничил забором с домовладением Пимовны. И этим все сказано.
Есть такая примета в кубанских станицах: если веник поставить у двери, метелкой вверх, то ни одна ведьма в дом не войдет. А если она уже находится в доме, то ни за что не выйдет. Вот тогда-то, можно смело брать ее за хипок и требовать от нее все, на что колдунья способна: чтобы порча и сглаз обходили семью стороной, чтобы корова доилась на зависть соседям, чтобы дочь вышла замуж за богатого и непьющего мужика.
Баба Катя считала себя православной народной целительницей. Она посещала церковь, соблюдала посты. Поэтому ей были обидны
намеки даже в виде одиночного веника, стоящего вверх ногами. А тут сразу полста! Стоят вдоль межи и колют глаза.
Проснешься, бывало, еще до рассвета, выйдешь в деревянный сортир по малой нужде. Глядь, а вдоль соседской ограды свечка плывет в воздухе, и голос бабушки Кати: "...и остави нам долги наша..." Тут уж ежу понятно: быть нынче днем большому скандалу. Ох, и любила Пимовна поругаться с соседями! Особенно, когда выпьет. Пила она редко, но так, чтобы все знали. Когда никого не встретит на улице, отвязывалась на меня.
Ремонтирую как-то калитку, ведущую на островок, столб опорный меняю. И тут она:
- Что, чернокнижник, все копаешь, колдуешь?!
После смерти дедушки Вани, я у нее стал "чернокнижником".
Ну, я-то бабушку Катю знаю лучше других. Надо, думаю, подыграть:
- Ах, ты ж, - говорю, - старая сука! Да я тебе этот столб в могилу вобью!
Поорала она, покуражилась, отвела душу и была такова. Разыграли мы с ней, короче, спектакль. Через двадцать минут приходит:
- Сашка, пошли вмажем!
А почему бы не вмазать? Из тех, что жили на нашей улице, когда я ходил в школу, трое нас всего и осталось: я, она и бабушка Зоя - вдова дядьки Ваньки Погребняка. Кто помер, кто уехал из города, кто перебрался в другой район, где вода нашей речушки по весне хату не заливает.
Нет, чтобы там не болтали соседи, а хорошая была бабушка Катя! Штучный товар, истинная казачка, сейчас таких не бывает.
Это ведь, на моих глазах сын ее, Лешка женился. До сих пор вспоминаю: не история - песня про настоящую женскую солидарность.
Дело было давно. Если мерить нынешним временем, на будущий год, по весне. Леха тогда институт закончил, уехал строить дороги. Неделями пропадал.
Сижу я как-то на тутовом дереве, возле ее двора, живот набиваю. Смотрю: девушка молодая в калитку стучит, бабушку Катю зовет. Простенько одета, по-деревенски.
- Здесь, - спрашивает, - Леша живет, высокий такой, кудрявый, красивый?
- Здесь, - отвечает Пимовна, - это мой сын. А ты по какому вопросу?
- Беременна я от него...
Ну, себе думаю, попала деваха, как кур в ощип! Сейчас ей будет рассказано, кто она есть, и прочему маме и папе не надо было этого делать.
Только ошибся я. Бабушка Катя, вдруг, всплеснула руками и почему-то заплакала. Обнимает девчонку, целует:
- Да ты ж моя доченька! Да ты ж моя милая! Да пойдем же скорее в хату! Да пошел ты, проклятый! - и кобелька калошей под зад, чтобы в будку шел, не путался под ногами.
А будущая сноха... та и сама не верит, что встречают ее, как родную. Конфузится, ждет подвоха. Идет, как сапер по минному полю.
Притих я на нижней ветке, будто застигнутый на чем-то постыдном. Мне сквозь окошко все видно, как в телевизоре. И стол, и красное место, на которое девчонка присела. Екатерина Пимовна вокруг нее увивается: на стол накрывает, тащит наряды из сундука, шкатулку с серьгами и бусами...
Душой чую: нехорошо чужую жизнь препарировать. Надо тикать. Только подобрался к стволу, бабушка Катя во двор вылетает, да бегом во времянку. Тут же назад - тащит в руках две трехлитровые банки с солеными огурцами и помидорами. Я, было дело, с дерева - она к колодцу с ведром, а сама плачет.
Все, - думаю, - попал! Но тут, слава богу, Леха нарисовался в самом начале проулка.
- Мамашка! - кричит, - я премию получил!
Идет, стало быть, Леха с портфельчиком, в бежевом костюмчике с искоркой, в туфельках "Нариман", что у нас в КБО шьют. Ну, еще бы - начальник участка!
Увидала его "мамашка", уронила ведро в колодец, спиной передернула - и во двор. Схватила поганый веник, которым сметала куриные говны, сын только в калитку - она его, этим веником, в харю:
- Ах, ты ж кобелюка проклятый, подлец, сукин сын! Женись, падла! Сей же час собирайся в ЗАГС, или в дом ко мне ни ногой! У меня теперь дочка есть. Будем с ней моих внучек кохать.
И точно! Принесла Лешке Любаха двух девчонок близняшек. Так в одночасье закончилась его холостая жизнь.
Нещадно палило солнце. Дед ушел на работу, просить отгул. Бабушка в тени виноградника ощипывала цыпленка. Я пообедал, походил по двору, не зная, куда себя деть. От нечего делать, налил в банку солярки и стал отмывать от смолы лист нержавейки. За этим делом меня и застукал Витька Григорьев. "Поуркал", поздоровался и спросил:
- Ты че на улицу не выходишь?
- И пра, - вставила слово бабушка, - сходили бы вы на речку, ополоснулись.
- Ладно, погнали...
Тропинка петляла вдоль плетней и штакетников, тополей и плодовых деревьев. Там вишню сорвешь на ходу, там яблоко. Не вскапывали еще придомовые участки, не сажали картошку на уличных огородиках.
- Ты чо, в Филониху врюхался? - спросил, между делом, Витек.
- Была лахва! - отнекался я, и сплюнул.
Не хотелось ему говорить о своих внутренних побуждениях, все одно не поймет. А тут еще вспомнилось, что осталось всего три дня из тех, что отпущены мне. Как мало я, по большому счету, успел! А ведь нужно еще сдать бабушке Кате дядьку Ваньку Погребняка, может, успеет вылечить; предупредить Раздабариных, чтобы за младенцем следили. Он, как ходить начнет, останется без присмотра и в нашей речушке утонет...
- Вчера по дворам ходили, - просветил меня Витька, - записывали в новую школу...
Во, кстати, напомнил!
- Ты Наташку Городнюю знаешь? - перебил я его.
- Ту, что жила на соседней улице? - с подозрением в голосе уточнил мой дружбан.
- Ну, да, Наташка из параллельного класса. Толстая такая, носатая. А почему "жила"?
- Так уехали они с матерью позавчера. Родители развелись - они и уехали. Говорят, что в Медвежьегорск. А че ты спросил?
- И братика младшего увезли?
- Ну да, а че ты спросил?!
Витька встал, сжал кулаки и повернулся ко мне. Не зря пацаны говорили, что он по Наташке сох.
- А ты тогда че про Филониху спрашивал?! - наехал я на него, в качестве оправдания.
Но было уже поздно:
- Крову мать! - возвопил Казия, пуская правую руку в свободный полет.
Нет, кое-что из моих уроков, пошло для него впрок. Это было бы очень похоже на классический боковой, если бы Витька сподобился хоть как-то, держать защиту.
Я хотел, было, сунуть ему ответку, но передумал. Просто шагнул влево, нырнул под кулак, поймал на излете другую руку и завернул ему за спину. Мой старый дружбан оказался в позе бича, собирающего окурки. Ему было больно.
- Крову мать! - сдавленно прохрипел он, - пусти, падла!
Мне ничего больше не оставалось, как развернуть его, курсом на ближайший забор и сунуть носом между двух соседних штакетин. Иначе, быть рецидиву.
- Я тебя не про Наташку спрашивал, а про ее младшего брата.
- Крову мать!
Пришлось пару раз повторить и слова, и всю процедуру в целом. Наконец, прозвучало осмысленное:
- А че тебе ее брат?
Вот таким он всю жизнь был: психовал ни с того, ни с сего. Глядишь, через пару минут - опять человек.
Я отпустил его руку. Витька присел, потирая плечо, сказал "крову мать", поднялся и зашагал прочь. Это он типа обиделся. И бес толку его догонять, что-то там говорить - Григорьев будет высокомерно молчать, брезгливо дергать плечом и громко сопеть. Да и, честно сказать, мне было не до него.
Нет, честное слово, Витек меня ошарашил. Убойная новость о том, что Наташка Городняя умотала из города, еще раз крепко встряхнула канонический мир моего детства. Дело, впрочем, совсем не в ней, а именно в младшем брате, которого я живым ни разу не видел. Впрочем, и мертвым тоже, ведь его схоронили в закрытом гробу.
В моей прошлой жизни этот пацан погиб первого сентября, во дворе новой школы. Там, впервые в истории нашего города, клали асфальт, естественно собралось много зевак, и кто-то его случайно толкнул под каток.
Может, все суета? - подумалось мне, - и нет на Земле никакой предопределенности? Даже пять шаров "Спортлото" выпадают из барабана с разным набором цифр. А тут... три с половиной миллиарда человеческих судеб, и у каждой свобода выбора. Может, смертельный недуг это следствие, а не причина и у дядьки Ваньки Погребняка все сложится по-другому? Пусть все идет, как идет. Неблагодарное это дело - быть предсказателем. Кто-нибудь точно морду набьет, скажет, что сглазил.
- Так че тебе ее брат? - Григорьев вынырнул из переулка и продолжил прерванный разговор. Если бы не этот вопрос, полное впечатление, что он напрочь забыл о нашей минувшей ссоре.
- Да так. Он мне двигатель обещал от старой стиральной машинки, - соврал я, как можно правдоподобней.
- Он много кому... - начал, было, Витек, и подозрительно быстро заткнулся. - Так куда купаться пойдем? Все наши сейчас на заставе.
- Упаримся. Туда пилить далеко. Давай на глубинку.
Мы перешли через мостик, выложенный железнодорожными шпалами, не сговариваясь, повернули направо. Этот берег реки был солнечным, пляжным. По другой ее стороне шли заборы, плетни и деревянные мельницы. Там начинались, вернее, заканчивались соседские огороды.
- А зачем тебе двигатель, - поинтересовался Витек, - что, стиральная машина сломалась?
- Для дела, - отрезал я.
И тут мой дружбан опять возмутился:
- Слышь, Санек, а не слишком ли ты стал деловым? Как Напрею рыло начистил, так и забоговал! А я, навроде того, перед тобой мелюзга ссыкливая. Что, трудно сказать? Смотри, я терплю, терплю, а потом жопа к жопе - и кто дальше прыгнет!
Я обнял его за плечи и засмеялся:
- Спорим на шалабан, что я вперед тебя искупаюсь?
- Давай на горячий! - в вишневых глазах Витька вспыхнул азарт. - Чур, я считаю: раз, два... три!
И мы сорвались с места.
В детстве я бегал быстрей Казии, но на этот раз он меня обошел. Сказалась, наверно, моя привычка к размеренной жизни. Он оторвался метра на три, и сиганул с берега, бомбочкой, не снимая спортивных штанов. Я крикнул "чур ни!" и прыгнул следом за ним, пытаясь догнать его под водой и щелкнуть ладонью по бритой макушке. Ну, типа того, запятнать. Витька тут же ушел в сторону и вынырнул на другой стороне, за сетчатой перегородкой, где плавали хозяйские гуси. Вода была рыжая, мутная. Наверное, где-то в верховьях прошли дожди.
Мы долго ныряли и плавали, потом отдыхали под мельницей, держась за соседние крылья.
Этот простенький агрегат служил для полива хозяйского огорода. На каждую лопасть прибивалась гвоздями пятилитровая консервная банка из под яблочного повидла. Туда набиралась вода, поднималась течением вверх, с топовой точки лилась в деревянный желоб и, дальше, транзитом, в какую-нибудь емкость, чаще всего - корыто. Когда пропадала надобность, между крыльев всталялся дрын.
К этому времени, деревянные мельницы уже выходили из моды. Их сменили электрические насосы. Наверное, по этой причине помидоры стали чаще болеть, ведь водичка перед поливом должна хорошо прогреваться. А может, тому виной Кубанское море и, последовавшее следом за ним, изменение климата? Ведь совсем уже скоро, 3 апреля 1968 года, земснаряд ╧ 306, управляемый Михаилом Вакарчуком, вынет первый кубометр грунта с места будущего водохранилища.
Мы купались до посинения губ. Потом загорали на мягкой зеленой траве. Ждали, покуда наши штаны высохнут. Стеблем травинки, Витька что-то нарисовал у меня на спине. Я тоже не остался в долгу, и нацарапал на шоколадном загаре ГАЗон дядьки Ваньки Погребняка с номерами на бампере и борту "ЭЮ-92-38".
Когда дело дошло до расплаты, Витька не стал отпускать мне горячего, а сказал, падла такая: "Будешь, Санек, должен!" Это значит, в любое время он может потребовать сатисфакции. К примеру, в понедельник, перед уроком, на глазах у всего класса.
Витек проводил меня до двора и ушел по своим делам. А я, сходу, вклинился в быт.
Дед был уже дома. Отгула ему не дали, пришлось подменяться сменами со стариком Кобылянским. Вместо воскресного дня, он будет теперь дежурить две ночи подряд. Настроение у него было ни к черту. По радио, уже в понедельник обещали проливные дожди. Если в два оставшихся дня не принять срочные меры, огород в поле совсем зарастет. Терять же, базарный день ему не хотелось. Зря, что ли, подменялся?
Вот такая оказия. Тот, кто был до меня, безусловно, знал, где находится наша делянка, присутствовал при посадке картошки, но ни намека, ни вешки в моей памяти не оставил. А было у нас тех огородов, далеких и близких, столько, что все не упомнишь. Поэтому я предложил:
- Давайте сегодня вечером, по холодку, в поле наладимся? Сколько успеем - успеем, а завтра я как-нибудь сам?
Дед пожевал мундштук папиросы, посмотрел на меня с глубоким сомнением и спросил, ни к кому конкретно не обращаясь:
- Ты как, бабк?
- Я не спроть, - ответила та, - только люди смеяться будут.
- Нехай! Чи впервой?
Пока отбивались тяпки, готовился торбазок, зной начал спадать. Стайки перистых облаков засуетились в небе, задевая боками солнце. Шальной ветерок встревожил залежи пыли, и пронесся наискосок, не разбирая дороги. От реки дохнуло прохладой. Робко заголосили лягушки. Запахло напоенной землей, угольной пылью и свежим покосом.
- Быть дождю, - встревожилась бабушка.
Дед не успел ничего сказать потому, что залаял Мухтар и в калитку заколотили громко, бесшабашно и требовательно.
- Отчиняй воротА, Степан Александрович! - раздались нестройные голоса.
Это были мужики со смолы, малость поддатые, а потому и веселые.
Дед отодвинул засов и тут же подался в сторону. Сначала проем заслонила спина дяди Васи Культи. Сдавая назад, он тащил что-то тяжелое. На багровой, от напряжения шее, пульсировала резкая жила. Потом я воочию увидел воплощение своего замысла: огромную виброплиту с ручкой из гнутой трубы. Со стороны движка, в самой тяжелой части, ее трелевал Петро. Улыбка блуждала на его загорелом лице. Ближе к углу рта, пожаром горела фикса.
- Принимай аппарат, хозяин, готовь магарыч!
Хозяин еще не обмолвился словом, а бабушка уже возмутилась:
- Еще что удумали! Куда ее, такую хламину? Сей же час вертайте назад!
- Ты, тетя Лена, не возникай! - огрызнулся Петро. -
Дурное дело нехитрое, унести никогда не поздно. Куда ставить, Степан Александрович? Понял, ага! Василь, заворачивай вправо!
В техническом плане, дед был неплохо подкован. Во всяком случае, с "Агиделью" всегда управлялся самостоятельно. Он внимательно осмотрел агрегат, проверил натяжку ремня, мысленно оценил двигатель, железо, объем работ и только потом спросил:
- Как же эта чертовина называется?
- Не знаю, - засмеялся Петро, - твой внук говорил, что "электротрамбовка", а другого названия для нее еще не придумано. Их всего-то три штуки на город: у вас, у меня и у сварщика с элеватора.
Дед, естественно, не поверил:
- Что вы мне голову морочите?! Где этот двигатель раньше стоял?
- На калибровочном сите.
- Ну?
- Ну, так раньше он сортовую пшеницу калибровал, а теперь будет двор утаптывать.
- Степан, - возмутилась бабушка, - ты бы позвал людей в хату! Негоже гостям под дверями стоять.
Наверное, и она поняла, что никакого огорода сегодня не будет.
- И пра, - согласился дед, - айда, мужики!
Дальнейшее было подчинено старинному казачьему ритуалу. Гости для проформы отнекивались, хозяин настаивал, хозяйка ждала у порога, с рушником в вытянутых руках. А я с нетерпением ждал, когда народ рассосется, чтобы сполна насладиться своим торжеством, потрогать руками воплощение давнего замысла, мой подарок деду из будущего.
Если сравнивать то, что я сделаю лет через сорок с гаком и то, к чему приложил руки неизвестный элеваторский сварщик, это земля и небо. Во-первых, плита из ковкого чугуна была тяжелее и толще моей. Во-вторых, качество сварки. Мастер, не напрягаясь, рисовал корабельный шов и, в отличие от меня, умудрился нигде не "насрать". А в-третьих, он работал с железом, которому нет сноса. Настоящее, выплавленное людьми для людей.
Была у меня в той жизни проблема с вибростолом. После замены подшипника, начало рвать болты крепления двигателя. Менял по десятку в день, пока "автоген-ака" из электросетей не надоумил. "Ты, - говорит, - наверное, болты покупные поставил? Никогда так не делай! Их сейчас лепят из порошка. Чуть где слабина - срезает на раз. Поставь старенькие, совдеповские, они не блестят, а работают".
Электромонтаж, скорее всего, выполнял Петро. Здесь тоже все было сделано по уму, только кабель коротковат.
А тем временем, в нашей большой комнате, набирало голос застолье. Круглый стол, как всегда, был застелен клеенчатой скатертью. В центре его красовался стеклянный графин с выпуклыми виноградными гроздьями на боках. Даже тень от него отражалась на гладкой поверхности насыщенным алым пятном. Когда оно выцветало, дед брал опустевшую тару, и спускался в неглубокий подвал, где в темной плетеной бутыли плескалось вино прошлогоднего урожая.
Бабушка была на ногах, она строго следила за тем, чтобы гости наелись от пуза. Для них это был полноценный ужин. Мужики, привыкшие к сухомятке, с удовольствием опрокинули по две тарелки борща и теперь, не спеша, ковыряли свои котлеты. Да только все равно захмелели.
Время от времени, все выходили во двор потабачить. Петро в пятый раз рассказывал, как подбивал сварщика Сидоровича на сверхурочный труд, как тот удивлялся, когда небольшая кучка песка, после пробной трамбовки, вдруг, обрела плотность слежавшейся глины, и все обращал внимание общества на качество шва: "Это ж он пьяным лепил!"
Потом все ушли в дом, но вскоре вернулись назад, чтоб привести в действие "чудо машину". Петро пошел на смолу за мотком кабеля и не вернулся. Дядя Вася отправился искать своего кума и тоже пропал. Дед еще с полчаса потынялся, покурил во дворе, сказал "черт его знает" и тоже ушел спать. Бабушка занялась уборкой, мытьем посуды, а я наведался на смолу.
Дядя Петя лежал в позе зарубленного кавалериста рядом с точно такой же виброплитой, как у меня. Только двигатель был немного новей. Наверное, он обо что-то споткнулся, потерял равновесие, а потом решил вообще не вставать, потому, что и так хорошо. Василий Кузьмич спал сидя, прислонившись спиной к колесу будки. Возле его ног визгливо брехал приблудный щенок.
Со стороны переезда послышался шум мотора. Сквозь дырку в заборе я приметил УАЗ "таблетку" с красным крестом на борту. Вздымая дорожную пыль, скорая помощь просквозила мимо меня и скрипнула тормозами у подворья Погребняков. Фельдшер в белом халате выпрыгнул с пассажирского места, достал из кузова саквояж и постучался в калитку. На шум, из своих дворов, высыпали соседи.
Я шагал на ватных ногах, душой понимая неизбежность происходящего. Минут через пять вывели дядьку Ваньку. На его пожелтевшем лице застыла беспомощная улыбка.
На углу, рядом с нашим проулком, стояла бабушка Катя - в неизменных калошах, халате и цветастом платке, маскирующим бигуди. Она цепко взяла меня за руку и требовательно спросила:
- Что с ним?
- Рак, - хрипло ответил я. - Через три недели сгорит.
Глава 8. День предпоследний
Я еще спал, когда дед уехал на рынок. Сквозь закрытые ставни с улицы доносилась петушиная разноголосица. Лучик солнца, проникший сквозь узкую щель, обозначил на шифоньере яркую вертикаль. В маленькой комнате было тихо. Будильник указывал на без десяти восемь.
Бабушка хлопотала у летней печки. Она больше не грела мне воду для умывания. Во всяком случае, так было последние два дня. От этой простенькой мысли мне стало грустно. Я, со вздохом, оторвал от календаря еще один лист: воскресенье, 28 мая. Завтра меня не станет. Ах, как не хочется, чтобы это случилось в классе, во время урока, на глазах у Филонихи!
Я сбегал к колодцу за холодной водой. На ходу, поздоровался с бабушкиной сестрой. Вдоль стены ее дома, рядом с дорожкой, были проложены две рельсы от узкоколейки. Между ними разбит цветник. Дед Иван работал тогда ездовым, в магазине при железной дороге. Он расстарался.
Бабушка Паша называла меня "чудо ребенком". Так повелось с самого первого дня, когда я, четырехлетний пацан, впервые проник на их половину. Взрослым иногда нужно побыть наедине, поэтому меня отправляли в гости.
- Чем тебя угостить, что ты любишь больше всего? - поинтересовалась она, выгребая из вазы печение и конфеты.
- Картошку на сковородке с яичницей! - отчеканил я скороговоркой, к ее вящему изумлению.
Любила меня Прасковья Акимовна. Не так, как своих внуков, но все же любила. Я ведь, считай, вырос у нее на глазах. Каждый год, первого сентября, она собирала в букет самые пышные георгины, чтобы я их отнес в школу, своей учительнице. Вот и сейчас, дождалась, когда я вернусь обратно с полными ведрами, чтобы спросить:
- Ты почему "майку" не рвешь? Смотри, осыпется вишня!
Да поищи там, на грядке, клубнику, должно быть, какая уже и поспела...
- Спасибо, - ответил я, заворачивая за угол, - обязательно поищу.
В прошлой жизни дальше "спасибо" дело не доходило. У бабушки Паши очень сильно тряслись руки. Наверное, потому я считал ее очень жадной. Мне казалось, что она приглашает меня в свой огород только из вежливости.
Нет, сегодня я обязательно полакомлюсь спелой вишней! И ей, заодно, ведерко нарву. Может, сварит компот?
Я налил в рукомойник холодной воды, выбил из корпуса шток, нырнул под струю. И так несколько раз, пока не стряхнул уныние и сонливость. Только снял полотенце с гвоздя - залаял Мухтар, кого-то с утра принесло.
Я вышел на улицу с полотенцем через плечо. У калитки стоял дядька Петро и болезненно морщился.
- Слышь, Кулибин, - хрипло спросил он, - я вчера твой рисунок не приносил? Ну, этой... трамбовки?
- Не-ет, - удивился я.
- Вот черт! Куда же он подевался? Наверное, в машине забыл, или у сварщика.
- Если надо, я вам еще нарисую.
- Да ну?! - встрепенулся он, - холодная вода есть?
- Только что из колодца.
- Тащи сразу ведро!
- Может, чего покрепче?
- А есть?
- Сейчас поищу.
Дедов графин, как обычно, стоял в буфете, на нижней полке. Для меня он был наполовину полон, для дяди Пети - наполовину пуст. Он залпом выхлебал содержимое, вытер губы и произнес:
- Хорошо! Добрый мужик из тебя, Сашка, получится. Так не забудешь нарисовать?
- Обязательно не забуду. Прямо сейчас и сяду.
- Ну, зайдешь потом. Заодно заберешь двигатель от стиралки. Там только проволочка отлетела, а так все нормально.
По радио шли краевые последние известия. В преддверии 50-летия Октября все больше производственных коллективов включились в соревнование за досрочное выполнение заданий восьмой пятилетки, развернутое по инициативе бригады сборщиков завода имени Седина под руководством А. С. Трояна. Вступила в строй первая очередь Краснодарского завода радиоизмерительных приборов. Завершились этапы районных соревнований на право участия в первом всесоюзном конкурсе молодых трактористов-пахарей на приз газеты "Комсомольская правда". Во второй группе класса "А" чемпионата СССР по футболу завершился очередной тур. Матч между Краснодарской "Кубанью" и командой "Спартак" из Нальчика завершился со счетом 0:0.
Я закончил рисунок, когда началась передача "Проблемы сельскохозяйственного производства" и, уже выходя из комнаты, остановился. Диктор, в какой-то связи, упомянул имя Валентины Гагановой. Вот помню, что была такая ткачиха, или прядильщица, что выступила с почином, а в чем его суть, из памяти улетучилось. Ну, еще бы! Столько годочков прошло!
Интересно, - подумалось мне, - как сложилась ее судьба в новые времена, когда в каждой деревне качало права свое общество потребителей и нигде не осталось ни одного общества созидателей, даже кружка "Умелые руки"? Или не дожила? Ведь все, чем когда то гордилась умершая страна, втаптывалось в грязь с особой жестокостью.
В этой реальности ребенка приучали к работе лет с четырех - пяти. Сначала пас уток, гусей, рвал в поле траву для кроликов, мыл посуду и пол, выбивал коврики и дорожки, посильно помогал по хозяйству. Уже в первом классе он попадал в коллектив, где учебой своей и трудом боролся за право попасть в ученическую бригаду.
Это было познавательно и престижно. На опытных участках учились выращивать высокие урожаи, ухаживать за животными, применять на практике знания, полученные на уроках. Шефство над школами брали сельхозинституты, ученые-селекционеры, передовики производства.
В Анапе, под руководством академиков Лукьяненко и Тарасенко, ученические бригады испытывали новые сорта озимой пшеницы "Кавказ", "Аврора", "Безостая-1", "Краснодарская-39". В Усть-Лабинском районе, на обычных школьных делянках, была разработана новая технология комплексно-механизированного возделывания кукурузы.
Уже к окончанию школы я умел штукатурить и красить, управляться с лопатой, тяпкой и топором, работать на слесарном станке, разбираться в двигателе автомобиля. И еще много чего, по мелочам.
Я сунул листок в карман, слетал в магазин за молоком и хлебом. На обратном пути заглянул на смолу. Там никого не было. Даже щенок куда-то пропал. Наверное, увязался за мужиками. Двери сторожки охранял большой навесной замок. В проеме щелей не было. Я сунул чертеж в дужку замка, и с верхней ступеньки увидел дедову спину. Она удалялась. Темно-зеленый велосипед "ПВЗ" потренькивал на ухабах разбитым звонком. На нем я когда-то учился "кататься". Сначала водил "на руках", потом стоял на педали, отталкиваясь от земли правой ногой, потом, по наитию, эта нога просунулась в раму, и уже получилось "ездить". Не сидя, пока, а стоя, с закатанною штаниной. Чему-то учился у сверстников. Так, по примеру Сашки, младшего сына дядьки Ваньки Погребняка, я стал заводить велосипед в кювет, и садиться почти "по-взрослому", с высокой обочины. С седла мы педалей не доставали, и сновали над рамой, как челноки, влево -
вправо, нажимая на них легковесными мальчишескими телами.
Дед ехал не спеша, налегке. Наверное, удачно расторговался.
Я догнал его у калитки, чтоб сообщить последнюю новость:
- Дядьку Ваньку Погребняка в больницу забрали!
- Да ну?! - удивился он. - Такой молодой... наверное, аппендицит.
- Ты утром лекарство пил? - наехал я на него. - Ну, то, что тебе бабушка Катя передала?
- А как же! - открывая калитку, дед коротко хохотнул. - Принял с утра три ложки, стакан молока и голова не болит!
Я сбегал, проверил. Ложка лежала на крышке банки. Она была большой, деревянной, объемом в пол уполовника.
Бабушка накрывала на стол. Дед рассказывал последние новости, услышанные на рынке, передавал приветы от родственников и знакомых, которых там повстречал. Попутно достал кошелек, вытряхнул содержимое, пересчитал выручку и снова убрал наличность в карман пиджака. Пенсию и получку он всегда отдавал жене, а все, что шабашил помимо того, всегда оставлял себе, "на папиросы". Это были не только веники. Дед плотничал, штукатурил, сажал у людей виноград из своих черенков.
Я стоял у стола и ждал, пока взрослые наговоряться. Надо было вставить свое слово. Не хотелось, а надо.
- Тут Петр Васильевич, что со смолы, с утра приходил, - сказал я, когда все замолчали. - Я отдал ему все вино, что оставалось в графине.
Повисла недобрая пауза.
- Тебе кто разрешил? - строго спросил дед.
- Меня ты не мог спросить? - поддакнула бабушка.
Я, как положено, стоял, потупившись долу, и изучал свои босые ступни. Нет, не случайно Петро сказал на прощание, что мне попадет. Я и сам точно знал, что совершаю серьезный проступок, но так и не смог пересилить устоявшиеся привычки взрослого человека.
Реакция была предсказуемой.
- Вот что, внучок, - хмурясь, сказал дед, - сходи-ка на островок, да выломай там хорошую хворостину. После обеда буду воспитывать.
В детстве мне частенько перепадало. Надо сказать, перепадало по делу. Не за "пару" в тетради и дневнике, а за то, что пытался утаить эту двойку: вырвать страницу, стереть, исправить на другую оценку, или вовсе "свести". Прятать тетради я перестал после случая с дядькой Ванькой обходчиком. Так что, чаще всего, дед бил меня "за брехню". Что интересно, больше пугала не сама экзекуция, а долгое ее ожидание. Я начинал давиться слезами еще по дороге на островок. Там долго тянул время, выбирая ивовый прут, от которого будет "не так больно" и возвращался уже окончательно сломленным.
Первый удар был всегда неожиданным. В противном случае, дед рисковал вообще по мне не попасть. Я нырял под кровать или под стол, и вертелся ужом, повторяя, как заклинание:
- Дедушка, милый, прости, я больше не буду!
Изломав хворостину в лохмотья, он всегда ложился в кровать, отворачивался к стене, долго вздыхал, хмыкал и повторял: "Ох, черт его знает!" А я делал вид, что мне очень больно, и мстительно дул на единственный вздутый рубец.
Вот и гадай теперь, кого он больше наказывал?
Ни на какой островок я, естественно, не пошел. Достал из угла сарая запасной держак для лопаты, вернулся на кухню, протянул его деду и хмуро сказал:
- На! Чего уж там мелочиться.
Он удивленно вскинул глаза, качнул головой и сказал:
- Иди, отнеси на место.
Кажется, пронесло!
На первое была куриная суп-лапша. Борщ вчера мужики смели подчистую.
- Где ты деньги сегодня взял на хлеб и на молоко? - между делом, спросила бабушка.
- После кино остались. Я ведь Вальке мороженое не покупал.
- Что ж ты так? - неодобрительно хмыкнул дед.
- Да жирно ей будет!
- Зачем же тогда приглашал?
- Чтоб одевалась, как человек.
Разговор о Филонихе был почему-то мне неприятен. И я постарался его скомкать.
Бабушка обглодала куриную дужку - тонкую косточку, напоминавшую латинскую букву "V", обхватила половинку мизинцем и протянула мне: держи, мол. Я сунул мизинец в оставшееся пространство, каждый потянул на себя. Косточка хрустнула, в кулаке у меня оказался короткий огрызок.
- Бери, да помни! - сказала она, протягивая мне оставшуюся часть дужки.
Я принял ее и положил на стол.
Каждый раз, когда мы ели курицу, она делала этот фокус, похожий на ритуал. Смысл его и значение, я так и не смог догнать. Не раз и не два спрашивал, да только напрасно. Бабушка унесла эту тайну с собой. Мне кажется, он и сама не знала правильного ответа.
После обеда, дед вышел на улицу покурить. Я увязался следом за ним и тоже присел на бревнышко. Хотел завести разговор о тротуарной плитке, но не успел. От смолы подгребал Петро с движком от стиралки подмышкой и мотком кабеля на плече.
- Здоровеньки булы!
- День добрый! - откликнулся дед, "посунулся" в мою сторону и стукнул ладонью на место рядом с собой.
Петро неторопливо присел, положил поклажу на землю, добавил в общую кучу нож, пассатижи, моток изоленты и достал из кармана початую пачку "Любительских".
- Быть дождю, - произнес он, выбивая прокуренным ногтем сразу несколько папирос. - Угощайтесь, Степан Александрович.
- Ото ж, - отозвался дед и выбрал себе ту, что прыгнула выше всех, - к завтрему ливанет!
- Ты бы, Сашка, все это дело во двор занес, - сказал, между делом, Петро и загремел спичечным коробком. - Будем сегодня твой агрегат испытывать.
- Так он его что, действительно сам придумал? - опять не поверил дед.
- Скажем так, не придумал, а сообразил. Чему удивляешься, Степан Александрович? Мозги то у них посвежей нашего. В школу ходят, умные книжки читают. Может, и мы бы стали такими, кабы б не война.
- Ото ж, - снова сказал дед. - Гля, как над Вознесенкой захмарило! Скоро и до нас доползет...
Сидя на агрегате сварщика Сидоровича, я разбирался со своею трамбовкой. Шурупы совсем расходились и почти не держали двигатель на обрезке доски. А с другой стороны забора, мужики обсуждали прогноз погоды. Синеватый дымок прорывался сквозь щели и пластался на уровне моих глаз.
- Ну... делу время... - сказал, наконец, Петро, - айда, Степан Александрович! А то мы вчера пили, и неизвестно за что.
Ремонтники перебрались во двор. Я не стал им мешать, переместился на дедов верстак. Он был выставлен по горизонтали. Самое, сейчас, подходящее место, чтобы сделать опытный образец
тротуарной плитки методом вибролитья.
Петро ковырялся в двигателе и рассказывал про Москву:
- Там, Степан Александрович, такая лестница, что едет сама собой. Хочешь вверх, хочешь вниз! Всего пятачок делов, и в любой конец города под землей. Ну, можно сказать, готово. Где тут, поблизости, вилку можно воткнуть?
Минуту спустя, возле калитки застучала виброплита. Залаял Мухтар, засуетились куры, бабушка вышла в двор разобраться "что ета там тарахтить"?
- Петро, - сказала она, - ты куды Василя дел? Он, часом, не занедужил после вчерашнего?
- Занят сегодня Василь, - важно ответил тот. - В библиотеку пошел. Ищет литературу. Зря, что ль, мы с ним добывали электротрамбовку? Я ведь, Елена Акимовна, как только услышал от вашего Сашки эту идею, сразу же загорелся! Не все же нам, думаю, на смоле прозябать? Вот и решили мы с кумом делать и класть у людей тротуарную плитку. Поле здесь для работы не пахано и не меряно, была б голова да руки...
Меня так и подмывало встрять в этот разговор, но не было слов, чтобы сделать это тактично, не нарушая субординации.
- Ой, некогда мне! - засуетилась бабушка, - сторож в кастрюле стучит! Через полчаса, милости просим, к столу.
Вот сволочь! - думал я про Петра с крупицею восхищения, - землю из-под пяток грызет! Нашел дурачка малолетнего и доит на ноу-хау. Не успел про плитку сказать - он уже первым бесом. Предприниматель хренов! Из-за таких, как он, мы свою страну и просрали. А с другой стороны, чтобы я без него делал? Да и куда их, эти мои знания, в могилу с собой?
У меня уже было все подготовлено. Я присобачил двигатель к верстаку, накрутил новую проволоку. Осталось сходить за формой и разобраться с раствором. Здесь без дедова разрешения никуда.
- Можно мне взять коробку от домино и немного цемента? - спросил я у него, выглядывая из-за угла.
- Это еще для чего?
- Пробную плитку хочу сделать.
- А коробка зачем?
- Так другой формочки нет.
- Тако-ое... добро на говно! - сказал, было, дед, но Петро
потянул его за рукав, что-то шепнул, и он смилостивился. - Ладно, возьми... помоешь потом. А раствор я сейчас сам замешаю. Много тебе?
- Ну, чтобы хватило... на эту коробку. - Я ринулся, было, в дом, но вспомнил о пластификаторе, остановился и добавил с порога. - Тут дядя Петро говорил, что нужно в раствор кровь добавлять.
- А где ее взять?
- Я хотел соскрести с колоды, на которой бабушка рубит цыплят, и разбавить в воде...
- Хех, - изумился дед, - и удумает же!
- А я о чем говорил, - засмеялся Петро, - молодые мозги, оборотистые! Пойдем, Александрыч, посмотрим, что он еще там нафантазировал.
Я вытряхнул домино из коробки, смазал ее куриным жиром из банки, что стояла у бабушки на столе, и внезапно подумал, что выполняю последнюю миссию, взятую на себя в этом родном, но чужом для меня времени. В памяти зазвучал нехитрый мотив и слова, настолько божественные в своей простоте, что на глаза навернулись слезы:
"Это все, что останется после меня, это все, что возьму я с собой..."
Я вытер лицо дверной занавеской и вышел во двор. Взрослые стояли у верстака. Один махал мастерком над куском старой фанеры, другой с интересом смотрел на мой вездесущий двигатель. Он уже догадался протянуть переноску.
- Здесь, на валу, отверстие можно просверлить, - сказал я Петру, - и нарезать резьбу для болта. Закрутил - уменьшил вибрацию, открутил - увеличил. А пока обойдемся алюминиевой проволочкой.
Дед смотрел на меня с удивлением и потаенной тревогой. Уж он-то знал, как никто, мой реальный потенциал - до сих пор помогал решать сложные задачи по арифметике. То, что внук так стремительно поумнел, было выше его понимания. Так не бывает, так не должно быть. Ни в какую чертовщину дед, понятное дело, не верил и усиленно искал объяснение этому феномену.
- На уроках труда, - сказал я ему, - мы выпускаем для школ совки и дверные петли, скоро будем вытачивать гайки и нарезать в них внутреннюю резьбу, а ты все считаешь, что я у тебя маленький.
В общем, я сделал все, чтобы он поверил, но не совсем получилось. Дед чуял нутром, когда я ему вру, или что-то недоговариваю. Под его внимательным взглядом, все у меня стало валиться из рук. Столешница деревянного верстака из толстой, широкой доски оказалась вообще не закреплена. Когда заработал движок, ее повело в сторону. Я несколько раз уменьшал лепестки, но так и не смог подобрать приемлемую вибрацию.
Видя, что у меня все, как обычно, идет через жопу, дед успокоился и, даже, повеселел.
- Давай помогу, - предложил Петро.
Он достал из кармана отвертку, открутил два шурупа с краю и расклинил двигатель рейкой, чтобы эксцентрики на валу работали под углом.
- Пробуй теперь!
И как он угадал? Подсохший раствор, горкой возвышавшийся над коробкой, начал медленно оседать и сравнялся с краями. На поверхности проступило белое молочко.
- И куда ж оно все поместилось? - спросил озадаченный дед.
- Село, - сказал Петро. - Заполнило все пустоты. Ты же, Степан Александрович, когда заливаешь фундамент, лопатой стучишь по опалубке? И здесь так. Только резко и быстро. Слышь, Кулибин, - он повернулся ко мне и указал пальцем на двигатель, - а из этой хреновины можно еще что-нибудь сделать?
- Можно, - ответил я, вспомнив о перфораторе. - Можно сделать электрический лом. Только он получится настолько большим и тяжелым, что втроем не поднять.
В калитку вежливо постучали. Дед пошел открывать.
- И как же ты собираешься выковыривать готовую плитку? - снова спросил Петро. - Здесь-то ладно, поверхность гладкая, а если, к примеру, рисунок пустить по лицевой стороне?
- Точно также. Как только она выстоится, водичкой смочу и поставлю на вибростол.
- Как... как ты сказал?
- Вибрационный стол. К вечеру нарисую. Его нужно варить из железа. Столешницу делать отдельно, и крепить на пружинах. На деревянном верстаке много не наработаешь.
Судя по голосу у калитки, пришел дядя Вася искать своего кума. Надо сказать, пришел во время. Бабушка показалась в дверях и всех позвала на ужин.
Жалела она мужиков со смолы. Когда выпадал случай, приглашала к столу, подкармливала. Они отвечали тем же. Первый же мешок комбикорма, заначеный грузчиками и отданный им на реализацию, всегда уходил в наш дом.
Дед опять наполнил графин, хоть сам он, насколько я помню, перед дежурством не пил. Петр Васильевич тоже вел себя, как заправский трезвенник. Он больше налегал на горячее и о чем-то сосредоточенно думал. Зато дядя Вася отвязывался по полной программе. За столом доминировал его надтреснутый тенор. Насколько я понял, ничего путного в библиотеке он не нашел.
- С виду интеллигентные женщины, а сидят, ерундой занимаются. Целый день на бумажке рисуют конвертики. И никто из них даже представления не имеет, что такое тротуарная плитка.
Мы с бабушкой поужинали на кухне. Потом она жарила семечки, собирала дедову сумку, а я рисовал в тетради эскиз вибростола. И даже успел проставить размеры, прежде чем дядя Вася окончательно вырубился. Он начал, было, рассказывать, как был ординарцем у полковника Баянова, как ездил на "Виллисе" по пригородам Берлина. В самом конце хотел показать в лицах, как разговаривал с маршалом Жуковым, когда тот приехал на позиции их батареи, резко вскочил, и сел мимо стула.
Петр Васильевич с дедом провожали пьяного до сторожки. Я вызвался им помогать. Открывал и держал калитку, пока шумная процессия не вышла на оперативный простор, а потом просто шел сзади. Шумел, в принципе, один Василий Кузьмич. Он несколько раз заводил песню "Хасбулат удалой", но каждый раз забывал слова.
В те времена пьянство еще не считалось отягчающим обстоятельством на суде, и к выпившим людям относились по-человечески. Водку делали не из гнилого картофеля, а из чистой пшеницы. Она веселила и радовала, а не вселяла в голову потребителя раздражительность, тупую агрессию и желание добавить еще.
Когда дядя Вася прекращал петь и рассказывать, как он любит всех окружающих, взрослые продолжали начатый разговор.
- И вроде бы бог не обидел, да не все эти руки умеют, - сокрушался Петро. - Стол мы с Василем как-нибудь сами сладим, а вот насчет форм и поддонов, просто беда. Боюсь, не хватит ума даже дерево подобрать. Точность нужна, качество обработки, соответствующая пропитка. Сосна не пойдет, заплачет она по жарюке, а дуб - где его взять? Взялся бы ты Степан Александрович? Работу и материалы я оплачу: хотите - деньгами, хотите - готовой продукцией...
- Будем мараковать, - осторожно ответил дед.
Мне почему-то верилось, что от задуманного Петро уже не отступит, что скоро наш двор будет покрыт свежеуложенной плиткой. Это все, что останется после меня. Не так уж и мало за девять дней.
Дверь в сторожку открывалась наружу. Я держал ее, пока дядю Васю не занесли внутрь. Будучи в твердой уверенности, что мужиков со смолы я никогда уже не увижу, оставил чертеж вибростола на видном месте, под недопитой бутылкой "Портвейна".
Тягостная все-таки штука - прощание. Слово "завтра" висит надо мной, как дамоклов меч. Ему подчинены и поступки, и мысли.
Я уже примерно догадывался, каким оно будет, это мгновение истины. Раз! - и мой разум уйдет, сменится на другой пакет информации, с иными файлами памяти. А куда он уйдет? - то, как говорят на Севере, хрен знат. Куда, к примеру, уходит человеческий разум, когда тело находится в коме, и годами влачит, на беду родственникам, жалкое, растительное существование?
От этой неожиданной мысли, мне стало не по себе. А если и я так? Лежу, к примеру, сейчас в нашей большой комнате, сиделка вокруг меня увивается, кормит с ложечки, выносит горшок, переворачивает с боку на бок, чтобы не было пролежней и думает про себя: "Когда же ты, падла, сдохнешь?" А может, наоборот, молит бога, чтобы я еще с полгода потрепыхался? Ну, это в зависимости от того, сколько Серега ей отслюнявливает со своей ментовской пенсии. Не станет же это брезгливое существо самолично возиться с говном? А досмотреть брата надо. И похоронить тоже надо. Наследство того стоит. Вот, блин, ситуация! Хоть руки накладывай на себя!
Так получается это не жизнь, а фикция? - я прихлопнул жирного комара, присосавшегося к запястью, - да нет, не похоже,
слишком уж все натурально.
Что гадать? Все решится завтра. Если, конечно, оно решится.
Дядя Вася стонал, метался по топчану. Он, даже во сне, берег свою искалеченную культю. Я хотел, но не мог представить его молодым лейтенантом, которому пожимал эту руку сам маршал Георгий Жуков.
Взрослые возвращались к столу, дотирать перспективную тему.
Тротуарная плитка это лишний кусок хлеба, если не сказать больше. Ради такого дела, можно разок не поспать перед ночной сменой. Они уже подходили к ореху, под которым, когда-нибудь, я забуду свои очки.
А ну-ка, - мелькнула шальная мысль, - догоню, или не догоню? Если успею, мне будет добавлен один спорный день, а нет... бог не Микишка, нет у него ничего лишнего.
И я полетел, изо всех своих безразмерных сил, по прохладной пыли над обочиной. Естественно, не успел, чудес не бывает, слишком уж велика была у них фора. Когда я подбегал ко двору, дед уже закрывал калитку.
Дома я взял пустое ведро, и до самого позднего вечера, рвал вишню для бабушки Паши. Настолько увлекся, что не заметил, когда взрослые разошлись и дед уехал на смену. Ветер крепчал, рвал темные кудри с клубящихся кучевых облаков. На речке перекликались лягушки. Самцы обозначали себя солидным утробным басом, как будто стреляли из пушки: "куак, куак!", а самки и зеленая молодежь стрекотали пулеметной разноголосицей: "бре-ке-ке-ке, уа-ка-ка-ка..."
"Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой..." - я в полголоса подпевал этому суетливому хору, и с моей потрясенной души осыпалось все наносное.
Нет, черт побери, как же здесь хорошо! Если есть у Всевышнего рай, то он находится в детстве.
Глава 9. Ошибка в расчетах
"Помни о смерти", - говорили древние римляне. Я это делал где-то с пяти утра. Лежал, уставившись в потолок, и думал, что бы успел сделать еще, если бы с самого первого дня не занимался самокопанием, а взялся за конкретное дело. Получалось, что много.
На пустыре, за спортивной площадкой, куда обычно складировался собранный школьниками металлолом, я насчитал четыре стиральных машины. Три из них были полностью в сборе. А это, как минимум, один работоспособный двигатель. Если бы я его потихоньку прихватизировал, была бы сейчас у деда рабочая приспособа для чистки веников, или, как минимум, электрическое точило.
Что касается "Белки-2", пылящейся на чердаке, ее я в расчет даже не принимал. Вот приедет мой старший брат, подтянет крепления двигателя, еще что-то там подшаманит и она заработает. Он в школьные годы был технарем: ремонтировал все будильники, менял спирали на утюгах, в технике разбирался неслабо. В общем, был человеком, а стал ментом. Я ведь, пока воду из скважины в дом не провел, каждую субботу купаться ходил в его трехкомнатную квартиру. Честно скажу, Серега меня принимал, как родного брата: усадит за стол, накормит от пуза, с собой завернет шмат колбасы. Но каждый раз, сволочь такая, просил меня вынести мусор. Самому, надо понимать, западло. А уж если надо ехать на дачу... ну, там, картошку сажать, или полоть, или убирать - это он, прямым ходом, ко мне, чтобы дело не завалить. Занят, не занят - пофиг. Сам он никогда не любил ковыряться в земле, да и никто в его слабосильной команде не управлялся с лопатой и тяпкой лучше меня...
Я лежал, укутавшись с головой в красное атласное одеяло, и прощался с этим незабываемым прошлым. И кто б мог подумать, что оно было настоящим?
- "Охо-хо!" - скрипнула койка в маленькой комнате, и бабушка включилась в работу.
Может, ну ее на фиг, ту школу? - подумалось вдруг, - прикинусь больным, откосячу? Да только у деда такие фокусы не проходят. Раскусит все одно, надо вставать.
На улице было грустно и пасмурно. Виноградник ронял холодные капли на мою голую спину. Хороший был ливень. С крыши по водостоку, за ночь набежало почти полное корыто воды. По дну уже плавали, свернувшись в тугие кольца, четыре больших червяка. До сих пор понять не могу, откуда они там берутся? С земли им в корыто ни за что не залезть. Неужели падают с неба? За это их, наверное, и зовут дождевыми червями?
Ливневая вода мягкая, ласковая. Бабушка ее собирает для того, чтобы мыть голову. Волосы у нее до сих пор богатые - косища по пояс. Она ее скручивает на затылке, пришпиливает заколками, прячет под цветастый платок. И, главное, ни единой седой прядки! А ведь хлебнуть Елене Акимовне пришлось изрядно: два голода, две войны, оккупация.
Из четырех дочерей, которых она выносила, осталась только моя мама. Остальные умерли в младенческом возрасте, и стали моими ангелами хранителями. Так говорила бабушка, когда возила меня им "показать". То ли весной дело было, то ли осенью? Помню только, что в воскресенье, потому, что магазин не работал. Дед взял у Ивана Прокопьевича бричку с лошадкой, и засветло, всей семьей, мы отправились в дальний путь.
Колеса гремели железными ободами, прыгали на ухабах Взрослые сидели на передке. Мне, как единственному пассажиру, было взбито походное ложе из душистой соломы и одеял. Да только от тряски оно постепенно разъехалось, и я проснулся.
Чтобы сократить путь, ехали "напрямки", по бездорожью. Как бывший председатель и агроном, дед знал все поля наизусть.
Много колхозов было в его трудовой биографии: в "Кужорке", артели "Свободный Труд", Унароково, Красном Куте, на хуторе Вольном. Иные из них не сыщешь теперь на самой подробной карте.
Дорогу я толком не помню. Однообразный пейзаж, скучный, глазу не за что зацепиться - поля да посадки. Да и было мне года четыре с лишним. А вот место, куда меня привезли, до сих пор перед глазами стоит. Это было не кладбище, а небольшая поляна, заросшая низким кустарником. Три приземистых холмика я заметил только после того, как бабушка стала ползать по ним на коленях, причитать и целовать траву. Тогда я впервые увидел, как она плачет.
Двигатель и коробку у меня хватило ума с вечера спрятать в сарай. Пока бабушка разжигала залитую ливнем печку, я умылся и протянул переноску.
Плитка получилась лучше, чем я ожидал. Даже слова "Цена 99 коп" можно было вполне прочитать, хоть они и отпечатались наоборот. В нашем дворе я бы такую положил не задумываясь, а
вот там, куда заезжают грузовые машины, ее надолго не хватит. Нужно будет Петру подсказать, если успею, чтобы армировал, а
лучше всего, добавлял в раствор гранитную крошку. Ее разгружали недалеко от смолы, напротив деревянного мостика, за которым живет Витя Григорьев. Нечасто, но разгружали.
На плитке закипала вода. Бабушка у кухонного стола лепила вареники с "вышником". Все в этом доме шло своим чередом. Мне будет не страшно покинуть его навсегда. Потому, что я знал самое главное: с моим уходом в небытие, этот мир не исчезнет, не растает бессловесным фантомом, а будет расти, развиваться, творить иную историю, купировать раны, которые я нанес своим беспардонным вторжением. Только б не выбросил он по пути этот дом и этот колодец. Впрочем, это уже зависит не от меня.
Дед приехал в мокром плаще, усталый, продрогший. Бабушка, загодя, затопила домашнюю печь в маленькой комнате. Пока она накрывала на стол, он сидел у раскаленной заслонки, согревал озябшие руки и курил, пуская струю дыма в открытое поддувало.
Я принес ему из сарая образец тротуарной плитки. Дед скользнул по моей поделке равнодушным, невидящим взглядом и вежливо вымолвил: "Добре..."
Он действительно ночью ловил воров, охранял территорию. Я это точно знаю потому, что не раз и не два ходил к нему на дежурство - приносил горячее к ужину. Пару раз ночевал в сторожке, на широкой скамье, под его теплой фуфайкой.
Такие интересные люди населяли мое детство. Вот честное слово, они были не такими, как мы. А может быть, дело не в людях, а в общественном строе? Одно дело, работать на свое государство, и совершенно другое - на чужого частного собственника, которого ты ни разу в глаза не видел? Чтобы "встрять" в городские электросети, мне тоже с полгода пришлось "дубачить". И деньги смешные, и работа смешная: "Уважай труд товарища - не буди сторожа!"
После второй папиросы, дед окончательно отогрелся и перебрался к столу. Вареники были в самом соку. Их розовые бока исходили дурманящим паром. Такая вкуснятина! Я, лично, уплел две тарелки, а последний дожевывал уже на ходу. На улице уркал мой корефан. Что-то он рановато сегодня, наверное, дело есть.
- Сейчас, - сказал я, выглядывая из-за калитки, - только переоденусь.
- Новость слыхал? - Витька цепко ухватил меня за руку. - У Раздабариных пацаненок утоп!
- Да ты че?! - как рыба, хлебнувшая воздуху, я вынырнул из двора и шлепнулся на бревно. - И когда?
- Вчера, после обеда. Они в огороде гуляли. Мамка в хату пошла за бутылочкой с молоком, а калитка на речку...
- Ладно, потом расскажешь!
Я пулей сорвался с места и полетел на кухню.
- Дед! - заорал с порога. - Дед, ты лекарство пил?!
Он чуть вареником не подавился.
- Пил, - подтвердила бабушка, - как в хату зашел, так и хлебанул для сугреву. Насилу его заставила выпить стакан молока.
- Ты это, - вымолвил дед, отдышавшись, - в школу не опоздай! Учительница пожалуется в дневнике, будет тебе хворостина! И больше никогда не ори!
Как говорил гаишник из анекдота, "хоть дома все хорошо!" Я чуть отошел и поплелся в комнату одеваться.
Рубашка была чистой и свежевыглаженной. Бабушка будто чувствовала. Настроение у меня упало до нулевой отметки. Из головы не шел маленький пацаненок, что утонул по моему недосмотру. Ведь хотел же предупредить, чтобы глаз с него не спускали, ан нет, поленился, отвлекли другие дела. Теперь его смерть на моей совести. Черт бы подрал эту тротуарную плитку!
Проклиная себя, я подхватил портфель и вышел на улицу. Из-за легкого облачка щурилось щербатое солнце. Ласточки над травой скользили на бреющем. Витька на бревнышке лузгал конопляные семечки. Не знали ни он, ни его бабушка, что за коноплю в своем огороде, скоро будут давать срок, а лет через пять в нашем городе появятся первые анашисты. Да, много чего в моем детстве не было: телевизионной рекламы, амброзии, колорадского жука, наркоманов...
- Калитка, говорю, что к речке ведет, открыта была, - Витька продолжил свой скорбный рассказ, поплевывая семечной шелухой, - а пацан...
Что было потом, я знаю и без него. Поэтому опять перебил:
- Погнали, а то опоздаем. Есть разговор.
И он зашагал рядом, поминутно заглядывая в глаза, и пиная коленками свою железнодорожную сумку, что была у него вместо портфеля.
Я молчал, подбирал слова, а Витька терял терпение.
- Так че, - не выдержал он, ныряя под последний вагон, - ты сказать-то хотел?
- А то! - я схватил его за ворот мятой рубашки, приблизил к себе и спросил, глядя в круглые вишневые зенки. - Ты мне друг?
- Я тебя когда-нибудь обманул?! - обиделся он.
- Ну, тогда обещай мне, как другу, что, когда станешь взрослым, ты не будешь пить ни водку, ни самогон, ни прочую дрянь!
- А че так? - он одернул рубашку и заправил ее в штаны. - Че так, говорю?
Если б я знал, че... пришлось изворачиваться:
- Да приснилось мне ночью, Витек, что ты стал знаменитым гонщиком, а я у тебя прошу показать золотую медаль. Бабы вокруг столпились, толкают друг дружку и спрашивают: "Это тот самый Григорьев?"
У Витьки загорелись глаза. Он их быстренько потушил, чтоб уточнить:
- Где это было?
- Я же сказал, во сне.
- Понятное дело, во сне. Я тебя про место спросил: Москва, или наш город?
В каждом деле, Григорьев любил доскональность. Даже "русский" передирал на контрольных до последней ошибки.
- Кажется, наш, - подумав, ответил я. - В том месте, где сейчас стоит хлебный ларек. Только вместо него большой магазин, и еще непонятно: ты, типа того, что взрослый, а я еще пацан пацаном. Так и хочется дать тебе в тыкву, чтобы не задавался.
- Ты свою тыкву побереги!
- Так обещаешь?
Мой кореш засунул правую руку в карман и зашагал впереди своим развинченным степом. До самой школы молчал, взвешивал все риски. Возле калитки остановился, повернулся ко мне, чиркнул ногтем большого пальца по верхним зубам и хрипло сказал:
- Без базара!
- Пацан сказал - пацан сделал! - выдал я очередной слоган из лихих девяностых, чтобы услышать в ответ Витькино неизменное "Че???"
В школьном дворе никого не было. Наверное, все уже на уроке. У дверей нашего класса грозно маячила квадратная фигура Ильи Григорьевича. Витек умудрился шмыгнуть у него под рукой, а я не успел. Директор схватил меня за плечо, глянул в глаза из-под кустистых бровей, коротко бросил "Пойдем ка со мной!" и зашагал, повернувшись ко мне спиной, в полной уверенности, что никто в этой школе не посмеет его ослушаться. Я семенил позади, стараясь поспеть за его широченным шагом, то отставая, то забегая вперед и, как Витек пятнадцать минут назад, пытался прочесть в его озабоченном взгляде, насколько серьезная выволочка ждет меня в его кабинете.
- Как бы там ни було, а ты молодец! - строго сказал директор, когда мы вошли внутрь. - Сам, наверно, не представляешь, что сотворил, тем не менее, это так. Макаренко нечто подобное называл "эффектом большого взрыва". Ты хоть понял, Денисов, о чем я сейчас говорю?
Он сделал весомую паузу, чтоб прейти к следующей части своего выступления касательно моего опоздания на урок. Я решил промолчать и заранее опустил голову.
- Не понял, и слава богу! - усмехнулся Илья Григорьевич. - Да я тебя, собственно, и вызывал совсем по другому поводу. Ты про новую школу что-нибудь слышал?
- Как же! - ответил я. - Ходили, записывали. Правда, до нас еще не дошли.
- Вот и я о том говорю. Ваша улица находится на меже. По-моему, к нам даже ближе. Поэтому, как бы там ни було, я имею полное право оставить тебя здесь. Будь на то добрая воля твоих дедушки с бабушкой. Сам-то как думаешь?
- Конечно, лучше всего остаться в своем классе. - Я поднял очи горе и посмотрел на директора. - Только вы лучше вместо меня мамку мою возьмите. Она с Камчатки скоро приедет, будет работу искать.
- Она у тебя учитель? Где работает, кем?
- В вечерней школе. Историю преподает, географию, ну и обществоведение.
- А отец? - Вопросы Ильи Григорьевича были емкими, выверенными. Он, как всегда, кратчайшим путем, добирался до сути.
- Развелись они, - со вздохом, ответил я. - Списали отца после вынужденной, запил...
- Как, как ты сказал, "после вынужденной"? - оживился директор. - Он что у тебя, летун?
Я, молча, кивнул.
- Что закончил, не знаешь?
- Николаевское военно-морское училище летчиков имени Леваневского.
Я знал биографии близких родственников по годам и, чуть ли, ни датам, как, впрочем, и любой другой человек, кому довелось подавать документы на визу в советское время. На нашего Небуло это произвело впечатление.
- Ладно, иди, - коротко бросил он и что-то черкнул в своем ежедневнике. - Учителю скажешь, что я вызывал.
Имея такую отмазку, можно было вообще не идти на урок, догулять его до конца. В иные златые годы я так бы и поступил. Только время не позволяло. Мой отсчет в этой реальности пошел на считанные часы. Было бы дуростью, потратить их столь нерачительно. Где-то там, в прошлой своей жизни, я уже начал искать очки.
Надежда Ивановна стояла у черной доски, под надписью "Как я провел лето". Обернувшись на шум, и увидев меня, стоящего на пороге, кротко сказала:
- Садись, Саша.
И я зашагал, немея ногами, на зеленый свет Валькиных глаз.
Естественно, все смотрели, шушукались, толкали друг дружку локтями. А какая-то падла подсунула мне под седалище канцелярскую кнопку. Чуть было ни сел!
Впрочем, все это мелочи по сравнению с тем, что для бабки Филонихи это было второе действие, первого в ее жизни, большого, настоящего бенефиса. Казалось бы, на что там смотреть? Обычное школьное платьице с черным передником, белым воротничком и кружевными манжетами. Даже свои роскошные волосы она решила не распускать, а заплела в одну большую косу. Но все это смотрелось настолько контрастно по сравнению с ее каждодневным видом, что не могло не убить наповал.
Было еще в Валькином облике нечто такое, что настоящий мужчина может увидеть и оценить только с позиции возраста. Она была внутренне озарена ровным, домашним светом, имя которому, счастье. Ее вечно ссутуленный позвоночник, смотрелся теперь, ликующим восклицательным знаком.
Даже я Вальку любил, как любят добротную, красивую вещь, сделанную своими руками. Если судьба страны складывается из человеческих судеб, ей привалило немножко счастья. Только ради одного этого стоило помирать.
Ни на кого это чудо, естественно, не смотрело, но и не было в ней ни тени высокомерия. Интуитивно Валька выбрала верный ход, всем своим видом показывая, что ничего сверхъестественного не произошло, не надо аплодисментов, просто она отыграла скучную роль деревенской Золушки и вживается теперь, в новый образ.
Под любопытными взглядами одноклассников, я чувствовал себя, как рыба в аквариуме. Особенно усердствовали девчонки. В неофициальном рейтинге школьных красавиц, каждая из них застолбила за собой место в первой десятке, а раздача началась с аутсайдеров. Ну, как не взглянуть на болвана, ни черта не понимающего в девичьей красоте?
Что касается пацанов, то им наша парта быстро наскучила, так как вовремя подвернулся более интересный объект для созерцания и приложения силы. На пороге возник еще один опаздавший - наш отъявленный второгодник Женька Полторакипко по кличке Ухастый. Он три года отсидел в третьем классе, и первым из нашего коллектива был сегодня с утра вызван в военкомат для прохождения медкомиссии в качестве допризывника. А там для начала стригут на лысо, и только потом спрашивают, в каком классе ты учишься.
Не успел Женька приземлиться на свою парту, как был тут же обстрелян изо всех видов подручных вооружений. Ведь хлыснуть по лысой башке бумажною шпулькой, все равно, что убить медведя. Редко кто мог себе отказать в таком удовольствии.
Чтоб прекратить это безобразие, Надежда Ивановна вызвала Полторакипку к доске. Он потел в своем коричневом пиджаке, скрипел мозгами и мелом, послушно царапая на черной поверхности то, что мы писали в своих тетрадках: "Сад наполнился шумом, смехом. Голубые глаза смотрели ровно, спокойно. Мария Павловна встала, вышла в другую комнату и вернулась с листом бумаги, чернильницей и пером. Огонь на свечке беспокойно замелькал, ярко вспыхнул и потух".
Женька писал коряво, но с заданием справлялся вполне. Только в самом последнем предложении допустил сразу две ошибки: вместо "ярко" написал "яро" и после слова "замелькал" пропустил запятую.
- Садитесь, Евгений, три, - вздохнула Надежда Ивановна, - боюсь, что эта оценка будет у вас и в четверти и, естественно, за год.
Насколько я помню, все педагоги нашему Ухастому "выкали", хоть был он из обычной семьи: отец комбайнер, мать - зоотехник в колхозе. Мне кажется, дело тут не в семье, не в блате, не в родственных связях, а в нем самом. Насколько беспомощно он выглядел у доски, настолько уверенным в собственных силах, казался вне классной аудитории. Да что там казался - был. Начнем хотя бы с того, что во время школьных каникул, Женька работал прицепщиком в огородной бригаде, имел карманные деньги и даже вот этот костюм купил себе сам. В прошлой моей жизни, он резко ушел из школы, не закончив седьмой класс, вроде бы как женился, и к моменту призыва в армию, успел настрогать двоих сыновей. Естественно, не служил, а с момента рождения первенца, стал заниматься серьезным мужским делом - строить собственный дом. При встречах Ухастый всегда здоровался, хоть, наверное, и не помнил, что мы с ним учились в одном классе. Разговаривать с ним было безумно скучно. Две вечные темы: о деньгах, или стройматериалах.
Вальку на перемене окружили девчонки. Она легко и естественно влилась в этот серпентарий, где до своих заскоков была своим человеком. Интересно на них смотреть. Сбились в тесную кучку, как ёжик в клубок. Только вместо иголок "шу-шу-шу, хи-хи-хи". Беда, коли попадешь этому зверю на зуб. Годика через три, когда я опять вернусь в эту школу, после такого вот "шу-шу-шу", они не примут меня в комсомол. Им ведь, в кино да на танцы, желательно с мальчиками, а я в футбол, да на речку. Получается, не дорос.
- Про тебя говорят, - просветил меня Витька Григорьев. - Я в сортире сидел, слышал. Ты, оказывается, бабка Филониху в центре выгуливал?! Будут тебе неуловимые мстители...
До этой минуты я пребывал в состоянии просветленной печали.
Всех простил, со всеми простился, с Витька, вон, слупил обещание, что не будет галюзить, и тут такая подлянка! Вот тебе и Валюха, все подружкам растренькала! Быстро же у нее, эффектом большого взрыва, все извилины укоротило и привело к общему знаменателю!
Последние полчаса моего бытия в этом реале, были безнадежно испорчены.
На следующем уроке, Надежда Ивановна начала диктовать список литературы к внеклассному чтению на период летних каникул. Естественно, я ничего не писал - не до того было. Готовился. Пытался настроить душу на торжественный, всепрощающий лад, отрешиться от суеты - не получалась. В голову лезла всякая ерунда. С какого-то хрена вспомнилось внутренне расположение банковских помещений первого этажа.
Если сделать ретроспективу в будущее, мы с Филонихой торчали сейчас в приемной, парта Напрея подпирала центральные двери, а Славка Босяра сидел в директорском кресле. Что касается классной доски, то ее вообще вынесли в помещение, куда посторонним вход воспрещен.
Потом меня отвлекли. С левого фланга поступила записка, где почерком Катьки Тарасовой черным по белому было написано: "Саша, пойдем завтра в кино?" Я так разозлился, что написал в ответ фразу из анекдота про попа - посетителя публичного дома: "Больно уж ты страшна, матушка!"
Остальные записки заворачивал, не читая. Сволочи! Помереть спокойно - и то не дадут!
За десять минут до конца урока, Надежда Ивановна немного дополнила задание на каникулы. Нужно будет еще написать сочинение на вечную тему "Как я провел лето", сочинить аннотацию к самой любимой книге, нарисовать для нее обложку. Потом наша классная начала собирать дневники, чтобы выставить в них годовые оценки. Ничего, в принципе, сверхъестественного, не считая того, что я был еще жив. В смысле, не жив, а при своей старческой памяти.
Вот, честное слово я испытывал разочарование. Черт бы побрал эту небесную канцелярию! И там волокита! Как прикажете жить, если нет никакой определенности? Может быть, в православных канонах церковники допустили арифметическую ошибку и мне причитается еще один день? О том, что тело мое и мозг, могут сейчас находиться в коме, я старался не думать. Эта мысль сразу же прерывалась пронзительным криком души: "Бедный Серега!"
В общем, кругом полная жопа. Да к тому же, мои неприятности и не думали на этом заканчиваться. Они нарастали, как снежный ком. Хреновое качество стремительно перерастало в количество: на перемене ко мне подкатил Босяра.
- Ты че это Катьку Тарасову обижаешь? - спросил он, наступая мне на ногу, и ударил локтем под дых. - Совсем оборзел?
Чуть пресс не пробил, падла!
- Слушай, папаня, - сказал я по старой привычке, - что ты, в принципе, хочешь? Если подраться, то без проблем, присылай секундантов, а если поговорить, как мужик с мужиком, перетереть непонятки, я тоже не против. Только думай быстрее, мне некогда.
- Ладно, пошли побазарим, - тряхнул головой Славка, остывая глазами, но не удержался, съязвил. - Ишь ты, какой занятой!
Мы отошли в угол двора, присели на низенькую скамью, что большой буквой "Г" окружала забор по периметру, огляделись. Здесь нам никто не мешал.
- Давай откровенно, на чистоту и без обид, - предложил я.
- Давай! - согласился Босяра.
- Тарасова пригласила меня в кино. Я отказался. Тебе, как я понял, это не нравится. Может быть, надо было сделать наоборот? Сходить с ней на вечерний сеанс, проводить Катьку до дома, зажать в темном углу и мацать за потные сиськи?
- Да я бы тебя убил! - откровенно сказал Славка и сжал кулаки. - В чем-то ты, Пята, прав. Только Катька моя двоюродная сестра, можно было ей отказать как-нибудь без обид. Так что драться нам все равно придется. Во-первых, я обещал своей мамке всегда ее защищать, а во-вторых... мне самому интересно.
Коротко дзинькнул звонок. Девчоночий серпентарий компактным клубком запылил в сторону класса. В воздухе плыли вздернутые носы. Мы со Славкой были для них далеко в стороне и несравнимо ниже. Только Катька Тарасова снизошла: скользнула по мне ненавидящим взглядом, что-то сказала подружкам и, хохоча, взлетела по ступенькам крыльца.
До революции в этом доме жил, наверное, какой-нибудь бондарь. Высокий, темный подвал был залит до половины грунтовой водой, где плавали почерневшие от времени бочки. Сейчас там хранятся деньги.
Ну, вот и поговорили, - я встал, и без задней мысли, подал руку Босяре.
Он сделал вид, что этого не заметил:
- Драться будем на большой перемене.
- Заметано!
Настроение у меня несколько приподнялось. Я и сам, было дело, хотел покончить с этой бодягой в самые кратчайшие сроки, но по негласному кодексу, условия выдвигаются вызывающей стороной. Вот тебе и "не спеши жить"! Ну как тут, скажите, не будешь спешить, если ты в этом реале на птичьих правах? В любую минуту провидение скажет "извините-подвиньтесь" и место мое за партой займет лопоухий пацан, которых ни сном, ни духом о моих дурацких разборках. Настучит ему Славка по репе, и будет прав: не умеешь драться - не возникай! С его феноменальной реакцией это раз плюнуть.
От прочих дурных мыслей, меня отвлекла математика. Нина Васильевна Бараковская, которую школьники звали, не иначе как "ясновельможная пани", учинила классу контрольную. Старый учебный год у нее никогда не спускался на тормозах.
С примером я справился самостоятельно, а вот с задачей не получалось. Пришлось инспектировать тетради бабки Филонихи, благо, она не протестовала. У Вальки был вариант про гараж и машины, у меня - про лесной массив, но принцип решения я уловил. Дробные цифры заменил целыми; вычислил, сколько частей приходится на 77 гектаров, чему, в итоге, равна площадь соснового и елового леса, и еще через два действия получил конечную цифру.
Сдавая тетрадь, специально заглянул в классный журнал, чтобы прояснить для себя тему контрольной работы. Она называлась замысловато: "решение задач на пропорциональное деление". Во как! Теперь я и это могу.
Урок пролетел, как одна минута, не оставив мне времени для размышлений. А я ведь, еще до конца не продумал тактику и стратегию предстоящей дуэли. Спарринг со Славкой - это не дули крутить воробьям. Крепкий орешек, такой даже опытом не возьмешь. Любил он, на старости лет, вспоминать о своих боевых похождениях.
- Я, - говорил, - Санечек, когда с кем-нибудь дрался, мне все время казалось, что он кулаками машет как будто, в замедленной съемке.
Честно скажу, я ему верю. Во-первых, не раз и не два видел своего крестного в деле, а во-вторых, в спецназ так просто не попадают, а в-третьих, был еще один человек, утверждавший нечто подобное - хоккеист легендарной тройки Виктор Полупанов.
На пустырь за спортивной площадкой мы с Босярой пошли вдвоем. Напрей с Витькой Григорьевым дописывали контрольную. Обещали догнать, а пока, мол, "начните без нас".
- Я тебе доверяю, - смеясь, говорил Славка, и хлопая меня по плечу, - сам тоже не обману. Ты, Пята, не бойся, уничтожать не буду, просто немножечко проучу.
Со стороны казаться, что два закадычных друга идут по своим делам. В принципе, так и было. Ничего, кроме добрых чувств, я к своему крестному не испытывал, хоть и решил для себя начистить ему хлебальник в самые кратчайшие сроки. Ибо нефиг!
Мы, молча, разделись до пояса, показали друг другу ладони. Славка сказал "сошлись", рванулся было вперед, но тут же, отпрянул, чтоб засмеяться. Он никогда раньше не видел такой стойки: обе руки согнуты в локте, правый кулак на уровне лба, а левый в районе солнечного сплетения. В те годы это не впечатляло.
Направление первой атаки я прочел по его глазам. Зрачки напряглись, сузились, быстрый тычок скользнул над моим локтем в район правого уха.
Я тупо выпрямил правую руку. Уходя вверх, по прямой, предплечье отбросило этот удар. Тут же, обратным ходом, я пустил свой кулак вниз, по дуге, прямо в ухмыляющуюся рожу.
Куда-то попал. Славке даже пришлось пробежаться, чтоб не упасть. Из рассеченной щеки под виском капала кровь.
Глава 10. На птичьих правах
Перед последним уроком, Босяра перебрался на заднюю парту. Он сел рядом с Напреем. Отгородился от мира учебником английского языка, прикрыл заплывающий глаз носовым платком. Фингал получился маленьким, аккуратным. Верхнее веко опухло и стало фиолетово-черным, как у завзятой модницы после парадного макияжа. Вот только, щека у Славки была безнадежно испорчена. Теперь, до конца жизни, придется ему носить в уголке правого глаза, шрам в виде тонкой открытой скобки. Точно такой же, был у него и в прошлой моей реальности. Только там он его подцепил во время общей уличной драки, после восьмого класса, плюс авторство не мое.
Нет, зря, все-таки Славка отказался идти в санчасть и накладывать швы. Шрамы конечно, украшают мужчину, но не в таком возрасте. По-пацански он прав, не хотел меня подставлять: упал и все! Это он сам придумал, когда из дверей мастерской выскочил трудовик и ухватил меня за ухо:
- Отпустите его, Юрий Иванович, это я сам упал!
- Сам?! - удивился тот, - Да как же тебя угораздило?
- Об железку споткнулся. Под ноги не смотрел.
- Экий ты нестуляка! Ну-ка пойдем в цех! Рану нужно промыть, обработать. Заодно поглядим, у тебя с глазом. Может, придется скорую вызывать.
- Не надо никакой скорой! - запричитал Славка.
- Пойдем, пойдем! - Мне видней: надо, или не надо. Ишь ты какой! Как хулиганить, так первым бесом, а как на расправу, "не надо!"
Интересный мужик, наш Юрий Иванович. Природа его раскрасила красным цветом. Шеки, брови, глаза, нос, даже крупные кудри над его вечно наморщенным лбом, отливали ровным багрянцем, без граней и полутеней. Из напитков, он тоже предпочитал "красненькое", как и его закадычный друг, преподаватель физики, Николай Игнатьевич Варбанец. Помимо гастрономических предпочтений, было у них и одно большое общее горе - оба подпяточники. Поэтому, лишних денег, у друзей никогда не водилось. Николай Игнатьевич жил в двухэтажном государственном доме, а Юрий Иванович построил собственный особняк на большом участке земли с теплицами, садом и огородом. Он действительно любил труд: и как школьный предмет, которому нас учил, и как форму существования. На земельном участке, ухоженном его мозолистыми руками все произрастало с избытком и было источником неучтенки, которую можно было пустить на пропой.
- Люсёк, - говорил Николай Игнатьевич своей суровой жене, - там, за углом, помидорчики дешевые продают...
Оба они проживут долгую жизнь, оставив за спиной не одно поколение грамотных, трудолюбивых выпускников. Юрий Иванович умрет в своем огороде, у него оторвется тромб, а Николай Игнатьевич - в банке. Ему нахамят в операционном зале так, что остановится сердце.
Но никто, кроме меня, не знал своего будущего. Трудовик колдовал над Славкиной надбровной дугой, накладывал тугую повязку, а тот продолжал лениво отбрехиваться:
- Не хулиганили мы.
- Не хулиганили?! А что ж вас сюда, на пустырь занесло, подальше от глаз? Молчите? Так я вам скажу: или драться, или курить. Ох, дождетесь, возьмусь я за вас. Вот, прямо сейчас директора позову...
Мы не курить, - не на шутку струхнул я, - мы сюда за двигателем пришли. Хотели скрутить со стиральной машинки.
- Вот молодцы! - с сарказмом сказал Юрий Иванович, - одни стараются, собирают, а другие будут растаскивать! Может быть, скажешь, Босых, для каких таких срочных нужд вы на это пошли?
- Так это... - промямлил Славка, не зная, как лучше соврать.
- Мы хотели сделать приспособление, чтоб семена с веников очищать, - мгновенно нашелся я, и быстро добавил, - для школы.
- Похвально, - расцвел трудовик, - очень похвально! Рачительно, по-хозяйски! Так... сколько у нас до конца перемены, двенадцать минут? Ты, Босых, иди в санчасть. Нет у тебя ничего страшного, обычное рассечение. Пусть Марь Иванна наложит швы. Шрам, конечно, останется, но будет не столь заметен. Денисов тебя догонит.
Как я и предполагал, Юрия Ивановича зацепило. Учитель семидесятых был человеком призвания. В профессию шли не за большими деньгами, а по зову души. Естественно, ему было приятно, что сопливые пацаны, меньше года назад не умевшие работать напильником, проявили инициативу. Пусть, даже, то, что они придумали, не стоит выведенного яйца, важен факт, сам по себе достойный поощрения и поддержки.
Он протянул мне листок бумаги и огрызок карандаша:
- Ну-ка изобрази, что вы там со Славкой Босых по незнанию нафантазировали.
Я несколькими штрихами нарисовал электрический двигатель, направление вращения вала, цилиндрическую насадку с рифленой поверхностью и фланцем для фиксации на валу. В примечании указал, что резьба на ступице, стопорный болт и гайка должны быть с левой резьбой. Это ему понравилось больше всего:
- В данном случае именно с левой! Гм... в принципе, почему бы и нет?
Юрий Иванович внимательно изучил мой, вполне приличный чертеж, в конце уточнил:
- Насколько я понял, рабочая поверхность насадки должна быть шероховатой, обработанной на станке?
- Не обязательно. Дед наварил куски проволоки, старые гвозди без шляпки...
- Ага! Это ты, значит, у деда своего подглядел! - возликовал трудовик. - То я и смотрю: откуда ж такая изощренность разума?
Ну что ж, тоже похвально! У взрослых нужно учиться, перенимать опыт. Без этого никуда. Ну и как, работает чистилка?
- А куда она денется, - солидно ответил я. - нечета ручному станку! Только семена по двору сильно разбрасывает. После каждого раза приходится подметать. Вот если бы предусмотреть нечто вроде длинного кожуха, заканчивающегося воронкой...
- Ладно, иди! - перебил меня Юрий Иванович, - а то опоздаешь. После уроков загляни в мастерскую. Если меня, вдруг, не будет, тогда завтра с утра.
Ни в какую санчасть Славка, естественно, не пошел. Он ждал меня тут же, за углом мастерской, в окружении припозднившихся секундантов и, мотая своей забинтованной головой, втирал им историю про падение. Я догадался об этом, услышав последнюю фразу:
- Быть такого не может! - сомневался Напрей, - я упал - руку разрезал, ты - голову проломил. Или Пята колдун, или ты набрехал.
- Ну, если не веришь, сам у него спроси. Так как было дело, Санек?
- Шел, упал. Очнулся - гипс, - пояснил я, - и вообще, нефиг было опаздывать!
Юрка пристально осмотрел мою рожу и, не увидев ни ссадин, ни синяков, бессильно развел руками:
- Гля, точно! Во везун!
Да я б на его месте и сам не поверил, что Босяра в кого-то ни разу не попадет.
- У тебя на контрольной по арихметике какой ответ получился? - спросил у него Витек, возвращая всех нас с неба на землю. Они с ним решали один вариант.
- Шестьдесят восемь целых, и четыре десятых, - ответил Напрей.
- Четыре десятых машины?! Сам-то подумал, что написал? -
возмутился мой секундант. - Ты, наверное, запятую неправильно перенес. Какое у тебя было последнее действие?
И они пошли впереди, обсуждая Юркину неудачу.
Вот тебе и беспросветный двоечник! - удивлялся я, глядя в Витькин затылок. - Кто б мог подумать, что его проблема лежит на виду, на обороте обложки обычной тетрадки в клеточку?
Нещадно палило солнце, приближаясь к зениту. В ветках колючих акаций, от него прятались воробьи. Голову припекало. Волосы были почти горячими - и ничего. А после шестидесяти, я буду терять на жаре сознание. Все течет, все меняется. С годами я понял, почему дед всегда прикрывал макушку соломенной шляпой.
- Я знаю, как это у тебя получилось, - после долгих раздумий выпалил Славка. - Ты выпрямил руку, а это намного быстрей, чем её поднимать. Можно так, можно так, - он встал в мою стойку и наглядно продемонстрировал варианты блоков и контратак. - Одного не пойму, почему ты все время прикрывал свое дыхало? Я ведь, бью только по роже.
- Это, папаня, защита от удара ноги, - пояснил я. - Вот посмотри: делаешь шаг назад, крепишь ладонью правой руки левый кулак - и хрен прошибешь!
- А что, - изумился он, - есть на свете такие скоты, которые дерутся ногами?!
- Есть, - подтвердил я, - в Японии, например.
- Вот суки!
Не дождавшись ответа, Босяра многозначительно помолчал, приглашая меня первым коснуться, неприятной для него, темы. Но чувство попранной справедливости в итоге возобладало.
- Слышь? - прошептал он, - пацаны и в правду поверили, что это я сам упал...
- Так это же хорошо! - с позиции прожитых лет, я, как будто читал все порывы его души, и по-взрослому успокоил Славкину совесть. - Нам же будет меньше проблем. Та же Танька Тарасова, если узнает о драке, сразу директору вломит. А оно мне сейчас меньше всего надо. Илья Григорьевич с утра вызывал. Сказал, что наш дом стоит на меже, и вопрос о моем переводе в новую школу напрямую зависит от моей учебы и поведения.
Кажется, Босяра поверил. Во всяком случае, у него возник только один вопрос:
- "Вломит" - это "наябедничает"?
- Угу.
- Ну, ты сказанул!
На урок мы чуть было не опоздали. Англичанка с классным журналом уже шагала по коридору. Увидев нашу компанию, остановилась, приподняла очки.
- What's wrong? What happened, Вячеслав? - спросила она.
- Упал, Валентина Васильевна, - браво ответил Славка, - it is a fell down!
- Где мой валидол? - простонала она и прислонилась к стене.
Пользуясь этой оказией, мы прошмыгнули в аудиторию.
Ничего интересного на последнем уроке не произошло. Мне пришлось немного покрасоваться под перекрестными взглядами одноклассников. Не увидев на моей роже ничего примечательного,
их интерес переключился на Славку. Наверное, наша драка была кем-то широко анонсирована. Англичанке пришлось несколько раз прикрикнуть "sit still!", чтобы "чилдрены" прекратили вертеться и внимательно выслушали свои годовые оценки. У меня получилась четверка, а Катьке Тарасовой, Валентина Васильевна влепила трояк. Услышав свой приговор, она упала на парту и, падла такая, заплакала. Насколько я помню, она по английскому все время перебивалась с тройки на двойку. Так что рыдала Тарасова не из-за низкой оценки, а от бессильной злобы. Не срослось у нее.
Такой вот, сверхурочный нежданчик у меня получился. Сказать, что я слишком уж радовался - так не было этого, но и не горевал. Настораживало одно: я все больше вживался в образ и суть двенадцатилетнего пацана. Старый, вроде бы, человек, а с какого-то хрена ополчился на Катьку Тарасову. Смалился! Ей и так выпадает такая судьба, что не позавидуешь! Выйдет замуж за офицера, который погибнет в Афгане. Гробовые, фронтовые и прочие сбережения схарчит Павловская реформа. И останется она с пенсией по потере кормильца, и годовалым ребенком. Чтобы выжить в период шоковой терапии, будет выращивать на продажу бычка. А он, этот бычок, как только войдет в силу, затопчет до смерти ее малолетнего сына, последнюю отдушину и надежду.
Совесть, как побитая собачонка завыла в моей душе. Ей было жалко и маленького мальчишку, место которого я занимал, и Катьку Тарасову, и Лепеху, и всех, кто уйдет раньше меня, или останется после.
С последним звонком, я не стал вместе со всеми рваться к дверям, на свободу, а остался сидеть за партой, делая вид, что собираю портфель. Тарасова тоже не торопилась. Так получилось, что кроме нас, в классе еще оставались Витька Григорьев и бабка Филониха. Не обращая на них внимания, я подошел к Катькиной парте, щелкнул задниками сандалий и произнес:
- Просю пардону, мадам! Каюсь, оскотинел! Разрешите поцеловать вашу ручку?
Она покрутила указательным пальцем у своего виска, сказала "ку-ку!" и только потом засмеялась.
- Ты че это? - спросил Витька, когда мы вместе вышли на улицу, - нашел перед кем извиняться - перед Тарасихой! Это ж она, сучка, Босяру на тебя натравила. Был бы ты, Сашка, сейчас с
набитою рожей, если бы Славка об железяку не гепнулся. И как это он умудрился?
- Там проволока валялась возле кучи металлолома, - сочинял я на ходу, - Юрий Иванович нас окликнул, мы оглянулись, а она ему под ноги.
- А че ему надо то было?
- Кому?
- Трудовику.
- А я почем знаю? Сразу не догадался спросить, а потом ему некогда было. Он Славкину голову забинтовывал. Если хочешь, пошли, уточним.
- Ты куда? - всполошился Григорьев, увидев, что я направляюсь в сторону пустыря.
- К нему. Спрашивать.
- Вот ненормальный!
- А че ты тогда пристал?
Витька обиделся, хотел психануть, но мне уже было видно, что, судя по навесному замку, Юрий Иванович на рабочем месте отсутствовал. Исчезли и двигатели во всех четырех стиральных машинках. Поэтому я сказал:
- Ладно, погнали домой.
Мы шли коротким путем, мимо Лепехиной хаты. Калитка была закрыта, стало быть, Кольку похоронили. Нормальным он был пацаном, не лучше и не хуже других. Почему именно он оказался лишним в этой реальности, для меня остается загадкой.
Витек, как оказалось, в воскресенье здесь побывал, и теперь рассказывал мне разные ужасы. Мол, перед тем как мужики забили Лепехин гроб, покойник открыл глаза и посмотрел на него.
Разговоры о смерти были мне неприятны по многим причинам. Поэтому я перебил:
- Гонишь! Колька бычок прикуривал, когда я его случайно в спину толкнул. Он, наверное, спичкой ресницы себе опалил.
- Че?! Как ты сказал?
- Ну, "гонишь" это типа того, что ерунду разную мелешь.
- И вовсе не ерунду! Бабушка Маша рассказывала, что бывает такой сон, когда человек кажется мертвым. Знаешь, сколько народу по ошибке похоронили?
Сейчас Гоголя вспомнит. Вот, блин, попало вороне говно на зуб!
По дороге все чаще попадались солдаты в пилотках и расстегнутых выцветших гимнастерках, группами и по одному. Витька, наконец, их заметил и поменял тему. Теперь он рассказывал про брата Петра, которому дали отсрочку от армии потому, что он учится в ДОСААФе и скоро станет "настоящим шофером".
Особенно много солдат было их на железной дороге. Целый воинский эшелон с теплушками, бортовыми машинами на открытых платформах, и офицерским пассажирским вагоном. Они приезжают к нам каждый год и будут до поздней осени, пока не закончится уборочная страда. На грузовой площадке уже с утра скопились стайки окрестных пацанов и девчат. Им все интересно: понаблюдать за разгрузкой, вступить в разговор с взрослыми дядьками, рассказать им, где находится магазин, у кого можно купить самогон и получить в награду красноармейскую звездочку.
- Будут теперь баб наших фоловать! - мрачно сказал Витек и сплюнул через губу.
За солдатами я ничего такого не замечал. А вот после строителей сахарного завода из ближнего зарубежья, только на нашей улице родилось два болгарчонка. Поэтому уточнил:
- С чего это ты взял?
- Старший брат говорил.
Это было так уморительно, что я засмеялся. Мой корефан снова обиделся и нырнул под ближайшую сцепку. Я не стал его догонять - надоел! - и отправился прямиком на смолу. По пути почему-то вспомнилось, как годика через два с половиной, Петька Григорьев дембельнется из армии.
Витьку, к тому времени, пошарят из школы. Он уедет в Ростов учиться на слесаря. Я перейду в новую школу, влюблюсь в Алку Сазонову - губастую девочку с кукольными глазами Мальвины, начну покуривать, чтобы казаться мужественным, и конкретно съеду на трояки. У меня появится новый друг - Сашка Жохарь из моего нового класса. Мы сойдемся на почве футбола, гитары и моей неразделенной любви. Сашка, как оказалось, тоже по Сазонихе сох, но отказался от притязаний. Ведь дружба превыше всего.
У Жохаря было две взрослых сестры. Старшей, кстати, и выпало стать матерью одного из уличных болгарчат - косоглазого Витьки, смышленого и шустрого пацана. Сашкину мать он называл бабушкой, а отца почему-то папой.
Средняя Танька училась в десятом классе, но у нее уже был конкретный, самостоятельный ухажер, тракторист из соседней станицы по имени Гай. Он приезжал к ней по субботам, чтобы вместе сходить в кино, а потом сидеть до полуночи в тесной времянке, целоваться и строить планы на будущую совместную жизнь. Как он потом добрался домой, этого я не знаю, но рисковал. Чужаков, охочих до местных баб, в нашем городе отлавливали и били.
В этом плане, Гаю вдвойне повезло. Мы с Сашкой входили в силу, обрастали авторитетом. Во всяком случае, на нашем краю Пяту и Жоха знали. Поэтому, в знак благодарности, а может, и в счет будущих услуг, Танькин ухажер подсуетил нам гитару: дамскую, обшарпанную, без третьей струны, но с довольно приличным звуком. Это было поистине царским подарком. Гитара в то время была в большом дефиците. Проще было найти "Жигули" в свободной продаже.
Ко времени Петькиного дембеля, мы умудрились освоить целых четыре песни, и теперь подбирали пятую - хит сезона "Червону руту". Слов, понятное дело, не знали, просто "лялякали".
Гитара была у Сашки в руках, он подбирал аккорд под фразу "я без тэбэ вси дни", и в это время на улице появился Петро. Был он в солдатской форме нового образца, но каким-то маленьким и невзрачным, по сравнению с тем верзилой, каким уходил в армию.
Я его и угадал только по голосу.
- Здоров, пацаны! - произнес он своим Шаляпинским басом, вот, дембельнулся!
Был разгар бабьего лета. Жаркий день постепенно клонился к вечеру. В тени белолистого тополя, где стояла наша скамейка, солнце не слепило глаза. Петька нашел свободные уши и начал рассказывать о "тяготах и лишениях", обдавая нас сложным запахом самогона, потного тела и одеколона "Шипр".
В его изложении, служба в ГСВГ - дело веселое и вовсе не обременительное. Самое сложное, это прорваться в Союз, и купить на продажу часы "ракушка". Они в ГДР всегда нарасхват. На вырученные деньги Петька целыми днями сидел в "гаштэте" и пил заграничный шнапс. Иногда возвращался в казарму, чтобы как следует выспаться, но чаще нырял в альков какой-нибудь Эльзы и трахался с ней до утра.
- У них там это мероприятие, как нашей Маруське губы накрасить, - рассказывал дембель. - Есть даже такой праздник, когда молодая немка, если ей больше шестнадцати лет, обязана дать первому встречному. Если целка - вроде как порченая. Поэтому я ни на ком и не женился...
Про "трахался до утра" мы попросили рассказать поподробнее.
Дело темное, непонятное, пугающее.
Трындеть - не мешки ворочать. И Петро, с новыми силами, взялся за повествование, но... не хватало фантазии. Дальше "тряпочки под подушкой" дело почему-то не шло. Почувствовав, что плывет, он все-таки изловчился, и вышел из неловкого положения:
- В общем, так, пацаны, чего уж там мелочиться! Вечером, как стемнеет, приходите ко мне домой, и вместе рванем на блятки!
Не знаю, как Сашка, а я Петьку Григорьева зауважал.
К таинственному походу "на блятки" мы собирались, как на Северный Полюс. Долго думали и решали, брать нам с собой гитару, или не брать? С одной стороны лишней не будет, а с другой... другие же как-то обходятся без песен и серенад? Особенно убивало отсутствие плавок. Нам почему-то казалось, что в семейных трусах много не наблядуешь.
Время шло. Солнце садилось. В душе моей нарастало смятение.
- Может, ну его нафиг, как-нибудь в другой раз? - я схватился за эту фразу, как за спасательный круг.
Сашка сплюнул, посмотрел на меня с презрением, и вынес свой приговор:
- Опозоримся - так опозоримся! Надо ж когда-нибудь начинать? В следующий раз будем умнее.
Петька нас почему-то не ждал. Семья Григорьевых ужинала во дворе. Бутылочка шла по кругу. После долгого, собачьего лая, из калитки выглянула раскрасневшаяся Танька. На просьбу позвать старшего брата, попросила с полчасика подождать, он, мол, еще "не поел".
Чтоб не смущать хозяйского пса, мы отступили к дому напротив, присели на бревнышко.
- Не будет тут ничего, - мрачно сказал Сашка. - Только мы все равно не уйдем. Посмотрим, как он будет выкручиваться.
Стрелки часов приближались к восьми. Это был крайний срок, до которого меня отпускали гулять. Опять попадет! А что делать? Не бросать же товарища одного?
Наконец, лязгнул засов. На фоне открывшегося проема, проявилась Петькина тень.
- Ну, кто там еще? - мрачно спросил он, всматриваясь в темноту, - а ну, выходи на свет!
Я думал, он нас не узнает, ан нет! Не только узнал, но и вспомнил, зачем мы сюда пришли.
- Сейчас, пацаны, айн момент.
Он вышел в спортивных штанах, белой гражданской майке и вьетнамках на босу ногу. В опущенной левой руке, на излете, как противотанковую гранату, держал бутылку, закрытую кукурузным початком.
Мы смотрели, и мотали на ус.
- К Балерыне пойдем, - пояснил старший товарищ.
- Она нас уже ждет? - робко спросил я.
Петро посмотрел на меня, как на существо неразумное, но все-таки пояснил:
- Это такая шаболда, что всем дает.
Блятки были недалеко. Через пару кварталов, наставник остановился и приступил к дальнейшему инструктажу:
- Подождите меня здесь. Чуть что, позову.
Это "чуть что" мне сразу же не понравилось.
Мы послушно присели на траву у кювета, а дембель свернул направо и скрылся в ночи. Где-то недалеко затрещали кусты, загомонили окрестные псы.
Дабы не пропустить что-нибудь важное, мы подобрались ближе. Ломая ветки сирени, Петро топтался под окнами невзрачной хатенки и бросал комочки земли в закрытые ставни.
Никто почему-то не выходил. Внутри было темно. Сквозь щели не пробивалось ни единой полоски света.
- Мне почему-то кажется, что там никого нет, - с ехидцей шепнул Жохарь, подтверждая мои подозрения.
Время шло, а Петька все блядовал. Наконец, это дело и ему надоело. Он разломал скамейку, стоявшую у калитки, матюкнулся и зашагал прочь, не забыв прихватить бутылку. Проходя мимо места, на котором, согласно инструкции, должны были сидеть мы, нарочито громко заговорил:
- Вот сучка! Все бы она выделывалась, все бы хвостом крутила! Некогда ей, нет настроения. Да пошла ты! Ага, размечталась, женился бы я на тебе!
В сторожку я даже не заходил. И так было видно, что людям не до меня. Смоловозки сновали туда-сюда. Город ширился, обрастал новостройками, и всем нужен был наш гудрон. Дядя Вася отпускал длиннющую очередь, а Петро сегодня отвечал за разгрузку. К открытым резервуарам подогнали целых четыре вагонных секции. Наверное, они были с подогревом: смола из них шла самотеком и дымящимися языками разливалась по гладкой поверхности, хороня под собой трупы домашних и диких птиц. Это было, пожалуй, единственное неудобство от такого соседства. На солнце, во время летней жары, поверхность резервуаров очень напоминала пруды с чистой водой. Гуси и голуби залетали сюда стаями. Поэтому поговорка "увяз коготок - всей птичке пропасть", здесь, на смоле, обретала конкретный, безжалостный смысл. Зато зимой в этих коробках мы играли в хоккей - гоняли плоский булыжник самодельными клюшками, вырезанными из вербы. Коньков, на нашей улице, кроме меня, ни у кого не было. Но они почему-то не ездили по смоле. Да и кататься я не умел. Меня увезли с Камчатки, когда я только-только научился на них стоять.
Запарка была конкретной. Никто из мужиков со мной даже не поздоровался. Да я был на них за это и не в обиде. Наоборот. Уходя в школу, я даже в мечтах не надеялся еще раз взглянуть на них, на весь этот мир, наивный, родной и уютный. Даже солнце сегодня светило под стать моему настроению, и ничто не могло его омрачить.
- Ну, вот он, герой! - торжественно вымолвил дед, когда я открыл калитку.
Наверное, где-то нашкодил.
Продолжения не последовало, от души отлегло. Обернувшись, я, прежде всего, увидел незнакомого моложавого мужика. Поднимаясь со стула, он затушил сигарету с фильтром и шагнул мне навстречу.
- Спасибо тебе, парень, - вымолвил этот мужик дрогнувшим голосом, - ты мне дочку вернул.
Фигасе, сюрпризы! В ожидании разъяснений, я завертел головой. Дед сидел на низкой скамейке и невозмутимо курил.
- Это Валерий Иванович, отец Вали Филоновой, - пояснила мне бабушка. Она стояла в дверях, в белом нарядном платочке и без своего вечного фартука. - Ну, накурились? Милости просим в хату.
Не находя других слов, Валькин отец продолжал трясти меня за руку. Заклинило мужика. Наверно, поддал, расчувствовался. Чтобы разрядить обстановку, я прикинулся вещмешком и произнес, глядя на него снизу вверх:
- Я не причем. Это она сама меня в щеку поцеловала.
- Ну, милый мой Гандрюшка, - заполнил паузу дед, - тогда засылай сватов!
Так вышло, что первым не выдержал я. Потом засмеялись все остальные. А громче всех хохотал Валькин отец, даже стонал и всхлипывал.
Как я и предполагал, без застолья не обошлось. Дожидаясь меня, взрослые порешили, принесенную гостем, бутылку "Шампанского", и теперь скоротали дедов графин. На столе меня дожидалась коробка с тортом и полная ваза конфет "Мишка косолапый". Наблядовал.
Эти конфеты я очень любил. Верней, не сами конфеты, а фантик с картиной "Утро в сосновом лесу". Ковер с такой репродукцией висел над моей детской кроватью, когда я еще был маленьким и жил на Камчатке.
К праздничному столу меня, естественно, не позвали. Нечего детям смотреть, как взрослые выпивают. Поэтому я обедал на кухне, бабушка суетилась между двумя столами, а дед терпеливо слушал, скольких седых волос стоили отцу с матерью Валькины закидоны.
- Месяц назад, веревку у нее отобрал, - рассказывал Валерий Иванович. - Вернулась из школы, плачет: "Он меня Бастиндой назвал!"
Ага, - думал я, поглощая бабушкин борщ, - значит, дело тут не в одном артистизме. Походу, бабка Филониха крепко в кого-то врюхалась. Слабовато я поднажал. Надо будет еще.
- Теперь, - продолжал Валькин отец, - совершенно другое дело! Ты не поверишь, Степан Александрович, но я ошалел, когда моя Люха стала выворачивать гардероб и подбирать себе нарядное платье. Терпеть этого раньше не мог, а пятницу аж прослезился. Повеселела, поет, матери помогает, разве это не чудо?
Сложив лодочками ладошки, и бессильно уронив их на колени, бабушка чинно сидела за гостевым столом. Она обладает каким-то внутренним тактом. Когда человек изливает душу, рассказывает что-то важное для себя, она никогда его не прервет, ни словом, ни жестом.
Никем не замеченный, я вылез из-за стола и слинял в огород. Гость в доме это, конечно, к добру, но как-то не во время. Конфеты тоже не будут лишними, но разве для этого я приглашал Вальку в кино? Теперь получается, типа того, что обязан. Сочинить ей, что ли, стишок?
К счастью, Валерий Иванович оказался человеком тактичным. Не стал мурыжить радушных хозяев. А может быть, знал, что деду сегодня опять, после ночи в ночь. Бабушка нашла меня возле колодца, когда он уже уходил. Нехорошо, мол, надо проститься. Пришлось еще раз сунуть в его ладонь свою тощую руку, выслушать слова благодарности. По моему, я Валькиному отцу не очень-то и показался. Так... мелочь пузатая. Филониха, кстати, была на него совсем не похожа. Разве что разрез глаз...
- Ты уроки на завтра выучил? - строго спросил дед, помогая бабушке убирать со стола.
- Какие уроки? - обиделся я. - Последний день!
- А я и забыл! - образовался он. - Тогда так: завтра вечером на улицу ни ногой! Валерий Иванович обещал дровами помочь. А в среду с утра, все вместе поедем в поле, на огород.
Я не расстроился. Хоть фраза "последний день" для меня прозвучала как-то двусмысленно. Насчет дров, это хорошо. Не все же нам с дедом шоркать двуручной пилой неподъемные бревна. Как я позже узнал, Валькин отец был заведующим угольными складами - человеком, знакомство с которым, в то время считалось блатом. Так что, если в семье Филоновых и была Золушка, то это точно не Валька.
После застолья, дед завалился спать. Наверное, успел заодно и поужинать. Срочных дел по дому не намечалось, поэтому я ушел на речку купаться. Да только не довелось. Пляж оккупировали взрослые пацаны - ровесники Петьки Григорьева. По кругу гулял граненый стакан, на отмели охлаждалась трехлитровая банка вина, Витька Девятка - старший из братьев Федоровых - бренчал на семиструнной гитаре. Это он покажет нам с Жохом основные аккорды: маленькую звездочку, большую звездочку, лестницу и барэ. От него мы впервые услышим песни Высоцкого. А пока от этой компании нужно держаться подальше: зашлют в ларек за вином, или за куревом. А оно мне сейчас надо?
Я развернулся, и зашагал вниз по течения. Мимо меня с гомоном просквозила босоногая стайка маленьких дошколят. Они толкали перед собой две надутые автомобильные камеры. Когда-то и мы с пацанами забегали чуть ли ни до элеватора и спускались вниз по реке, обливая друг друга водой из велосипедных насосов. Ну, типа морской бой.
На перекатах резвилась рыбешка. В нишах, у среза воды, из берега били ключи. Через четверть века они заилятся. Я приеду в последний отпуск, и впервые в своей жизни пройду по
сухому руслу реки моего детства. Где-то в верховьях его будут перегораживать, чтобы воду пускать на фермерские поля. Еще через десять лет река отомстит. Начнет приходить в дома, затапливая прибрежные улицы.
Напротив хаты бабушки Лушки, берег был обрывистым и крутым. Она умерла лет десять назад, еще до того, как я впервые приехал сюда. Родных у нее не было, и жили сейчас здесь чужие для нее люди. Уже, наверное, и могилка заросла на старом городском кладбище, а название кочует из памяти в память, передается из уст в уста, от пацанов к пацанам.
Купаться я здесь не любил, хоть это и было самое глубокое место на нашей реке - сюда почему-то никогда не проникало солнце. Его заслоняли заросли ивняка. К тому же, ходили слухи, что в этой спокойной заводи, живет громаднейший сом, который может схватить за ногу, и утащить на дно. Я обошел Лушкину глубинку далеко стороной, разулся и зашагал вниз по течению, в сторону своего дома.
На смоле, под погрузкой, стояли еще четыре машины. Бабушка на островке копала молодую картошку.
Жизнь продолжалась, текла спокойной рекой, без стремнин и обрывов. Человечество потихоньку глупело, наивно предполагая, что счастье в деньгах.
Глава 11. Когда вышли все сроки
После ужина мы ели торт от городского начальства. Я первым сообразил: отставил в сторону чашку с "какавой" и плотно налег на бабушкину "закваску". Когда вареное молоко начинало скисать, она сливала его в поллитровые банки и добавляла "грибок" - ложкой снимала верхушку с уже настоявшегося кефира и перекладывала содержимое в свежий. Смешиваясь во рту, это блюдо напоминало йогурт. Понравилось всем. Торт мы почти доели, а остатки упаковали деду с собой, на дежурство.
Перед сном меня немного тошнило, но выспался хорошо. Витек почему-то за мной не зашел, и в школу пришлось чесать одному.
Была торжественная линейка. Все выстроились буквой "П" перед бюстом дедушки Ленина. Директор произнес речь, и начал вручать похвальные грамоты, а школьный оркестр играл туш.
К моему удивлению, из нашего класса удостоили не только Соньку, но и бабку Филониху. Когда она вышла из строя, в том самом голубеньком платьице, в котором ходила в кино, многие пацаны мне позавидовали. Оказывается, Валька была отличницей. За давностью лет, я об этом забыл. В число школьных красавиц она до сих пор не входила, в силу известных причин.
Потом для десятиклассников прозвучал последний звонок. Они разошлись по домам, готовиться к выпускным экзаменам, а все остальные - по своим классам.
Мое место за Валькиной партой никто не оспаривал. Даже она сама. Сидела, надувшись, как мышь на крупу, и полностью меня игнорировала. Хоть локтем залазь на ее половину.
Войдя в класс со стопкою дневников, Надежда Ивановна застыла перед доской. Там красовался традиционный слоган - кто-то с утра постарался, а может, со вчерашнего вечера:
"Последний день,
Учиться лень.
Мы просим вас учетелей,
Не мучить маленьких детей,
У них животики болят,
Они учиться не хотят!
Наша классная взяла мел, после "вас" добавила запятую, исправила "е" на "и" в слове "учителей", подчеркнула его и громко произнесла:
- Григорьев! Такие ошибки называются вопиющими. Считай, что тройка за год получена тобой незаслуженно. Это аванс. Я бы тебе посоветовала больше читать и писать. Займись этим во время летних каникул.
Я, честно сказать, и не верил, что Витька может краснеть, что найдется такая краска, что может пробить изнутри его кирпичный румянец. В нештатных ситуациях Казия всегда психовал, пускал в ход кулаки. Если над ним начинали смеяться, он тупо валился на пол, сучил ногами и громко орал: "Крову мать! Я что вам, концерт показываю?!"
А тут... прямо как подменили моего дружбана: молча, стоял у парты и полыхал лицом. Даже мясистые уши горели, как уголья в печи.
Дневник ему дали вне очереди, а дальше - по алфавиту. Надежда Ивановна поднимала ученика, обращала внимание на предметы, которые ему следует подтянуть и давала практические советы, как это лучше сделать. Я был третьим, после Сашки Асоцкого и Босяры.
- Денисов, - сказала она, - тебе не хватает усидчивости и внутренней дисциплины. Если тема тебе интересна, ты ее схватываешь налету. Если нет - выучил, повторил и забыл. В последнее время ты повзрослел. Это видно невооруженным взглядом. Пора восполнять пробелы. Еще раз пересмотри все учебники, особенно, по русскому языку и арифметике. На слабом фундаменте ничего путного не построишь.
В общем, этот учебный год я закончил хуже обычного. Целых четыре четверки: арифметика, русский, английский и, к тому же еще, география. Утешало одно, что этот дневник домой принесу не я. Кажется, загостился. Часов у меня не было, но внутренний метроном подсказывал, что пора отрабатывать торт.
Стишок, который я подарю Вальке Филоновой, был выбран еще вчера. Их было написано много за мою прошлую жизнь, но в данном конкретном случае, годился только один. И, черт побери, не самый плохой. В моем финальном аккорде, все было продумано до мелочей. От написания, до подачи.
Пока Надежда Ивановна продолжала петь дифирамбы нашей отличнице Соньке, я вырвал из чистой тетради двойной листок, обмакнул ручку в чернильницу и приступил к выполнению плана, тщательно выводя каждую букву:
С тобой ни заново начать,
Ни измениться.
Устала гордость защищать
Свои границы.
Любовь, по сути естества,
Скупа и снежна.
Как не опавшая листва,
В остатке нежность...
Валька сначала скосила глаза, потом затанцевала на заднице. Тайна - это такая наживка, которую девчонки глотают вместе с крючком. А я заслонял написанное левой рукой и все норовил повернуться к соседке спиной. Это ей не понравилось. Причем, настолько активно, что Надежде Ивановне пришлось принимать превентивные меры:
- Денисов, Филонова! - сказала она, - может, мне выйти, чтобы вам не мешать?
Я встал, извинился, и Валька по подлому овладела заветным листком. Не найдя там ничего обидного для себя, она поскучнела. Через пару минут шепнула с деланным равнодушием:
- Это кому?
- Это тебе, - отозвался я.
- Я же просила! - взбеленилась учительница, - сейчас напишу замечание в дневнике!
Валька сделала вид, что успокоилась. Я тоже демонстративно сложил руки на парту. Классная демонстративно казнила нашу завзятую троечницу Ирку Сияльскую, по прозвищу Дылда, за лень, невнимательность и пофигизм. Та даже и не краснела. Жесткие фразы стекали с нее, как вода с бриллиантового колье, которое Ирка подарит на свадьбу своей младшей дочери.
Наивная Надежда Ивановна! Кого вы учите жить?! Десять лет не пройдет, как на нашей тупой Дылде будет больше золотых украшений, чем у вас сменных трусов. Они с мужем одними из первых займутся выделкой шкур и разведением нутрий. Потом перейдут на песца. Уж в чем, в чем, а в вопросах строительства семейного гнездышка размером в коммерческий банк и четыре торговых центра, ей могла бы и позавидовать наша отличница Сонька, которая, играючи, поступит в ХАИ, закончит его с красным дипломом, будет работать в закрытом НИИ, получит ученую степень и трехкомнатную квартиру, но так никогда и не выйдет замуж. Или та же Валька Филонова. Ну, у нее, как мне кажется, в этой жизни все сложится по-другому.
И тут я почувствовал, как предмет моих рассуждений легонько толкает меня локотком. На парте передо мной лежал незаконченный стих с припиской карандашом: "А дальше?"
Я не стал выкобениваться, и снова взялся за ручку:
С тобой ни заново начать,
Ни измениться.
Как одинокая свеча,
Рассвет в кринице,
А я свою кохаю боль
В сетях былого:
Моя несчастная любовь,
Как жалит слово!
Поставив восклицательный знак, в конце приписал: "Все!"
Я и действительно думал, что все"! Но вместо ожидаемого небытия, в коридоре залился звонок. Странно, но жизнь продолжалась. Память о будущем не умерла, хоть и вышли все сроки. Я чувствовал себя, как заключенный в камере смертников, за которым опять не пришли. А бабке Филонихе, как с гуся вода! Она по-хозяйски разгладила мое посвящение, свернула несколько раз, спрятала за обложку своего дневника и мстительно прошептала:
- Сам виноват!
Как хочешь - так понимай.
Надежда Ивановна покинула свой командирский пост, и класс с шумом и гомоном ломанулся к заветным дверям. Как я завидовал пацанам! У них впереди беззаботное лето с купанием в речке, пионерскими лагерями, игрой в футбол, казанки и клюка. А у меня, как у крепостной невесты на выданьи - неизвестность.
- Ты домой? - осведомился Витек.
- А куда же еще?
- Пойдешь пацана смотреть?
- К Раздабариным, что ли?
- Ага.
- Так похороны, наверное, завтра?
- Ну и что?
Вот фишка у моего корефана! На край света готов бежать, только бы никакого покойника не пропустить. Сашка Передереев, которого насмерть сбила машина, тот вообще в другой школе учился, в центре города жил, а наш Казия и там засветился.
- Тебе оно нафига? - прямо спросил я. - По мне, так была лахва среди плачущих теток толкаться!
- Как нафига? - удивился Витек, - сегодня пришел, значит, завтра никто не выгонит. А после похорон для всех накрывают стол. Жратва там всегда вкусная, и конфеты дают. Ты что, конфеты не любишь?
И тут до меня дошло, что мой корефан элементарно не доедает.
Вспомнилось, как в третьем-четвертом классе, когда мы учились в филиале на улице Горького, он, по пути домой, всегда заходил к кому-нибудь из одноклассников, чтоб попросить кусок хлеба. Чаще всего это был Рубен, мой будущий кум. И хлеб то Витек называл как-то чудно:
- Рубен, дай мандра!
Кум, кстати, никогда не отказывал. "Мандра" у него была с маслом и куском докторской колбасы. Не сказать, чтобы они с мамкой жили очень зажиточно. Рубен, как и я, донашивал чужие штаны с заплатками на корме. А вот насчет жратвы, это да. Тетя Шура работала буфетчицей в забегаловке за старым мостом, под которым поймали Лепеху. Была у нее возможность, сидела на дефиците.
Я не стал осуждать Витька. В конце концов, виноват не он, а родители, у которых, за текучкой и пьянкой, руки не всегда доходили до младшего сына. А он вообще-то был пацаном с задатками, только безвольным, ведомым по жизни, без крепкого внутреннего стержня. Если что-то не получалось нахрапом, Григорьев всегда пасовал и пускал дело на самотек. Мир его увлечений был слишком уж узок: астрономия, да, с недавних пор, математика.
Так мы и дотелепали до моего дома. Витек всю дорогу нянчил свою железнодорожную сумку - перебрасывал ее с плеча на плечо, да хвастался своими успехами в "арихметике": вчерашнюю контрольную, он умудрился написать на "отлично". В целом за год, у него все равно получился трояк, но зато по итогам последней четверти. Нина Ивановна поставила ему "хорошо".
Вот, честное слово, я был за товарища рад, но единою радостью сыт не будешь. Что я сейчас мог для него сделать? Пригласить к столу? Мои старики возражать не будут, да только Григорьев все равно не зайдет. В последнее время стал он каким-то болезненно гордым и щепетильным. Наверное, где-нибудь получился облом, и вместо куска хлеба, его откровенно унизили. Никогда, на моей памяти, Витька больше ничего не просил. Даже опохмелиться.
- Может, заскочим ко мне, похаваем? - предложил я на всякий случай.
- Некогда мне, - ожидаемо отплюнулся он, - портфель еще домой занести надо.
- Что ж ты сюда-то поперся, у кладки забыл свернуть?
- Да не! Тут Юрий Иванович просил тебе передать...
Григорьев поставил на землю свою многострадальную сумку, достал из нее насадку для чистки веников и протянул мне. Больше там ничего не было, кроме учебников, тетрадок и дневника.
- Ну ладно, погнал! - Даже не выслушав слов благодарности, Витек повернулся ко мне спиной, и почесал по дорожной пыли своим непредсказуемым стэпом.
Я долго смотрел ему вслед, и мысленно материл нашего трудовика:
Вот куркуль! За такую наводку и двигатель мог бы не пожалеть! Сколько ж, с этого дела, он выкружит магарычей?!
Дед еще спал. Отдыхал после ночной смены. Дорого же ему обошелся последний поход на рынок! Бабушка суетилась на огороде: заглядывала под каждый куст и плакала в голос. Прасковья Акимовна ей помогала.
- Внучок! - обрадовались они. - Ну-ка ты посмотри! У тебя глаза молодые.
- Да что у вас тут случилось?
- Ой, горе, - всхлипнула бабушка, - колечко мое куда-то запропастилось! Рвала бурьяны в огороде, таскала на островок, чтобы спалить, когда высохнут. Глядь, а его нет!
Это кольцо я помню: узенькое, серебряное, обручальное. Она никогда его не снимала, и очень переживала, когда потеряла его в прошлый раз. Было это лет через семь, уже после смерти деда.
Я взялся за дело, и отыскал пропажу сравнительно быстро. Как и тогда, колечко валялось на островке, в куче сорной травы. Вот такие гримасы времени. Какие-то факты всплывают, повторяются, но в неточностях и как-то вразброс. Особенно это касается всего, что происходят в нашей семье.
Надо ли говорить, как обрадовались бабушки, услышав мое ликующее: "Нашел!" Да мне и самому было чертовски приятно сделать что-нибудь полезное для родных. Жаль, что такое случалось редко, всего лишь один раз.
Как-то, играя в своей комнате, я увидел под шифоньером подозрительную веревочную петлю. Она свисала вдоль задней стенки, над плинтусом, в десяти сантиметрах от пола. Ну, висит себе и висит, рукой не достать. Другой бы на моем месте и думать забыл, а меня почему-то заклинило. Каких только приспособлений я ни использовал! Убил на решение этой проблемы часа полтора, но был в итоге вознагражден. На пол упал маленький золотой крестик на толстой суровой нитке.
Естественно, я отдал его взрослым и, тем самым, вернул мир и согласие в обе семьи, населяющие наш дом. Сестры, оказывается, уже раза четыре переругались из-за этой вещицы. Все пеняли друг другу: кто из них в последний раз надевал крестик, чтобы сходить в "церкву" и не вернул. Он у них, кажется, был один на двоих...
После пережитого потрясения, бабушки вернулись к печи. Дед вышел на улицу, закурил, щурясь на небо. Оно свое отдождило и отливало теперь, безоблачной синевой. Жара отдавала влагой. На пустырях у кюветов набирала силу полынь. В высыхающих лужах проступило, потрескалось дно. На железной дороге формировали состав. Сталкиваясь, гремели вагоны. Пейзаж, узнаваемый до мелочей. Самое настоящее прошлое. Мой островок безопасности в этом стремительном мире, меняющемся по теории слишком случайных чисел.
- Ну что, пошабашил? - благодушно спросил дед. - Хвались теперь. Да возьми там, мои запасные глаза.
Я сбегал в большую комнату за дневником. По пути прихватил очки, осмотрел банку с лекарством. Она опустела на треть. Надо будет сходить к бабушке Кате. Попросить у нее добавки.
Дед пролистал несколько последних страниц, оценил годовые итоги и в целом остался доволен:
- Молодчага! Мог бы и лучше, но все равно молодчага! Следующее дежурство твое. Ну-ка глянь, что там Елена Акимовна у нас тормозит. Скоро дрова привезут, а мы до сих пор нежрамши.
Про колечко я умолчал. В иное бы время не выдержал, прихвастнул. А тут... очень уж сильно она расстроилась. Наверное, примета плохая.
На продовольственном фронте все было готово. Бабушка шла навстречу, держа в вытянутых руках кастрюлю с горячим борщом. Я развернулся и побежал впереди, чтобы во время открыть для нее дверь, а когда появился из-за угла, дед уже открывал калитку и здоровался с отцом Вальки Филоновой. На улице тарахтел трактор. Насколько я понял, мы к столу не успели.
Сам Юрий Иванович приехал на "бобике" с опущенным брезентовым верхом. Был он в синей рабочей спецовке, при папке с надписью "Дело" и в хорошем, боевом настроении. Увидев меня, вскинул руку в приветственном жесте и весело крикнул:
- Здорово, герой! Смотри, уведут Вальку! Звонила недавно, хвасталась: там кто-то из старшеклассников стишок про нее сочинил!
Дед сбегал за кошельком, заплатил по квитанции, поставил свою подпись и стал расчищать пространство перед поленницей.
А Юрий Иванович отнес папку в машину и принялся ему помогать.
- Это что за диковинный агрегат? - между делом, спросил он, когда сняли брезентовый плащ, защищавший виброплиту от непогоды.
- Электротрамбовка, - коротко пояснил дед.
Старший Филонов присел на корточки, потрогал руками сварочный шов.
- Похоже на самодел, - задумчиво произнес он, - хотелось бы посмотреть, как он работает.
Я сбегал за переноской. Виброплиту вытащили на улицу. Для чистоты эксперимента, забросали камнями и свежей землей глубокую выбоину на дороге, у передних колес "бобика". Юрий Иванович взялся за ручки. Тракторист заглушил двигатель и спустился на землю, ближе к центру событий. От смолы подошли мужики. Обеденный перерыв, но им, как людям причастным, было что посоветовать.
- Зверь машина! - сказал Петро, подгребая лопатой щебенку с обочины. - Здравствуйте вам! Дрова, что ли привезли? А где выгрузка? Или в цене не сошлись? А то б мы с Василем...
- Действительно, - спохватилось начальство, выключая виброплиту, - что-то мы увлеклись! Ты слышал, Мансур Зарипович? Нас уже критикуют!
- Так куда высыпать, Юрий Иванович?
- Постарайся ближе к калитке. Людям ведь, вручную таскать.
Поленья были крупными и тяжелыми, как кирпичи. На изгиб левой руки помещалось четыре штуки, но даже с таким весом мне было трудно вставать на ноги. Больше всех поднимал тракторист. Был он худым, жилистым и таким длинноруким, что трелевал охапки, доходившие ему чуть ли ни до уровня глаз. В работу включились все: и Петро, и дядя Вася Культя и старший Филонов. Он даже разделся до пояса, настолько вспотел. Подтянулись соседи: дядя Коля Митрохин - ездовый из Семсовхоза и Толик Корытько - младший сын деда Кугука.
Когда куча уменьшилась примерно на четверть, Юрий Иванович отозвал в сторону деда и начал прощаться.
- Такое дело, Степан Александрович, - сказал он, надевая рубаху на потное тело, - собираюсь я между складами асфальт положить. Расстояние там небольшое, дорожный каток не развернется. Нельзя ли у вас позычить электротрамбовку? В аренду оформить, или еще как-нибудь? Деньгами никак не смогу, нету такой статьи, да и бухгалтер не разрешит. Только дровами, или углем.
Дед, естественно, согласился, да и я был не против. Обычный поход в кино с взбалмошной девчонкой, принес небывалые дивиденды.
К концу обеденного перерыва, количество игроков в нашей команде уменьшилось еще на две единицы. По своим смоляным делам, ушли дядя Вася с Петром, а дров как будто и не убавилось.
Бабушка собиралась помочь, но за ней прислали от Раздабариных: принять на кухне дела, посчитать, сколько чего надо купить, чтобы готовить поминальный обед. Мы с дедом совсем приуныли.
- Придется нам, Сашка, завтра вдвоем ехать на огород, - сказал он, когда, в очередной раз, все сели перекурить. - Надо управиться до похорон, чтобы успеть проводить по-соседски.
- Тут Ваньку Погребняка завтра выписывают из больницы, - подхватил эту мрачную тему дядька Колька Митрохин, - надо понимать, безнадежен. Отъездился мой сосед. А ну, навались, мужики! Тут всего-то два раза по столько, и еще половина столько! Главное, что мы живы, а работа для всех найдется...
Когда через час пришла бабушка, я уже не стоял на ногах. Зато наша поленница увеличилась больше чем втрое.
Обежали в ужин. Дед вслух размышлял, куда лучше складировать уголь, я клевал носом и все порывался нырнуть в постель, а бабушка меня тормошила, мол, потерпи: если уснуть до захода солнца, утром будет болеть голова. Еще днем я планировал в спокойной обстановке поразмышлять о своих перспективах, да только куда там! Ушел, как только щека прикоснулась к подушке.
Мне снилась моя левая ладонь. Была она в язвах и волдырях. Я выбрал один из них, самый маленький, и попробовал выдавить. Из ранки податливо вышла какая-то белая масса, толстая, как карандаш. Я давил ее, и давил, а она все никак не хотела заканчиваться, хоть вышло уже метра, наверное, два. Ладонь горела, а я с ужасом думал о том, что же останется от меня, если в каждой из этих язв, такое же количество гноя.
Утром ладонь саднила. Наверное, во сне я слишком сильно ее давил. Проснулся от голосов. Мои старики солнце встречали, как гостя: с почетом и на ногах. Позавтракали все вместе. Потом разошлись по своим делам: бабушка готовить поминальный обед, а мы с дедом - на полевые работы. Тяпки были отбиты до остроты лезвия и укутаны в мешковину, а их деревянные ручки привязаны к раме. На руле - кирзовая сумка с водой и символическим перекусом.
- Садись, - сказал дед, выводя велосипед на дорогу, и хлопнул ладонью по раме, - так будет быстрей. Только руль в свою сторону не тяни!
Он разогнался, выпрямился в седле, убрал левую руку и я, на ходу, скользнул на штатное место.
Давненько мы с ним не катались на одном велике! Последний раз это было лет восемь назад. Совсем еще несмышленышем, я перешел дорогу похоронной процессии, когда она проезжала мимо нашего дома. Что бы там не рассказывали атеисты, но после того случая, на моей шее стала расти шишка. Она не болела, не мешала дышать. Просто росла и все. Естественно, меня показали врачу, тот прописал трехмесячный курс уколов, и трижды в неделю дед сажал меня на эту самую раму и отвозил в кабинет Зинаиды Петровны. Так звали суровую тетку, коловшую мою задницу.
В первый раз было страшно. Особенно убивало тревожное томление в очереди. Одних только детишек там всегда собиралось не меньше десятка. Многие из них плакали, нагнетая и без того мрачную атмосферу. Укол был болючим, и дед это знал. Что только ни привязывал он к велосипедной раме! Вплоть до подушки "думочки". Это помогало, но мало. Каждый камешек на дороге, каждая выбоина, попавшая под переднее колесо, отдавалась во мне нестерпимым приступом боли. Добрую треть обратной дороги мы проходили пешком.
Как потом оказалось, все эти муки я претерпел зря. Медицина не помогла, и меня отвели к Пимовне. Там обошлось без уколов. Лечение осложнялось только тем, что я был некрещеным. Поэтому главная роль отводилась моей бабушке, а именно: ходить в церковь и заказывать молебны за упокой человека, дорогу которому, я перешел последним.
Давно уже нет Зинаиды Петровны. В дальнем торце здания убрали крылечко, ведущее в ее кабинет. А я, даже будучи взрослым, всегда обходил стороной туберкулезный диспансер, который сейчас расположен в том месте...
С точки зрения человека, едущего на велосипедной раме, чем дальше от города - тем лучше дороги. Мы миновали кладку через нашу речушку, небольшой переулок под названием Трудовой, нырнули в узкий проход и оказались в царстве узких тропинок, припорошенных мелкой пылью. Слева, справа и далеко впереди простирались поля с дружными всходами кукурузы. Скоро по ним проляжет новая улица и школьное футбольное поле.
До самого Семсовхоза, можно было спокойно ехать даже с исколотой задницей. А вот там начались неудоби: лужи да колеи, забитые вяжущей массой из липкого, раскисшего чернозема. Порой приходилось спешиваться, чтобы преодолеть очередное болото "по над людскими дворами".
В конце поворота на конюшню и гаражи, опять началась земля, не тронутая колесами техники. Тропинка вела к неглубокому броду через протоку с сероводородной водой. Мне довелось бывать у ее истока, когда там еще была стихийная водолечебница. Средь широкого поля стояла чугуная хрень, чем-то похожая на Ленинградскую ростру, а из ее четырех сосков, хлестал крутой кипяток. Люди приезжали сюда из разных концов страны, чтоб подлечить больные суставы. То ли вода, то ли жидкая грязь вымывали из организма отложения кальция. За годы существования протока пробила себе полноценное русло, докопалась до родников, стала почти полноценной рекой, но так и не обрела себе имени.
В месте брода, берега были низкими и очень пологими, а дно из мелкого камня. В прозрачной воде резвились мелкие пескари. Для удобства передвижения, кто-то набросал сюда валунов и положил на них большое бревно.
Дальше опять начинались поля. За низкими всходами виднелись постройки огородной бригады. К ней вела прямая дорога метра три шириной. Такие не встретишь больше нигде. По обеим ее сторонам, чуть ли ни вплотную друг к другу, росли пирамидальные тополя. Их кроны, соединяясь где-то вверху, давали прохладу и тень, спасали от непогоды. Ведь на работу в то время ходили только пешком.
Наивные мудрые люди! Они и представить себе не могли, что наступит такое время, когда частный автомобиль будет стоять чуть ли ни в каждом дворе. Но, в то же время, лучше потомков знали, что тополя, по природе своей, снижают уровень радиационного фона, который в нашем районе существенно выше нормы.
Сразу за бродом дед повернул налево. С этого края поля, был у нас только один земельный участок, и я его хорошо помню. Вернее, не сам участок, а берег протоки, рядом с которым он расположен. Там все заросло кустами терновника, а до ближайшего родника дальше, чем до колодца, до которого покуда дойдешь, трижды вспотеешь. Стандартные десять соток. Мы ежегодно сажали на них одно и то же: кукуруза, картошка, веники и подсолнух. Кое-где, в междурядье, десятка два тыквачей. Не сказать, чтобы все заросло, но сорняка было действительно много. Растения еще не пошли в рост и, без помощи человека, у них, в дикой природе, кто - кого.
Картошка была ни разу еще не окучена. Поэтому дед сказал, что начинать будем с нее, а там - как успеем. Он отвязал тяпки, убрал велосипед с дороги, спрятал в тень кирзовую сумку и взялся за дело.
С нее, так с нее. Было бы сказано.
Естественно, я сразу отстал. И сил у деда побольше, и тяпка в два раза шире, и опыт нечета моему. Вернувшись из Мурманска, я разучился ездить на велосипеде, забыл названия цветов и растений. Смотрю: под соседским забором разгорается белый пожар, за цветами листьев не видно. И ведь помню, что знал когда-то, как называется это чудо, а в памяти - ноль. С картошкой, то особая песня: я сажал ее под лопату, на полный штык. Под слоем плотного грунта, она, бедная, не знала, куда ей расти, и получалась плотной, как камень, не круглой, не продолговатой, а типа растопыренной пятерни.
Набирало силу летнее солнце. Выжигало капли росы из центра соцветий. На перекатах всхлипывала протока. А я все полол и полол. Не пожарными темпами, на износ, а с учетом ресурса сил и лимита времени. Ушел с головой в этот долгий, размеренный, однообразный труд, оставляющий уйму времени для размышлений. Старость расчетлива и мудра. Она умеет просчитывать варианты. А их у меня было всего два: либо сорок дней, либо кома. И оба они имели равное право на существование. В первом случае у меня впереди чуть меньше календарного месяца, а во втором - опять неизвестность. В таком состоянии и здоровые люди недолго живут, а с моим букетом болезней... это чудо, что я вообще протянул целые десять дней.
Будь моя воля, я бы выбрал определенность, возможность планировать хоть в какой-нибудь перспективе. Но время меня приучило настраиваться на худшее. Сорок дней это хорошо, я отмечу в календаре свою новую крайнюю дату, но буду иметь в виду, что нить может прерваться в любой момент.
По малому, шаг за шагом, мы протоптали картофельную делянку и плавно перешли к кукурузе. Судя по солнцу, до одиннадцати было еще далеко. Как минимум, час. С дедом мы пересекались в каждом прогоне. Я видел его работу, он видел мою. Никаких замечаний пока не последовало, хоть пару ростков я случайно смахнул. Наверное, придержал их при себе, чтобы не сбиваться с рабочего ритма.
Жара начинала немилосердно карать. Я хотел уже сдаться и напиться воды, хоть по опыту знал, что после воды никакой работы уже не будет, а начнется круговорот жидкости в организме.
В Первой Синюхе - так назывался хутор, где в смутные времена произрастал мой личный гектар - был у меня для таких случаев, подготовлен походный бивак с палаткой и спальным мешком. Когда было невмоготу, я тупо шел к ближайшей посадке, съедал свою пайку и заваливался спать до вечерней прохлады, чтобы потом работать, пока видят глаза.
- Шабашим, - сказал дед, закончив очередной рядок, - пора червячка заморить, да собираться домой. А то не успеем.
Мне, честно сказать, и не хотелось успеть. Застарелое чувство вины опять отдалось в душе фантомными болями. "Кому что написано на роду", - не раз говорила бабушка. Но я-то ведь знаю, что это не так. У Кольки Лепехина тоже много чего было написано.
Мы ели поплывшее сало с вареными яйцами и молодым чесноком, запивали теплой водой. Было замечательно вкусно, но вот настроение... Я чувствовал себя, как перед той давней поездкой в кабинет Зинаиды Петровны, за новой порцией боли.
Дома мы успели ополоснуться. Я надел школьную форму, дед облачился в единственный свой костюм. Хочешь, не хочешь - надо! Чувство долга - это то, что разительно отличает этих людей от моих необязательных современников.
У раскрытой настежь калитки курили степенные мужики. Гроб стоял в доме. В те годы было не принято выселять покойных на улицу, под навес. У изголовья стояла икона, горела свеча. Пацанчик как будто спал. Был он причесан по взрослому: льняные послушные волосы обнажали высокий лоб. В скорбно поджатых губах застыло смирение. Дед положил на блюдце бумажный рубль, и мы вышли во двор. Там меня тут же перехватил Витя Григорьев. На правах завсегдатая, рассказал о текущем состоянии дел:
- Оркестра не будет, "чтоб не тревожить". С утра приходил поп из недавно построенной церкви, но его прогнали взашей.
Одна из гримас времени - воинствующий атеизм. Икону поставили, а попа нафик не надо! Со служителями культа в те годы обходились сурово, но все же, по-божески. Единственного нашего батюшку зарежут во время службы, в самый разгар демократии. Кто-то из блатных наркоманов, проиграет его в карты.
Ждать оставалось недолго. Уже подошла грузовая машина с опущенным задним бортом. Во дворе засуетился распорядитель - человек, лучше других умевший соединить традиции христианства с социалистическим реализмом. В данном случае это был дядя Эдик-мотоциклист. Всем присутствующим раздали носовые платки, а причастным к выносу тела, дополнительно повязали на предплечья левой руки, белые полотенца. Нам с Витьком выдали по венку, и мы встали в живом коридоре, на пути от калитки к машине. Кузов уже был застелен домотканой ковровой дорожкой, вдоль бортов установлены две широких скамьи. Это для близких родственников и ветхих старушек, которых не держат ноги. Все остальные пойдут пешком.
Первым мимо нас пронесли металлический памятник, с наброшенным на звезду, вафельным полотенцем. Потом проплыла крышка, оббитая красным шелком, а следом за ней - покойник в своем гробике. Естественно, ногами вперед. Атеизм атеизмом, а мало ли что? До мостика, за которым живет Витька, его несли на руках. Оркестра действительно не было. Не бередила душу мелодия, на которую ложатся слова: "Ту сто четыре - самый быстрый са-молет..."
Все пять километров машина медленно ехала по дороге, а траурная процессия шла пешком вдоль обочин. Пацана схоронили в дальнем конце кладбища, которое уже подпирали новые жилые постройки. Там же, где в прошлый раз.
На поминальном обеде мы с Витькой сидели рядом. Помимо кутьи, был бабушкин борщ со сметаной, картошка "толчёнка" с мясом, домашняя лапша с курицей, булочка и компот. Прощаясь, я отдал ему свой узелок с конфетами.
Глава 12. Новые старые горизонты
Так и канул в небытие юбилейный десятый день, прожитый мной в этом благословенном времени. В думах о собственной смерти, я успел пережить уже двух человек. На подходе был третий. Дядьку Ваньку Погребняка забрали из больницы домой. Он весь исхудал, заговаривался, не узнавал соседей. Тетя Зоя кормила его с ложечки. Десять дней. Как они отразятся в памяти того, кто придет после меня, и отразятся ли вообще? Спросит, к примеру, дядя Петро: "Что ты там, парень, за схему оставил в вагончике?", а он - ни уха, ни рыла. Я ведь не помнил, как утром ходил в магазин за молоком, в день моего появления в этом времени?
Я присел на скамейку возле дома, где жил Сашка Жохарь и задумался. Да, был в этом моменте скрытый подвох. То, что со мною произошло, мало похоже на рокировку. Честно сказать, оно вообще ни на что не похоже. Складывается впечатление, что кто-то большой, сильный и всемогущий, отмотал назад колесо времени и отбросил меня назад, забыв при этом стереть память о будущем.
К этой мысли я приходил не раз и не два. Но каждый раз отметал, как нечто, не стоящего внимания. Слишком много ляпов и нестыковок содержала в себе местная теория попаданства, чтобы принять ее за рабочую версию. То, что я не помню момент своей физической смерти, нивелировало все остальные выкладки. Ведь так не должно быть.
А как? - поднялся со дна души ехидный вопрос. - Как оно должно быть?
Ну, не знаю, - засуетился разум, - когда умирала бабушка Паша, она до последнего звала Пимовну. Так и застыла с ее именем на устах...
- Че это ты тут расселся?!
Нога, обутая в новенький ботас, небрежно поддела подошву моей сандалии. Естественно, это Жох, кто же еще? Стоит себе, ухмыляется. В раскосых глазах прыгают бесенята.
Сашка был независимым человеком. Его не пороли ремнем, не напрягали с учебой, не припахивали на домашних работах. Своим личным временем он распоряжался по своему усмотрению. Хочет - учит уроки, не хочет - идет гулять. С появлением в их семье косоглазого болгарчонка, у дядьки Трофима и тетки Натальи, на младшего сына просто не стало хватать времени. Накормлен, одет - и ладно.
Этим Сашка и пользовался. Он рано начал курить, попробовал вкус вина, а пиво употреблял, как я лимонад. Бабушки с нашей улицы называли его "фулюганом", по которому плачет тюрьма, родители запрещали не то что дружить, а вообще с ним водиться, а пацаны немного побаивались, как нечто необъяснимое.
Жохарь знал о своем статусе, ведь дурная молва действенней хорошей рекламы. Был он ехиден, насмешлив, высокомерен и всем раздавал обидные клички, которые всегда приживались. Это с его легкой руки Витя Григорьев стал Казиёй, я - сначала Петрушкой, потом Пятой, а Леха Корытько - Хохлом. А так, по большому счету, Жохарь был пацаном адекватным. Если и заедался, то только когда выпьет. Вот и сейчас, лизнул, наверное, на поминках красненького:
- Че это ты тут расселся?!
В память о будущей дружбе, я не стал начищать Сашке хлебальник, а, молча, поднялся и зашагал прочь. Но не просто так зашагал. Памятуя о его подлой натуре, держал правую руку опущенной вдоль бедра. Знал, что мой будущий друг не удержится, чтобы не отпустить мне подсрачник.
Так оно и случилось. Я поймал его ногу в самый интересный момент и немного попридержал на весу. Чтобы сохранить равновесие, Жох мелко подпрыгивал и неистово матюкался.
Может, тюрьма по нему и плакала, да только напрасно. После восьмого класса, Сашка поступил в ПТУ, выучился на сварщика и уехал на Север, прокладывать трубопроводы. Вернувшись в родной город, построил большой дом, чем-то напоминавший казарму. Вдоль внешней стены неширокий сквозной коридор, а направо, за одинаковыми дверьми, чреда разнокалиберных комнат. С женой тоже сложилось. Принесла ему Танька двух пацанов. Оба выросли, вышли в люди, обзавелись семьями. В общем, по состоянию на новогоднюю ночь, Жохарево потомство пошло на второй десяток.
Звонил он мне, поздравлял, справлялся, кого из сверстников спровадили на тот свет, кто еще потихоньку коптит, на месте ли отчий дом. Грозился навестить по весне, чтобы вместе рвануть по местам боевой славы. Да что-то опять у него не срослось. Почками занедужил, на операцию слег.
Я смотрел в Сашкины бесстыжие зенки, силился в них увидеть дородного лысого деда в больших роговых очках, но не нашел ни малейшего сходства. Что ж, будем учить. Я отвел его ногу в сторону, чтобы встал поудобнее, и отпустил сракача:
- Вот тебе, падла, за дурные намерения!
Хотел двинуть еще разок, да побоялся повредить почки.
От неожиданности, Жох замолчал. Я не стал дожидаться, когда он придет в себя. Развернулся и ушел в сторону дома, да все ожидал, когда же мне в спину ударится камень. Нет, обошлось.
Было около трех часов дня. Близился ранний вечер. Навстречу мне ехала почтальонка, свернула в ближайший проулок. По-над домами шастал дядя Вася Культя. Соседские собаки молчали. Когда хозяев нет дома, они неохотно лают даже на тех, кто стучится в калитку.
Да, чуть не забыл пояснить, чем отличается проулок от переулка. Первый заканчивается домами, выходящими к реке огородами, а второй - мостиком "кладкой" через эту самую реку.
Дядя Вася был в полном недоумении. Увидев меня, обрадовался и озадачил вопросом:
- Где все?
- Как где? На поминках.
- Да ты что?! И кого хоронили?
Я коротко прояснил ситуацию:
- Пацана Раздабариных, что в нашей речке утоп. Разве не видели? Мимо же вас проезжали!
- Вон оно как! - пожевал губами Культя. - Дожились! Детишек без войны провожаем. Дать бы родителям буздева за догляд! Не видел я, и не знал. Мы с Петром в это время были в конторе. Ну, бабушка Лена, понятно, сейчас на борщах. А Степан
Александрович там, или опять на дежурстве?
- Дома. В смысле, сейчас на поминках.
- Слушай! Ты не мог бы его немного поторопить? Скажи, так и так: грузчики предлагают мешок комбикорма. Разгружают с утра. Рупчик делов.
- А гитары? - поинтересовался я, - гитары у нас тут, нигде не разгружают?
- Тебе что, инструмент нужен? - переспросил Василий Кузьмич, и сам же ответил на этот вопрос. - Ах да, модно же тренькать сейчас! - Подумав, добавил, - Ты давай-ка, за дедом слетай. Потом это дело обговорим. Заодно объяснишь Петру, что там опять за хреновину ты ему на бумажке нарисовал. Он чуть с ней в сортир не сходил!
Окрыленный надеждой, я вывел велосипед со двора и, даже не отвязав тяпки, рванул к Раздабариным. С непривычки, чуть не упал, вывернув на дорогу. Тело опять забыло, что мало крутить педали, нужно еще и склонять корпус, в сторону поворота. Мало-помалу приноровился, стал поглядывать по сторонам и видеть не только дорогу. На скамейке у Жохова дома, уже никто не сидел. Наверное, Сашка пошел отсыпаться на чердаке времянки. Там у него был оборудован летний топчан. А вот деда я сразу не углядел. Он сам несколько раз окликнул меня, даже вышел к дороге. Пришлось тормозить, возвращаться немного назад.
- Стряслось что? Куда это ты наладился, даже тяпки не отвязал?
- Дядя Вася прислал. Насчет комбикорма. Упаси господь, прозеваем, бабушка нас убъет!
- Сколько?
- Мешок.
Дед похлопал себя по карманам, вытащил кошелек. На всякий случай, спросил:
- Управишься без меня?
- Легко! - сорвалось с языка.
Он посмотрел на меня с сомнением, но рубль протянул:
- Ну, молодчага! Смотри только, деньги не потеряй! А я посижу с обществом, заодно бабушку подожду. Встречаемся только на похоронах...
У дома Митрохиных - дальних родственников нашего дяди Коли, виднелись согбенные спины, образующие большой полукруг.
Зажав рубль в кулаке, я пустился в обратный путь. Почтальонка уже спешилась, и вела свой велосипед на руках. Далеко ей до конца улицы. В каждый почтовый ящик нужно сунуть пару газет, не считая открыток и писем.
Дядя Вася поджидал меня у двора. Сидел на нашем бревне и нервно курил.
- Ну что, идет? - нетерпеливо спросил он.
- Рубль передал. Попросил управиться без него. Сейчас, только возьму досточку, чтобы мешок не порвать...
Была у нас специально выпиленная приспособа, чтобы возить тяжелые грузы. С двух сторон она упиралась в раму, а сверху ложилась на цепь.
- Да мешок я сейчас и сам принесу. Ты деньги давай! Мужики ж на работе. Их товарищи отпустили, чтобы сделали дело, да вернулись назад, пока не хватилось начальство. Сидят, как на иголках: "Скорей, говорят, думай, а не то, в другое место пойдем! Им же еще в магазин нужно успеть. Я бы заплатил из своих, да получку только к вечеру принесут...
Дядя Вася принял бумажный рубль, как переходящее красное знамя и, даже не пряча его в карман, быстро ретировался. Ну что ж, будем ждать.
Я завел велосипед во двор, достал из почтового ящика открытку и две газеты. Мама поздравляла меня с окончанием учебного года, просила "быть умницей" и обещала скоро приехать.
Скорей бы! Кажется, мне представился шанс снова увидеть ее. Я смотрел на стремительный, круглый почерк и думал о том, что вылечить ее, предотвратить беду, никому не под силу. Ведь это не болезнь, а проклятие. Кто-то из нашего рода, в одном поколении, строго по женской линии, после пятидесяти, обязательно сходит с ума. По-тихому, неизлечимо. Анну Акимовну, младшую сестру моей бабушки, бог покарал манией преследования.
После седьмого класса, я каждое лето ездил в село Натырбово, где она работала агрономом, чтобы помочь по хозяйству: натаскать воды, прополоть грядки, оборвать с дерева спелые яблоки. Своих детей у бабушки Ани не было. На ней обрывался род Гузьминовых. В молодости она была очень красивой, женихами перебирала, да так и ушла с девичьей фамилией на кресте.
Жила она в старинной казачьей хате с земляными полами. При хате был огород с добрую треть карликового государства и такой же большой сад. Работы хватало, но справлялся я с ней за неделю, чтобы не загнуться от скукотищи. Телевизора в хате не было, радио не работало, а по местным девкам я не ходил, стеснялся.
Анна Акимовна целыми днями пропадала на колхозных полях. Она приходила поздно, готовила мне еду и сразу ложилась спать. Кое-какие странности в ее поведении, я сразу заметил, хоть и не придал им большого значения. В хате, на всех подоконниках, были разбросаны сигареты и папиросы, в пачках и россыпью. А на столе и тумбочке, в изголовье ее кровати, стояли фабричные пепельницы,
наполненные "бычками". Естественно, я удивился:
- Бабушка! Неужели ты куришь?!
- Нет, внучек, - сказала она, - не курю, и тебе не советую.
- А это зачем?
- Ночью, когда тревожно, лежу и пускаю дым. Если кто-то заглянет в окно, подумает, что в доме мужчина и побоится меня убивать...
У матери все началось по-другому. Ей казалось, что кто-то из ближайшего окружения наводит порчу на нашу семью. Первой под подозрение попала Прасковья Акимовна. Бабушке было запрещено даже общаться с родной сестрой, и они встречались тайком, когда мать уходила в школу...
- Здорово, Кулибин! А ну, отчиняй ворота!
Я вздрогнул и поднял голову. Надо мной возвышался дядя Петро с мешком на плече. Был он мрачен и, самую малость, поддат.
- Плечом надави! - скомандовал дядя Вася. - Забыл, что калитка здесь на пружине?
Судя по интонации, был он за что-то на своего напарника зол.
Под могучим плечом, я проскользнул во двор, расчистил пространство у двери летней веранды, которую дед, время от времени, расширял:
- Ставьте пока сюда. Дальше нельзя, Мухтар может обидеться.
- Фух! - выдохнул дядя Петро и впечатал мешок вплотную к стене. - Принеси-ка, Кулибин, холодной воды. Вчера испытал трамбовку, такую же, как у тебя. Протоптал старику Кобылянскому бут под фундамент. Пожалуй, ты прав: колеса у этого агрегата надо было предусмотреть. До сих пор ноги не держат!
- Аж денежки заработанные на обратном пути потерял! - с укоризной, сказал Василий Кузьмич. - Утром ходили, искали, да кто-то, видать, встал еще раньше нашего!
Я сбегал к колодцу за свежей водой. Петро напился, ополоснул лицо, встряхнул рабочую куртку.
- Ладно, - сказал, - пошли-ка, Кузьмич, на бревнышке посидим. Негоже гулять по чужому двору, когда взрослых дома нема.
Я поставил ведро на скамейку, открытку и обе газеты, положил на обеденный стол. Читать там все равно нечего. В Краснодаре открылась краевая партийная конференция и весь свежий номер "Советской Кубани" был посвящен исключительно ей.
- Так что ты там за верстак на бумажке изобразил? - спросил дядя Вася, как только я снова вышел на улицу.
- Это станок для изготовления тротуарной плитки, - пояснил я, осторожно подбирая слова. - Условное название "вибростол".
- Опять из журнала? - хмыкнул Петро.
- А откуда еще?
- Дашь почитать?
- Я ж говорю: в библиотеке брал.
Судя по разговору, Петру было не очень. В его сегодняшнем тоне преобладал скепсис.
- Ты о деле, о деле спрашивай! - вмешался Василий Кузьмич.
- Ладно, давай о деле, - согласился напарник, - откуда ты взял такие размеры?
Он достал из кармана, стал разворачивать сложенный вчетверо лист. Из него тотчас же выпали и закружились в воздухе два бумажных рубля.
- Моп твою ять!!! - хором сказали представители пролетариата и прикусили язык. В те времена было не принято "матюкаться" в присутствии несовершеннолетних.
- Куда же ты, падла, смотрел? - сурово спросил дядя Вася, когда схлынул ажиотаж.
- Так на твоих же глазах все карманы выворачивал наизнанку, - оправдывался Петро, - и бумагу давал тебе подержать. Кто ж его знал, что я деньги туда положу?
Настроение у мужиков стремительно поднималось. Они все же переругивались, но уже было видно, что конфликт между ними исчерпан. А я ждал, когда внимание вновь обратится ко мне, чтобы вернуться к сути вопроса. Наконец, Петр Васильевич расправил бумагу и чиркнул по ней прокуренным ногтем.
- Вот, - сказал он, - семьсот на семьсот. С чего ты приплел эти цифры?
- Как? - изумился я, - вы ж говорили, что собираетесь лить на дому тротуарную плитку? Я и посчитал с карандашом: чтоб выпускать ежесуточно пятьдесят метров на круг, точно такой размер и понадобится.
- Я говорил?! - еще более изумился Петро (типично кубанский прием: сгоношить всю толпу и красиво уйти в сторону) - Говорил? А ведь действительно, кажется, говорил. Пьяный был, но что-то припоминаю...
- Вы еще деду впаривали насчет деревянных форм - в запале напомнил я.
- Как ты сказал? Впаривал? - засмеялся Культя, - хорошее выражение, надо будет запомнить. Сдавайся, кум! Насчет форм ты впаривал точно. Я еще "Хасбулата" пел...
- Ну ладно, будем считать, что впаривал, - согласился Петро, принимая новое слово, как эстафету, - только как я эту хламину спрячу в сарае? Ты только, Васька, представь: семьсот на семьсот!
А полсотни на круг? Это ж Кулибин мне намекал на квадратные метры! Куда столько?! Да через неделю работы придет ОБХСС - и с песнями на этап! Нет, мне бы чего попроще. Чтоб как вчера: пришел, сделал работу, положил деньги в карман - и гуляй!
Я хотел, было, сказать, что тротуарную плитку можно лепить и на стиральной машинке, если ставить ее неустойчиво, но Василий Кузьмич толкнул меня локтем в бок: молчи, мол.
Выговорившись, Петро поскучнел. Закурил, было, папироску, но закашлялся и смял ее в кулаке.
- Схожу ка я, кум, в магазин. Возражения есть? Нет? Ну и добре...
Он поднялся, и решительно зашагал в сторону Витькиной кладки. Вместе с ним уходило и мое хорошее настроение.
Ну, хрен я тебе еще что-нибудь подскажу! - со злобой, подумал я.
- Ты на него, Сашка, не обижайся, - сказал дядя Вася. Как будто, прочел мои мысли. - Не в таком он сейчас состоянии, чтобы думать о деле. А ведь бумагу не выбросил!
Я промолчал.
- Ладно, пойду. Охо-хо, - Василий Кузьмич тяжело приподнялся, и снова осел на бревно. - Нет стоп, погоди! Ты там что-то насчет гитары упоминал?
- Было дело, - кивнул я, думая о своем.
- Есть у меня инструмент, старенький, довоенный. Пылится на шифоньере. Выглядит неказисто, двух струн не хватает, но коробка звучит хорошо. Я ведь тоже когда-то парубковал, "Гибель Титаника" играл с перебором. А куда мне сейчас, с такой-то рукой? Могу подарить, ежели не побрезгуешь.
- Не жалко?
- Было бы, что жалеть. Вот, на неделе домой попаду, принесу, коли не забуду.
- А мне почему-то казалось, что у вас нету дома.
- Серьезно? - засмеялся Василий Кузьмич. - Как это нет? - есть! Бездомных у нас на работу не принимают. Другое дело, что не люблю я туда приходить. Как, все равно, на кладбище. Ну ладно, бывай. Некогда мне. Петька скоро вернется, нужно приготовить закуску. Да и твои старики уже на подходе...
Пьяным своего деда я видел один раз. Вернее, не видел, а слышал. Мне шел шестой год. Было поздно. Я лежал в своей детской кровати, пытался уснуть, но не мог. За стенкой гуляла шумная свадьба. Это Вовка, младший сын бабушки Паши, "пошел на семена". Гудели полы, играла гармонь, а я лежал и думал о несправедливости жизни. Ведь Вовку я считал своим другом. Мы часто ходили с ним в город. Он покупал мне мороженое и сладкую вату, дарил иногда игрушечные кораблики, которые делал сам. А как до дела дошло, даже не пригласил. Спустя какое-то время, за стеной что-то произошло. Общий фон разделился на несколько составляющих. Одна из них приближалась. Скрипнула калитка, ведущая в огород, около летней печки раздались возбужденные голоса, лязгнул замок и в дом завели деда. Я понял, что это так, еще до того, как включили свет. Он шел на своих ногах, расстроено повторял: "Ох, черт его знает!" и долго потом ворочался на своей скрипучей кровати, часто вздыхая и охая.
Дед изредка выпивал. Как мне тогда казалось, без повода. Он мог провести на сухую Новогодние праздники, но в один из не примечательных дней, вернуться с базара с каким-нибудь мужиком, усадить его за наш круглый стол и раза четыре наполнить графин. Разговор в таких случаях, всегда шел о войне.
Против домашних застолий бабушка не возражала. Она охотно подносила закуску, подсаживалась к столу, если внутренний такт требовал выслушать гостя. Иногда поднимала рюмку, чтобы слегка пригубить. Но стоило деду "лизнуть" где-то на стороне, а бабушке поймать его "на горячем", начиналась трагикомедия. Вот и сейчас, она вела себя так, будто супруг вообще не стоит на ногах и "лыка не вяжет": то подставляла плечо, то поддерживала под локоток, то пыталась толкнуть в шею. И при всем этом, беспрестанно ругалась.
А тот шел себе, да посмеивался.
Видеть, что будет дальше, мне не хотелось, да и не следовало. В конце концов, взрослые люди. Пусть разбираются без меня. Я отступил сначала во двор, потом в огород, вброд перебрался на островок. На своей его части, бабушка Катя окучивала картошку. Пришлось перелезть через две изгороди, чтоб поздороваться и навязаться на разговор.
- Здравствуй, Сашка! - сказала она. - Ну что там, Степан Александрович, лекарство мое пьет?
- Не то слово пьет - потребляет! - Я не пожалел красок, чтобы выразить свою озабоченность. Даже вздохнул. - Вроде все правильно, утром столовая ложка и стакан молока. А в банке чуть больше трети осталось.
- Да что ж там у него за ложка такая?! - удивилась бабушка
Катя.
- Большая деревянная ложка. Я замерял: семьдесят пять грамм.
- Ну, ничего страшного. Чем больше выпьет - тем здоровей будет! - засмеялась она. - Главное, чтоб натощак, регулярно. Ты приходи через полчасика. Я, как управлюсь, еще одну банку для него наведу.
- Может быть вам помочь? - осторожно предложил я. - Сейчас, только за тяпкой слетаю...
- Если что-нибудь надо, прямо скажи! Нечего тут дипломатию разводить! - Екатерина Пимовна выпрямилась, уперла в тощие бедра костлявые кулаки, как перед ссорой с соседями. - Ну, говори!
Под ее водянистым взглядом, мне стало не по себе.
- Проклятье на нас, - обреченно сказал я, облизнув пересохшие губы. - Кто-то по женской линии, в одном поколении, обязательно сходит с ума. На очереди Анна Акимовна, родная сестра моей бабушки. Следующей будет мама.
Бабушка Катя отпрянула, посерела лицом и посмотрела на меня с каким-то мистическим ужасом. Тут все понятно без слов.
Вот и накрылось дедушкино лекарство, - думал я, перелезая через ограду. - теперь она ко мне на километр не подойдет.
Тонко звенели комары-кровопийцы. За мокрые ноги цеплялась картофельная ботва. На сердце было погано.
- А ну-ка вертайся назад!
Я не ждал этих слов. Поэтому подумал, ослышался. На всякий случай, решил обернуться. Бабушка Катя стояла, опершись на свою тяпку, и призывно махала рукой.
- Куда это ты побежал? - спросила она, когда я оказался рядом. - Ишь ты, какой обидчивый! А ну-ка садись, рассказывай.
До Анны Акимовны кого там бог покарал?
- Сестру Марфы Петровны. Это мама моей бабушки. А как ее звали, и кто еще был до нее, этого не скажу.
- Откуда узнал?
- Увидел.
- Ладно, пошли. Какая уж тут картошка! Да и тесто уже подходит.
С ее стороны речка была чуть шире, дно мелким и каменистым. Я перешел ее вброд, а бабушка Катя - по специально уложенным валунам. Пахло подсыхающим илом. Мелкие водоросли тянулись вслед за течением. Со стороны островка, огород окружал редкий плетень, увенчанный железной калиткой. Над крышей поднимался дымок. Несмотря на жару, в хате топилась печь. Но тепло было не одуряющим, как на улице, а домашним и сытным. В кадке томилось тесто.
- Ваньке моему десять лет, - пояснила бабушка Катя. - Ох, и любил Ванька ватрушки! Никчемный был человек. Что жил, что под тыном высрался. От водки сгорел. Как с фронта пришел - так из стакана не вылезал. Скоро начну печь, а вечером по людям разнесу. Садись, Сашка к столу, будешь снимать пробу.
Я мышкой притих в уголке, боясь неосторожным словом разрушить это зыбкое статус-кво. Ведь Пимовна могла завестись с пол оборота, особенно, если почувствует, что человек с ней неискренен. Руки ее порхали над клеенчатой скатертью, как дирижерская палочка над оркестровою ямой. Сито она держала на уровне плеч, но ни одна пылинка муки не упала на крашеный пол.
- Что, Сашка, молчишь? Робеешь, или слова моего ждешь? - бабушка Катя легко разгадывала все мои уловки и хитрости, - так ведь не дождешься! Слышала я, что жили в старину люди, которые были на такое способны, так ведь я им не ровня. Это сколько же ненависти нужно иметь в душе?! Даже не знаю, с какого краю к этому подступиться. Но сердцем уже чую, что если возьмусь, долго не проживу.
Она еще долго возилась с тестом: сминала, с размаху кидала на стол, колотила тощими кулачками, успевая при этом задавать мне каверзные вопросы:
- А Елена Акимовна знает о родовом проклятии?
- Конечно, знает. Только мне она об этом не говорила. Да и с бабушкой Аней пока все в порядке. Только курит в постели.
- Как это курит?
- А так: лежит и дымит. Чтобы тот, кто захочет ее убить, подумал, что в хате мужчина.
Пимовна засмеялась:
- Ишь ты, какая хитрая! Ты это сам видел, или опять знаешь?
- Знаю. А через год увижу.
- По глазам вижу, не врешь. Да и придумать такое тебе пока не под силу. - Екатерина Пимовна убрала тесто на край стола и накрыла его чистенькой тряпочкой. - Бедный ты бедный! Представляю, как трудно все это таскать в себе. А теперь, честно скажи: ты про мальчика Раздабариных знал?
- Знал, - потупился я.
- Почему не предупредил?
- Не успел. Да и с какими словами я бы к ним подошел? Знаете, бабушка Катя, кажется, что это я...
У меня перехватило дыхание. В глазах потемнело, и они как то сразу наполнились забытым теплом. Господи, как давно я не плакал!
- Ну-ну, успокойся! - она оттолкнула эмалированный тазик с творогом, присела на стул, и прижала к груди мою стриженую макушку. - Не надо себя казнить. Прошлого не вернешь. В следующий раз будешь умней: придешь и расскажешь мне. А я уж найду способ... кто там у нас на подходе?
- Дядька Ванька.
- Знаю уже.
- Потом Агрипина Петровна, мамка мотоциклиста.
- Этой давно пора!
- А следом за ней Федоровна, ваша подруга. Но это уже осенью, в сентябре.
- Лизка?! - Пимовна отшатнулась. - Что у нее?
- Белокровие.
Елизавета Федоровна работала в детской библиотеке. Во многом благодаря ей, все бабушки с нашего края были дружны, и не ругались даже в тех случаях, когда были тому причины. Ну, например, если соседский кот ополовинит цыплят, или чья-нибудь наглая курица проникнет в чужой огород. Вечером, когда начинало темнеть, все они собирались у нашей калитки со своими стульями, табуретками и маленькими скамеечками. Сначала, как водится, "перетирали" местные новости, а когда разговор начинал затухать, слово брала Федоровна. Она начинала рассказывать в лицах, содержание какой-нибудь приключенческой книги. "Дети капитана
Гранта" я, кстати, впервые услышал в ее исполнении.
- Лизка... - Пимовна смахнула слезинку уголком носового платка. - С работы придет, возьмусь за нее. Может, еще не поздно. Это все?
- На следующий год будет пять гробов. И все из того же дома.
- Я что-то не поняла... да пошла ты, проклятая! - бабушка Катя оттолкнула ногой одну из своих кошек и снова упала на стул. - Из какого "того же", Лизкиного? Она ж одинокая!
- У нее еще есть шесть сестер. Они будут приезжать, одна за другой, чтобы вступить в наследство, но ни одна больше месяца не протянет. Ну, кроме последней. Та проживет сравнительно долго, но тоже умрет от белокровия.
- Тоже? Хочешь сказать... нет, я тут сегодня с тобой никаких ватрушек не напеку! Сиди уж, - увидев, что я встал и собираюсь уйти, Пимовна надавила мне на плечо и с силой впечатала в стул. - Про сестер я сегодня же у нее уточню. А ты расскажи, что еще про эту семью знаешь.
- У младшей сестры подрастает девчонка, которую зовут Лизой, - выпалил я обиженным голосом. Почему-то вдруг показалось, что бабушка Катя мне не совсем верит. - Ей сейчас где-то четырнадцать, или пятнадцать. У нее дочерей не будет, останутся одни сыновья.
- Хватит! - отрезала Пимовна. - Я все поняла. А сейчас помолчи, не мешай.
Через двадцать минут, я запивал ватрушки сладким вишневым компотом. Хозяйка колдовала над трехлитровою банкой. Судя по количеству самогона, который она туда налила, настроилась на полный объем.
- Куда столько?! - запротестовал я. - А если спросят: "Где взял?"
- Я кому сказала, чтоб не мешал?! - огрызнулась бабушка Катя. - Знаешь, что такое "жримоучки"?
- Ешь, молча, - перевел я.
- То-то же! Если спросят, скажи, что картошку окучивать помогал. Не поверят - ко мне посылай!
Свечерело. Солнце скатилось за наш дом и в комнате стало темно. Потрескивала лампада. В красном углу проступили лики старинных икон. В свете минувшего дня, они будто бы прятались в глубине старинных окладов, покрытых сусальным золотом и вязью из неживых белых цветов.
Пимовна была родом из богатой станицы Ереминской. От нее, после расказачивания, остались заброшенные сады, с полсотни жилых хат, да эти иконы из разрушенной до основания церкви. Когда-нибудь, она мне расскажет, что еще сохранилась мельница и большой атаманский дом, в котором прошло ее раннее детство. А может, и не расскажет. Зачем? - я и так знаю.
Дело спорилось. Бабушка Катя вынула их духовки последнюю партию выпечки, закрыла пластмассовой крышкой банку с лекарством.
- Слушай, Сашка, - неожиданно сказала она, - а про Лешку моего... ой, нет, не надо, не говори! Пойду кобелюку закрою, да до дому тебя провожу.
Не надо, значит не надо. Зачем ломать человеку судьбу? У него и без всяких корректировок, все сложится хорошо. Он станет Леонидом Ивановичем, начальником "Агропромснаба". Будет ездить на белой служебной "Волге" с личным шофером и, кажется, умрет позже меня. Последний раз я встречу его в поликлинике. Мы будем стоять в очереди за талонами. Каждый со своими болячками. Он с сахарным диабетом, а у меня обострится тромбофлебит.
На улице было еще светло. Красный полукруг солнца, медленно опускался за насыпь железной дороги. Я нес тарелку с поминками, а бабушка Катя прижимала к груди трехлитровую банку. Возле нашей калитки, она опустила ее на землю и тихо произнесла:
- Ну ладно, беги, пострел. Да дня через три, обязательно ко мне загляни. А я похожу, пообщаюсь с людьми, подумаем вместе, можно ли помочь твоей матери. Меня теперь родовые проклятия очень даже интересуют.
А как я не загляну? По нашим традициям, пустую посуду хозяйке не принято возвращать. Только с отдачей. Вот напечет Елена Акимовна хвороста, пышек или пирог с повидлом, наполнит
тарелку так, чтоб не стыдно было, и скажет: "Отнеси-ка, внучок, гостинец бабушке Кате!"
Мои собрались ужинать. Обеденный стол из маленькой комнаты перенесли на веранду. Он всегда у нас кочевал, в зависимости от времени года, а закончил свой век на улице, под навесом. Я хранил в нем все, что осталось от старого времени: радио, похожее на тарелку, табличку со старым названием улицы и бабушкины очки. Ведь память дольше живет, если подкреплена чем-нибудь материальным.
- Ты где это блукал до темна? - строго спросил дед, даже не обернувшись.
Я поставил в центр стола тарелку с ватрушками и сказал, как научила Пимовна:
- Поминайте Ивана Гавриловича, покойного мужа бабушки Кати.
- Царство небесное! - отозвались мои старики...
Все в доме текло, по когда-то установленному распорядку. Ничего не менялось, кроме меня. Так же рано легли спать. Я долго ворочался в своей старой кровати и вспоминал о будущем.
После смерти бабушки Кати, Лешка продал старую хату. Она была куплена многочисленной армянской семьей. Началась перестройка: двор покрыли бетоном, свою часть островка огородили забором, зарыли русло протоки и сделали там зону отдыха. Глава семейства ездил по окрестным полям, собирал после вспашки детали машин, комбайнов, сеялок и тракторов. Потом очищал их пескоструйной машиной, где-то, что-то подваривал и пускал в продажу, как новые. Тем и жили. Да не просто жили, а множились и богатели. Оборудовали под жилье капитальные кирпичные сараюхи, а потом, в одночасье, исчезли. Как будто и не было никого. Больше всех удивлялся судебный исполнитель, когда застал по этому адресу новых хозяев, оформивших собственность с полгода назад. От него соседи узнали, что кто-то из исчезнувшего семейства был виновником ДТП, чуть ли ни со смертельным исходом.
О последних жильцах плохого сказать не могу, хоть и знаю о них мало. Старший сын - футболист, играл за донецкий "Шахтер", в дублирующем составе. Я тогда еще был в силе. Устроил его в нашу городскую команду. А больше ничего не успел: после первого же наводнения, хаты не стало. Раскисшие саманные стены сели под тяжестью крыши...
Глава 13. Во власти воды
Утро ворвалось в полумрак комнаты отсветом близкой молнии. Так громыхнуло, что дрогнула шипка. Дождь, всей своей тяжестью, топтался по крыше, выпрыгивал из водостока и рисовал за окном толстые вертикальные линии.
Сегодня я встал позже обычного. Очень уж крепко спалось под древнюю музыку непогоды. Дед был во дворе. Его брезентовый плащ мелькнул сквозь разводы воды, льющейся по стеклу, когда он открывал саж.
В маленькой комнате гремела плита. Пахло сырыми дровами. Шлепая босыми ступнями, я побежал на веранду. Там тоже тускло, промозгло. Весь двор в потоках воды. Над поникшими листьями провисло черное небо. Транзитом через сарай, сбегал в сортир. На обратном пути обронил:
- Доброе утро!
- Доброе-то оно, доброе, - хмуро сказала бабушка, распуская ножом на лучины, березовое полено, - только вона как затянуло! Эдак, и пол у курей к обеду зальет. А ну, загляни в подпол, не сыро еще?
Подполом у нас называлась неглубокая ниша под полом, в тупике "колидорчика", где висел на стене электрический счетчик. Там, на полочках и "приступочках", хранились бабушкины закатки и бутыль с молодым вином в плетеной корзине.
Я взялся за кольцо сразу двумя руками, дернул и чуть не упал. Деревянная крышка еще не успела разбухнуть, и легко поддалась.
- Куды ж ты, поперэд батьки?! - Дед поддержал меня за спину, и мягко отстранил в сторону. Был он в вязанных теплых носках, но уже без плаща. Только руки холодные.
Из подвала пахнуло сыростью. По центру бетонного пола проступило большое пятно.
- Ну что там? - забеспокоилась бабушка. - Мы завтракать будем сегодня? Где ваши дрова?
Через полчаса все устаканилось. Корзину с вином и закатки, стоявшие в самом низу, дед убрал в безопасное место. В печке занялся огонь. По комнатам осязаемо разливалось ласковое тепло. На плите закипал чайник, шкворчала яичница с салом и вчерашней толчонкой. Да и ватрушки бабушки Кати пришлись, как нельзя, кстати.
- И откуда такая напасть? - с тревогой спросила бабушка, поглядывая в окно, - вечером было вёдро, а ночью уже - страх господень! Как все одно, небеса прохудились.
- Снег растаял в горах, - пояснил дед. - Пора бы уже ему. Вот увидишь, к обеду развиднеется, и пойдет по реке большая вода.
После ложки лекарства, он заметно повеселел. Мне казалось, а может, хотелось казаться, что оно ему шло на пользу.
В годы моего детства, всю улицу не топило. Проблемными были только дома, граничащие с островком. При строительстве железной дороги, с этих участков брали землю на насыпь, и они оказались в низине. Грунтовка, проходящая мимо смолы, была выше уровня нашего огорода метра на полтора.
Наводнение начиналось с лужи. Она вырастала в районе сортира, или, как говорила бабушка, отхожего места. По мере ее увеличения до всего участка земли, вода появлялась в подвале. К вечеру она поднималась сантиметров на сорок, иногда больше, в зависимости от того, насколько снежной была зима. Речка бурлила, и всегда выходила из берегов в самом начале улицы, перед двором Раздабариных. Ее сопровождали всем обществом, расчищая и углубляя кювет, до самой протоки, ведущей на островок. Он тоже покрывался водой. Течение уносило картофельные кусты, и ветки гибкого ивняка кланялись им вслед, как будто прощались.
Так случалось с периодичностью в четыре - пять лет. Иногда река подходила почти к порогу. Но подтапливала нас не она, а грунтовые воды. Тяжелей всех приходилось бабушке Кате. Она каждое лето "бросалась под танк": огораживала стены листами шифера, а низкий порог - мешками с песком.
К концу завтрака ливень начал стихать. Посветлело. Отголоски грома уже перекатывались где-то у горизонта. Пятно влаги в подвале превратилось в прозрачную лужицу.
- Пойду, на речку взгляну. - Дед надел сухие носки, облачился в плащ и нырнул в сапоги.
Хлопнула дверь. Такое оно, раннее лето. Хорошо хоть, ему на дежурство не сегодня, а завтра в ночь. Все выходные пробудет дома.
Наконец, проглянуло солнце. У калитки зауркал Витька Григорьев. Я постоял над своими сандалиями, подумал, и вышел на улицу босиком. Земля была теплой. Между пальцами ног, сочилась жидкая грязь.
- Ну, кто там опять помер? - спросил я, вместо приветствия.
- Почему обязательно помер? - обиделся Витька, и спрятал руку в карман. Ну, типа, передумал здороваться. - Мамка ходила в новую школу. Буду учиться в 6-м "Б". Из нашего класса туда переходят одни девчонки: Тарасиха, да Бараненчиха с Дылдой. Из пацанов пока никого. Вот я и пришел разведать насчет тебя. Скучно же одному!
- Не знаю пока, - честно признался я. - К нам не приходили еще. Да и сегодня вряд ли придут. Тут видишь, какая пасека... мне кажется, как мамка приедет, она разбираться будет: кто из нас в какую школу пойдет.
- Что ты сказал? Гля! И действительно, похоже на пасеку. полная дорога людей, только что не жужжат. А мамка твоя когда приезжает?
- Нескоро. Она ведь в вечерней школе работает. Надо экзамены принять у людей, квартиру сдать государству, вещи собрать и отправить сюда контейнером. Да и дорога неблизкая: почти через всю страну, поездом "Владивосток - Адлер".
- А-а-а! Ну, ладно, я побежал. Там еще Сашку Жохаря из параллельного класса, тоже в 6-й "Б" определили. Схожу, обрадую, если дома застану...
Я вымыл ноги в ближайшей луже и отправился на поиски деда.
Брезентовый плащ висел на заборе, в конце огорода, а сам он стоял по центру протоки и выбрасывал на берег заилившиеся карчи. Наш островок еще не затопило, но между рядками картошки проступила вода. Напротив смолы, где протоки сливались в единое русло, вскипали высокие буруны. Там было уже выше пояса взрослому мужику. Склонив ухо к течению, у дальнего берега стоял дядька Петро и, как будто, к чему-то прислушивался.
- Есть!!! - ликующе, выкрикнул он и стал выпрямляться.
Это ему удавалось с трудом. Сначала из воды показались вибрирующие деревянные дуги, потом ячея двухметровой хватки и, наконец, мотня, с запутавшимся в ней, крупным зеркальным карпом.
- Смотри, падла, не упусти! - заорал Василий Кузьмич, на глаз оценив размеры добычи. - Осторожнее выгребай! Я сейчас кину веревку!
Он ходил по высокому берегу с сеткой-авоськой, набитой только что пойманной рыбой. Меня, естественно, не заметил. Ему сейчас не до таких мелочей. Опять, как всегда, прорвало дамбу в пруду, и колхозная рыба стала бесхозной.
- Ты что это, Сашка, оглох, или памороки отшибло? - Дед взял меня за оба плеча и развернул к себе. - Я ему, главное, ору-надрываюсь, а он хоть бы хны! Ты почему босиком, когда столько
стекла под водой? Пятку пропорешь, и будет тебе лето! Сейчас же иди, достань сапоги с чердака. Плащ, заодно, отнеси в хату. Я тут скоро управлюсь. Будем звать дядю Колю Митрохина и все вместе пойдем помогать бабушке Кате. Зря, что ль, она кормила тебя ватрушками?
Пимовна была на ногах. Стояла в позе орла, смотрящего вдаль с высокой горы, вцепившись двумя руками в крапивный чувал с плотным лежалым песком. Он у нее хранился с прошлого года. Сквозь ряднину, кое-где проступили блеклые волокна травы.
- Храни вас господь! - прослезилась хозяйка, завидя нас у своей калитки и поняв, что мы к ней. - А я тут... в будку пошел, чтоб вы повыздыхали!.. с ночи не сплю. Поминки по нашей улице разнесла, у подруги часок погостила. Вернулась домой, только собралась поужинать... и тут оно началось!
Дед с дядей Колей вручную трелевали мешки, а я помогал выставлять шифер. Век полиэтилена в наш город еще не пришел.
- Ты прости меня, Сашка, - сказала бабушка Катя, когда мы с ней перешли к тыльной стороне дома. - Я ведь тебе вчера до конца не поверила насчет сестер Федоровны. Их у нее и впрямь шестеро. И младшей племяннице четырнадцать с половиной годов, и зовут ее Лиза. А я, грешным делом, подумала давеча, ты голову мне морочишь, чтоб я скорее за мамку твою взялась. Прости. И зла не держи.
Уж чего-чего, а такого я, честное слово, не ожидал. Еще не хватало, чтобы Пимовна меня опасалась.
- Бабушка! - чуть не заплакал я. - Нет у меня к тебе ничего, кроме благодарности. Я не буду на тебя обижаться, даже если ты отхлещешь меня жигукой.
Она сразу же потеплела глазами.
Работу закончили быстро. Хозяйка, как принято в наших местах, тут же рассыпалась в благодарностях, стала рассказывать, какие мы все хорошие и приглашать к столу, "чтобы сырость не приставала".
- Нет! - сказал дядя Коля. - Надо еще надо к Зойке зайти. Мужик у нее что есть, что его уже нет.
- Была вчера там, - вздохнула бабушка Катя. - Все глаза, выплакала. Как ей, с тремя-то детьми? - А Ванька плохой. Лежит, бедный, доходит. Зубы во все лицо...
Я вздрогнул. Детей у Погребняков было действительно трое. Но рожали они их вразнобой. Как будто назло мне, чтобы отсечь возможную дружбу между нашими семьями. Младший, Сашка, был на целых четыре года младше меня, средний, Валерка - настолько же старше, а Витька - тот вообще, ровесник Петьки Григорьева.
Когда дядька Ванька умрет, он будет лежать под окнами, что выходят на улицу, оскалившись в страшной улыбке, сжимая в зубах намагниченную иголку. Ночь перед похоронами, "младшенький Сасик" переночует у нас. Он будет спать на моей кровати, а я на полу, под круглым столом. Дед зайдет в комнату и, перед тем, как выключить свет, скажет: "Жмуритесь!". Сашка беспомощно улыбнется, и я увижу точно такие же зубы, как у его отца. Один к одному. Какая уж тут дружба, когда я его улыбку на дух не переносил?
В общем, идти к тете Зое я отказался. Вернулся домой и вытащил из подвала закатки, что стояли на средней полке. Вода прибывала. К обеду она уже заливала дорогу у дома Погребняков. Сразу же появилось городское начальство. Прислали грейдер. Она два раза прошелся вдоль нашего огорода, а толку? Островок полностью затопило. Вода в нашем колодце обрела коричневый цвет, ее можно было черпать ведром, без всякого журавля. Лужа, с которой все начиналось, с одной стороны подпирала фундамент, а с другой - постиралась до дальних грядок.
Екатерина Пимовна геройствовала у своего порога. Собирала тряпкою воду, просочившуюся сквозь мешки, и выплескивала во двор полные ведра. Лишенный ошейника "кобелюка", очень культурно бегал по улице, всех сторонился, ни на кого не гавкал, а лишь, обсыкал заборы соседских дворов.
Мы с бабушкой пообедали без аппетита. Дед вообще домой не пришел. Они с мужиками перекусывали по-походному, не отходя от лопат. Там, где вода из кювета прорывалась сквозь насыпь с жилой стороны, ее останавливали гуртом, то есть, всем обществом.
Летнее солнце проглядывало сквозь белые кудрявые облака, давило влажною духотой и, как будто, ехидно посмеивалось: "Мое дело обеспечить температуру, которую обещали синоптики, а что там еще происходит? - это касается только вас".
Последний аврал случился в районе двора Жохаревых. Я относил деду фляжку с холодным компотом и видел, как мутный поток в кювете, вдруг, закружился воронкой и нашел себе новое русло - неудержимо хлынул из-под нижнего ряда мешков.
Дядька Трофим приволок из сарая лист кровельного железа, отдал на растерзание кучу деловой глины, приготовленной для штукатурки внешних стен нового дома. А Жох сидел верхом на заборе, беззаботно болтая ногами, и делал вид, что всеобщая суета его не касается. Меня он принципиально не замечал. Старательно отворачивался.
Самое интересное в наводнении - это его спад. Люди устали стоить на ногах. Они рассаживаются по скамейкам у близлежащих дворов. Изредка, то один, то другой, выходят к обочине, чтобы проверить, все ли в порядке. А у меня еще силы невпроворот, и работа не бей лежачего. Максимум, что попросят, это сбегать за куревом, или справиться, как там дела у бабушки Кати. А остальное время я торчу на дороге. Здесь у меня свои ориентиры. Я первым увижу, когда неприметный камешек высунет из-под воды серую плешь, стремительно подсыхающую в лучах вечернего солнца. Потом, где-то рядом, обнажится другой, третий. Это значит, пик паводка уже позади. Можно порадовать деда.
- Да ну! - недоверчиво хмыкает он. - Не может такого быть. Тебе показалось.
Не хочет вставать. Ноги отказываются идти. У него там рана на ране. И кулаки поднимали на вилы, и финны стреляли пулями, и немцы осколками рвали. Я тоже в сопоставимые годы не шибким-то был марафонцем. Ох, и крутило на непогоду мою ходовую! Нет,
нас, стариков, время не лечит, а учит беречь силы. Впрочем, какой я сейчас старик? - только душой...
- А ведь правду сказал мальчонка, спадает вода, - кто-то из взрослых не выдержал, сходил на дорогу. - Наша взяла, мужики!
Дед встает, тяжело опираясь на штыковую лопату:
- Пошли, Сашка, домой. Отвоевались!
Река будет отступать по три сантиметра в час, и успокоится в русле ближе к утру, когда стая голодных ворон закружится над островком, вылавливая из луж зазевавшихся пескарей. За водой для питья придется ходить к железной дороге. Там, за железным баком, у смотровой ямы, стоит технический кран. С него навсегда снимут ручку, когда в нашем депо не останется ни одного паровоза.
"Всему свое время, и время каждой вещи под солнцем".
А солнце еще не село. После ужина, всех мужиков с Железнодорожной улицы опять ожидает аврал. Нужно будет убрать с обочин мешки с песком, кое-где выровнять грунт, да привести в порядок дворы, где живут одни вдовы.
Закончится все у бабушки Кати. Она вымоет пол последним ведром воды, принесенным стихией, накроет на стол и позовет все общество в хату. Каждому персональный поклон. Только я туда уже не пойду. Усталость на глаза давит. Да и негоже слушать мальчишке пьяные разговоры. А дед уже думает о завтрашнем дне.
Как изловчиться и выкроить время для полевых работ.
- Что мы, Сашка, с тобой пололи, что в носу ковыряли. После такого ливня ох, и попрет сорняк! К субботе все заплетет...
Ну, это он, конечно, преувеличивает. Работы там, на полдня, если взяться втроем. Главное, добить кукурузу, не смахнув ничего лишнего. С вениками, даже думать не надо. Тупо прошел вдоль рядка: на тяпку прополол слева, на тяпку справа. За пару недель, ростки наберут силу, укоренятся. Сами начнут давить сорняки и более слабых сородичей. Вот тогда-то, через пару недель, и надо за них браться: безжалостно проредить, оставив для урожая самые жизнеспособные.
Дед размышлять вслух, а меня потянуло в сон, стало знобить.
Каждый глоток чая проникал в горло через тупую боль. Наверно,
Опять воспалились гланды. Их ведь еще не вырезали. Как водится в нашей семье, первая простуда моя.
- Квёлый ты, Сашка какой-то, - озаботилась бабушка. - Ну-ка, давай, померяем температуру...
Облачившись в сухую рубаху, дед ушел со двора. Я еще долго сидел, прислонившись спиной к остывающей печке. Стараясь не обронить, нянчил подмышкой градусник и жаждал наступления ночи. Плескалась вода, гремела посуда, доносились слова:
- Горе ты мое луковое! Сколько ж тебе говорить можно: не ходи по улице босиком, лета дождись. - Смена времен года, в понимании стариков того поколения, была легитимной только по старому стилю.
В воздухе запахло горчицей.
Ну, да, - вспомнилось мне, - сейчас бабушка оставит в покое свои кастрюли и займется целительством. В ход пойдут старинные народные средства, которые ставили на ноги всех пацанов и девчат из моего детства. Сначала я буду пропаривать ноги в горячей воде с горчицей. Потом, с головы до ноги укутанный одеялами, дышать над сдвинутой крышкой чугунка с горячей картошкой. А уже на закуску, бабушка смажет мне горло раствором тройного одеколона, наложит на шею компресс и объявит постельный режим. Это значит, на улицу - ни ногой, а во двор - только в сортир. С утра и до поздней ночи - чай с лимоном и медом, с перерывом на завтрак, обед и ужин.
Так в точности все и случилось. Естественно, я не капризничал. Возраст не позволял. Жизнь научила мыслить рационально. Раз уж неприятностей не избежать, не стоит тянуть время. Чем скорее они закончатся, тем раньше я лягу спать.
Чуть-чуть не успел. Дед вернулся домой, когда за окном уже начинало темнеть, а я переодевался в сухую пижаму. Он присел на стул у кровати, пощупал ладонью мой лоб, зачем-то надавил на живот и поставил диагноз:
- Да, Сашка! Хлеба тебе надо побольше есть. Без хлеба кишки становятся хлипкими, как промокашка. Поэтому человек плохо растет и часто болеет.
- Дедушка! - чуть ни взмолился я, - расскажи о войне.
- Так я же тебе рассказывал?
- Еще разок расскажи!
- Ну, значит так, - дед пересел со стула на край кровати и завел свою старую песню, которую я, действительно, слышал несколько раз. - Вечером, как стемнеет, приезжает старшина на позиции с походною кухней, а я уже первым в очереди стою. Зачерпнет он со дна пожиже и наложит мне полный котелок горячей, наваристой каши. Ох, и вкусна солдатская каша! Ты, внук, скорей выздоравливай, а я пойду бабушку попрошу, чтобы точно такую же нам, на костре наварила...
Болеть я не любил. Особенно в детстве. Это такая смертная скука - сутками валяться в кровати и слушать осточертевшее радио. Читать долго не получалось. Из-за высокой температуры ломило глазные яблоки. Вот и сейчас, я снял с самодельного стеллажа томик Носова, и долго искал страницу, отчеркнутую дедовым ногтем.
До этой отметки, он читал мне "Незнайку" вслух. А потом приехала мама и увезла меня в город Петропавловск-Камчатский. До сих пор вспоминаю грузопассажирский пароход "Каширстрой", хмурых матросов, черный дым над трубой, запах угля и хлорки, железные будки сортиров, выпуклые заклепки на палубе, а в море, у самого борта, стремительные плавники стаи касаток. Там я пошел
в школу, научился читать и писать. А когда, воротился в дом у смолы, дочитал эту книжку самостоятельно.
Вот такая злодейка-судьба: к отложенному на завтрашний день, она позволяет вернуться два года спустя, а то и через целую жизнь.
Я уснул с книжкой в руках, не найдя нужной страницы и увидел себя в этой же самой комнате, какой она будет через полста с лишним лет. Из старой мебели совсем ничего не осталось. Трех окон, как ни бывало. Их заложили после пристройки еще одной спальни. То ли по этой причине, а может, из-за того, что во сне я был достаточно взрослым, комната больше не казалась большой.
Судя по отблескам станционных прожекторов, здесь тоже была ночь.
Все казалось реальным и прочным, только звуки, заполнившие пространство, вносили в его восприятие скепсис и диссонанс. От депо с пробуксовкой отошел паровоз. Коротко свистнул и застучал на стыках коротким речитативом. А как такое возможно? У нас ведь, уже года два, как бесшовные рельсы. На станции остались одни тепловозы. Разве они умеют вот так, с пробуксовкой?
Был во всем этом еще один спорный момент. На столике, у пластикового окна, стоял мой старый компьютер. Самый первый, еще даже не пентиум. Я встал, чтобы его включить и глянуть на мониоре, какое сегодня число, но не смог сделать и шага. Нога онемела.
Вот и все, - подумалось мне, - кончилась волшебная сказка, здравствуйте старческие проблемы!
Судорога слишком реальная штука, чтобы ее долго терпеть. Я отбросил лоскутное одеяло, которым намедни укрыла меня бабушка, поплевал на ладонь и начал массировать кожу под правой коленкой, прогоняя тупую боль и остатки сна.
В воздухе доминировал запах тройного одеколона. Нога была маленькой, детской, без вздувшихся вен и узлов. Это я определил на ощупь. Из темноты постепенно проступили предметы: комод, шифоньер, табуретка в изголовье кровати с недопитою кружкой чая. Ни пластика, ни компьютера.
Приснилось, - с облегчением, выдохнул я. - Всего лишь, приснилось! И от этой нечаянной радости - мерзкого, животного чувства, мне вдруг стало стыдно. Что, - возмутилось прошлое, - прижился, упырь, предал? Больше не хочется умирать?
Я долго еще ворочался и вздыхал. Казнил себя за жлобство и эгоизм. Слабые аргументы, что я раб обстоятельств и это не мой выбор, строгая совесть не принимала в расчет. Нашла болевую точку и била по ней с периодичностью метронома. Я так и уснул, с осознанием греховности и вины, без единого оправдания своей подлой, зажравшейся сути.
Когда солнце прорвалось сквозь сомкнутые ресницы, стоял полновесный день. Горло еще побаливало. От мимолетного сна, ставшего причиной столь бурных переживаний, осталось лишь легкое облачно грусти. Бабушка хлопотала у печки, стараясь ступать как можно тише, чтобы не разбудить. Только скрип половиц и дыхание выдавали ее присутствие за плотно закрытою дверью.
Я встал и включил радио. Шел утренний выпуск "Последних известий". Какие-то новости я слышал вчера, отголоски других, особенно имена, перекликались с воспоминаниями прошлого, а некоторые, вообще звучали для меня откровением:
"На демонстрации в Западном Берлине застрелен студент. В Израиле объявлено начало всеобщей мобилизации. МИД СССР направил ноту протеста правительству США, в связи с обстрелом американским бомбардировщиком теплохода "Туркестан" на рейде Вьетнамского порта Камфа. Один человек погиб, еще семеро получили ранения. Предприятия и учреждения Сочинского курорта перешли на пятидневную рабочую неделю. В Париже, на "Парк де Пренс" проданы все билеты на товарищеский матч по футболу между сборными Франции и СССР".
Называя состав нашей команды, диктор упомянул Стрельцова. Вот это была неожиданность! В прошлой жизни я был почему-то уверен, что после своей отсидки, майку сборной Эдик не надевал. Не было об этом упоминаний и в книге, которую он написал. Черт побери, неужели в нашем футболе начались какие-то изменения?
Я хотел выйти из комнаты и чуть не столкнулся с бабушкой. Она несла мне в постель кружку чая с лимоном и малиновое варенье на блюдце.
- Ты куды?! - возмутилась она.
- В туалет, - не моргнув глазом, соврал я.
- Сейчас же вертайся! Надень шерстяные носки, все пуговицы застебни и горло не забудь укутать шарфом. Попнесси, он там, на вешалке, над дедовой фуфайкой висит. Ишь ты, что выдумал? После компресса на вулицу, расхристанный весь!
Спорить с Еленой Акимовной, все равно, что плевать против ветра. Вот эти ее словесные перлы: "куды", "вулица", "посунься", "попнись". Сколько раз, будучи пацаном, ее поправлял:
- Бабушка, неправильно, некультурно так говорить!
Она вроде бы соглашается, кивает в такт каждому слову, чуть ли ни дурочкой себя обзывает, а потом возьми да спроси:
- Как по культурному будет "попнись"?
А действительно, как?! Попнись - это типа того, что "мне не с руки, только ты можешь достать, приложи усилие, но возьми!"
На улице жарко, но после душной постели, кажется, что здесь довольно прохладно. От свежего воздуха кружится голова.
- Глянь там, в сарае деда! - вдогонку кричит бабушка. - Скажи, что завтрак готов!
Вода схлынула. Грядки покрыты тонким, лоснящимся слоем потрескавшейся грязи. На дорожках, мощеных булыжником, слой подсохшего чернозема. Огородные всходы и нижние листья культурного винограда, обрели ядовито-коричневый цвет и склонились к земле. Скоро этот налет превратился в серую пыль и осыплется под дыханием легкого горячего ветерка.
Дед курит у входа в сарай. Последнюю пачку "Любительских" он добил на прошлой неделе и теперь перешел на "Приму". Не до шика ему. Семейный бюджет распланирован на полгода вперед, с учетом доходов от нового урожая. А это еще вилами по воде. Вон, картошка на островке: задохнуться вроде бы не успела, но смыло ее изрядно. И я, как назло, заболел. Попасть бы к нему на дежурство, желательно в день. Можно и мне заработать кое-какую копейку. Дубовую клёпку там выгружают насыпом. Для просушки ее и старения, привезенные заготовки нужно вручную перекладывать в клетки. Работа нудная, но оплачиваемая. Семен Михайлович, начальник участка, платит наличными по десять копеек за клетку.
- Ты что это тут стоишь? - дед обернулся и строго взглянул на меня из-под кустистых бровей. - Болеть это тоже работа. Нужно делать ее, как положено, по уставу. Назначил тебе старшина постельный режим, значит, постельный режим. Скажешь там, что уже иду.
Как мне хотелось посидеть за общим столом! Но бабушка неумолима. Компресс, градусник, и под лоскутное одеяло, болеть до победы. К чаю, она принесла еще и кусок пирога "с сушкой". В годы моей старости, такие пекла только бабушка Зоя, вдова дядьки Ваньки Погребняка, последняя из соседей, которая помнит голод тридцать седьмого. Бог ей даровал долгую жизнь.
Люди того поколения бережно относились ко всему, что дарила природа. Абрикосы, груши, яблоки, жердела не сгнивали на земле под деревьями. Все, что не шло на варенье, вареники и закатки, сушилось впрок на щитах из дранки под лучами летнего солнца. Зимой, весной и в начале лета из этой вот, "сушки" готовился, так называемый, взвар - тот же самый компот, только без добавления сахара. Напиток был кисло-сладким, насыщенным и очень приятным на вкус. Когда "юшка" спивалась, "гущу" процеживали, пропускали через мясорубку, добавляли сахар и использовали в качестве начинки для пирога.
После завтрака бабушка ушла в магазин, за хлебом и молоком, дед чистил в сарае пол, а я помирал от скуки. Десять часов это время детской аудитории. По радио разучивали новую пионерскую песню "Гайдар шагает впереди". Вначале была презентация: хор "пролялякал", диктор прочел слова. Потом, то же самое, но только построчно. И так, в течение получаса. По задумке авторов передачи, я должен был подпевать:
"Если вновь тучи надвинутся грозные,
Выйдут Тимуры - ребята и взрослые...
Каждый готов до победы идти.
Гайдар шагает впереди!"
Вот только не пелось. И горло болело, и возраст не тот, и слова я давно уже знаю и, даже, мотив смог бы наиграть на гитаре. Эта песня была отрядной в том самом 6-м "Б", куда записали Витьку Григорьева и, возможно, приплюсуют меня. Мы, пионеры своего времени, пели ее от чистого сердца, зачитывались "Судьбой барабанщика", "Дальними странами", искренне чтили имя Гайдара.
Но когда припекло, ни один из идейных тимуровцев, так никуда и не вышел. Слишком уж реальная жизнь отличалась от идеала - всего того, чему нас учили в школе и мореходке.
В свой первый валютный рейс, я ушел после четвертого курса. Это была групповая практика на учебно-производственном судне "Профессор Щеголев", который принадлежал знаменитой Макаровке.
Мы вошли в устье Темзы теплым субботним утром. По сложной системе шлюзов, поднялись к самому сердцу Лондона. В переводе с английского, место нашей стоянки звучало очень серьезно: "Док короля Георга четвертого". Представьте себе прямоугольник синей воды величиной с доброе озеро. Вокруг него склады, пакгаузы и портальные краны. С другой стороны складов был расположен такой же прямоугольник, чуть дальше - еще и еще. Вода в них спокойная и прозрачная, без водорослей и пятен мазута. Большие суда вдоль причальных стенок - как бумажные кораблики в лужах.
- Чертовски красиво, - сказал помполит, - хоть и создано тяжким трудом рабочего класса.
В том, что революция в Англии дело ближайшего будущего, никто из курсантов не сомневался. Так предрекал Макарий Степанович Ясев - преподаватель политэкономии. И мы ему верили беспрекословно. В чуждом, враждебном мире, где правит только нажива, его вдохновенный голос был для нас единственной путеводной звездой. Лично я его лекции заучивал наизусть:
- Буржуазные ученые ходят, как коты, понимаете, вокруг этой каши, заваренной Марксом, и разобраться не могут! - вещал он с высокой кафедры. - А Маркс, он во всем разобрался, все по полочкам разложил. Он сказал: "Те-те-те, постой, постой, буржуй, Федот, да не тот! Вот ты крик поднял; охо-хо, грабят, понимаете! А какой же это грабеж? Это справедливость! Кем созданы народные достояния, народом? Они и должны принадлежать народу, понимаете!"
Все, свободные от вахт и работ, а таких оказалось человек триста, скопились на правом борту. Мы, будущие радисты, держались отдельной кучкой. Воздух отдавал заморским, ненашенским духом Я впитывал все оттенки, запахи, звуки, и душа замирала от сладкого счастья:
- Ты здесь, - говорила она, - а значит, все позади! Муштра, наряды вне очереди, косые взгляды старшин и ротного командира, балансировка на грани вылета. Осталось еще чуть-чуть, и ты войдешь во взрослую жизнь (тьфу, тьфу, тьфу!) не с черного хода.
Нас толкал нарядный портовый буксир. Солнечные лучи рассыпались по воде мириадами стремительных отражений. Матросы готовили к спуску парадный трап. На баке и на корме проворачивали шпили и брашпили, готовя к отдаче два шпринга и два прижимных. Вот только причал был подозрительно пуст.
- Я шота не понял! У них шо, забастовка?! - раздался над правым ухом вечно рассерженный голос.
Это был наш ротный завхоз, Павел Павлович Боровик. Прежде всего, он во всем искал и всегда находил непорядок. Казалось, еще чуть-чуть, и перед чьим-то опущенным носом замаячат два растопыренных пальца. Во всем цивилизованном мире этот жест заменяет слово "виктория", а у него, носившего лычки ротного старшины - два наряда на хозяйственные работы.
- Так сегодня ж суббота, - пояснил помполит. - Он пытливо глянул в мои глаза. Потом попытался дотянуться взглядом до Паши, но не сумел, и продолжил развитие темы, - а суббота в Англии выходной! - Дескать, как оно вам, не слишком ли впечатляет? Не подвержены ль вы, други мои, тлетворному влиянию запада?
Не мною замечено, помполиты всегда появляются там, где зарождаются мысли. Наверное, для того, чтобы пресечь на корню симптомы этой болезни.
- А кто же концы будет крепить? - столь же строго спросил Боровик, по привычке, не обращая внимания на мелкие отговорки, и замер.
Я тоже замер. Замерли все. Потому, что в этот миг на причал заехали две белоснежные "тачки". Синхронно хлопнули двери и на всеобщее обозрение вышли два красномордых парубка.
- Докеры, что ли? - предположил кто-то из наших. Робко так предположил, с оглядкой на помполита.
- Да ты офигел! - от души возмутился я. - Где это ты видел докера в фирменных джинсах, да еще при такой машине?! Скорей всего, это подстава, контрпропаганда. Собрали всем миром, как женихов на смотрины, и пыль пускают в глаза!
Все дружно со мной согласились. Очень уж эти хлопцы не тянули на пролетариев, измордованных тяжким трудом. Не такими рисуют английских рабочих в учебниках политэкономии.
- И такое возможно! - благосклонно кивнул помполит. - Оскорбления наших граждан, шантаж, провокации и даже попытки вербовки - здесь это не редкость.
Красномордые хлопцы лениво курили, "стреляя" глазами расстояние до нашего борта. Наконец, оба раскрыли багажники, достали аккуратные красные свертки с яркими лейблами и мгновенно облачились в комбинезоны. Не снимая костюмов, как фокусники. - Шаг, другой, движение рук, треск закрываемой "молнии", - и они уже ловят выброску, запущенную кем-то с кормы. Вторая выброска ушла с полубака. По воде заскользил тяжелый манильский канат.
- Ну-ка вы, двое, - неожиданно сказал помполит, обращаясь ко мне и Паше, - помогите капиталистам. Вишь, как упираются, бедные! Неровен час, кишки через задницу повылазиют.
Было бы сказано! Мы лихо махнули через фальшборт, затопали по бетону.
- Раз, два, раз, два!
Боровик сматывал выброску и командовал. Я упирался. Англичане, управившись с кормовыми концами, поспешили на помощь. Они тоже тянули тяжелый шпринг, подчиняясь голосу Паши:
- Раз, два, раз, два!
- Do you speak English? - спросил между делом завхоз, обращаясь к местным аборигенам.
Наверное, хотел уточнить, говорят по-русски шпионы и провокаторы, но сказал то, что сказал. Вырвалась фраза с первой страницы англо-русского разговорника.
- Yeas, - озадаченно протянул англичанин и подавился жвачкой.
- Ну, тогда крепи, на хрен! - прорычал Боровик, хватаясь за тяжелый конец. И его - представляете? - поняли!
Паша развеял свои сомнения, убедился, что это шпионы. Он возвращался героем. Я семенил позади. У главного трапа нас уже ждали:
- Давайте, хлопцы, за мной! - Помполит по-отечески улыбался. Наверное, мы пришлись ему по душе.
Он шел налегке. За ним поспевал старший помощник, при фуражке, в парадной форме. И последним - подшкипер Кирпу, с тяжелой железной свайкой и мотком проволоки-катанки.
- Куда это мы? - вопросил Паша на правах старшины и пристроился рядом с ним.
- Так срать то куда-то надо? - философски ответил Кирпу. - А судовые сортиры все уже опечатаны!
Искомый объект находился в торце, между двумя доками. Это был презентабельный домик из белого кирпича, со слегка обозначенной, ажурной оградой. Судя по отсутствию настенных надписей на славянских наречиях, здесь еще не ступала нога нашего человека. Был домишко о трех дверях, что само по себе дико. "For ladies" - гласила надпись над первой из них. "For gentles" - на той, что с другой стороны. А третья, с торца, была обозначена очень туманно: "Aziatic type".
- Мне кажется, есть у них чувство юмора, - заметил я, имея в виду англичан.
- Пойдем, поглядим? - предложил Боровик. - Никогда не встречал азиатских сортиров!
Открывая дверь, я готов был увидеть все что угодно, но дохнуло чем-то родным, в переносном, понятно, смысле. В этом отсеке напрочь отсутствовал запах фекалий, но много чего присутствовало: розовый кафель, яркий рассеянный свет, зеркало во всю стену, белоснежные раковины, мыло и полотенца, дезодоранты и озонаторы. А чистота! Так стерильно бывает только в приемной большого начальника. Впрочем, все это мишура. Исконная сущность предмета - стандартный совдеповский унитаз. Тот самый, на который взбираются в шапке и сапогах, а делают свое дело в классической позе орла.
- Насколько я понял, - сумрачно выдавил Паша, - джентльмены в такие не ходят. А я вот, такой джентльмен, что отвез бы его в деревню, да использовал вместо дома. А старую хату и не жалко пустить под сортир.
И как его помполит не услышал?!
- Вы еще здесь? А я уже волноваться начал! - скороговоркой выпалил он,
Бравым шагом он прошел мимо нас, просквозил "вдоль рядов". Затем, загибая пальцы, по-хозяйски пересчитал унитазы:
- Итого пять! Если повар не начудит, - нашему брату хватит!
На улице было немного светлее. Кирпу насвистывал "Арлекино". Он закончил свою работу. Все остальные двери были забиты крест-накрест, и заделаны для надежности скрутками толстой проволоки.
Я стоял, как оплеванный. Почему-то вдруг показалось, что меня, гражданина великой державы, опустили до уровня азиатского унитаза...
Глава 14. Постельный режим
Я проболел по минимуму, равно три дня. Градусник сыграл за меня и стабильно показывал нормальную температуру. Днем не спалось, не давали мухи. Вот не сиделось пернатым на стенах и потолках, на белых косичках провода гупера. Им - хоть умри! - а подавай мою рожу. Когда они доставали и бабушку, та приступала к репрессиям. Открывала все двери настежь, хватала большую белую тряпку и, с возгласом "Кыш!" начинала гонять эту свору от дальней стены к дверям, из большой комнаты через кухню - и так до самой веранды. Мух становилось меньше, но исправляться они не хотели. Какой уж тут сон!
С каждым "гавом" Мухтара, я подбегал к окну и с надеждой смотрел на калитку. Ну, хоть бы одна падла пришла навестить больного товарища! Вот если бы я скоропостижно скончался, Витя Григорьев примчался бы первым. А видеть меня живым, ему неинтересно, нет перспективы.
В общем, дни напролет я валял дурака. Валялся в кровати и читал настольные книги старшего брата: "Сержант милиции", "Дело пестрых", "Рапсодия Листа", "Зеленый фургон". Хотел разобраться, что же такого в них, подвигло его поступать в юрфак?
В отличие от меня, Серега был пацаном дерзким, способным на решительные поступки. Во время семейных скандалов, я затыкал уши, забивался куда-нибудь угол и, молча, страдал. Потому, что любил и мать и отца, не отдавал никому предпочтения. Он же, не пропускал ни единого слова. Стоял рядом со мной и следил за происходящим воспаленными, сухими глазами.
Последнюю ссору я помню очень отчетливо. Случилась она, когда отношения между родителями были уже на грани разрыва. Мамка сидела за столом, опустив голову, а отец бегал по комнате, едко прохаживаясь по всей ее родословной:
- И мать твоя спекулянтка!
- А ты посмотри на свою мать! - громко сказал Серега.
Заплакал, конечно. Но ведь сказал. Я бы не смог.
- Ах ты, щенок!!! - взвился отец и зашарил руками по поясу, с покушением на брючный ремень.
Это была его болевая точка. Во время войны бабушку Галю назначили председателем сельсовета. Ей приходилось разносить по домам похоронки. А их было столько, что впору и мужику спиться.
- Не тронь! Убью!!!
Столько страха и ненависти было в глазах матери, что даже я поверил, убьет. Отец, наверное, тоже. Хлопнув дверью, он ушел из моей жизни. Навсегда.
Когда на крыльце стихли его шаги, мать попыталась обнять Серегу, успокоить, вытереть слезы. Брат холодно отстранился и произнес с вызовом:
- Попробуешь выйти за кого-нибудь замуж, я убегу из дома.
Тем же вечером, мы покупали билеты до Владивостока на теплоход "Советский Союз". Ужинали там же, в столовой морского вокзала. Боялись возвращаться домой. Думали, что отец напьется, и снова будет скандалить.
Мы покидали Камчатку конкретно и навсегда. Загрузили в контейнер мебель, пожитки, библиотеку. Я попрощался с морем, сходил на вершину сопки, к заветному роднику. На лужайке у матросского клуба поймал трех бабочек махаонов, чтоб сохранить их на память о городе, в котором до сих пор не погасла частичка моего сердца.
До последнего шага по трапу, мне почему-то верилось, что отец придет меня провожать. Я ведь был у него любимчиком. Во всяком случае, так говорила мать. Может, это и правда, только фильмоскоп он подарил Сереге, воздушное ружье, фотоаппарат "ФЭД" - снова ему. А мне - только велосипед "Школьник". Короче, любимчик, потому, что похож на отца. По намекам и недомолвкам, в моем восприятии складывалась безрадостная картина: они с братом - регулярная армия, а я перебежчик с вражеской территории.
Возможно, с учетом и этого, мать приняла решение оставить меня у родителей, а Серегу забрать с собой.
- Нам нужно уехать, - сказала она. - Ты с нами, или останешься здесь?
То, что это семейный совет и все решено без меня, я догадался уже по такой постановке вопроса. После ужина никто не вышел из-за стола, ждали ответа.
Спросила бы мама один на один, я бы точно выбрал Камчатку.
А так... стоило лишь взглянуть в бабушкины глаза, чтобы принять другое решение. Столько в них было надежды, любви и тревожного ожидания! Я понял, что обречен и прошептал:
- Остаюсь. (Все равно ведь, уговорят).
От любимчика и перебежчика, такого не ожидали. Взрослые приготовились к долгой осаде, перестроиться не успели. В мою сторону посыпались аргументы, заготовленные надолго и впрок. Дескать, работы по специальности мама нигде не нашла, нельзя, чтобы у нее прерывался стаж, ну, и так далее. Несколько раз прозвучало слово "обуза". Это опять, надо понимать, я.
Матери было неловко, Сереге по барабану. Только бабушка с дедом были по-настоящему счастливы. Их нерастраченная родительская любовь, обретала в моем лице, надежную точку опоры.
Я сидел, опустив голову, и думал о несправедливости жизни. Почему она устроена так, что хочешь - не хочешь, а делая выбор, обязательно приходится кого-нибудь предавать: или мать с братом, или отца, или дедушку с бабушкой? Неужели нельзя сделать так, что бы все кто любимы, были с тобой неразлучны?
Естественно, я Сереге завидовал. И завидую до сих пор. Тот, кто родился и жил на Камчатке, не забудет ее никогда. Там все другое: и природа, и люди, и образ жизни. После нее, даже самый любимый праздник, кажется неудачной подделкой.
Вы встречали когда-нибудь Новый Год? Не так как привыкли: куранты отбили - и "до свидания - здравствуй", а крепко и основательно, как это делается на Дальнем Востоке? Мне один раз посчастливилось. В нашей квартире не нашлось места, куда можно было бы уложить меня и Серегу спать. Из комнаты в кухню, через дверной проем, тянулся праздничный стол. Он был настолько заполнен, что половину гостей я не знал, и раньше не видел.
Это не удивительно. Какие мои годы? - я к тому времени учился во втором классе, а старший брат в пятом. Достаточно взрослые, должны соответствовать. И мы соответствовали: не звали без повода маму, не ссорились, не дрались, а по-честному делили подарки. Ведь от каждого гостя и нам что-то, да обломилось.
Импровизированный детский стол был накрыт на тумбочке, у окна. Из него открывался замечательный вид: звездное небо, желтые окна ночного города и море огней внизу, где в порту и на рейде Авачинской бухты тесно от кораблей. На диване, за нашими спинами, пахнущие морозом шинели, шапки с офицерскими "крабами", а справа от входа, на деревянном полу - стройные ряды уставной, начищенной обуви.
Дом, в котором мы жили, стоял у вершины пологой сопки, на улице, которая почему-то называлась Морской. Отец тогда еще не вышел на пенсию. Был в чине майора, носил военно-морскую форму с якорями и кортиком, и занимал должность начальника штаба ПВО Тихоокеанской флотилии. Это в самом конце подъема по большой деревянной лестнице, которая начиналась сразу от нашего дома. Чуть выше школы, в которой учился я и спортивного комплекса ТОФ. Поэтому, одежда половины гостей выдержана в черных и желтых тонах. Все они флотские. Даже сосед, Кулешов дядя Миша, надел парадную форму старшины первой статьи, хоть он никакой не военный, а служит солистом в оркестре.
Новый Год приходит на Дальний Восток, когда в нашей столице еще и не начинали готовить салат оливье. В потолок ударяются пробки "Шампанского", и небо Авачи озаряется дивным светом: сотни сигнальных ракет вспыхивают над стояночными огнями, а у бортов кораблей медленно расцветают мерцающие
соцветия разноцветных фальшфейеров. И все это великолепие отражается на поверхности водной глади и в моей детской душе.
Оживление не стихает, даже когда у гостей заканчиваются тосты. Телевизор никому не помеха потому, что ни у нас его нет.
Отец берет в руки концертный баян.
"В лесу родилась елочка", - разносится над столом.
Лучше всех поет дядя Миша. У него громкий, насыщенный бас, и каждую музыкальную фразу он как будто бы выговаривает: "Ё-лоч-ка". Так же как он, только немного лучше, поет только Дед Мороз. Я это точно знаю. Ходил сегодня на утренник в Дом офицеров флота.
А Новый Год не торопится. У него много работы. Ведь нужно раздать подарки всем, кто его ждет. Каждый такой шаг, размером в один час, встречается новыми тостами за нашим большим столом и нарядным заревом за окном. Ведь ракеты у моряков не кончаются никогда. Мне уже хочется спать, а он еще только подходит к Хабаровску.
У нашего дома сигналят машины такси. Уходят одни гости, вместо них приезжают другие, чтобы поздравить лично, глаза в глаза, а не как в центральной России - по телефону. Новый Год по-дальневосточному, дарит такую возможность всем, у кого рядом родственники и друзья.
Мы с братом досидим до утра, когда все разойдутся, торжество станет маленьким, скучным и переместится на кухню. Ведь, по большому счету, Новый Год это семейный праздник и каждый из тех, кто ночью присутствовал за нашим большим столом, будет слушать Гимн СССР дома, среди родных.
Пейзаж за окном потускнел. Постепенно погасли огни. Как орудие после выстрела, дымится вершина Ключевского вулкана. А я все равно не верю Сереге, что наш дядя Миша был на утреннике Дедом Морозом. Дед Мороз не сидит за столом, рядом с гостями, а приходит глубокой ночью, когда все в квартире спят, и кладет подарки под елку, до которой еще надо добраться...
Время идет особенно быстро, когда просишь его не торопиться. В день перед отъездом, мать посвятила мне целых сорок минут. Я попросил ее почитать вслух. Выбор пал на сборник стихов о войне.
"Рассказал нам эту сказку
Землячок один
В грузовой машине тряской
По пути в Берлин".
Я вспоминаю это последнее четверостишье, паузы, интонации, звук захлопнутой книги каждый раз, когда прохожу мимо старой груши. Есть у меня зарубки на прошлом, памятные места, помимо родных могил. Там оживают звуки и чувства.
А на следующий день, с утра, мы провожали Серегу и маму на железнодорожный вокзал. Тогда еще было рентабельно возить пассажиров в пригородных поездах. От нашего дома это восемь минут ходьбы самым медленным шагом...
Как у них там, на Камчатке сложилось в эти два года, я узнал не так уж давно. Зашел ко мне как-то Серега: посидеть, покурить, рассказать о своих неудачах. Он ведь старший, и первым дошел до черты, когда прошлое становится важней настоящего. Компьютер ему подарили, когда уходил на пенсию. Только раньше братишка на нем в "стрелялки" играл потому, что не было интернета. А тут, зарегистрировался в "Одноклассниках" и принялся разыскивать родственников отца, чтобы узнать, где он похоронен.
От Сереги я такого не ожидал. Вроде бы следователь, бывший "важняк" шестого отдела, а никакого понятия о человеческой психологии. Если кто-то что-то и знает, так, кто ж тебе скажет? Люди давно поделили квартиру, какое-то там, наследство, продали, перепродали. И тут, вдруг, находится родной сын. Для них это не радость, а головная боль. Кто знает, что у него на уме? Мне он, конечно, может втирать, что ни на что материальное не претендует. Я поверю, потому, что и сам точно так же воспитан, но родичи? "Где ты, - спросят, - пропадал раньше, когда был при деньгах, при здоровье, при силе? Почему ни разу не навестил, не досмотрел, это же твой отец?!"
Все это я пытался объяснить Сереге на пальцах. Ох, и туго до него доходило после лечения в стационаре! Злые фразы от лица виртуальных родственников, он воспринимал, как мои.
В общем, мы с братом чуть не поссорились. Вышли на улицу перекурить, и тут, будто Господь надоумил меня спросить: как им жилось-можилось на Камчатке? Что за мифическую квартиру мать получила, а потом сдала государству? Где это? Как проехать?
Серега вообще очень трудно переключается с темы на тему, хоть помнит давно минувшие дни лучше чем то, что случилось месяц назад. Сначала он сыпал голыми фактами, потом в дело пошли конкретные эпизоды, характеристики, а в конце уже так разошелся, что чуть не заплакал, старый дурак.
Как бы то ни было, а на причале их встретил отец, отвез в дом на Морской улице, опять прописал. Серега вернулся в свой класс, а мать снова стала работать в той же самой вечерней школе.
Полгода жили спокойно. Родители честно пытались начать семейную жизнь с чистой страницы.
- Потом, как всегда, - Серега потушил сигарету и взялся за чашку остывшего кофе. - Пришлось уходить на квартиру.
Их было потом много, этих чужих углов. Пять, или шесть. За время скитаний, ему пришлось поменять целых четыре школы в разных частях города.
- И ты знаешь, Санек, - в глазах старшего брата оживало далекое прошлое, лица людей, их поступки, - вроде все педагоги. Ну, те, у которых мы жили. А вот, ни одной благополучной семьи. Нигде больше месяца не задерживались. Помню тетка, дородная, видная. Муж у нее заболел. С кровати не вставал, ходил под себя. Так она сняла для него комнату, и перевезла вместе с трусами да майками, подальше от глаз. А он взял там, да помер. Мы, значит, с мамкой собираем манатки, чтобы место освободить. Потому как, его родители должны приехать на похороны. А она все рыдает, руки заламывает: "Надя, как быть? Что сказать его матери?"
Я несколько раз кипятил чайник, заваривал кофе. Поставил на стол запасную пепельницу, чтобы не сбить с мысли, не спугнуть ее долгой паузой. И сам с наслаждением погружался в черно-белую ленту Серегиных воспоминаний, где было все таким родным и знакомым.
- Потом был какой-то конкурс, - продолжал говорить он. - По итогам его, мать признали лучшим учителем города. Начальство ломало голову: чем бы таким особым ее наградить, чтобы дешево и сердито? Мать за себя никогда бы не попросила. Но подруга ее... она в той же вечерней школе работала библиотекарем. Та пошла в ГОРОНО, и там рассказала о наших мытарствах. В общем, дали матери комнату из старого жилфонда, на втором этаже деревянного дома. Помнишь наш дом на улице Океанской, который разрушило землетрясение?
Еще бы не помнил! Если б не землетрясение, неизвестно когда бы, я впервые увидел дедушку с бабушкой!
- Ну, так это недалеко, вверх по горе. Остановка автобуса "Индустриальная". Даже комнаты расположены точно так же. Наша была первая справа: стол, две кровати, два стула, полка для книг. Вот и вся обстановка. Больше ничем не успели обзавестись. Мать положили в стационар, с подозрением на туберкулез. Целых полгода к ней никого не пускали.
- Как же ты жил?
- Ты знаешь? - голос Сереги дрогнул, - ожесточился. Сам себе сказал, что не сдамся. Не дам ни единого повода, чтобы меня в детский дом упекли, или вернули отцу. Эту комнату... я ее два раза на дню с щёлоком пидарасил, каждую пылинку сдувал. А так... что приготовил, то съел. Как постирал, погладил, так и пошел в школу. Каждые две недели, приходила тетка с материной работы, та самая, библиотекарь, приносила немного денег. Через нее мать передала, чтобы не вздумал ничего сообщать бабушке с дедушкой. Несколько раз приезжали Машкины, соседи по отцовской квартире. Готовили человеческую еду. Вот только он сам, не нашел времени, или не захотел...
Слушая эту исповедь, начинал понимать, почему мать и Серега вернулись с Камчатки порознь, с разницей в две недели. Он доказал свою взрослость. Мальчишку, который полгода был хозяином в доме, не страшно отправлять в санаторий за тысячи километров. Даже на два потока.
- Соседи иногда помогали, - рассказывал старший брат, - даже незнакомые люди. Бывало и так, что без них никуда. Вот, помню, ближе к зиме, дрова у меня в сарае закончились. Сходил я в контору, выписал, а после уроков поехал на склад. До вечера отстоял в очереди. Когда впереди оставалось пять или шесть человек, учетчица захлопнула амбразуру и говорит:
- На сегодня, товарищи, все! Работа закончена.
И такая меня, Санек, досада взяла! Не времени жалко, которое потратил впустую, а денег, что уйдут на автобус. Это ведь, надо еще обратный билет покупать, еще раз сюда приехать, а я на цветы мамке копил. В общем, наладился вместе со всеми на выход, а тут учетчица меня догоняет и шепчет мне на ухо:
- А ты присядь, подожди.
Молодая девчонка, зеленоглазая, рыжая. Мамка потом сказала, что это ее ученица. Ну, я тогда этого не знал. Сижу, жду. Радости во мне никакой, тревога одна. Ну, как, думаю, скажет: "Ты почему без взрослых?", и позвонит в милицию.
Вышла она на улицу, позвала мужика в фуфайке, как я понял, шофера, и говорит:
- Я тебя за то дело прикрыла? Теперь ты помоги. Вот, видишь мальчишку? Он тебе покажет дорогу. Разгрузишься там, куда он покажет, и не возьмешь с него ни копейки. А я уж найду способ проверить.
Всю дорогу мужик плакал, жаловался на нехватку бензина, грозился, что не доедем. Но сделал все, как приказала учетчица.
Дрова только от сарая далеко раскатились. Не думаю, чтобы это он специально. Поленья тяжелые, круглые, по-другому самосвал не разгрузишь. Посмотрел я на эту кучу, и радость пропала, что целый рубль сэкономил.
Пришлось впрягаться. Людям-то не пройти, не проехать. И так жалко себя, такая тоска на душе, хоть криком кричи. А попросить кого-то помочь, гордость не позволяет. Нет, думаю, плохо вы меня знаете. Буду таскать до утра, умру здесь, а пока последний кругляк в поленницу не уложу, не уйду!
Осень, темнеет быстро. На улице еще ничего, а вот в сарае уже, приходилось ориентироваться на ощупь. Тут смотрю: пришел сосед с первого этажа, принес, подключил переноску. Потом подтянулся другой, третий, четвертый, одноклассник с соседней улицы.
В общем, пришел я домой далеко за полночь. Какие там, на фиг, математика с физикой, сразу уснул.
Так вот, и жил. Соблазнов, конечно, море. Деньги в руке, ты им хозяин. Хочешь, купи шоколад вместо картошки и хлеба. Хочешь, учи уроки, не хочешь - иди гулять. Учебу, конечно, подзапустил, но на двойки не съехал...
Серега ушел в расстроенных чувствах. Чуть не забыл у меня блок сигарет "Тройка". Он, собственно, за куревом и ходил. На нашей базе дешевле. А ко мне заглянул потому, что недалеко. От бывшей "Заготконторы", прямиком через железку, и тут.
Прощаясь, сказал:
- Нет, правильно мамка сделала, что тебя с собой не взяла.
Может быть, он и прав. Только я ему все равно завидую до сих пор.
После обеда дед завалился спать. Я в его возрасте тоже любил это дело и частенько припухал на диване под мерное бормотание телевизора. Даже чашка крепкого кофе не бодрила, а действовала наоборот, как снотворное. Наверное, "тихий час" в пионерском лагере придумали для детей не женщины, а мужики сорокоты, в силу особенностей своего организма. Две недели назад, я даже в мыслях не мог допустить, что после борща и вареников "с сыром", буду вот так вот, лежать и таращиться в потолок. А попробуй-ка тут усни, когда каждая клеточка тела рвется на волю, в рост!
Я лег поверх одеяла, убавил громкость нашей радиоточки, открыл на закладке томик Лазутина и погрузился в мир когда-то прочитанного. С точки зрения прожитой жизни, текст обретал новые краски, образы, иные ассоциации.
Диктор мне не мешал. За годы, проведенные в радиорубке, я научился игнорировать ненужную информацию, извлекать из эфира самое ценное. Прежде всего, меня интересовал футбол. Я, конечно же, помнил, что в международных рейтингах, сборная СССР никогда не опускалась ниже пятого места, но результат все равно превзошел самые смелые ожидания. Во втором тайме наши дожали французов, забив в их ворота три безответных мяча, и выиграли со счетом 4:2. Стрельцов, кстати, и сам забил, и отдал две голевых передачи.
Еще удивило, что не только играл, но и выходил на замену Геннадий Еврюжихин. Был такой левый крайний в московском "Динамо". При сумасшедшей скорости, он славился отсутствием техники. Острословы его называли "Всадником без головы". А мне почему-то казалось, что он майку сборной наденет намного позже, когда у нас появится телевизор, а я перейду в седьмой класс.
А так, по большому счету, слушать было особенно нечего. Ласкали, конечно, слух забытые имена и названия коллективов. Герои Социалистического Труда Панкратьев, Курбич, Долгалюк,
Клепиков. Бригада сборщиков станкостроительного завода имени Седина под руководством Трояна...
Центральное радио было полно предвоенной риторики. На Ближнем Востоке вызревал давний конфликт. Египет осуществлял концентрацию войск на Синае. Иордания, Ирак, и Кувейт объявили всеобщую мобилизацию. Из сектора Газа уходил контингент ООН.
Резервисты израильской армии распущены по домам на выходные дни. Тем не менее, Франция поддержала СССР. Генерал Де Голль заявил, что агрессором будет считаться та сторона, которая первой начнет военные действия.
В Китае свирепствовала культурная революция. Покончив с общим врагом, хунвэйбины поделились на "красных" и "чёрных", по признаку социального происхождения, и начали локальные войны с применением артиллерии.
Мир катился в тартарары, а вот, домашние "домашние" новости радовали стабильностью и уютом. Страна готовилась к встрече 50-летия Октября. К этой памятной дате, приурочивались почины, назывались новые улицы. Фарфоровый завод "Пролетарий" приступил к выпуску продукции с юбилейной символикой. Севастополь готовился принять у себя финальный этап военно-спортивной игры "Зарница". В Минске подходила к концу декада узбекской литературы и искусства. По этому случаю, в ЦК компартии Белоруссии состоялась встреча с руководством братской Республики, художниками, артистами и писателями - участниками декады. А на самой большой сцене, в театре оперы и балета, состоялся большой праздничный концерт.
Как писала газета "Советская Беларусь", "Торжественно, величаво прозвучала ода "Партия Ленина". Само исполнение этого произведения композитора Мутала Бурханова, явилось символом дружбы. На сцене слились голоса артистов Узбекистана и Белоруссии..."
Долго читать не получалось. Уставали глаза. Каждые полчаса я откладывал книгу, кутался в шарф и делал вид, что иду в туалет. Во дворе было влажно и душно. Земля в огороде дымилась короткими языками полупрозрачного пара. Дорожка у дома подсохла. Дед Иван наводил порядок: подмазывал летнюю печку раствором из глины с половой и конским навозом. Как на улице хорошо!
- Сашка, домой, простынешь! - устало сказала бабушка. Ей уже надоело произносить эту фразу вслух.
- Иду!
Я громко захлопнул ветхую дверь сортира, рядом с которым, на всякий случай, стоял (а то в следующий раз не поверит) и поплелся в опостылевшую кровать. Так скучно, как мне сейчас, бывает лишь в детстве.
Дед встал, но еще проснулся. У заросшей вещами вешалки, прохлопывал карманы своей рабочей одежды. Искал сигареты и спички. Сейчас перекурит и дело себе найдет. И дернул меня черт ходить босиком! Скорей бы они закончились, эти три дня!
Я достал из комода альбом, коробку с цветными карандашами и принялся рисовать наш дом, каким я увидел его в самый последний раз, уходя получать пенсию.
Вдоль кювета два старых ореховых дерева и красавица липа. Она долго росла между ними тонкой былинкой, пока не сравнялась кронами. Сейчас набирает силу. А орехи уже не те. Доживают свой век. Плодоносят слабо и нестабильно. В прошлом году вообще не было урожая.
На место старой калитки, я приспособил железную дверь с табличкой "Диспетчерская", украшенную для декора продольными деревянными планками. Раньше она стояла в "Горэлектросетях", превратившихся в одночасье в АО "Независимая энергосбытовая компания". В честь переименования, а также в связи с тем, что выросший вчетверо руководящий состав страдал от отсутствия кабинетов, новый директор затеял грандиозную перестройку. Все старые окна и двери поменяли на пластик, купили новую мебель, две машины компьютеров, сделали теплый пол. Ну, я, на правах завсклада, подогнал "луноход" и вывез оттуда ненужный хлам. Сказал, что на свалку. Прихватил заодно, из бывшего "Красного уголка" и полное собрание сочинений товарища Ленина. Хотел сохранить для потомков. По этим книгам очень легко отследить историю наших мировоззрений. Первые три тома изобилуют бумажными закладками, на которых карандашом, часто и густо, выписаны цитаты. С четвертого по седьмой, все нужное небрежно подчеркивалось шариковой авторучкой. А после восьмого тома, листы вообще склеены. Никто их ни разу не открывал.
Табличка с названием улицы у меня сохранилась. Можно сказать, та же. Я нашел ее в мусорной куче у калитки, ведущей на островок, который давно стал полуостровом, очистил от ржавчины, восстановил. А вот, номер дома другой. Был 69 - стал 71. С него, с этого нового номера, все в этом доме пошло наперекосяк: болезни, смерти, хаос, запустение. Нумерология не по фэн-шую.
Я как раз рисовал забор, который закончил монтировать два, или три года назад, часть крыши и лаз на чердак, когда залаял Мухтар. Кто-то нетерпеливый, требовательно стучал железной щеколдой нашей калитки. Как не полюбопытствовать? Попробовал встать, но правую ногу свела судорога. Беда с этой ходовой частью, с детства мне с ней не везло. Пока я привычными средствами восстанавливал кровообращение, во дворе раздались голоса, переместились в дом, по пути что-то "бумкнуло" и загудело.
- Здорово, Кулибин! - весело гаркнул Петро, - чего это ты надумал летом хворать?! Каникулы, етишкина жисть, в школу не надо!
Он был весел и полон энергии, а за его спиной тенью держался Василий Кузьмич. Он бережно гладил своею культей, коробку старинной гитары. Та отзывалась глубоким, едва различимым эхом.
- Ни фига се! - вырвалось из меня.
То, что инструмент не штамповка, я определил не только по звуку. Очень уж тщательно была инкрустирована верхняя дека вдоль обечайки, и круг розетки голосника. Такую бы вещь, да в мою взрослую жизнь! Вот был бы фурор! А по нынешним меркам, смотрелась она, мягко говоря, неказисто. Слишком узкая талия, поделившая кузов на две, почти равные части. Приглушенный, коричневый цвет. Потрескавшийся от времени, лак. С такой, если выйдешь на улицу, засмеют. Куда ей до яркой игрушки, которую вечно таскает с собой Витька Девятка.
В дни моего отрочества, такая гитара мне бы, наверное, совсем не понравилась. Но теперь-то я понимал, что к чему, и не сводил с инструмента восхищенного взгляда. И Василий Кузьмич это оценил.
- Вот, Сашка, - сказал он, - владей! Это тебе на память от дедушки Васи. Струны, правда, не все. Но с твоими талантами, у кого-нибудь разживешься.
Я принял подарок из его дрогнувших рук и пробежался по струнам подушкой большого пальца. Не хватало первой, третьей и, как ни странно, седьмой. Наверное, кто-то, в отсутствии дяди Васи, пробовал настроить инструмент под "шестерку". Я б, на его месте, никому не позволил! Гитара была просто великолепна! Жаль, что не ручная работа. Под розеткою резонатора болтался бумажный ценник, где серым по серому было написано: "Ростовский Музкомбинат, 1937 год.
- Что ж это вы на ногах?! - бабушка колобком выкатилась из кухни, расставила стулья. - Сидайте!
Когда в дом приходили гости, она передвигалась только бегом.
- Мы ненадолго, - успокоил ее Петро. Тем не менее, сел, достал из кармана чертеж вибростола и разложил на столе. - Слышь, Кулибин, почему именно семьсот на семьсот? Сдается мне, что ты эти цифры взял с потолка.
- Почему с потолка? - возразил я. - Это оптимальный размер, чтобы, не напрягаясь, отливать пятьдесят квадратов плиты. Если больше, двигатель не потянет.
- Да куда ж ему столько? - ахнул Василий Кузьмич.
- Разойдутся, когда наладится.
- Погодь! - перебил Петро, - ты намекаешь, что размеры этой хреновины будут зависить от мощности двигателя? То есть, если ее сделать в два раза меньше... Стоп, мощность тут, кажется, не причем...
- Надо уменьшить вибрацию!
- Точно!!! Свести лепестки эксцентриков, или болт закрутить на несколько оборотов. Как я раньше до этого не дотумкал? Ладно, вставай, Кузьмич. Нечего человеку мешать. Пусть выздоравливает.
Гости ушли так же внезапно, как появились, оставив после себя запах солярки, смолы и натурального табака. Взрослые мужики, а поди ж ты, пришли, проведали пацана. Жаль, что так ненадолго.
Я хотел попросить у бабушки красивую ленточку, или отрезок тесьмы, чтобы повесить гитару на гвоздик, но ей, как всегда, было некогда. "Толкесси, толкесси, как все-одно прыслуга!", - говорила она в сердцах, когда что-то не по ее.
Дело важное, лучше не отвлекать. Бабушка накрывала на стол. Судя по количеству глубоких тарелок, у меня прорезается шанс посидеть за общим столом. Еще одно легкое послабление -
компресс мне не обновляли уже с утра.
Мимоходом во двор, я стащил из открытой пачки кусочек сахара.
- Куды?! Скоро ужинать будем!
- Да я не себе, Мухтару.
- Тако-ое... - Елена Акимовна хмыкнула и пожала плечами.
Привязанность к домашним животным, которая вместе со мной переместилась во времени, до сих пор оставалась односторонней. Старая кошка Мурка и сын ее Зайчик, по-прежнему шарахались от меня. Увидят, что я пришел и, кратчайшим путем, в духовку. Как же я их доставал, когда был пацаном! Привязывал к задней лапе игрушечную машину, или к хвосту скомканную бумажку, обливал из кружки водой. Кота - так вообще "отправлял в командировку".
- Занес бы ты, Сашка, нашего Зайчика, пока состав не ушел, - как-то сказал дед. - Жрать да спать, что с него толку?
И правда, это был редкостный лентяюга. Погожие дни он проводил на крыше - там, где над коридорчиком она покрыта не железом, а толью. Лежит себе, спит. Учует чужого кота - догонит, от души отметелит - и снова на боевой пост.
Мурка ловила мышей и капустников для него, дурака. Идет по двору мявкает, сыночка зовет. А тот - тут, как тут: "Давай, мол, скорей, мне некогда". Положит она добычу на землю и лапой ему по морде! Типа того, что учит: "Берись ка ты, Зайчик, за ум! А ну, как хозяин рассердится, да уволит без содержания?"
Так и случилось. Загрузил я кота в керзовую сумку, сунул в карман кусок хлеба, что бабушка выделила в качестве выходного пособия, загрузил его в пустой товарный вагон, дверь перед носом задвинул.
Сделал черное дело и, главное, никаких угрызений. Ну, нету Зайчика и насрать. По сути своей, детство жестоко. Помню, лето стояло, или ранняя осень. Я был в одной рубашке и все удивлялся, что кот не царапается.
Как он потом назад добирался? Этого не скажет никто. Фишка какая-то есть у домашних животных. Но только уже зимой, перед Новым годом, я собрался идти во двор закрывать ставни. Валенки надел, дедушкину фуфайку. Фонарик "жучок" сунул в карман, так как боязнь темноты у меня тогда еще не прошла. Только дверь приоткрыл - и сердце зашлось! Между ног просквозила серая тень и, с заносом на поворотах, в духовку! Слышу, бабушка говорит:
- Гля! Зайчик пришел!
А я уже и забыл, что был у нас такой кот.
Не дожили свой век и Мурка, и Зайчик. Закопала их бабушка в один день. Я, как раз, под навесом стоял, срывал с гроздьев спелые виноградины. Смотрю: бабушка из дома выходит. Тут, откуда ни возьмись, наши кошаки: задрали хвосты, мяукают, об ноги ее трутся. Елена Акимовна глянула и обомлела: у обоих на шкуре залысины, где вместо шерсти - гладкая кожа. Ну, типа того, что стиригущий лишай. Заплакала бабушка и пошла в сарай за мешком. А эти наивняки бегут следом за ней. Я так сразу же понял, что будет топить. И, главное, Мурка уже в мешке, а Зайчик в руки идет.
До последнего не догадывался, что на смерть.
Ох, и жалко их было! Только ни слова в защиту животных, я тогда не сказал. Бабушка все равно бы меня не послушалась, но мог бы попробовать.
А вот с Мухтаром я в детстве дружил. Он, впрочем, со всеми дружил, кто приносил ему сахар. Сейчас нет. Пес все еще узнает меня издали, но уже перестал так искренне радоваться, когда я его окликаю. То ли постарел, то ли почувствовал, что я стал каким-то другим? Наверное, не разобрался еще, часто ли такое бывает с людьми, и чем это аукнется лично ему. Вот и сейчас, он послушно вышел на зов, полируя звенья цепи краем дверного проема, неохотно вильнул хвостом и, выжидающе, посмотрел на меня бельмами глаз.
Когда Мухтар был щенком, дед приучил его, садиться на задние лапы, держать на кончике носа кусочек сахара и начинал отсчет:
- "Раз, два... три-и...
Бедный пес исходил слюной, сосредоточив преданный взгляд на указательном пальце хозяина.
- Десять!!! - командовал дед.
И сахар взлетал по скупой траектории, перед тем, как исчезнуть
в собачьей пасти. Глазом не уследишь!
Было так прикольно смотреть на его несчастную морду, что сахар на нашем столе начал заканчиваться в два раза быстрей. В обычные дни этому способствовал я. А когда приходили гости, даже бабушка любила, при случае, козырнуть выучкой нашей дворняги.
Что касается его самого, то Мухтар с этого дела тоже имел свой гешефт. Ведь кормили его без изысков: полбулки черного хлеба, да уполовник борща. Ну, когда-никогда обломятся кости, оставшиеся после второго.
С годами наш пес постарел, рано ослеп. О старой забаве в доме постепенно забыли. Смотреть на него было уже не смешно. Я тоже не стал издеваться над пенсионером и протянул ему лакомство на ладони:
- Можно, Мухтар.
Он принял подачку, как должное, шевельнул рыжим хвостом и поплелся в свой обжитой угол, еще раз обдумать мое нестандартное поведение.
Что еще можно для него сделать? - лишний раз приласкать. А вот у Мурки и Зайчика есть реальные шансы. Нужно только спросить рецепт у знающего человека.
Оба моих деда были в работе. Восстанавливали после паводка летний душ. Яму уже почистили. Степан Александрович у колодца подключал водяной насос, а Иван Прокопьевич был почти рядом - укреплял разбитые стенки плахами из древесной коры. Заметив, что я, поздоровавшись, продолжаю стоять в ожидании, он выплюнул из-под усов с десяток гвоздей и хмуро спросил:
- Чего тебе, Сашка?
- Если к примеру, у кошки шерсть клочьями выпадает, да так, что голую кожу видно, это можно чем нибудь вылечить?
- Это у какой кошки? У Мурки, что ли? - дед Иван в каждом деле любил конкретику.
- Нет. В школе у нас Милка в подвале живет. Котят принесла. Жалко.
Версия была не из лучших, но ничего другого на ум не пришло. С точки зрения логики, я вполне мог расчитывать на адекватный ответ. И он прозвучал:
- Тю на тебя! Не вздумай такую заразу в дом принести! - дед Иван прикусил щепотку гвоздей и опять застучал молотком.
Вот тебе и весь сказ до копейки! У этого поколения своя логика.
- Дедушка, - снова спросил я, - в сарае у вас, веничье не осталось? Такое, чтоб семена еще не очищены?
- Есть чутка, - отозвался он и сплюнул с досады ("вот приставучий!"), - тебе-то зачем?
- Сделали мне позавчера такое приспособление, что само семена очищает. Хотелось бы испытать.
Изумленный Иван Прокопьевич, чуть не уронил молоток:
- Да ты что?! Кто ж это такое удумал?
- Наш учитель труда.
- И работает?
- Как зверь, - говорит, - только успевай, подноси.
- Так прямо само и шоркает? Быть такого не может, а ну, покажи!
До конца своей жизни, Иван дед разбирался с веничьем железной скребницей, которой он чистил и мыл свою Лыску. Наденет ремень на руку - и вперед! Он просто не мог вообразить, что может существовать какой-то другой способ.
Пока я ходил в сарай, прилаживал насадку на двигатель, бабушка забила тревогу:
- Сашка! Иде тебя черты носють?! Ты деда позвал? Дождесси у меня хворостны!
- Сейчас позову!
Возле летнего душа стояла лестница. У колодца, давясь и всхлипывая, урчал водяной насос. Иван Прокопьевич собирал инструменты, а дед Степан, стоя на верхней ступеньке, заправлял резиновый шланг в горловину железной бочки.
- Ты чего это тут блукаешь?! - строго спросил он. - А ну, строевым шагом, в постель! Вот увидит бабушка твои железяки, будет чертей и мне, и тебе.
- Так она меня и послала. Я за тобой, ужинать.
- Скажи, что сейчас приду.
- Погодь, - озадаченно сказал дед Иван, разглядывая мою приспособу, - насколько я понял, эта хреновина крутится на валу, и должна, по задумке конструктора, сбивать напайками семена. Так?
- Так, - подтвердил я.
- Ну, если деревянной лопаточкой метелку сверху прижать, какой-то толк с этого будет. Только кажется мне, получится не намного быстрей. Степан! Как ты думаешь?
- А черт его знает, - отозвался тот с верхотуры, - спущусь, посмотрю.
- Са-ашка-а!
Ох, и волнуется бабушка! Надо идти, а жаль: пропущу самое интересное. Опека по мелочам надоедает. Но я своих стариков искренне понимаю. У них перед моей матерью свои обязательства и очень большая ответственность.
Ужин ждал меня у кровати: картофельный "совус" с куринной "булдыжкой", чай с лимоном, вазочка с "пышками" и немного малинового варенья в хрустальной розетке. Я ел в одиночестве. В доме стояла мертвая тишина. Бабушка вышла, чтобы еще раз позвать деда, и тоже с концами.
Я добавил громкость нашей "тарелке" и под звуки классической музыки принялся за еду.
Нет, какие волшебные куры бегали в нашем дворе! Мясо плотное, ароматное, в каждой тушке на палец жира, такое не приедается никогда.
Уж в чем-чем, а в курице я понимал. Она эволюционировала рядом со мной всю долгую жизнь, в вареном и жареном виде: от бабушкиных деликатесов до приснопамятных "ножек Буша". Во флотском меню это блюдо относится к традиционным. Последний салага знает: если на календаре воскресенье, значит, на завтрак будет кофе и сыр с ветчиной, а на обед - курица с рисом. В каких только иностранных портах мы ни пополняли запасы продуктов! И в первой десятке каждой заявки обязательно фигурировала она - ее величество chicken. На ледоколе гидрографе "Петр Пахтусов", я вообще эту курицу жрал за двоих. Ну, это молчаливому сговору буфетчицы и поварихи. Там не только они, а вся женская часть нашего экипажа, относилась ко мне с глубочайшим почтением. Спасибо Володе Зибареву.
Этот лысый, невзрачный мужик числился у нас пассажиром. Мы везли его к месту работы, на далекий арктический остров под названием Голомянный. Он, как и все представители нашей науки, был сотрудником института Арктики и Антарктики. Я с ними дружил. А потому, и Володя вскоре получил доступ в радиорубку. Его отрекомендовал Платон Скороходов, заместитель начальника экспедиции:
- Уникальный, - сказал, - человек. Он может на стоячем хрену запросто пронести чайник с водой. Баб имеет в широком диапазоне, от восемнадцати до пятидесяти, лишь бы задница была у нее широкая, как мечта.
В среде моряков умеют ценить людские таланты. Будь то игра на гитаре, вязание макраме или таскание чайника на хрену. И я почему-то сразу же подумал о Верке. У нас только она подходила под такие параметры. И не только подумал, а пригласил на банкет.
Лично пришел и поставил в известность, что будет присутствовать феномен, который своим чудильником запросто выдает такую вот, "цыганочку с выходом".
- Ладно, приду - хмуро сказала она, - в коридоре немного управлюсь и забегу. Хоть посмотрю, что там за чудо.
Верка была "в доску своим мужиком". За широкой душой, у нее ничего не водилось: ни жилья, ни семьи, ни родителей. Совсем ничего, кроме работы и красивой прибалтийской фамилии, которой ее наградили в детском приюте. Девчонка росла среди пацанов, и мыслила как пацан. Мечтала о море, о бригантине под красными парусами, о сытой безбедной жизни, чистой, как душа капитана Грея. Откуда ей было знать, что "лицам, не имеющим родственных связей", дорога "в загранку" заказана навсегда?
Осознание жизненной прозы приходило с годами. После десятого класса, Верка рванула в Архангельск. Было лето. Пора отпусков и нехватки кадров. Ее без проблем приняли в пароходство на должность буфетчицы и даже отправили море. Каботажное судно шло на Игарку, но девчонке казалось, что все еще будет, что счастье еще впереди.
Первый день прошел в кропотливой работе и борьбе со своим организмом. Волна в Белом море короткая, резкая. Штивает так, что сбивает с ног. А вечером ее пригласил капитан, якобы, убраться в каюте. Наверное, он не знал, что детдомовцы умеют постоять за себя. Когда этот взрослый женатый мужик потащил ее на кровать, Верка сначала опешила, но быстро пришла в себя и навесила ему на фасад такую полновесную "сливу", что после ее уборки к капитану вызвали доктора.
Первый же порт захода, для буфетчицы оказался последним. Ее списали в Мезени "за профнепригодность".
В кадрах девчонку отечески пожурили и наказали "впредь не отлынивать от работы".
- Да я... - Верка поперхнулась от возмущения.
- Идите! - сказал кадровик. - Идите оформляться в резерв.
Долгих три месяца она проработала прачкой в детском саду, за восемьдесят процентов оклада. Без северных и валютного допинга, на шестьдесят рублей себя прокормить трудно. Но Верка сдюжила. Экономя на всем, сумела и приодеться, и обзавестись косметикой.
Следующий рейс тоже был каботажным. Судно шло к Новой Земле, везло для вояк какие-то грузы. Капитан закрылся в каюте и беспробудно пьянствовал один на один со своим отражением в зеркале. Похмелье переходило в безудержное пожирание водки и заканчивалось битьем казенной посуды.
О том, что он, какой-никакой мужчина и должен иметь влечение к женскому полу, бравый моряк вспоминал только перед тем, как упасть. Так что, с его стороны Верке ничего не грозило. В каюту, пропахшую спиртом, она приносила закуску и несколько раз в день, выгребала оттуда мусор.
Как-то, накрывая на стол к вечернему чаю, буфетчица невольно услышала такой разговор:
- Хреноватый у нас повар, - сетовал старший механик. - Жратвы за столом остается прорва, и все уходит за борт, рыбам на корм.
- Нам бы поросеночка завести, - предложил второй штурман. - Это ж чистая экономия!
- Идея хорошая, - одобрил старпом, отвечающий, как за расход продуктов, так и за чистоту, - только где держать то его? Где изыскать подходящее помещение?
- В капитанской каюте, - мрачно сказала Верка. - Им вдвоем веселей будет!
Кто-то донес. Стоит ли говорить, что после этого рейса буфетчицу снова списали.
Голодный "резерв" опять продолжался три месяца. В стране насаждался прогрессивный "щекинский метод". Лишних людей выявляли повсюду, кроме высоких начальственных кабинетов и, "с большим личным удовлетворением", сокращали. Кем только ей не довелось поработать! И прачкой, и грузчиком, и подсобным рабочим на стройке, и мойщицей в пароходской столовой. Денег, правда, стали платить больше. Веркин оклад впервые помножили на первый процент "северных".
Жила она, как и все иногородние, в гостинице моряка, на Ванеева 36. Платила двадцать копеек за кровать в четырехместке с одной тумбочкой на двоих. Соседки по номеру, прожженные судовые буфетчицы, долго в гостинице не задерживались. Отгуляв на югах положенный отпуск, ожидали "вызова по запросу". Каждая на свой пароход, под бочок к "своему капитану". Удивляли не только подобные термины, но и то, что деньгами они сорили, на ужинать шли в ресторан, наряжались в заграничные шмотки. С хорошеньких пухлых губ, измалеванных французской косметикой, запросто срывались знакомые по книгам названия: Антверпен, Гамбург, Валенсия, Савона. Глядя на них, Верка казалась себе серою мышью.
Своей угловатой соседки морские волчицы не стеснялись нисколько. Уж эта-то им точно не конкурент! Иногда, крепко поддав, обучали ее премудростям жизни. Их веселила ее наивность и стремление к справедливости.
- Главное, Вера, во время лечь, взять капитана "на пузо" и выйти за него замуж. Тогда у тебя все будет.
- Как это лечь?! У него же семья! - краснела она, уже понимая, что именно кроется за этим бесстыдным словом.
- На всех пароходах буфетчицы спят с капитанами. Прими это как данность и считай за основную работу. А семья не стена. Ее не трудно и отодвинуть. Знаешь сколько девчонок вышли замуж за капитанов? Нужно только все правильно рассчитать, и выждать момент.
И Верка легла. Получив назначение на ледокол, ворвалась в каюту "кэпа", бросила на стол направление и, молча, нырнула в постель. Строгий "дядька" лет сорока заглянул ей в глаза, ласково потрепал по щеке и спросил, по-местному окая:
- Бедный ребенок! Что, неужели все в твоей жизни так плохо?
С Васей она прожила пятнадцать счастливых лет. Об этом союзе знали даже в парткоме, но принимали его как факт, который осудить невозможно. Уж очень эта любовь походила на самую настоящую.
Василий Богданов был вдовцом при живой жене. Супруга его, директор магазина "Помор", страдала алкоголизмом в необратимой стадии. Сидя на колбасе, в годы тотального дефицита, спиться немудрено. Банкеты по поводу и без повода низвели работящую, умную бабу до животного уровня. Хлопнув "на ход ноги" грамм четыреста "беленькой", она ехала на работу и там отбывала номер, пока рука водила пером по бумаге. В трезвом виде это было капризное, несносное существо. В легком подпитии - блестящая светская дама. В момент перебора - мычащий кусок дерьма.
В доме, пропахшем сивухой и несвежим бельем, Василий все чаще чувствовал себя квартирантом. Как то утром, собравшись побриться, он не нашел в шкафчике свой лосьон. Пустой пузырек валялся на кухне, рядом с пустым стаканом. Он ничего не сказал. Бросил в сумку кое-что из одежды и тихо ушел из ее жизни. Так тихо, что она этого не заметила.
До суда и развода Богданов не опустился. Делить кастрюли и шмотки - это не по-мужски. Казенная каюта на ледоколе стала его постоянным домом, а Верка - хорошей и доброй женой.
Жила она там, где положено по штатному расписанию. Работу буфетчицы исполняла так, будто не было у нее особого положения. Крадучись, по ночам, пробиралась Верка к своему Васе. Так, чтоб никто не заметил, чтобы не было лишнего повода для людских пересудов.
В этом мире ничто не вечно. Особенно счастье. Богданов умер в порту Дудинка от сердечного приступа. На судно пришел другой капитан. Привез с собой молодую буфетчицу. А Верку назначил матросом-уборщиком.
Она не роптала. Только слишком резко обабилась, раздалась в корме. На внешность вообще махнула рукой - для кого?! Ходила она теперь в застиранной робе и резиновых сапогах. С ранней побудки до позднего вечера, от юта до полубака, громко гремели ее трехэтажные матюги. Когда море штормило, и судовые бабы валялись пластом, Верка управлялась за них. Подавала на стол, мыла посуду, делала уборку в каютах. Готовила иногда. Не хуже иного повара.
Внешне она сильно сдала. Только душа ее оставалась такой же наивной, как и в неполные девятнадцать.
- Мальчики, какое кино будут сегодня показывать?
- "На дне".
- А это про что?
- На морскую тематику.
- Ой, как интересно! Обязательно посмотрю!
Были, конечно, у нее мужики. Как же без этого? Вася умер, а мертвые не ревнуют. В каюте со свечкой никто не стоял, но ледокольщики верят в приметы. А они таковы: выросло у матроса уборщика заметное пузо, а после короткого отпуска, его, вдруг, не стало...
Верка, короче, обещала придти, взглянуть и на это кино. Сам виновник грядущего торжества о грядущем визите знал, но не подавал признаков радости, а молча, грустил в уголочке дивана. Обиделся. Ему не наливали. Не с прицелом на будущее, а просто прикалывались. В то, что между мужчиной и женщиной может что-то произойти после столь мимолетной встречи, мне, лично, не верилось. Не верилось и всем остальным. Да и не пьянка это была, а так, баловство. Собрались мужики в своем клубе по интересам, поболтали, на гитаре потренькали, развели стакан спирта на всю толпу. По-нашему это называлось "спилить веточку с дуба". Напиваться в Арктике неразумно по причине нехватки в тамошнем воздухе кислорода. Двадцатилетнего пацана наутро карает так, будто бы он алкаш с двадцатилетним стажем.
Мы только успели налить по второй, когда появилась Верка, источая запах шампуня и польской косметики. Оглядев свысока честную компанию, спросила, с присущей ей хрипотцой:
- Ну, где тут у вас знаменитый хахаль? Подайте его сюда!
Естественно, даму усадили на самое почетное место, а Вовку
стали пихать локтями под бок. Но он продолжал тупить. Вел себя, как капризный ребенок. Даже от налитой рюмки отказался. А на Верку, вообще, ноль внимания.
Зная его паскудный характер, Скороходов вылил в мерный стакан все, что оставалось в бутылке. Даме тоже налили. И тут произошло что-то действительно сверхъестественное. В глазах у нашего феномена вспыхнули и заиграли какие-то блятские огоньки. Он пристально глянул на Верку, и та пошла на него, как кролик в удавью пасть. Я еле успел сунуть в ладонь "грозного хахаля" ключ от своей каюты, даже не представляя, чем все это обернется.
Потом меня позвали на мостик и загрузили работой. Пришлось подниматься на палубу выше, включать "Иней-П", принимать факсимильную карту от самолета ледовой разведки. Вернувшись в радиорубку, никого из гостей уже не застал. Там, на диване, и завалился спать.
Наутро, второй штурман - мой сосед по жилой палубе - со смехом рассказывал, что возвращаясь с вахты, наблюдал у моей каюты непонятное столпотворение. Туда, будто на экскурсию, сбежались толпой все судовые девчата. Завидев его, прыснули вон.
Он подошел ближе, полюбопытствовал. Дверь была приоткрыта и защелкнута на штормовку. На койке, спиной к зрителю, восседала голая Верка и жалобно верещала. По сладострастным движениям, можно было судить, что сидела она на чьем-то твердом предмете.
Тот, кто первым сказал, что женщины с логикой не в ладах, очень глубоко заблуждался. Судовые девчата как раз, рассуждали логически. Вот Верка, а вот каюта, на которой висит табличка "Начальник радиостанции". Значит, какой можно сделать вывод?
С того самого дня, для меня началась новая жизнь. За обедом, буфетчица приносила самую большую котлету или толчковую куриную ножку. Каюта блестела от тщательных ежедневных уборок, а кровать застилалась самым новым постельным бельем.
Потом моя слава шагнула с парохода на пароход, прочно осела на берегу, докатилась до моего дома и, в конце концов, послужила одной из причин развода...
На половине деда Ивана, стрекотала моя приспособа. Сквозь открытую форточку доносились приглушенные голоса. Перед тем, как уснуть, я убрал гитару с кровати и поставил ее в угол, рядом с портфелем. Прикоснувшись к стене, она отозвалась объемным, долгим, глухим звуком. Будем дружить.
Глава 15. Мир сходит с ума
На следующий день случилась война. Не в нашей семье, а на этом земном шаре. В детстве я к таким новостям относился прохладно, потому, что и сам любил поиграть в войну с соседскими пацанами. Сейчас зацепило. К концу жизни, эти мероприятия стали случаться намного чаще, чем ежегодные конкурсы красоты.
Началось все, пожалуй, отсюда. Опухоль, что давно вызревала на Ближнем Востоке, с шумом прорвало. Это был информационный шум. Первые сообщения по нашему радио были очень невнятными. Судя по ним, в студии знали не намного больше меня. Давили на аналогии. Типа того, что "на рассвете" и " без объявления войны".
Что случится потом, я когда-то читал в википедии. Ну, там это подано скупо, хоть и с покушением на объективность. Если верить ей, в битве века, которую историки назовут шестидневной войной, Израиль расхреначит всех в хвост и гриву, захватит большие (по их понятиям), исконные территории, после чего "стороны разведут".
Кто разведет, каким способом, в каком значении этого слова - об этом в википедии не сказано. Но намекают, что, типа того, все было по-честному.
Международные новости бабушка не ставит ни в грош. Если есть свои, запросто перебивает диктора:
- Дед в поле поехал. Сказал, что скоро вернется. Там Пашка конхветы тебе передала, найдешь в вазочке. Я пошла в магазин, а ты обеда аппетит не перебивай!
Я угодливо поугукал, соглашаясь на все. Это не передать, как интересно: следить за минувшими мировыми событиями в режиме онлайн.
Итак, на рассвете израильская авиация атаковала египетские
аэродромы, но получила ответку. Арабскими ПВО сбито "около сорока самолетов агрессора. В Каире уже демонстрируют пленных летчиков". Ну, ну! Дальше что будет?
Дед поспел к одиннадцатичасовым новостям. Основные бои разворачивались уже на Синае. Иордания открыла восточный фронт. Активно действовала ее артиллерия. А на севере, в районе Тивериадского озера, вела наступление армия Сирии.
Судя по интонации диктора, Советский Союз болел за арабов. Как будто предчувствовал, что утеря позиций на Ближнем Востоке, станет одной из причин его бесславной кончины. Дед соблюдал нейтралитет. Он выслушал новости, стоя в дверном проеме, с каменным выражением на лице и сказал, отрываясь от косяка:
- Не вояки арабы. Сомнут их.
Я тоже так думал. Вернее, не думал - знал. Как расскажет впоследствии мой будущий друг Иван, египтяне до дрожи в кишках, боялись израильских вертолетов. Танкисты на марше выпрыгивали из боевых машин и зарывались в песок, завидев на горизонте силуэт сраного "Ирокеза". Только пинки и затрещины советских военспецов заставили личный состав действовать в соответствии с требованиями БУСВ и встречать супостата зенитным огнем из штатных танковых пулеметов.
Впрочем, кажется, у Ивана была другая война. Да, какая, в принципе, разница? Итоги всех войн на Ближнем Востоке были предсказуемы. И дело тут не в арабах, их слабом боевом духе и генетическом неумении воевать. К концу моей жизни, появятся в этом народе смертники с поясами шахида и вполне боеспособные армии, славящиеся средневековой жестокостью. Просто время еще не пришло. Мусульман сейчас объединяет не радикальный ислам, а люди, на место которых есть множество претендентов.
Я лежал на мягкой перине, прятал глаза от режущих бликов солнца и думал о Ваньке.
Лето. В Каире девять часов двадцать минут. По улицам ходит израильский спецназ под видом военного патруля, останавливает египетских офицеров, придирчиво рассматривает документы. Тех, кого надо, просит пройти за угол "для выяснения".
Если все в этой жизни повторится до мелочей, Ванька своими глазами увидит все, что когда-то рассказывал. Только встретит ли он в общежитии Ленинградского института инженеров водного транспорта того, кто придет вместо меня?
Я вернулся в Питер из Зеленогорска, где в летних лагерях ВВМУ имени Фрунзе, с треском завалил приемный экзамен по физике. С группой таких же неудачников, как и я, трое суток ходил по городу, впитывал впечатления. И где мы только ни ночевали за время этой экскурсии! На скамейках в окраинных скверах, в залах ожидания авто и железнодорожных вокзалов. Добирали ночной недосып на детских сеансах кино. Если, конечно, там не было ничего интересного.
Попутчики постепенно разъехались по домам. Провожая последнего на мурманский поезд, я купил в привокзальном киоске справочник "Высшие учебные заведения Ленинграда". Открыв его на произвольной странице, с удивлением обнаружил, что время приемных экзаменов еще не прошло, и можно попробовать куда-нибудь поступить. Ближе всего к месту моей последней лежки был ЛИВТ.
Первые сутки в общаге я отсыпался. Сосед вел себя тихо, не беспокоил. Молча, приходил - молча, уходил. Даже имени своего не назвал. Моя кровать была у окна, его у двери. А комнаты там о-го-го! Можно сказать, я видел его издалека, но сразу запомнил и оценил, впервые в своей жизни, сравнив человека с машиной.
На следующий день, в субботу, я смотался на Московский вокзал за своим чемоданом. На обратном пути заехал в Гостиный Двор, купил там гитару, которую давно присмотрел. С нее, пожалуй, наше знакомство и началось.
- Играешь? - спросил сосед.
- Учусь, - скромно ответил я.
- Ну, сбацай чего-нибудь про войну.
Я спел ему "Журавлей" - единственную песню, которую, от и до, мог исполнять перебором и, почти сразу же, "Любку". Уже на втором припеве он начал мне подпевать:
"Любка, я по улице твоей пройду
В городе, где не был так давно.
В темноте я домик твой найду,
Тихо постучу в окно..."
- Давай-ка еще разок, - не то приказал, не то попросил сосед, когда я приглушил последний аккорд. - Меня Иваном зовут. А ты, если верить подписям на учебниках, Саня Денисов?
- Угу, - я согласно кивнул.
- Давай, Санек, не робей, нормально у тебя получается.
Я пел и, честно сказать, удивлялся, что песню, которую в нашем городе исполняют на каждом углу, кто-то может не только не знать, но и, ни разу не слышать. Это что ж получается: к нам завезли, а к ним еще не успели? Иван сидел напротив меня, на панцире пружинной кровати, еще не обретшей хозяина и, молча, смотрел в окно. Что-то творилось с его глазами. С утра они были покрыты тонким налетом льда, сквозь который просвечивала синева, теперь же, потеплели, оттаяли.
С той самой минуты, он взял надо мной шефство. Началось это так:
- У тебя куртка легкая есть? Одевайся, погнали со мной!
Мы спустились в метро, проехали с пересадкой несколько остановок. Вышли недалеко от Гостиного. Перед тем как пробиться за стол, долго стояли в толпе, у входа в пивной бар. Это почти на углу Невского, где магазин "Оптика".
Очередь в Питере всегда познавательна. Это ликбез для тех, кто не в курсе последних спортивных событий. Постоишь с полчаса и узнаешь, почему "Спартак" "унес ноги" в позавчерашнем матче с "Зенитом", как получилось, что пожертвовав пешку за качество в четвертой партии, Спасский не вытер обувь об этого выскочку Фишера. Если надо, достанут газету, проведут указательным пальцем по жирной строке, и опять завернут в нее соленую рыбу.
Иван отходил покурить. Я стоял, как учили, уткнувшись вспотевшим носом в спину высокого парня, за которым мы заняли очередь. Уже приготовился слушать, куда подевался Проскурин - бывший партнер "Зины" по ростовскому СКА. Но кто-то толкнул меня в бок и, то ли сказал, то ли спросил:
- Шмен в две руки?
- Что?! - изумился я.
- Подвинься тогда, дай пройти.
Худосочный пацан попрал меня острым плечиком и небрежно разрезал толпу, как будто бы знал, что дверь для него тот час же откроется. Наверно, блатной. А по виду не скажешь: невзрачная куртка, брючки из коричневого вельвета, дымчатые очки. В баре он надолго не задержался: постоял рядом со швейцаром, что-то сказал в глубину зала и вышел обратно.
- Че там, Дохлый, я не расслышал? - спросил, догоняя его, кто-то из посетителей.
Дохлый остановился, окинул спросившего неприязненным взглядом и бросил через губу:
- Тапки. Из бундеса.
Тот бросился, было, назад, но не успел. Разорвав очередь надвое, из распахнутых настежь заветных дверей, навстречу ему хлынула пропахшая пивом орава.
- Фарца! - пояснил кто-то из толпы. - Гостиный идут брать, а там и до Зимнего недалеко...
Осиротевший пивбар, вместил в себя всех страждущих. Иван выбрал сравнительно чистый столик, за которым никто до нас, не ел и не чистил рыбу, сгреб в охапку бэушные кружки и поволок в мойку. Пока он стоял в очереди у соска, из которого разливается пиво, ко мне, чтобы не скучал, подсели две серых поношенных личности. Наверное, завсегдатаи. На улице они не стояли. Я бы запомнил. Один был похож на Петю Григорьева, если бы тот закончил два института. А другой - на крепко повзрослевшего Мамочку из кинофильма "Республика ШКИД". От обоих несло водочным свежаком.
- К пиву не надо? - подмигнув, спросил Мамочка и заученным движением фокусника, достал из портфеля пакет. Быстрые пальцы вскрыли хрустящую кожу из целлофана, развернули влажную тряпочку, явив на мое обозрение, крупного вареного рака. Я сразу почувствовал себя неуютно.
- Не надо! - отрезал я.
- А как ты, старик, думаешь, можно ли его оживить? - вкрадчиво спросил тот, другой, который похож на Петю.
- Нет, наверное...
- Наверное, или нет?
- Поспорим на бутылку "Столичной", что я это сделаю? - почти в унисон, наехали мужики.
Вот ведь напасть, какая! Не успел я впервые выйти из поезда, все аферисты города Ленинграда опознали в моем лице, наивного лоха и стали слетаться, как мухи на мед. Мужик плутоватого вида вцепился, как клещ в мой чемодан, отнял рюкзачок с учебниками и отнес до стоянки такси, слупив за это трояк. Цыганка на площади Стачек так охмурила словами, что пятерки, как ни бывало. Теперь вот, эти пройдохи...
Я тоже всегда чуял нутром мошенников, мог предсказать, когда и насколько меня собираются "обувать", но всегда пасовал перед их словесным напором. Попадая в очередную "историю", начинал лихорадочно соображать, как бы выйти из нее с наименьшей потерей для собственного кармана.
Вот и сейчас, я готов был пожертвовать целый рубль, лишь бы реаниматоры ушли вместе с секретом своего фокуса. Но интересы сторон не совпадали. Мужикам хотелось "Столичной", а лох попался только один.
- Где ты в своем Мухосранске такое увидишь? - наседали они. - Думай, голова, думай!
Рак действительно был, и я его видел: настоящий, оранжево-красный. Он лежал передо мной на столе и не шевелился. Такого уже не оживишь. А с другой стороны, не станут же нормальные люди раздавать налево направо бутылки спиртного? И в чем тут подвох? - беспроигрышный, казалось бы, вариант...
В иное время, я бы рискнул. Останавливало одно: отсутствие в кармане наличных. Там едва набиралось рубля полтора мелочью. Бумажные деньги, что достоинством выше червонца, были надежно зашиты в секретном кармане моих семейных трусов.
Задержись Иван еще на пару минут, я бы, наверное, уединился в сортире и выпорол четвертак.
- Дергайте отсюда, - устало сказал он, поставил на стол несколько кружек и снова направился к стойке.
- А то че? - вскинулся Мамочка.
- Будет и "а то че". - Иван обернулся и посмотрел на него своими ледышками.
- Ладно, Борман, ушли. Вопросы потом, - многообещающим тоном сказал тот, другой.
К пиву я не успел приобщиться и еще не понимал его вкуса. В том числе, и поэтому, мне отдыхалось без настроения. Тяготила и сама атмосфера: несмолкаемый шум, перезвоны стекла, едкий табачный дым. Какой-никакой жизненный опыт у меня был. Исходя из него, я понимал, что Мамочка с Борманом это дело так не оставят. И вот это предвкушение драки, мешало сосредоточиться, ложилось на душу тягостным, мутным осадком. На стандартные вопросы Ивана: кто, откуда, давно ли приехал с Камчатки, я отвечал односложно, стараясь укладываться в минимальное количество слов. Сам же он не испытывал ни толики дискомфорта. Слушал меня и, с видимым удовольствием, процеживал пиво сквозь зажатый в зубах, соленый сухарик. Даже ногой пританцовывал.
- Почему ты решил стать именно гидротехником?
Здесь парочкой фраз не отделаешься. Я сам об этом еще не думал. И вообще, вопрос для меня не в том, чтобы "стать", а в том, чтобы "поступить". А куда, на кого? - Это без разницы. Если же говорить о призвании, то я с детства мечтал стать моряком. В военном училище срезался на экзамене. Здесь, в ЛИВТе, мне тоже не светит судоводительский факультет. На него принимают только абитуриентов с ленинградской пропиской. Пришлось подавать документы на гидротехнический. Зачем? Да хотя бы затем, чтобы оправдать ожидания деда. Он уже при смерти, заговаривается, не встает, но верит в меня.
Понял ли Ванька хоть что-то, из моих сбивчивых объяснений? Если да, то не успел сказать. Видимость заслонила, немыслимых размеров, фигура и насмешливый голос спросил:
- Это кто тут такой некультурный? Пошли, буду учить.
Холодея душой, я начал вставать, но Иван подскочил первым, придержал меня за плечо и сказал:
- Подожди меня. Сам разберусь.
- Посиди, посиди, - ехидно сказал Мамочка, - пива у тебя хватит до вечера.
Так что, обладателя голоса я увидел лишь со спины. Он шел по направлению к туалету, габаритный, как авианосец, с осознанием собственной несокрушимости. На фоне этого шкафа, Иван казался хрупким подростком. В кильватере, как два судна обеспечения, следовали давешние реаниматоры.
Быть сегодня и мне с битою мордой, - грустно подумал я, поднимаясь на ватные ноги. - Соблюдая законы улицы, человек уважает, прежде всего, себя.
Каждый шаг давался с трудом. Я сделал их не более десяти, когда снова увидел Ивана. Со скучающим выражением на лице, он вышел из туалета, потирая правый кулак. Поравнявшись со мной, скомандовал:
- На улицу. Быстро!
- Не выпуш-шкайте его! - истошно орали вслед.
В разных концах зала громыхнули столы. Швейцар замахал руками, как курица крыльями, но был отодвинут в сторону.
- К подземному переходу! - последовала очередная команда.
Иван бежал замыкающим. Наверно, в нем было больше пива. Мы дружно протопали по гулким ступеням, ворвались в замкнутое пространство, поравнялись с достаточно плотной, встречной толпой. Здесь я услышал новую вводную:
- Все назад! Держись у стены, постарайся ровно дышать.
Я послушно смешался с людским потоком, а Иван опустился на корточки, делая вид, что поправляет носок на правой ноге.
Преследователей было не больше десятка, но даже на такой, сравнительно короткой дистанции, они растянулись метров на
двадцать пять. Последним бежал мужик, который рассказывал о судьбе футболиста Проскурина. Он меня не то чтобы не узнал, а просто не удосужился глянуть, кто там шагает навстречу. Никогда б не подумал, что такой эрудированный человек, подпишется за какого-то там Бормана.
Я удостоился сдержанной похвалы только когда мы выбрались из-под земли и отшагали пару кварталов в сторону Зимнего.
- Молоток! - скупо сказал Иван. - Где б тут поссать?
- Гоголя девять! - не задумываясь, выпалил я, - это на другой стороне и налево.
Блеснул, так, сказать, эрудицией. Трое суток скитаний по Питеру заставили выучить наизусть все точки отхода. Не переться же, каждый раз, на Московский вокзал?
- Ты можешь идти быстрей? - ускорившись, откликнулся он.
Когда на душе полегчало, и мир заблистал красками, я задал Ивану вопрос, казавшийся ранее неуместным:
- Как ты догадался, что в переходе нас не заметят? Это было предчувствие, или расчет?
- И то, и другое, - подумав, ответил он. - У того, что ль всех оторвался, была установка: в кратчайшие сроки пересечь улицу, чтобы на выходе посмотреть, в какую сторону мы с тобой побежим. Если он на кого-то по пути и смотрел, то с единственной целью: не столкнуться, чтобы не потерять скорость. Остальные следили за спинами тех, кто бежит впереди, старались не отставать.
Мы сидели на лавке, у станции метро "Адмиралтейская". Я ел пломбир за восемнадцать копеек, Иван предпочел пирожок. Лето кружило голову. Незаходящее солнце отражалось от вывесок и витрин, бросая на тротуар мимолетные блики.
- Дед, говоришь, при смерти? - переспросил он, как будто бы только что услышал ответ на свой последний вопрос, заданный еще в баре. - Да, это причина. Но стоит ли ей в угоду, поступать неизвестно куда, чтобы стать неизвестно кем? Ему умирать, а жить-то тебе?
Иван резал по-живому. Под этими жалящими словами, я снова почувствовал себя негодяем. Уехал из дома, прокатал деньги, не просчитал запасных вариантов. Теперь вот, болтаюсь, как осенний лист на ветру, и даже не представляю, куда меня занесет...
- Я в этом году даже не собираюсь никуда поступать, - не дождавшись от меня вразумительного ответа, продолжал говорить Иван. - Все, чему в школе учили, за время армейской службы забыл. Открыл вчера твой учебник по тригонометрии, а в памяти ноль. Письменную по математике на трояк как-нибудь вытяну, а на устном экзамене закесоню, не выплыву. В общем, подумал, и так для себя решил: поброжу этим летом по Питеру, осмотрюсь, как следует, отдохну. Ты, танцевать, кстати, умеешь?
- В смысле? - не понял я.
- Ну, там, шейк, твист, вальс, танго, фокстрот? Что там сейчас в Союзе танцуют?
- Ни разу не пробовал.
- Научишься, дело нехитрое...
На ставшей уже родной площади Стачек, мы заняли очередь в кассу дома культуры имени Горького. Настолько долгую, что по нескольку раз, то один, то другой, бегали в общагу отлить. Это недалеко, через площадь, напротив. Я, заодно, достал из секретного кармана трусов последний свой четвертак.
"В моем столе лежит давно под стопой книг, письмо одно", - звучало из встроенного динамика кассовой ниши. Это была самая популярная песня сезона. Я слушал ее и представлял деревянный почтовый ящик во дворе нашего далекого дома. Как он там, без меня?
Очередь впереди как будто стояла на месте, зато позади нас приросла настолько, что было жалко бросить все и уйти. Ванька рассматривал симпатичных девчонок. Выбирал потенциальную жертву. Чтобы было, как он любил: "не корова, не крашеная, и глаза голубые". А мне почему-то показался знакомым парень в морской форме. Умом понимаю, что ни разу его не видел, а вот, ворочается в душе какой-то червячок узнавания. И фланка у него интересная, я такой ни разу не видел. На левом рукаве, лычки в виде широких галочек от локтя и почти до плеча. А на обшлагах по четыре нашивки с узкими вензелями. Все в золоте, все блестит.
Я, понятное дело, не выдержал, спросил его: кто и откуда. И ни одного попадания. На Камчатке и на Кубани он никогда не был. Ни разу не отдыхал в пионерском лагере. Даже в поезде "Ставрополь-Ленинград" в этом году не ездил. Потом Иван подошел, поговорил с морячком. Ну, его больше интересовали дела прозаические: где учится, большой ли в этом году конкурс и до какого числа можно подавать документы на поступление.
А я все стою и думаю, что этот пацан мне не чужой. Даже имя его могу угадать. То ли интуиция во мне говорила, то ли опять он? Кто он? - да живет во мне человек. Верней, не живет, а приходит на помощь, когда мне хреново.
Помню, зимой, c утра, тороплюсь в школу. Десять минут до звонка, не опоздать бы! В третьем классе учился, для меня это было как преступление. А на улице холод! Метель бросает в глаза белую пыль. Гололед на дороге снегом припорошило, а я ничего не вижу. Все мысли о том, как бы скорее перескочить. Сделал пару шагов, ноги разъехались и я, со всего маху, кобчиком об колею! Больно, аж ноги перестал чувствовать. Не то чтобы встать - ступнями пошевелить не могу. А слева самосвал надвигается, как будто в замедленной съемке. Вижу, что шофер тормозит, а машина его не слушается - гололед. Метрах в трех это было от того места, где я потом умру. И вот тут то, тот самый человек во мне и проснулся.
- Выгребай, - говорит, - на руках! Поплачешь потом.
Взрослым голосом было сказано. Вроде бы посоветовал, а так, что не ослушаешься. Стиснул я зубы, и поволок свои непослушные ноги, кратчайшим путем, к обочине. А самосвал что-то долго ехал последние десять метров. Сантиметрах в пяти от моих керзачей, его протащило. Шофер увидел, что я цел, невредим - и по газам!
Сел я тогда на портфель, отошел от боли, отплакал, да в школу пошел, на заклание. Что интересно, на уроки не опоздал. Екатерина Антоновна на десять минут задержалась.
Про этого человека, я никому, даже матери не рассказывал. Но интуиции верил. Она редко меня подводила. Вот и тогда, я будто
предчувствовал, что напрасно стою в этой очереди. Билеты купили, но в танцевальный зал, нас не пустил контролер. Как он сказал, из-за "вульгарного внешнего вида".
Иван побежал в общежитие, за галстуком и пиджаком. В моем гардеробе такой буржуазной роскоши не было никогда. Я повернул за угол и отыскал в очереди парнишку в приметной форме.
- Возьми, - сказал, протягивая ему номерную бумажку, - танцуй вместо меня.
Рубль он держал в кулаке и сразу протянул его мне. Был бы это кто-то другой, я бы взял не задумываясь. Ну вот, девяносто девять процентов из ста. А тут... прям какой-то приступ гусарства.
- Тебе сегодня нужней. И вообще это подарок.
Я отвел его руку и побрел в сторону общежития. Интуиция утверждала, что все сделано правильно, только мне все равно было жалко и денег и времени, потраченного впустую. Я ведь тогда даже не подозревал, что инвестирую в свое будущее, и ни одно вложение не принесет мне таких дивидендов, как бумажный билет на танцы, стоимостью в один рубль.
Поднявшись на третий этаж, я сразу же понял, что у нас снова проблемы. Все, что наперекосяк, всегда косяком. Иван стоял у запертой двери нашей комнаты и вертел в правой руке обломок номерного ключа:
- Вот бл..., не в ту сторону провернул!
- Оба, похоже, оттанцевались, - сказал я не без ехидства. - Придется ночевать у соседей. Есть, интересно, в этой общаге, какой-никакой комендант?
- Наверное, есть. Только зачем он тебе?
- Как это зачем? Он вызовет слесаря, который...
- А ты не забыл, что сегодня суббота? Вот нечего делать той комендантше со слесарем, только ходить и вытирать сопли разным криворуким придуркам, которые ломают ключи. И вообще, насколько я помню, наша дверь открывается изнутри...
Настроение у меня было ни в дугу. После знакомства с Иваном, мой, только что устоявшийся, размеренный быт, будто пнули ногой под зад. Не прогулка по Ленинграду, а сплошной, нескончаемый поиск приключений и неприятностей. На языке, соответственно, вертелась целая куча язвительных реплик, самая невинная из которых, "сила есть, а все остальное приложится". Только уважение к старшим, привитое мне хворостиною деда, не давало сполна облегчить душу и высказать свое накипевшее "фэ".
- Это мы еще поглядим, кто из нас сегодня оттанцевался! - сказал, вдруг, виновник всех моих бед, неожиданно бодрым голосом.
Я встрепенулся. Кажется, в голове у него вызрел какой-то план.
Иван отступил к противоположной стене коридора и, щурясь, рассматривал пространство под потолком. Выше дверного проема, над верхней притолокой, я тоже увидел небольшую оконную раму о два стекла, одно из которых почему-то отсутствовало. Была бы эта лазейка на уровне пола, я и сам бы пролез сквозь нее без проблем. Но на такой высоте?! Мне до этого подоконника и в прыжке не достать!
- Ничего у тебя не получится! - сказал я, сравнив габариты Ивана с размерами этой форточки.
- Нет, это мы еще поглядим, кто из нас сегодня оттанцевался! - повторил, как мантру, Иван, снимая рубашку и туфли. - Держи! Остаешься за старшего.
Он неслышно подпрыгнул, легко подтянулся, перехватился рукой и плавно вошел в отверстие руками вперед. Какое-то время под потолком оставались его пятки, но и они постепенно ушли вниз. За дверью не было слышно даже звука приземления тела. Все это, от начала и до конца, было сделано им без усилий, рывков, сложным единым движением. Так легко, так грациозно, что я охренел.
Через мгновение щелкнул замок.
- Ни фига себе! Где это ты так научился? - не скрывая восторга, выпалил я, влетая в открытую комнату.
- В учебке, - буркнул сосед, изучая царапину на животе, - кажется, это гвоздь, а не стекло.
Я уже свыкся с мыслью, что вечерний поход в кинотеатр на фильм "Мировой парень" мне сегодня не светит. А так хотелось услышать новую песню в исполнении "Песняров"! Поэтому я вздохнул и взял в руки гитару.
За окном флегматично светило незаходящее солнце. Выходя на кольцо, звенели трамваи. Люди толпились у входа в метро. А Иван собирался на танцы. Судя по звукам, настроение у него было на уровне. У меня за спиной дружно щелкали замки чемодана, встряхивалась одежда, коротко шоркала сапожная щетка. Потом мой сосед притих. Я оглянулся и опять офигел. Нет, этот человек не перестанет меня удивлять! Прислонившись к спинке кровати, он откручивал с черного пиджака орден Красной Звезды.
- Твой?! - сорвалось с моего поганого языка.
Еще до того, как вопрос прозвучал, я успел осознать все его гнилое нутро. Еще бы у деда спросил: "А эти медали твои?" Слава богу, успел тотчас же извиниться.
- Да ладно тебе! - поморщился он. - Не ты первый спросил. Все удивляются: "Ах, такой молодой, за что?" Я этот орден пару раз всего и надел. Больше не хочу. Один дедуля, участник Великой Отечественной, чуть ли ни в кощунстве меня обвинил.
- Может быть, ты и прав, - подумав, сказал я, - на танцы не обязательно, а вот на устный экзамен по математике, я б на твоем месте точно пришел при ордене. Там тетка нормальная, сама за тебя ответит на все вопросы. Отлично, скорее всего, не поставит, но без трояка не уйдешь.
- Не надену! - отрезал Иван.
- Зря! Еще один год потеряешь. Ты где, кстати, служил, в десанте?
- Нет, мы попроще... в рыболовных войсках.
- А разве такие есть?! - опять удивился я.
- Служил - значит, есть.
- Вот как? И где это? Где, в смысле, служил?
- На Ближнем Востоке.
- Там разве еще стреляют?!
- Там то? - Иван спрятал награду в коробочку из красного бархата и закопал в грязном белье, на дне своего чемодана. - Там это дело вряд ли когда-нибудь прекратится. Нефтеносный район. И люди там... любят повоевать... чужими руками. Благо, причина найдется.
- Израиль?
- Причем тут Израиль? Там на кону не страна с ее исконными территориями, не какие-то там идеалы, а личная власть.
- Как это? - не понял я.
- А так. Русскому человеку, старик, это очень сложно понять. У арабов своя логика. Элита у них - это армия, генералитет, белая кость. У каждого за спиной лучшие военные академии Англии, Франции, США. Все, соответственно, от рации и вплоть до подштанников, американского производства. Советское оружие вкупе с образованием, там не котируются. Это условный рефлекс. Ведь все они, еще с курсантских времен, поражали учебные цели с красными звездами на борту. Для элиты дружба с СССР - это личная, ничем не оправданная прихоть Насера, а проигранная война - лучший способ избавиться от президента, чтобы занять его место...
Слушая радио, я все более убеждался, что Иван был (или будет?) неправ. В той, или какой-то другой войне, принимал участие мой будущий друг, но я болел за него, а значит, и за арабов. Они в этот раз вели себя молодцом. Пресс-служба израильской армии во всеуслышание заявила, что ведет оборонительные бои с египетскими войсками, которые ведут наступление в сторону их границ. Сообщения из Каира были тоже полны оптимизма. От побережья Средиземного моря, арабские самолеты осуществляли ответные налёты на аэродромы противника. В своем выступлении Насер упомянул, что на стороне Израиля воюют летчики из Англии и США и, в этой связи, пригрозил перекрыть Суэцкий канал, если ему продолжат мешать "сбрасывать в море преступное сионистское государство".
Крутой мужик! Я его, честное слово, зауважал, несмотря даже на то, что его не любил Высоцкий. Надо сказать, о политиках того времени мы судили по его песням, которые расходились от гитары к гитаре, из уст в уста, с сильными искажениями. Магнитофонов в нашем городе еще не было. Тем не менее, до нас доходило, что Мао Цзедун - большой шалун, а Моше Даян - сука одноглазая. И только о президенте Египта Владимир Семенович высказался очень
нелицеприятно:
"Потеряли истинную веру,
Больно мне за наш СССР.
Отберите орден у Насера,
Не подходит к ордену Насер"...
Информация была скупой и очень расплывчатой. Наверное, к месту событий еще не добрались военные корреспонденты, а связь между армией и генштабом египетских войск заблокирована. Оно и не мудрено. Низовые подразделения, на уровне взводов и рот, были оснащены устаревшими советскими "Ландышами". Что касается полковников и генералов, то им было западло таскать у бедра три килограмма чистого веса. Специально для них, на Западе были закуплены портативные американские радиостанции, которые можно легко спрятать в карман. Естественно, они были отключены в нужное время, на всех частотных каналах.
И то б ничего, но по информации агентства Танюг, наземные сражения охватили не только Синай, но и провинцию Газа. Это уже не вязалось с утверждениями пресс-службы израильской армии и Абделя Насера.
Походу, хана арабам, - думал я, доставая из почтового ящика
"Правду" и "Сельскую жизнь". - Слишком мало в этом времени предпосылок, чтобы история не повторилась, не легла на Ближний Восток по старым лекалам. За двенадцать с лишним часов, ни одна бомба не упала на Тель-Авив. А что это значит? - да только одно: египетской авиации, как и в прошлой реальности, больше нет.
Плюс-минус один человек в маленьком городишке европейской части СССР не может так скоро аукнуться на Ближнем Востоке. Земной шар слишком неповоротлив. А какая из меня точка опоры?
Дома никого не было. Никто мне не мог помешать сделать себе послабление в строгом постельном режиме и насладиться свободой. Газеты я прочитал, сидя на маленькой деревянной скамеечке, под навесом из виноградника. При ярком солнечном свете, от которого отвыкли глаза, шрифт казался выпуклым и рельефным.
Сообщения ТАСС почти полностью повторяли то, что уже говорилось по радио: "Советское правительство осуждает израильскую агрессию, требует от Израиля прекращения военных действий и оставляет за собой право предпринять любые шаги, которые может потребовать обстановка". Про пилотов из Штатов, я вообще не нашел ни слова, а вот об англичанах все же упомянули: "По утверждению египетской стороны, в боях принимают участие британские самолёты". Строчкой ниже размещалось опровержение: дескать, Лондон эти инсинуации отрицает и опять заявляет о своём полном нейтралитете.
Нет, вы не представляете, как это интересно - читать старую
прессу. В памяти всплывали названия несуществующих государств, имена забытых политиков, даже таких, о которых я раньше слыхом не слыхивал: Джордж Кристиан, Роберт Макклоски и Дэвид Дин Раск. Это кадры из США. От имени Белого Дома они озвучили позицию своего государства:
"Соединенные Штаты приложат все силы, чтобы добиться прекращения военных действий, положить начало мирному развитию и процветанию всех стран региона. Мы призываем стороны конфликта поддерживать Совет Безопасности в его стремлении немедленно установить перемирие. США останутся нейтральными в помыслах, словах и действиях".
Часом позже, Госсекретарь официально истолковал для тупых высказывания своих подчиненных:
"Хочу подчеркнуть, что в любом своем значении слово "нейтральный", которое символизирует великий принцип международного права, не подразумевает безразличия. Тем более, безразличие недопустимо для нас, так как, подписав Устав Организации Объединенных Наций и являясь одним из постоянных членов Совета Безопасности, мы приняли очень серьезное обязательство делать все возможное для поддержания мира и безопасности во всем мире".
Как хочешь, так понимай.
Англия, как я уже говорил, тоже склонялась к нейтралитету, а вот де Голль приятно порадовал новизной. Он заявил, что Франция придает меньшее значение узам, связывающим ее с Израилем, чем своим давним и тщательно оберегаемым интересам на Ближнем Востоке. Чтобы не подвергать эти интересы опасности, она должна занимать подчеркнуто нейтральную позицию, но, в то, же самое время, "осудит ту сторону, которая нападет первой".
Президент Югославии Тито высказался без дипломатических экивоков. По старой партизанской привычке, он прямо пообещал оказать полную поддержку Египту в его справедливой борьбе. В том же ключе высказались сразу одиннадцать арабских государств.
Карты боевых действий и сводок с места событий в газетах еще не было. Военные корреспонденты рассказывали о суровых буднях Каира. В городе шли учения по гражданской обороне. Несколько раз в день подавались сигналы учебной воздушной тревоги. Люди дружно гасило свет, не отходя от приемников. В эфире звучали военные марши, изредка - короткие сводки. Утром сказали, что сбито двадцать три израильских самолета, к вечеру эта цифра выросла до сорока двух. Армейские ставки молчали...
О возвращении бабушки оповестил Мухтар. Заслышав ее, он всегда рисовал хвостом правильные круги.
- Болееть он, - доносился откуда-то с улицы родной голос. - Ох, даже не знаю. До завтрева вряд ли выздоровить...
С кем она там разговаривает? - сквозь щели в заборе было мудрено рассмотреть. Но кажется, с кем-то из взрослых. От Вити Григорьева бабушка бы отплюнулась одной единственной фразой: "Не выйдеть, и всё!". А тут... слишком долго и обстоятельно. Ладно, пора линять. Нужно будет, сама расскажет. Я аккуратно свернул газеты, засунул в почтовый ящик, вернуться в большую комнату и продолжил болеть во всех смыслах этого слова. За себя, да за друга Ивана, которому удача не помешает.
Нет, как все-таки хорошо, что никакая альтернатива этому миру еще не грозит. Пули будут попадать в строго определенное место. Снаряды падать в одну и ту же воронку. А шары спортлото выкатываться в лоток в той же последовательности, как раз и навсегда зафиксировано в еще не написанной истории тиражей.
Лязгнула, наконец, пружина калитки. Бабушка закончила свои "траляляшки", и важно прошествовала мимо окна.
Все старики того времени одевались почти одинаково. У дедов на головах - фуражки, шитые на заказ из диагонали защитного цвета, который впоследствии назовут ненашенским словом "хаки". У справных хозяек в ходу валяные ноговицы, прошитые лайковой кожей, цветастые платья с подолами ниже колен. На плечах легкие куртки из черного бархата и пуховые платки. Настоящие платки, оренбургские. При своей кажущейся величине, они могут легко проскальзывать сквозь обручальное колечко любого размера. Вот и моя бабушка тоже держалась за моду. Она у нее была одна, и на всю жизнь. Дед, правда, фуражек защитного цвета не признавал. Жарко в них голове при его ранении. Дома обходился соломенной шляпой, в город надевал фетровую.
Он, кстати, заехал во двор через пару минут после возвращения бабушки. Верней, не заехал, а завел велосипед на руках и поставил его у деревянной лестницы, что ведет на чердак. Пока он снимал с руля неизменную керзовую сумку, отвязывал с рамы тяпку, снимал с багажника мешок со свежей травой, бабушка разливала борщ по тарелкам. Потом я услышал нечто, совсем для себя неожиданное:
- Сашка, к столу, обедать пора!
И так на душе стало хорошо, как будто меня простили после серьезной провинности. Я даже, без лишних напоминаний слетал в огород и сорвал два стручка горького перца. Себе и деду.
Борщ был наваристый, вкусный, со свежей сметаной. Бабушка убила на его приготовление два с половиной часа. Без разных там скороварок, газовых плит и покупных приправ, на чистом, живом огне делаются такие шедевры.
- Я кое-где в междурядье, по картошке веники досадил, - сказал, между делом, дед. - Если погода даст, успеют метелку выбросить. Ты, кстати, учителю своему спасибо скажи, - это уже он обратился ко мне. - Ох, и знатно его агрегат веничье очищает!
Черт побери, как же это было приятно слышать!
- Тут Пимовна заходила, - не в тему отозвалась бабушка, - в Ереминскую с утра собирается, за клубникой. Нашего Сашку в помощники просит.
Я опустил ложку, умоляюще глянул на деда. Мол, отпусти! Не просто же так Екатерина Пимовна отпросилась с работы, чтобы во вторник, в будний рабочий день ехать в такую даль? Запросто может быть, что она уже знает, как превозмочь родовое проклятие.
- А что? - усмехнулся дед. - Пусть едет. Уж кому-кому, а соседке своей не помочь - это последнее дело.
- Так болеет же он! - всплеснула руками бабушка и уронила ладони на фартук.
- Вернется - потом доболеет...
Глава 16. Ведовство по кубански
До позднего вечера я не находил себе места. Глаза бездумно блуждали по одной и той же странице, не считывая с нее никакой информации. Радио раздражало. Все передачи сливались в один, ничего не значащий, фон. Даже песня из кинофильма "Встречный" не будила в душе прежних эмоций.
"Нас утро встречает прохладой, нас ветром встречает река..."
Стоило лишь услышать эти слова, в детстве мне хотелось куда-то бежать, что-то делать. Чувство гордости, сопричастности с великой страной, переполняли меня неповторимым восторгом. Теперь же, прослушав текст и мелодию, я чуть не заплакал.
Сволочь! - сказал я себе, битому жизнью, старому человеку, - ну, что тебе сделала эта песня? Почему ты не захотел, чтобы она звучала по радио до самой твоей смерти? Неужели было так трудно не называть пионерский галстук "ошейником", не издеваться над помполитом, пользуясь его малограмотностью, не рассказывать анекдоты о Брежневе? Каждый день своей взрослой жизни ты убивал веру в эту страну и в себе, и в тех, кто стоял рядом. А потом еще удивлялся, когда развалился Союз.
Весь в расстроенных чувствах, я вышел во двор. Как у условно выздоровевшего, была у меня теперь свобода передвижения без права выхода за калитку. Взрослые были при деле. Дед приводил в порядок картошку на островке, а бабушка готовила начинку для пирожков. Без них в дороге никак.
Мимо смолы прогрохотал на бричке Иван Прокопьевич. Обернулся, кому-то кивнул головой. Из-под соломенной шляпы мрачно свисали усы.
Наивные люди благословенного времени. Работа по дому и на земле у них не считалась работой, высшим судом и совестью была людская молва. Проявлялись у этого поколения и другие нелепые принципы и табу. Нельзя, например, целиться в человека даже из игрушечного ружья. Поэтому пацаны уходили играть в войну на дальние капониры. Во время оккупации, немцы там расстреливали партизан и евреев. До поры до времени, не строились люди на капонирах - примета плохая.
- Набери воды из колодезя, - сказала мне бабушка, - да отнеси худобе. - Только не надрывайся, по полведра наливай, да яйца свежие посмотри...
Не любит она без хорошего дрына бывать в загоне для кур. Боится петуха Круньку. Он и, правда, дикий, дурной. На прошлой неделе так шпорой ее саданул, что до сих пор хромает. Кидается даже на деда. А голову ему еще не свернули только лишь потому, что больно красив, подлец. Таких петухов рисуют на иллюстрациях к русским народным сказкам. Да и любимец он мой. Вырос у меня на руках из пушистых комочков. Как хозяина чтит. Только откроешь калитку - Крунька делает вид, что убегает. Сделаешь пару шагов в его сторону, он голову в плечи - и, типа, оцепенел. Посадишь его на колено, шею почешешь, брови погладишь:
- Круня хороший!
Торчит, падла, и белыми пленками глаза прикрывает...
Вода в колодце опустилась до уровня, но дно еще не просматривалось. Скоро осядет муть, и только мокрая полоса на нижнем наборном кольце, будет свидетельствовать о том, что до этой границы поднималась река. Такое оно, здешнее лето.
Живность я напоил. Если бы не петух, мне бы не дали сделать даже такую малость. За чистой водой на железку бабушка сходила сама: "Куды тебе хворому, людей еще заразишь!" Даже тарелку с "отдачей" Пимовне отнесла. Вернувшись, сказала:
- Отправление ровно в пять. Чтобы был на ногах. Никто тебя ждать не будет.
Как долго, ждать до утра! Этой ночью я больше всего боялся уснуть и очнуться в своем старом теле, так и не подступившись к главному делу обоих своих жизней. Уж чего-чего, а счастье моя мамка заслужила сполна.
Забылся уже после полуночи, и видел сон красочный, яркий. Как будто бы я под водой плаваю, но при этом дышу свободно, без всякого акваланга. Дно подо мной белое, типа того, что песок, и будто бы солнцем освещено. Главное, сплю я, а все хорошо слышу: собаки соседские занялись, Мухтар пару раз подгавкнул. Движуха какая-то началась за нашим двором. Внутренние часы говорят, что времени около дела, а просыпаться никак. Еле-еле бабушка меня растолкала. Так я и вышел на улицу, в трикотажном, спортивном костюмчике, фуфайке ниже колен, и с объемистым уклунком в руке, в надежде, что по дороге досплю.
- Ты ж там смотри, веди себя хорошо, чтобы перед людьми не было стыдно! - не смолкало у меня за спиной.
Темень кругом, не видно ни звезд, ни луны. Прохлада свежит после теплого-то одеяла. Так пробирает, что я аж глаза открыл.
Тут Пимовна на "двойке" и подкатила. Телегу, насколько я понял, она "позычила" (заняла) у дяди Коли Митрохина. На нашем краю такая одна: без рессор, но на мягкой резине. И лошади, вроде, тоже его. Только гривы в косы заплетены.
- Тпр-р-ру! - властно сказала бабушка Катя, слегка потянув вожжи, - Садись, Сашка! В ногах правды нет. Доброго ранку, соседи!
Дед поднял меня под микитки и посадил на передок, рядом с возницей. Бабушка подстелила домотканый дерюжный коврик и подоткнула под зад подолы фуфайки.
- Здравствуй, Катя. Ну, в добрый путь!
Утренний воздух гулок. Сухая веточка хрустнет, а отзвук такой, как будто щелкнули ногтем по коробке гитары. Казалось бы, чему в той телеге греметь? Но на нашей грунтовке, растрясет и дорожный каток. Сплошная булыга. Не утрамбовалась еще.
Куда подевалась взрослая сдержанность? Главный вопрос жизни готов был уже сорваться с моего языка, но Пимовна будто прочувствовала, осекла:
- Молчи, Сашка, не до тебя...
Она и правда, была ни в себе. Сидела, нахохлившись, и о чем-то сосредоточенно думала. В дорогу оделась простенько: серая невзрачная кофта, боты "прощай молодость" и шерстяной красный платок, повязанный по-комсомольски.
Уже начинало светать, когда мы подъехали к дальнему броду через нашу речушку. Горизонт полыхнул, и алые блики скатились на перекат. Кони потянулись к воде, но не успели сделать и пары глотков. Нетерпеливые вожжи всплеснули над рыжими спинами. Сминая мелкие камни, телега рванулась по пологому берегу, вверх и вперед, к солнцу.
- Что это тебе летом болеть вздумалось? - спросила бабушка Катя, как будто, в иное время болеть не зазорно.
Я искоса глянул в ее лицо. Оно преобразилось, помолодело. Выцветшие глаза, как будто вобрали в себя зелень росистого луга, мимо которого мы как раз проезжали.
- Гланды, - запоздало пояснил я. (Удивился, конечно, этой метаморфозе, но не подал вида). - Из-за них я все время болею. Как перемена погоды, так первая простуда моя. Врач на Камчатке сказал, что пока их не вырежут, я даже расти не буду.
- Это врач так сказал?! - переспросила Пимовна с таким осуждением в голосе, что даже мне стало за него стыдно. - Даже я, деревенщина необразованная, и то знаю, что если у человека отрезать мизинец, он его будет чувствовать до конца жизни. А тут горло, головной мозг рядом! Ну, не растет человек, значит, время для этого еще не пришло. И не нужно туда лезть со своею наукой. Тоже мне, врач! А ну, повернись к солнцу, сама посмотрю.
Как на приеме у стоматолога, я послушно зажмурился и открыл рот.
- Левее! Голову запрокинь! - сухая ладонь надавила на лоб, чуткие пальцы осторожно ощупали горло. - Дурень твой врач. Не туда смотрел. Все хвори твои, Сашка, из-за того, что нет у тебя лобовых пазух. А гланды тут не причём.
- Как это нет?! - Вот так, проживешь всю жизнь, и только случайно узнаешь, что в твоем организме отсутствует что-то важное.
- Да ты не переживай, - успокоила бабушка Катя. - Ближе к природе будешь. Это по наследству передается, от матери или отца. Многие люди без пазух живут, и ничего. В нашем роду их вообще ни у кого не было...
Возле Учхоза на телегу подсели две молодые смешливые тетки близняшки в одинаковых ситцевых платьях. Судя по наточенным тяпкам, из огородной бригады. Попросили довезти до моста через Невольку - рукотворную речку с заставами для полива полей, самый большой из которых и был тем самым мостом. Копали ее до революции, всем миром, по указу станичного атамана, невзирая на звания и чины. Отсюда и такое название. Сейчас-то попробуй, кого-то заставь!
Екатерину Пимовну эти девчата знали. Разговаривали с ней подчеркнуто уважительно, называли только по имени-отчеству. Зато оторвались на мне: защекотали, затормошили, еще и чмокнули в щеку. Лица вроде знакомые, голоса, жесты. Одну их них, я точно где-то встречал в той, или этой жизни. А сейчас, поди, угадай!
И так меня это заело, что ни о чем другом думать не мог. Когда они спрыгнули на ходу, поинтересовался у бабушки Кати: кто, мол, такие? Она мне фамилию девичью назвала, а толку-то в том? Судя по обручальным кольцам, обе они уже замужем.
За мостом кони свернули направо. Играя мышцами, зашагали по бездорожью, отмахиваясь хвостами от надоедливых мух. Берег здесь был извилистым и крутым. На горизонте виднелось облако пара, поднимавшегося над источником с горячей водой. Дальше, за узкой излучиной, начинались сады плодосовхоза "Предгорье".
Будучи пацанами, мы ходили сюда купаться. А в обеденный перерыв, когда сторожа уходят в столовую, слегка "обносили" пару сливовых деревьев. Плоды были крупными, но еще недозрелыми. От них набивалась оскомина, вязало во рту, резало в животе. Чтобы прогнать эти неприятные ощущения, мы шли к роднику с кислой, холодной водой, притаившемуся у подножия берега. В нем плавали мелкие лягушата, но нас это не останавливало. Пили по очереди, и не могли напиться.
Это место стало для меня зримым воплощением фразы "тоска по Родине". Скитаясь по морям-океанам, мысленно возвращался
к неприметному роднику с его лягушатами. Приезжая домой, в отпуск, вытаскивал сюда Витьку Григорьева, попьянствовать на природе. "Стакан саданул - и домой", здесь не прокатывало. Пил до победного, пока не придет такси. Пешочком-то ноги собьешь...
- Набери, Сашка, водички в дорогу, - сказала бабушка Катя, доставая из-под сидения алюминиевый пятилитровый бидон и кружку. - Ох, и жарко сегодня будет!
Она ослабила вожжи, и тоже вылезла из телеги. Мохнатые губы коней, осторожно потянулись к траве.
На чистом песчаном дне пузырятся ключи. Играют на солнце. Нет здесь ни водорослей, ни бородатого мха. Даже трава не растет по окружности, в радиусе полутора метров. Тонкою струйкой, вода стремится из этой хрустальной чаши в русло реки, смешиваясь с мутным потоком. Как детство, мое во взрослую жизнь.
- Долго ты там, копуша?
Чтобы не потревожить первозданное волшебство, осторожно вычерпываю три полных кружки. Ручеек иссякает. Жду, пока чаша наполнится. Одуряюще пахнет полынь. Ее много по берегам. Как в наше время амброзии.
К моему возвращению, Екатерина Пимовна расстелила попону,
разложила на ней традиционную кубанскую снедь: молоко, сало, вареные яйца, хлеб и соленые огурцы.
- Садись, помощник, позавтракаем. Кони заодно отдохнут, травки пощиплют. Им ведь сейчас все в гору идти. Водички попил?
- Еще не успел.
- Пей, Сашка! Хоть через силу, но пей. Она для тебя полезней иного лекарства. Всегда приезжай сюда на велосипеде, и с собой набирай.
- Ага, - не поверил я, - настолько полезная, что даже трава вокруг не растет.
- Потому не растет, что в ней серебра много. Это вода святая, - пояснила мне Пимовна таким убедительным тоном, что я сразу подспудно поверил. Вот тебе и деревенщина необразованная!
- Бабушка Катя, - отбросив условности, прямо спросил я, - откуда вы все это знаете, без экспертизы в научной лаборатории? Я не про воду, а вообще. Какую траву, где и когда срывать? Сушить ли ее на солнце, или настаивать на спирту? Как из нее приготовить лекарство? Книжка, наверное, специальная есть, или кто научил?
- Вот делать мне нечего, - рассмеялась она, - только сидеть целый день, да умные книжки читать. Этому, Сашка, не учат. Оно приходит само, как твои вещие сны. Видишь, Каурый потянулся за конским щавелем, а от клевера морду воротит? Щавель невкусный, горький, но именно он сейчас ему нужен. Кто его этому научил? Почему кошка с собакой, когда заболеют, ищут по запаху нужную им траву? Книг начитались? Ты будешь смеяться, но я тебе так скажу: все живое понимается изнутри. Для того чтобы узнать характер ромашки, надо самому ею побыть. Вот тогда и поймешь душой, с какими словами к ней подступиться, чтобы она помогла.
По-моему, баба Катя сболтнула чего-то лишнее. Как-то вдруг запричитала, засуетилась:
- Всё, Сашка, всё! Ехать пора. Эдак, мы и до ночи никуда не успеем!
Ну, "ехать" - это слишком образно сказано. Пришлось топать пешком, рядом с телегой, подталкивая ее в меру сил. От мостика дорога пошла в гору, со средним уклоном градусов тридцать, не меньше. Такой подъем запряженным лошадям не осилить. Для них была проложена своя колея: наискосок, по дуге. Но и по ней наши супруги шли тяжело: приседали перед рывками, скользили копытами по траве. На дрожащих от напряжения крупах, черными пятнами проступил пот.
Шли молча. Бабушка Катя все чаще вытирала лоб рукавом. Я тоже устал, но не подавал виду.
По этому склону никогда не росло ничего, кроме разнотравья.
Пастухи выгоняли сюда коров, пчеловоды везли ульи к ближайшей посадке. За ней начинались делянки работников семсовхоза. Земля там, как пух лебяжий. Сплошной чернозем, без единого камушка. Я ведь когда-то три года на ней отбатрачил...
На этой простенькой мысли я чуть не споткнулся. Потому, что вспомнил, узнал одну из смешливых теток, которых мы подвозили до моста через Невольку. Твою мать! Это же моя бывшая теща!
Любка мне встретилась через два года после того, как вернулся из Мурманска и окончательно осел на этой земле. С ремонтом машин к тому времени я уже завязал, в газету еще не устроился, но временно был при деле. Ради записи в "трудовой", сидел в частной конторе и перематывал сгоревшие двигатели.
Сказать, что платили мало, значит, ничего не сказать. Вместе с мамкиной пенсией, нам хватало числа до двадцатого. Приходилось выкручиваться. В паре с попом-расстригой, который состоял в РНЕ, и по этой причине был в розыске, мы собрали "бригаду ух". Были в ней и сборщики подписей, и агитаторы, и работники паспортного стола, и нужные люди на местных уровнях власти. Модно было тогда кого-нибудь выбирать. То в край, то в район, то в Думу.
Нашу работу знали. Хоть плакали, но обращались. Где ты еще команду найдешь в самом отдаленном районе? Не победили ни разу, но всех кандидатов до урн для голосования довели.
Люди за дело держались потому, что платили наличными. В то время страна жила большим многоязычным колхозом. В ходе был бартер. Зарплату давали чем угодно, лишь бы не живыми деньгами - сахаром, комбикормом, зерном, растительными маслом. Пенсии стабильно задерживали. Как бы мы с мамкой выжили, если б не тот Клондайк?
Мы с попом становились на ноги, обрастали нужными связями. Я приоделся, он провел себе телефон. Брат Серега заезжал иногда, занять денег на сигареты, по причине задержки зарплаты. Заметили нас и местные рэкетиры. От меня отвязались быстро. Задали только один вопрос: кем мне приходится начальник следственного отдела. Услышав ответ, вежливо раскланялись и ушли. Я даже не понял, кто это такие.
А вот батюшку хотели конкретно взять "на хапок". Лучше бы они это не делали. Из Краснодара приехали два человека с глазами живых мертвецов, погрузили "смотрящего" в багажник крутой иномарки, и куда-то увезли на неделю.
Кем они были, этого я сказать не могу. То ли однопартийцы из РНЕ, то ли товарищи по оружию, с которыми наш поп воевал в Приднестровье, Абхазии и Югославии? А может, один из клиентов подсуетился? Мы в то время работали на двух крутых бизнесменов, мечтавших подвинуть батьку Кондрата на посту губернатора края.
Тоже люди очень серьезные. В кабинет к "самому" я был не вхож. Но достаточно сказать, что зарплату на всю бригаду, мне выдавал Толик Пахомов - будущий мэр города Сочи. Он меня почему-то считал своим старым знакомым. Все спрашивал, не пересекались ли мы с ним по комсомольской работе?
В общем, с Любкой мы познакомились, когда доллары у меня выпрыгивали из карманов. Привел в дом. Думал, за матерью будет смотреть. Фиг вам, на следующий день подрались. Да так, что у новой моей половины заколка от левой серьги отвалилась. Мамка, как я, правша. Искали вдвоем, не нашли. Наверное, в щель на полу провалилось.
Ладно, думаю, не бросать же? Ну, бывает, характерами не сошлись. Ухаживать за психически больным человеком, та еще судорога. Отдал ей золотое кольцо, что когда-то носил, отвел к ювелиру, отремонтировали ее бижутерию.
Стали мы набегами жить. То у меня, то у нее. В зависимости от смены. Она в совхозной котельной работала оператором.
Не все в Любке меня устраивало, не все нравилось. Походка утиная и голос визгливый. Вроде бы говорит, а кажется что кричит. В стакан заглядывала не хуже меня. А кто из нас без недостатков? Были и свои плюсы, да такие, что закачаешься! Как они с тещей, той самой молодкой, что тискала меня поутру, пели на два голоса!
И еще один, самый главный момент, из-за которого я Любке прощал очень многое. До войны ее дед был парторгом в том самом колхозе, где мой председательствовал, а матери наши дружили. Думал, что это судьба.
Стал я делить свои заработки на две семьи. Пенсия-то у тещи самая минимальная. Что она там, всю жизнь получала в совхозе? Любка в своей котельной больше года живых денег не видела. От осени до осени ждали, когда частники уберут урожай и выплатят зерном на паи, чтобы купить что-нибудь помимо продуктов.
А я осень не любил. Весну тоже. У мамки начинались сезонные обострения. Разбудит ночью, встанет на колени перед кроватью, и просит так жалобно:
- Пойдем, сыночек, отсюда. Это не наш дом, дед Иван его отсудил. Сейчас люди придут, нас с тобой убивать будут.
Успокоишь ее, уложишь, свет включишь, чтобы не страшно было. Только уснешь, а она опять на коленях перед кроватью. Вот, честное слово, связывать приходилось.
Что только не придумает! То Патриарх к ней пожалует, "стоит на островке, хлебушка просит", то Ельцин с такою же просьбой. И ведь, гребаная моя жизнь, письма от Ельцина она действительно получала! Каждый год, 9 мая, её, как участницу трудового фронта, куда-то там приглашали, вручали пакет с продуктами, конверт из Кремля, очередную медаль в честь юбилея Победы. Так что, Борис Николаевич был для нее чуть ли ни родственником.
Со стороны это, может быть, и смешно. Только не для тех, кто с такими проблемами сталкивался. Выйдешь в огород, картошки к ужину накопать. Мать вроде бы дома, беседует с холодильником: "А я тебе, Зоя Терентьевна, так скажу..." Копнешь пару кустов, и что-то на душе неспокойно. Вернешься назад - а ее уже Митькой звать. Только что была - уже нет. Естественно, я к Сереге: вдруг, да к нему намылилась? Пока идешь на другой конец города, что только не передумаешь! Вдруг, ее на кладбище опять понесло, дед или бабушка вызвали в калошах на босу ногу? Встретят за городом прыщавые отморозки, возьмут, да убьют ради любопытства, чтобы посмотреть, какая она смерть. А что? Было у нас и такое. Балерину, к которой Петя Григорьев водил нас по молодости блядовать, такая судьба и ждала.
Сядет Серега на телефон, прозвонит по своим каналам, примет доклады, начинает меня успокаивать:
- Не жохай, братан, все нормально. Есть такая. Только что из Чамлыка позвонили. В больницу ее привез какой-то мужик. Идет по дороге, дрожит от холода. "Бабушка, вы куда?" - "Не знаю". К утру привезут в наш стационар. Положат, как минимум, недели на три. Готовь передачу.
Когда мать изолировали, я перебирался к Любке. Она жила в семсовхозе, на последнем, втором этаже типового сельского дома с удобствами во дворе. Там было, куда приложить руки. Перекрыть крышу в сарае, купить листовое железо, отремонтировать погреб, в котором хранится картошка. Опять же, этот участок, огород около дома - все это нужно было засадить, прополоть, убрать. Теща-то только петь.
Не жалко. Работу на земле я потерянным временем не считаю. Особенно на такой, как на этой горе: легкая, мягкая, как комбикорм в гранулах. Сказываются, наверное, дедовы крестьянские гены. Одно только неудобство: уклон слишком крутой. Я, по старой привычке, шесть мешков на велосипед погрузил, пока спускался, он мне чуть руки не оторвал.
Но суть не в том. Когда я закончил свой первый сезон полевых работ и засыпал картошку в подвал, Любка со мной разругалась. Из-за какой-то ерунды прицепилась, учинила скандал, хлопнула дверью и ушла. Сказала, что навсегда. Было это ровно за день до того, как им с тещей нужно было получать зерно на паи.
На интуицию я никогда не жаловался. Она тогда еще говорила,
что это и есть основная причина Любкиного демарша, что весь этот год меня использовали как лоха и бесплатную рабочую силу.
Да ну! - не поверил я. - Называла Сашунчиком, пылинки с меня сдувала. Неужели она подумала, что бывший моряк станет претендовать на какое-то там зерно?! Я, вроде, такого повода не давал. Купил ей дубленку, новые сапоги. Нет, это смешно!
И зажили мы с мамкой по-старому. В интересах бригады, я ушел с непрестижной работы обмотчика, устроился в малотиражку корреспондентом. Стал часто бывать в командировках. Больших денег там не платили, важен был статус.
Жизнь текла своим чередом. Только с головой мамка дружила все реже и реже. Загодя стала готовиться к весеннему наводнению. Белье и одежду перевязала в узлы и вынесла в коридор. А когда подморозило, пустила туда кур. Побоялась, что они перемерзнут в сарае. Пустить то пустила, а дверь в мою комнату забыла закрыть. За три дня, что я отсутствовал дома, они впятером устроили такой срач, что каждый сантиметр чистоты пришлось вырывать с боем. Вот почему, когда Любка пришла мириться, я честно обрадовался. Уж что-что, а по части порядка, она была великим специалистом. Мы, выпили, закусили, и транзитом через постель, стали жить мирно и счастливо. Год пролетел, как под копирку. Я намахался лопатой и тяпкой, ссыпал урожай в закрома. И точно по календарю, ровно за сутки до получения Любкой натуроплаты за пакет семейных паёв, последовал выстрел:
- Два года живем нерасписанными! Ты меня в грош не ставишь! Я так не могу!
На ровном месте. Ни с того, ни с сего. Рта не успел открыть, а она уже за калиткой.
Вот тут-то моя интуиция всласть надо мной покуражилась. Но я все равно не сдавался. Нет, - думаю, - это совпадение. Ну, не может человек так притворяться! Да и права Любка. Кто она мне? - приходящая домработница. Любая бы на ее месте взбрыкнула.
Опять же, матери наши... А насчет того, чтобы расписаться, я ей так говорил:
- Роди мне, Любаха, сына. Все, что есть, тебе подарю. Такую свадьбу закатим! На руках занесу в церковь, как когда-то дед мою бабушку. Я ведь, ему за год до смерти пообещал: когда вырасту и женюсь, будет у меня сын, которого я назову Степаном. Чтобы был на этой земле еще один Степан Александрович. Роди, пожалуйста! Я ведь умереть не смогу спокойно, если слово мое так и останется пустым обещанием.
Не захотела она. Или не смогла. Когда тетке под сорок, и нет у нее детишек, поневоле возникает вопрос: не комолая ли она? Я об этом Любку не спрашивал. Она сама намекнула, что когда работала в Чехословакии, был у нее офицер сожитель, что бил он ее ногами в живот.
К подобным рассказам, я всегда относился скептически. Сделал вид что поверил, но в душе усмехнулся. Бывал за границей и знаю, как русские люди боятся подозрения в аморалке. Вылететь оттуда раз плюнуть, уж слишком конкуренция велика. Все женщины хают бывших своих мужей и сожителей. Даже моя первая, сказала при расторжении брака: "Пил, бил". А что ей еще было придумать? Не скажет же она на суде: "Причина развода в том, что я сама сука"?
В этом плане, я Любку не понимал. Проще всего свалить вину на кого-то. Ну, бог наказал, или злодейка - судьба выкинула такое коленце, что рожать ты не сможешь. Не сдавайся же ты, сделай хоть маленький шаг в этом направлении. Брось курить, не заглядывай в рюмку. В церковь сходи, свечку поставь. Вдруг, да обломится?
Короче, простил я, когда по весне Любка явилась с миром и бутылкой тещиной самогонки, но дал себе честное слово, что это в последний раз.
Весь год на меня давило дурное предчувствие. Тем не менее, на земле я работал честно, хоть и держал в уме грядущий итог. А в преддверии "часа икс", вообще ни разу не выпил и обращался к Любке только ласковым словом.
Что, интересно, она придумает? - не выходило из головы. - Какой повод найдет?
Зря гадал. Обошлось без повода. Любка нажралась в дупель, и
вломилась в мой дом со словами "Твою мать!" на устах. И, честное слово, мне почему-то стало смешно. Я выслушал пару визгливых фраз, потом указал пальцем на дверь и сказал:
- Вон пошла, прощелыга! И чтобы твоей ноги здесь больше никогда не было!
Первый месяц после того, я видел Любку раза четыре в неделю. Она слонялась возле редакции, вздымала на меня страдающие глаза и просила прощения. Еще бы, сколько там той зимы! А я проходил, как мимо пустого места, слова не обронив. Угол в душе, который когда-то занимала она, стал большим пустырем. Я даже не помню день, когда Любка исчезла, ушла из моей жизни...
- Поехали, Сашка! Сколько можно стоять истуканом? - нетерпеливо сказала бабушка Катя. - Можно подумать, ты что-то здесь потерял.
- Иду!
Я бережно зачерпнул горсть горячей земли, смял ее на ладони и пропустил сквозь пальцы. Странно, но чернозем не превращается в пыль.
Вдоль гребня горы кони выбрались на дорогу, понуро затопали по наезженной колее. Те же тополя вдоль обочин, поля да посадки. А в бездонном омуте неба далекое облачко, как белое перышко, что обронила случайная птица. Солнце еще не лютовало, но уже начало припекать.
- Что молчишь, - спросила бабушка Катя, - не взопрел еще?
- Нет, - предательски пискнул я.
Голос еще не начал ломаться, но дело к тому шло.
- Ты про то, что я тебе утром насочиняла, наплюй и забудь, - озабоченно сказала она. - Поверишь еще...
Э-э, нет, - подумалось мне. - Это повторное упоминание уже неспроста. По-моему, тут скрывается какая-то тайна. Как же, блин, Пимовну расколоть?
- А вот мои дедушка с бабушкой с деревьями разговаривают, - бросил я нейтральную фразу.
- Ишь, ты, какой хитренький! - вдруг, засмеялась она.
Этого еще не хватало! Мне почему-то приблазнилось, что все мои мысли Пимовна читает насквозь. Аж потом прошибло! А ну как, моя сага о Любке для нее уже не секрет? Я замкнулся в себе
и замолчал, нет-нет, да бросая косые взгляды в ее непроницаемое лицо.
И этот демарш не остался для нее незамеченным:
- Что не так? Почему ваша светлость надувшись, как мышь на крупу?
- Будто не знаете! - обиженно буркнул я.
- Если расскажешь, узнаю.
И я задал вопрос, который не давал мне покоя с тех времен, когда бабушка Катя лечила меня, тогда еще, пятидесятилетнего мужика, от белокровия, или, как она недавно проговорилась, от наведенной порчи. Так, мол, и так, скажите, но только честно, откуда вы знаете то, о чем я сейчас думаю?
К моему удивлению, Пимовна хрюкнула и залилась искренним, долгоиграющим смехом.
- Ты хочешь сказать, что я твои мысли читаю?! - спросила она, вытирая платочком глаза. - Ну, уморил! Ой, бабоньки, не могу!
Я ежился, злился, недоумевал.
- Нет, Сашка, - наконец, произнесла бабушка Катя, - мысли читать - этого не может никто. А вот то, что написано на твоем лбу... - она опять тоненько захихикала. - Вот скажи, какого ляда ты набрехал, что Степан Александрович и Елена Акимовна с деревьями разговаривают?
- Зачем мне брехать? - сам видел.
- Ну, раз видел, тогда расскажи. Как дело то было?
- Да как? - настроение было подпорчено, рассказ получился скомканным и сухим. - Груша у нас в огороде растет. Ну до того поганючая! Цветет, вроде, богато и пчелы над ней вьются. А потом завязи осыпаются. Останется с десяток плодов - и те она до осени и не доносит. Роняет зелеными. Ну, дед, ближе к зиме, взял топор, постоял возле нее, и у бабушки спрашивает: "Срубить ее, что ли, чтобы зря солнце не загораживала?" А та отвечает: "Да нехай еще год постоит. За ум не возьмется - срубим".
- Так это ж они промеж себя разговаривали!
- Ну и что? Дерево-то услышало! Наварили тазик повидла, и так еще... ели от пуза.
- Конечно! - возмутилась бабушка Катя. - К тебе тоже с топором подойди, так к утру весь учебник выучишь! А нет бы с ласковым словом...
- А как это "с ласковым"? - Я снова ударил в ту же самую точку, хоть в душе сомневался, что Пимовна поведется на этот дешевый трюк.
- Вот пристал! Как, все одно, банный лист, - устало сказала она. - И надо оно тебе? Люди этому делу всю жизнь посвящают, а ему вынь, да положь! Все равно ведь, не поймешь ничего. По наследству это передается. Ну, кто у тебя в роду исподволь травы знал?
- Дедушка Коля знал. Он, хоть и фельдшером был, лечил народными средствами. Люди звали его "лысым доктором" и ехали на прием только к нему. Он умер давно, и только один рецепт через мамку мою успел передать. И книжки "Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне", все тридцать пять томов.
- Что там хоть, за рецепт? - заинтересовалась бабушка Катя.
- От зубов. Чтобы они никогда не болели, нужно каждое утро вставать с левой ноги.
- Почему именно с левой?
- Не знаю, - признался я. - Сам размышлял об этом. Есть поговорка "Не с той ноги встал", в армии старшина команду дает "Левой!" Может быть, есть какая-то связь?
- Может и есть. А я по старинке все к березке лечиться хожу.
Она у меня как доченька младшая, всегда помогает. За веточку подержусь, за листок, тайное слово скажу. Этот твой дед не из наших, наверное, мест?
- С Алтая он. Село Усть-Козлуха.
- У-у-у! - первый раз за сегодняшний день, бабушка Катя посмотрела на меня с нескрываемым уважением. - Так вот откуда твои сны! Там сильные ведуны. И трава не чета нашенской. Ладно, Сашка, присмотрюсь я к тебе. Может, что-нибудь и покажу...
Не доезжая до стана второй бригады, кони повернули направо.
Телега перевалила через дорожный кювет и послушно затарахтела по бездорожью, вдоль посадки, по самому краю пшеничного поля, к тутовой балке.
- Посмотрим, - подтвердила мои наблюдения Екатерина Пимовна, - может, флягу шелковицы наберем? А оттуда по полям, напрямки. Все солнце так не будет слепить...
Она назвала тутовник по старому, по-казачьи, как Любка когда-то. Когда-то мы с ней добирались сюда на велосипедах. Пока докрутишь педали, весь изойдешь потом. Тутовник здесь разного цвета и сладости. Мы брали на самогон исключительно белый, чтобы сахар не добавлять.
Сколько ей, интересно, сейчас? В школу, наверное, скоро пойдет. А в моей прошлой жизни, Любка года четыре, как умерла. Рак доканал. Сестра ее младшая приходила, рассказывала, как она таяла, губы кусала от боли, да все меня перед глазами видела.
Я, понятное дело, вздыхал. Делал вид, что безутешно скорблю, хоть было мне, по большому счету, глубоко фиолетово. Даже не спросил, в какой части кладбища, и на каком участке ее закопали.
- Любила она тебя, - сказала на прощание Танька, и тут же поправилась, чтобы ударить больней. - И больше никого, за всю свою жизнь, не любила.
Женщины. Кто их поймет? Вот мне, до сих пор обидно и, в то же время, такое чувство, будто бы это я во всем виноват.
- По отцу, говоришь, дед Николай? - переспросила, вдруг, Пимовна. - Это хорошо. По материнской линии ты вообще ничего бы не получил. Но и он, если силу какую в наследство и передал, то разве что наполовину. А с другой стороны, книжки тебе оставил. Значит, что-то такое увидел, и слово нужное знал. Я ж говорю, там ведуны не чета нашим.
В понятие "слово" бабушка Катя вкладывала иной, известный только ей, смысл. Я примерно уже догадывался, какой. "Отче наш" в ее исполнении, отличался от общепризнанного, не одним только хлебом "надсущным". Это был набор сложных ритмических фраз, наполненных светом, и какой-то пронзительной силой. Даже я, человек с музыкальным слухом, не раз и не два повторивший следом за ней эту молитву (жить-то, падла, охота!), и не просто так повторивший, а слово в слово, интонация в интонацию, может быть
и добился какого-то результата (онкологии как ни бывало), но не постиг сути. Когда бабушка Катя произносила последнюю фразу, в воздухе повисал, и долго еще раздавался едва различимый, вибрирующий звук. Настолько тонкий, что даже ноту не назовешь.
Тутовник еще не поспел. Если что-то с деревьев и падало на попону, то не больше пригоршни зрелых ягод. За неполные полчаса мы с Пимовной наковыряли где-то с четверть молочной фляги, а их было в телеге не меньше пяти. Только она все равно радовалась:
- Ничего, Сашка, на обратном пути доберем!
Я уже сомневался, что он когда-нибудь будет, этот обратный путь. Время подбиралось к обеду, а мы еще не проехали и половину пути.
Наверное, эта мысль тоже, каким-то образом, отпечаталась на моем лбу. Бабушка Катя легко прочитала ее. Хотела, наверное, успокоить, но только нагнала тоски.
- Если к вечеру в Ерёминскую попадем, будет самое то. Успокойся, там есть, где заночевать. А как ты хотел? - предвосхитила она все последующие вопросы. - Большие проблемы с наскока, да с кондачка, не решаются.
От балки дорога пошла в гору, по некошеному лугу, наискосок. Судя по линии ЛЭП, которая обрывалась здесь, и небольшой "кэтэпушке" на конечной опоре, это летние выпаса одного из ближайших колхозов. Скотину еще не выгнали, но вот-вот.
Несмотря на палево с неба, пот, комаров и прочие неудобства, я успокоился. Впервые за этот день, Пимовна намекнула, что клубника, за которой мы едем, черт его знает куда, только лишь повод. А на самом деле... нет, лучше промолчать. Слова... они ведь, бывают не только нужными, но и лишними. Как и все мои сверстники, я тоже в детстве не верил в заговоры, наведенные порчи и прочие родовые проклятия. Не верил, пока не столкнулся со всем этим во взрослой жизни. Против вялотекущей шизофрении, официальная медицина бессильна, ибо, как говорил Булгаков устами Воланда, "подобное излечивается подобным". Черное слово можно победить только словом, вложив в него силу, направленную на добро. Найдется ли оно у нашей соседки? Нужно верить, а что еще остается? Эх, если бы знать, сколько еще дней мне отпущено в этом времени. Упал бы на четыре кости, да попросился бы к ней в ученики. Глядишь, дедовы гены и не пропали бы зря...
- Ты глянь, какая красавица! - воскликнула бабушка Катя, торопливо осаживая коней. - Ну-ка пошли!
Не люблю это слово, а как скажешь иначе, если она и правда воскликнула? А потом спрыгнула наземь с телеги и зашагала по этому зеленому морю, увлекая меня за собой. Она ведь, ростом махонькая была. Вот только в общении с ней, я всегда почему-то робел, и чувствовал себя несмышленышем.
- И как же тебя угораздило вырасти здесь? Ведь стадо пройдет - затопчут!
Я даже сначала не понял, что Пимовна беседует с деревцем, неизвестно каким образом, выросшим у края наезженной колеи. Это была березка, очень большая редкость в здешних краях. На нашей окраинной улице, их было всего две, и обе на пустыре, чуть дальше двора Раздабариных. Не знаю, у которой из них лечила она зубы, но там всегда многолюдно, из-за мостика через речку.
- Я себе думаю, с чего бы это кроты делянку вскопали около островка? А это они тебя ждут! - сказала бабушка Катя, присев на одно колено. - Так что, милая, будешь у меня жить?
И, черт бы меня подрал, если хоть капелюшечку вру, деревце дрогнуло и зашелестело листвой. Ну, точно, как наша груша после того, как я досыта напоил ее теплой водичкой из шланга.
Глава 17. О чем молчали волхвы
Ерёминскую по старинке называют станицей, хоть она меньше иного поселка. До революции здесь проживало под три тысячи душ обоего пола. Сейчас, от силы человек пятьдесят. Место мрачное, непричесанное. Особенно, если смотреть со склона горы. То там, то сям, между кронами высоких глючин, покажется, промелькнет крытая дранью крыша, закудрявятся заброшенные сады у синей полоски реки Чамлык. Ни площади нет, ни околицы, ни своего колхоза. Пруды - и те заросли.
- Ну вот, Сашка, здесь я и родилась, - сказала бабушка Катя.
Она умела так оборвать любой разговор, что какую фразу после нее ни скажи, все будет невпопад. Пришлось замолчать и мне. Взрослый все-таки человек, хоть и пацан. Понимаю.
А все-таки жаль. Ведь мы говорили о времени и кресте. Тема возникла сама по себе, когда наша телега проезжала мимо кургана, которые в наших краях принято называть "скифскими". Он был настолько крут, что трактористы даже не рисковали взобраться на него с плугом и бороной, и тупо опахивали по кругу.
От края до горизонта, поле было расчерчено всходами молодой кукурузы. На этом веселом фоне вершина холма казалась мрачным пятном: кривые приземистые деревья с редкими листьями, да ползучий кустарник.
Я, честно говоря, на этот курган не сразу и посмотрел. Только после того как Пимовна заострила на нем внимание, высказавшись в том плане, что "могилку разграбили, потревожили душу, а потом удивляются, откуда берутся пыльные бури".
Неровности и ухабы так настучали по моей многострадальной заднице, что она онемела. Пришлось соскочить с телеги и немного размяться пешком. Поэтому я сразу и не догнал, о какой могилке идет речь. Решил уточнить:
- Вы это о чем?
- Да вот же! - Пимовна очертила левой рукой контур холма и, для верности, ткнула в центр кнутовищем.
Нет, эти травники, экстрасенсы и прочие ведуны - народ с прибабахом. Вспомнилось, как еще одна бабка Екатерина, которую я встречу лет через сорок в том самом хуторе, где буду сажать веники, на голубом глазу утверждала, что плотные белые облака в небе нужны для того, чтобы в них прятались летающие тарелки. И вроде бы женщина с медицинским образованием, парня "афганца", от которого отказались врачи, за месяц поставила на ноги, а сказала - хоть стой, хоть падай! Эта тоже. Ну, какая может быть связь между скифским курганом и пыльными бурями?! И потом, почему именно с этим? У нас их на каждом поле по три, по четыре штуки. Некоторые так приглажены тракторами, что сразу и не поймешь,
курган это, или просто пригорок с симметричными сторонами.
Я бы, наверное, промолчал, если б Пимовна не сморозила очередную глупость:
- Надо будет хоть простенький крестик под стволом закопать. Глядишь, упокоится.
Ухмыляясь в душе, я задал вопрос на засыпку:
- Бабушка Катя, вы хоть знаете, сколько этим курганам лет?
- Понятия не имею. А сколько?
- Не меньше пяти тысяч!
- Надо же...
Пимовна поудивлялась, поохала, потом до нее дошло:
- Так ты, Сашка, хочешь сказать, что люди в то время не знали креста? Напрасно ты так подумал. А ну, посмотри на солнце!
Я послушно смежил ресницы и повернулся в нужную сторону.
- Что-нибудь видишь?
- Солнце как солнце...
- Экий ты бестолковый! Внимательно присмотрись!
- Так слепит оно...
- У-у-у, Сашка! Ведун из тебя, чувствую, как из говна пуля. Не на солнце нужно смотреть, а на то, как оно отражается.
Я злился, поскольку не понимал, что конкретно хотят от меня. Приоткроешь ресницы - слепит, в носу свербит, чих накрывает. Захлопнешь - красные пятна. От моей вопиющей тупоголовости,
Пимовну тоже потихоньку начало накрывать:
- Ну, - с нескрываемым раздражением, переспросила она, - что-нибудь видишь?
- Свет, - отозвался я, и три раза чихнул.
- Какой свет?
- Яркий. Какой же еще?
- Чтоб тебе повылазило! - с чувством сказала бабушка Катя. - Все! Ничего не надо! Вертайся назад!
Некоторое время она шевелила губами. Матюкалась, наверное, по себя, чтобы я не услышал. Но не сдалась. Потому, что сказала:
- Хочешь, Сашка, я расскажу, что ты видел на самом деле? Ты видел небесный крест. Первый луч опускается сверху вниз, второй - слева направо. А между ними сияние, играющий ореол.
- Нет, - возразил я, - лучи были сильно смещены вправо, и больше похожи на букву "Х". Поэтому я сразу не разобрал, что это такое.
- Ничего удивительного, - хмыкнула бабушка Катя, - сейчас ведь, не двенадцать часов, а уже, слава Богу, без четверти пять! Крест, потихоньку смещается, как стрелки на циферблате. И главное, какой ты свет ни возьми - от звезд, от луны, от электрической лампочки - он всегда месте стоит. Только у солнышка движется. Живое оно. Я, Сашка, порой думаю, что это и есть Бог. Прости, господи, меня неразумную, если обидела словом. Прости, сохрани и помилуй...
Пимовна зашептала свои молитвы, а я смежил ресницы и еще раз взглянул на пышущий зноем, огненный шар, изумляясь в душе. За кажущейся простотой скрываются такие глубины! И как я не знал этого раньше?!
За третьей горой, дорога пошла на долгий пологий спуск. Кони сорвались на рысь, веселей застучали копытами.
- Слава Богу! - сказала бабушка Катя и, обернувшись, перекрестилась в сторону уходящей вершины.
И что ее так насторожило? Никакой отрицательной энергетики вокруг нее я не почувствовал. Наоборот, саженцы кукурузы в районе кургана были крепче и выше своих собратьев, и отличалась по цвету в темно-зеленую сторону.
- А как вы определили, что это место особенное? - спросил я, посунувшись в сторону, чтоб не мешать широкому, от души, крестному знамению.
- Ой, Сашка, не хочу! - Пимовна, вдруг, подпрыгнула на седушке. - Поганое это дело...
Нет, странная она все-таки женщина! Сама ведь открыла тему, а, вроде как, я ее обломал.
Главной станичной улице позавидовала бы иная столица. Она широка, как душа пьяного казака. Саманные хаты ютятся по ней, как шашки на черно-белой доске в самом конце партии: то через клетку, то через две-три. Только в одном месте соседские плетни стоят параллельно друг другу, и это вносит в пейзаж маленький диссонанс.
Почувствовав близость жилья, кони пошли веселей, обогнули глубокую лужу, белую от гусей. Здесь никто им не мазал шеи разноцветною краской, чтобы отличить своих от чужих. Да, скорее всего, и не пересчитывал никогда.
Возле одного из дворов, бабушка Катя хотела остановиться. Я это прочел по ее глазам. От самого склона они у нее были как, все равно, у мраморной статуи. В том смысле, что смотрели в какую-то одну, отстраненную точку. А тут, типа сконцентрировались. С минуту поразмышляв, она, на манер цыган, всосала губами воздух, породив прерывистый звук, заменяющий им общеизвестное "но!" и всплеснула вожжами над спинами лошадей. Копыта послушно зачавкали по раскисшему чернозему в сторону магазина сельпо.
Это был пятистенок из точеного кирпича, переоборудованный для общественных нужд. Крыльцо в четыре ступени выходило на улицу, и было красиво обрамлено старинной кованой вязью.
Разгружали хлеб из местной пекарни. Шофер-экспедитор доставал из оцинкованной будки тяжелые поддоны с буханками и, краснея лицом, таскал их в раскрытую дверь, подпертую шваброй.
Был он в широком белом переднике, обернутом вокруг голого торса и черных бухгалтерских нарукавниках. Жарко. Промасленная спецовка в темных разводах пота, была аккуратно разложена на капоте, и исходила паром. Особенно убивало полное отсутствие очереди. Здесь что, не едят свежего хлеба?
Из местных аборигенов, я приметил только бабусю в больших роговых очках. Она восседала на низкий скамейке и продавала тыквачные семечки. Большой стакан десять копеек, маленький пять. Я знаю. У нас такие бабуси на каждом углу.
Пимовна с ней поздоровалась, притулилась рядом на корточки. Пару минут они пообщались, потом обнялись и заплакали.
Я отвернулся, еще раз, с прищуром, глянул на солнце. Оно уже
потеряло былую силу и зависло над высоким частоколом хребта, будто бы размышляя, за какую вершину сподручнее сегодня упасть. Раскаленная за день земля, выжимала из себя последнюю влагу, и легкое марево играло у горизонта. Только небесный крест не терялся на зыбком фоне, не преломлялся в заснеженных склонах. Он был по-прежнему геометрически точен и строг. С точки зрения земного будильника, на вселенских канцелярских часах было без двадцати шесть...
- Гыля, городской!
Я сбросил глаза долу. На грешной земле тоже произошли какие-то перемены. Рядом с очкастой бабушкой, неизвестно откуда нарисовался чумазый пацан с выцветшей добела нечесаной шевелюрой. Что касается Пимовны, то ее уже не было. Наверное, зашла в магазин.
Если мне что-то сейчас и хотелось, то драться меньше всего. А придется. Сегодня без этого никуда.
- Городская кры-са родила Бори-са, - кривляясь, загнусавил пацан. - Положила на кровать, стала жопу целовать!
Вот говно из-под желтой курицы! Я ни разу не был Борисом, но типа того, что булыжник в мой огород. Заедается, падла! Придется давать в бубен, а для начала восстановить словесное статус-кво.
- Ты не Лермонтов, не Пушкин, а простой поэт Звездюшкин! - выпалил я, слезая с телеги.
Нет, я сказал именно "Звездюшкин", а не то, что вы сейчас подумали. Сориентировался. В последний момент переложил язык с поправкой на Пимовну. Она ведь, из местных. В это станице ей все на раз донесут. А узнает она - значит, узнает дед. Мне оно надо?
В годы моего детства, рифмованная дразнилка ударяла в три раза больнее обычной. Собственно говоря, так я и напрактиковался писать стихи. Но этот экспромт про Пушкина был рожден другой головой. Так отозвался о моем хулиганском творчестве, третий штурман ледокола-гидрографа "Петр Пахтусов", Валерка Унанов.
Тем не менее, сейчас его опус прозвучал в тему и оставил станичному забияке только один аргумент - кулаки.
Я выдал ему по соплям, как говорится, в два клика. Обозначил прямой справа, но "гостинец" попридержал, не донес, оставил на полпути. Когда обе его руки вскинулись в суматошной защите и оголили пузо, последовал еще один финт. С утробным выдохом "н-на!", я наклонился влево и дернул плечо вперед. Пацанчик повелся и снял часовых. Верней, перебросил на опасный участок фронта. Естественно, получите дозвон.
В нос не попал, но губы подраспушил. А больше ничего не успел. Не дали. Хозяйка тыквачных семечек оказалась на редкость проворной. Я и момента не уловил, как она подскочила со своей табуретки и вклинилась в побоище с тылу. Это было так неожиданно! Особенно для меня.
- Кади ж ты, падла, угомониссе?! Када ж я, на старости лет, спокою дождусь?! - орала она неожиданно низким голосом, охаживая потерпевшую сторону, невесть откуда взявшейся палкой из ствола конопли.
Очки у нее были будто приклеены к носу. Даже не вздрагивали.
- Ба! Ну, перестань! Он первый начал! - притворно захныкал пацан, уворачиваясь от гулких ударов. Палка была полой, и больше гремела, чем причиняла боль.
- Ты из меня дуру не строй!..
Я потихоньку залез в родную телегу и затаился на передке, подальше от семейных разборок. Белобрысый сказал "ба", а чужих так не называют. Моя очередь подоспеет потом, когда возвратится Пимовна. Это тоже одна из взрослых традиций того времени: каждый успокаивает своего. Так что, будет и мне сегодня Звездюшкин.
И подвернулся же под руку этот кашкарский петух! - я с ненавистью взглянул на невзрачного пацана и почему-то подумал, что валить его надо было не встречным, а боковым. Ведь точка опоры была у него, в тот момент, на самых носочках.
- Чего это они тут не поделили?! - спросила бабушка Катя.
Так искренне удивилась, как будто мальчишечьи драки это такая же редкость, как заезжий "Зверинец", который заглядывает к нам в захолустье не чаще раза в году.
Она возвращалась к телеге с только что купленной сеткой - авоськой, наполненной пакетами и кульками из плотной желтой бумаги. В правой руке, на излете, держала за горлышки две бутылки "казенки" с пробками, запечатанными темно-коричневым сургучом.
Наверное, из старых запасов. В удаленных магазинах "Сельпо" можно было свободно купить любой дефицит. Вплоть до японских туфлей. Импорт в то время распространялся по торговым сетям централизованно, равномерно и более-менее справедливо. То, что в Москве отрывалось с руками, в сельской глубинке часто считалось неходовым, залежалым товаром.
"Ох, сладки гусиные лапки!", - когда приходилось к слову, повторял дед. - "А ты едал?" - "Нет, я не едал, но мой прадед видал, как барин едал!"
Так вот, эта эксклюзивная водка, которую бабушка Катя несла в правой руке, была для меня теми самыми "гусиными лапками". Не пробовал никогда, и видел единственный раз, на новогоднем столе нашей камчатской квартиры.
- Чего это они тут не поделили?!
- Да вот, - подтвердила наблюдения Пимовны старушка в очках, - глазом не успела моргнуть, а они уже поскублись!
- Сашка! - в глазах бабушки Кати промелькнули серые тени. - Не тебе ли Степан Александрович давеча говорил: "Веди себя хорошо, чтобы мне перед людями не было стыдно"? Это ты так сполняешь его наказ?!
Я сгорбился, потупился и засопел, своим сокрушенным видом, демонстрируя чистосердечность раскаяния. Руки бабушки Кати, в отличие от ее слов, двигались размеренно и спокойно. Сетку она аккуратно поставила в уголок, бутылки переложила рукавами моей фуфайки.
Нет, такой замечательной водки, я обязательно сегодня лизну. Хоть капельку, но лизну. - Думал я, старательно заставляя себя заплакать. - Хрен с ней, с хворостиной! Упущу такую оказию, мужики меня не поймут!
Какие мужики мне, сдуру, на ум пришли? Те, с которыми в морях бедовал, давно за чертой, забросившей мое прошлое в далекое будущее. Да и сам я здесь на птичьих правах. Дождусь вот,
когда Пимовна выговорится, заткну подходящую паузу словами "я больше не буду" и посчитаю, сколько конкретно мне еще остается до полных сорока дней.
Только не было ее, той паузы.
- Васька! - повысила голос бабушка Катя. - Ты что там притих? Знает кот, чью сметану сдул? А ну-ка иди сюды!
Звездюшкин не торопился. Пока его "ба", причитая, и охая, складывала товар и пожитки в небольшую тележку, переделанную из детской коляски, он ковырял коричневой пяткой кротовью нору.
- Я кому говорю?!
Вместе с именем, прозвучавшим на всю станицу, Васька в моих глазах, сразу обрел статус, чуть ли ни своего человека. Хрен его знает, вдруг родственник? Вон как Пимовна и ба обнимались! Я даже стал смотреть на Звездюшкина без прежнего негатива.
Он подгребал бочком, приставными шагами, настороженно глядя из-под излома белесых бровей. По вывернутой нижней губе сочилась сукровица, что придавало его лицу, характер обиженный и плаксивый. И правда, чего психанул? Смалился, старый дурак...
- Так что вы там с Сашкой не поделили? - еще раз спросила бабушка Катя.
Пацанчик подумал, наморщил лоб и выдохнул традиционное "та-а-а..."
- Миритесь. Сейчас же миритесь!
Я с готовностью спрыгнул с телеги. Ноги, обутые в кеды, мягко пружинили на придорожной пыли. Васька посмотрел на меня пристальным, запоминающим взглядом, чтобы не ошибиться, если поймает в следующий раз и протянул правый кулак с оттопыренным
грязным мизинцем. Ну, блин, отстой! Это типа того, что и я должен
сцепиться с его пальцем такою же точно клешней, и махать ею в воздухе, повторяя, как заклинание:
Мирись, мирись, мирись
И больше не дерись.
А если будешь драться,
То я буду кусаться!
В нашем маленьком городишке эта традиция отмерла, когда я был еще дошколенком. А здесь, в сельской глубинке до сих пор так?! Я представил себя со стороны, и покраснел от стыда.
Бабушка Катя ждала. Но и ради нее, я не смог заставить себя пройти сквозь такие моральные муки.
- Давай по взрослому, - сказал я Звездюшкину, шагая к нему с раскрытой ладонью. - Ты молодец. Если бы я не ходил в секцию бокса, еще неизвестно, чья бы взяла.
- Лады! - улыбнулся Васька, делая вид, что ему пофигу мои комплименты, но мордой порозовел. - Ты тоже законный пацан. Будем дружить.
Я тоже расцвел, но по другой причине. Слово "законный" упало на душу с такой сладкою болью! Было оно когда-то наиболее часто употребляемым в уличном лексиконе. Вместо "хорошо" мы говорили "законно". В моей старческой памяти это почему-то не удержалось. Спасибо, Васька напомнил.
- Ну что, помирились? Сидайте теперь. Ехать пора.
Пимовна была при вожжах. Ба разместилась на моем месте. Сидя спиной к лошадям, заботливо поддерживала за высокую ручку коляску с добром. Помимо тыквачных семечек, там была молодая картошка, петрушка, укроп и банки с солениями.
Мы с Васькой молодецки запрыгнули на задок и устроились там, среди громыхающих фляг.
- У колдуна будете ночевать, - просветил меня новый друг, - или у нас. Ты только на рожу его не смотри. Страшно. Мне один раз ночью приснилась, так я на перину нассал. Ох, и ругалась бабка Глафира...
Я не знал, кого слушать. И там интересно, и там.
- Как тебе отчий дом? - голос Васькиной ба, вальяжно переливался на низких тонах.
Бабушка Катя что-то прошептала в ответ и засмеялась. Грустно засмеялась, и через силу:
- А комнатки ма-ахонькие! Не развернуться. Все товаром заставлено. Я считай, только трещину в потолке и узнала.
- Ну, так, сколько тебе было, когда Пим Алексеевич подался на Зеленчук? Годочков пять, шесть?
- Седьмой пошел, я же январская...
Если б не гулкий голос бабки Глафиры, я бы вообще ничего не понял из этой беседы. Гремели пустые фляги, Васька балабенил под ухом. Только и разобрал, что в доме, где сейчас магазин, когда-то родилась Пимовна. Что в 1918-м, отец ее ушел в горы вместе с семьей и верными казаками и принял участие в восстании, после которого в станице Ереминской не стало кому жить.
Услышь нечто такое в прошлой своей жизни, я бы спрыгнул с телеги и подался до дома пешком. Плевать, что бабушка Катя наша соседка. Нечего делать советскому пионеру в обществе недобитых буржуев. Как поется в нашей отрядной песне?
Славен Павлик Морозов,
Жив он в наших сердцах,
Презирая угрозы,
Он за правду стоял до конца.
Вот так! За правду пацан стоял. Потому, что правда одна. А все остальное - ложь!
Теперь же... впрочем, Васька не дал сформулировать то, о чем я думал теперь. Со словами "скажи, а?", он толкнул меня локтем в бок. Нужно что-нибудь отвечать, неудобно, еще обидится.
- Почему ты решил, что мы к колдуну приехали? - задал я один из вопросов, который вертелся на языке.
- К кому же еще?! - удивился мой новый друг. - У нас ведь, в станице, если появится кто-то из иногородних, все только его и спрашивают. Лечит он. Бабке Глафире голос вернул. У меня на правой руке было три бородавки. В школе писать не мог. Так он только ладонью провел, к вечеру они и отпали...
Васька с удовольствием зацепился за новую тему. Я же смотрел на грустный пейзаж, подернутый облаком пыли и препарировал прошлое.
Мать Пимовны отпечаталась в моей памяти стоящей в конце проулка, с поднятой палкой в правой руке. Скандальная была женщина, с раздвоенным языком. Ну, чисто бабушка Катя, когда крепко поддаст. Меня, правда, привечала, но только я ее все равно почему-то боялся. Помню еще, что она принципиально не ходила голосовать. В дальний конец улицы, всыпать кому-то чертей, это она бегом, с дорогой душой. А вот, на избирательный участок, до которого два квартала, ноги не шли. Только на дому. Ежегодно, во "всесоюзный праздник" перед ее двором останавливалась бортовая машина с огромным бордовым ящиком в кузове.
Опять же, словечко "иногородний", сорвавшееся с Васькиных уст. Оно ведь, даже в станицах звучало пренебрежительно. В том смысле, что человек не из какого-то там города, а из-за ограды. Будучи дошколенком, я часто ловил его мордой, вслед за ударом под дых. Дед, без базара, казак, но я-то приехал с Камчатки, значит, иногородний. Так до революции звалось на Кубани все неказачье население. Будь ты хоть миллионер, а общинной земли тебе в собственность ни аршина. Плати и бери в аренду. На сходе, соборе и станичном кругу ты тоже никто. Хорошо если пустят в сторонке постоять, поглазеть. Типа того, что "Кубань, конечно, Рассея, но мы этот чернозем у турки из глотки выдрали, поэтому она наша!"
Как я и предполагал, телега остановилась возле двора, где глаза
Бабушки Кати вышли из комы.
- Приехали! - сказала она.
- Ворота открой, внучок, - пряча в футляр очки, ласково пробасила бабка Глафира, - а ты, хлопчик ему помоги.
- Саша его зовут, - напомнила Пимовна.
- Ну да... Саша... хороший мальчик...
Без Васьки я бы ворот не нашел. Бюджетный вариант: две секции плетня, прибитые по краям толстой резиной, раскрывались как створки окна, если, конечно, их приподнять. Взрослые занялись лошадьми. Развернули их мордами к передку брички, задали сенца. Судя по приготовлениям к долгой стоянке, колдун жил где-то недалеко.
- Во-о-н его хата, наспроть, - подтвердил Васька, ткнув, для верности, в покосившуюся калитку, указательным пальцем правой руки. (Был он, кстати, не Звездюшкин, а Казаков). - Без бабки моей, никого во двор не пускает. Даже почтарша, когда пенсию по дворам разносит, сначала стучится к нам.
Солнышко, между тем, расплылось алою лужей именно в той стороне. Оно уже не слепило глаза, но дальше калитки ничего не давало увидеть.
Мы с моим маленьким другом стояли на крыше коровника, бывшего когда-то летней времянкой. Вернее, под крышей, переделанной в плоский навес. Там хранились запасы сена и кукурузы, а в углублении, рядом с бывшей стрехой, припрятан Васькин боевой арсенал. Он с гордостью показал обрез трехлинейки, ржавый трехгранный штык и кусок пулеметной ленты, кажется, от "Максима". Будь я сейчас в своем настоящем прошлом, точно бы позавидовал такому богатству.
- Ва-а-ська! Ты иде?! Сбегай к колодезю, воды принеси!
- Иду, ба!
Нет, не зря взрослые так помыкали нами, представителями последнего поколения, умевшего бегать по земле босиком. Наверно предчувствовали, что эту землю, политую их потом и кровью, мы потеряем бездарно и навсегда.
Как хорошо в их времени! На столе перед сковородкой горит каганец. Мы с Васькой уплетаем яичницу с салом. Электричество экономится: "Вам что, тёмно дЫхать?!" Безудержная мошкара стремится в раскрытую дверь, путается в марлевой занавеске и с шелестом опадает на доски порога. Гудит керогаз. Исходит дурманящим паром кастрюля с каким-то варевом "для Фролки" - того самого колдуна. И чем он такой страшный, если бабушки называют его настолько пренебрежительно?
Но все когда-то заканчивается. Даже долгое ожидание. Мы с
Пимовной идем впереди. Бабка Глафира прикрывает нас с тылу кастрюлей с горячим борщом. В свете новорожденного месяца, тускло поблескивают стекляшки ее очков. А Васька бастует. Сказал, что страшно ему.
Да и мне самому, честно говоря, жутковато. Между хатой и высоким частым плетнем, где у добрых людей разбит палисадник, здесь возвышаются три могильных креста. Ни таблички на них, ни надписей. Утлая собачонка, каких обычно принимает на службу справный хозяин ("гавкучая и жгрёть мало"), усердствуя, роняет слюну. Странно так лает. Сунет желтые зубы под оббитую железом калитку - "р-р-хав, р-р-хав!!!" - потом отбежит к низенькому крылечку и заливается веселым звонком. Ночка-то звездная, мне все хорошо видно.
Дверь открылась, как в фильме ужасов, с громким, протяжным скрипом. Послышалось характерное шорканье, перемежаемое сдавленным матом. Хозяин ногами нащупывал чёботы. Долгая, неясная тень выросла, наконец, на пороге и каркающий голос спросил:
- Кого там нелегкая принесла?
- Собачку уйми, Фрол! - сварливо сказала бабушка Катя.
- Ходють и ходють... - колдун, не спеша, спустился с крыльца и двинулся в нашу сторону.
Был он в длиннополом плаще из брезента, накинутом прямо на голый торс, и застиранных солдатских подштанниках. Голову держал высоко. На стриженой под бокс голове, задорно торчал суворовский хохолок.
- Ходють и ходють, - опять повторил он, выгребая на лунный свет.
Моп твою ять!!! - за малым, не произнес я. Пимовна тоже опешила. Судорожно ухватилась за мою руку.
Это было действительно страшно. Наискось через лицо Фрола, тянулся сабельный шрам. На высоком морщинистом лбу, он будто бы выдавался наружу, двумя параллельными багровыми бороздами, а под правой глазницей смотрелся глубоким оврагом, со склонами, как у куриной гузки, кой-где поросшими редкой, седой щетиной. Сам глаз уцелел. Но, честное слово, лучше б он вытек! Выглядело бы хоть немного по человечески, если спрятать провал под черной повязкой. А так... яблоко, размером с добрую сливу, было покрыто слезящейся красно-розовой пленкой. Оно почему-то застряло на выкате из рассеченных ударом, век. На лишенной узора, некогда радужной оболочке, красовалось бельмо. Оно казалось огромным зрачком, который смотрел вертикально вверх и пожирал свет.
Мне кажется, Фрол просто прикалывался. Он жил как бирюк, и имел в своей жизни единственное развлечение - распугивать незваных гостей. Здоровый глаз поблескивал озорно, губы кривились в насмешке. Он прекрасно осознавал свое безобразие, тот безотчетный ужас, который охватывает неподготовленного человека при единственном взгляде на эту его, визитную карточку.
- Кого там нелегкая принесла? - свирепо спросил колдун, являя свой образ поверх калитки.
- Собачку уйми! - теряя терпение, повторила бабушка Катя.
- Ити его в кочерыгу, опять батарейка села! - преувеличенно громко сказал Фрол и выдернул за провод наушник. - Батарейка, говорю, села! Пойду, поменяю...
Он с шумом отпрянул, в три шорканья развернулся своим еще крепким телом, и побрел по направлению к хате.
- Фух, насилу за вами поспела! - сказала бабка Глафира, ставя на землю, укутанную в душегрейку, кастрюлю. - Видали красавца? Вот так вот, придуривается, издевается над людями. Теперь хоть заорись. Эй, старый пердун! Я ить, тоже сейчас уйду, до завтрева будешь нежрамши!
Брезентовый плащ вздрогнул.
- Ты, что ль, Глах? - живо отозвался колдун. - А я и не вижу! Кто это там с мальцом?
- Что, сослепу не признал? Оно и немудрено! Это ж Катька малая, Пима Ляксеича дочь, невеста твоя...
Устройство кубанской хаты традиционно. Две комнаты - большая и маленькая. У богатого казака крыльцо выходит на улицу, у бедного - смотрит во двор. Захочешь, да не заблудишься. У Фрола русская печь. Она отнимает добрую четверть жилого пространства. Кругом сплошные углы. Зато и уборки в хате - баран чихнул. Да и не развернуться вдвоем. Пока бабка Глафира выгуливает мокрую тряпку и накрывает на стол, все лишние сидят возле крыльца. Стулья и табуретки временно вынесли, чтоб не мешали. Колдун прячет увечный глаз под бескозыркой с красным околышем. Он уже в шароварах со споротыми лампасами и чистой белой рубахе. Как услышал, что в гости явилась сама бабушка Катя, так и помчался в избу со словами "Ты уж, Глаха сама!".
Я хочу спросить у него насчет крестов в палисаднике, но все не могу встрять в разговор. Взрослым не до меня.
- Добрым был атаманом Пим Алексеевич, все и про всех знал. Помню, в шестнадцатом, телушка у нас пропала. Веревку обрезали и с выпаса увели. Мне, аккурат, двенадцать годочков стукнуло, здоровый уже бугай. Да-а-а...
Задумавшись, Фрол теряет над собою контроль. Откинулся на решетчатую стенку перил, и смотрит в небесную бездну, обнажив кадыкастую шею. Под его босыми ногами, заходится счастьем пес Кабыздох. Сунул нос в мохнатые лапы, зенки свои карие закатил и коротко постукивает куцым хвостом. Хозяин, наверное, для него не колдун и урод, а самый красивый и добрый на земле человек, хоть кормит его не он, а бабка Глафира. Я уже тоже привык, и смотрю на лицо колдуна без прежнего содрогания.
- Да-а-а, - продолжает он. - Здоровый бугай! Выходит, что мой недосмотр. Ну, батько покойник и говорит: "Ты Карту седлай, я Баяна, поехали к атаману, пусть разбирается"...
Фрол рассказывает долго и нудно, перемежая повествование бесконечными "да-а-а". Все для него важно: сколько у отца было строевых лошадей, а сколько рабочих, какую почем брали. Что за сбруя висела в сарае и на каком месте. Как будто бы, если что-то не вспомнит, украдет из семьи. Бабушка Катя ловит каждое слово. Ей все интересно. Это и ее детство. Она ведь еще не знает, что если во время помереть, и тебе повезет, то можно туда попасть.
- ...Тёмно уже. Пим Алексеевич повечерял, курил за двором. Нас, выслушал, в хату провел. Отца усадил за стол, сказал, что надо мараковать. "А ты, - это он мне, - за невестой своей поухаживай. Что-то притихла. Не иначе, уже нашкодила", да-а-а...
Тихий, домашний смех брызжет из-под ресниц Пимовны. Да и по лицу колдуна как будто прошлись утюгом. Рубцы и морщины разгладились. Даже увечный глаз теперь отражает свет. Кажется, сердце его нашло, наконец, точку опоры.
- Это я так смекаю, - пояснил Фрол, - Пим Алексеевич в уме перебирал, кто из его казаков способен пойти на татьбу. Ну, атаман, да-а-а...
- Неужели нашел?! - удивляется бабушка Катя.
- А как не нашел? - нашел! Только по стопке они и успели поднять, слышу, отец кличет: "Ну-кось, наметом домой, лошадку какую смирную в бричку впряги, да дно не забудь притрусить старой соломой, чтобы в крови не испачкать. И - ко двору вдовы Василенчихи". Это у ей, беглый солдат Проскурня угол снимал, - зачем-то уточнил Фрол.
- Тот самый? - вскинулась бабушка Катя.
- А какой же еще? Других у нас отродясь не бывало, да-а-а... Когда я подъехал к воротам, мясо еще дымилось. Стреляли в той стороне. Для острастки стреляли, пожалели падлюку. Всеш-таки божья тварь. Ушел, паразит, задами да огородами. Подался опять на ерманский фронт. И вплоть до восемнадцатого года, не объявлялся. А уж когда к власти пришел, он нам эту телушку кровью попомнил.
- Сидайте к столу, - сказала бабка Глафира, выплескивая грязную воду под толстое корневище дикого винограда. - Выпьем за встречу, да сбегаю, за шибеником своим присмотрю. - Она расправила мокрую тряпку и легким движением бросила под порог. - От горе мне на старости лет! Ни книжки читать, ни уроки учить. Ночь-полночь, глаза вылупил - и забежал галасвета. Хуч кол ты ему на голове теши, не берется за вум. Ты бы, сосед, повлиял на мальчонку, чай не чужой...
Фрол был мужиком зажиточным. На стене настоящий ковер, под потолком хрустальная люстра. В одном углу холодильник "Днепр", в другом - радиола "Весна". Даже кухонный стол был покупным. Чтоб разместиться за ним вчетвером, пришлось бабке Глафире отодвигать его от стены.
- Кому борща? - зычно спросила она, перебирая пустые тарелки. - Теплынь на дворе, все одно до заврева пропадет.
- Мне! - с готовностью пискнул я.
Вот сам не заметил, как стал фанатом этой еды. Как скажет лет через тридцать один малоизвестный поэт,
Бледнеют перед ним супы и щи,
И борщ кубанский этого достоин.
Готовят по велению души
Его хозяйки, в праздничном настрое.
- Вот вумница! - вырвалось у бабки Глафиры.
Кроме меня, пол уполовника попросила налить бабушка Катя. А Фрола никто и не спрашивал. Ему нафигачили полную миску, как говорится, по умолчанию.
Я махал своей ложкой и думал: почему такой замечательный борщ обязательно должен пропасть при наличии холодильника?
Ведь "Днепр" очень надежная штука. У первой моей тещи на кухне стоял такой старичок. Уже дверь проржавела насквозь, а он все морозил и останавливаться не собирался, а тут почти новый и не работает. Если змеевик не пробит, то причина неисправности может быть только одна - кугутская сущность местного населения. Скорее всего, в целях экономии электричества, Фрол отключал агрегат на зиму, хладагент сел, застоялся, и без хорошей встряски, к жизни этот "Днепр" не вернешь.
Колдун в три взмаха взломал сургуч, экономным движением вышиб пробку, разлил по граненым стаканчикам эксклюзивную водку. Я так не умею.
- Ну, с кем не чаял, за встречу!
Старушки выпили чинно, культурно, маленькими глотками. Когда надо, поморщились. Налегли на закуску.
- Бабушка Глаша, - сказал я, выждав момент, когда она собралась выйти из-за стола, - давайте, пока вы еще здесь, холодильник починим?
- Тю на тебя! - отозвалась она.
- Напрасно ты так, - вступилась за меня бабушка Катя. - Толковый мальчонка, и в этом деле он соображает. Деду сделал такую машину, что сама семена с веников очищает.
- Да ну! - Фрол уронил ложку и скептически посмотрел на меня единственным глазом. - Ну, раз он такой толковый, пусть тогда скажет, что там сломалось.
- Ничего не сломалось!
- А почему не работает?
- Потому, что вы его на зиму отключали.
- Отключал. Ну и что?
- А то. Охлаждающая жидкость из трубочек стекла в самый низ, и теперь холодильник работает вхолостую. Электричество жрет, а не морозит.
- Тако-ое! - сказала бабка Глафира.
- Ты, мать, погоди! - осадил ее Фрол. - Толковые вещи пацан говорит.
- Сашкой его зовут, - вставила слово Пимовна и легонько толкнула меня локтем. - Скажи им, что делать то нужно?
- Перевернуть кверху ногами. А потом поставить, как было.
- И все-е-е? - изумленный колдун чуть ли ни выпрыгнул из-за стола. - Перевернуть я его и сам переверну. Ни хрен тяжесть.
Бабушки поспешили на помощь. Одна убрала хрустальную
вазу, другая - накрахмаленную салфетку.
Пару минут спустя, в комнате наступила мертвая тишина. Взрослые с благоговением слушали, как тоненький ручеек журчит внутри холодильника.
Первой пробило Пимовну:
- Где у вас тут, отхожее место?
- Пойдем, покажу, - предложила бабка Глафира.
И пришлось нам с хозяином дома, по сермяжному прятаться за кустами.
- Дяденька Фрол, - пользуясь этой оказией, между делом, спросил я, - а у вас в палисаднике кто похоронен?
- Люди, - ответил он.
- А почему не на кладбище?
- Долго тебе объяснять. Все равно не поймешь.
- Я попробую.
- Понимаешь, Сашок? Девяносто семь человек в одночасье покололи штыками, да саблями порубали. Шутка ли? - девяносто семь человек! У кого сбережения были, те своих родственников выкупили, да тут же похоронили. Остальные целых три дня на церковной площади провалялись. Ну, собаки да свиньи растаскали по закоулкам то, что смогли унести, закопали на черный день. До сих пор в огородах, кто кусок черепушки найдет, кто руку, кто нижнюю челюсть. А куда это все? Вот ко мне и несут. Я ведь там тоже лежал.
- Вы?!
- Пойдем лучше в хату. Рано тебе еще копаться в изнанке жизни. Это такие знания, что тебе не помогут, а навредят. Пойдем, пойдем! - Он обнял меня за плечо, и не отпускал до самых дверей.
- Не журчить! - сказала бабка Глафира, как только мы переступили порог. - Что делать?
- Переворачивать и ставить на ножки, - скомандовал я и прикусил язык.
Фрол, кряхтя, сделал холодильнику оверкиль и вытер ладонью пот.
- Теперь можно включать.
- Не рано? - поосторожничал он. - Жидкость таперича вся наверху?
- В самый раз! Система лишнего не заморозит.
- Вот никуда не уйду, пока не увижу, чем дело закончится! - сказала бабка Глафира, усаживаясь за стол. Кому борщ разогреть?
Допили бутылку. Закусили бутербродами с колбасой. Специально для меня, в хозяйстве нашелся клубничный компот и плитка ванильного шоколада. О холодильнике, казалось, забыли. А может, и не казалось. В разговоре, чаще всего, вспоминали общих знакомых. Кто кого видел в последний раз, где и когда это было.
- Ладно, пойду. Засиделась. Уже и унучок, наверное, спить, а я тут все лясы точу, - спохватилась соседка.
- Глянь там, заодно, агрегат, - попросил ее Фрол.
- Тю! А я и забыла, - бабка Глафира прошлепала мимо своих "чувяков", приоткрыла дверь холодильника. - Кажись, морозит!
- Так морозит, или кажись? - Хозяин выбрался из-за стола, попробовал пальцем тонюсенький слой инея и изумленно сказал. - Су-у-ка! С меня в прошлом годе, за такую же точно поломку, Васька бутылку взял!
- Ну, ради такого дела...
Пимовна водрузила на стол еще один "эксклюзив".
- Не, не! - замахала руками Глафира. - И не упрашивайте!
Пойду я. Вы, Кать, если что, идите ко мне ночевать. В маленькой комнате постелю.
- Ушла, - констатировала бабушка Катя, прислушиваясь к шагам за окном. - А я ведь, Фрол, по делу к тебе.
- А иначе-то как? Возраст такой подошел, что только по делу. Тем паче, в такую даль. Посмотрел я, Катюша мальчонку твово. Здоровенький он, и с душой у него все нормально. Только на водку жалостливо так смотрит. Как будто бы, тоже хочет. Ну, это можно заговорить. А так, ежели не сопьется, хороший человек вырастет.
- Сашка! - прикрикнула Пимовна, - вот я тебя жигукой по сраке!
- Ну, ну, не строжи! С душой, говорю, все нормально, только болить она у него. Как у взрослого человека болить.
Я съежился за столом, стараясь не смотреть в сторону колдуна и вообще ни о чем не думать. А ну, как расколет?! Было страшно до памороков в глазах.
- Еще б не болела! - вздохнула бабушка Катя. - Сны ему снятся, Фрол. Видит мальчонка, кто и когда на нашей улице будет болеть, или помреть. Про мамку свою сказывал, как она тронется головой. Про подругу мою, Федоровну, все по полочкам разложил: сколько сестер у нее, и какая племянница вступит в наследство, когда они все, одна за одной, преставятся.
- Родовое проклятие? - Хозяин, начавший было, оббивать сургуч с горлышка эксклюзивной казенки, поставил бутылку на место, насупился, посерьезнел. - Поганое это дело!
- Вот ты, в одночасье столько народу проклял. Расскажи, как это бывает? Ты их всех ненавидел?
- Мальчонка услышит, - замялся колдун.
- Ничего, этому можно. У него в роду ведуны такие, что чище тебя будут. Только не матюкайся.
- Не то чтобы, Катя, ненависть, - Фрол достал из фабричного портсигара передавленную резинкой, самодельную папиросу, - изумление какое-то было. Четырнадцать годочков прожил на земле, от христианского труда не отлынивал, никогда ничего не украл, не успел никого убить. Ну, взял Армавир генерал Покровский, а я то причем?! Лежу среди станичников мертвяков, одним глазом в небо смотрю. Комок какой-то в груди рвется наружу: за что?! Чтоб, думаю, вам, паразитам, и детям вашим, до седьмого колена, такие же муки принять! А помирать хорошо-хорошо! Ничего не болить, облака надо мною плывуть и качаются, как будто баюкають...
Фрол высморкался, вытер лицо подолом рубахи и побрел на крыльцо. Не сговариваясь, мы потянулись за ним.
- Вот до казни еще, то да, - колдун, как будто увидел, что мы стоим за спиной. - До казни я этого Проскурню ненавидел. За то, что он, гад, сестренку мою среднюю социализировал.
- Как это? - вырвалось у меня.
- А так. К солдатам увез, в Вознесенку. Пришел с конвоирами и увез. Матери мандат показал. "Предъявителю сего, товарищу Проскурне, предоставляется право социализировать в станице Ереминской шесть душ девиц возрастом от шестнадцати до двадцати лет, на кого укажет данный товарищ". Главком Ивашев, комиссар по внутренним делам Бронштейн. Подписи и печать. Мать кричала, соседей звала, метрики им показывала, что Маришке только-только пятнадцать исполнилось. А он говорит: "Вот, видишь винтовку? Она тебе бог, царь и милость. Будешь орать, на штык посажу. И ее, и тебя".
- Вот, если бы, - Пимовна положила ладонь на его плечо, хотела что-то сказать, но передумала. - Пошли, женишок, врежем!
Она сама открыла бутылку, убрала рюмки и поставила на стол два граненых стакана.
Выпили, закусили.
- Ой, у мэнэ есть коняка, та й гарний коняка, - начала бабушка Катя.
- Ой, який вин волоцюга, який разбишака! - подхватил Фрол
- Ой того-то я коняку поважати буду, за него не взяв би срибла хоч повную груду, - завели они на два голоса.
Обо мне, казалось, забыли. Пели еще "Заржи, заржи, мой конечек, подай голосочек", "Ой при лужку, при лужке, при счастливой доле".
- А вот, если бы нашелся такой человек, который за детей твоих душегубов стал бы у бога просить? Если бы ты услышал, не проклял? - спросила, вдруг, бабушка Катя.
- Я-то? - задумался Фрол. - Я их всех, Катя, давно простил. Только слово мое от бога. То, что сказано, не поймаешь, обратно в рот не засунешь и не проглотишь.
- Почему ты решил, что от бога?
- Я ведь тогда помирать собрался. И помер бы, если б перед собой Богородицу не увидел. Наклонилась она надо мной и говорит: "Что же ты, Фролка лежишь, ай дел никаких нет? Тебе ж еще жить да жить. Ползи-ка, сынок, к тому ерику, да в кушерях схоронись. Душегубы твои поехали за телегами. Покушают заодно, да выпьют после таких-то трудов". Было такое, да. Но ты ведь, Катя, другое хотела спросить: не ударит ли слово по тому, кто захочет его отменить? Так я тебе так скажу: это в зависимости от того, кто будет просить.
- А ежели я попрошу?
- Ты?! За моих врагов?
- И все-то он знает! - усмехнулась Пимовна. - Успокойся, колдун, когда над семьей этого мальчугана нависло проклятье, твоих деда с бабкой еще и в помине не было. Старинный это замок. Так просто не отомкнуть.
- Вдвоем надо, - сказал Фрол и разлил по стаканам остатки спиртного.
- Если согласен, я помогу.
- Ты?! - засмеялся колдун. Неужто могёшь?!
Бабушка Катя неспешно вышла из-за стола, сверкнула глазами и вдруг, с нежданной для меня грацией, сделала стремительный шаг. Тело ее изогнулось в каком-то шаманском танце. Левая рука потянулась вперед и вверх, а правая пошла полукругом.
- Оболокусь я оболоком, опояшусь белой зарей...
Я вжал голову в плечи и зажмурил глаза.
Слова распадались на слоги, сталкивались, падали на пол и снова взлетали. Воздух в маленькой комнате наэлектризовывался и еле слышно звенел. Вдобавок ко всему, где-то на горизонте недовольно зарокотал не вовремя разбуженный гром.
Глава 18. Слово
Я думал, уже началось. Но это был только лишь мастер-класс. Колдун тоже поднялся и осторожно поймал Пимовну за руку:
- А вот, дождя нам сегодня не надо. Пущай стороной пройдет!
Да и не время сейчас. В полуночь нехай ведьмы ведьмують, а мы с тобой, Катя, на утренней зореньке слово свое скажем.
Впервые в своей жизни, я ночевал на полатях, под лоскутным стеганым одеялом, за ситцевой занавеской. Жаль только, вспомнить нечего. Коснулся затылком подушки - и поплыл. Сам удивляюсь, как это, ночью, я трижды спускался оттуда на автопилоте, чтобы предать земле остатки компота. Если б не каганец, горевший на кухне, не лампада в красном углу, точно бы навернулся.
Взрослые не ложились совсем. Их несмолкаемый говор не будил, а баюкал, чистым слогом гулял под сводами комнат. Когда я, стуча пятками, шествовал мимо них и нырял в хозяйские чёботы, даже не переходили на шепот.
Новый день начался со слов "Вставай, Сашка, пора!" Я даже не разобрал, кто их произнес, то ли моя бабушка, то ли кто-то еще. Все напрочь заспал. За окнами было темно. Но уже, предвещая зарю, орали станичные петухи.
- Одёжа твоя в той комнате, на стуле висить, - подсказал Фрол, освещая "большую" комнату керосиновой лампой. - Учись, Сашка, с курями вставать. Все за день успеешь, ничего не оставишь на завтра. Что, не проснешься никак? Иди, оправься, да умойся росой. - И уже за моей спиной, - Катя, ты иде?
Утренняя роса обильная, крупная. Не только умылся - принял холодный душ. Пока добежал до хаты, чуть не продрог.
- Как за калитку выйдем, - глухим отстраненным голосом, проговорил колдун, вытирая мое лицо вышитым рушником, - чтоб ни единого слова я от тебя не слышал.
- Молчи, и думай только о матери, - продолжила инструктаж бабушка Катя. - Пойдешь следом за Фролом, с иконой в руках. Держать ее надо вот так, образом к сердцу. Под ноги смотри! Упаси господь, упадешь, споткнешься, порежешься, или ногу уколешь, все прахом пойдет.
Я сразу смекнул, что придется идти босиком.
- Типун тебе на язык, - беззлобно сказал колдун. - Ну, с богом! Присядем перед дорожкой...
- Ом-м-м...
Я вздрогнул. Этот долгий горловый звук донесся непонятно откуда.
- На ясной заре, на яром восходе, на перекрой-месяце, сойдутся двенадцать колен моего рода во кутном углу под Велесовым стожаром, - хрипло промолвил Фрол. - И пойду я, ваш меньший брат, - продолжил он, поднимаясь, - по разрыв-траве, по крови своей, из сеней в сенцы, из врат в ворота со словом сильным, да отговорным.
- Ом-м-м! - прокатилось под сводами комнат, наполняя мою душу неистовым торжеством.
- И дойду до заветной страны до родимой избы, до своего порога, с хлебом-солью да родовым заклятием, - сказал он уже на крыльце.
- Ом-м-м! - загудело под самым моим ухом.
Фрол запер входную дверь на висячий замок, вытащил ключ и, не глядя, бросил его далеко за спину.
Затухающий месяц все еще расцвечивал траву серебром. Там, где ступал колдун, на ней оставался растянутый черный след. Стараясь не отставать, я невольно ускорил шаг. Почувствовав это спиной, ведущий замедлился, и наша процессия обрела, наконец, гармонию и соборность.
Вспомнив наказы бабушки Кати, я старался думать о мамке, но получалось плохо: ни одного ясного образа из раннего детства. А ведь я ее помню с той давней поры, когда меня еще пеленали и носили по комнате на руках, а мой немощный разум оперировал не словами, не образами, а всего лишь, двумя полярными чувствами: беспомощность, когда ее нет, и душевное равновесие, когда она рядом. Еще даже не человек, а маленький сгусток любви к этому источнику света.
Но память опять и опять, возвращалась ко дню ее смерти.
- Сыночка, - говорила мне мамка, расклинившись на пороге своей комнаты, - чистое полотенце!
В расфокусированном безумием взгляде, как всегда, сырость. Стоять выпрямившись, она уже не могла. Сказывалось побочное действие психиатрической фармакологии - закрепощение мышц. Ведь она эти лекарства употребляла горстями. Ежедневно, три раза в сутки, двадцать шесть с половиной лет.
- Я тебя очень, очень прошу: не забудь чистое полотенце!
Было без пятнадцати восемь. Я опаздывал на работу и очень спешил. Поэтому, не разувшись, прошел в коридорчик, временно ставший моей спальней, принес сразу четыре штуки, и положил на кровать.
- Не забудь! Чистое полотенце...
Тринадцатое число. Тринадцатый год. А я ведь тогда не понял, что это были слова прощания. Интуиция тоже молчала.
Уходя, запер входную дверь. Не потому, что опасаюсь воров. Просто последний побег мамка совершила всего неделю назад.
Проснулся ночью, а ее нет. Вышел на улицу - стоит, опираясь руками на угол металлической секции, которую я, умыкнул со склада и намеревался использовать в качестве летнего душа. Поздняя осень, ветер, а она в тонкой ночнушке и тапках на босу ногу. И как только не заболела? Проснулся, наверное, вовремя.
Уже у калитки, что-то меня заставило обернуться. Как будто бы в спину ударило. Мамка стояла у пластикового окна и улыбалась. Наверно, опять какую-то шкоду задумала.
В последнее время меня бесила эта улыбка. Сыновья любовь тоже устала, и куда-то запропастилась. Осталась одна жалость. То ли к ней, то ли к себе?
И с чего бы такая мобильность? - запоздало подумал я, перед тем, как миновать проходную. - Поход от двери до кровати у мамки всегда занимал не менее четверти часа. А тут раз - и она у окна!
С утра поработалось, как обычно, в охотку. Но где-то часам к десяти, я начал испытывать смутное беспокойство. Почему-то вдруг показалось, что мамка сегодня обязательно что-нибудь учудит. Томимый дурными предчувствиями, я запер склад на замок и, в кои-то веки, заглянул в кабинет своего непосредственного начальника.
Анатольевич сидел за столом, и тупо играл в "косынку".
- Что-нибудь надо? - лениво спросил он, отворачивая к стене экран монитора.
- Пойду-ка я, барин, домой.
- Ты, часом, не охренел? - беззлобно возбух "участковый", - на часах половина одиннадцатого! Зачем тебе? Что-то случилось?
- Пока ничего. Просто врач диетолог сказал, что в двенадцать часов я должен успеть пообедать, выпить две чашки кофе и часик вздремнуть.
Старший мастер надел очки:
- Ты знаешь? Мне пофиг, что там тебе вещает врач диетолог.
- Ну, вы как сговорились! - Я выложил перед ним тяжелую связку ключей. - Он точно так же сказал: "Мне пофиг, что там тебе вещает старший мастер участка".
Алексей Анатольевич хрюкнул и тоненько захихикал.
- Ладно, иди. До утра свободен. Возьми с собой кисточку и баночку с черной краской. Если кто-нибудь спросит, скажи что на линию, от ТП-37 опоры нумеровать.
Я всегда торопился домой, если не успевал приготовить обед с вечера. Но тогда просквозил мимо магазина, хотя точно знал, что хлеба в доме ни крошки. А от железнодорожной насыпи и вовсе бежал.
Мамка лежала на покрывале, запрокинув седую голову. В широко раскрытых глазах погас внутренний свет. На изможденном лице застыла печать безумия и пережитого ужаса. Надеясь на чудо, я несколько раз окликнул ее. Потом присел на кровать, закрыл родные глаза и поплелся в депо. Там был телефон с выходом в город.
Бывший следак меня почему-то не опознал:
- Прекратите прикалываться! Что я, не знаю голос родного брата?!
Только с третьего раза он наконец-то поверил.
Вернувшись домой, я долго смотрел в зеркало, надеясь поймать мамкино отражение, чтобы в последний раз признаться в любви и сказать, как трудно мне будет без нее жить. Слез не было. Вместо меня заплакало небо.
Нет иного исхода.
Даже слово рождается в муке.
Даже вечной Надежде
Не вырвать у смерти ничью.
Из могильного холода
Протяни материнские руки
И погладь, как и прежде,
Непокорный, седеющий чуб.
Время больше не лечит.
В зеркалах отраженье забыто.
Сокрушенно вздымает
Ветви черные грецкий орех.
И живет человечество,
Наполняя события бытом,
Не всегда понимая,
Что жизнь без любви - это грех.
За калиткой, Фрол повернул направо и медленно зашагал вдоль внешней своей ограды к ближайшей посадке, смутно темневшей за дальней межой огородов.
Наверное, здесь когда-то было подворье, стояла чья-нибудь хата. А где, и не угадать. Все заросло крапивой и колючим кустарником. Сад со временем захирел. Только могучая груша возвышалась над бросовыми деревьями, как изодранный в клочья парус, потерпевшей бедствие, баркентины.
Там где мы шли, тропинка была натоптана. Наверно по ней, колдун часто ходил. Я видел сутулую спину, мерно взлетающий посох из ствола конопли в полтора его роста, а память непрошено возвращалась к самому черному дню моей непутевой жизни.
За посадкой зарастала бурьяном, бывшая станичная площадь. Небо на горизонте постепенно стало сереть. Из неясного темного фона, все явственней стали проступать развалины Богородицкой церкви - две стены с осыпающимися во все стороны боковинами. Фрол и действительно, шел по своей крови.
Тропинка все больше петляла. Под босыми ступнями стали прощупываться осколки битого кирпича, а слева и справа, за кустами терновника, угадывались части колонн и куски перекрытий разбитого храма.
За низким пригорком, раздвинувшим горизонт, стены стали казаться выше. Открылся неширокий арочный вход и два, точно таких же по форме, окна, забранные ажурной решеткой. Местами
кирпич раскрошился, а в самом верху, и вовсе казался неопрятной рыжей щетиной.
Здесь наша процессия остановилась. Бабушка Катя поставила рядом со мной хозяйственную сумку, и вышла вперед с караваем станичного хлеба и хрустальной солонкой на расшитом огнивцом рушнике. Перед тем как пройти в притвор, старики сотворили синхронный, земной поклон.
- Ом-м-м, - зазвучало внутри, под светлеющими небесными сводами.
От намоленных стен в испуге отпрянула, приткнувшаяся здесь на ночлег, стая ворон. Хлопая крыльями, устремилась в сторону кладбища. Боясь пропустить что-нибудь важное, я тоже, как умел, поклонился. Потом подхватил тяжелую сумку и, с замирающим сердцем, пересек рубикон.
Внутри было чисто. Ни нанесенной ветром прошлогодней листвы, ни бумажек, ни надписей на облупившейся штукатурке. Только битый кирпич. Кое-где под ногами пробивался барвинок, а поверху южной стены, раскинув зеленые ветки косым крестом,
росло одинокое деревце. Там, где когда-то располагался иконостас, на земле была выложена стопочка кирпичей, утыканная огарками восковых свечек. Наверное, люди до сих пор, приходили сюда с молитвой. Храмы не умирают, их душа не возносится к небу, пока человечество нуждается в покаянии.
Что мне надлежит делать дальше, в инструкции ничего не было сказано. Избавившись от тяжелой сумки, я в раздумье затоптался на месте. И ведь не спросишь! Взрослым было не до меня. Бормоча под нос заговор или молитву, Пимовна убирала с народного алтаря верхний ряд кирпичей и раскладывала их у стены. Фрол тоже был неприступен. Его единственный глаз не отрываясь, смотрел в точку на горизонте, куда, забыв о величии, спешило на зов, божественное Ярило. Искусанные в кровь губы, шевелились в поисках Слова.
- От оморока... черный морок, - с трудом разобрал я и тоже взглянул на светлеющую полоску рассвета. Она была уже цвета мамкиных глаз.
Время остановилось. Даже не помню когда бабушка Катя забрала у меня икону.
Картинка была настолько реальной, что я вновь ощутил себя несмышленышем. Под красным матерчатым абажуром тускло мерцал волосок электрической лампочки. Хрипело радио.
- Когда иду я Подмосковьем, где пахнет мятою трава, - выводил дребезжащий голос.
Ну, еще потолок. Невысохший, со свежей побелкой. А больше ничего не было видно. Потому, что я лежал на столе в коричневом цигейковом комбинезоне, напоминавшем медвежью шкуру. Он был расстегнут. Мамка надевала мне на ноги толстые шерстяные носки и валенки без калош. Значит, понесет на руках.
В окна колотились снежинки. С наветренной стороны они ощетинились инеем. За приоткрытой форточкой, грузно ворочалась с боку на бок авоська с продуктами.
- Россия шепчет мне с любовью, мои заветные слова...
Мамка сердилась. Или спешила, или что-то у нее не совсем получалось. А я лениво ворочался с боку на бок и представлял себе огромную арку с колоннами, окрашенными в бледно-розовый цвет. Над ней - крупные буквы крутым полукругом, как на нашем городском стадионе, только с надписью "Подмосковье". Чуть дальше - трава. Высокая, темно-зеленая, как на Алтае. И этот вот дядька, с голосищем на всю комнату. Он ходит по бескрайнему зеленому морю, и топчет его ножищами. В этой песне никогда не бывает зимы. Окоем напоен вечным запахом лета. Безоблачная синева...
Когда я очнулся, алтарь был застелен Фроловым рушником. На стене висела икона. Под ней, у стены, лежал каравай белого хлеба, а ближе к нам - круглая чаша с водой. В этой воде, погрузившись в нее на треть, плавало большое яйцо с коричневой скорлупой, из-под черной хозяйской курицы. Удивительно не то, что оно плавало. На нем еще и горела восковая свеча. Как мачта на яхте, у которой спущены все паруса. Захочешь, вот так, по центру, не выставишь.
Не сказать, чтобы эта свеча так уж сильно горела. Она чадила, трещала, плевалась искрами перед тем, как погаснуть в очередной раз. Яйцо в таких случаях, заметно раскачивалось и дрейфовало к противоположному борту. Тогда бабушка Катя прерывала свой монолог, брала в руки очередную свечу из двенадцати, горящих по кругу, и от ее пламени, опять зажигала ослушницу.
- Борони правду от кривды, как явь от нави и день от ночи, на слове злом, оговорном...
Она успевала произнести не более одного предложения. Чадное пламя снова давилось искрами.
Не знаю, все, или не все Пимовна успела сказать, и долго ли это все продолжалось, но полыхнул рассвет. Через косой разлом в кирпичной стене, в храм заглянуло солнце.
- Небо ключ, а земля - замок, - громко сказал Фрол. - Мое слово - небесный крест. Всё под ним!
- Ом-м-м!!!
Как звон вечевого колокола, этот звук прокатился над еще не проснувшимся миром. Пламя окаянной свечи всколыхнулось, затрепетало, стало гореть ровно и жадно. Оплавившийся воск, прозрачными каплями стекал на яйцо. Только оно почему-то не перевернулось, а отвесно ушло под воду. Как крейсер "Варяг". Не спуская горящего флага...
На обратном пути я нес уже не икону, а хрустальную чашу с водой, темным яйцом и огарком свечи. Нес осторожно, стараясь не расплескать, чтобы черное слово не пустило кривые корни в этой благословенной земле, политой кровью, слезами и потом тех, кто трудился на ней. Помимо того, это было еще и мамкино будущее в этой сумасшедшей реальности. Пусть оно будет другим.
Все молчали. Фрол заметно сутулился, тяжело опираясь на посох. Бабушка Катя несколько раз ставила наземь сумку, чтобы сменить руку. Я тоже ушел в себя. Так оно потрясло, это двойное проникновение в детство, что ни о чем другом я думать не мог. Все было настолько реально, что я ощущал затылком давящую тяжесть стола, вдыхал аромат мамкиных рук, и вновь испытал забытое чувство первозданной любви.
Настоящее волшебство. По сравнению с ним, даже фокус со свечой и черным яйцом, казался теперь обычной ловкостью рук. Пусть ненадолго, пусть не в таком масштабе, но колдун совершил то, что случилось со мной во время похода за пенсией. Он отбросил меня лет на десять с лишним назад, на Камчатку. В дом на улице Океанской, который умрет на моих глазах, во время землетрясения.
Что это вообще было? И было ли это со мной, или только с моим разумом? Знает ли Фрол силу своего слова? Если да, почему до сих пор не понял, что я человек из будущего? А может, давно понял, и это был тонкий намек?
Мою колдовскую ношу, мы закопали в посадке, под корнями засохшего дерева. В конце хозяйского огорода нашелся старинный заступ - лопата с квадратным штыком и ручкой из ветки акации, отполированной мозолистыми руками. Фрол вырыл глубокую яму, вылил на дно воду, яйцо и остаток свечи накрыл хрустальною чашей и закопал.
Надо же, кугут кугутом, холодильник на зиму отключает, а не пожалел. Дело даже не в том, что стоит такая вещь, как минимум, четвертак. Попробуй ее купи! Это большой дефицит даже в сельпо.
Потом, собственно, и наступило настоящее утро. Солнце еще не набрало силу, не обозначило крест, а станица проснулась. По улице шел пастух, собирая коров в разношерстное стадо. Гремели засовы, стучали калитки, хлопали ставни.
Чтоб не отсвечивать, не оставлять повода для пересудов, мы вернулись за своей обувью партизанской тропой, через прелаз. Пес Кабыздох встретил нас у порога, с ключом от замка под лохматыми передними лапами. Было ли это элементом станичного ведовства, выучкой, или просто собачьей сообразительностью, я об этом уже не думал. Потому, что устал удивляться.
На прощание, Фрол повязал на мое запястье три разноцветные нитки, сплетенные между собой и завязанные хитрым узлом.
- До вечера, - сказал, - не снимай. А когда мамка приедет, повяжи эту штуку на ее левую руку, или спрячь под подушку, в наволочку. Тебе, Катя, сделать такую, или сама?
- Давай лучше ты...
Бабка Глафира встретила нас яичницей с салом. А Васька еще спал. Даже когда мы выехали за ворота, он не проснулся. Тоже мне, друг называется! Натуральный Звездюшкин.
- Одно дело сделали. Поехали теперь за клубникой, - сказала бабушка Катя. - Не хочу ничего покупать у Глашки. Да и денег она не возьмет. В Вознесенке клубника тоже выросла на крови, но там я хоть, мало кого знаю.
Отдохнувшие кони, ходко понесли нашу бричку по пыльной грунтовке, вдоль зарастающих осокой прудов, в сторону соседней станицы. Она начиналась сразу за ближайшим холмом. Возница вполголоса напевала вчерашнюю песню про гарного коняку. .
- А те люди, которых колдун проклял, с ними что-то потом случилось? - спросил я, когда она замолчала. - Не просто же так, его все боятся?
- Ты это про Фролку? Да какой из него колдун! Просто слово его и на самом деле от бога. Он его душой ведает. Такого обидеть, все одно, что церкву разрушить. Вот и держит его господь при себе. А люди боятся потому, что привыкли не человека видеть, а личину его. В душу-то лень заглянуть. А что с лиходеями теми стало потом, этого я не видела, брехать не хочу. Пришлые - они ведь, как листва на ветру, не уследишь. Сегодня сюда занесло, завтра туда. Много чего люди болтают. Проскурня, верховода ихний, тот лет через пять повесился, это я точно знаю. Из гарнизонных солдат, что девок станичных пользовали, вообще, мало кто уцелел. Тиф покосил. Послали их в поле, эшелон с казаками, что возвращались домой, с германского фронта, из пушек расстреливать, там среди них, эпидемия и случилась.
И все? - подумалось мне, - слабовато для колдуна! То, что поведала Пимовна, честное слово, не произвело впечатления. Я чаял услышать леденящие кровь ужасы, а не рутинную прозу жизни. Тиф - одна из примет любого смутного времени. Причин, по которым мужик может намылить петлю, если копнуть поглубже, найдется великое множество. А мне хотелось гарантий. Знать точно, наверняка, что слово станичного колдуна найдет нужного адресата и сотворит чудо.
Пока я раздумывал, как сформулировать последний вопрос, бабушка Катя сама ответила на него:
- Ты, главное, верь. Вера - это единственное, что нам с тобой остается. Слово сказано, а время покажет, чья правда сильней.
Клубнику в Вознесенке открыто не продавали. Едешь по улице, а через двор, через два скамейка возле калитки застелена белой тряпочкой. На ней миска с крупными ягодами. Подходи, пробуй. Если понравилось, можешь и постучать. Мы заглянули в четыре таких двора, набрали свою норму. В местном сельпо бабушка Катя купила хлеб и штыковую лопату.
- Надо было у Глашки позычить, - сетовала она. - Я то, старая дура, забыла совсем про свою березку. Надо вертаться. Поехали в столовку, немножко подтормозим, а потом напрямки, через Северный. Это их выпаса.
Общепит на селе, во все времена, рассчитан исключительно на приезжих. Был ли он рентабелен или нет, это второй вопрос. Как
справный казак гордится своим строевым конем, так и колхозы миллионеры возводили Дома культуры и общественные столовые соседям на зависть. Председатели победнее, тоже старались не отставать. Ведь центральная усадьба станицы - это их визитная карточка.
В Вознесенке все было, как в большом городе: общепитовские столы, пластмассовые подносы, посуда из нержавейки, граненые стаканы, алюминиевые ложки и вилки. Только порции накладывали от души, да не нашлось повара, который не умеет вкусно готовить. Я еле осилил все, что выбрала для меня Пимовна: стакан сметаны, салат оливье с зеленым горошком, борщ со свининой и гуляш с гречкой. Крепко подтормозили. На семьдесят шесть копеек. Только кони не успели поесть. Им в начале пути не положено.
Бабушка Катя знала окрестные поля, проселки и объездные дороги не хуже иного агронома. Когда я ей об этом сказал, она засмеялась.
- Жизнь, Сашка, заставила. Расказачили нашу Кубань, и стали люди ходить пешком. По осени, как хлеб с полей уберут, нанимает общество конную бричку - и с ночлегом на Краснодар, до сенного рынка. Товар лошадь везет, а продавцы на своих двоих. Расстояния тогда были другими. Это сейчас, по карте, до Армавира шестьдесят километров. А мы ходили не по дорогам, а по полям. Встанешь в пять утра - через три с половиной часа, уже там. Да и после войны не было транспорта, доступней своих ног. В 1947 году, на весь наш район, было у населения всего пять велосипедов. Их на праздничной демонстрации впереди колонны вели...
- До революции лучше было?
- Ну, это кому как. Беднело казачество и при царе. Каждая шестая семья снаряжала сына на службу за общественный счет. Но бричку с лошадкой всегда можно было у соседа позычить. Со своих денег не брали. Наша семья, насколько я помню, ничего лишнего позволить себе не могла. Отца ведь, атаманом назначили после того, как он потерял руку. А начинал простым казаком. Конь с амуницией, оружие, справа - все за свой счет.
Летнее солнце набирало лютую силу. Земля, как большая микроволновая печь, поддувала жару снизу. Только дорожная пыль, мягким ковром, лежащая на обочинах, остужала босые ступни мягкой прохладой. Там, где дорога врезывалась в горизонт, две колеи плавно переходили в одну.
По-моему, общепитовский борщ был пересолен. Остатки воды из заветного родника, мы выпили за какой-нибудь час. Организм требовал еще.
- Потерпи, Сашка, с полчасика, - заметив, как я мучаюсь, сказала бабушка Катя. - На хуторе флягу наполним. Есть там один хороший колодец. Вода из него вымывает камни из почек. Запомни на будущее. Когда-нибудь пригодится. На Северном, кстати, того Проскурню и зарыли после того, как повесился.
Я встрепенулся:
- Неужели совесть заела?
- Совесть? Да откуда у него совесть?! Болел он. Так, крепко болел, что орал по ночам. Когда крест с церкви снимали, он внизу суетился, командовал: с какой стороны веревку набросить, да как лучше петлю затянуть. И докомандовался. То ли камушек мелкий, то ли кусок штукатурки сверху упал, да ударил его по горбу. Не сильно ударил, сначала и не почувствовал. Домой пришел на своих ногах, а утром уже не встал. Ох, Василенчиха с ним и намучилась! Возила по бабкам знахаркам, потом в Краснодар. А что сделает человек, если господь распорядился иначе? Да и хороших врачей к тому времени не осталось. Тех, у кого были деньги, расказачили в первую очередь, сразу после прокурорских и судей...
- Ну, бабушка Катя! - не выдержал я. - Вас послушать, так советскую власть на Кубани делали бандиты и уголовники!
- А то нет?! - Пимовна подбоченилась, отложила в сторону кнут. - Скажи мне тогда, почему во всем Краснодарском крае, нет ни одного памятника местным революционерам, а? Почему даже улицы их именами не называют? Не знаешь? А я тебе так скажу: потому, что не было среди них ни одного нормального человека. Вдоль да поперек, пьяницы, воры и беглые катаржане. Что им ни бесчинствовать, когда казаки на фронте, а в станицах остались одни старики, инвалиды, да тетки с детьми? Думаешь, Проскурня один такой, главный злодей? Находились и похлеще его. В Армавире, к примеру, был заводилой латыш Вилистер. Под его руководством расказачили дом Персидского консульского агентства. Всех, кто там был, около трехсот человек, расстреляли из пулеметов, а потом закопали на скотобойне. С одной только жены консула Иббадулы-Бека, сняли золотых украшений на двести тысяч рублей. А местный наш, Рындин? Зачислился рядовым в станичный гарнизон, буянил, пьянствовал, разлагал дисциплину. Восстанавливал иногородних против казачества. Призывал вырезать всех "от седой бороды и до люльки". А потом, под охраной гарнизонных солдат, отправился на вокзал, ограбил там железнодорожную кассу на четыре тысячи с лишком - и Митькой его звать. А что? Деньги в кармане. И нах... ему теперь та революция вместе с советской властью? Ой, прости господи! - спохватилась Екатерина Пимовна, выпалив, сгоряча, лишнее слово. - Что это я, старая дура? Нашла, с кем спорить! Все, Сашка, забудь. Не было ничего. Все у нас с революцией хорошо, и Гайдар шагает впереди.
- Зачем вы так? - обиделся я. - У каждого правда своя, а время вспять не повернешь. Государство ломается по человеческим судьбам. Не нужно быть взрослым, чтобы это понять. Если бы ваш отец знал наперед, какую страну мы в итоге построим, возможно, и он принял бы советскую власть.
- Нет, не дожил бы он. В любом случае, не дожил. Время такое выпало, что оно бы его точно перемололо. Ты только не думай, что отец был против советской власти. Не было тогда никакой власти. У кого ружье, тот и царь. Мы с мамкой, и то чудом выжили. После смерти отца, увезла она меня в Каладжу, к тетке Полине...
- Казнили его, или погиб? - уточнил я, уже понимая, что в то время погибнуть в бою - не самый плохой исход.
- Слава богу, в бою, - вздохнула бабушка Катя. - Не вышло у казаков собраться в единый кулак. В час ночи, двумя небольшими отрядами атаковали семитысячный гарнизон станицы Лабинской. Расстреляли почти все патроны, отбили орудийную батарею, но вывезти ее не смогли. Местные с подводами вовремя не подоспели. Ближе к утру, солдаты пришли в себя, наладили оборону. С крыш двухэтажных зданий ударили из пулеметов. Пришлось отступить. Папка погиб, прикрывая отход.
- А что за солдаты? - не понял я. - Зачем в казачьем краю какие-то гарнизоны?
- У-у, Сашка! - возница взглянула на меня уничижительным
взглядом. - Да ты, я смотрю, совсем историю не учил! Казаки, как иррегулярные части, были приданы артиллерии. По всем крупным станицам у нас гарнизоны стояли, как, вроде, сейчас учебные части.
На чьей стороне они, у того сила. Большевики это первыми поняли, одного за другим, засылали туда своих агитаторов с декретами из Москвы. "Штык в землю, земля крестьянам, власть народу!" Кто против, того к стенке. Атаман и станичная администрация смотрели сквозь пальцы, как солдаты своих офицеров уничтожают. Закрытый гарнизон, не их компетенция. Куда с саблями против пушек? Ну и, кроме того, офицеры армейцы чурались казачьего рода-племени. Даже на равных по званию, посматривали свысока. Считали их голытьбой, неграмотным быдлом, на которое незаслуженно надели погоны и приравняли к дворянству. В общем, не заступились. А уж когда зазвучало "долой царских сатрапов!", было уже поздно. Окружат станицу триста солдат, дадут предупредительный залп из пушек, звоном колоколов, сгонят людей на сход и, митинговым порядком, назначают ревком...
Историю я учил. Не плавал в датах, читал дополнительную литературу, и носил в дневнике заслуженную пятерку. Вот только,
не было в наших учебниках ничего о революции на юге России. Периферия. Малозначимый эпизод. Как в анекдоте: "Посмотрел я, Петька, на глобус... сколько там той Кубани?"
До истины никогда не докапывался, да и цели такой перед собой не ставил. Мои старики эту тему старательно обходили. Взрослая жизнь не оставляла времени для таких мелочей. Встречались на пути и заброшенные станицы, и обезлюдевшие деревни. А куда подевались те, кто там проживал раньше? Я об этом почему-то не думал, условно считая, что все переехали в город.
Всплывали иногда интересные факты, по которым можно было судить, что народы ломали через колено, но и они воспринимались как нелепица, как курьез. Я, например, долго смеялся, когда узнал, что после гражданской войны, в столице Адыгеи Майкопе, была проведена демонстрация под лозунгом "Долой стыд". Мужчины и женщины, мусульмане и бывшие христиане, шли по улицам города нагишом. Это как же нужно было народу засрать мозги?! До такого маразма не додумались даже наши отцы перестройки.
Из монологов бабушки Кати, я подчерпнул много больше, чем за всю прошлую жизнь. Почему она так разоткровенничалась с двенадцатилетним мальчишкой? Многое, наверно, вспомнилось, да нахлынуло, а другого слушателя не нашлось. Кроме того, и я и она, были теперь связаны общим таинством и жестким табу: о том, что случилось минувшей ночью, нужно забыть. Собирали клубнику - и все! "С отговорным словом не шутють"...
- Ты думаешь, отстоялась советская власть, схлынули проходимцы, пришли настоящие коммунисты и люди зажили хорошо? - говорила она. - Да фигу с дрыгой! Насмотрелась я в Каладже. Отлютовал полковник Солодский, отомстил за казненных станичников, на смену ему - красный отряд Штыркина. Всех, кто замешкался, не успел убежать в горы, к ногтю! Только землица впитала в себя кровь человеческую, на горизонте Врангель.
Белые еще не пришли, а семьи иногородних, станичная голытьба, все, кто сочувствовал большевикам, сами пошли в отступ. Знали уже, чем это дело на Кубани кончается. Голод, зима, тиф, а они на своих двоих. Жить то хочется. Одни добрались до Астрахани, другие в песках полегли, третьи вернулись назад, перед смертью погреться. За этих уже, весной девятнацатого, отомстил Буденный. Герой он, конечно, герой, но вешал не хуже царя Николая. Первая Конная, кстати, в наших краях формировалась... тпру, проклятущие!
Пимовна так увлеклась, что проехала поворот с облупившимся указателем. Супруги, храпя, приседали, норовили подняться на дыбки, но, ведомые твердой рукой, осадили назад и затопали вдоль посадки, раздвигая копытами пыльную, густую траву. Луговой мятлик, ползучий и горный клевер, пырей, лисохвост, плотным ковром легли на дорогу. Колея еле угадывалась. Здесь мало кто ездит.
- В наших краях, говорю, Первая Конная формировалась. Там, где сейчас болгары завод сахарный строят,- немного повышенным тоном, сказала бабушка Катя, как будто бы я ее в прошлый раз не расслышал и попросил повторить. - Я этого Семена Буденного часто потом видела в Каладже. От кобелюка! Жинка в обозе, а он все налево смотрел. Смелый чертяка! Один приезжал, без экскорта. Спешится, и к хате наспроть. По Каритчихе нашей, прям таки сох. Цветы привозил, конхветы. Ей тогда только-только шестнадцать исполнилось. Высокая девка, видная. Отшила она его...
- Это вы про бабушку Машу? - уточнил я, имея в виду нашу соседку, мать Толика Корытько.
- А то ж про кого? Оттуда она, с тех краев, из казачьего рода Квашиных-Кононенко. Аукнулся ей на всю жисть той Буденный, хоть и не было у нее с ним ничего. Мужик до сих пор попрекает, девятерых детей настрогал, а в двадцатом годе, когда о белых уже и думать забыли, награнул на Каладжу партизанский отряд генерала Хвостина. Тот вообще приказал, было, выпороть Машку прилюдно, но глянул на нее и отпустил.
- Лютовал?
- Хвостин то? Для кого-то, может, и лютовал, а по мне, так воздавал по заслугам...
Несмотря на обидчивость и ранимость, бабушка Катя была женщиной с тонким, глубинным юмором. Многие ее перлы, такие как, "что жил, что под тыном высрался", "с одной жопой на три торга не поспеешь", запомнились мне на всю жизнь. Рассказывала она ярко и красочно, так, что не передать.
По ее словам, "комиссарили" в Каладже два проходимца - Клименко и Шуткин. Первый запомнился тем, что заочно развелся с законной женой в станичном "народном суде", назначенном им же, специально для этой цели. А потом, под угрозой расстрела, заставил местного батюшку соединить его церковными узами с иногородней девицей. Другой до революции босяковал, частенько валялся пьяным по кушерям да навозным кучам. Возглавив Ревком, стал завоевывать авторитет. Обзавелся роговыми очками, снятыми с казненного им, казака. Пил редко, исключительно перед тем, как привести приговор в исполнение. От первого стакана дурел, терял человеческий облик. Того же Николу Кретова, связанного по рукам и ногам, тащил за телегой волоком, от края до края станицы, и орал, погоняя коней: "Сторонись, голытьба, казак скачет! Дай казаку дорогу!"
Поддержваших восстание казаков, в количестве тридцати человек, казнили за станичной околицей, у края оврага. Выводили поодиночке. Командовали: "Раздевайся, разувайся, нагнись!", и двумя-тремя ударами шашки, рубили склоненные головы. Трупы присыпали навозом. Только Николу Кретова убили в центре станицы, у церковной ограды. Были к нему у комиссара Шуткина давнишние счеты. Он лично разжал ему зубы кончиком шашки, просунул ее в горло, и сказал, ворочая ею из стороны в сторону: "Вот тебе, сука, казачество!"
Отплатили ему той же монетой. По приказанию Хвостина, две недели его содержали в подвале правления. Истязали нагайками, шомполами. Отрубили все пальцы на правой руке, отрезали уши и нос. В таком неузнаваемом виде, Шуткина провели по станице на длинной веревке, а потом расстреляли.
Всем остальным ревкомовцам, просто срубили головы. Не в два-три удара, а играючи, с полузамаха. Как справедливо заметила Пимовна, "если б нашего Фролку казнил не солдат, а казак, он бы не выжил".
Такие вот, страсти. А мы пацанами рубились в "красных и белых", даже не понимая всей подоплеки этой игры.
Северный - самый крайний в "Союзе шестнадцати хуторов", разбросанных вдоль границы Кавказских гор. Вместе с собратьями он укрупнялся, разукрупнялся, обретал новое имя, переходил из района в район, но закрепился в народной памяти под таким общим названием. С 1959-го года здесь запретили постройку жилых домов, с постепенным переселением хуторян на территорию центральной усадьбы.
Обживали эти места государственные крестьяне из-под Харькова и Воронежа. Махнули не глядя, свое крепостное прошлое на вольный статус линейного казака. Жили большими семьями. Одна фамилия - один хутор. Шесть с половиной тысяч гектаров на всех. Было и здесь кого расказачивать.
Колодец с дырявым ведром, накрепко прикованным к ржавой цепи, венчал хуторскую окраину. Тропинка к нему зарастала не первый год. Если он и пользовался популярностью, то, разве что, у проезжих.
Вода в нем казалась безвкусной и слишком уж, теплой. Что пьешь, что дышишь. Приталенный временем ворот, сделанный из цельной дубовой колоды, не скрипел, а как будто бы вскрикивал.
Пили долго. Как будто в последний раз. Пимовна снова повеселела, опять замурлыкала свою бесконечную песню, где первый куплет начинался сразу же после последнего.
- Кто такой волоцюга? - спросил я, когда она прервалась, чтобы хлебнуть водички.
- Тот, кто волочится, бегает за хозяином как собачка. Это, Сашка, песня про молодого, еще необъезженного коня. Кто-то ее написал от великой радости. Жеребенок - это не только прибыток в кубанской семье, обретение верного друга и боевого товарища.
Когда конь и казак сызмальства вместе, они как иголка с ниткой.
Им на войне уцелеть проще. Помолчи, не мешай... ой того-то я коняку поважати буду...
Теперь она пела во весь голос. Бережно лелеяла каждое слово. Со слезой, с душевным надрывом. Я глядел на ее анфас и с горечью вспоминал, с каким воодушевлением Пимовна восприняла закон о реабилитации репрессированных народов.
- Все, Сашка! Наше время вернулось, - торжествовала она, пряча за божницу свой ваучер. - Казачество возрождается! Завтра же еду е Ереминскую. Нехай отдають хату и мельницу!
Никто никуда, ествественно, не поехал. Деньги, что копились на книжке, водночасье превратились в копейки, а знакомый юрист, к которому бабушка Катя обратилась за помощью и советом, так прямо и сказал: "Можно, конечно, попробовать. Только вашему Лешке при должности уже не работать".
О казаках того времени вспоминать не хочется. Дня не минуло, как они поделились на красных и белых. До драки не доходило, но враждовали. Все вместе и каждый в отдельности, люто ненавидели Анатолия Долгополова, которого сами же выбрали сначала своим "батькой", а потом депутатом Государственной Думы. За недолгие месяцы существования районного казачьего общества, там до того успели смениться пять или шесть атаманов. Каждый из них считал, что если бы не интриги завистников, именно он выступал бы сейчас с трибуны здания на Охотном ряду, имел квартиру в Москве, и в составе многочисленных делегаций, выезжал за рубеж.
Как представитель прессы, я несколько раз бывал на казачьем кругу. Видел все изнутри. Сразу же после молитвы, начинались разборки "бывших". Они приходили на круг в окружении собственной свиты, сотрясали над головами свежим номером "Совершенно секретно" с материалом А. Боровика. Там говорилось о личной трусости, нечистого на руку командира 44-го отдельного батальона аэродромно-технического обслуживания подполковника Анатолия Долгополова, который весной 1992 года передал грузинским властям в городе Гудаута 6 БМП с полным боекомплектом, 6 пулемётов, 367 гранат Ф-1 и около 50 тысяч патронов.
По всему выходило, что по сравнению с проворовавшимся батькой, коммунист Пашуто именно тот человек, который достоин представлять казаков в высшем законодательном органе нашей страны. У него, де, еще со времен КПСС, есть давние личные связи с Николаем Егоровым - бывшим паторгом нашего Семсовхоза, а ныне, главой администрации президента Ельцина. Таким властным тандемом, земляки сделают все, чтобы местные казаки "панували", с утра до вечера поплевывали в потолок и пили от пуза на доходы от "Казачьего рынка".
О том, что упомянутый рынок появился у казаков стараниями депутата Госдумы, все почему-то умалчивали. На восьмидесяти гектарах земли, выбитых для общества тем же Долгополовым, тоже работать никто не хотел.
Буквально на несколько дней, записались в казачество и братья Григорьевы. В составе сурового патруля, прошлись пару раз по местам, где лица кавказской национальности торгуют жратвой. Одна папаха на всех, чтоб узнавали. Проверяли прописку. Домой приносили кое-какую добычу, обменивали на самогон. Потом что-то не поделили. Дело дошло до драки. Престарелая мать не стала обращаться в милицию. Позвонила в примемную атамана.
Приехавшие по вызову казаки не стали ломать голову: кто прав из братьев, а кто виноват. Обоим было выписано по десять плетей. Так махали нагайками, что вырвали из потолка электрическую лампочку вместе с двумя метрами провода...
- Ты вот, Сашка сказал, что страну мы построили, - прервала мои размышления бабушка Катя. - А знаешь, сколько строителей не досчиталась страна? В гражданскую было как: мало убить врага, нужно еще спалить его хату и разорить хозяйство. Кинулись потом: а инвентаря-то и нет! Коней с мужиками выбили на войне. Власть призывала к тракторизации. А на какие шиши тот трактор купить? "Запорожец" и "Карлик" продавали от полутора тысяч рублей. За "Большевик" просили все восемь. Были еще "Фордзоны", но я их ни разу не видела. Говорят, они за границей стоили по восемьсот шестьдесят долларов штука. Мать с теткой Полиной на коровах да на волах пахали. Они к тому времени вступили в товарищество по совместной обработке земли. Тут засуха, неурожай. С самой весны не выпало ни одного дождя. На Кубани еще хоть что-то собрали, а в Поволжье и центральной части России на корню сгорели посевы.
Самим нечего жрать, а люди на эшелоны - и к нам, за куском хлеба. Почти восемьдесят тысяч. Больше чем населения во всем нашем районе. Женщины, дети, куда их? Зерно для голодающих забирали не только у кулаков и середняков, но даже у коммунаров. Только не этим людям его раздавали - они уже на земле, сами себе найдут пропитание, а отправляли в Москву. В начале июня организовали субботник под лозунгом "Хлеб голодному центру". От хуторов и станиц, в Лабинскую потянулись 50 парнокопытных подвод. Мы с мамкой приехали на волах. А с нами солдат с ружьем, чтобы по дороге не обокрали ни мы, ни нас. Собрались у ревкома. Это там, где сейчас райотдел милиции. А оттуда уже, по ссыпным пунктам, и на железнодорожную станцию. Зерно в мешках. Как его украдешь? Хорошо хоть, потом покормили. В общем, Сашка, к новому урожаю, население Кубани и Черноморья сократилось на тридцать две тысячи человек. Приезжих никто не считал. Детей, правда, уберегли. Их принудительно распределяли по людям. Даже лозунг придумали: "Десять сытых кормят одного голодного". У нас говорили: "Своему не додай, а чужого обязательно накорми". Кто там был сытый?! Чтобы хватило на всех, мамка добавляла в муку и отруби, и опилки, и толченую грушу дичку. Ой, Сашка, что-то мне жрать захотелось. Ну его к бесам, заедем на той пригорок, еще раз подтормозим...
Над землей басовито гудели шмели. Припадали к головкам душистого клевера. Вершина холма сочилась насыщенной зеленью, как половинка яйца, покрашенного к Пасхе зеленкой. За тоненькой ниткой реки Грязнухи, раскачивались саженцы тополей, виднелась околица далекого хутора.
Мы с Пимовной ели станичный хлеб, запивая его теплой водой из колодца. Кони грызли пресные мундштуки, перебирали ногами, отбивались волосяными хвостами от приставучих оводов.
Под безмятежным небом лежала страна, где десять голодных, живущих по правде, всегда накормят одиннадцатого, у которого правда своя. Человек слаб, но всегда найдет оправдание своим слабостям. Это тоже одна из правд. Я как никто понимал и бабушку Катю, и атамана Пима. Теряя страну, они, как и я, теряли себя. Это нетрудно, принять новую власть. Но как это сделать, если новая власть не принимает тебя?
Ни облачка в окоеме, ни знака тревоги...
Глава 19. Все не так
Домой мы добрались к вечеру. Бабушка как будто бы ждала за калиткой. Выскочила, а в глазах слезы. И дед от порога:
- А вот и наш Сашка приехал!
Они всегда радовались моему появлению. Даже, когда я просто возвращался из школы. Если и есть на свете восьмое чувство, то это любовь. С уходом моих стариков, она умерла. Во всяком случае, я больше ее не видел.
Дед ушел помогать Екатерине Пимовне, управляться с телегой и лошадьми. Дождавшись его, Елена Акимовна тащит меня к столу:
- Проголодался, унучок?
- А то!
Сегодня на ужин фаршированный перец. И где они его только добыли в начале июня?
- Анька вчера из Натырбова привезла, - поясняет хозяйка, нарезая скибками хлеб, - из колхозной теплицы.
- Как она?
- Дык как? - бабушка застывает руками, удивленно глядит на меня. Такие вопросы я, на ее памяти, не задавал. - Анька как Анька, - она снова берется за нож. - Умотала с утра на первый ахтобус. Сон ей дурной приснился. Как будто она в церкве стоит, босиком и простоволосая, в ей ни единой иконы, а вместо купола звезды. Не случилось бы что.
- Тако-ое, - отзывается дед.
- Вот тебе и "такое", старый дурак! - ни с того ни с сего, вспыхивает Елена Акимовна. - Пашка сказала, что все не к добру. Разрушенный храм это к бедности, страданиям и болезни.
- Тю на тебя!
Я поперхнулся, закашлялся. Уж больно дурной сон бабушки Ани перекликался с событиями минувшего утра. Неужели дошло? Взрослые прекратили словесную пикировку и принялись в две руки, колотить меня ладонями по спине.
Некоторое время, все ели молча. Начинка постная: капуста, лук, помидоры и, собственно, сам перец. Подлива насыщенная, густая. Бабушка еще не привыкла, что я теперь ем все подряд. А может быть, просто захотела побаловать. Специально для меня, четыре перчины набиты рисом, сдобреным мясным фаршем. Ну, еще бы, добытчик! В закрытой веранде одуряющее пахнет клубникой. На мой маломощный пай, Пимовна выделила полный эмалированный тазик:
- Куда мне? С позапрошлого года варенье стоить. Лешка не жгрёть. Я свое шелковицей выберу. Вы ж все равно не гоните...
Отсыпала, правда, и нам с половину ведра. На завтрашний день бабушка уже запланировала вареники. Так что, с утра как проснусь, нужно будет идти за сахаром.
За чаем пошли расспросы: что ел, где спал, как себя вел?
- Да вот, подраться пришлось...
Рассказываю в подробностях про Ваську, про бабку Глафиру. Типа того, что ели у них и спали. Там же, собирали клубнику. О колдуне, как договаривались, молчок.
- Рубин приезжал на своем дрындулете, - бабушка сладко зевает, хлопает ладошкой по рту. - Переживал, что тебя не застал. Обещался заглянуть завтра. - Это она о Рубене, будущем моем куме.
Украдкой, гляжу на численник. Ну да, послезавтра у него день рождения. И как я забыл? Хотел, наверное, пригласить. Настроение падает до нуля.
- О-хо-хо! - снова зевает бабушка. - Умаялась нонче. Легла бы, да солнышко не велит. Схожу ка я, дед, до Катьки. Поесть что-нибудь отнесу, да помогу по хозяйству. Заодно расспрошу, к чему этот Анькин сон. А вы ж не забудьте сажок да ставни закрыть!
Это моя обязанность. Поэтому киваю, угукаю и ухожу в свою комнату. У деда свои заботы, и они не кончаются никогда. Если честно, мне тоже хочется спать. Поднялся ни свет, ни заря, в дороге подрастрясло. Начхал бы на то солнце, сыграл ранний отбой, да только домашние новости не выходят из головы. Нет, нужно дождаться бабушку. Хочу собственными ушами услышать все, что по поводу "в церкве и босиком", поведает ей Екатерина Пимовна. Ну, это ладно. А вот, днюха у кума Рубена, она мне, как будто серпом по одному месту. Примерно в это же время, плюс минус один год, ходил я на его именины. Что гостил - что говна поел. Вернулся в слезах. До сих пор вспоминать тошно.
В прошлой жизни Рубен не приехал к нам на турчке, а встретил меня в городе. Я выходил из кинотеатра, а он, в сопровождении тети Шуры и какой-то взрослой девчонки, шел к зубному врачу. Не помню уже, что за фильм я тогда смотрел. То ли "Неуловимых", то ли "Кавказскую пленницу".
Девчонка мне сразу же не понравилась: во-первых, стара уже для меня, а во-вторых, на кума похожа. А как может понравиться особь противоположного пола, если она похожа на пацана? Только Рубен рыжий и нос в веснушках, а у нее лицо чистое, волосы густые и непослушные. Кудрявятся на концах, спадают на плечи густым черным воротником. Видно, что сестра, но не родная. Была бы родная, я б ее знал.
Короче, пригласил меня будущий кум. Как обычно, в детское время, под самый обед. Не знаю, почему пригласил? Не настолько дружны мы были тогда. Может, остановился, чтоб потянуть время, хоть с кем-то поговорить, а день рождения к слову пришелся? По глазам было видно, что страсть как не хочется ему идти к зубному врачу. И я его понимал. Бормашины были тогда с приводом, как у бабушкиной швейной машинки. Сидит стоматолог, правой ногой наяривает, а бор все равно в дупле застревает.
Я б, наверное, к Рубену и не пошел, если б не Сонька. Он долго рассказывал, кто из нашего класса будет присутствовать за столом. Назвал и ее имя. Поэтому в назначенный час, я был уже десять минут как счастлив: целый квартал прошагал рядом с предметом своих воздыханий. Ждал за углом, когда она выйдет из дома.
Мамочка ты моя! Как искренне, как беззаветно, любили мы Соньку - наше верховное божество! Я в нее врюхался с первого взгляда, еще даже не зная, что это отличница. Единственный раз отразился в шоколадного цвета глазищах, и остался там навсегда.
- Новенький, - сказала она, - и как же его зовут?
- Сашей его зовут, - ответила бабушка, державшая меня за руку. - Ну, пошла я. Дорогу назад найдешь? Если что, Витя Григорьев проводит. Он по соседству живет.
И я остался один. Далеко от дома. В окружении чужих пацанов. Они окружили меня, тащили в разные стороны, кричали наперебой: "Новенький, новенький!" А тут еще эти глазищи. Ну, как в них не утонуть? От переизбытка чувств, мне оставалось только заплакать.
С тех пор я смотрел на Соньку, как на икону: издали, исподволь и чтобы никто не заметил. А то ведь, можно и в лоб получить:
- Ты куда это вылупился?! Ну-ка пошли, выйдем! (это вызов один на один).
За почетное право не давать на Соньку смотреть, дрались до первой крови. Оно у нас было как переходящее красное знамя. Да что там смотреть! Попробуй ее распятнать, когда ты в ее команде бежишь за красных. Или встать на пути того, кто заслужил это кровью, когда за белых. Итог будет один: придешь домой с набитою мордой. А уж если, не приведи господь, она возьмет тебя за руку и выберет парой во время игры в ручеёк, тут уж никто не заступится.
Я, кстати, первым придумал набивать землю под ногти, когда подходила Сонькина очередь быть санитаркой. Тогда и приходило оно, тихое счастье. Ты оставался с богиней один на один. Сидел рядом с ней на скамейке, вдыхал запах ее волос. А она, положив твою руку себе на колени, пальчик за пальчиком, приводила ее в порядок.
Что оставалось Напрею? - только скрипеть зубами. Не будет же бить пацан пацана только за то, что он ковырялся в земле?
Случалось, что во время урока, нашей Екатерине Антоновне нужно было куда-нибудь отлучиться. За свой учительский стол, она сажала, конечно же, Соньку. И в классе стояла мертвая тишина. Без всяких усилий и окриков с ее стороны.
И так продолжалось вплоть до десятого класса. Мы росли, гены играли. Каждый из нас обзаводился персональной симпатией, право смотреть на которую, мог отстоять кулаками. Только что такое они, все, вместе взятые? - пыль у ее ног.
Так вот, и жил наш класс, под недосягаемым солнцем, которое светило для всех. Мы даже не знали, что Сонька - азербайджанка, Рубен по отцу ассириец, с большой долей армянской крови, а Генка Пеньковский - еврей. А если б и знали, то что бы это меняло?
В общем, вы понимаете, почему я в то утро был счастлив. Шел проглотив язык, и усиленно думал, что бы такое вытворить, чтоб заслужить с Сонькиной стороны, хоть какой-нибудь знак внимания. Думал, думал и не успел. На углу нас догнал Босяра. Потом Плут и Мекезя, другие пацаны с этой улицы, с которыми я был не знаком.
Дом у Рубена как у меня. Две хаты под одной крышей. Только фундамент высокий. В другой половине живет его "дяхан Пашка".
Это младший брат тети Шуры, будущий депутат, делегат, почетный гражданин нашего города, а по совместительству - директор Горэлектросетей. Тот самый Павел Петрович, который когда-то примет меня на работу. Но это будет потом, в смысле, давно. А пока он полгода, как отгулял свою свадьбу и еще учится в своем институте.
Именинник ждал у калитки. Мы вломились во двор шумной оравой. Кто незнаком - знакомились, вручали Рубену подарки, а взрослые готовились к торжеству. Сонька, как принято у девчонок, напросилась им помогать, а мы стояли и ждали, когда позовут.
Еще во дворе я почувствовал себя неуютно. Пацаны тесной стайкой столпились у входа в сарай, где у Рубена была мастерская. Он демонстрировал разобранные движки от турчков, рассказывал, что из чего состоит, какие детали чаще всего ломаются. Мне это было неинтересно. Я стоял чуть в стороне и, время от времени, ловил на себе чей-то тяжелый, давящий взгляд. Несколько раз оборачивался, но ничего подозрительного на веранде не замечал. Тетя Шура с с родственницей-соседкой украшали трехцветный пирог, а Сонька с девчонкой, которую я вчера видел в городе рядом с Рубеном, были у них на подхвате.
Стоял я под этими взглядами, как голый на людной площади, и в душе закипала обида. Показалось, что кто-то меня попрекает еще не съеденным. Спросил я у кума, где у него сортир, закрылся в нем изнутри и стоял до тех пор, пока все не ушли в дом. Понятное дело, имениннику было не до меня. Не подошел, не разрулил непонятки. Это задело еще сильней: значит, ни хрен гость: подумаешь, книжку какую то подарил! Выбрался я из укрытия, скользнул, пригибаясь, под окнами, махнул через низкий штакетник - и Митькой меня звать. На обратном пути, шел по тропинке по-над дворами. Прятал лицо за ветвями деревьев, чтобы никто не увидел моих слез. Дома сказал, что плохо себя чувствую, одетым, завалился в постель, а на следующий день, и действительно, заболел.
Будущий кум прикатил тем же вечером на турчке. Я не хотел к нему выходить, да бабушка настояла. Он, типа того, что тоже обиделся, наезжал: "Почему ушел?!"
Хотел я соврать что-нибудь, да не думала голова. Честно все рассказал. Думал, Рубен не поверит, будет смеяться. Нет, выслушал очень серьезно и мрачно сказал:
- Вот сучка, просил же ее! - и опять на меня наезд, - А ты почему молчал? Мы бы с мамкой ее приструнили.
- Да ты это про кого?
- Про Женьку. Это моя троюродная сестра. Она с детства у нас какая-то ненормальная. Не понравится кто-нибудь, смотрит бычком. В селе, где она живет, ее за глаза ведьмой зовут... на вот, мамка передала...
Кум спешился и стал доставать из хозяйственной сумки судки, баночки и пакеты, с гордостью перечисляя названия экзотических блюд. Одно из них я запомнил - "долма д-тарпы" - потому, что звучало как д-Артанян.
Богатый у Рубена был стол. Одна только бутылка "Крем-соды" стоила двадцать девять копеек, не считая шоколадных конфет. Попробовал, кстати, я ту "долму д-тарпу". Обыкновенные голубцы. Только с виноградными листьями. И чеснока много.
К семи вечера бабушка еще не вернулась. В комнату заглянул дед, включил радио, расклинился между притолок дверного проема и, тем самым, прервал мои размышления.
Вечерние новости начинались на трагической ноте:
"В Москве скончался советский военачальник, маршал авиации Жаворонков".
Диктор коротко пересказал биографию, заслуги покойного перед Отечеством.
После короткой, но емкой паузы, очень напоминающей полноценную минуту молчания, последовал переход к другим новостям. Он был таким плавным, что я мысленно зааплодировал
выпускающему редактору. Умели же, падлы, работать!
"В Кремле вручена медаль "За отвагу" гражданину Чехословакии Александру Галлеру". И краткое пояснение: "за личное мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны".
После буфера последовал суконный официоз:
"Вступило в силу Постановление Совета Министров СССР "О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению книжной торговли в РСФСР". А следом еще один перл:
"Берн. Подписано соглашение между Правительством СССР и Федеральным Советом Швейцарии, регламентирующее воздушное сообщение между двумя странами".
Насколько я понял, это опять был буфер, плавный переход к обзору мировых новостей. Начались они с неожиданности:
"Президент Египта Гамаль Абдель Насер заявил о своей отставке и передаче власти своему первому заместителю Закарии Мохиэддину".
А уж потом, как кувалдой по голове:
"В ходе американо-израильского военного инцидента, над Средиземным морем сбито два самолета "Мистэр" армии обороны Израиля. Еще пять уничтожены на земле. Потоплено четыре торпедных катера. Потери американской стороны остаются прежними: 34 человека убито, 171 ранен".
"Совет безопасности ООН призывает все стороны конфликта на Ближнем Востоке к переговорам".
"Израиль принес официальные извинения правительству США за ошибочную атаку американского корабля".
"Советский эскадренный миноносец "Настойчивый" продолжает сопровождение аварийного судна радиоэлектронной разведки ВМС США "Либерти" в направлении Гибралтарского пролива".
"Герцогиня Виндзорская, супруга отрекшегося короля Эдуарда восьмого..."
Дед, косолапя, осторожно прошлепал в комнату, опустился на стул.
- Что там хоть было? - спросил я не менее осторожно.
- Оно тебе надо? - усмехнувшись, ответил он. - Нехай они там чертуются, это не страшно. А вот, поднимется китаЕц, тогда и свиту конец. Пойдем, подсобишь.
И зашоркал, не оборачиваясь. Ну да, я же у него маленький.
Солнце еще не утратило силу, но перекрой-месяц тоже нашел себе нишу в дальнем углу небосвода, кокетливо обозначив свой узенький серп над крышею элеватора.
Подсобление требовалось минимальное: щелкнуть два раза по краям черновой доски натянутою веревкой, густо надраевнной куском природного мела. Я фиксировал край в указанных точках, дед со своей стороны корректировал: "Левее... еще чутка... вот так, а теперь держи..." - плямк, плямк! - и свободен. А какой с меня толк, будь я даже в своем натуральном возрасте? Ни станка под рукой, ни электролобзика. Работать плотницким топором - та еще наука и мука. В наше время этого уже никто не умел. Любить по всамделешнему - до слез, до бессонницы - и то разучились.
- Сбрехала Пашка! - бабушкин голос, раздавшийся в проеме калитки, приближался и нарастал. - Пимовна говорит, такой сон к добру. Звезды над порушенным храмом - перемены в семейной жизни. Зря Анька расстроилась. Все у нее наладится. Может, замуж пойдет? Пойдемте-ка в хату, тёмно уже.
Дома она не завалилась в кровать, а принялась жарить семечки в большой сковородке, напевая под нос любимую мамкину песню "Подари мне платок". Я ждал, ждал, да и уснул за столом...
Рубена я встретил напротив школы, когда возвращался из магазина с десятью килограммами сахара. Ноша была не то чтобы тяжела - неудобна. Опустишь руку - волочится по земле, а долго держать на весу - пальцы немеют. Для переноски сыпучих грузов, которые не помещались в магазинный бумажный кулек, у бабушки был специальный мешок из плотной льняной ткани. Не наволочка, а что-то типа основы для пуховой подушки, с тесемочками для завязки.
Пер я, короче, свой груз с перекурами, разминал пальцы, благо, лавочки стояли тогда у каждой калитки, а кум гарцевал мимо на новеньком фабричном турчке, напоминавшем маленький мотоцикл. Заметил меня, подкатил, ногой о скамейку облокотился:
- Садись, Санек, подвезу!
Видок у него гордый-прегордый. Еще бы! Сто восемьдесят рэ под сракой. А это четыре с гаком дедовых пенсии. Названия за коленом не вижу, и так знаю, что "Рига-3". Все блестит, двигатель под левой ногой лоснится заводской смазкой. По периметру топливного бачка окантовка в виде квадратиков, нарезанных из голубой изоленты. А в центре, где крышка, переводная картинка - фиремнный знак ГДР - солнечная блондинка скалит в улыбке свои лошадиные зубы.
Вот тебе и еще одна альтернатива! Забогател кум. Надо же, - думаю, - как все удачно сложилось: мне не топать пешком и у Рубена обнова. Может, не вспомнит на радостях, что хотел меня пригласить?
Куда там!
- Ты ж не забыл?
- Забудешь с тобой! Мне как сказали, что ты вчера вечером приезжал, так я и вспомнил про днюху.
- Какую еще Нюху? - не догнал будущий кум, и радостно газанул. - Завтра мой день рождения, к двенадцати приходи.
- Из наших кто-нибудь будет? - осторожно прозондировал я.
- Из нашего класса? - переспросил Рубен и заглушил двигатель. - Если ты не взбрыкнешь, как в прошлом году, то будет нас за столом всего трое: ты, я и Славка Босых. Хотел пригласить Соньку, да нет ее в городе, и будет нескоро. В пионерский лагерь уехала. На первые два потока. А пацанов с нашей улицы звать не хочу. Пошли они...
Ну да, - подумалось мне, - это было уже в прошлом. И не со мной, а черт его знает с кем. Когда за плечами жизнь, время уже не является точной физической величиной. Плюс-минус один год - незначительная погрешность для моей старческой памяти. Значит Женьку Саркисову, ставшую впоследствии Джуной, я никогда не увижу. Отключить бы еще в душе детскую обиду и антипатию к этой загадочной женщине.
- Не понял, ты че, оглох? - возвысил голос Рубен.
- А? - всполошился я.
- Садись, говорю, поехали! А то накататься, как следует, не успеем. Мне к вечеру нужно турчок хозяину отвезти.
- Так это не твой?
- Поехали, говорю! Давай-ка сюда мешок, я его на руль положу...
Вот блин! За всю свою жизнь, никогда не ездил ни на турчке, ни на мотоцикле. Первое впечатление - состояние постоянной тревоги по причине отсутствия за спиной надежной опоры. А если по-честному, я натурально приссыкивал опрокинуться навзничь на какой-нибудь кочке. За рулем легковой машины скорость так остро не ощущается. Поэтому я сидел, сомкнув побелевшие пальцы на животе у кума, а он, падла такая, мало того, что газовал, но время от времени, поворачивал ко мне коротко стриженый чуб, стараясь переорать свистящий в ушах воздух:
- Это Женьке Таскаеву... что без троек закончил. Хвастаться приезжал... Я ему жиклёр на карбюраторе подкрутил... На руках привел ремонтировать...
Нет, зря все-таки кум газовал. Упасть, мы не упали, но когда проезжали по нашей улице, крепко засрали турчок пятнышками расплавленного гудрона. Обода и задок - все в мелких веснушках, как нос у Рубена. Пришлось нам, вместо катания, наливать керосин в пустую консервную банку, да просить у бабушки поганую тряпку, чтобы смыть следы преступления. Долбошились до обеда, сами все изгвозадались, а успели привести в божеский вид только переднее колесо. Заодно и Елене Акимовне работу нашли. Отставила она в сторону медный тазик для варки варения, нагрела горячей воды, достала из шкапчика плошку с растительным маслом и чистила нас по очереди, приговаривая: "Видно, что наша Манька пекла пироги. И ворота в тесте!"
По-моему, кум не врубился, что это она про нас.
Обедали мы с Рубеном в большой комнате, за круглым столом. Он, хоть и ассириец, с удовольствием уплетал и борщ, и вареники с "творухом", и "какаву" с воздушною пенкой от еще недоваренного варенья. Бабушка поспевала повсюду: и к печке, и к гостю, и, как потом оказалось, оставленному нами турчку. Деда не было. Он еще спозаранку умотал на дежурство.
Время от времени, будущий кум оборачивался и бросал на мою гитару завистливый взгляд. Не выдержал, наконец:
- Твоя?
- А то! - гордо сказал я.
- Бацаешь?
- Не, не умею. (К чему дополнительные вопросы?)
- Да ты че?! - возмутился Рубен. - Это же так просто! Дай ка сюда волыну! (Волыной у нас называли почему-то гитару).
Я снял с гвоздика инструмент. На всякий случай, предупредил:
- Трех струн не хватает.
- Ниче, я так...
И кум залабал кособокой восьмерочкой хит уличного сезона - песню про курочку:
У бабушки под крышей сеновала,
Где курочка спокойно проживала,
Не знала и не ведала греха она, греха,
Пока не повстречала петуха...
Слуха у кума никогда не было, но это ему не мешало. Пел он в нос, по-блатному, подвизгивая в конце каждой фразы и вообще, где только возможно. С аккорда на новый аккорд переходил долго и поэтапно, палец за пальцем, забывая при этом, глушить лишние звуки, снимая струны с ладов. Расстроенная гитара гремела сплошным, нескончаемым диссонансом.
Закричал он громко: "Ку-ка-ре-ку!"
Пойдем со мной, красавица, за реку.
Там за рекою тихо, тихо, тихо,
Растет у Пети просо и гречиха...
Со стороны могло показаться, что кум, как глухарь, токует, ничего не замечая вокруг. Ан, нет. Когда в дом заходила Елена Акимовна, он забывал слова и мгновенно переходил на "ля-ля". Последний куплет даже лялякал с надрывом. Легла ему на душу, эта песня, как плащ "болонья" на плечи дяхану Пашке. Мне тоже.
Ее не пели при взрослых. Боялись что они разгадают вложенный в нее посыл-обращение к нашим безнадежным любовям:
Советую красавицы я вам:
Не верьте вы усатым петухам.
И не ходите с ними вы за реку,
Иначе закричите: "Ку-ка-ре-ку".
Это как дерганье за косички: "Не верьте парням, девчонки! - кричали мы им, - храните себя для любви! Дайте нам время, чтобы успеть доказать, как мы ее достойны!"
Отбацав свое, Рубен заявил:
- Найдем струны, Санек. Скажу Пашке, чтобы из Ставрополя привез. Он там играет на чехословацкой электрогитаре и поет по субботам на танцах в своем институте. Показывал фотки...
После обеда работать никому кроме бабушки, не хотелось. Кум сыграл еще на нижних ладах "Смерть клопа". Больше он ничего пока не умел. Мы посмотрели мой фильмоскоп, покопались в библиотеке. А когда, наконец, решили плотно заняться турчком, делать там уже было нечего. Елена Акимовна все очистила своим волшебным растительным маслом. Глупо бы было: жить возле смолы и не уметь с нею бороться.
Короче, не накатались. Когда что-нибудь запланируешь загодя, всегда получается так. Отвезли мы с Рубеном горячий обед деду в сторожку, и там распрощались. Я вернулся домой пешком. И ему предстоит то же самое. Как говорил дядька Ванька Погребняков, прокатив пацанов до железнодорожного переезда, "сколько дурак проедет - столько и пройдет". Цепляется он за жизнь, хоть и на улицу давно не выходит.
Дома случилась беда. Сорвался с гвоздя мамкин портрет. Рамка рассыпалась, стекло вдребезги. Елена Акимовна с побелевшим лицом, ползала на коленях по комнате, собирала в ведро осколки, крестилась на угол, где когда-то висела икона, и беззвучно шевелила губами. Слов для меня у нее не было. У меня для нее тоже.
Я и сам понимал, что примета хреновая. Особенно для людей старшего поколения. Только мистика тут не причем. Если здраво поразмышлять и следовать логике, всему можно найти объяснение. По-моему, причиной всему резонанс. Когда на ремонтной яме тестировали очередной двигатель, в доме часами дрожали окна и стены. Но как эту мысль до бабушки донести, если глаза ее застили слезы? Только и слышно: "Ой, горе ж мне, горе!"
Нужных слов я не сыскал. Не было таковых в моем арсенале. А вот дельная мысль сама посетила голову: "Мужик ты, Санек, или куча ветоши? Если к возвращению деда сделать как было..."
Дальше этого почему-то не думалось. Столько нахлынуло всякого разного, что хоть садись и книгу пиши.
Пока выносил мусорное ведро, закапывал осколки стекла под корнями акации, вспомнил как через год дед сделает за меня деревянную копию АКМ для военно-спортивной игры "Зарница". Я начал корпеть над своею доской на уроке труда. Перевел на нее контуры автомата, сделал пару неровных запилов. На остальное времени не хватило. То пила занята, то карандаш, то рубанок, то переводная бумага. Я честно занимал очередь, но так и оставался последним. Не потому что рохля, а так сложилось. Очередная новая школа, в которой я никого не знаю. Пацаны из нашего класса не ставят меня ни в грош. А как ты кому-нибудь морду набьешь, чтобы утвердиться, если мамка твоя завуч?
Принес я, короче, заготовку домой. К табуретке прижал левым коленом и шоркаю мелкой ножовкой, стараясь не съехать с линии. Все подо мной ерзает, все неустойчиво, клинит пилу, а меня псих накрывает. Дед долго смотрел на эту порнуху. Не выдержала душа:
- Дай-ка, Сашка, сюда. Смотри и учись. Ремесло на плечах не носить.
Вот никогда раньше не думал, что работать можно красиво.
Дед вооружился лучковой пилой с веревочной тетивой, топором, рашпилем и стамеской. Пара запилов, точный удар - и вот она, почти готовая рукоятка моего автомата. На все про все, пятнадцать минут делов. От доски отсекалось лишнее, наращивались детали: мушка, обойма, прицельная планка. Потом в дело пошла олифа. И не просто олифа, а пополам с растворителем. После такой пропитки все заусеницы становятся дыбом в ожидании наждачной бумаги.
В общем, когда мой персональный ствол увидел учитель труда, он испытал разочарование. Одним учеником у него стало меньше.
Стоит ли говорить, что этот шедевр у меня стырили после первой же "боевой" вылазки. Я повесил его на дерево. С ним на плече мне было несподручно перетаскивать наших девчонок через лесной ручей. Ведь никто кроме меня не догадался прийти на войну в сапогах. Снял с закорок последнюю, глядь - а оружия нет. Падлы! Утешало лишь то, что за этот подвиг, мне присвоили звание лейтенанта. А может, и не за подвиг. А за то, что мамка моя завуч, и носит погоны майора.
Голова жила прошлым, а руки делали настоящее. Разбитую рамку от мамкиного портрета, я умыкнул. Бабушка оставила ее на комоде, рядом с цветной фотографией, а я умыкнул. Кроме куска фанеры, в комплекте имелась пружинящая прокладка из старой газеты "Трудовой путь" с основательно выцветшим шрифтом. Я убрал ее в ящик со своими учебниками.
Не делая распальцовку, скажу, что в столярном деле я кое-что понимал. Если, конечно, не сравнивать меня с мастерами прошлого. То были доки, которые знали о дереве все. Доски замачивали в конском навозе, сушили особым образом, выдерживали в тени. И что? - спросите вы. А то, что полы в нашей ментовке, стелили задолго до революции. Двадцатый век проканал, а им хоть бы хны.
И сколько б ни выпили водки несколько поколений сотрудников РОВД, до сих пор (тьфу, тьфу, тьфу!) ни один не споткнулся.
Нашел я, короче, причину трагедии. Проржавел и сломался гвоздик, за который крепилась бечевка, держащая портрет на стене.
Сама рамка не пострадала. Она просто рассыпалась. Плюс вмятина в левом нижнем углу, на который пришелся удар. Простая казалось, задача, а сделать нужно, чтобы комар носа не подточил. Верней, чтобы дед не увидел чужую руку.
Я очистил пазы и шипы от застарелой грязи, промазал углы слоем столярного клея и вставил фанеру в фальц, чтобы выставить прямые углы.
Стекло тогда было в большом дефиците. Большие оконные рамы набирались из множества мелких проемов с форточками, в которые с трудом протиснится взрослая кошка. Поэтому никто не выбрасывал деловые куски, размерами больше школьной тетрадки. Вдруг сгодится на раму для парника? Был и у деда свой небольшой клондайк, где всегда можно выбрать что-нибудь стоящее, очистить от старой оконной замазки, всегда присыхающей намертво, и снова пустить в дело. Поэтому со стеклом я промучился долго. Сказалось отсутствие практики.Только с третьего раза не запорол. Чуть ли ни дышал на него. Отдраил сухой газеткой до полной прозрачности, и только потом вставил на штатное место. Старую газету трогать не стал. "Сельская жизнь" плотнее и толще.
В общем, портрет получился почти таким же, как был. Издали посмотрел - вмятину незаметно, если, конечно, не знать, что она есть. Можно сдавать в ОТК.
Елена Акимовна, конечно же, оценила мой часовой труд. Похвалила, сказала "вумница", а в глазах ни капельки радости. Еще бы, дурная примета. Я принялся ей рассказывать о резонансе, гвозде что сломался от ржавчины, да только она перебила:
- Дед скоро приедет. Нужно будет стекло мокрой тряпочкой протереть, уж слишком оно чистое. Ты уж его не расстраивай, промолчи.
До позднего вечера бабушка гремела посудой. Сегодня у нее это получалось особенно громко. Лишь изредка, на кухне замирали все звуки, и устанавливалась мертвая тишина. Каждый такой раз я выходил из комнаты: не случилось бы что. Нет, все было спокойно. Бабушка сидела на краешке застеленной койки. Раскладывала по цветастому покрывалу колоду старинных карт, которую обычно хранила у себя под подушкой. Тревожное ожидание довлело над бытием. Надолго ли, навсегда?
Мне тоже не думалось, не читалось. Радио раздражало. Я встал и включил свет. Машинально взглянул на тусклую лампочку сквозь приоткрытые веки. И понял внезапно, что означает могильный крест. Это застывшее время. Оно безвозвратно закончилось для тех,
кто под ним.
Я хотел записать эту мысль, открыл ящик комода, чтобы взять авторучку, и снова ударился взглядом о выцветший шрифт старой пожелтевшей газеты. Как я уже говорил, она называлась "Трудовой путь" - орган Парткома, Совпрофа и Исполкома города Армавира - бывшего административного центра Лабинской волости. Две ветхих страницы размером 35 на 52 сантиметра, изданные тиражом 500 экземпляров. Первый сигнальный номер от 1 июня 1922 года. Размеры я оценил профессиональным взглядом редактора, коим успел пробыть ровно четыре месяца.
Газетенка была безграмотной с точки зрения построения фраз, стилистических и пунктуационных ошибок. Да и язык того времени отличался от современного, прямо скажем, не в лучшую сторону. Официальные документы подобострастно копировались. Их, по всей видимости, просто боялись править. Чего стоит только один наезд первых руководителей на все Исполкомы и Сельсоветы, с требованием "немедленно перевести в адрес редакции восемьсот тысяч рублей - стоимость подписки на месяц". Чуть ниже имелась приписка петитом: "Учитывая тяжелое материальное положение комитетов, редакция согласна принимать оплату натурой".
Над всем этим можно было бы посмеяться, если б не правда. Скучная правда, без знаков препинания, похороненная ныне под слоями текущих дел.
Доклад комиссии по проведению "двухнедельника" по проверке работ помощи голодающим согласно циркулярного распоряжения Армпомголода за ╧ 29 от 18/IV за ╧ 1436.
(10 мая 1922 года)
За все время существования Компомгола с 16 августа 1921 года по 10 мая с.г.:
1) Работу свою Компомгола начал с 16 августа 1921 года. За весь период времени существования Комиссии беженцев прошло около 80 000 из коих зарегистрировано по районам 69 569 человек кои и стоят на учете. В станице Лабинской находится:
зарегистрированных по кварталам 636 человек детей
по детским больницам и гражданам станицы Лабинской -157.
2) Меры по борьбе с голодом принимаются согласно циркулярного распоряжения Армпомголода от 24. IV. 22 г. за ╧ 30 берутся процентные отчисления с хлебопекарен частных по 1 ф. с одного пуда (1 п) и гос. ½ ф. с одного пуда (1 п). С мельниц ½ ф. с одного пуда. С предприятий как то маслобойных заводов профсоюзы рабкопа Пищевик - получаются 5 % и 2 % отчисления.
3) Участие населения в помощи голодающим никак не проявляется. Вся помощь населения выражается в принудительной раздаче детей по гражданам комиссией.
4) За все время существования компомголода собрано: 2 143 пуда 12 ф. продуктов (разнородных). Из них отослано в Царицын 629 п. 19 ф. Сдано в Заготконтору 1 214 п. 22 ф. имеется на складе Компомголода масла 17 п. 37 ф. и хлеба 32 ½ ф. Деньгами поступило 112 583 987 руб. Израсходовано на жалование сотрудникам Помгола 2 702 352 руб. Сдано в приходно-расходную кассу 4 792 564 руб. Израсходовано на нужды Компомгола как то постройку, рытье могил, нужды беженцев - 70 764 071 рублей, и имеется в наличии 10 000 000 рублей мелочью от одного рубля до 100 руб.
5) Лозунг "Десять сытых кормят одного голодного" проводится в жизнь по мере сил и возможностей...
Такие вот, перлы. Вот, честное слово, если б нечто подобное запустили в тираж журналюги моего коллектива, я бил бы ногами корректора. Другие материалы впечатлили не меньше:
Постановление ╧ 6
Исполкома ст. Лабинской по Земельным Отделам.
╗ 1. Приказ от 18 ноября 1920 г. за ╧ 8 Ревкома ст. Лабинской по Земотделу остается в силе: земля на низу подлежит к обсеменению кубанки, яровым, ячменем, овсом; не разрешается сеять кукурузу, просо, семяна, картофель, гаолян-тростник, коноплю, лен, клещевину, бахчи и все остальные злаки, вызревающие после пшеницы и ячменя.
╗ 2. Граждане, имеющие подростковый скот: телок, молодых бычат, овец, свиней обязаны заранее порайонно нанять пастухов для выпаса телят, свиней, чтобы не было ежегодно повторяющихся потрав: одиночно бродячие свиньи и телята на выгонах будут забираться, хозяева таковых будут привлекаться к ответственности, за неисполнение сего постановления.
╗ 3. На полянах в лесу, кустарниках по реке Лабе пастбище скота - волов, лошадей, коров, телят и выпуск туда же свиней строго воспрещается. Весь скот, который там будет задержан, хозяевам не будет возвращаться, как за нарушение постановления и нежелание исполнять приказаний за уничтожение деревьев, нанося вред государству,
╗ 4. Изгородь садов и огородов расхищать строго воспрещается. Лица, уличенные в расхищении, будут преданы суду.
╗ 5. Сады и огороды остаются за прежними владельцами не свыше пяти десятин. Аренда и сдача пополам из третьей, четвертой части воспрещается. Граждане, сдавшие и заарендовавши, будут отданы под суд.
╗ 6. Владельцы садов и огородов, не пожелавшие обрабатывать таковые, могут передать в Земотдел для раздачи желающим заниматься огородничеством и садоводством.
╗ 7. Огороды и сады, необработанные и запущенные владельцами, будут отбираться и хозяева таковых строго наказываться как за саботаж.
Примечание: граждане, имеющие сады и огороды, но не в силах обрабатывать таковые своими силами, могут принимать как равных пайщиков из бедного населения членов с тем, чтобы огороды были добросовестно обработаны и не было эксплуатации.
╗ 8. В случае обнаружения сделки арендного характера огородов и садов, все граждане, причастные к таковой, будут отданы под суд с применением суровых наказаний.
╗ 9. Граждане, коим требуется глина, обязаны брать в тех местах, где указано через объявления на дощечках Коммунального Отдела ст. Лабинской, но категорически запрещается вырывать ямы, канавы на лесных полянах, где будет косовица.
Предисполкома Д. Крижевский. Завземотделом А. Шмаков. За Секретаря Н. Бреславский.
И дальше примерно такое же содержание. В подробностях не успел ознакомиться, но вряд ли, те пятьсот человек, которые прочитали первый номер "Трудового пути" отдыхали душой.
Чтение напрягало. Строчки скользили дальше, а внимание стопорилось. Оно опять и опять возвращалось к непонятному слову "семяна". Что это, опечатка, или действительно росло на полях нечто подобное?
Я отложил газету и вышел на кухню, чтобы озадачить этим вопросом бабушку, но во-время вспомнил, что ей сегодня не до меня. К тому же, флегматично тявкнул Мухтар, зевнул, загремел цепью. Чешет наверное, свой блохастый загривок. Судя по этим приметам, возвращается дед - самый мой строгий экзаменатор. Через пару минут, он уже подойдет к калитке.
Меня так и подмывало еще раз вернуться в комнату, чтобы проверить, все ли в порядке, но жизненный опыт предостерег прущее из нутра моей взрослой натуры, суетливое существо. "Стоять! Если хочешь отвлечь внимание от портрета, нужно прежде всего, самому не смотреть на него! Веди себя как обычно, и все срастется".
"Ты ж, Сашка, смотри!" - ударило в спину.
Елена Акимовна накрывала на стол. Если она не успела взять себя в руки, у нее еще будет немного времени. Дед привез толстую дубовую доску, пятидесятку, не меньше. Его премировали пару недель назад, а выбрал только сегодня. Он умел отбраковывать некачественный лес и перевозить на велосипеде все что угодно. Даже такую хламину. Центр тяжести на педаль, все остальное - к раме.
- Давай пособлю!
Бабушка выкатывается из-за моей спины. Лицо безмятежное. Только в глазах затаенная боль. Но это, опять же, если внимательно присмотреться. Я тоже спешу на подмогу. Сходу цепляюсь за край тяжелой доски. Совместными усилиями, мы тащим ее к верстаку.
За ужином все молчат. Меня это молчание тяготит по многим причинам. И вообще, надо же кому-нибудь начинать...
- Что такое семяна?
- Семяны, - поправил дед. - Так одно время у нас называли подсолнечник.
- А я и не помню. Када оно бы-ыло, - Елена Акимовна, подхватившая было, стопку пустых тарелок, опять опускает ее на стол. - Нет, вру! И пра, называли! Славяне что обезьяне. Сказало дурное начальство - все как один подхватили. Послали нас как-то с Пашкой семяну в поле полоть, мы й не найдем!
- А где вы в то время с дедушкой жили? - не подумав, спросил я.
- Это когда? - опешила бабушка.
- Ну, в тысяча девятьсот двадцать втором?
- Тю на тебя! Да нам тогда по шестнадцать годов было. Мы еще даже не женихались... схожу-ка я, дед, до Катьки. Кастрюльку свою заберу...
Коротко хлопнула дверь. Ушла. Я-то знаю зачем. Степан Александрович тоже вышел из-за стола:
- Пойдем, Сашка, доску разметим...
И снова - плямк, плямк!
Перед тем, как взмахнуть топором, дед тихо сказал, обращаясь как будто бы не ко мне:
- Батрачил я, внучек, в двадцать втором. На богатого адыгейского князя батрачил. Наверное, потому и живой остался. Один, из всей нашей семьи. Нет у меня ни сестер, ни братьев, ни отца с матерью. Даже не знаю, могилы их где... Огород надо будет завтра с утра полить, виноградник опрыскать, да к вечеру в поле наведаться. Ты уж там, на своем дне рождения, не задерживайся.
Вот тебе и спросил...
Вечерняя дымка окутала небосвод. Предзакатное солнце осторожно дышало на хрупкий мир, где счастье от беды до беды, где нет того поколения, которое бы не проредила История, которую мы лепим как можем. Своими руками.
Дома я еще раз достал газету. Долго думал, куда бы ее спрятать так, чтобы дед не нашел. Какая-никакая улика. Пробежался глазами по тексту второй страницы:
О хлебном пайке для красноармеек
О критическом экономическом положении сообщено Отделу с ходатайством разрешить вопрос в положительном для семей кр-цев смысле.
Имеющийся в распоряжении Земотдела "вторяк" - пшеницу второго сорта - после очистки перемолоть и предназначить для выдачи. Выдачу производить Комкрасхозу и Собезу по долям, равным как взрослым, так и малым. Выдача должна производится в помощь той категории семей красноармейцев, которая подойдет под помощь из урожая общественного засева красноармейских полей.
О полке кукурузы
Всех товарищей, не явившихся без уважительных причин на работу, оштрафовать на один миллион рублей.
О трудгужналоге
Рассмотрен протокол за ╧ 479, предоставленный кварталом 12 на гр. Алексея Труфанова, категорически отказавшегося выполнять наряд по трудгужналогу (имущественное положение гр. Труфанова - зажиточный кожевник). Постановили: Вменить в обязанность гр. Труфанову внести 50 (пятьдесят) пуд. муки. В случае отказа привлечь к принудительным работам сроком на 3 месяца.
Предисполкома Крижевский. Секретарь Лабпарткома Гудсон.
Я спрятал газету за обложкой своего старого дневника и вышел во двор, чтобы еще раз поинтересоваться у деда:
- Что такое собез?
- Отдел социального обеспечения. Там где пенсию начисляют. Рано тебе, Сашка, думать об этом.
- Да я тебе про собез-з, - прозвенел я последнею буквой.
- Собез? - задумался дед. - Был, вроде, такой подотдел при комиссии по борьбе с дезертирством. Занимался обезземеливанием тех, кто прятал беглых красноармейцев. Надел отнимали, хлеб, что растет на полях, скотину, имущество. Штрафовали еще, лишали пайка. Не хотел брат на брата идти... а почему ты спросил?
- Непонятное слово попалось в учебнике по истории, - не моргнув глазом, соврал я. - Ну, в том, что на будущий год...
- А-а-а, - протянул дед. - Хорошее дело! Ты в самом конце посмотри. Там, где оглавление, должен быть список новых и редко встречаемых слов. Может, я и напутал чего. Давно оно было...
Глава 20. Все еще впереди
Перед сном я долго ворочался. Представить себе не мог, что за слова сумела найти Пимовна для моей безутешной бабушки? Чем успокоила? Вернулась она заметно повеселевшей. Ни тучки в просветленных глазах. Почти до полуночи сидели мои старики рядышком за столом, и ворковали. Только и слышно: стук, стук! Это дед разбивал ручкой ножа грудку пиленого сахара. И для себя, и для нее. Где добыли? Наверное, бабушка Катя подсуетила. Есть еще такой дефицит в магазинах Сельпо.
В неплотно прикрытой двери застыла полоса света. Тянется по домотканому коврику, до противоположный стены и вздымается вверх, к портрету отца. Мамку не видно, но я знаю, что она рядом и справа. Это самое последнее место, на свете, где они еще рядом.
Нет, повезло моим старикам с любовью. Она у них теплая, незаметная, как свет негасимой лампады. Потушить ее сможет только чья-нибудь смерть. И то вряд ли. А вот у отца с матерью совершенно другое чувство, имя которому страсть. Со скандалами, ревностью, ежедневным битьем посуды. И вместе трудно, и врозь грузно. Я же, в плане любви, совсем пролетел. Нет ее той, по-детски наивной, до бессонницы, со слезами в подушку. Смотрел на Соньку, смотрел. Хоть бы что-нибудь в душе шевельнулось. Холодная пустота. И кто я теперь после этого? Не пацан, а какой-то моральный урод. Когда же оно все закончится?
С полуночными петухами, свет в доме погас. Мои старики ушли ночевать во двор. Жарко им в доме. Я тоже отъехал с мыслью о завтрашнем дне. Что подарить куму: "Путешествие на утреннюю звезду", или "Урфина Джюса"? Помню еще, что сам читал в его возрасте.
Утром привезли уголь. Дед расстелил у забора кусок брезента, только дядька Мансур все равно промахнулся. Там кучка-то всего ничего: на морской выпуклый глаз - кубометр с небольшим. А он умудрился половину просыпать мимо. В любом случае, какую-то часть пришлось бы таскать ведрами, но все равно неприятно. Да и с ведрами из разряда "поганых", случилась у нас напряженка. Хоть к соседям беги - сыскалось всего два.
Как водится, собрался народ. Физически поработать мне не позволили. Отрядили держать калитку. Она у нас на тугой пружине, сама закрывается.
В детстве я был мужичком жадненьким. До сих пор помню название книги и имя того пацана, что взял ее почитать, да так и замылил. Вот и сейчас, стоял завоторним бекарем и все прорывался спросить: куда же, в конце концов, подевалась моя трамбовка? А мимо меня сновали работные люди: дед Иван с одноколесной тачкой, жилистый тракторист с ведрами в обеих руках, мужики со смолы, приспособившие вместо носилок, дырявое оцинкованное корыто...
Не было в этом людском потоке вменяемого конца, как и в любимой дедовой поговорке:
- Мы с тобой шли?
- Йшлы.
- Кожух нашли?
- Найшлы.
- А где ж тот кожух?
- Так мы ж його пропилы. Мы ж с тобой йшлы?
- Шли...
Он, кстати, как и пахан бабки Филонихи, махал подборной лопатой. Тоже наука. Нужно насыпать так, чтобы дно у корыта не провалилось, а деда Ивана не заносило на поворотах.
Бабушке было некогда. Она гладила для меня рубашку и брюки, паковала в пакет "Урфина Джюса", готовила закуску под магарыч. Общественный труд в обычае был, со своими нюансами.
Помню, Вовка Хурдак по кличке Кошачий Зуб, сосед семейства Григорьевых, дембельнулся из армии. Невесту нашел, отгулял на миру свадьбу, да пошел с матерью по дворам. И к нам заглянул:
Так мол, и так, земной вам поклон. Заливаем фундамент нового дома. Просим помочь.
А пацанов на нашем краю к той осени вымахало! Собрались на пустыре, где когда-то играли в войну - лопаты и ведра на драку. Только Петя Григорьев как всегда сачканул, сослался на радикулит.
Ведра по четыре всего-то в опалубку высыпали - нету работы, закончилась. Поссали всем обществом в красный угол, чтобы Вовкина теща пореже в дом заходила, а тут и его мать:
- Просим к столу!
Аж неудобно. Если по совести посчитать, каждый из нас и на кусок хлеба не заработал. Отказываться тоже нельзя. Подумают, что типа побрезговал. Надо короче, уважить. Зря, что ли, хорошие люди старались, бабушку мою к борщам привлекали?
Стол Хурдаковы накрыли не в доме, а во дворе. Длинный стол, составной, застеленный разноцветными скатертями. От калитки - и до самого огорода. Посуду позычили у соседей, чтобы хватило на всех. Вино покупное. Как сейчас помню, "мужик с топором".
К рукомойнику протискивались бочком. Там Вовкина молодая жена с мылом и полотенцами. Каждому пацану уважуха: "спасибо" и персональный поклон. Я, кстати, тогда впервые взрослым себя ощутил.
Только налили по первой, тост не успели произнести - тут, как тут хитрожопый Петро. Склонился над низким штакетником, что делит дворы по меже:
- Ну что, соседи, закончили? Я бы помог, да вот, прихворнул.
От такой беспросветной наглости, все замолчали, но Вовкина мать разрулила неловкую паузу:
- Проходи, проходи, Петя! Откушай, чем бог послал. Это дело такое, с каждым может случиться.
Все пацаны промолчали. Гаденько на душе, но кто мы такие, чтобы распоряжаться в чужом дворе? Только Витя Григорьев не выдержал. Бросил ложку, да как заорет:
- Петро, крову мать! Если сядешь за стол, я уйду!
И точно, ушел. Даже к рюмке не прикоснулся.
Эх, жизнь, как ты несправедлива к людям хорошим, а разное недоразумение лелеешь, поддерживаешь наплаву. Витьку когда еще закопали. Мы с дочкой его, Оксанкой, забирали тело из морга. Руки ломали до хруста, втискивая его в белый костюм. Остальным обитателям дома Григорьевых было не до того. В семействе, где каждый сам за себя, решались денежные вопросы. Нинка, супруга покойного, получала в районной администрации пособие на погребение. Петька выбивал "копачей", грузовую машину и материальную помощь от семсовхоза, где дубачил в огородной бригаде. У него лучше всех получалось раскрутить кого-нибудь на наличные. Работа считай, тем и жил. А уж хвосты обрубать - в этом деле ему вряд ли найдется равный. Придуривался на свежей могиле. Делал вид, что в обморок падает. Поднялся потом, зенки свои вылупил - и прямо по пахоте, в сторону от дороги, чтобы мы на автобусе его не догнали. Это он материальную помощь от семьи и от общества уносил, чтобы пропить сам на сам. Мы-то с Рубеном нашли, чем глаза залить, а вот старушек соседок жалко. Для них это крушение всех канонов.
Вот такой индивидуум коптит на земле в свое удовольствие. И меня пережил. Детей - Витькиных и своих - оставил без крыши над головой. Хату продал за мешок сухарей. Ну, там не хата уже была, а притон. Кто с бутылкой - тот и хозяин. Если что-то украли в округе - искать тут. Оксанка в свои восемнадцать, успела два раза родить.
С деньгами Петро пролетел впервые в своей карьере. Как ни скрывался, вычислили. Была у нас в девяностые гоп-компания наркоманов в законе, добровольных осведомителей при ОБНОН. Ну, поколение некст, наглючее, молодое. Боролись они с пьянством на нашем краю. Отлавливали датеньких мужиков, опаивали их клофелином, а с утра предъявляли счет по итогам игры в буру. Как старожил, Петька был и об этом наслышан. Но почему-то считал, что такое может случиться с кем угодно, только не с ним. В общем, купился он на бутылку паленой водки (халява, святое дело, да и опохмелиться хотелось), оставил там все, что зашито в трусах, еще и должен остался.
Пропал он после того случая. Года четыре не появлялся. Я уже думал, хана мужику, ан нет. Заглянул к соседке моей. Рассказывал, как пас в горах отару овец на черкеса хозяина. А потом его, то ли освободили, то ли сам убежал. Живет сейчас у своего сына. Внуков нянчит, учит их справедливости и добру.
Хороший сын у него. На Витьку похож, а походка - один в один - такой же развинченный стэп. Только не пьет и на денежки жадный. Мы с кумом его после армии в городские сети устроили, так жаловались товарищи по работе.
Остатки угля мужики занесли на брезенте. Взялись за углы - и волоком, вчетвером. Еле протиснули в узкие двери сарая. Мухтар, конечно, протестовал, но вяло, издалека. Его привязали к забору в конце огорода. Последнее что я видел, выходя из нашего дома, это зеленая скомканная бумажка, чем-то напоминавшая три рубля. Она перекочевала из кармана Филонова-старшего в кошелек моего деда.
А что это, если не оплата аренды? Ох, нескоро вернется домой электрическая трамбовка!
Рубен жил на улице Революционной. Это за нашей школой, и сразу направо. К концу моей жизни, станет она главной. Обрастет светофорами и будет блистать свежей разметкой на почти ровном асфальте. А пока это обычный проселок. Года через четыре, мы будем сдавать на нем норматив ГТО в беге на пять километров. Ни одна машина не повстречалась.
Я постепенно привык к новому старому виду моего города. Лишь иногда на ходу вспоминал будущие ориентиры. Вот здесь на углу, будет стоять автоцентр "Мустанг" с пристроенной автомойкой. Напротив него магазин электротоваров, с которым многое связано, в плане бригадных шабашек. Чуть дальше...
А вот там, где "чуть дальше", они и сидели.
- Эй, ты, - произнес мальчишеский голос, - а ну-ка иди сюда! Дай двадцать копеек...
Я раздвинул кусты, присмотрелся. По Памяти опознал Плута и Мекезю, еще одного пацана с Рубеновой улицы. Кажется, Толика Хренова. Думал, что и меня они тоже вспомнят, скажут что, мол, ошиблись, отпустят без мордобоя. Да только куда там! И рта не успел раскрыть, как кто-то четвертый толкнул меня в спину и встречный кулак наискось прошелся по лбу. (Успел среагировать, принял его "на рога").
После первой пропущенной шайбы, в голове просветлело. Исчезли ненужные мысли. Вспомилось, что, судя по вчерашнему разговору, в частности, фразе "пошли они", мой будущий кум что-то не поделил с местными пацанами. Никого из них не пригласил на свой день рождения. Значит что? - имеет место обида, которая смывается кровью. И я, косвенно, но причастный, по этой причине попал.
Пока я об этом думал, машинально поймал на ладошки парочку кулаков. Тот, что был сзади, уже не мешал. Я услышал его дыхание и отмахнулся на звук усеченным ударом маваси. Что-то болезненно хрустнуло. То ли штаны разошлись по шву, то ли пах? Это тело я ни разу еще не усаживал на шпагат, поэтому стало тревожно: смогу ли вообще стоять на ногах? Обошлось. Болезненно, но терпимо. Я даже куда-то попал, и тут же сменил дислокацию, чтобы тот, кто "попал", не вздумал хватать меня за ноги, если успеет очухаться.
Не знаю, как все это выглядело со стороны. Наверное, некузяво. Но уличных пацанов этот финт впечатлил, заставил быть осторожнее, не нападать, а держать плотную оборону. Это потом они осмелели.
Между собой и обидчиками, я держал теперь стриженый куст волчьей ягоды. Хозяин двора, рядом с которым шло наше побоище, использовал его в качестве декоративной ограды. И мне угодил.
Разумней конечно было отступить ближе к дороге, на оперативный простор, чтобы на сто процентов использовать свое преимещество в умении махаться ногами. Только смогу ли? Боль можно терпеть, а вот совесть конкретно протестовала. Нечестно, конечно, вышло с тем пацаном, что роняя красные сопли, ползает подле забора. А с их стороны честно? - кодлой на одного?
Душа жаждала справедливости. И я ее понимал. Это годам к пятидесяти, когда верхняя челюсть за восемь штук, на четверть уже "государственная", самый завязятый драчун становится смирным, покладистым мужиком. А сейчас? Хрена ли мне один зуб?
Еще одна из примет того времени - дрались, как работали - молча. Чтобы внимание взрослых не привлекать. Кто знает, что у них на уме? Запросто могут схватить за ухо, к родителям отвести, или еще что-нибудь учудят.
Шли мы, помнится, с Жохом как на совхозную зерноочистку, по воробьям из поджига жахнуть. Я тогда еще не курил, а Сашка давно пристрастился. Нашел на дороге окурок, засмолил, идет себе, дым пускает. И что-то у него шнурок на туфлях не вовремя разявязался. Сунул он мне тот бычок: "Подержи, - говорит, - я сейчас". И присел на колено. А сзади какой-то дед ехал на бричке. Поравнялся со мной, да как кнутом жиганет по той самой руке, что окурок держала! Мы в разные стороны! А попробуй, пожалуйся на него. Дома добавят. Это сейчас бы того деда по судам затаскали.
Тьфу ты, черт, что значит сейчас? Сейчас мне, как раз, следует опасаться этих непредсказуемых взрослых больше, чем Толика Хренова: "Ах, ты, гаденыш, ногами?!"
События я не форсировал не только из этических принципов. Больно, черт побери! Поэтому сражение шло ни шатко, ни валко. Моя малоподвижность бросалась в глаза, а уличные бойцы нутром чувствуют слабину. Они наседали всем скопом, будто по команде "все вдруг". Успели, наверное, сговорится.
Я не жонглер, чтобы гасить шесть кулаков разом, успевая при этом раскланиваться, но тоже сориентировался. Плотно отслеживал Плута и Толяна, а вот Мекезе предоставлял свободу маневра. Он близорукий, без очков ничего не видит, и удар у него, поэтому не поставлен.
Что бы там у меня получилось в этой уличной потасовке? - этого не скажу. Скорее всего, как всегда. Словил бы хайлом пару серьезных ударов, рассвирепел, и бедными были бы те, кто еще стоит на ногах. Очкарика я тоже достал боковым в ухо. Причем, хорошо достал. Хотел уже и его занести на свой боевой счет. А он, сволочь такая, не упал, отскочил в сторону и начал топтаться своими сандалиями по "Урфину Джюсу" - моему подарку Рубену.
Я двинулся в его сторону, но опоздал. Мекезя куда-то чухнул. То ли ретировался с концами, то ли побежал за подмогой.
И действительно, помощь пришла. Но с той стороны, откуда не ждал никто. Как будто из-под земли, нарисовался Босяра, махнул пару раз клешнями. Не ударил конкретно кого-то, а в общих чертах. Что называется, "пырхнул", или, проще говоря, "кипишнул". Он ведь, на этом краю в авторитете был. Во всяком случае, среди своих сверстников. Как, впрочем, и Толик Хренов.
На той стороне ринга, мгновенно нарисовалось конкретное разбиралово:
- Ты че?
- А ты че?!
- Че вы кодлом на пацана?
- А че он Мекезю ногой?
- Не бреши! Я шел и все видел!
- Откуда ты видел?
- Оттуда!
Если б не отсутствие распальцовки, полное впечатление что братки лихих девяностых, делят спорную крышу. Базарили двое. Остальные тактично молчали. Я вообще был типа не при делах. Молчаливо присутствовал как вещдок в районном суде. Стоял и душил в себе остатки бессильной злобы. Малый жаждал отмщения за испорченный праздник, и старый был тоже непрочь внести в это дело посильную лепту. Оба моих естества испытывали сильное разочарование, поскольку по опыту знали, что драки уже не будет.
Сначала Толян вдохновенно врал, потом лениво отбрехивался.
Мой будущий крестный, перестал взмахивать крыльями и толкать оппонента пузом. В общем и целом, накал конфликта спадал.
- Славик, ты скоро?
Робкий девичий голосок, поставил на всем жирную точку. Ведь это самое последнее дело - чесать кулаки в присутствии баб. Даже незадачливый ухажер, рискнувший проводить до калитки девчонку с чужого края, в этом плане был защищен. Таких бедолаг били очень тактично. На обратном пути.
- Я сейчас! - отозвался Босяра, поведя стриженой головой в сторону внешнего раздражителя. - Книга его?
Последняя фраза была не совсем вопросом. Так всеобъемлюще - тоном и внешним видом - Славка "конкретно спросил" с моих оппонентов. Мазу, короче, качнул.
Они, естественно, промолчали. Но не просто так промолчали, а с видом на будущее. Застолбили за собой перспективу и самим наезжать на Босяру в присутствии нужных баб.
Славка поднял с земли "Урфина Джюса", положил правую руку мне на плечо и провозгласил приговор:
- Если еще раз тронете...
Разошлись к взаимному удовольствию. Пацаны - молча и деловито, чтобы случайно не матюкнуться, не разжечь новый конфликт. Направляемый дружеской дланью, я тоже послушно шагал рядом с Босярой, пока не увидел, куда же конкретно мы направляемся. Под веткой шелковицы, склонившейся над кюветом, стояла на цыпочках Женька Саркисова и обрывала спелые ягоды. На остром ее плечике, безвольно болталась огромная сетка авоська с двумя полукруглыми караваями белого хлеба по пятьдесят копеек за штуку. Естественно, я стал тормозить.
- Ты че? - не врубился мой будущий крестный отец.
- Пойду-ка я, Славка, домой, - шепотом вымолвил я, норовя
шагнуть за кусты, - куда мне в таком виде?
И правда, куда? Сквозь прореху ниже мотни, рвутся на волю синие сатиновые трусы. Рубашка разошлась на пупе: две пуговицы вырваны с мясом. От книжки осталось одно название. Вся обложка в пятнах тутовника.
Пацан пацану мог бы и посочувствовать. Ну, сделать хотя бы соответствующий вид. А Босяра заржал. Залился опять серебряным колокольчиком. У него после ломки голоса так тенорок до старости и остался. И смех ни на йоту не изменился. На пару минут зайдется, глянет в лицо виноватыми зенками, скажет "ой, не могу!" и снова "хи-хи". Особенно его убивали мои трусы. И что в них такого особенного? Сам точно такие же носит...
На шум подтянулась Женька. Уронила голову на бок, сожрала меня глазищами, сказала, что ссадина будет на лбу. Зеленкой надо помазать.
- Ты внимательно посмотри! - между двумя приступами "ой, не могу", прохрюкал Босяра. - Авария у пацана. Не хочет больше идти к Рубену на день рождения. Домой собирается.
Меня аж всего передернуло. Лицо окатило жаром. Чувствую, падла, краснею. Сомкнул я штанины по стойке смирно, да все норовлю повернуться бочком, или спрятаться за Славкину спину.
А Женька такая флегма.
- Вот так, - говорит, - и дойдешь потихоньку. Мы тебя с обеих сторон прикроем. Ничего страшного. Тетя Саша за пять минут штаны на машинке прострочит, рубашку заштопает и пуговицы пришьет. Или я, если ей будет некогда.
Еще раз пришпилила взглядом, приподняла изнанку воротника, отцепила булавку, Славке дала вместе с авоськой.
- Пойду пока книжку почищу. А ты помоги, как сможешь.
Я аж удивился. Как будто бы это и не она. Голос обычный, девчоночий. Говорит, не растягивая слова, без малейшего налета цыганщины. Это потом, на старости лет, ее переклинит. Она тебе и принцесса, и потомственная колдунья, и генерал. Помню сидел, плевался у телевизора.
Спросил, кстати у кума, как подвернулся удобный случай: что, мол, за пургу сеструха твоя гнала? Он тоже не лучше: начал мне горбатого втюхивать про наследников, какую-то там корону, неуловимых мстителей с мужниной стороны. В общем, нагнал туману. Ну, ассириец, что с него взять?
Был я потом и в "генеральском" доме, года за три до ее смерти. Новую проводку прокладывал. От рог до копыт. Кум, кстати, эту шабашку подсуетил. С первого взгляда видно, что не кубанская хата. Стены саманные, а вот, архитектура не та. Комнаток много, чуть меньше десятка, но все до того крошечные! Времянку, если она и была, снесли, как и все дворовые постройки. От старого времени только забор остался, да внутренние перегородки. И то, кой какие убрали. Дом обложили гиперпрессованным кирпичом, сделали два пристроя. Там где было крыльцо, теперь большая прихожая, да со стороны огорода, веранда на всю длину. Бригадой управились ровно за два дня, без раскачки и перекуров. Путь-то неблизкий. От Константиновки, через мост, и сразу направо. Если честно, вспоминать тошно. В плане оплаты, ассирийцы отличаются от армян только фамилиями. Они у них чисто русские. Бар-Давиды при заселении стали Давыдовыми, Бит-Осипы - Осиповыми, а Бит-Юхананы - те вообще сейчас Ивановы...
"Стоять, Зорька!" - сказал Босяра, но я подчиняться не стал. Забрал у него булавку, стянул штаны до колен, пришпилил прореху с изнанки и снова надел. Огляделся: не видит ли кто? Рубашку вообще расстегнул, узлом завязал на пупе.
- Ну что, - спрашиваю, - пойдет?
Славка опять хотел взяться за свое "не могу", но внутренним тактом почувствовал, что это уже перебор. Не та у меня рожа.
- Пойдет, - подтвердил. - Если будем маскироваться, точно пойдет. - Но все равно, гад, подхихикивает.
А у меня еще и о книжке душа болит. Как к имениннику без подарка идти? По опыту знаю, что пятна тутовника хуже чернил. Перед ними пасует даже моя бабушка. Ничем они не выводятся. Ни мылом, ни растительным маслом, ни бесконтактным массажем. С полчасика на дереве посидишь, неделю ходишь потом с грязными разводами на руках.
Выглянул из-за кустов, удивился. Принцесса нарвала с дерева полную жменю листьев, пожамкала их в кулаке, и вот этой бодягой наяривает сверху вниз по лощеной обложке. Как все равно стеркой уничтожает след от простого карандаша. Потом носовым платком зеленую крошку смахнула, насухо вытерла - обложка как будто из типографии. Ну, если сравнивать с тем, что было. Это не передать, как я обрадовался. Даже "спасибо" забыл сказать...
Рубен, кстати, на обложку даже внимания не обратил. Прижал книжку к груди и побежал прятать. Он давно мечтал прочитать продолжение "Изумрудного города", даже детской библиотеке стоял пятнадцатым в очереди. А мне об этом сказал только вчера.
Вот тогда-то и в душе у меня стало по-настоящему празднично.
Что еще пацану надо? - кум рад, принцесса не смотрит бычком, Босяра про драку ничего не рассказывает и мне лишних вопросов не задает. Не видел, наверное, как я ногой отмахнулся.
Одна только мысль темной тучкой туманит сознание. Что ж я такого в прошлом году учудил? Как умудрился "взбрыкнуть", если Женьки Саркисовой не было? Или была? И ведь не спросишь ни у кого. Совсем, скажут, ку-ку.
От полноты чувств, я даже прочел вслух свой старенький опус, посвященный куму. Не этому недорослю, а взрослому мужику, что будет рядом со мной работать в электросетях:
Если слышишь перегар,
Берегись - идет завгар!
Он не выдаст и ключа,
Если нет магарыча.
Если честно, так оно в жизни и было. Рубен, как заведующий гаражом, был очень прижимист. Обижались на него шоферюги. Урвать для себя канистру бензина было почти нереально. Новую запчасть если и выдавал, то со скандалом. И то, после того как сам убедится, что старая ремонту не подлежит.
- Ну и кум у тебя! - говорил в раздевалке председатель профкома Самуха, работавший у нас вышкарем - Век бы его не знать!
Такие наезды я глушил на корню:
- Про ваших кумовьев, мужики, никто ничего не знает: как зовут, где живут, и есть ли они вообще. А вот моего кума каждый день вспоминают хренами!
К моему удивлению, старый стишок пришелся всем по душе.
Славка Босых попросил его переписать, Рубен удивленно спросил: откуда я знаю его дяхана Витьку, а тетя Шура искренне засмеялась и увела меня в дом, "приводить в божеский вид".
- И что ж тебе, мил человек, в этот день так не везет? - спросила она.
Я ждал продолжения этой фразы, но ее не последовало. Скрипнула дверца шкафа. Через пару минут я уже облачался в синие сатиновые трико и желтую майку с надписью "Урожай". Все из гардероба будущего завгара. В углу у окна стрекотала машинка "Зингер". Принцесса на кухне всполаскивала и протирала посуду. Из новенького проигрывателя, транзитом через мою душу, звучал незабвенный голос Ларисы Мондрус:
В новый дом недавно въехала я
Нравится мне вся квартира моя.
Большие окна, шлет
Солнце теплый привет.
Жить бы тут сто тысяч лет,
Ничего, что стенка тоненькая
Целый день там слышу музыку я.
В вечерний поздний час,
И даже утром, чуть свет,
За стеной поет сосед:
"Ча-ча-ча!"
"Ча-ча-ча" в те времена не приветствовалось даже на бытовом уровне. А нам с кумом эта песенка нравилось. Тете Шуре, наверное, тоже. Не просто же так в их доме появилась эта пластинка? Макаренко она не читала, и сына воспитывала своеобразно: вела себя с ним, как со своим сверстником. А он, падал такая, конкретно борзей, и в глаза звал ее Шуркой. Тем не менее, у нее получилось. Не было у меня более верного друга, чем будущий кум.
На улице жарче, чем в доме. Саманные стены летом дают прохладу, а зимой сохраняют тепло. Я молча уселся на нижнюю ступеньку крыльца, вытянул ноги, поскольку в паху еще жгло, и с легкою грустью следил за своими старинными дружбанами. Они без меня не скучали, и уже подыскали занятие по душе: "кололи" двухтактный двигатель от турчка. Босяра удерживал кованую отвертку, а Рубен осторожно постукивал по ней молотком, поминая недобрым словом подшипники коленвала. У них получалось:
- Отвертку левей передвинь, еще... теперь крепче держи!
- Слушаюсь, товарищ завгар! - судя по этой фразе, горячие новости Славка уже рассказал, и теперь вот...
Я сначала подумал, что он прикалывается, типа того что тролит Рубена, а потом вспомнил что нет. Все на полном серьёзе. Играя во что-нибудь "понарошку", я тоже когда-то перерождался в образ, выпавший мне по жребию. Запыленный чердак становился кабиной настояшего бомбардировщика, где каждый из нас выполнял свою боевую задачу. Славка вел самолет, Рубен с тревогой посматривал в слуховое окно: нет ли поблизости вражеских "Фокке-Вульфов", а я застывший у "спарки", ждал окончательного решения командира. Что делать? Уходить в облака, или принимать бой?
Эх, было, да быльем поросло. И ведь, не вернешь! Ну, кто я теперь? - маленький неискренний старичок, урод с испоганенным взрослостью разумом. В любой детской игре я буду стопроцентно фальшивить, и ненавидеть за это себя. Нет, невеликое счастье -
пройтись по второму кругу. Жизнь после смерти это не путевка в Артек. Когда рядом с памятью совесть, нет от нее стопроцентной радости.
Высоко за моею спиной звякнула застекленная дверь. Быстрые каблуки сбежали по высоким ступеням.
Женька, - флегматично подумал я, - кто же еще?
Принцесса была в праздничном белом платье. Поравнялась со мной, она обернулась, уронила голову на плечо. Лицо у нее какое-то переменчивое, играет эмоциями. Мышцы настолько подвижны, что после каждого нового взгляда, его узнаёшь разве что, по глазам. Они как ночные бабочки, готовые сорваться в полет. То узкие и раскосые, а то... как взмахнут ресницами в полный размах!
- Не бойся, - прошептал ветерок, поднятый ее платьем, - ты не скоро умрешь...
Слова (если только это были слова), ни капельки не утешили, а только нагнали еще больше тоски. Зачем оно мне?
А Женька уже стояла перед раскрытой дверью сарая.
- Мальчишки, - сказала она, - вы тут не заигрались? Руки мыть и быстро к столу! Тетя Саша зовет.
- Ну, если завгар разрешит... - в этот раз прикололся Славка, и не выдержал, сорвался на смех.
- Что магарыч нужен? - подыграла ему принцесса. - Сейчас принесу...
- Нет! Мы пошутили! - испуганно пискнули пацаны.
Мы столпились у рукомойника - спаянный экипаж боевого бомбардировщика. Те, кому довелось не пропасть в начале лихих девяностых. Не спиться, не присесть на наркотики, а выжить и жить, поддерживая себя, и друг друга.
Рубен брызгался теплой водой. Славка, смеясь, уворачивался. А мне казалось несправедливым, что сегодня, как и в конце жизни, нас будет всего трое из всего неугомонного класса.
Дальше, в принципе, рассказывать неинтересно. Застолья без водки, отличаются друг от друга только блюдами на столе. Долма д-тарпы, лимонад, неизменный трехцветный пирог, конфеты (куда без них?) - все было вкусно. Но праздник, в детском понимании этого слова, у меня не сложился. Права мамка Рубена. Невезучий какой-то день. Совсем выбил из колеи. Ску-учно! Замолчали и пацаны. Никто не мешал, не сдерживал, а вдвоем вдоволь не подурачишься, если третий надулся как сыч. Тетя Шура и Женька, которую причислили к взрослым, ушли к дяхану Пашке. Из-за стенки уже раздается топот ног и громкое "ча-ча-ча". В другой половине дома свои интересы, совершенно иные напитки и темы для разговоров. Там настоящий праздник. Это я по себе знаю.
Мы по-быстрому набили утробы. Пацаны сговорились идти в сарай, чтобы продолжить игру в гараж.
- Из трех двигунов чего-нибудь соберем, - озвучивал Рубен ближайшие перспективы.
Скрипя сердцем, я согласился. Рубашка еще не высохла, да и негоже в любом возрасте: пожрал - и сразу домой.
Та еще мука - вести свою партию и не фальшивить. Но опыт великая вещь. Я вспомнил Пьера Ришара в фильме "Игрушка", из которого вычленил одну из главных идей: играя во взрослых с детьми, нужно быть взрослым.
Рубен, на правах именинника, распредял роли:
- Я буду заведующим гаражом, Славка мастером по ремонту, а ты...
- Инженером по технике безопасности!
Наивные пацаны согласились. Не подумав, сказали "лады".
Ну, думаю, щас! Пусть только попробуют взяться за молоток и отвертку, будет им внеочередной инструктаж. Целую речь для них приготовил. Типа того, что "Не понял, товарищ завгар? Достойный пример вы показываете своим подчиненным! Наряд не открыт, на верстаке бардак..."
Именно в этом месте и случился облом. Калитка затряслась, загремела. Кто-то нетерпеливый стучался в нее ногами. Рубен выронил молоток, пошел открывать. Славка сжал кулаки, двинулся следом за ним. Я тоже подумал, что гость не к добру. Мальчишки так не наглеют. Наверное, это кто-то из взрослых. Скорее всего, отец того пацана, что огреб от меня ногой. Если с сыном что-то не так, есть у него вменяемый повод.
Прятаться я не стал. Ноги не шли. Холодное, липкое чувство разлилось по грудине, отдалось тяжестью в животе. Этого еще не хватало!
Звякнул засов. Калитка протяжно скрипнула, наткнулась на чью-то ногу, тут же отыграла назад. Рубен по запарке, кого-то едва не пришиб. После второй попытки, в проеме нарисовался Женька Таскаев. Он восседал верхом на турчке и громко высказывал свое возмущение. Осторожней, мол, надо! За малым, крыло не помял. Увидев Босяру, поблек, перешел на нормальный язык.
- Проблемы опять с движком. Завелся нормально. Километра четыре проехал и скис.
- Починим, - сказал Рубен, - заводи.
- Да я не один, - замялся очкарик.
- Заходи не один.
- Не жохай, Женька, ешь опилки, ведь я директор лесопилки, - приободрил его Славка. - Бить никого не будем.
А у меня на душе стало легко-легко! Стянул я с веревки свою высохшую рубашку и пошел в комнату тети Шуры, за штанами.
Вот, - думаю, - удача! И с пацаном все обошлось, и повод сыскался, чтобы домой уйти. Рубену будет не до гостей. Ремонт Женькиного турчка это уже не игра в гараж.
Только успел переодеться, выхожу на крыльцо, гляжу, а они поднимаются мне навстречу: Славка Босых, Кум, этот очкарик и... кто бы вы думали? - бабка Филониха!
Увидела меня, отшатнулась, стала копытами тормозить. Ну, типа того, что в гости идти передумала. Женька тоже заегозил, отводит глаза. Это ж он, падла, чужую бабу на новом турчке выгуливал! Как будто бы я для него из говна делал конфетку. Вот и помогай после этого людям! По этой причине, так мне хреново стало, аж сердце зашлось. Вот, блин, никогда б не подумал, что это меня так заденет! И ведь в бубен не дашь подлецу, не та ситуация.
Босяра-то сразу понял, где собака порылась, а кум как будто забыл, с кем я за одной партой сижу. Идет себе, распитюкивает:
- Как же он у тебя без бензина поедет?
А Женьку и жаба душит, и слово боится сказать. Не дурачок, понимает что кум у него половину бака прогарцевал, а попробуй, возбухни! Если я в присутствии Вальки начну его парафинить, или словесно казнить, никто, кроме Рубена за него не заступится.
Короче, у новых гостей ситуация патовая. Уйти? - а как ты уйдешь, если тебя пригласили к столу? Да и турчок в сарае стоит, еще не заправленый. Не тащить же его на руках хрен знает куда?
Прошкандыбыли мимо меня. Молчат. Будто по яблоку только что проглотили.
Ах, вы ж, - думаю, - суки! Хренушки я уйду! Вот сяду за стол, и буду мозолить глаза. Устрою вам праздничек! А сердчишко у меня ноет! Как зуб, когда ты сидишь в очереди к стоматологу. Вроде бы моченьки нет, а вскрикнет кто-либо за дверью, - типа того, что и не болел никогда. Через пару минут опять!
Короче, сидим, хаваем. Славка уничтожает пирог. Очкарик с Филонихой давятся ассирийскими голубцами. Рубен на подхвате, кому чего подложить. А я ничего не ем, смакую стакан "Крем-соды". Интересный получился напиток у нашего пищепрома: пустую бутылку нюхнёшь, отдает заварным кремом, а пьешь - никакого привкуса.
Босяра в таких ситуациях как рыба в воде. Нравится ему, когда в воздухе пахнет конфликтом. Между двумя глотками, шуточки отпускает и сам же звенит своим колокольчиком. Только кум все недоумевает: что же такое случилось с гостями? Почему это все молчат? Он, по сути, мужик хлебосольный, но тугодум.
- Сейчас, - говорит, - я кое-чего принесу.
Вернулся с гитарой. Смотался, наверное, к дяхану Пашке, упал на четыре кости. Понимающий музыкант инструмент на вынос не выдает, пока не поддаст, а тут именины у пацана. Ну и... наверно, уже.
Гитара у дяхана здоровущая, ростом с меня. Коробка вообще мечта: глубокая, гулкая.
- Ну, - проанонсировал Славка, - чувствую, что Рубен нас чем-нибудь удивит!
И правда, кум изменил свой вчерашний репертуар. Начал его со "Смерти клопа". Для тех кто не в курсе, коротко поясню: на самых высоких нотах несколько "пи" (с паузами, строго по восходящей), на верхней струне громкое "бум!" - и тоненькое вибрато, опять же, внизу.
"Курочка" получилась мелодичней и громче, несмотря даже на то, что Рубен тарахтел семерочными аккордами на шестиструнной гитаре. Она была хоть как-то настроена на басах.
Как кому, а Славке понравилось. Он был фанатом уличного инструментала, слышал и более лучшие образцы, но кума моего поддержал. Ибо в сегодняшнем исполнении было важно не "как", а "кто".
Про остальных не скажу. Очкарик сидел, уткнувшись в свою тарелку, а Валька всего разок вежливо улыбнулась. И то, на словах "но через год снесла она яичко". В моем понимании, этот пассаж мог относиться как к исполнителю, так и автору слов - дремучему дубу в орнитологии.
Получив свою долю аплодисментов, Рубен положил гитару на диван, рядом со мной. Я и про Вальку забыл: как давно мои пальцы не бегали по ладам такого шикарного инструмента! Струны легкие, голосистые. Нет в оплетке ни грязи, ни ржавчины. Наверное, дяхан Пашка недавно варил их в уксусе. Старый комплект, а строит и неплохо еще звучит...
В общем, забыл я все свои табу и шифровки. Не выдержал. Сам не помню, как и когда гитара оказалась в моих руках. Проверил настройку - ни одна струна не ушла. Попробовал взять ля минор - фигушки! Пальцы все помнят, а будто бы не мои. Я думал, будут летать, а они спотыкаются. Указательный левой еще не растянут, куда с ним держать барэ?
Кое-как, с пятого на десятое, изобразил перебором песню про журавлей, Марка Бернеса и плюнул на это дело. Взял инструмент за гриф, сую его на диван, коробкой вперед, а Босяра отыгрывает назад: играй, мол, еще. Я, главное, туда - он назад.
- Ты б, - говорит, - Санек, спел что-нибудь. Тогда будет не так заметно, что ты на гитаре не очень.
Обидно мне стало. Ах, ты ж, - думаю, - гад! Смерть, значит, клопа для тебя шедевр, а тут, пару раз лажанулся - и уже отстой?! Я может, на таких больших инструментах и не играл никогда. Для меня может, эта гитара что контрабас. Верхняя обечайка чуть ли ни до подбородка, и лады для моих пальцев великоваты. Крестный отец, называется! Ну, высказал бы свои замечания один на один. Нафига при Филонихе?!
Пересел я из-за стола на диван, облокотился на спинку, чтобы гриф взглядом отслеживать, и побежал пальцами по ладам. Песня сама выбралась. Я ее написал за месяц до смерти, да так и не успел никому показать.
Уеду в деревню -
Таков мой случайный каприз.
Там прошлому внемлют
Покои бревенчатых изб.
Расчищу ступени,
Лучину зажгу от печи.
И прошлое тенью,
В окошко мое постучит...
Не стал я призывать под знамена ни Антонова с Шевчуком, ни Градского с Сергеем Никитиным. Совесть не позволяла, да и своих мелодий и текстов до вечера не перепеть. Другое дело, что все они так и не стали полноценными песнями, но это вина не моя. Время такое, что каждый на нашей эстраде сам себе композитор, поэт и аранжировщик. Не заметили. Не то чтобы совсем не заметили. Нашелся в Архангельске один композитор, что плотно занялся моими стихами. Звонил каждый день, лялякал мелодии по телефону, а потом пропал навсегда. В Израиль умотал. Как сказал Михаил Светлов в своей знаменитой "Гренаде", "уехал товарищ и песню увез".
Пальцы мои постепенно разбегались. Я даже сумел оторваться взглядом от грифа во время довольно сложного проигрыша. Глянул на кума - у того глаза по полтиннику. Как будто бы я египетский сфинкс, попросивший у него закурить. Рычит от восторга, колотит ладонями по коленям. Ну, на его мнение можно спокойно покласть. Для Рубена что "Курочка", что "Журавли" - все на один мотив.
Женьке Таскаеву вообще все, кроме турчка, фиолетово. Ему бы заправиться, и ходу, пока при памяти. Хорошо если Филониху назад отдадут. Она уже, кстати, пригладила перышки. Сидит, отрешенным взглядом постреливает в потолок. Ну, баба на корабле, источник конфликтов, виновница бед и несчастий. Наверно считает, что ради нее я сейчас выпрыгиваю из штанов, Джимми Хендрикса изображаю. А вот Славка Босых - тот да. Сидит, подпевает. Он музыку и слова схватывает налету. Ладно, думаю, буду играть для него.
Ты в стареньком платье
Уйдешь в зацветающий сад,
Старик на полатях
Закурит крутой самосад,
Роженица в сенцах
Заплачет, держась за живот,
И выпрыгнет сердце
От счастья, что все оживет...
Врать не буду, мне почему-то очень хотелось удостоиться хоть какого-то знака внимания с Валькиной стороны, окутаться дальним светом ее зеленых прожекторов. А она, сучка такая, отвернулась к стене, зевнула и сказала в пространство:
- Нельзя ли что-нибудь поновей?
У меня аж в глазах потемнело. Куда ж тебе, падла, новей?! Эта песня из такого далёка, что тебе до нее вряд ли дожить! И так меня это зацепило, чуть гитару не бросил. Еле-еле сдержался.
Нет, - думаю, - Валька! Уж этого стопудово вашей светлости не обломится! И вообще, к этой песне ты ни с какого бока. Не для тебя она, а для моих друзей. Можешь хоть зазеваться, но я допою ее до конца. И будет тебе от меня полный игнор. Отныне, и вовеки веков! Отвернулся, короче. На пальцы свои смотрю.
Угасшие свечи
Опалят крыло мотылька,
И ляжет на плечи
Родная до боли рука.
Уйдет постепенно
Из жизни любой человек,
Лишь прошлого тени
Встают вместо пройденных вех...
Дотянул-таки. Правда, не до конца. Был в этой песне еще один, пятый куплет, но он не вязался с этой реальностью и я его опустил. Но это уже мелочи. Главное, не сфальшивил. Голосишко, правда, подрагивал, но это уже от избытка чувств. Ох, и обидела меня бабка Филониха! По-моему, я ее по-настоящему заревновал. Вот никогда б не подумал, что в преклонном возрасте такое возможно. Ну его, - думаю, - в баню, пойду я домой, пока окончательно не влюбился. Дед, кстати, просил не задерживаться. Взял и ушел, как пацаны не упрашивали спеть еще что-нибудь. Если б не Валька, я б с дорогой душой. А так...
Вышел на улицу, а под соседской калиткой сидит воробьишко слёток. Чирикает, мамку зовет. Цыкнул я, хлопнул в ладоши, а он, еще не понимает, что сельский пацан опасней любой кошки, что он ему первый враг. Притих, желторотый, голову в плечи втянул, даже в сторону отлететь ума не хватает. Присел я на корточки, руку к нему протянул, а он клюв нараспашку. Не щипануть хочет, а типа того, что жрать подавай! Во дурень! Смахнул здоровенного зыка с левой руки, кинул ему в топку - махом схарчил. Ладно, - думаю, - потом разберемся. Сунул я тот пушистый комочек в нагрудный карман и почесал напрямки.
Иду, а сердце, как тот воробьишка, ворочается, покоя себе не найдет. Филониха в нем занозой торчит. Как вспомню ее рядом с Женькой Таскаевым, руки дрожать начинают. Муху поймать не могу. И главное, понимаю, что дети они еще, а вспомню, каким блядуном окажется к старости наш очкарик, хоть криком кричи! Гулял от жены только влет. Гостинница в собственности, три ресторана - поди, уследи!
Шагал я, шагал, да и отвлекся от дурных мыслей. Воробьишко вполне освоился в кармане рубашки. Обломилось ему от щедрот. Мух-то сейчас много больше, чем милиционеров. Какую-никакую, а изловлю. Это в мое время все стало наоборот. Высунул он свой ненасытный клюв, смотрит, да удивляется. Чудное гнездо у нового папки: движется само по себе. Смотрел, падла, смотрел, да и насрал в карман. Ну, чисто бабка Филониха!
Стоп, - себе думаю, - а причем тут она? Стоит ли эта сучка того, чтобы зеленые сопли размазывать по щекам? Ты ведь, Сашка, пропустил и не понял главное. Любовь проснулась в тебе, дураке. Зашевелилась, как Мухтар по весне. Чешет бочину заднею лапой, сдирает остатки линялой шкуры. С любовью в душе можно жизнь заново пережить, если помнить о будущем и совестью не торговать.
А сколько кому в ней отмеряно? - это уже дело десятое.
Конец книги, или книга всё.









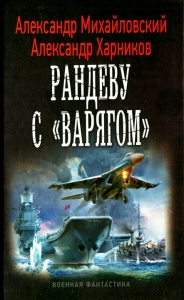
Комментарии к книге «Хрен знат», Александр Анатольевич Борисов
Всего 0 комментариев