Евгений Сергеевич Красницкий Отрок Богам – божье, людям – людское Роман
Выпуск произведения без разрешения издательства считается противоправным и преследуется по закону
© Евгений Красницкий, 2017
© ООО «Издательство АСТ», 2017
От автора
Это последняя книга из серии «Отрок». Нет, я не собираюсь расставаться с Михаилом Андреевичем Ратниковым, оказавшимся в XII веке в теле подростка Мишки Лисовина, просто мальчик уже вырос, и повествование о его приключениях будет продолжено в серии книг под общим названием «Сотник».
Разумеется, в первые шесть книг вошло далеко не все, что написано мной за прошедшие два с лишним года. Часть «задела», возможно, будет использована мной позже, а два фрагмента размещены в конце этой книги, под общим заголовком «Люди, события, разговоры». В этих фрагментах содержится то, что важно для понимания причин дальнейших событий и для более глубокой прорисовки характеров некоторых персонажей.
Засим, любезный читатель, позвольте оставить Вас наедине с книгой «Богам – божье, людям – людское» в надежде, что она не покажется Вам более скучной, чем предыдущие.
Часть 1
Глава 1
Август 1125 года. База Младшей стражи,
село Ратное и окрестности
– Едут!!! – Дударик ворвался в лазарет с таким лицом, будто сообщал о начавшемся в крепости пожаре. В другое время за подобное поведение он получил бы от Юльки… В общем, получил бы, да так, что на всю жизнь зарекся бы заходить без разрешения, но сейчас одно слово «едут» снимало с него любые грехи – в крепости уже несколько дней ждали возвращения первой полусотни Младшей стражи из похода.
Юлька, услышав Дударика, замерла возле постели Трифона, которого, под ее присмотром, перевязывала Слана – одна из новых помощниц. Из головы разом вылетели все мысли вместе с планами поведения при первой встрече с Мишкой.
Выручили зашевелившиеся и начавшие подниматься больные и раненые. Привычно цыкнув на пациентов и шуганув Дударика, который и так не собирался задерживаться в лазарете, лекарка, сдерживая себя, нарочито неторопливо ушла в свою каморку и только тут заметалась – вытащила зеркальце, забыла в него глянуть и принялась искать платок – Мишкин подарок – вовсе не там, где ему надлежало находиться.
Платок, впрочем, нашелся быстро – слишком мало вещей было в каморке. Юлька потыкалась туда-сюда, сама не зная зачем, почувствовала, как горят щеки, убедилась, глянув в зеркальце, что это ей не кажется, и, уже собравшись бежать в сени к кадке с холодной водой, приструнила сама себя, вспомнив уроки матери: лекарка в любых обстоятельствах должна уметь сохранять спокойствие, не показывая ни голосом, ни внешностью, какие чувства ее обуревают.
Немного посидела на постели, закрыв глаза и выравнивая дыхание, пробудила в кончиках пальцев ощущение жара и погнала волны успокаивающего и расслабляющего тепла вверх по рукам. Привычное упражнение с первого раза не получилось – шея не расслабилась, а, наоборот, напряглась, кровь забилась в жилах, еще больше прилила к лицу… Пришлось встряхивать ладонями и начинать все сначала. Со второго захода все вышло, как надо. Юлька неторопливо накинула на плечи переливающийся лазурью шелковый платок, поглядывая в зеркальце, тщательно оправила его, и, сделав несколько глубоких вдохов, неторопливо вышла из лазарета на улицу.
Помощницы – Слана и Полина – были уже тут как тут, нетерпеливо топтались на месте, собираясь бежать к воротам.
– А вы чего здесь? – осадила девиц Юлька. – К больным ступайте, там и без вас обойдутся!
– Так, может, еще раненые будут… – попыталась возразить Полька – мы бы сразу и…
– А без вас их от ворот сюда, значит, не довезут? Пошли! Все для перевязки приготовить и ждать!
Юлька, не оглядываясь на помощниц, двинулась к воротам, сзади чуть слышно донеслось:
– Платок-то нацепила…
– Это ей Михайла подарил…
Только пройдя несколько шагов, Юлька заметила шагавшую через крепостной двор Мишкину мать, которую сопровождал табунок девок во главе c Мишкиными сестрами – Анькой-младшей и Марией.
– Строга ты с помощницами, строга! – Анна-старшая поощрительно улыбнулась. – И правильно, нечего им у ворот делать! В поход отроков не провожали, возвращения их не дожидались, ночами за благополучие их не молились, подушки слезами не мочили… – Анна Павловна произносила слова ритмично, в такт шагам, и нарочито громко, чтобы слышали девицы, сбившиеся позади нее в маленькую толпу. – Радости встречи достойны только те, кто дожидался, а для остальных это просто зрелище… Мария, ну-ка, поторопи Плаву, что-то я ее не вижу.
Машка повернула было в сторону кухни, но почти тут же из дверей «пищеблока» выплыла Плава, держа в руке расписной ковш. Позади нее обозначился и Простыня в обнимку с объемистым бочонком.
* * *
В Ратном встреча возвращающихся из похода ратников была обставлена выработанным и утвердившимся за многие десятилетия ритуалом. Ратники неторопливо выворачивали из-за края леса, останавливались и, обнажив головы, крестились на колокольню ратнинской церкви. Стояли довольно долго, дожидаясь, пока подтянется обоз, и одновременно давая возможность встречающим собраться у въезда в село. Потом шагом ехали к воротам, чтобы встречающие успели выйти навстречу. У ворот спешивались, снова обнажали головы и вторили молитвам священника, выходившего вперед из толпы. Все при этом старались не обращать внимания на женщин, не обнаруживших в строю своих родных и торопливо пробирающихся в сторону обоза, везущего раненых и убитых, – радость встречи и благодарственная молитва не должны омрачаться ничем.
Потом будут слезы и причитания, потом сотник и десятники будут ходить по дворам, кланяясь вдовам и сиротам, прося прощения за то, что не сберегли мужей, отцов, братьев, сыновей… Потом все село соберется возле церкви на отпевание убитых, и так же все вместе пойдут на кладбище, чтобы предать павших земле. Потом староста привезет на подворья погибших вдовьи доли добычи и хозяйским глазом определит, какая помощь требуется семье, оставшейся без мужских рук.
Все это будет потом, а сначала – радость встречи и благодарность Всевышнему. Жизнь продолжается.
В крепости у отроков не было ни матерей, ни, тем более, жен; раненых обозники привезли раньше: легких сюда, тяжелых в Ратное к Настене, убитых – тоже в Ратное. Однако встретить молодых воинов из первого в их жизни боевого похода надлежало, как следует. Так, чтобы эта встреча запомнилась на всю жизнь и, возможно, стала бы основой нового, своего собственного, отличного от ратнинского, ритуала. Этим Анна Павловна озаботилась заранее, даже провела пару репетиций, правда Юльку на репетиции не звали, и она не знала, где ей вставать и что делать. Анна-старшая, как выяснилось, об этом прекрасно помнила. Подхватив Юльку под руку, она притянула лекарку к себе и негромко сказала:
– Держись рядом со мной. Как только Антон доклад окончит, если захочешь, первая к Михайле подойдешь, – ободряя, слегка напрягла пальцы, которыми держала Юльку за руку, и добавила: – А платок-то, Михайла тогда верно сказал, как раз под цвет глаз.
Слова, казалось бы, приятные, вызвали у Юльки досаду – десятка шагов от лазарета не отошла, а про платок уже дважды услышала, так и будут теперь трепать: для Мишки вырядилась! Хоть снимай да прячь!
– Правильно надела, – Анна снова улыбнулась, теперь уже понимающе. – Михайла его на тебе еще не видел, сразу заметит, порадуется!
Юлька снова ощутила жар на щеках, а губы сами собой начали расплываться в улыбку, но тут внимание Анны-старшей очень вовремя отвлек на себя дежурный урядник Антоний:
– Матушка боярыня! Как Михайлу-то величать теперь? Его же господин сотник… это самое… ну, старшиной-то у нас нынче Дмитрий…
Вести о штурме острога и лишении Мишки старшинства принесли первые раненые, доставленные обозниками в крепость, и для Юльки впервые, сколько она себя помнила, главным стали не забота о пациентах и не сожаление о погибших, а Мишкино несчастье. Именно несчастье, потому что, в понимании юной лекарки, Мишка не мыслил себя отдельно от Младшей стражи. Как же он теперь? За что старик Корзень с ним так обошелся?
Потом, когда привезли раненых из Отишия, все стало еще непонятнее: Мишка, вроде бы уже и не старшина, все равно командовал отроками и даже увел два десятка в самостоятельный поход. Юлька тогда не удержалась и попыталась получить разъяснения у боярыни Анны. Та тоже не скрывала беспокойства за сына, но ответила уверенно:
– Старый Лисовин мудр и знает, что делает. Раз лишил старшинства, значит, это для чего-то было надо!
Правда, уверенности ее хватило ненадолго – вести о ранении Алексея тоже были какими-то противоречивыми: то получалось, что ранен он чуть ли не смертельно, то ранение такое легкое, что старшего наставника Младшей стражи даже не стали перевозить через болото.
В конце концов, уже Юльке пришлось успокаивать Анну, напоминая, что раненым все всегда представляется в мрачном свете, гораздо хуже, чем было на самом деле, а самостоятельный поход опричников вовсе не опасен, иначе дед Мишку ни за что не отпустил бы. Разговор, что называется, сложился – юная лекарка ведовским чутьем уловила некую теплоту, возникающую между ней и Мишкиной матерью, но тут все испортила Анька-младшая, до того радовавшая собеседниц совершенно необычной для нее сдержанной молчаливостью:
– А если Миньку убьют…
Юльку будто пилой по сердцу полоснуло. То, что мысли Аньки-младшей почти целиком заняты туровскими женихами, изнывающими в ожидании ее приезда, было известно всем, то, что весь ум, положенный двум старшим Мишкиным сестрам, почти целиком достался одной Марии – тоже, но ляпнуть такое!
Начисто позабыв материн запрет пугать людей ведовством, не заметив уже занесенную для оплеухи руку Анны-старшей, Юлька вывернула «колдовским жестом» ладонь в сторону Аньки-младшей и прошипела таким тоном, что самой стало жутко:
– Если накаркала, женихи тебе уже без надобности!
Получилось настолько убедительно, что дура Анька, отшатнувшись, аж позеленела, а ее мать так и замерла с поднятой рукой, с трудом произнеся враз побелевшими губами:
– Что ж ты, девонька…
Умна была Анна Павловна, не отнимешь, и прихожанкой у отца Михаила числилась образцовой, но в ведовство и прочие колдовские дела верила безоговорочно.
Кончилось все тем, что в ту же ночь Юлька, впервые в жизни, самостоятельно выступила в роли жрицы Макоши, впервые возглавила проведение обряда. Все девицы, проходящие обучение на Базе Младшей стражи, украсив головы папоротниковыми венками с вплетенными в них Юлькой нужными травами, кружили на лесной поляне, мерцая в лунном свете обнаженными телами, и хором повторяли за юной ведуньей слова оберегающего воинов заговора. Юлька, сама себе удивляясь, по очереди вплетала в колдовской речитатив имя каждого отрока, ушедшего в поход, и девки взмахами еловых ветвей отгоняли от него беду. Удивлялась же юная ведунья тому, что, не зная родовых имен отроков, поминала их христианские прозванья, и это не вызывало у нее никакого внутреннего протеста или неудобства.
И еще одно, совершенно неожиданное впечатление подарила юной лекарке та ночь – понимание того, что ощущает воинский начальник, когда каждому его слову или жесту беспрекословно подчиняются десятки людей. Поняла, но не возгордилась, а содрогнулась. Вот так посылают на смерть и на убийство. Так послал поп «очистить огнем» то место, где жила семья матери…
* * *
Макошь смилостивилась – Минька возвращается, а Антон спрашивает, как величать старшину, переставшего быть старшиной… Дурак, какое это имеет значение? Главное – вернулся!
– Величать бояричем! – ответила Мишкина мать тоном, мгновенно изменившимся с ласково-покровительственного на командный. Сказала, как припечатала – Антон выпрямился в седле, будто перед сотником.
– Слушаюсь, матушка боярыня!
Развернул коня и погнал его вон из крепости, а Анна-старшая, вновь подобрев, мягко повлекла Юльку к воротам. Этот мгновенный переход – от ласковой покровительственности к командной строгости и обратно – выдернул из Юлькиной памяти недавние материны наставления: «Особенно же не доверяй, если наказанная тобой вдруг ласковой да улыбчивой к тебе станет. Змеиная та улыбка».
Сразу же позабылись и смущение, и привлекающий взгляды платок. Наказала ли она тогда боярыню Анну? Угроза дочери страхом ведовской мести… Потом Анна-старшая беспрекословно отпустила девок на ночную ворожбу, а сама так же беспрекословно осталась дома, поскольку в обряде нельзя участвовать рожавшим женщинам, но…
Юлька вспомнила тяжелые бедра Анны-старшей, «березку» по бокам живота – последствия многочисленных беременностей. Анна – мать, а мать не забудет и не простит угрозы для ее детей, и совершенно неважно, каковы эти дети: умны или глупы, здоровы или больны, малы или уже сами стали родителями. К тому же Анна умна, а это делает ее еще более опасным недругом. И она женщина – именно такая ЖЕНЩИНА, о которой толковала Настена во время недавних ночных посиделок с дочкой. Алексей, конечно же, видел ее такой – без одежды, но все равно глядит на вдову побратима так, будто никого краше на свете нет.
Юная лекарка вдруг показалась себе такой маленькой и беззащитной рядом с боярыней Анной – сильным, умным и смертельно опасным зверем. На мгновение показалось, что ладонь, мягко поддерживающая под руку, вот-вот, словно рысья лапа, выпустит спрятанные в мягких подушечках загнутые когти.
Анна-старшая, почувствовав, как поежилась подружка ее сына, снова слегка склонилась к ней и заговорила успокаивающим тоном:
– Не бойся ничего, все хорошо будет. Я тоже, когда своего первый раз из похода встречала, ног под собой не чуяла. И не думай о том, что все на тебя глядят – как только отроки появятся, каждая своего высматривать станет, о тебе и вообще обо всем позабудут.
Ни доверительный тон, ни ободряющие слова не подействовали. Скорее, достигли обратного результата – захотелось к маме, к такой мудрой, доброй, сильной, почти всемогущей жрице Пресветлой Макоши… Но мама далеко и ей нужна Юлькина помощь здесь, в крепости, потому что Минька… Минька! Он тоже иногда смотрит так, как Алексей на Анну! Он защитит, он… и еще Крестильник в нем! Да! Пусть увидит платок, поймет, что ждала, что нарочно берегла подарок для подходящего случая!
Вторую полусотню Младшей стражи недавно забрали из крепости, для того, чтобы они помогли гнать от болота трофейных коней и конвоировать полон, поэтому за крепостным рвом, напротив паромной переправы, выстроилось всего около трех десятков отроков. Все были в блестящих на солнце, начищенных доспехах, на ухоженных конях. Тут же высились в седлах наставники Прокоп и Тит, а Филимон и Макар, не способные из-за увечий ездить верхом, стояли в сторонке, у самого моста через ров. Перед строем гарцевал урядник Антоний, нетерпеливо оглядываясь на отчаливающий от противоположного берега Пивени паром.
– Ну вот, – удовлетворенно произнесла Анна-старшая, – как раз вовремя подоспели. Девки, не толпитесь, встаньте вдоль моста рядком, да не высовывайтесь, проезд не загораживайте! Простыня, вскрывай бочонок… да не здесь, вот тут поставь! Плава будет ковшом зачерпывать и мне подавать… да что вы, как в первый раз, дважды же пробовали! Маришка, подол отряхни, где уже угваздаться умудрилась? А ты волосы поправь… помогите ей, сама-то не видит! Так! Хватит вертеться, стоять смирно, косы наперед, через левое плечо!
Властный голос боярыни Анны оказал прямо-таки чудодейственное влияние: строевых команд вроде бы не прозвучало, но полтора десятка девиц после короткой суеты изобразили не менее четкое построение, чем «курсанты» воинской школы.
Пока Анна-старшая распоряжалась, Юлька бочком отошла от нее и пристроилась рядом с согнутым, опирающимся на клюку, наставником Филимоном.
– Как новая мазь, дядька Филимон, помогает?
– Спаси тя Христос, девонька! Как огнем прожигает, райское блаженство познал! – Наставник улыбнулся щербатым ртом и хитро подмигнул. – Кабы матушка твоя еще и такую же крепкую бражку делать умела, цены бы ей не было.
– Кому? Матушке или бражке?
Не улыбнуться в ответ инвалиду, сумевшему, несмотря на увечье, сохранить веселость нрава, было невозможно.
– А обеим! Так бы и лечился: мазью снаружи, бражкой изнутри! Таким бы молодцом стал, глядишь, и к тебе бы посватался… ежели б Михайла попустил. О! Гляди, приплыл сокол твой ясный.
Паром действительно ткнулся в берег, и первыми с него съехали Михайла и Алексей. Оба были без доспеха, оба сидели в седлах как-то неловко – неестественно прямо, а у Михайлы вдобавок еще и висела на перевязи левая рука.
– Э-э, зацепило, видать, твоего ненаглядного, что-то он… – начал было комментировать увиденное Филимон, но договорить ему не дали.
«Слушайте все!» – запел с самой высокой части недостроенной крепостной стены рожок Дударика.
– Равняйсь! Смирно! – что было мочи скомандовал Антон. – Равнение на средину!
И тут, ломая весь торжественный ритуал, откуда-то из-за штабеля досок выскочила Красава, тянущая за руку Савву. Малец не очень-то и спешил, видимо, не понимая, куда тащит его внучка волхвы, но потом разглядел отца и сам припустил быстрее Красавы. Подбежал к коню Алексея, вытянул вверх ручонки, и старший наставник Младшей стражи, нагнувшись с седла, подхватил сына и усадил его перед собой. При этом поморщился так, что сразу стало ясно: после ранения это далось ему очень нелегко.
Красава подскочила к коню Мишки, но глянув на всадника, поняла, что подхватить ее, так же как Алексей Савву, Михайла не сможет, даже если бы очень этого захотел. Ухватилась за стремя и прижалась к сапогу (выше не доставала) щекой.
Юлька дернулась, чтобы уйти – смотреть на то, как эта мелкая гадюка льнет к Михайле, было выше ее сил, но Анна Павловна удержала юную лекарку, прихватив за рукав цепкими пальцами.
– Погоди, девонька, не горячись, сейчас увидишь: как прибежала, так и убежит.
Боярыня оказалась права: Михайла что-то коротко сказал Красаве и, подавшись корпусом вперед, толкнул коленями Зверя, заставив его пойти легкой рысцой навстречу коню урядника Антона. Красаве хватило ума не тащиться за стременем, чтобы потом неуместно торчать у всех на виду во время доклада. Но и остаться на месте тоже не получилось: сначала Алексей махнул на нее рукой, будто отгоняя муху, потом и сама сообразила убраться из-под копыт коней, сходящих с парома. На некоторое время Красаву заслонили проезжающие отроки, а потом, когда паром опустел и его потащили назад к противоположному берегу, Юлька разглядела, как внучка волхвы, с пылающим лицом и закушенной губой, бежит прятаться за тот же штабель досок, из-за которого недавно выскочила.
– Так-то! – назидательно поведала Анна-старшая. – На чужой каравай рот не разевай!
– Вот-вот! – поддержал боярыню Филимон. – Столько времени возле воинской школы обретается, а порядка не поняла! Пока молодой сотник доклад о делах не принял да ковшик квасу с дороги не испил, он еще в походе, и нечего всяким свиристелкам…
– Как ты сказал? – перебила его Юлька. – Молодой сотник?
– А что? Гм… старый, что ли, по-твоему?
– Нет, не старый… а почему сотник-то?
– А как же? – Филимон солидно расправил усы и принялся объяснять. – В поход сходил? Сходил! Ворогов поверг, добычу взял, назад благополучно вернулся. И не сам по себе, а людьми повелевая! Значит, что? – наставник вопросительно глянул на собеседницу и сам же ответил на собственный вопрос: – Значит, воинский начальный человек! А сколь у этого начального человека народу под рукой ходит? Поболее дюжины десятков! Кто ж он, как не сотник? – Филимон утвердительно пристукнул клюкой и подвел итог: – Сотник, как есть сотник!
Приняв доклад дежурного урядника, Мишка скомандовал «Вольно» и направил Зверя к мосту через крепостной ров, при въезде на который стояла Анна-старшая с ковшом в руках. Юлька подняла на Миньку глаза и… ни жеста, ни кивка – он всего лишь улыбнулся, и сразу же все окружающее стало мелким и ненужным, ушло куда-то в сторону, вдаль… не важно, куда, осталась только эта улыбка и взгляд глаза в глаза, душа в душу. И длился этот взгляд долго, очень долго, вечность – целых пять или шесть конских шагов.
Первый шаг: «Вернулся…»
Второй шаг: «К тебе…»
Третий шаг: «Ждала?»
Четвертый шаг: «Тебя».
Пятый шаг: «Я вспоминал…»
Шестой шаг: «Я знаю…»
Зверь прошагал мимо, Минька не стал оборачиваться – Анна-старшая уже протягивала ему ковш.
– Здравствуй, сынок, испей кваску с дороги.
– Здравствуй, матушка, благодарствую.
Две женщины – одна впервые познавшая, а другая давно испившая полной мерой, что ожидание считается не в днях и часах, а в мыслях, страхах и надеждах. Две женщины, убежденные в своем праве первыми прильнуть к нему – долгожданному – и слезами, улыбками, словами, объятиями разбить и развеять не только воспоминания о времени разлуки, но и мысли о том, что расставаться придется вновь… Две женщины сдерживали себя, подчиняясь ритуалу и тому, что принято называть «приличиями». Приличиями, которые строгие блюстители нравов считают извечными, но которые век от века меняются, ловко притворяясь неизменными.
Лекарское естество Юльки наконец взяло верх над чувствами, и сквозь все еще стоявшую перед глазами Минькину улыбку проступили и болезненная бледность лица, и оберегаемая левая рука, висящая на перевязи, и неестественная прямота посадки в седле. А потом Минька прервал на половине наклон туловища и не дотянулся до ковша с квасом, так, что Анне-старшей пришлось поднимать его выше – на всю длину рук. Досталось Миньке в походе, ох, досталось…
Михайла спешился – неловко и осторожно, словно опасаясь разбить или сломать что-то хрупкое внутри себя, передал поводья Простыне и встал рядом с матерью, МЕЖДУ Юлькой и матерью, а на освободившееся место подъехал Алексей. Снова слова приветствия, плещущийся в ковше квас, ответные слова благодарности и… Ритуал все-таки сбился! Анна уже взялась за опорожненный ковш, а Алексей его из руки не выпустил, да Анна не очень-то его и вырывала.
Такой же долгий взгляд глаза в глаза, такой же безмолвный диалог, но у Алексея и Анны нашлось, что сказать друг другу – гораздо больше, чем у Михайлы и Юльки. У юной ведуньи аж дыхание перехватило – таким плотским призывом повеяло от Анны, и таким радостным нетерпением отозвался Алексей.
Сами собой вспомнились строчки какого-то мудреца-книжника, которые перевел Минька:
Просто встретились два одиночества, Развели у дороги костер, А костру разгораться не хочется, Вот и весь, вот и весь разговор.Только там все грустно было, а здесь как раз наоборот – костер все разгорается и разгорается. Но были там и правильные слова:
Нас людская молва повенчала, Не поняв, ничего не поняв.Вон как девки пялятся, некоторые даже рты приоткрыли, и отроки тоже. Плава уже и руки в бока уперла, чтобы прикрикнуть, да, видать, так и не решила, на кого – то ли на молодежь, чтоб глаза не вылупливали, то ли на взрослых, чтобы вспомнили, где находятся. Однако все же нашлись понимающие: позади, пробормотав что-то на тему «вот счастье-то… нежданно-негаданно», растроганно засопел Филимон, а Минька обернулся и их с Юлькой взгляды снова встретились.
«И у нас все будет…»
«Будет…»
Юлька спрятала глаза, потому что дальше Миньке знать было не надо. И мысли: «Мой, только мой, у нее Алексей есть, пусть не жадничает» – были в спрятанном отнюдь не главными.
Тихое волшебство незримой связи между Алексеем и Анной разрушил малохольный Савва, зачем-то потянувшись к пустому ковшу. Алексей с заметным сожалением, отпустил посудину и направил коня на мост, а Анна отдала ковш Плаве, тут же получила его назад наполненным и приветливой улыбкой встретила подъехавшего старшину Дмитрия.
Так дальше и пошло: каждого отрока Анна величала по имени, для каждого у нее находилось доброе слово и материнская улыбка, пока Роська, сидевший в седле уж и вовсе не пойми как, не учудил – спешился, бухнулся перед Анной на колени и, прежде чем принять ковш, перекрестился на нее, как на икону. Уж на что Минькина мать умела владеть собой, и то чуть не облила парня квасом.
– Встань! Воину только перед Господом Богом надлежит… – голос Анны был чуточку растерянным, – …на коленях. Встань, я сказала!
Роська послушно встал, но остальные отроки по его примеру стали принимать питье спешившись, предварительно осенив себя крестным знамением и глядя на боярыню Анну прямо-таки со щенячьим восторженным обожанием.
Юлька чуть не ахнула от удивления – оказывается, все-таки и Анну можно смутить! Ай да Роська! Кого в краску вогнал – боярыню, мать сотника. Минька – сотник, надо же! Ее Минька!
Юлька обернулась к наставнику Филимону и, вроде бы продолжая недавний разговор, спросила:
– Дядька Филимон, а если Михайла и вправду сотник, так и городок наш, наверно, надо Михайловым называть?
– А? – наставник с интересом глядел куда-то на мост, еще больше согнувшись, так, что опирался подбородком на клюку, заглядывая под брюхо проходящих мимо коней. – Михайловым, говоришь? А что? Правильно! А то придумали Базу какую-то… и слов-то таких не бывает. Ты гляди, что девки вытворяют, пользуются, что Аньке кони застят!
Юлька тоже пригнулась и увидела, что от полутора десятков учениц на мосту осталось меньше половины. Вот и сейчас одна из девиц шагнула от перил на середину моста и ухватила под уздцы коня, которого вел в поводу спешившийся отрок. Оба тут же о чем-то оживленно заговорили, да так и пошли дальше рядышком. Первой в девичьем строю стояла Анька-младшая – надутая и, по всему видно, злая на весь белый свет. Уйти вместе с Дмитрием, который был бы счастлив подобным оборотом дела, она не догадалась или побоялась и теперь со злобной завистью смотрела в спины проходящих в крепостные ворота парочек. Один из отроков сам протянул руку стоящей на мосту девице, Анька-младшая ухватила было ее за рукав, но та вырвалась, даже не обернувшись.
Отроков было еще много, а девиц на мосту осталось лишь четверо, и ясно было, хоть плачь, что к боярышням никто не подойдет – то ли не решаются, то ли… да кто их поймет? И ладно бы, как в Ратном, девиц было бы больше, чем парней, так нет – на полтора десятка девок почти полторы сотни отроков, а боярышням… прямо беда.
Рядом с Машкой вдруг объявился Дударик, притащивший небольшой кувшин, от которого так и пахнуло стоялым медом, и берестяной ковшик.
– Вот, нацедил, пока мамка не видит, только ковша нарядного не нашел…
– Ничего, спасибо тебе!
Машка подхватила кувшин и ковшик, ласково улыбнулась Дударику и отправилась мимо удивленно оглядывающихся на нее отроков к подходящему к берегу парому. Там она дождалась, пока на берег сойдут наставники Илья и Глеб и с поклоном поднесла им угощение. Весь ее вид так и говорил: «Не хотите и не надо, сама найду, кого приветить, а Анька дура, пусть одна на мосту торчит».
– Ань! – позвал Михайла. – Иди к нам, чего ты там одна…
Последние слова прозвучали уже в спину бегущей к воротам Аньки-младшей.
Юльке было подумалось, что надо бы посочувствовать Минькиной сестре – такое у всех на глазах! – но сочувствие где-то затерялось. Если уж все мысли только о туровских женихах, то здесь ждать некого и незачем, как, впрочем, и тебе никто особенно не рад. Хоть бы к брату подошла, спросила бы, что с рукой… Нет, вся в себе.
* * *
– Ну, здравствуй, Юленька.
Юная лекарка вскочила с лавочки, на которой дожидалась Миньку. Вместе со всеми к часовне она не пошла – была уверена, что после молебна он не пойдет, как все отроки, в баню и в трапезную, а в первую очередь явится проведать раненых. Присела и задумалась.
Лавочку эту поставил Минька и сидел на ней каждый день, подстерегая, когда Юлька выглянет из лазарета. Иногда перекидывались всего несколькими словами, иногда разговаривали подолгу, и никто старшину в это время не беспокоил – знали, что встретит неласково. Ждал каждый день, а она знала, что он ждет, но выходила не сразу, да и не всегда… А теперь вот сама на этой лавочке его дожидается.
Вздрогнула от неожиданности – не заметила, как он подошел, а почему так торопливо вскочила… и сама не поняла. Вскочила, шагнула было навстречу и замерла. Это был Минька и… не Минька – не прежний Минька. Всего-то меньше двух недель, как последний раз виделись, а… Повзрослел? Построжел?
Не только ведовским чутьем уловила перемены – и так было видно. Лицо стало каким-то твердым, между бровями над переносицей наметилась вертикальная складка, исчезла детская пухлогубость, резче стал раздвоенный ямочкой подбородок… и глаза. Такие же зеленые, как у матери, и так же, как у матери, выдающие какое-то тайное и очень нелегкое знание. Раньше Юлька этого вроде бы не замечала, а вот сейчас увидела у Миньки и поняла, что такое же всегда было у Анны-старшей. Может быть, и не всегда, а только после того, как невестка Корнея овдовела, но Юлька тогда была еще слишком мала…
Но не было же этого! Там, у крепостного моста, во время бессловесного разговора между ними. Не было этого взгляда! Почему же сейчас? Да потому, что там, у моста, он на миг – радостный миг – забыл о том, что не привел назад шестерых отроков, которых увел за собой в поход, а во время молитвы, конечно же, вспомнил. И будет теперь помнить всегда.
Научился ли он будить в отроках зверя, как умел это, по словам матери, Корней? Одни раненые рассказывали, что во время захвата Отишия он сам озверел – кинулся грудью на топоры и рогатины, но как-то сумел при этом выжить, а другие раненые поведали, что он, наоборот, успокаивал ребят – на них два десятка конных копейщиков перли, а он прохаживался перед строем, пошучивал…
– Здравствуй… Минь, что с рукой?
– Да так, зашиб немного. Как тут ребята мои?
– Все поправятся, тяжелых-то в Ратное увезли, к маме…
– Да, задали мы тебе работы, ты уж прости… Матвей вернулся, поможет. Вы с Настеной его хорошо выучили, да и он молодец – Бурей на него почти и не ругался, Илья говорит, это – похвала. Так что тебе теперь полегче будет – с помощником.
– А я и не одна, у меня уже две помощницы есть – Слана и Поля.
Вроде бы нормальный разговор, правильный, вежливый, доброжелательный… Но хотелось-то совсем другого – пусть опять без слов, одними глазами, пусть на расстоянии, мимолетно, но вернуть тот радостный миг, ту улыбку!
Юлька вдруг обнаружила, что обе ее ладошки лежат в Минькиной руке – сама не заметила, как так вышло. Торопливо, даже суматошно, отдернула их и уже ставшим привычным непререкаемым тоном скомандовала, будто одному из рядовых отроков:
– Ну-ка, хватит мне зубы заговаривать, пошли, погляжу, что у тебя там!
– Сначала ребят проведать…
– Ты мне не указывай, что сначала, что потом! В лазарете – я воевода! Сам приказал, чтобы…
Юлька осеклась, потому что в ответ на ее слова Минька сделался опять привычным Минькой – добрым, понимающе улыбающимся, словно дед, глядящий на непоседливую внучку. Ну и пусть это была не такая улыбка, как там, у крепостных ворот, зато ушло это тягостное ощущение нелегкого, непростого знания. Вот и пойми его: пока тихо да вежливо говорили – зимняя вода, а как ощетинилась – сразу подобрел.
– Ну, ладно, проведай сначала своих ребят… Пойдем.
Проведать получилось долго. Минька присаживался к каждому из раненых. Расспросив о самочувствии, заводил разговор об обстоятельствах ранения, обязательно доказывал, что это – урок не только для самого отрока, но и для всей Младшей стражи: теперь, мол, он и сам сможет поучить остальных, как уцелеть при повторении такого же случая. Строил разговор так, что по большей части говорили мальчишки, а Минька только внимательно смотрел на них и кивал, даже если те несли совершенную чушь. Можно было подумать, что не Юльку, а его Настена учила, как надо разговором занимать внимание больного и улучшать его настроение, не давая слишком уж углубляться в мысли о своем недуге.
Потом объявился Матвей, тоже разительно переменившийся за время похода. Только вместо затаенной боли и непонятного тайного знания, как у Миньки, у Матвея прорезалась уверенность и резкость, даже некоторая грубоватая властность, словно он впитал понемногу от поведения и Настены, и Бурея. Впрочем, неласковое отношение Матвея к женскому полу никуда не делось – для Юльки-то у него приветливая улыбка нашлась, а на Слану и Польку он глянул так, что те разом переменились в лице и подались к выходу.
Минька и тут нашелся. Удержал девиц, принялся расспрашивать о том, как и когда обнаружилась их способность к лекарству, потом про дом, про родню, пошутил насчет яркого румянца Сланы[1].
Юлька даже чуть не возревновала – таким он сделался вдруг приветливым да улыбчивым. Потом, правда, сама себя одернула, вспомнила материны рассказы о древнем обычае, оставшемся еще с тех времен, когда во главе родов стояли женщины. В соответствии с этим обычаем подобные расспросы были непременной вежливостью и знаком приязни к гостю или новичку. Помогали преодолеть первоначальную неловкость при знакомстве, поддержать разговор, не прерывая его томительными паузами, и позволяли собеседнику определенным образом заявить себя перед незнакомыми людьми.
Потом, как рассказывала Настена, этот обычай распространился на всех, а не только на женщин, но у мужчин не очень-то и прижился, вернее сказать, переродился. Такие расспросы стали в мужских устах свидетельством старшинства, правом хозяина, а ответный рассказ о себе – признанием равенства или знаком благожелательности. У женщин же все так с древних времен, и осталось… Только Минька не женщина, хотя говорил он как-то, что нет для человека темы разговора интереснее, чем о себе самом.
Девиц Минька успокоил, да и Матвей перестал смотреть волком, даже буркнул, что вот теперь пускай они Роське задницу и лечат – того, мол, по второму разу в то же самое место угораздило – чем опять вогнал обеих Юлькиных помощниц в краску.
Наконец Юлька утащила Миньку в свою каморку, заставила улечься, скинув предварительно рубаху, и только потом вспомнила, что раненых в торс перевязывают в сидячем положении. Заволновалась и, вместо того чтобы снова усадить его, принялась срезать повязки, как с лежачего.
Открывшееся зрелище на какое-то время и вовсе вымело из ее головы все лекарские навыки. Левая рука заплыла синяком от локтя почти до плеча, два синяка на груди – каждый больше ладони – почти сливались краями, а на животе запекся след от каленого железа.
Жалость стиснула горло, а потом еще и пришли мысли о том, что он еще как-то нашел в себе силы улыбаться, общаться с ранеными, успокаивать благожелательным разговором девок… Всяких синяков и ушибов Юлька за свою не такую уж долгую лекарскую практику насмотрелась достаточно, знала она и как выглядят следы от стрел, не пробивших доспех, но… не зря Настена объясняла дочке, как трудно бывает лечить родню или близких друзей. И надо было прощупать ребра – нет ли трещин, а руки не поднимались.
– Кости целы, Юль, – угадал причину ее колебаний Минька. – Меня уже Бурей мял, так что чуть не удавил.
– Это тебя так, когда ты Немого вытаскивал?
– Сам дурак, – в Минькином голосе слышалась искренняя досада, – сунулся под выстрелы без ума… и Андрею из-за моей глупости досталось, еще сильнее, чем мне. Слава богу, граненых наконечников у журавлевцев не было.
– А если бы… ой!
Юлька, окончательно позабыв о врачебных обязанностях, прижала ладонь к губам, не давая себе договорить.
– Не было и все! – твердо, даже зло, заявил Минька. – Ты мне чего-нибудь придумай такое… живот чешется, спасу нет. Мазь какую-нибудь…
– Мазь… да, сейчас…
– Юленька, да успокойся ты, – Минька взял ее за руку, и юной лекарке показалось, что он, каким-то непонятным образом, овладел секретом «лекарского голоса». – Ну, ничего же страшного! Не убит, не покалечен…
Юлька попыталась сглотнуть стоящий в горле комок, ничего не получилось, и тут у Миньки, похоже, лопнуло терпение:
– Ты лекарка или девка кухонная?! Чего нюни, как над убиенным, распустила?!
Будто нарочно подгадав, не дав Юльке отреагировать на Минькин окрик, из сеней раздался голос Матвея:
– Иди, страдалец жоподраный! Говорил же: «Лежи в телеге!», нет, в седло он полез! Перед девками покрасоваться захотел? Вот сейчас и предстанешь во всей красе, сразу перед двумя. Эй, помощницы! Принимайте богатыря, в тайное место уязвленного!
Неизвестно, что более отрезвляюще подействовало на Юльку, Минькина строгость или матвеевская ругань, но «крапивный» язык юной лекарки заработал сам собой:
– Ты мне не указывай! Надо будет, так на грудь паду и слезами омою, а надо – веником по морде отхожу! Мало мне настоящих раненых, так еще и ты по дури подставился…
– Вот и молодец, вот и правильно! – неожиданно расплылся в улыбке Минька. – Так меня, дуролома!
– Вот и лежи! Сейчас лечить тебя будем! – распорядилась Юлька и вышла в сени с неприступным видом, начисто позабыв, что помощниц можно позвать и голосом.
В «общей палате» творился сущий спектакль. Несчастный Роська лежал на животе со спущенными штанами, двое легко раненых держали его, видимо, чтоб не сбежал, а Матвей громогласно вещал, измываясь непонятно над кем – то ли над Роськой, то ли над Сланой и Полькой:
– Чего жметесь, как телки на первой дойке? Задниц, что ли, не видали? Правильно: таких не видали, и никто не видал! Такой задницей один урядник Василий в целом свете обладает! И не бережет – не ценит свое сокровище! Надо будет мастера Кузьму попросить, чтобы он для сей части тела особый доспех измыслил, так что вы, девки, не только лечите, а еще и мерку снимите, дабы доспех тот к телесам удобно прилегал и вид имел хоть и благообразный, но грозный – на страх врагам и на радость нам. И только вы двое будете знать, что именно под этим доспехом укрыто, а посему рассказам вашим все будут внимать с почтением и восхищением…
Раненые дружно ржали, хватаясь за поврежденные части организмов, девки рдели, соревнуясь яркостью румянца с пламенеющими Роськиными ушами и воспаленными ягодицами, а Матвей, между делом, пробовал на ногте остроту ножа, словно собирался единым махом ампутировать уряднику Василию сразу все больные места.
– А ну, заткнись! – цыкнула Юлька на Матвея. – Ты чему хорошему у Бурея обучился или только сквернословить? Роська, ты что, с ума сошел? Один раз тебя из горячки еле-еле вытащили, так ты на второй раз нацелился? А вы чего ржете, жеребцы стоялые? Чужой беде и глупости радуетесь?
Лекарка, неожиданно сама для себя, шагнула к Матвею и отвесила ему звонкую оплеуху. Смех в палате мгновенно утих.
– Ты лекарь или скоморох? Не хотел Роська в телеге лежать, привязать обязан был! Самому не справиться, Бурей помог бы или любой ратник! Как тебя теперь в поход отпускать, если ты из беды веселье устраиваешь? Так и скажу сотнику: «Не годен! Молод, глуп!»
– Ну, чего ты, Юль… – враз изменившимся голосом протянул Матвей, – ты сама глянь: ни одна царапина не загноилась, заживать уже начало, если б этот дурень…
– Ты лекарь! Думать должен и за себя, и за раненого! Его дурь для тебя не оправдание! Все, хватит болтать! Матюха, занимаешься Роськой, Полька, бегом за горячей водой для припарок, Слана, вон ту плошку с мазью подай и травы для припарок от ушибов подбери. Помнишь, какие надо?
– Помню…
– Шевелитесь, шевелитесь! А вы – все по местам! – Юлька грозно оглядела пациентов. – Кто дурака валять станет, лечиться к Бурею отошлю! Он вас быстро обучит правильно болеть!
Устроив разгон подчиненным и пациентам, лекарка почувствовала уверенность, что в присутствии Миньки больше слабины не даст и решительным шагом направилась к себе в каморку. Однако не тут-то было – на постели, рядом с Минькой, сидела боярыня Анна (и когда успела зайти?), гладила сына по волосам и что-то ласково приговаривала тихим голосом, в котором чувствовались подступающие слезы.
Прежде чем Минькина мать, услышав шаги, обернулась, Юлька успела разобрать:
– Что ж ты так неосторожно, сынок?
– Случайно вышло, мама…
Обернувшись к вошедшей лекарке, боярыня Анна мгновенно изменившимся тоном предложила:
– А что, Юленька, давай-ка попеняем Мишане за то, что так глупо себя поранить дал!
– Да я же говорю: случайно… – начал было Минька.
– Мне-то хоть не ври! – прервала его мать, вставая на ноги. – Я все ж жена десятника и невестка сотника! – Анна-старшая снова оглянулась на Юльку, словно требуя подтверждения своим словам. – СЛУЧАЙНО ты живым остался, а три стрелы на себя принял так, как и должно, когда дурь ум застит! Верно, Юля?
Мгновенное преображение Минькиной матери так подействовало на лекарку, что та лишь растерянно кивнула в ответ.
– Я всех раненых отроков подробно расспросила, – продолжила Анна, – и вижу: раны твои – не беда, а вина твоя, и ты в той вине продолжаешь упорствовать! За время похода ты, Мишаня, себя дважды терял! Первый раз, когда Корней тебя от старшинства отрешил, но тогда ты справился, все верно сделал, молодец! А второй раз, когда ты себя зрелым воином вообразил и пожелал, чтобы все остальные в это уверовали.
– Да ничего я не воображал…
– Молчи, не спорь! Атаку копейщиков отбил, пешцев разметал и полонил, заклад у ратников выиграл, вот в тебе ретивое и взыграло. Испугался, что тебя опять в достоинство малолетки-несмышленыша возвратят. Ну-ка, вспоминай: такое ведь с тобой уже случалось. Помнишь, на пасеке, во время морового поветрия, тебя с взрослыми мужами за стол усадили? А ты испугался, что в Ратном тебя опять на женскую половину дома вернут. Вспомнил?
– Откуда ты знаешь? Это же Нинея придумала…
– А я не дурнее Нинеи! И придумывать тут ничего не надо – по тебе и так все видно! – Анна снова обернулась к Юльке. – Слыхала? Такие они все загадочные и мудрые, а мы, дуры, ничего не видим и не понимаем! Только на то и годны, чтобы детей им рожать да портки их от дерьма и кровищи отстирывать!
Юльку настолько покоробили слова и поведение Анны, что она даже открыла рот для возражений, хотя еще и сама не знала, что скажет. Чувство того, что никто не смеет разговаривать так с ее Минькой, кроме нее самой, еще не сформировалось в слова. Открыла рот… да так и осталась, потому что глянула случайно на Миньку. А тот смотрел на мать так же, как частенько глядел на Юльку – понимающе и снисходительно: повидавший жизнь старик, глядящий на разгорячившуюся по пустяку молодуху.
– Все-то вы, женщины, о нас, грешных, знаете, – не Минькин это был голос, не Минькин, Юлька готова была поклясться, – кроме одного: почему мы одних любим, а на других женимся.
– Фрол… – едва слышным, несмотря на повисшую тишину, голосом, вымолвила вдруг помертвевшими губами Анна.
– Крестильник… – прошептала, чувствуя, как слабеют в коленках ноги, Юлька.
* * *
Алексей и Настена сидели лицом друг к другу в избушке лекарки, развернувшись бочком на лавке, на которой Алексей еще недавно лежал, пока Настена осматривала его рану. Правая ладонь старшего наставника Младшей стражи лежала в левой руке ведуньи, и он неторопливо, с явной благожелательностью, разговаривал с ней, беспорядочно перепрыгивая с темы на тему.
Постороннему зрителю показалось бы, что беседуют то ли брат с сестрой, то ли очень близкие друзья, оба получая от разговора удовольствие и не замечая бегущего времени. Более внимательный зритель, пожалуй, смог бы уловить одну странность – голоса. Создавалось впечатление, что говорит один и тот же человек, но попеременно то мужским, то женским голосом – настолько совпадали интонации, темп речи, частота дыхания. И еще одну странность мог бы заметить сторонний наблюдатель – очень уж откровенен был Алексей, буквально раскрывал перед Настеной душу.
Но никаких посторонних зрителей в избушке не имелось, и тихо сидящей в уголке Юльки тоже как бы не было. Без малого три года назад, когда Настена решила, что уже можно позволить дочке присутствовать при приеме больных, она научила Юльку «уходить, не уходя». Пациент слышал, как Настена велит дочке выйти, видел, как та идет к двери, слышал, как дверь хлопает, а вот то, что маленькая лекарка никуда не ушла и бесшумно прошмыгнула в специально устроенный уголок, не замечал – Настена ловко отвлекала его внимание. Из своего укрытия Юлька даже могла высунуться и посмотреть, что мать делает с больным. Надо только было очень внимательно слушать, что та говорит, и, когда в разговоре прозвучит намеренно вплетенное в речь, заранее оговоренное слово, тут же спрятаться.
Вот и сейчас Алексей даже не подозревал о Юлькином присутствии, а юная лекарка все видела, слышала и прекрасно понимала, что мать не просто разговаривает с приятным ей собеседником, а тонко и уверенно работает, переводя разговор с одной темы, важной для Алексея, на другую, не менее важную и волнующую, пусть даже сам собеседник эту важность не всегда сознает. Нет, это был не «лекарский голос» – успокаивающий, расслабляющий, завораживающий – это были воплощенные в женском облике доброжелательность, отзывчивость и понимание, тонко улавливающие чувства собеседника и ненавязчиво вызывающие на себя словесное выражение этих чувств. Полная и решительная противоположность Нинеиному «рассказывай!».
Так работать Юлька еще не умела, хотя уже хорошо понимала разницу между образом действий Нинеи и Настены. Нинея могла добиться ответа практически на любой вопрос, но этот вопрос еще надо было догадаться задать, а Настена узнавала все, что даже подспудно, даже неосознанно волнует, беспокоит или радует собеседника, но не замечала того, к чему он совершенно равнодушен. Только полные дураки думают, что ведуньи могут творить с человеком все, что захотят. Не так это, далеко не так!
Юлька сидела в уголочке, слушала разговор матери и Алексея и терзалась самыми дурными предчувствиями. А ведь так, казалось бы, все хорошо было придумано!
Когда Минька попросил ее найти повод отвести Алексея к Настене, чтобы та сняла напущенную Нинеей порчу, Юлька так обрадовалась, что не смогла скрыть свои чувства. Минька, вернувшийся из Ратного мрачнее тучи – ездил туда кланяться матерям убитых отроков – досадливо поморщился и принялся по второму разу объяснять ей причины своей просьбы. Мол, Алексей вместе с Анисимом были у Нинеи накануне похода за болото, и волхва зачем-то наворожила такого, что будущий Минькин отчим начисто позабыл о своей сдержанности и здравомыслии – нарушил приказ сотника, ввязался по-дурному в поединок и вообще вел себя непривычно и непонятно.
Все складывалось просто удивительно удачно! В день возвращения Младшей стражи из похода, когда Минька крепко ошеломил мать невольным напоминанием о покойном муже, Анна, покинув лазарет, отправилась вовсе не к Алексею, а в часовню. Пробыла она там чуть ли не до темноты, и как там потом сложилось у нее с Алексеем, одной Макоши ведомо. Во всяком случае, Юлька была уверена, что обещанного взглядом у крепостного моста Алексей не получил – не тот у Анны был, по выходе из часовни, настрой. И в следующие пару дней Анна не выглядела очень уж счастливой и довольной.
А потом старший наставник Младшей стражи попал в Юлькины руки. Был ли он разочарован поведением Анны, Юлька определить не смогла – не тот человек был Рудный Воевода, чтобы девчонка, хоть и ведунья, читала в его душе, как в открытой книге, но ей очень хотелось думать, что разочарование все-таки имелось. А уж нажать на нужное место, так, чтобы Алексей охнул от неожиданной острой боли, и, сделав озабоченное лицо, настоять на том, что надо показаться Настене, для Юльки особого труда не составило.
Все было, как по заказу: с Анной у Алексея не заладилось… вроде бы к Настене он послушно отправился, а там… Юлька была непоколебимо уверена: если Алексей Настене глянулся, то никуда он от нее не денется!
Первый тревожный сигнал прозвучал для Юльки сразу же, как только Настена, осмотрев рану Алексея и успокоив его – мол, ничего страшного, ошиблась дочка, усадила старшего наставника Младшей стражи напротив себя и завела неторопливый разговор, незаметно подстраиваясь под состояние и настроение собеседника. Мать не стала выгонять дочку из избушки, а значит, не собиралась делать с Алексеем ничего ТАКОГО. Почему? Он же ей понравился, да и не просто понравился…
Потом, когда Алексея затянула зеркальная поза ведуньи, ее тонкая настройка на ритм и тональность общего для обоих ощущения и бытия, когда он впервые повторил легкую полуулыбку Настены, поворот ее головы, заговорил легко, с желанием поделиться своими заботами и беспокойствами, Юлька было воспрянула духом. Мало ли, а вдруг мать решила поучить ее еще одной грани ведовского искусства? Однако мать, поставив Алексея в положение ведомого, тут же «отпустила» его, позволив самому выбирать, о чем говорить, и не сделала ни малейшей попытки увести собеседника туда, куда, по мнению Юльки, его и требовалось увести – в тайное и радостное восхищение Настеной, неосознанное, но непререкаемое счастье служить, радовать и ублажать…
Ну а потом все и вообще пошло как-то наперекосяк. Перво-наперво выяснилось, что Минька ошибся – Нинея Алексея не завораживала, а причиной его неразумной горячности стал… Корней! Вот уж за кем ведовства никогда не замечалось! Однако же сумел, старый, так попрекнуть будущего зятя холодностью и рассудочностью, что того, что называется, понесло! Ну, и доигрался! Но сам Алексей ни о чем не жалел, наоборот, испытал облегчение от распада внутренних оков, в которые сам же себя и заковал! Дальше же в разговоре вылезли такие вещи, которые Юлька и вовсе не могла ни понять, ни принять.
Казалось бы, Алексея, в первую очередь, должно было волновать душевное здоровье сына, но нет! На первом месте оказалось самоощущение бывшего Рудного Воеводы в Ратном и среди ратнинцев. Понятно, конечно, что, заняв достойное место в новой семье, он мог наилучшим образом позаботиться о Савве, но…
Мужи воинские! Да как же у них ум повернут? Убить из уважения! Достойно проводить старого воина ударом меча! Как это понять? Холодным разумом высчитать, что четыре мальчишеских жизни – достойный размен на тридцать с лишним зрелых мужей, убитых на Заболотном хуторе, и остаться спокойным, глядя на бездыханные тела! Как такое простить? Полюбить, да, полюбить Миньку – Алексей искренне хотел бы иметь такого сына – и не сказать ни слова против того, чтобы он ушел с малым отрядом в поход по вражеским землям! Как в такое поверить?
А Настена, все так же чуть заметно улыбаясь, неизменно соглашалась, что, мол, да – надо было щенкам первую кровь дать попробовать, и свою и чужую; да – надо было Михайле и самому понять и другим показать, на что способна его Младшая стража; да – даже и грубость его в отношении старшего простительна, более того, если б не было этой грубости и попытки взять в свои руки полную власть, это означало бы, что он еще не готов принять на себя ответственность за сотню отроков. Настена соглашалась, поддерживала и все тянула и тянула из Алексея, мягко, чуть заметно, что-то еще, о чем Юльке даже страшно было задумываться.
И не зря было страшно. Оказывается, ратнинцев и отроков Младшей стражи ждет новый поход – далеко и надолго, а Алексей, хоть и говорит об этом с сожалением, твердо уверен, что вернется назад, в лучшем случае, половина отроков. Сожаление же Алексея больше относится к тому, что осталось мало времени на учебу, а не к возможной гибели мальчишек. Раз осталось мало времени на учебу, значит, поход скоро…
И снова со стороны Настены ни одного вопроса: когда, куда, зачем, с кем ратиться? Только легкая улыбка, только ненавязчивое согласие: да – недоучены мальчишки, да – у тех, кто ходил за болото, надежды выжить больше.
Но вот Алексей вроде бы покончил с воинскими заботами и вспомнил наконец о Савве, но и то через свои отношения с Анной-старшей. Ушибленный судьбой малец прислонился душой к вдове побратима, ластится, как к родной матери, а та ему и вправду мать заменила. И где тут давнее чувство к Анне, когда сам Алексей хотел к ней посвататься, да опоздал, а где новое, обещающее дом, покой, любовь, он и сам не знал, все перемешалось. Юлька даже чуть было не растрогалась, таким теплом и лаской вдруг повеяло от Алексея, когда тот заговорил о Минькиной матери. И куда подевался безжалостный и расчетливый воин? Как это все может уживаться в одном человеке?
А разговор все струился и струился – неторопливо, казалось бы, свободно, но только мать и дочь видели берега, за которые он никак не может выплеснуться…
И тут на юную лекарку словно упал откуда-то сверху тяжеленный сундук: у Миньки есть нареченная невеста! Дочь погостного боярина Федора, обрученная с Михаилом еще в колыбели. Правда, Анна не желает этого брака, но… Но!!! Ее – Юльку – Минькина мать использует только для того, чтобы отвратить сына от мыслей о нареченной невесте Катерине! Да еще холопку – молодую бабу, которую муж вернул родителям из-за бесплодия, хочет Миньке в услужение приставить, чтобы адамов грех познал…
Юлька сжалась в своем уголке. Зрение вдруг утратило четкость, а рука снова почувствовала хватку пальцев боярыни Анны, которые в любой миг готовы выпустить спрятанные когти… Да нет, не готовы, а уже выпустили, только впились эти когти прямо в сердце! Юлька ощутила себя маленьким зверьком, которым играет, перед тем как убить, рысь – то ли сытая, то ли собирающаяся отдать добычу котятам.
Нет! Уже отдала – своему детенышу Миньке! Тело застыло, а мысль забилась, как птица в тенетах, тут же найдя привычный и спасительный выход: «Мама! Она сильная, мудрая… она поможет… она знает…» И как озарение пришла мысль:
«Материной помощи недостаточно! Минькой играют так же, как и мной, добиваются чего-то непонятного. Моим Минькой играют! Не со зла, а просто рассудив, что так будет лучше, но даже не задумываясь над тем, что у него могут быть свои собственные желания и стремления… Значит, вдвоем! Он и я! Минька меня не бросит, он сильный, умный, а я ему помогу… Помогу, даже если против всех пойти придется!»
А разговор между Настеной и Алексеем неспешно тек дальше…
«О чем они там? О чем-то другом уже… да как можно сейчас о чем-то другом говорить?!! Опять о Савве…»
Как бы не отвлекали Алексея другие заботы, какими бы важными они ему не представлялись, мысль его почти от любой темы все равно возвращалась к сыну. Алексей не таил обиды на Настену за то, что не взялась лечить сына – понял, что мальца надо не лечить, а выхаживать, долго и терпеливо.
Журчат голоса, все шире и шире раскрывается душа Алексея, и уже становится ясно, что не пожалеет он впоследствии о своей откровенности, будет вспоминать этот разговор не с досадой, а с теплом и благодарностью, и еще не раз наведается этот безжалостный воин с обожженной душой в избушку лекарки в поисках понимания и сочувствия – совместного чувствования. Будет приходить как близкий друг… Друг, а ведь Юлька-то хотела помочь матери совсем в другом! Друг, но любит и собирается жениться на Анне – страшном звере с когтями, спрятанными в мягких подушечках! Друг, но будет крутить Минькой так, как велит ему Анна!
А еще Демьян… А причем тут Демьян? Разговор-то дальше ушел! Перестаралась тогда Юлька на дороге из Княжьего погоста с «лекарским голосом», приворожила к себе мальчишек, а они чуть с ножами друг на друга не поперли. Но Настена дело поправила – сумела перенести мальчишеское обожание на Анну… Знала бы, на кого переносит! Да знала же, конечно, ей ли не знать!
А вот Демьяна упустила – лечили его тогда Юлька с Минькой вместе, к ним и прикипела Демкина душа. К обоим! Вот откуда родилась его мрачная язвительность – рвется он между юной лекаркой и двоюродным братом, чувствует себя третьим лишним, а родной брат Кузька забыл про все и про всех, в своих мастерских блаженствует, а между родителями разлад, и остался Демка один, всеми брошенный! Мечется парень – Корнею сказал, что невместно ему старшинства под братом искать, а потом, среди Михайловых ближников совсем другое говорил: мол, не по плечу тягота, не справится. На самом же деле, он в старшинском достоинстве, из-под Михайлы выдернутом, Юльке на глаза показаться побоялся!
Подловил Алексей Демку растроганным после того, как Минька обнимал и благодарил его перед строем отроков, подловил и разговорил, выведав у мальчишки сокровенное. А про то, что случилось во время возвращения из Турова, наверно, у Миньки узнал или у Корнея. Понял, в чем дело, догадался… Надо же, он, оказывается, и это умеет… Рудный Воевода, кто бы подумать мог… Хотя сам же нечто подобное пережил, когда его побратим Фрол женился на Анне.
Никола с Дмитрием тоже пропадают – влюбились наповал в Аньку-младшую, а той все хиханьки да хаханьки. Хорошо хоть друг на друга не кидаются! Вовремя Минька Николу окоротил, да отец Михаил епитимью наложил, за неподобающие мысли. Дмитрий-то и сам себя сдерживать умеет – не по годам самообладание, прирожденный воин. И вообще, одна головная боль – полтора десятка девок на сотню отроков, долго ли до беды? Пока Анна девок в ежовых рукавицах держать умудряется да Алексей отроков учебой так уматывает, что к вечеру еле ноги таскают, но сколько ж можно?
И снова удивил Алексей – то над отроками убитыми у него сердце не дрогнуло, а то так в их душевные терзания входит, словно родные. Видать, и Настену это заинтересовало – осторожно подвела Алексея к мысли о дальнейшей судьбе мальчишек, и тут-то все и раскрылось! Рудный Воевода никуда не делся – тут как тут! Душа у него болит только за тех, у кого выжить и повзрослеть надежда есть, а те, кто медленно учится или ленится… сгинут и не жалко. Времени на обучение им не хватило – что ж поделаешь, судьба! Кто через кровь и смерть пройти сподобится, тому и жить! Радоваться, девок огуливать, дальше учиться.
Снова все вернулось к войне. Понятно – для Алексея это сейчас главная забота. Да – безжалостно, да – несправедливо, но Алексей уже разделил отроков на две неравные части: к одним обернулся чувством и сердцем – сделает все возможное, чтобы вернулись назад живыми, а на других смотрит холодным рассудком – их жизни разменяет на спасение тех, кого считает своим долгом сохранить.
И опять понимание и одобрение Настены – всех не убережешь, но большинство из первой полусотни уцелеет… если не жалеть остальных. Нет, не гнать на убой, а просто не тревожиться и не оберегать, так же, как предоставил Алексей своей судьбе десяток Первака на Заболотном хуторе…
Опять струится и журчит разговор: о Корнее – как-то ему придется складывать вместе силу ратников и силу отроков, ведь никому из сотников такого делать еще не доводилось; о Михайле: не примет он приговора, вынесенного Алексеем половине отроков, как бы не сломался, ведь на свою совесть все возьмет; об Анне: не хочет женить сына на Катерине, ее дело, но Алексей не мальчик, пожил достаточно и знает, что в поединке за сердце юноши матери чаще всего проигрывают девицам.
Кажется, и не изменилось ничего – так же неторопливо и благожелательно течет беседа, да только даже Юлька не заметила, когда поворачивать русло разговора в нужном ей направлении стала Настена, а соглашающимся и одобряющим сделался Алексей. Да, права Настена: хоть и не поженились еще, но не дети же – всем все понятно, и муж всему голова, значит, должен и может, когда надо, и на своем поставить.
Верно-верно: не та Юлька девчонка, которой крутить можно, как бы боком не вышло, да и о самой Настене забывать не следует, поостеречь надо Анну. И уж совсем правильно то, что в поход Михайле надо уходить с бестрепетным сердцем да спокойной душой, а потому незачем вокруг него бабью колготню устраивать, холопок ему подкладывать и… прочее всякое такое.
Кивает Алексей, соглашается, смотрит по-доброму, с легкой улыбкой, но понятно: сумеет глянуть на Анну строго и объяснить, что не всевластна она в судьбах людских, что не богиня она и не святая, хоть отроки ее таковой и почитают.
И Юльку, замершую в уголке, отпускает напряжение – мама мудрая, мама все может, а тетка Анна… ну почему зверь? Просто возгордилась баба от всеобщего обожания отроков, возомнила о себе… Мама рассказывала, что лесть и гордыня с людьми делают – еще и не такое творят…
А Настена с Алексеем уж и вовсе спелись: нужна Демьяну девка, чтобы про горести свои забыл да одиноким-брошенным себя не чувствовал. Придется подыскать, сама не найдется – не смотрит Демка ни на кого, а девки сторонятся, больно уж мрачен и злоязычен. Да и вообще девок добавить в крепость не мешало бы – пошел разговор, вроде бы по второму кругу. Но нет, свернул опять на Михайлу – обмолвился он будто бы, что мало ратнинцев в воинской школе – все больше куньевские да Нинеины отроки. Только где их взять, ратнинских-то? Вроде бы Михайла что-то измыслил, но что именно, не сказал. Может быть, Юлия расспросит? Но это не к спеху, все долгие дела откладываются на конец осени и зиму – на после похода…
После ухода старшего наставника Младшей стражи Юлька так и осталась сидеть в уголке. То, что мать не воспользовалась случаем приворожить к себе Алексея, внушало самые мрачные предчувствия – неразумную инициативу Настена пресекала в корне, на руку была скора, а оправдания типа «хотела, как лучше» в расчет не принимала. Надеясь как-то отвлечь внимание матери, Юлька затараторила:
– Мам, что опять война? Ребят всех в поход возьмут? А когда?
– А ну-ка, поди сюда, сводня! – «многообещающе» позвала Настена. – Поди-поди, чего в углу засела?
– Ну, мам! Минька же сам попросил Алексея тебе показать, и все на твое решение осталось! – вывалила заранее припасенные аргументы Юлька. – Не захотела так не захотела.
– Поди сюда, я сказала!
Настена дождалась, пока дочка нога за ногу протащилась от темного угла до стола, оглядела втянувшую голову в плечи девчонку и неожиданно приказала:
– Сядь! – выдержала томительную паузу и передразнила. – Не захотела, не захотела… Не смогла!
– Ты? Не смогла? – Юлька от изумления даже позабыла о страхе наказания.
– И ты не сможешь… скорее всего.
– Я?
– Ты! Рано или поздно придется выбирать: или Михайла, или ведовство. Вместе не получится!
– Так я же думала, что ты его, как Лукашика… – продолжила было оправдываться Юлька, потом осеклась, осмыслив сказанное матерью, и впервые в жизни с настоящей злостью процедила Настене в лицо: – Лучше б побила!
– А я и бью! – ничуть не смутилась Настена. – Полезла во взрослые дела, так и получай по-взрослому, а подзатыльником отделаться и не мечтай! Все, кончилось детство! Пришла тебе пора, во славу Пресветлой Макоши, с самой Мореной потягаться!
– Мам…
– Молчи! Выбор останется за тобой, ни торопить, ни подталкивать, как меня бабка подталкивала, не стану, все в твоей воле. Но Михайла будет для тебя платой за ведовскую власть! Или одно, или другое. И не смотри на меня так!!! Сама все знаешь, не впервой об этом речь!
– Мам…
– Не перебивай! Даже если выберешь потом не Михайлу… Молчать!!! Я сказала «если»! Ты про войну спрашивала? Так вот: война будет, и кровушки прольется столько, что Алексей, сама слышала, даже половину отроков назад привести не рассчитывает. А ему в таких делах верить можно… Хотя… не было еще такого, чтобы недостаток ратников детьми восполняли. Поняла теперь, почему я Морену помянула?
– Минька…
– Угу. И даже если ты потом выберешь не Михайлу, – с нажимом повторила Настена, – сберечь его мы с тобой обязаны. Если не для себя, то для рода Лисовинов, для всего Ратного. Ну, есть мысли, как его от Морены защитить?
– Матвея бы расспросить. Он же…
– Даже и не думай! Врагом себе на всю жизнь сделаешь. Он от смертного ведовства отрекся, а мы Морене… – Настена запнулась, но продолжила все тем же уверенным и как будто бездушным тоном: – Мы Морене мальчишек отдавать будем.
– К-как?.. – Юлька, переменившись в лице, отшатнулась от матери. – Макошь не простит…
– Макошь одобрит! – уверенно заявила Настена. – Это не жертва, это обман! Отнять у Морены добычу нельзя, а подменить можно. Обычного отрока спасти – дело доброе, но бесполезное, потому что так на так и выйдет – одного на другого поменяла. Такое только для особо любезных делают, но Макошь ревнива и чужих любимчиков не жалует, как и тех, кто только на себя ее благоволение растрачивает. Вот, скажем, для Лукашика я и пальцем не пошевелю, Михайла же совсем другое дело…
– А для Алексея?
– Тьфу, чтоб тебя, дурища! В чем разница-то? Что Михайла, что Алексей: спасти их – значит спасти в будущем множество жизней. Вот такое Макошь одобрит. Поняла?
– Тогда почему только Миньку защищать будем?
– Потому что Алексей о себе сам позаботиться способен, он это всей своей жизнью показал. Ну, еще… потому, что мальчишек на двоих может не хватить. Морена жадная, ей только дай.
– Так ты что, всю Младшую стражу?..
– Нет, Нинеиных отроков не смогу. Вернее, могла бы, но невместно мне чужими распоряжаться.
– Значит, самых лучших…
– Да! – Настена утвердительно прихлопнула ладонью по столу. – Лучшие и дело лучше сделают!
– Жалко ребят…
– А Михайлу не жалко?
Юлька надолго замолчала, уставившись в стол, молчала и Настена, давая дочери время осмыслить новое знание и примириться с необходимостью выбора. Наконец Юлька вздохнула и подняла глаза на мать.
– Что делать надо?
– Все… – голос Настену подвел, пришлось откашляться. – Все просто, доченька. Жизнь, любовь и терпение. Добыча Морены – жизнь. Щит и меч Макоши – любовь и терпение. Сделаем так, чтобы отрокам в радость было собой Михайлу от смерти закрыть. Претерпеть за любовь к нему.
– Это я смогу! – уверенность, прозвучавшая в голосе дочки, не только удивила, но даже слегка напугала Настену.
– И в мыслях не держи! Столько смертей на себя принять – не выдержишь, ума лишишься!
– Я справлюсь.
– Нет, я сказала! Первый шаг на этом пути – одна смерть, один обмен жизнь на жизнь. И то не все выдерживают.
– Я смогу!
– Нет, и не спорь! – повысила голос Настена. – Я тебе обещала, что выбор останется за тобой. Если сейчас сотворишь по-своему, минуешь развилку, пути назад уже не будет, и о Михайле можешь забыть!
Ведунья сначала сказала, а потом внутренне сжалась от страха – заметит Юлька ложь или нет? Шестая она или двадцатая в цепи взращенных и выпестованных ведуний, повзрослела не по годам или осталась ребенком, все равно она дочка, и легче самой надорваться, чем взвалить такой груз на нее. Кажется, не заметила, поверила.
– А у тебя, мам, таких уже много?
– Есть… и не один.
– А кого они… закрывали?
– Корнея… было, в общем, кого. Нельзя об этом рассказывать, если родня убитых узнает… Сама понимаешь.
– Корнея же не уберегли? Калекой стал.
– Война… от увечья не уберегли, но насмерть затоптать не дали. Один за это жизнью заплатил, другой тяжкой раной. Я тогда троих к Корнею приставила, но третий не успел, коня под ним убили.
– А Корней… знает?
– Да ты что? Он бы меня сам на куски изрубил, если б узнал! Да если б даже и не изрубил… Он и так за свою власть полной мерой платит, зачем его еще отягощать?
– За власть… – Юлька в очередной раз надолго задумалась, и Настена снова не стала сама прерывать молчание, гадая, какие мысли бродят у нее в голове. – Знаешь, мам, Минька мне тоже часто про власть, про управление людьми толкует. Как-то он сказал, а я не поняла, что власть бывает явная и тайная. Вот ты решаешь, кому жить, кому умереть, и никто об этом не ведает. Значит, наша власть тайная?
– Ну, можно и так сказать…
– А еще он говорил, что нельзя все на одну сторону накладывать, равновесие должно быть.
– Ну и что?
– А то, что ты же можешь заставить не только защищать, но и наоборот… если для спасения многих жизней. Так?
– Выпороть бы вас с Минькой…
– Понятно…
– Ничего тебе не понятно! – взорвалась криком Настена. – Только попробуй что-нибудь устроить! Понятно ей! Не власть это будет, а разбой! Поняла?
– Ты чего, мам? С кем устроить-то?
– А то я не заметила, как тебя из-за боярышни Катерины перекосило!
– Да не хочет Минька на ней жениться и не захочет! А заставить его Корней не сможет, вот увидишь! И тетка Анна… – Юлька оборвала сама себя, не закончив фразы.
– Чего примолкла? Дошло, наконец, что не для тебя Анька сына бережет?
– Мам… мама…
– Не хнычь! Я тебе сказала, что выбор за тобой. Выберешь… выберешь Миньку, помогу… возьму грех на себя, но… не хочу за тебя решать, как когда-то за меня решали. Все! Хватит болтать! Собирай на стол, опять ведь сегодня толком не ела. И без того худющая, одни глаза остались, и что в тебе Михайла углядел?
Глядя, как дочка хлопочет по хозяйству, Настена никак не могла отогнать от внутреннего взора образ Алексея.
…Вот он сидит напротив. Стягивающая ребра повязка не портит осанки – и так привык держаться прямо – мышцы вроде бы и расслаблены, но сила-то в них так и играет – лекарский глаз не обманешь. Голос вроде бы и доброжелателен, но тверд, глаза… ох, что за глаза! Зверь оттуда, изнутри уже прицелился, измерил расстояние до противника и изготовил тело к смертельному броску, но не смеет и пошевелиться, укрощенный железной дланью рассудка. И не слабый, дурной или глупый урод, как бывает у некоторых, а сильный, хоть и крепко битый, но здоровый, а когда надо и свирепый, зверь! А лицо… да, другого сравнения и не подберешь – истинный Перун в молодости! Корзень, старый дурак, даже не представлял себе, с чем играет, пытаясь пробудить в Алексее страсть, наперекор рассудочности. Или представлял? Он же целой сворой таких зверей повелевать способен!
Эх, не так бы нынче с Алексеем, не водить бы его на невидимой и неощутимой привязи, а… Ведь могут же быть эти сильные руки ласковыми и глаза умеют светиться совсем по-иному… Нельзя! Запретно и недоступно, будь оно все проклято! Потому что заполучить все это, оборотить своим и только своим, можно, лишь самой сделавшись его и только его – отдаться всепоглощающе и без остатка, раствориться в слиянии двух сущностей. Но, пусть даже и добровольно, ограничить собственную волю, значит, утратить ведовскую силу – дары светлых богов бесплатными не бывают. Как же повезло Аньке… да и не повезло, если по правде, а просто не приходится ей давить волей и разумом женское естество, не боится она отдаться и подчиниться, а потому и ответ получает полной мерой.
Не на кого пенять – сама выбрала… Ну, не совсем сама, бабка давила, конечно, но окончательный выбор все-таки был за внучкой. Ведь было же, было перепутье, могла остаться простой лекаркой-травницей и жить, как живут все бабы… ну, почти так же. И был мужчина… такой же почти, как этот. Но сама избрала иной путь, и другая пошла с ним под венец, а пришел срок – выла над пробитым стрелами телом, лежавшим в телеге, а Настена стояла рядом, закаменев лицом и исходя внутренним, не слышным никому криком.
– Мам! – Настена так глубоко ушла в свои мысли, что даже вздрогнула от голоса дочери. – Мам, а почему ты Савву к Нинее отослала? Я бы могла с ним сама заняться, а то крутится эта… соплячка в крепости…
– А тебе что, Корнеевых крестников мало? Целых трое!
– Так я же… А чего ж ты мне не сказала? Я и не думала…
– Ну и хорошо, что не думала, так даже еще лучше! Тихо да незаметно, как и должно наше ведовство твориться.
– Но они же не увечные, как Бурей был! И не запуганные, как Савва… Ну, разве что Матвей, да и то…
– Нет, дочка, нет… из всех четверых, что Корней тогда из Турова привез, только у Роськи душа не покалечена, видать, в хорошие руки попал, повезло, а остальные… У каждого свое, но души все в язвах. А вы с Минькой не только Демьяна тогда на дороге вылечили, вы еще и каждый день понемногу Дмитрию, Артемию и Матвею эти язвы заглаживаете. Они на вас с Минькой смотрят и видят, что не все в жизни плохо, страшно да грязно. Тем и исцеляются понемногу.
– Ну да! Не знаю, как Артюха, а Митька только на Аньку-дуру и пялится…
– Не суди! Не всем так, как вам с Минькой, везет… Да еще и неизвестно, кому больше повезло… Безответная любовь – она тоже лечит… горькое лекарство, но лекарство! Вот он на Аньку-дуру… пялится, как ты говоришь… Да не пялится он, а смотрит, и совершенно не важно, что на дуру и без толку, а то важно, что у него в это время убитые родичи перед глазами маячить перестают! Неужто непонятно? Пялится! Не коса у тебя змеей оборачивается, а язык! Как только не зажалила никого насмерть?
– Ну, чего ты, мам…
– А ничего! С Красавой тоже: соплячка, соплячка… Сама больно взрослая! Савву-то она выхаживает? Выхаживает! Сама говорила, что пользу уже видно! А о том и не задумываешься, что в крепости она и без того крутилась бы, да неизвестно чего еще выкинула б, а так – при деле, меньше дури в голову лезет. С такой-то обузой, как Савва, шустрости глупой, знаешь ли, очень сильно убавляется.
– Да чего она выкинуть-то может? Ну, не подожжет же крепость?
– Да кто ж вас, дурех, угадает? Ты-то вон в сводни подалась! От великого ума, скажешь?
– Мам! Я же как лучше хотела!
– Хотела она… Тьфу, довела: как старуха древняя ворчу… Собирай на стол!
* * *
…Ведь могут же быть эти сильные руки ласковыми…
Шлепая босыми ногами по дощатому полу, Анна внесла в спальную горницу деревянный поднос с едой и кувшином кваса, глянула на постель и почувствовала, как губы сами собой раздвигаются в улыбке. В слабом свете одинокой свечи, стоявшей в дальнем углу (сама так ставила – подальше от постели; мужи любят глазами, но в ее возрасте не все стоит показывать в подробностях), было видно, как лежит Алексей – привычная поза: на спине, чуть повернувшись на правый бок, закинув левую руку за голову.
Нет, не спит. И не потому, что ждет, когда Анна принесет попить и поесть, а потому, что никогда не позволяет себе после любви уснуть раньше своей женщины, будто знает, как для нее важно и радостно такое отношение. На самом деле, не знает, а просто… вот такой он, ее Лешка – ничего не делает специально, но выходит так, словно кто-то ему подсказывает: это делай, это не делай, а вот это будет хорошо, но не сегодня.
Не сразу это открылось для Анны, но в одну из ночей мягкий, все чувствующий, осторожный и ласковый Алексей вдруг оборотился неистовым Рудным Воеводой – брал ее, как половецкое кочевье в дикой степи, и… она ощутила, что сегодня, именно в эту ночь, ей как раз этого от него и хотелось! А еще испугалась, что будет он теперь таким всегда – сдерживался, сдерживался, а теперь вот… Зря испугалась – каждый раз Алексей дарил ей именно то, чего она и ждала: когда нежность, когда неистовство, а когда и покорность… да, да, умел он и это – предугадывать желания, смиряться и подчиняться.
Но способен был и на иное, мог подарить что-то совершенно неожиданное – или удивлял, или смешил, а еще умел довести до неистовства и ее. И тогда… Не девочка уже была Анна, но вот только теперь довелось познать, что самозабвенное безумие способно воцариться не только на бранном поле, а обнаженные тела способны сплестись в жаркой схватке не хуже, чем тела, защищенные доспехом.
Анна нагнулась вперед, ставя поднос, и ее тяжелые груди качнулись под перекинутыми наперед распущенными волосами, укрывающими ее почти до пояса. Алексей приподнялся навстречу, обхватил ее за талию и нырнул лицом в эту завесь, щекотнув усами грудь так, что Анна прерывисто втянула в себя воздух и тихонько ойкнула.
– Перестань… да перестань ты… хватит! Ну, Лешка! Вот сейчас как уроню все на тебя…
– Угу…
– На-ка, попей… Леш, ну знаю же, что пить хочешь!
– Хочу, Медвянушка… и пить, и есть, и… тебя тоже хочу. Больше всего – тебя!
– Вот ведь… Лешка, перестань!!
Алексей пил квас прямо из кувшина – никаких чарок и ковшиков в такие моменты он не признавал – пил большими шумными глотками, а Анна смотрела на него и жалела, что нельзя переставить свечу чуточку поближе. Алексей оставался воином даже сейчас. Въевшаяся в самую суть его естества воинская выучка не позволяла просто поднять руку или повернуть голову – тело отзывалось на любое его движение все целиком, чуть-чуть, порой незаметно для глаза, изменяя позу. Вот и сейчас каждый глоток не только двигал кадык, выглянувший из-под короткой воинской бороды, но и порождал едва заметный трепет почти всего тела. И было видно, что, несмотря на жажду, лишнего глотка Алексей не сделает – все в меру, чтобы не отяжелеть.
Ох и любили ратнинские бабы почесать языками у колодца «про это», деликатно приумолкая в присутствии девчонок и вгоняя в краску молодух, лишь недавно познавших первые радости плотских утех. Мнение баб было твердым: если муж после любви просит есть – можно рассчитывать на продолжение, а если пить – тогда все, жди следующего раза. А вот ее Лешка и пил, и ел и… будет продолжение или нет, зависело только от ее желания. Так, по крайней мере, думалось Анне… или хотелось думать. Сейчас продолжения хотелось, но не сразу – больше хотелось кое-что выведать, и время для этого было самым подходящим.
Когда Алексей напился и потянулся к подносу за куском копченой кабанятины, Анна протянула ему вышитое полотенце.
– На-ка, утрись, а то накапаешь с усов, чудо мое…
– Не-е, сама меня утри!
– Как дитя малое… Вот мы Лешеньке ротик сейчас утрем, а ручки он потом сам вытрет и крошек в постельку, как в прошлый раз, совсем не насыплет…
В полутьме засветилась улыбка Алексея – не то нахальная, не то блаженная, не то и вовсе какая-то разбойная. Сразу и не разберешь.
О-хо-хо, как бы ни был мужик хорош, а насвинячит обязательно, такие уж они… почти все. Нет, встречаются, конечно, аккуратисты, у которых ни пятнышка, ни соринки, и у каждой вещи свое, точно определенное раз и навсегда место, да только… взвоешь, рано или поздно, от этого сугубого порядка, отступить от которого хотя бы на пядь никак невозможно. Лучше уж так…
– Леш, а чего тебе Настена сказала?
– Да хорошо все… – невнятно пробубнил Алексей с набитым ртом, – ошиблась Юлька.
– И все?
– И охота тебе сейчас-то… Лапушка, давай лучше…
– Охота! – Анна добавила в голос требовательности. – Рассказывай!
– Да ладно тебе…
– Лешка!!! Куда жирными лапами?! Сейчас вот встану и уйду! Хочешь, чтоб ушла?
– Нет…
– Тогда рассказывай!
– Ну, если тебе так уж невтерпеж… Велела поостеречь тебя, чтобы ты Юлькой крутить не вздумала… Медвянушка, да чего ты вскинулась-то? – Алексей приобнял Анну и попытался притянуть ее к себе. – Подумаешь, баба… ведунья, конечно, но…
– Что, так и сказала?.. Да отпусти ты… вот ведь силищи немерено… бугай… Ну-ка, вспоминай: что она точно сказала? Слово в слово!
– Э-э… – Алексей завел глаза к потолку, – вроде бы так: «Не та Юлька девчонка, которой крутить можно, да и о самой Настене забывать не след – боком выйти может». Так как-то сказала… или почти так. Да с чего ты всполошилась-то?
– Вот, значит, что… – Анна откинулась на спину и машинально принялась накручивать на палец прядь волос. – Боком, говоришь… а ведь подружками были по молодости.
– Подружками? Но ты же не здешняя!
– Да уж, еще какая нездешняя! – Анна выпятила нижнюю губу и сдула волосы со лба. – Дреговические-то девы поначалу в Ратном тише воды и ниже травы – для них и Ратное большой город, а меня-то из Турова привезли, да свет поначалу повидала: Киев, Переяславль… Сам все знаешь. Вот и шипели на меня, да каждая… ужалить норовила! И я тоже, дура молодая, нос до небес драла… пока Добродея, была в Ратном такая мудрая старуха, Царство ей Небесное, в разум не привела… – Анна неожиданно хихикнула. – Так и вспомнила себя тогдашнюю, когда Мишаня купеческих детишек на берегу стращал.
– Угу, мне рассказывали потом – тогда-то не видел, не до того мне было, – Алексей тяжело вздохнул. – Но Михайла все верно тогда делал, молодец. Ты подучила?
– Нет, сам измыслил, я только помогла чуть-чуть. Он у меня разумник… вот из-за него-то, да из-за Юльки еще, мы с Настенной и подружились. Я все боялась, что у меня и третий ребенок девчонкой будет, а Лисовинам-то наследник нужен был… воин. Настена тогда меня и уверила: мальчик будет, не сомневайся. По ее слову все и вышло, а через год с небольшим ей самой рожать пришлось. Ох, и худо ей было, Лешенька, ой, как худо! Мужа нет, девочка слабенькая совсем родилась, того и гляди, помрет… И поплакаться некому, бабка-то у нее была, как из мореного дуба сделанная – топором не возьмешь…
– А Добродея чего же? – удивился Алексей. – Я так понимаю, что бабы со своими горестями к ней…
– Да, ходили к Добродее и за советом, и с жалобами, и за утешением, но не ладила она с Настениной бабкой! – прервала, недослушав, Анна. – Открыто-то не ссорились, но не любили друг друга крепко. А меня старуха привечала, чем-то я ей по сердцу пришлась… Вот и бегали мы с Настенной друг к дружке, чаще-то я к ней. Посидим, поплачем на пару, про детишек своих поговорим… Настена сказывала, что и бабка ее при мне как-то мягчает слегка. Так и подружились. А когда бабка вскорости померла, и Настена совсем одна осталась, так и вовсе не разлей вода стали.
А потом… Мишане еще десяти не минуло, Фрола… убили. И Варвара, чтоб у нее язык отсох, просветила меня: было у Фрола с Настеной что-то… Да так сильно, что Корнею пришлось его в Туров отослать. Потом-то я и сама заметила: от Настены мне ни слова утешения, будто закаменела вся… подружка. Ну, и отдалились мы друг от друга как-то…
– Ну, а сейчас-то ты чего напугалась?
– А ты не понимаешь? Дочку-то она как любит! Даже окрестила ее – против себя пошла… ну и… Не знаю… может быть, хочет, если уж у нее жизнь не сложилась, так хоть чтоб у Юльки…
– А что, разве бывают замужние ведуньи? – искренне удивился Алексей. – Что-то я не слыхал о таком…
– Верно, не бывает, но Настена, наверно, хочет дать дочке самой выбрать: либо семья, либо ведовство.
– А ты, значит, не желаешь такой невестки?
– Да, не желаю! Мишаня большего заслуживает! И мне такая невестка не нужна – характер, что твоя крапива. И Мишане теща такая не нужна – разозлится да в козла оборотит!
– Да? Неужто так сильна? – Алексей заинтересованно приподнялся на локте. – Тогда выходит, что не ошиблась Юлька, а нарочно подстроила, чтобы я к Настене сходил?
– А ты думал! Конечно, подстроила! У Настены ничего случайно не бывает! Как это так: Настена с Фролом шуры-муры водила, а теперь ее дочка с его сыном… бывают такие случайности?
– Хм, да…
Что-то было не так – слишком хорошо изучила Анна все Алексеевы хмыканья. А ведь и верно: лежит в постели с ним, а поминает, то и дело, покойного мужа, да еще и ревнует… Не хватает только ненароком его Фролом назвать! Надо чем-то отвлечь…
– Спрашиваешь, так ли Настена сильна? – Анна искоса глянула на Алексея. – А ты на Бурея глянь!
– А причем тут Бурей-то?
– А вот послушай, – Анна ухватила Алексея за руку, втянула ее на свою подушку и положила голову на плечо любовника. Он тут же согнул руку в локте и опустил ладонь ей на грудь, Анна протестовать не стала, а лишь потерлась о плечо Алексея щекой. – Ну, слушай же! Мне начало этой истории Настена рассказала, а конец я уже сама видела.
Жили у нас в Ратном два брата, Ипатий и Савватий, прямые потомки первого ратнинского сотника Александра. Видать, сильно измельчал Александров род – Ипатий еще туда-сюда, а Савватий вовсе станом коряв, ликом неприятен, да еще и бельмо на левом глазу. Так и не выучился ратному делу, сразу в обоз отправили. Ипатий, правда, ратником стал, но так – плохоньким. Зато злющий был, не приведи Господь – чуть что, сразу за нож хватался.
Замуж за них, конечно же, никто идти не захотел, и женились они на полонянках. Савватий так и остался бездетным, а у Ипатия, хоть и родился сын, так лучше бы и не рождался! Жена Ипатия родами померла, больно уж ребенок крупным оказался, но ликом вышел уродлив, а волосом темноволос – не в мать, не в отца, а в проезжего молодца. И злющий был сызмальства – бабы, которые по доброте душевной его выкармливать взялись, жаловались, что больно рано у него зубы прорезались – все груди им искусал. Вот такой малец у Ипатия народился… Да! Он еще, как наестся, бурчание какое-то неприятное издавал, вроде «бу-р-р». Так и прозвали его «Бурей», а настоящего имени «Серафим» никто почти и не помнил.
Ну вот… а как подрос Бурейка, так и еще одна беда вылезла – косноязычен. Чуть не половину слов нормально выговорить не мог, порой такое нес, что даже родной отец его понять не мог. Само собой, со сверстниками у Бурейки не заладилось – обижали, насмехались, дразнили… Он, конечно, в драку, ну и били его – скопом или те, кто постарше был, а то и взрослые. Он же не только кулаками махал, а и царапался, и кусался. Какая ж мать стерпит, когда ребенок домой возвращается с лицом разодранным или покусанный? Так ведь и без глаз остаться можно! Ну, настропалят бабы мужей, а те Бурейку по чему ни попадя… Ты слушаешь, Леш?
– Слушаю, слушаю. Ну, и что дальше было?
– Отец за Бурейку вступался и тоже бит бывал… Хотя ладно, не об этом речь. Кто-то из баб, со зла наверняка, трепанул, что Бурейка не в отца крупен телом и что нагуляла, видать, его мамаша с лешим, а потом и еще хуже – заменили лешего на Агея Лисовина! Не любили Корнеева отца многие… в чем там дело было, не знаю, но прозвали его Бешеным Лисом.
– Погоди! Но так же Михайлу кличут!
– То-то и оно… Слушай дальше. Крутился как-то раз Бурейка возле баб у колодца, а мимо Агей с Корнеем проходили. Кто-то из баб возьми да и пошути по-дурному: «Бурейка, гляди, батюшка твой идет!» Малец подхватился, сунулся к проходящему мужу: «Бафуфка, ба…» – увидел, что не тот, но остановиться-то уже не успел и хвать руками Агея за ногу. Тот лицом покривился да как наподдал – уродец аж до забора долетел! Понятно, что главная-то обида у Агея не на Бурейку была, а на баб трепливых, но так уж сложилось, что малец крайним оказался.
Бурейка, конечно, в рев, и, как на грех, Ипатий недалеко был да голос сына услышал. Выскочил из-за угла, а в руке уже засапожник, кинулся на Агея, а тот уж и вовсе от всего этого взбеленился. Ка-ак двинул Ипатия, тот грянулся оземь, выгнулся дугой, а изо рта кровь как хлынет – на собственный засапожник напоролся, когда падал! И тут Бурей как вцепится зубами Агею в руку – отца защищать кинулся, да куда там! Сшиб его Агей и сапогом… только косточки хрустнули.
Бабы было в крик, но Агей на них так зыркнул – вмиг у колодца пусто стало, один только Корней сотничьего гнева не испугался. Поднял Бурейку на руки и понес к лекарке. Что уж там Агею в голову ударило, бог весть – окликнул, велел бросить урода. А Корней и ухом не повел, дальше пошел. Агей тогда подобрал коромысло – кто-то из баб забыл с перепугу – да тем коромыслом сыну по спине. Корней – ни гу-гу и дальше идет! Агей от такого и вовсе в раж вошел – принялся лупцевать в мах, а Корней только горбится да мальца от ударов прикрывает, а останавливаться и не думает…
– Не могло такого быть! – перебил Алексей.
– Почему? Разозлился и стал…
– Да нет, Анюта… сразу видно, что тебе это кто-то из баб рассказывал. Понимаешь, если б, скажем, я кого-то стал коромыслом в мах бить, то убил бы или покалечил бы, если не с первого, то со второго удара, точно. А Агей-то не слабее меня был, наверно.
– Ну, не знаю… рассказывают, что коромыслом… да не в том дело-то, чем бил, а в том, что Корней-то его не послушался! Да не просто не послушался… вот лупит его Агей, а он идет, лупит, а он идет, а потом вдруг выронил Бурейку из рук, развернулся, вырвал у отца… коромысло, или что там было, и замахнулся.
– Ты что? – изумился Алексей. – На отца?
– Ну да! Агей, рассказывают, прямо опешил от неожиданности… Да не перебивай ты! Замахнуться-то Корней замахнулся, но ударить не посмел – родитель все-таки. Только на словах предупредил, что помрет, но бить себя больше не даст. Агей так и остался стоять, а Корней снова подобрал Бурейку да дальше понес. Вечером того же дня собрал Корней вещички и вместе с женой и детишками на другой край села перебрался. То ли Агей его выгнал, то ли сам ушел – люди по-разному рассказывают, но я думаю, что все-таки Агей выгнал.
– Угу… а Бурей, значит, выжил? Ну и причем тут Настена? Ты же мне про ее силу толковать взялась.
– Ну, погоди, Леш, не подгоняй, а то непонятно будет. Дойду и до силы. Ты поешь еще… только полотенце подстели, а то крошки потом колоться будут… Ну, вот: выжить-то Бурейка выжил, но стал у него горб расти. И без того урод был, смотреть тошно, а тут еще такое. И из всей родни у него только бельмастый дядька-обозник остался. Хилый да непутевый… даже и надежды не было с Агеем за племянника посчитаться.
– Угу, верно… у меня в ватаге болгарин был – поп-расстрига – так он говорил: «С сильным не дерись, с богатым не судись»[2]. Как раз этот случай.
– Ну, да… а еще пьяница он был. Рассказывали: наклюкается бражки, сядет где-нибудь в уголке, Бурейку по голове гладит и плачет тихонечко… Не поймешь: то ли над ним плачет, то ли над собой. Так и помер – тихо как-то да незаметно.
– Да уж… пошутили бабоньки…
– Ага… всегда у вас бабы во всем виноватые! Ладно, Ипатий сам дурак – с ножом кинулся, а мальца-то зачем калечить было? Вот ему наказание и вышло – с единственным сыном рассорился. А Корней-то, как нарочно, десятником стал, серебряное кольцо, рассказывают, всего за три года заслужить умудрился. Агею – хоть разорвись! С одной стороны – гордость отцовская за его успехи, с другой – гонор и обида.
Но знаешь, недаром же говорят, что вода камень точит. Жена Корнея пилила, с Агеем несколько раз Добродея беседовала, а однажды привела Корнея, поставила его перед отцом на колени и заставила кланяться земно и просить прощения. Агей, рассказывают, поначалу ругался страшно, грозил, а потом вдруг обмяк и обниматься с сыном полез. Потом, уж как водится, надрались они бражкой до того, что посреди ночи купаться пошли. Это в конце октября-то! Как и не утонули-то, просто удивительно. Свекровь, покойница, с двумя холопками, пока их из Пивени вытаскивала, Корнею чуть половину волос не выдрала, а у Агея к тому времени голова, как колено стала, так его и вовсе хватали за что попало, холопки потом такое рассказывали – бабы со смеху кисли!
– Хо-хо, это за что ж, интересно, его хватали? – Алексей оживился, даже отложил недоеденный кусок. – Вот ведь, ворчите на нас, что, мол, только об одном и думаем, а сами любым случаем попользоваться…
– Умолкни, охальник! – Анна ухватила Алексея за нос и принялась поворачивать его голову туда-сюда. – Вот за это хватали, вот за это! А тебе лишь бы непотребство какое придумать!
– Ой! Отпусти, Анюта! – гнусаво заблеял Алексей. – Отломаешь, страшнее Бурея стану!
– Вот и ладно, молодухи засматриваться перестанут!
– Собака на сене! Сама не гам и другим не дам…
– Это я-то? – Анна попыталась возмущенно подбочениться, но лежа получилось плохо. – Да! Я такая! И только попробуй у меня… Ай! Лешка… бесстыжий! Ле-о-о-ш… Ле… о-ох, мамочки…
– Фу! Все усы в квасе вымочил… – Анна бормотала неразборчиво, уткнувшись лицом в подушку. – Куда полотенце-то задевалось?
– Какое полотенце? Погоди, я вроде на чем-то лежу… – Алексей закопошился на постели. – А! Вот оно… ой, и кабанятина здесь…
– Угу… вот и пускай такого в дом… под крыльцом тебе ночевать… Укрой меня, холодно что-то…
Алексей накрыл Анну и заботливо подоткнул одеяло.
– Спи, Медвянушка…
– Не-а… обними меня… не так, вот сюда… бороду с шеи убери… щекотно…
– Спи, не капризничай… вот я тебя сейчас за ушком поцелую…
– Ай! Усы мокрые!
– Да я же утерся!
– Утерся он… все равно мокрые!
Попробовала бы Анна вести себя так днем… даже наедине… Но сейчас ей дозволялось все, и она об этом прекрасно знала. Ночная кукушка… люди зря говорить не станут!
– Леш, я тебе не досказала…
– Завтра расскажешь, давай-ка, спи.
– Ну да! Завтра! Как усвищешь с утра своих убивцев мелких гонять… вечером придешь потный, злой, лошадьми провонявший… то ли дело сегодня – после баньки…
– Где та банька? – Алексей сокрушенно вздохнул. – Весь зад в сале кабаньем…
– Хи-хи-хи… сейчас на пол соскользнешь!
– Хихикалка… только что вроде как засыпала…
– Ага! А ты с усами мокрыми…
– Ладно… рассказывай.
– Ну, слушай. Помирились, значит, Агей с Корнеем… Агей еще долго прожил, даже дождался, пока Михайла родится, а помер плохо. Зимой где-то в дебрях его лесовики убили, даже тела не нашли. Жалели-то его все, сотник все-таки, хотя кто-то, может, и притворялся, а вот Бурей радовался! Как-то выхлебал чуть не ведро хмельного да принялся орать, что, мол, жаль, тела не нашли, а то бы сходил да на могилку Агея и помочился бы. И тут Добродея возьми да и напророчь ему: «Вернется Бешеный Лис – не быть тебе живу!» Кто ж тогда подумать мог, что Мишаню тоже Бешеным Лисом прозовут?
– Да ты что?! – Алексей рывком сел на постели. – А Корней-то… да этого урода убивать сразу же надо было! Да я его сам…
– Ты про силу Настены узнать хотел? – в голосе Анны исчез даже намек на сонливость. – Вот и знай: неприкосновенен Мишаня для Бурея по слову Настены!
– Как так?
– А вот так! Одно дело то, что Настена его выходила, считай, вынянчила – говорить по-людски научила, нрав свой дикий в узде держать… Да много всего, недаром же он ее матушкой кличет, хоть и старше по возрасту.
И совсем другое дело, что Бурей, даже если сам не хочет, Настене все равно подчиняется беспрекословно… Были случаи. Не от ума это буреевского, не от благодарности, а от силы ее ведовской! И еще… я с Нинеей разговаривала, когда Мишаня у нее лосем побитый лежал… Знаешь, что она сказала? Настена с Буреем такое сотворила, что не только сама Нинея не смогла бы, но даже и не знает, кто бы еще так смог! Она в его душе чернущей солнечный уголок устроила!
– Да ну… – Алексей недоверчиво покачал головой. – Не бывает такого!
– Бывает, Лешенька, бывает. И поселила в этом солнечном уголке Юлькин образ. Бурей с Юлькой тетешкается, Ягодкой зовет, всякие вкусности да подарки таскает. Настена, правда, не все позволяет принимать, чтоб не избаловал девку, но… Ты вообще можешь себе представить Бурея ласковым, улыбающимся, сюсюкающим?
Алексея так поразили последние слова Анны, что вместо ответа он издал горлом какой-то булькающий звук.
– Не можешь? Вот и я не поверила бы, если б сама не видала. А теперь скажи: могу ли я, при таких раскладах, осмелиться хоть какой-то вред Юльке нанести? Понял, да? Так что не Юлька ошиблась, а сама Настена ошибается – не надо меня ни от чего предостерегать… Только на самого Мишаню и надежда…
– Ну, вы, бабы… Погоди! Как это, на самого Мишаню?
– А вот так! – Анна, казалось бы, не изменила позу, почти и не шевельнулась, но сейчас это была уже не женщина, уютно укутанная руками любимого мужчины, а опасный зверь, припавший к земле перед прыжком. – Знаешь, что он мне недавно сказал? «Все-то вы, женщины, про нас знаете, кроме одного: почему мы одних любим, а на других женимся?»
Мурлыкающие нотки в голосе Анны ничуть не обманули Алексея, знал он такое «мурлыканье».
– Юльку-то он любит… любит, я вижу, а вот жениться… Против воли его даже Настена не заставит – Юлька не позволит!
– Д… Кхе! Да что ж это у вас в Ратном творится-то? С виду все тихо-мирно, а как вникнешь… даже Нинея не может… обалдеть!
– А чему тут удивляться-то? – Анна все с той же кошачьей грацией потянулась, выскользнувшая из-под одеяла рука напряглась, и пальцы на ней скрючились наподобие когтей. – Нинея на волхву выучилась, а Настена с Юлькой ведуньями родились. Настена пятое колено, Юлька шестое. То, чему Нинее годами учиться приходилось, у них в крови от рождения.
– Тебе-то откуда знать? Можно подумать, ты сама ведунья…
– Ну… мало ли… – Пламя свечи на секунду отразилось в глазах Анны, и рука Алексея, как бы сама по себе, дернулась сотворить крестное знамение. Еле удержался. – Да не пугайся ты, не знаю я ничего такого… Так – понемножечку…
– А я и не…
– Ага, а то я не вижу!
– Итить твою… – Алексей снова еле сдержал, но теперь уже не руку, а язык.
– Одного я только понять не могу, Лешенька: откуда у Мишани все это? Что-то не верится, что про «любим да женимся» он в книгах у отца Михаила вычитал.
– Ну, не скажи, Медвянушка, в Писании про все есть… если не впрямую, то в толковании. А уж про всякие свадьбы да женитьбы… Что-нибудь такое: «И взошел он в шатер ее, и познал ее. И отверз Господь чрево ее, и зачала она, и родила…»
– И чье же чрево Михайла отверз? Не Юлькино, я точно знаю!
– Да не Михайла, а Господь! – Алексей, заговорив о Святом Писании, вдруг почувствовал себя так, словно выбрался из зыбучего болота на твердую землю, к тому же и Анна снова непостижимым образом обратилась в обычную женщину. – Знаешь, Анюта, вышел у нас однажды спор. Я ж говорил, что был в моей ватаге болгарин-расстрига. Так вот, поспорили мои удальцы с ним. Он говорил, что в Писании на любой случай пример найти можно… Ну, конечно, не на мелочь какую-нибудь, вроде, как правильно кашу варить или заплату на портки пришивать, а что-то серьезное. А они взялись какой-нибудь случай измыслить, чтобы такого примера не нашлось. И знаешь, не смогли! Или впрямую, или через истолкование, обязательно есть! Уж как они старались, и так, и эдак, такое придумывали, что и в жизни не бывает… Месяца полтора у нас такие благочестивые беседы шли, а потом болгарина убили. Э-э… Да! Так что, Михайла, если с умом…
– А про любовь там что-нибудь есть? – Анна поймала ладонь Алексея и втянула ее к себе под одеяло.
– Да сколько хо… Гм… а то ты сама не знаешь!
– Не-а, не знаю, расскажи, Лешенька.
– Н-ну… как же там… ведь помнил же… О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! Глаза твои голубиные под кудрями твоими… Волосы твои – как стадо коз, сходящих с горы… Э-э-э… как лента алая губы твои, и уста твои любезны. Как половинки гранатового яблока – ланиты твои под кудрями твоими… Пленила ты сердце мое! Пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей. О, как любезны ласки твои! О, как много ласки твои лучше вина, и благовоние мастей твоих лучше всех ароматов! Сотовый мед каплет из уст твоих, мед и молоко под языком твоим…
Алексей примолк, вспоминая то немногое, что задержалось в памяти, и вдруг… Голосом Анны зазвучал ответ:
– Да лобзает он меня лобзанием уст своих! Ибо ласки твои лучше вина. Влеки меня, мы побежим за тобою; – царь ввел меня в чертоги свои, – будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино; достойно любят тебя! Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей. Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною – любовь. Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня.[3]
А дальше слова стали не нужны…
Возможно (кто может знать на самом деле?) и завидовала немного сейчас Богородица с иконы, целомудренно завешенной вышитым рушником. Нет, не любовникам, а Ладе и иным богиням, коим не зазорно было вселиться в любовников или незримо присутствовать возле их ложа, получая свою долю любви и счастья. Мало ли под вечным небом религий, не ставящих плотские радости ниже духовных?
Хотя нет, не подвластна Она чувству зависти, ибо Всеблага! Радовалась Она, наверняка радовалась за своих детей, ибо все мы Ее дети. А детям прощается все или почти все. Можно даже притвориться, дабы не смущать их, что действительно может что-то завесить и загородить от Всевидящего Ока тонкая ткань рушника.
И да возрадуется Богородица! Во имя Ее сошлись любящие души. Аллилуйя Любви! Аллилуйя! [4] Пусть радуются дети, ибо их радость дарит Ей несравнимо больше, чем та доля от чужого счастья, которую способны взять себе богини любви! Пусть радуются дети…
Глава 2
Август 1125 года. База Младшей стражи,
село Ратное и окрестности
Мишка стоял, опустив разряженный самострел, и смотрел на лежащие перед ним трупы двух «курсантов». У одного из ямки над ключицей торчал кинжал, ушедший в тело почти на половину длины клинка, у второго голова была изуродована прошедшим навылет самострельным болтом.
«Ну, вот и накаркал. Как я тогда отцу Михаилу говорил: „Очнусь, а передо мной изуродованный труп лежит“? – не только в числе трупов ошибся, но и в том, что сделано все в здравом уме и твердой памяти».
* * *
Все началось с того, что Мишка услышал шум драки от того места, где седьмой десяток Младшей стражи упражнялся на штурмовой полосе, построенной по Мишкиному распоряжению, по образу и подобию сооружения, осточертевшего ему еще во время срочной службы в Советской армии. Дрались двое, остальные, в том числе и урядник, с интересом наблюдали происходящее, подбадривая дерущихся криками. Наставника с ребятами не было, а сами они так увлеклись происходящим, что не обратили на подходящего к ним боярича ни малейшего внимания.
Наставников не хватало, но расписание занятий старались составлять так, чтобы в случае проведения занятий за пределами крепости кто-то из наставников за ребятами присматривал. Однако получалось это не всегда. Вот и сейчас, десяток, работавший на штурмовой полосе, сооруженной за пределами строящегося равелина, был предоставлен сам себе, вернее, уряднику, а тот, вместо того чтобы прекратить безобразие, сам был в числе активных болельщиков. Увы, среди ребят, пришедших в воинскую школу от Нинеи, дисциплина приживалась довольно туго. Седьмой десяток был как раз «из Нинеиных».
Перемазанные кровью и землей драчуны вдруг синхронно отпрянули друг от друга, и в руке у каждого появилось по ножу. Это были не «штатные» кинжалы, с которыми «курсанты» упражнялись согласно разработанной Мишкой программе, и не ножи, носимые на поясе, считавшиеся не оружием, а хозяйственным инструментом. В руках у драчунов блестели засапожники, привезенные с собой из дому – тоже нарушение дисциплины, причем серьезное.
– Отставить! – гаркнул Мишка. – Урядник, куда смотришь?
Его даже не услышали – противники начали сходиться, и зрители замерли в ожидании. Дело приобретало серьезный оборот. Мишка поднял самострел и, тщательно прицелившись, благо расстояние было небольшим, а противники двигались медленно, выстрелил. Болт ударил в блестящий клинок и вышиб нож из руки одного из «дуэлянтов». Пока присутствующие осмысливали произошедшее, глядя на искореженную железку, Мишка торопливо перезарядил оружие и навел его на второго противника.
– Бросай нож, козел!
Отрок (имен всех учеников Воинской школы Мишка никак не мог запомнить, все-таки почти полторы сотни) глянул на боярича, потом на своего урядника и нехотя принялся засовывать нож за голенище.
– Я сказал – бросай. Не понял? На землю!
Отрок снова оглянулся на урядника и, получив в ответ на вопросительный взгляд кивок головой, отбросил нож в сторону, многообещающе проворчав в адрес своего противника:
– Все равно прирежу, упырь.
– Сам раньше сдохнешь, собака! – не остался в долгу тот.
Мишку, упорно насаждавшего среди учеников Воинской школы идеологию воинского братства, покоробило от искренней ненависти, отчетливо прозвучавшей в голосах противников.
– Урядник Борис!
– Здесь, боярич.
Тон, которым отозвался Борис, больше подходил не для воинского доклада, а для недовольного ворчания. Оно и понятно – намечался заслуженный втык от начальства, да и имя свое, полученное при крещении, Борис не любил, предпочитая кличку, с которой явился в Воинскую школу – Плост, полученную, видимо, за чрезвычайно густые, действительно чем-то напоминавшие войлок волосы.[5]
– Построить десяток!
– Десяток, становись! – Борис вытянул в сторону левую руку, обозначая линию построения, отроки собрались в одну шеренгу. – Равняйсь! Смирно! Боярич, седьмой десяток Младшей стражи, по твоему приказанию построен. – Плост так и не изменил ворчливого тона. – Командир десятка урядник Борис.
– Ты и ты, – Мишка ткнул указательным пальцем в драчунов. – Выйти из строя!
Имя одного из них все-таки всплыло в памяти. Отец Михаил при крещении осчастливил парня имечком Амфилохий, которое ученики Воинской школы почти сразу же переделали в кличку «Ложка». Имя второго так и не всплыло, но зато вспомнилось, что это младший брат урядника: подсказку дали внешнее сходство и такие же густые, спутанные волосы.
Мишка, «собирая внимание», глянул каждому из стоявших перед ним парней в глаза и заговорил скопированным у деда командирским голосом:
– Все вы знаете, что кроме братства во Христе, мы связаны еще и воинским братством. Братья не могут желать смерти друг другу, тем более, они не должны поднимать друг на друга оружие.
Это правило, со всевозможной строгостью, вбивалось наставниками в головы отроков с самого начала. Направленный на кого-нибудь, даже незаряженный, самострел, даже в шутку, даже случайно, служил поводом для строгого наказания.
– Вам всем это правило хорошо известно, но вы только что видели, как оно было нарушено ратниками Младшей стражи Амфилохием и…
Мишка повернулся к брату десятника и требовательно спросил:
– Имя?
– Овен, – отозвался парень.
– Я спрашиваю имя отрока Младшей стражи, а не собачью кличку! Доложить, как положено!
– Овен, – упрямо набычившись, повторил провинившийся, оправдывая свою кличку.[6]
Ситуация была знакомой и обросшей за месяцы муштры лесовиков рецептами противодействия. Мишка выбрал из этих рецептов самый жесткий: Овен охнул сквозь сжатые зубы и слегка скособочился, получив по ребрам прикладом самострела.
– Имя!
– П… Пахом.
– Доложить, как положено!
– Младший урядник седьмого… – Пахом сплюнул на землю кровью из разбитых губ, – …седьмого десятка Младшей стражи Пахом.
– Младший урядник Пахомий, ратник Амфилохий, снять доспех!
Августовский денек был солнечным, ребята, упражнявшиеся на штурмовой полосе в кольчугах и шлемах, только тем и спасались, что дул довольно свежий ветер. Мишка решил, что обдуваемые ветром потные тела остынут быстро, а вместе с телами остынут и страсти, поэтому, дождавшись, когда Пахом и Ложка стащат с себя поддоспешники, приказал им снять и насквозь мокрые рубахи.
Прошелся туда-сюда перед строем, вглядываясь в лица, и ничего, кроме интереса по поводу: «что это такое придумал боярич», не заметил.
«М-да, сэр, с первым набором было намного легче, удружила Нинея с личным составом. Хотя, с другой стороны, делать воинов из смирных да послушных, – несомненно, жертвовать качеством. Но проблем…»
Заметив наконец, что Пахом зябко повел плечами – контраст между жарким поддоспешником и обдуваемой летним ветерком потной кожей был слишком велик, Мишка решил, что должный эффект достигнут, и заговорил снова:
– Из-за чего подрались?
В ответ – молчание.
– Отрок Амфилохий, из-за чего подрались? Отвечать!
– Я б его уже давно, если бы их не двое было…
«Понятно, конфликт притащен с собой из дома. Видимо, дрались уже не раз, но у Ложки не имелось старшего брата, который в случае нужды приходил на помощь. А здесь старший брат Пахома оказался урядником, значит, Ложке рассчитывать на справедливость не приходилось, скорее наоборот, обиды продолжали накапливаться. Случай запущенный, слова о воинском братстве в одно ухо влетают, в другое вылетают».
– А ты что скажешь? – Мишка посмотрел на Пахома. – Нечего на брата пялиться, своей головы нет?
– Этот упырь, – Пахом снова сплюнул кровью, – уже лет пять лишних на свете живет. Пора кончать.
«И таким мы даем в руки оружие? Ну уж нет! Говоришь, пора кончать? Вот сейчас и кончим, прямо здесь».
– Отрок Амфилохий, все еще хочешь убить Пахомия?
– Хочу! – Ложка тоже сплюнул кровью из разбитого рта. – И убью!
– А ты, Пахомий…
– Считай его уже покойником, боярич, – перебил Мишку Пахом. – Дня не проживет, змей подколодный.
– Будь по-вашему!
Все взгляды тут же сошлись на Мишке: таких слов от него никто не ожидал. – Сейчас дам вам по кинжалу, и можете друг друга резать, но запомните два моих условия: поединок – до смерти, а победителя я пристрелю. – Мишка обещающе повел туда-сюда заряженным самострелом. – За убийство отрока Младшей стражи – смерть!
В воздухе повисла тишина, все ошарашено смотрели на боярича. Джека Лондона, разумеется, никто из присутствующих не читал, и подобное условие поединка казалось совершенной дичью.
– Повторяю: победителя убью сам! Если ученики Воинской школы так ненавидят друг друга, что готовы умереть ради того, чтобы убить, ни о каком воинском братстве между ними не может быть и речи. А нам такие воины не нужны!
Мишка немного помолчал, дожидаясь, пока его слова будут поняты и усвоены, затем продолжил:
– Отрок Пахомий, не передумал?
Пахом опять зыркнул в сторону старшего брата, но никакого совета не получил, да и какую помощь мог оказать ему Борис в сложившейся ситуации?
– Нет, не передумал!
Особой уверенности в голосе парня не было, одно упрямство и еще, как показалось Мишке, надежда на то, что Борис что-нибудь придумает.
«Привык, чуть что, за спиной старшего брата прятаться, как следствие, неумение самому отвечать за собственные поступки. Что ж, будем надеяться, что у второго голова варит лучше».
– Отрок Амфилохий, не передумал?
– Нет!!!
Вот здесь ни малейшей неуверенности не было. Похоже, братцы так достали парня, что он готов был рискнуть жизнью, ради того, чтобы рассчитаться за все разом.
«Блин, не катит Джек Лондон. Там были опытные, битые жизнью мужики, не раз ходившие по краю и знавшие, что такое смерть. А эти наверняка по-настоящему и не понимают, что вот прямо сейчас умрут. Что же вы творите, сэр? То, что и обязан, как бы дико это ни звучало! Прямо сейчас в крови и муках должен родиться неписаный закон: „Свой неприкосновенен. За убийство своего – смерть!“ Одними словами и увещеваниями это не создается. Наказаниями, даже самыми строгими – тоже. Непререкаемая истина должна быть наглядной и осязаемой. Амфилохия жаль, Пахома – нет. Если еще и братец сунется… тоже не пожалею. Позже эта кровь десятки жизней сохранит».
– Всем отойти! – Строй «курсантов» заколебался, но по нескольку шагов назад ребята сделали только после того, как Мишка угрожающе дернул в их сторону самострелом. – В любого, кто сунется, стреляю без предупреждения!
– Боярич, дозволь обратиться! Урядник…
– Заткнись! – Мишка направил самострел в сторону Бориса. – Раньше надо было думать, когда ты свой десяток до такого дерьма довел! Пахомий, Амфилохий, последний раз спрашиваю: не передумали?
– Нет! – в голосе Амфилохия слышался тот самый гибельный восторг, о котором через много веков споет Владимир Высоцкий. – Не передумал!
Пахом снова оглянулся на брата, и Борис не выдержал:
– Он передумал! Боярич, он передумал!
– Молчать! Не тебя спрашиваю! Пахомий, твое слово!
Пахом наконец-то испугался. Не поединка до смерти и не Мишкиного самострела. Впервые в жизни он лишился возможности прикрыться от опасности старшим братом. Оказалось, что это страшно. Мишка было подумал, что он сейчас откажется от поединка, но…
– Нет…
Трудно было понять: отвечал ли Пахом на Мишкин вопрос или просто попытался протестовать против сложившейся ситуации. Ни жестом, ни какими-нибудь словами он этого не пояснил. Тянуть больше не было смысла, и Мишка принял решение. Вытащив два кинжала, он швырнул их под ноги Амфилохию и Пахому, после чего в полный голос объявил:
– Поединок до смерти! Победитель будет казнен на месте за убийство отрока Младшей стражи! Начали!
– Стойте… – подал было голос Борис, но было уже поздно.
Амфилохий, видимо, слишком долго копил обиды и ненависть. Пока Пахом как-то нерешительно тянулся рукой к кинжалу, Ложка, мгновенно нагнувшись, схватил оружие и, не разгибаясь, метнул его в противника. Кинжал вонзился нагнувшемуся Пахому слева от шеи в ямку над ключицей, и парень застыл в согнутом положении, так и не подобрав свое оружие. Амфилохий же, «рыбкой» метнувшись к противнику, схватил его кинжал и развернулся к уряднику Борису – одной жертвы ему было явно недостаточно. В этот момент ему в затылок врезался болт из Мишкиного самострела. Выстрел с расстояния в несколько шагов пробил голову навылет, и в сторону зрителей полетели брызги крови и мозга.
Никакого поединка, в сущности, не получилось – все произошло почти мгновенно. Мишка стоял, опустив разряженный самострел, и смотрел на лежащие перед ним трупы двух мальчишек. Впервые он убил человека не в бою, не приступе ярости или защищаясь. Преднамеренно, ясно понимая, что и для чего делает. Отроки тоже замерли, глядя, как скребет пальцами по земле Пахом, так и не успевший взять в руки оружие.
Сколько длилась немая сцена, Мишка сказать бы не смог даже приблизительно. Ему показалось, что очень долго. Наконец, кто-то ойкнул, кто-то зашипел от боли, попытавшись утереть забрызганное кровью лицо кольчужным рукавом, кто-то согнулся в приступе рвоты – на каждого произошедшее подействовало по-своему.
Момент, когда на него кинулся урядник Борис, Мишка пропустил, но наработанные тренировками рефлексы не подвели – тело само ушло в сторону, а нога сделала подсечку. Правда, «проводить» пролетающего мимо урядника ударом приклада Мишка не успел. Грохнувшись на землю, Борис мгновенно подтянул правую ногу и вытащил из-за голенища нож, потом быстро вскочил на ноги и, слегка пригнувшись, двинулся на боярича. Повторно кидаться очертя голову он не стал, урок пошел на пользу – Мишка гораздо лучше владел приемами рукопашного боя, к тому же был без доспеха, а значит, подвижнее.
Перебросив самострел в левую руку, Мишка зажал в правом кулаке гирьку кистеня. Ни убивать, ни калечить Бориса он не собирался, поэтому даже не притронулся к кинжалу, а кистень взял не за кончик ремешка, а за гирьку. Борис сделал ложный выпад, но стоял он при этом так, что явно не доставал оружием до противника, Мишка даже не шевельнулся в ответ, лишь предупредил:
– Опомнись, на боярича руку поднимаешь.
– Ты, гнида, во всем виноват! – прошипел в ответ Борис. – Из-за тебя…
Недоговорив, Борис шагнул вперед и дважды махнул засапожником: слева направо и справа налево, стараясь полоснуть Мишку по горлу. От первого взмаха Мишка уклонился, откинувшись назад, а следующий сблокировал самострелом, сразу же ударив десятника в лицо кулаком с зажатой в нем гирькой. Борис рухнул навзничь, не издав ни звука, – чистый нокаут, несмотря на то, что Мишка бил аккуратно, опасаясь повредить руку. Но в полную силу бить и не требовалось, потому что бармица у Бориса была откинута назад, шлем сдвинут на затылок, а эффективность зажатого в кулаке груза Мишке довелось познать еще в детстве.
* * *
В первой половине шестидесятых годов ХХ века Мишке неоднократно приходилось принимать участие в драках с парнями из ремесленного училища, располагавшегося в Ленинграде на Петроградской стороне возле Сытного рынка. «Ремеслуха», как правило, оказывалась в численном большинстве, так как быстро получала подкрепление из близлежащего общежития, и очень любила использовать в качестве оружия форменные ремни с латунными пряжками. У некоторых эти пряжки были дополнительно усилены свинцовой заливкой, так что попадало пацанам с Петроградки довольно крепко.
Хотя большинство ребят носило школьную форму с практически такими же ремнями, как и у «ремеслухи», пытливая мысль младшей возрастной группы ленинградских гопников породила асимметричный ответ в виде стопки пятикопеечных монет, завернутых в тряпку или (у кого имелись) в носовой платок. Такое оружие можно было использовать двояко: либо как короткую дубинку, ухватив за свободные концы тряпки, либо зажав в кулаке. Кроме того, что это «изобретение» уравнивало шансы в столкновении с противником, оно еще и спасало от конфликтов с милицией, так как пятаки можно было мгновенно рассыпать, а платок приложить к разбитому носу или губе, изображая из себя невинную жертву.
Денег, правда, было жалко. После денежной реформы 1961 года пятьдесят копеек стали деньгами: два-три кило картошки (если плохой и мелкой – пять), или пять порций мороженого, или пять походов в кино по детскому билету. В силу этого обстоятельства Мишка натренировался при появлении милиции мгновенно высыпать пятаки в карман, а не раскидывать их по асфальту.
Именно эти воспоминания заставили Мишку категорически отказаться от Кузькиного предложения сделать гирьки кистеней ребристыми или даже шипастыми. Наоборот, Мишкин «фасон» гирьки внешне вовсе не выглядел грозным – слегка сплющенная с боков, удлиненная округлая железка. Зато как удобно она ложилась в ладонь и каким убойным был выглядывающий снизу из кулака край гирьки с ушком, в который продевался ремень! Даже дед одобрил Мишкино «изобретение», приняв для пробы на щит несколько ударов кулака с гирькой, одетого в латную рукавицу.
* * *
Вводя в обиход Младшей стражи гирьку «двойного назначения», Мишка имел в виду бой в тесноте, где особенно не размахнешься, а тыкать кинжалом в окольчуженного противника бесполезно, но вот же, пригодилось и в чистом поле. Борис лежал пластом и, кажется, даже не дышал. Мишка на всякий случай пощупал у него пульс на шее. Ощутив биение жилки, он облегченно вздохнул, распрямился и обвел глазами притихших парней.
– Ну, у кого еще руки чешутся?
Ответом было молчание. Два трупа и повергнутый без видимого, для неопытного глаза, усилия урядник, превосходивший всех присутствующих ростом и силой, произвели шокирующее воздействие.
– Младший урядник! – не дождавшись ответа, Мишка повторил громче: – Младший урядник! Не слышу ответа!
– Здесь! Младший урядник Нифонт, боярич!
Вторым младшим урядником десятка оказался тот самый парень, что ободрал себе щеку, утеревшись кольчужным рукавом.
– Слушай приказ, Нифонт. Временно принимаешь на себя командование десятком. Этого, – Мишка кивнул на лежащего без сознания Бориса, – освободить от доспеха, связать и отвести в темницу. Если не очнется, привести к нему лекаря Матвея. Этих, – кивок в сторону убитых, – отнести в часовню. О произошедшем доложить старшему наставнику Алексею.
– Слушаюсь, боярич!
Чувствуя спиной взгляды отроков, Мишка неторопливо, соблюдая достоинство, пошел к кустам, из-за которых вышел на шум драки. Когда почувствовал, что его уже никто не видит, опустился на землю и с чувством выругался. Кулак, которым он «отоварил» Бориса, болел, на душе было погано.
«Два покойника, а с третьим тоже что-то надо делать! Урядник, а ничуть не лучше рядовых, на боярича с ножом… Наказывать? А как еще наказывать? И так порем розгами, „губа“ (она же темница) ни одного дня не пустует. Наставники на пинки и затрещины не скупятся. Куда уж дальше-то? А вот сюда, сэр, – высшая мера, как апофеоз педагогического воздействия. С почином вас, сэр Майкл».
Мишка снова выругался и пнул ногой ни в чем неповинный самострел.
«А ну-ка, сэр Майкл, давайте-ка успокоимся, перестанем дергаться и начнем думать. Есть, хотя еще и не полностью сформировавшийся, уклад и порядок жизни Младшей стражи. И есть вполне сложившиеся уклады и представления о порядке, которые ребята принесли с собой. Они оказались среди чужих людей, в незнакомом месте, и к ним предъявляются достаточно суровые требования. Вполне естественно, они в таких условиях держатся кучкой, внутри которой сохраняются привычные им порядки. Что в результате получается?
Навязываемая им система правил то и дело приходит в противоречие с привычными им порядками. Причем, обратите внимание, сэр, у каждой группы порядки свои, хоть немного, но отличающиеся от остальных. Именно поэтому единый подход, применяемый ко всем, время от времени дает сбои. Что же прикажете в таком случае делать?
Сам собой напрашивается выход: разрушить землячества, растасовав ребят по разным подразделениям! Если не будет возможности придерживаться привычных порядков, им придется принять систему отношений, предлагаемую Младшей стражей. Недаром же в большинстве регулярных армий в будущем будет применяться принцип экстерриториальности – национальные или территориальные воинские формирования по сути являются инкубаторами иных ценностей и мотиваций, нежели общеармейские уставы. И это – опасно.
И все вроде бы правильно, досточтимый сэр Майкл, и вы об этом уже думали, но Нинея формировала десятки сама и предложение перемешать ребят не одобрила. И тогда вы придумали другой ход…»
* * *
Когда-то на вопрос деда о том, как заставить ребят подчиняться, что заставит их идти в бой под его командой, Мишка ответить не смог, но потом помог случай. Опричники настолько обалдели, увидев Мишкиных сестер в новых платьях, что даже не услышали приказ спешиться. Тогда-то Мишке в голову и пришла мысль о неявном противодействии влиянию Нинеи, которому волхва, пожалуй, не сможет противопоставить ничего.
Потом эта мысль получила подтверждение на берегу Пивени, когда от вида Анны Павловны, Аньки и Машки хором обалдели не только ратнинцы, но и всякого повидавшие лодейщики, вкупе с преисполненными столичной спеси купеческими сынками. Никола, бедняга, и вовсе наповал втрескался в Аньку-младшую.
После этого концепция формирования у «Нинеиного контингента» нового набора ценностей и мотиваций сложилась легко и быстро. Собранным по глухим дреговическим селениям отрокам даже Ратное, с его почти тысячным населением, казалось огромным городом. Дома, которые строила для своих семей артель Сучка по Мишкиному «проекту» – просторные пятистенки на подклете, с отоплением «по белому», с деревянными полами и черепичными крышами, представлялись прямо-таки дворцами. А девки… Да, девицы, сами того не зная, стали Мишкиным «главным калибром».
Вечерами, на посиделках, девки, повинуясь дирижерским взмахам рук Артемия, сладкими голосами выводили:
Эх, дороги, пыль да туман, Холода, тревоги да степной бурьян. Знать не можешь доли своей, Может, крылья сложишь посреди степей. Вьётся пыль под сапогами, степями, полями, А кругом бушует пламя да стрелы свистят…А в ответ, заставляя Артемия морщиться и кривиться, как от зубной боли, звучали ломающиеся голоса отроков:
Ты ждёшь, Лизавета, От друга привета. Ты не спишь до рассвета, Всё грустишь обо мне. Одержим победу, К тебе я приеду На горячем боевом коне…С немалым для себя удивлением и радостью Мишка обнаружил, что тексты песен, разученные им в школе на уроках пения и в солдатском хоре, почти не нуждаются в редактуре при переводе на язык XII века.
В общении же с девицами Мишкины братья и, особенно, бывшие музыканты, во многих местах побывавшие и многого повидавшие, выигрывали с явным преимуществом, как, впрочем, и купеческие детишки.
С коварством эдемского змия-искусителя, Мишка начал подспудно внушать «Нинеиному контингенту» мысль: «И ты можешь стать таким же – повидать свет, жить в таком же доме, заполучить в жены такую же девку…»
Сначала, в качестве поощрения за успехи в учебе и службе, он начал приглашать отроков к себе на ужин. Два-три отрока, сам Мишка, кто-нибудь из «ближнего круга» и старший наставник Алексей не просто ужинали, а еще и чинно беседовали, как взрослые солидные мужи, а поев, приглашали с другой половины дома «дам» – боярыню Анну, Мишкиных сестер и нескольких девок из «бабьего батальона». Засиживались за разговорами в домашней обстановке допоздна, а отроки потом гордились и хвастались перед другими, не удостоившимися такой чести, придумывая невесть какие подробности.
Между десятками Младшей стражи развернулось воистину свирепое (иногда и до мордобоя) соревнование за право сопровождать девиц по воскресеньям в ратнинскую церковь. В доспехе и при оружии! На субботнем построении Младшая стража, затаив дыхание, ждала Мишкиного объявления о том, какие два десятка отроков по итогам недели признаны победителями и назначаются в вооруженный конвой.
Наиболее же сильным воздействием на умы отроков оказалась придуманная Мишкой «репетиция семейной жизни». Суть ее заключалась в следующем. Один из построенных на посаде домов передавался на трое суток паре из отрока и девки. За первые два дня они должны были обставить пустой дом мебелью, натащить туда со складов Ильи хозяйственной утвари и припасов, а на третий день принять гостей – Анну Павловну с Алексеем, Илью с женой, Мишку с сестрами. Показать, как обустроен дом, угостить, занять приличной беседой – сначала мужская и женская части по отдельности, а потом вместе. После этого следовал «разбор полетов» – что «молодые» сделали правильно, что неправильно, как себя вели, принимая гостей, как следует исправить недочеты.
Популярностью это мероприятие пользовалось бешеной, отроки готовы были наизнанку вывернуться, чтобы стать очередным испытуемым, несмотря на то, что спрос при подведении итогов был строжайший, ни одно из упущений не оставалось незамеченным, а надзор за нравственностью оставленной наедине пары осуществлялся, «дабы не увлеклись», жесточайший.[7]
Не обошлось, правда, и без неприятностей. Поскольку девок было всего полтора десятка, а отроков более сотни, женская часть «испытуемых» быстро приобрела необходимый опыт и начала помыкать временными партнерами, ударными темпами нарабатывая опыт стервозности и скандальности. Результат воспоследовать не замедлил – одна из девиц, поведшая себя с очередным отроком уж и совсем, как с мужем-подкаблучником, огребла сначала пару оплеух, а затем, направляемая и вдохновляемая пинком под зад, ласточкой упорхнула с крыльца.
Особых телесных повреждений она не получила (рукопашному бою отроки обучались старательно), но переживаний было!.. Поученная «по-мужски» дева не только не нашла ни малейшего сочувствия у Анны-старшей, но еще и была подвергнута дополнительному наказанию. Алексей же прочел отрокам пространную лекцию о том, как правильно «учить» зарвавшихся баб, не нанося ущерба здоровью и не оповещая шумом всех соседей. Лекция имела такой успех, что Мишке потом пришлось преподать отрокам несколько психологических «противостервозных» приемов, не требующих рукоприкладства. Хотя и ему пришлось признать, что сама возможность воздействия физического является весьма существенным подспорьем для воздействия психологического – средневековье, куда денешься?
В общем, дело достаточно уверенно шло к тому, чтобы где-нибудь через годик отроков можно было спокойно отпустить на побывку домой. Там молодым воинам все покажется серым, скучным, тесным, маленьким… И Нинея ничего с этим поделать не сможет. Если подростку где-то интересно и весело, если впереди надежда на новые впечатления и ощущения, то родителям и учителям с этим справиться очень и очень трудно. В этом разницы между XII и ХХ веками не было никакой.
* * *
«М-да, светлая боярыня Гредислава Всеславна, несмотря на всю вашу опытность и мудрость, женский подход вас все-таки подвел! Уже в процессе обучения некоторые из назначенных вами десятников доверия не оправдали, а в боевых условиях этот ваш просчет может стать еще более явным. Не знаете вы военных реалий, не знаете…
Тот же конфликт Амфилохия с Борисом и Пахомом мог бы остаться обычной детской ссорой, если бы одна из конфликтующих сторон не приобрела формального права командовать другой стороной. Вот и достали братцы Борис и Пахом парня до последней невозможности. Ну, что ж, сэр, значит, придется пройти и через это».
Мишка поднялся с земли, привел в порядок одежду и амуницию и пошагал к крепости. Первым ему навстречу попался Роська. По всему было видно, что крестник целенаправленно ищет Мишку по какому-то сверхсрочному делу.
– Минь! – закричал Роська еще издалека. – Минь, нельзя же так, скажи им!
– Чего нельзя-то?
– Они покойников необмытых и неприбранных в часовню притащили и бросили. Кто ж так делает? И еще: кто их отпевать будет? За отцом Михаилом посылать надо.
– Обмывает и прибирает пусть сам седьмой десяток, так младшему уряднику Нифонту и передай, скажи, что я велел. И еще скажи, что если не сделает, младшим урядником ему не быть! А отпевать… Отпевать ты будешь!
– Я?!
– Да! Ты у нас самый ревностный христианин, почти все службы наизусть знаешь, да и ответственным за духовное воспитание отроков от Совета Академии назначен тоже ты. Так что, за неимением рукоположенного священника… Трудись, одним словом.
– Минь, – Роська явно растерялся – да как же… я…
– Урядник Василий! – добавил металла в голос Мишка. – Отставить причитания!
– Слушаюсь, боярич!
– Вот так-то. Покойников отпоешь, проводишь до могил, а потом уйдешь в казарму и носа на улицу не высовывать, особенно ночью.
– Да ты что? Они же их не зароют, а по языческому обряду на костер положат!
– Ох, Роська… – Мишка с трудом сдержался, понимая, что одним командным тоном толку не добьешься, – ну сколько ж тебе еще объяснять, что знания лишними не бывают? Ты хоть поинтересовался, как по Велесову уряду покойников в последний путь провожают?
– Нет никакого Велесова уряда! – Роська набычился, и Мишка уловил в его голосе знакомую фанатичную тональность отца Михаила. – Нет вообще никаких урядов, а одно лишь сатанинское непотребство! И ты ему потакаешь! А я не стану!!!
«Праведник, туды б тебя… Спокойнее, сэр, вам ли не знать, что неофиты вечно стараются быть святее Папы римского? Плюс юношеский максимализм. Сопротивление фанатиков только распаляет, единственное надежное средство – заставить думать. Унтер Василий, слава богу, не дурак, да и не фанатизм у него пока, а некая восторженность от нового взгляда на жизнь и приобщения к Великой Истине. Пользуйтесь, пока вы для него авторитет, а то упустите – поздно будет».
– Давай-ка, Рось, присядем… вон там хотя бы.
– Зачем?
– А ну, кончай ерепениться, – Мишка приобнял крестника за плечи. – Я тебя когда-нибудь плохому учил?
– Э-э…
– Давай, давай, садись, поговорим. Помнишь, как я тебя книжным словам обучал?
– Ну, помню…
– Вот и хорошо… Видишь ли, сын мой во Христе, наука умеет много гитик…
– Чего?
– Бог есть Любовь… С этим-то ты согласен?
– Ну… да… – Роська напрягся, заранее подозревая какой-то подвох. – А причем тут…
– А как любить, не понимая? – не дал ему договорить Мишка. – И как понимать без знания? Вот ты говоришь «сожгут», а зачем? Какой смысл вкладывается в обряд кремации? Тебе это известно?
– Ну, вроде бы они верят, что так в Ирий-град попасть можно…
– Верно. В град богов славянских, к Сварогу и его детям. Но Велес-то из Ирия изгнан был, а дреговичи Велесу поклоняются! Зачем же тогда жечь? Зачем отправлять души туда, где их бога нет?
– Сатана тоже низринут был, за то, что… – начал было Роська, явно собираясь идентифицировать Велеса, как Князя Тьмы, но Мишка снова его перебил:
– За что Врага рода человеческого Господь покарал, я не хуже тебя знаю! Не увиливай, Роська! Я тебе вопрос задал: «Зачем жечь тела, если душам поклонников Велеса в Ирий не надо?» Как ты духовным воспитанием отроков занимаешься, если на простейший вопрос ответа не знаешь?
– Так… это… вроде бы незачем… – Роська удивленно уставился на Михайлу. – А чего ж они тогда?..
– Именно! Незачем! – Мишка поймал себя на том, что, копируя деда, назидательно вздел указательный палец. – Так они и не жгут! В земле хоронят! И разницы в способе захоронения особой нет – земля к земле, прах к праху. Единственное – мы тело в домовину кладем, а они кораблик плетеный делают – корзинь…
«Мать честная! Корзинь, а дед-то, в язычестве, Корзень! Как же я раньше-то… Ну да, Нинея рассказывала, когда я еще про деда не знал… Это ж получается что-то вроде греческого Харона, который умерших через Стикс перевозил… вернее, не так – дед „путевку на берег Стикса выдавал“. Ну, ни хрена себе репутация у дедушки! Сколько же он народу положил, чтоб такую кликуху заработать?»
Мишкины размышления, видимо, настолько явственно отразились на его лице, что Роська осторожно спросил:
– Минь… ты чего?
– Ничего! – отозвался Мишка, резче, чем хотел. – Хочешь на христианском обряде настоять? А у тебя к нему все готово? Христиан хоронят в пределах церковной ограды. А у нас освященная земля для кладбища есть? Если не храм, то хоть часовня на этом кладбище стоит? Ты хотя бы место, где покой усопших мирская суета нарушать не будет, выбрал? И не смей врать, что собирался умерших в Ратное отвозить, ты об этих делах даже не задумывался!
– Да кто ж знал? Минь…
– Вот и сиди в казарме! Сунешься им мешать, морду набьют или чего похуже устроят.
– Так ведь грех-то какой!
– Помешать ты им можешь? Нет! Поэтому позаботься о душах, а с телами… – Мишка сделал над собой усилие и заговорил мягче: – Ну, не все же сразу, Рось! Посмотри ты на жизнь нормальным взглядом. На все время нужно. Это ты вот так сразу истинной верой проникся, но ты исключение, а не правило. Ребята всего три месяца как к православию прикоснулись, а всю жизнь до этого в Велесовом уряде обретались, и родители их, и деды, и пращуры не знамо сколько колен.
– И горят теперь в геенне огненной…
– Дурак! – Мишка снова сорвался на резкий тон. – Они виноваты в том, что до них никто Благую Весть не донес?
– Андрей Первозванный…
– Да! На киевских горах проповедовал, но где Киев и где мы, да и когда это было? От тех времен до Владимира Святого столетия прошли!
– Но все равно…
– Нет, не все равно! Сжигают своих покойников поклонники Перуна, а не Велеса, да и то не всех. Некоторых тоже в земле хоронят, для того чтобы, пройдя через Лоно Матери-Земли, они очистились и пришли в мир в новом рождении, более лучшими. По-научному называется реинкарнация, сиречь – перевоплощение.
– В Писании такого нет… – не очень уверенно возразил Роська.
– Верно, христианство реинкарнацию отвергает. Перун в наших краях чужой, его сюда варяги Рюрика принесли. А у литвы, пруссов и ятвягов есть похожий бог – Перкунас. Твои родители, скорее всего, ему поклонялись, им ты тоже адские муки сулишь?
– Я за них молиться буду…
– Ты мне тут кликушу из себя не строй! – Мишка все-таки сорвался на крик. – Я слышал, как ты сейчас про геенну огненную толковал, злорадство в твоем голосе было, злорадство! Мол, я Истинной Веры сподобился, а вам, язычники закоренелые, в адском пламени гореть! И это христианин, коему о загубленных душах скорбеть надлежит!
– Минь… – Роська дернулся, как от пощечины. – Крестный!
Мишке показалось, что Роська сейчас бухнется на колени и начнет каяться.
«Перебор, сэр, ну нельзя же так! Парень вас чуть ли не за отца родного держит, а вы с ним, как с дерьмократом в кулуарах Госдумы. Нервы, конечно, не железные, но своего-то зачем?»
– Все, Рось, все, хватит! – Мишка снова приобнял крестника за плечи. – Ну, перестань, перестань… эк тебя пробило-то. Хватит, я сказал! Испробовал на себе истину «не суди и да не судим будешь»? Вот и не суди.
– Но как же?..
– Всему свой срок, Роська, не спеши, воспитаем ребят как надо, только не дави, не ломай. Время – такая штука… оно все перебарывает, сам убедишься… со временем. Ну, вот представь себе: переженятся наши отроки, родятся у них детишки. Кто им сказки да легенды рассказывать будет? Деды и бабки, так?
– Так… но они же язычники?!
– Погоди, Рось, не спеши. Потом и у тех детей родятся свои дети. И они уже будут спрашивать у своих дедов и бабок: как устроен мир, почему гремит гром, что с человеком происходит после смерти?
– Ага! А они уже христиане и станут рассказывать…
– Нет, Роська, если бы все было так легко и просто! На самом же деле… Понимаешь, сказки-то малым детям мы рассказываем по большей части те, которые сами в детстве слышали. Так что… не знаю. Кто-то, конечно, и Святое Писание внукам возьмется пересказывать, а кто-то языческие сказания, а скорее всего, и то и другое вперемешку. Но пройдет еще несколько поколений, и однажды на вопрос внучат: «Что бывает с людьми после смерти?» уже никто не произнесет слово «Ирий», а только слова «Ад» и «Рай». Вот тогда… вот тогда и произойдет то, чего ты хочешь добиться всего-навсего за три месяца!
– Так мы же и не доживем…
– Андрей Первозванный тоже не дожил, а Русь-то крестили!
– Минь… Крестный, ты так говоришь, будто тебе не четырнадцать лет, а четыреста…
– Ну так и ты, православный воин Василий, тоже с отроками разговариваешь не от себя, а опираясь на одиннадцать веков христианства. Или не так?
– Я как-то и не задумывался…
– Ну так задумайся: что такое три месяца по сравнению с тысячелетием? А теперь ступай, присмотри там, но в меру, с разумением.
– Но отец Михаил…
– Исполнять! Могилы, кстати, пусть тоже седьмой десяток роет. А кресты на могилах позже поставим. Все, урядник Василий, спорить и возражать запрещаю! Иди, командуй седьмым десятком!
«Мда-с, досточтимый сэр, мировоззренческий конфликт между поколениями… В какую еще сторону вывернется – поди угадай. Ладно, еще сейчас – „это бог неправильный, а вот этот правильный“, а придет время и вслух будет сказано: „Бога нет!“
И какой из сего заявления надлежало сделать вывод? Все дозволено? Этим вопросом, помнится, мучились персонажи Достоевского. А Максим Горький устами своего героя заявил: „Все – в человеке, все для человека! Существует только человек, все же остальное – дело его рук и его мозга!“ Все почему-то помнят из этого монолога Сатина только слова „Человек – это звучит гордо!“, а ведь, по сути, это – манифест атеизма. И публика рукоплескала! Граждане империи, где православие было государственной религией и без справки от приходского священника нельзя было получить паспорт! Да, на театральных подмостках это красиво, смело, возвышенно! А в жизни? Когда дошло до дела, то только шмотья полетели, причем шмотья кровавые, а те, кого в школах подзатыльниками и розгами заставляли учить Закон Божий, с уханьем и присвистом валили кресты с куполов…
Не то ли и вы, сэр, сейчас творите? Да, под угрозой наказания „курсанты“ уже не блеют и не кукарекают во время молитвы, но… Амфилохий и Пахом – дети одного рода, пусть и дальние, но родичи – подняли оружие друг на друга, вопреки обычаям, освященным веками! Не ваших ли рук дело? Старые правила вроде бы можно уже и не исполнять, а новые еще не стали непреложной истиной…
Переходный период… Как его сократить? Пожалуй, только война – боевое братство в бою и выковывается. Едрит твою, опять кровь… неужели нельзя никак иначе? Э-э, сэр, опять вас понесло! Кровь, кровь… да, кровь! Вы Воинской школой или балетным кружком руководите?
Но вторая составляющая воинского братства – одинаковое понимание Добра и Зла, то есть единая идеология. Патриотизма еще нет – не то ЗДЕСЬ пока государство, национального самосознания… да тоже пока конь не валялся – о славянстве знают, хотя и весьма расплывчато, но главенствует во всем род, более опосредованно – племя: дреговичи, кривичи, радимичи и прочие. Значит, в качестве позитивного объединяющего начала остается только религия. Одинаковое мировоззрение, одинаковые нравственные императивы, одинаковые поведенческие реакции в сходных обстоятельствах. Единоверцы понятны, предсказуемы, вызывают доверие. Вывод? Никаких посвящений в Перуново братство больше допускать нельзя. Выкручивайтесь, сэр, как хотите, но зигзаги типа: Велес – Христос – Перун для подростковых мозгов явный перебор.
М-да, достойный вывод для ученика и преемника главы Перунова братства. Стопроцентный сюр, господа!»
Внутри крепости все, казалось, шло своим чередом, все занимались своими делами, но Мишка то и дело ловил на себе настороженные взгляды. Все было понятно: обычно боярич телесными наказаниями не злоупотреблял, фактически не использовал их почти никогда, а сегодня… Два трупа и урядник под арестом, хотя тоже мог бы уже быть покойником.
Мишка огляделся, увидел, что Алексей что-то объясняет сидящему верхом отроку – судя по всему, отсылает гонца в Ратное, и направился к старшему наставнику Младшей стражи. Идти пришлось мимо «курсантов», занимающихся верховой ездой. Наставника с ними почему-то тоже не было, в середине круга, по которому неспешно рысили кони, восседал верхом Мефодий, время от времени пощелкивая кнутом и покрикивая на учеников.
Поначалу кавалеристы из лесовиков были вообще никакие. На спине у лошади кое-кто из них держаться мог, но и только. К седлам, стременам и кавалерийским командам Нинеин контингент пришлось приучать с нуля. Сейчас, после месяца ежедневных занятий, все выглядело уже гораздо приличней, но Мефодий постоянно находил повод для замечаний:
– Не горбиться, спину держать! Ногу в стремя самой широкой частью стопы, пятку опустить! Да не плюхайся ты, плавно в седло опускайся! Ногой направляй, ногой, а не поводом!
Заметив старшину, Мефодий послал своего коня вперед и, проехав сквозь круг всадников, зычно заорал:
– Боярич, шестой десяток…
Мишка махнул рукой, прерывая рапорт и удивленно уставился на Мефодия: прерывать занятия для рапорта бояричу, проходящему довольно далеко, явно не требовалось. Торк замолк, но коня не остановил и в круг не вернулся, а подъехал вплотную и, свесившись с седла, негромко произнес:
– Если что, свисти. Мы готовы.
– Что «если что»? – не понял Мишка. – Ты о чем?
– Вон, Дмитрий идет, – Мефодий качнул головой в сторону выхода из казармы. – Он уже всех собрал.
– Кого «всех»?
Ответа не последовало, Мефодий развернул коня и отправился на свое место. Мишка прибавил шагу, но направления не сменил: было видно, что Дмитрий тоже направляется в сторону наблюдательной вышки, под которой стоял Алексей.
– Поздравляю! – непонятно поприветствовал Мишку старший наставник. – Вот ты, наконец, и стал сотником. Я уж думал, так и не решишься никогда.
Алексей говорил совершенно серьезным тоном, в голосе его не было ни малейших признаков сарказма или издевки, признаков неодобрения не было тоже.
– С чем поздравляешь-то? С покойниками?
– И с покойниками тоже, но главное то, что ты после всего один против семерых остался, и они тебе подчинились, и никто из них оскалиться не посмел! Так и должно быть – есть ты и есть все остальные! А кто не согласен, того нет! Молодец, все правильно сделал, только надо было еще и обалдуя этого, Борьку, тоже прирезать, а то возись теперь: воеводу Корнея вызывай, суд устраивай… Митяй! – Алексей повернулся к подходящему Дмитрию. – Что у тебя, все готовы?
– Все, дядька Алексей. Два десятка опричников в казарме у окошек и дверей, Артемий со своими музыкантами возле моста через ров вроде бы в дудки дует, но самострелы под рукой, Варлам с теми, кто у него остался, – у плотников в мастерской, Демьян с десятком вон там засел, только что из кустов махал. Прикрылись со всех сторон, только Роську никак не найдем. Минь, ты не знаешь, где он?
– Повел седьмой десяток могилы копать…
– Один?! – Алексей резко развернулся в сторону Мишки. – Ты о чем думал, когда его одного… Ладно. Митяй, быстро одну пятерку к Роське! Бегом!
– Так… Куда? Кладбища-то еще нет, где они копать собирались?
– У Артемия спросишь, он у моста со своей музыкой сидит, должен был видеть, куда они пошли. Погоди! – Алексей оглянулся в сторону загона для лошадей. – Кони оседланные есть?
– Нет… – растерявшийся Дмитрий тоже глянул в сторону загона. – Не подумали…
– Ссаживай вон тех! – Алексей указал на отроков, упражнявшихся под руководством Мефодия. – Давай-давай, не тяни!
Дмитрий обернулся к окошкам казармы и, указав растопыренной пятерней количество нужных ему людей, ткнул указательным пальцем в сторону Мефодия и сам побежал туда же.
– Дядька Алексей, что тут происходит-то? – Мишка и сам понял, что первая полусотня только что взяла крепость под контроль, но ему нужен был комментарий самого Алексея. – Вы что, бунта опасаетесь?
– Ну… это – вряд ли. Однако, чтобы дурные мысли в головы не лезли, пусть видят, что при случае мы их всех уроем и не почешемся. Гляди и запоминай. Перед казармой верхом крутится самый упорный десяток – те, которые грамоте учиться не хотят. Верхом они ездят еще неважно и от болтов увернуться не смогут. Еще два десятка лесовиков сейчас на стрельбище, но у них только учебные болты, с ними не повоюешь, и стоят они на открытом месте. Демка, если что, их из кустов пощелкает, как гусей. Может, и не всех, но в крепость пройти не даст. Еще один десяток, вон, гляди, кинжалы мечут. От них до мастерской, где Варлам засел, всего шагов тридцать – не промажут. Еще один десяток в дозоре, Нинеину весь охраняют, они и не знают еще ничего. И последний десяток по хозяйству работает, они и вообще без оружия и доспехов.
– Ты как будто заранее ко всему готовился…
– А как же? Ты, думаешь, я, как столько времени ватагу озверевших мужиков в кулаке держал? Ко всему готов был: и к бунту, и к удару в спину, и к тому, что другого воеводу избрать захотят и… вообще, ко всему!
Алексей проводил глазами пятерых опричников во главе с Дмитрием, согнавших с коней отроков, упражнявшихся под руководством Мефодия, и галопом вылетевших из крепости куда-то к лесу, на который указал им Артемий.
– Но у меня-то не озверелые! – Мишке стало даже обидно, что Алексей сравнил Младшую стражу со своей ватагой.
– У тебя еще хуже – молодые и глупые! Страха в них настоящего нет. Не боязни, не трусости, я не об этом говорю. Страха от понимания того, что ты смертен. Молодые его не чувствуют, им все кажется, что впереди вечность. А ты им сегодня этот страх показал. Давно надо было! Самое же главное – они твоего страха не увидели! Ты стоял над тремя телами, один против семерых и не боялся. Ведь не боялся же?
– Да я как-то и не думал…
– Вот! Если бы подумал, то мы с тобой, может быть, сейчас и не разговаривали бы. Почувствовали бы в тебе слабину, накинулись бы и порвали. Но ты даже и не думал! В этом твое право командовать, а не в том, что ты сотников внук и поставлен начальствовать над Младшей стражей. Только в этом! Никакое боярство, никакой княжий указ такого права не дает. Оно или есть, или нет.
Но запомни: обратной дороги у тебя нет, и в Ратнинскую сотню для тебя путь закрыт – ни один десятник, если он в своем уме, тебя в свой десяток не возьмет, и сотник, даже если он тебе дед, тоже не возьмет. Право смерти может быть только у одного. Мне Фрол покойный рассказывал, как твой прадед сотника зарезал. За такое ведь казнят? А?
– Да, должны…
– Его же не казнили, а подчинились! И никаких выборов сотника не было, он сам себя выбрал, не задумываясь о казни и прочих вещах. Так и ты сегодня. Все, считай себя отныне сотником, без всяких выборов и назначений. Ты сам себя им сделал!
«Мда-с, любезнейший Алексей Дмитриевич, зерно истины в ваших словах несомненно есть, но то, что вы мне излагаете, хорошо для руководства бандой, а я совершенно другую структуру создать намерен – регулярное воинское формирование, дружину, боевое братство профессионалов. Мне не за спинами опричников прятаться надо, а внедрять в сознание суворовский принцип „Сам погибай, а товарища выручай“. Если делить ребят на „своих“ и „толпу“, ни черта, извините, у меня не выйдет. И у вас, уважаемый старший наставник, тоже. Вот прямо сейчас я вам, Алексей Дмитриевич, это и продемонстрирую».
– Дядька Алексей, а где все остальные? Наставники, мать с девками…
– Наставники вместе с опричниками в казарме, только Глеб с Демьяном пошел, Аню… матушка твоя вместе с девками в плотницком жилье – на всякий случай, за отроками Варлама приглядывает.
– Значит, крепость простреливается вся насквозь, как тогда, во время бунта, усадьба?
– Верно понял, – Алексей обвел взглядом внутреннее пространство крепости, словно оценивал будущее поле боя. – Ни одного уголка, где можно спрятаться, нет.
– А если кто-нибудь из девок, как тогда, во время бунта, случайно стрельнет, а за ней все остальные? – озаботился Мишка. – Сколько народу перебьем?
– Нет, за девками твоя мать присматривает.
– Значит, Варлам стережет лесовиков, девки стерегут Варлама, а мать стережет девок? Знаешь, у древних римлян такая пословица была: «Кто будет наблюдать за наблюдающим?»
– Ну, кашу маслом не испортишь! – пословицей на пословицу отозвался Алексей. – Зато все надежно!
– Обед скоро, дядька Алексей, ребята со стрельбища обедать пойдут, а Демьяну указано их в крепость не пускать. Что получится?
– Гм, надо Дударику сказать, чтобы пока на обед не дудел.
– Пока что? Ты посмотри: наши все в засаде сидят, а те, кого они стерегут, и в ус не дуют. Кто в крепости хозяин? Те, кто спокойно своими делами занимается, или те, кто с оружием по углам да кустам попрятался и неизвестно чего ждет?
– Как это, неизвестно чего? Ты двоих из них убил, а третьего в темницу отправил, а Корней, когда приедет, к смерти его приговорит непременно…
– Ну и что? Я убил двоих не «из них», а из седьмого десятка, и только. Ребята все из разных поселений собраны, и выходцев из каждого поселения Нинея сама свела в десятки и поставила десятников. У убитых нигде, кроме седьмого десятка, земляков нет, они все чужие друг другу. С чего бы остальным за ребят из чужого поселения заступаться?
– Гм… ну, ладно. Значит, объявим, что это было учение на случай, если враг в крепость ворвется, и на этом закончим.
Не успел Мишка порадоваться покладистости старшего наставника, как тут же получил замечание:
– А ты почему без меча? Я тебя для чего отдельно учу?
По вечерам, перед ужином, Алексей занимался с Мишкой отдельно, так, чтобы этого не видели «курсанты». По его глубочайшему убеждению, лучше, чем командир, владеть оружием не должен никто, а потому во время занятий старший наставник Воинской школы был беспощаден. В первые дни Мишка даже не мог за ужином нормально есть, бывало, ронял ложку или не мог дрожащей рукой зачерпнуть еду.
Поэтому и приходилось ужинать в специально для него выстроенном доме, чтобы «курсанты» не видели своего старшину в столь жалком состоянии. Постепенно Мишка втянулся в занятия, они перестали его так изматывать, а в последние дни он даже по собственной инициативе, а не по команде Алексея, стал переходить от обороны к нападению, без особого, впрочем, успеха.
– Да я как-то… – Признаться, что никак не привыкнет постоянно таскать на поясе меч, Мишке показалось стыдным.
– Ну, вот, только тебя похвалил, а ты… – Алексей досадливо поморщился. – Разумный же парень, а никак не поймешь, что каждый миг, любой мелочью, ты должен напоминать всем: я не такой, как все остальные! Вот ты Амфилохия из самострела убил, но так и все отроки могут, а мечом зарубил бы? Так можешь только ты и опричники…
– Человек в реке!!! – прервал Алексея истошный вопль с наблюдательной вышки. – Тонет!!!
Мишка выскочил из-под вышки и, задрав голову, заорал:
– Где?!
– Там! – отозвался наблюдатель, указывая на реку выше по течению. – Ребята со стрельбища уже бегут!
Когда Мишка выбежал на берег, спасательная операция уже завершилась: на прибрежном песке, мучительно кашляя, лежала обнаженная девушка, рядом валялся насквозь промокший узелок с одеждой. Спасители пытались о чем-то расспросить несостоявшуюся утопленницу, но она только мотала головой и пыталась прикрыть наготу руками. Мишка сбросил пояс, стянул через голову рубаху, протянул ее девушке и на секунду замер, уставившись на знакомое лицо. Это была та самая холопка, которую «лишила слуха» Нинея.
«Мать честная, ну и свинья же вы, сэр Майкл! Еще месяц назад надо было ее к Нинее отвести, чтобы та ей слух вернула! Совершенно из памяти выскочило, а она, бедолага, все ждала, ждала… Кто-то, наверно, надоумил самой ко мне идти. Чуть не утонула…»
Мишка накинул свою рубаху на девчонку и прикрикнул на отроков:
– Ну, чего уставились? Быстро тащите ее к лекарке, видите – прокашляться никак не может! И одежку ее прихватите.
Ребята, подхватив девчонку под руки, споро потащили ее к крепости, а Мишка, мысленно матеря сам себя за забывчивость, потащился следом.
В крепость он вернулся как раз одновременно с конниками Дмитрия, конвоирующими остатки седьмого десятка и Роську. Дмитрий, увидав Мишку, направил своего коня к нему.
– Минь, ты чего это с голым пузом?
– А, пустяки. Что там с Роськой, по шее не накостыляли?
– Ага, ему накостыляешь! Он святоша-святоша, а когда надо, сам кому хочешь накостыляет! И Нифонт – парень правильный, сумел своих от дури удержать, нам ничего и делать не пришлось.
– Ну и ладно. Мить, завтра дед приезжает. После обеда все занятия отменяй и наводи порядок в крепости.
– Да как его тут наведешь?
Действительно, стройка была в самом разгаре. Плотники уже сложили часть срубов, поверх которых должны были быть насыпаны валы. Другую часть только начали складывать. Повсюду валялись бревна, щепки, полосы древесной коры, тут и там высились груды земли, глины и камней. В общем, привычная картина стройплощадки опоясывала строящуюся крепость по периметру. Относительный порядок был только посередине да возле казарм – одной построенной и второй, только подводившейся под крышу.
– Как получится, так и наведем, Мить, негоже начальство грязью встречать. Передай Демке, чтобы командовал, зря, что ли, его городовым боярином сделали? И ты тоже присмотри, а я к лекарке пошел.
– Чего, заболел?
– Да нет, за рубахой.
«Однако, сэр, в медпункт вам надо бы не только за рубахой. Что за странные выпадения памяти? То забыли, что для Якова специальный десяток разведчиков создать собирались, то про девчонку „глухую“… Может, и еще что-то важное позабыли… В чем дело-то? Хотя, если поразмыслить… Морфологически мозг окончательно формируется только к двадцати пяти годам, вам в этом теле еще нет и пятнадцати, а грузите вы мозг по полной. Были же уже проблемы, теперь вот еще и это. Как там, во время бреда в Отишии, Лис выразился: „Береги голову, она пока не может вместить все, что ты в нее пихаешь“? Вот тебе и бред…»
Повидаться с Юлькой одновременно и хотелось, и было боязно. За день до посвящения в Перуново воинство Мишка оказался в ситуации, которой всегда и сам всячески избегал, и другим советовал – вляпался в девичью разборку.
* * *
Еще месяц назад, привезя в крепость отца Михаила, Мишка приставив к священнику, в качестве экскурсовода, Роську, отправился к Нинее. Другого случая, пока в крепости пребывал монах, могло и не представиться, а Савву надо было показать волхве обязательно.
Сделал все честь по чести: заслал к Нинее предварительно Дударика с объяснением возникшей нужды, в двух словах изложил причину болезни Саввы и то, что Настена лечить его не взялась. Попросил назначить время для приема, чтобы не отрывать светлую боярыню от важных дел. Ответ Дударик принес несколько странный: Алексей с сыном могут приходить прямо сейчас, а Мишка – после отъезда попа.
Помочь Савве Нинея не отказалась, но и сама лечить не взялась. После того, как Алексей с сыном просидели у волхвы часа полтора, Савва вышел на улицу держась не за руку отца, как было всегда, а за руку Красавы. С тех пор они не расставались целыми днями – Савва таскался за Красавой как собачонка, а та почти все время что-то ему говорила, что-то показывала, приводила смотреть то на тренировки «курсантов», то на занятия девок со щенками. При всем при этом, маленькая волхва как-то умудрилась ни разу не попасться на глаза отцу Михаилу, пока тот находился в крепости. Когда артель Сучка поставила дома для наставников, Красава поселилась в доме Алексея.
Минула переполненная событиями середина лета – бунт, ранение, поход за болото… Мишке было не до пацаненка, потерявшего со страха голос и, видимо, слегка повредившегося в уме, но усилия Красавы, похоже, не пропали втуне. Постепенно с лица Саввы начало сходить выражение испуга, а однажды вечером Мишка услышал, как Алексей говорит матери: «Молодец Красава, истинная волхва растет! Саввушка-то мой улыбнулся сегодня! Бог даст, заговорит скоро».
«М-да, сэр. Вот она Святая Православная Русь – лечимся у языческой волхвы и при этом совершенно искренне рассчитываем на Божью помощь! И кто из нас тут сошел с ума?».
Через несколько дней после этого на идущего по крепостному двору Мишку налетел Савва, весь в слезах и бегущий сам не зная куда. До сих пор он позволял Мишке притронуться к себе только в присутствии отца или Мишкиной матери, а тут, едва удержавшись на ногах после столкновения, сам ухватил Мишку за рукав и продолжая обливаться слезами, потащил куда-то в сторону собачьих вольеров. Спрашивать о чем-либо пребывающего в истерике пацана было совершенно бесполезно, поэтому Мишка покорно направился туда, куда тащил его Савва.
То, что открылось Мишкиному взору возле пустых собачьих клеток – всех щенков увели на занятия, заставило его на несколько секунд окаменеть от удивления. Рядом замер и замолк вцепившийся в рукав Мишкиной рубахи Савва. В пустом собачьем вольере билась, как птица в ловушке, Красава. Билась отчаянно и, кажется, совершенно не соображая, что с ней происходит. Ее тело ударялось то о стенку клетки, то о решетчатую дверь, она падала, поднималась и снова кидалась вперед с закрытыми глазами. Внучка волхвы, видимо, пребывала в таком ужасе, что даже не могла догадаться просунуть руку сквозь решетку и отодвинуть засов.
Рядом с клеткой, спиной к Мишке и Савве, стояла, уперев руки в бока, Юлька и орала издевательским тоном:
– Ну, что ж ты не ворожишь, волхва? Давай-ка, преврати меня в крысу или в лягушку! Ну, хотя бы молнией ударь! Не можешь?
Такого злого голоса у Юльки Мишка не слышал никогда, хотя характер у юной лекарки был сущий перец. Она даже не обращала внимания на то, что Красава ее не слышит и вообще не воспринимает ничего из окружающей действительности, только бьется о деревянные решетки, падает, поднимается и снова бьется.
– Погремушка ты, а не волхва, и никогда тебе волхвой не быть! Даже из собачьей клетки выбраться не можешь, так и подохнешь в ней, сучка! А я тебя на куски порежу и псам скормлю!
Мишка, выйдя из кратковременного ступора, уже хотел вмешаться, как вдруг в Юлькином монологе мелькнуло его имя, вернее, кличка:
– …сдохнешь, и Лис о тебе даже не вспомнит, не нужны ему дуры сопливые! Он на тебя и не смотрел никогда, это ты крыса Велесова…
Удивиться Мишка не успел, потому что его тут же отвлекло другое, не менее удивительное событие – Савва дергал его за рукав и силился что-то сказать:
– Ы-ы-ы, ы-к-к…
Только тут до Мишки дошло: к Савве вернулся голос! Он еще не мог ничего членораздельно произнести, но голос был! Тихий, сиплый – голосовые связки после долгого молчания нормально работать отказывались, но голос вернулся! И в этот момент Мишку словно что-то толкнуло под руку. Он схватил Савву за плечо, развернул лицом к Юльке и закричал:
– Савва, Красаву твою обижают! Красаве плохо, помоги ей. Слышишь? Красаву спасать надо!
– Кх… К’а-ава! К’а-ава!
Савва сорвался с места и кинулся на Юльку. Та, чуть не упав от внезапного толчка, бешено обернулась и увидела Мишку. Его появление, видимо, оказалось для нее совершенно неожиданным, она даже не сразу стала защищаться от слабых, но частых ударов кулаков Саввы. Что там происходило дальше, Мишка смотреть не стал, а открыв дверь вольера, принялся ловить мечущуюся Красаву. Поймал только со второго раза, вытащил наружу и прижал к земле бьющееся девчоночье тельце. Оглянулся на Савву с Юлькой, там баталия была в самом разгаре – пацан вцепился обеими руками в Юлькин пояс, на котором висело сразу несколько мешочков с разными лекарскими надобностями, и тащился по земле следом за пятящейся лекаркой, норовя укусить ее за руки, которыми она пыталась попеременно то ударить, то отодрать от себя защитника Нинеиной внучки.
– Юлька! – заорал Мишка – Ты-то хоть в разум приди! Совсем сдурели все, идиоты!
Бесполезно. Никто его не слышал. Савва, надо полагать, воображал, что бьется насмерть с неким чудовищем, покусившимся на его… черт его знает, кем для пацана стала за это время Красава? Юлька, способная без труда «отключить» и более сильного противника, бестолково отбивалась от вцепившегося, как клещ, слабенького парнишки. Красава перестала биться, словно пойманная птица, но в себя не пришла, ее сотрясала крупная дрожь, зубы были стиснуты, глаза крепко зажмурены.
Весь этот сумасшедший дом надо было как-то прекращать, пока на нечленораздельные вопли Саввы не стал собираться народ. Легче всего, видимо, было привести в себя Юльку, которая просто-напросто растерялась от неожиданного появления Мишки и Саввы. Сидя верхом на лежащей ничком Красаве, Мишка снял с себя пояс с подсумками и запустил его в Юльке в ноги. Юная лекарка запнулась, потеряла равновесие и уселась на землю. Савва тут же боднул ее головой в грудь, но Юлька, каким-то змеиным движением ухватила его за шею и парень почти сразу обмяк.
Переключив внимание на Красаву, Мишка не нашел ничего лучше, чем отвесить ей несколько звонких пощечин. Подействовало. Нинеина внучка резко втянула воздух сквозь сжатые зубы и попыталась сесть. Мишка не стал препятствовать, лишь придержал Красаве руки и заорал ей прямо в ухо:
– Очнись, Красава! Савва заговорил! Ты его вылечила, слышишь, Красава? Ты Савву вылечила, к нему голос вернулся!
Красава коротко простонала и принялась вырываться, Мишка выпустил ее руки, схватил за плечи и как следует, встряхнул.
– Глаза-то открой! Все уже, все! Никто тебя больше не обидит, ну-ка, посмотри на меня.
Красава послушалась, открыла глаза, которые тут же начали наполняться слезами.
– Мишаня, она меня… – продолжение фразы утонуло в рыданиях.
Тут все было в порядке, раз слезы, значит, отпустило. Мишка поднял голову и глянул на Юльку и Савву. Пацан лежал неподвижно, видимо в обмороке, а Юлька, что-то зло шипя сквозь зубы, по одному разгибала пальцы Саввы, сомкнутые на ее поясе.
Ну что, Перуница[8], великую победу одержала? С детишками справилась! Слава тебе, дева грозная! Ликом прекрасная, богоподобная, В прах всех врагов повергающая Мощной десницей божественной! Блеск твоих крыльев серебряных, Взор твоих глаз, что как яхонты, Смертью грозят недостойному, В трепет ввергают несмелого…– Трепач! – Юлька зло зыркнула в сторону Мишки и снова опустила глаза к поясу. – Скоморохом тебе быть!
Но возжигают они Пламя отваги у воинов, Но поселяют они Сладкую муку любовную В сердце того, кто с достоинством Имя несет мужа честного…– Балаболка! – Юлька наконец освободилась и поднялась на ноги.
Стоя над телом поверженным, Славу поешь ты делам его: Подвигам, битвам, свершениям. Душу приняв мужа честного, Ты по пути яснозвездному В Ирий пресветлый…– Да заткнись же ты, аспид! Ты хоть знаешь, что тут было?
– И знать не хочу! Перед тобой двое больных лежат. Ты лекарка или коза на выпасе?
– Эта мочалка…
Это было серьезно! Юлька не отреагировала, казалось бы, на неотразимый прием – призыв к исполнению лекарских обязанностей. Хочешь не хочешь, пришлось применять недетские средства:
– Даже и не знал, что ты так хороша, когда сердишься! Прямо глаз не отвести!
– Трепач… – вне всякого сомнения, Юлька слышала подобное в свой адрес впервые в жизни. – И что в тебе девки находят? Морда шпаренная, руки-крюки, язык, что помело…
– Правда твоя, Юленька: неказист… но твоей-то красоты нам на двоих хватит, даже еще и останется!
– Да ну тебя!
– Нет, правда, Юль! Недаром же мне про Перуницу вспомнилось!
– Вот еще… выдумал…
Юлька вырвала руку и чересчур суетливо склонилась над Саввой, приподняла ему голову, оттянула веко.
– В лазарет его! Надо присмотреть, когда в себя приходить начнет, – не глядя на Мишку, сухим деловым тоном распорядилась лекарка. – Голос-то вернулся, но… всякое может быть.
– Сейчас, Юль… только мне двоих не утащить. Ничего, сейчас организуем!
«А вы-то чего засуетились, сэр?»
– Погоди, Юль, а с Красавой что?
– Ничего. Поревет-поревет и успокоится. Впредь наука – с лекарками не вздорить!
Мишка сунул в рот пальцы и вполсилы, чтобы не будоражить весь гарнизон крепости, высвистал сигнал «ко мне». Почти сразу из-за угла вышел наставник Прокопий – не старый еще мужик, бывший ратник, перешедший в обозники после потери правой руки.
– Чего это тут у вас? – недоуменно спросил Прокопий, обводя взглядом «поле битвы». – Михайла, это ты звал?
– Я, дядька Прокоп. Видишь, двое болезных у нас – мне одному не утащить. Возьми Савву, отнеси, куда лекарка покажет.
– Угу, – Прокопий одной рукой подхватил Савву с земли и, осторожно придерживая крюком, заменявшим ему кисть правой руки, взвалил на плечо. – Показывай, девонька, куда нести.
Конечно, хорошо было бы выяснить, что тут произошло, из-за чего сцепились Юлька с Красавой и как Красава оказалась запертой в собачьей клетке, но Мишка еще из ТОЙ жизни вынес железное правило: ни при каких обстоятельствах не встревать в женские разборки (не важно, девичьи или бабьи). Столь же неукоснительно он следовал и другому правилу: никогда не обсуждать одну женщину в разговоре с другой. Здесь, правда, были не женщины, а девчонки, но девчонки, ох какие не простые. Сработало и третье правило: удивить – значит, победить. Юлька ожидала от него чего угодно, только не комплиментов, да и не знала она, что это такое.
Мишка вдруг почувствовал, что краснеет. Ощущение было такое, словно обманул маленького ребенка. В сущности, Юлька была абсолютно беспомощна против примененного Мишкой метода и, хотя он не сказал ей ни слова неправды, но почувствовал себя исключительно погано: говорил-то он искренне, но если бы не необходимость, произносить это вслух ему бы и в голову не пришло.
«Мда-с, досточтимый сэр, сколь бы юным ни было нынешнее вместилище вашего сознания, а годы есть годы! Где юношеский трепет, где „обильные страстные речи“ и прочие благоглупости, лезущие наружу помимо воли? Где, наконец, позвольте вас спросить, „взгляды, так жадно, так робко ловимые“? Рассудочность, расчет, взгляд стороннего наблюдателя… А Юлька-то вспоминать будет каждое слово, повторять про себя, думать всякое девичье… Стыдно-то как!»
Мишка поднял на руки Красаву, отметив, между делом, что левая рука, хоть еще и побаливает, но работает нормально, и понес ее к дому Алексея. Плач Красавы постепенно затих, перейдя в редкие всхлипывания, Нинеина внучка обхватила Мишку за шею и неожиданно поведала:
– Мишаня, ты не думай… я с Саввой все время была потому, что бабуля так велела. А Юльку я от тебя все равно отважу… это только сегодня у меня так вышло.
«Так это они из-за меня поцапались? Одной девяти еще нет, другой тринадцати. Совсем девки с ума посходили!»
– Тебе Юльку не одолеть. Она уже сейчас сильна, а через год-полтора с ней даже твоя бабуля справиться не сможет. Не лезь на рожон.
– Но ты же на ней не женишься?
– А ты где-нибудь замужних ведуний видела?
– Нет.
– Вот и я… нет…
* * *
«„Морда шпаренная, руки-крюки, язык, что помело…“ С первым и третьим пунктом не поспоришь, а руки-то тут причем?»
Когда с лица сняли повязку, Мишка свистнул у баб полированное серебряное блюдо и, забравшись в уголок, где его никто не мог увидеть, долго рассматривал свое отражение. Увиденное, откровенно говоря, не радовало. На краю левой надбровной дуги красовалась вмятина, как будто не лучиной ткнули, а рубанули топором, кожа на левом краю лба и виске натянутая, тонкая и блестящая, вся в разводах от ожога. Левая бровь заметно короче правой и постоянно вздернута, что придает лицу не то насмешливое, не то издевательское выражение. Волосы еще не отросли, и на виду торчит изуродованное ухо. На левой щеке метка, оставшаяся после того, как Анька лупила младшего брата граблями. Плюс возрастные «удовольствия»: вся рожа в прыщах, на щеках цыплячий пух, под носом нечто, претендующее на звание усов, а губы еще детские – пухленькие.
Вообще-то, растительность на лице полезла рановато, у сверстников ничего подобного еще не наблюдалось, но кто его знает, может быть, данные о волосяных покровах притащились в составе информационной матрицы из ТОЙ жизни? «Инсталлировались» вместе со всем остальным и «активировались», как только в организме созрела подходящая ситуация. Прорастать-то начало не только на лице, но и в других местах.
Плюс ко всему дурацкая привычка, разозлившись, морщить и приподнимать верхнюю губу, скалясь, как собака. А еще мозоли на нижней челюсти, натертые подбородочным ремнем из-за постоянного ношения шлема. А еще мозоли, набитые упражнениями на костяшках пальцев. Вечные синяки и царапины, постоянный, несмотря на ежедневные купания, запах пота, въевшийся в войлочный поддоспешник. В общем, экстерьером своим Мишка доволен не был – гадкий утенок, да и только. Битый, жженый, драный, взопревший…
* * *
«Вот так, сэр! Извольте любоваться: морда кирпича просит, мозги набекрень, язычество с христианством замешиваете, не поморщившись, благонравие личному составу внушаете всеми средствами, вплоть до расстрела. При этом две девицы, обладающие, мягко говоря, нестандартными навыками и способностями, из-за вас друг друга убить готовы, а третья, добираясь до вас, прет пешедралом десяток верст и, рискуя утонуть, форсирует водную преграду.
Вокруг вас сотня вооруженных подростков с взбаламученным мировоззрением, бывший бандит намерен жениться на вашей матушке, которая тоже кровушки не страшится, а в соседях обретается спившийся спецназовец, организовавший гибрид колхоза с ГУЛагом. Крепость вам возводит отмороженный на всю голову бригадир плотников, по уши влюбленный в бабу вдвое массивнее себя и чуть ли не на полметра выше ростом, а любовница деда строит козни в стиле шекспировских злодеек. Ученица Бабы-Яги оказывается вдовствующей богемской графиней, мечтающей возродить древлянское княжество, русские девки в XII веке щеголяют в платьях на кринолинах и в испанских мантильях, а оркестр народных инструментов разучивает песни Гражданской войны.
И продолжать этот список можно, кажется, до бесконечности. Как говорилось в одном старом фильме: „Мадам Кольцова курит трубку и пьет водку прямо из самовара!“ Любой сумасшедший дом обзавидуется!
Не-ет, к Юльке и только к Юльке! Пусть язвит, пусть ругается, да пусть хоть глаза выцарапывает, но только рядом с ней все эти „сапоги всмятку“ почему-то перестают давить на мозги».
Идти до лазарета было всего ничего – в Михайловом городке вообще все было близко, но Мишка плелся нога за ногу – одолевали мысли. Положение было, мягко говоря, неудобное. С одной стороны, надо было вести «оглохшую» девчонку к Нинее – надо же и совесть иметь, в конце-то концов, с другой – явиться пред грозные очи боярыни Гредиславы Всеславны, только что угробив двух присланных ею для обучения отроков и подведя под воеводский суд третьего…
Ситуация дополнительно осложнялась еще и тем, что судить урядника Бориса будут за нападение на боярича, но Юлька-то – представитель простонародья – тоже отметелила боярышню – Красаву! А не потребует ли Нинея наказания Юльки? Или между ведуньями другие счеты?
«И как вы намерены выкручиваться, сэр? Можно, конечно, самому наехать на волхву: „Я предупреждал, что земляков в одном десятке держать нельзя!“ Можно еще и усомниться в статусе Красавы – она же не внучка, а правнучка Нинеи, и совершенно неизвестно, кто ее родители. Может, она вовсе и не боярышня? Но подействует ли? Баронесса Пивенская непредсказуема как… помните, сэр, своего бригадира в ленинградском порту?»
Был у Михаила Ратникова в ТОЙ молодости бригадир, который всю методику воспитания личного состава описывал одной фразой: «Пока все нормально, я для вас комбриг, а будете разъе…вовать, сразу стану бригаденфюрером!»
«М-да, сэр, при желании, вдовствующая графиня Палий любого бригаденфюрера СС за пояс заткнет! Наехать… да она сама так наедет – бульдозер на табачный ларек деликатнее наезжает! Однако же позвольте вам напомнить, сэр Майкл: однажды вам наезд удался. Припоминаете? Именно, именно! Какой бы крутой волхвой и представительницей супердревнего рода мадам Петуховская ни была, а ограниченность своих бабьих прав, по сравнению даже с таким сопляком, как вы, но „мужеска пола“, понимает. И не просто понимает, а на уровне безусловных рефлексов – спинным мозгом, как говорится!
Значит, нужна такая же неубиенная позиция! И стоять на этой позиции насмерть! Волхва это сразу просечет! Одна беда – позиция эта должна быть естественной, тоже на уровне безусловных рефлексов, потому что любое притворство Нинея раскусывает на раз. И что у вас, сэр, в вашем наборе масок и поведенческих императивов на этот случай имеется? Ля-ля-ля, трам-пам-пам… А и Б сидели на трубе… ничего в голову не приходит…
Вы, сэр, Нинее нужны. Это факт. Она пытается вами манипулировать, а заодно и воспитывает… вот и вздрючит в воспитательных целях по самое некуда! Однако вами манипулирует и Настена. Это тоже факт. Как-то на этом сыграть можно? Да уже сыгралось, блин! Красава с Юлькой сцепились не просто, как две девчонки, а еще и как два инструмента воздействия на вас! Ну, и что это дает? А ничего, потому что имеется еще целая толпа субъектов влияния: дед с его военно-феодальными замашками, отец Михаил со своим фанатизмом, „полевой командир“ Алекс с отцовскими намерениями, Аристарх еще тут нарисовался со своим тайным обществом… Дурдом, одним словом.
Вот-вот, сэр! А вы, несчастное дитя, посреди всего этого кошмара – никто не пожалеет, никто не приголубит! А если наоборот? Вы сами, сэр, кошмар из кошмаров, самый, так сказать, кошмаристый? Манией величия-то гораздо приятнее болеть, чем манией преследования!
Есть контакт! Отморозок прадедушка Агей – прекрасно, дед, заработавший кличку, производную от похоронного обряда – великолепно, природный Лисовин, время от времени ввергающий вас в бешенство – блестяще! Ничего и выдумывать не требуется – Нинее и в голову не придет усомниться, все в елку! А теперь, сэр, добавляем к наследственной отмороженности дикое самомнение – Христос вас любит, Велес вас любит, Макошь вас любит и Перун, как выяснилось, тоже! Мечом в четырнадцать лет опоясались, сотником вот-вот станете, город имени себя заложили – круче только яйца страусиные!
Так, а мисс Джулия? А в ту же копилку! Кто еще с ней в лекарском экстазе сливаться способен? Кому вы, сэр, фактически рыцарскую клятву на верность принесли? Близко никому не подходить, во избежание переработки на фарш и заявления, что так оно и было!
Нормальный ход! А почему только сейчас это так явно вылезло? А в боевой поход сходил, настоящей кровушки испробовал и победителем вернулся!
Ну что ж, сэр, теперь есть с чем идти к Нинее – не оправдываться за убитых отроков и не отмазывать Юльку за то, что Красаве навтыкала, и не напоминать светлой боярыне Гредиславе о том, что предупреждал о неправильном формировании десятков и о том, что рано Красаве волховские умения давать – и то, и другое боком выходит.
Просто доложить, что вы, сэр Майкл, весь из себя такой крутой, вынуждены ошибки светлой боярыни исправлять: отроков прессовать вплоть до высшей меры, девчонок подравшихся растаскивать, да еще и от воеводы Погорынского за все это вздрючки получать. И спасает вас во всех этих разборках только ваша крутизна – Алексей верно заметил, что вы не побоялись остаться в одиночку против семерых, да любовь богов – девчонки ведь могли сгоряча и по вам своими волхвовскими да ведовскими прибамбасами врезать.
Мадам Петуховскую, конечно, этим всем не удивишь – еще и не таких видала, но нашкодившим мальчишкой выглядеть не будете.
Интересно, а с другими субъектами влияния эта маска сработает? С дедом… сомнительно, он за демонстрацию крутизны так приложит, что все звезды на небе при дневном свете увидите, и любовь богов ему пофиг, потому что для него они такие же управленцы, как он сам, разве что масштаб деятельности у них побольше. Аристарх – Туробой? Темная лошадка, но… после того, как вы нехило выступили на обряде посвящения, крутизна его не удивит, а самомнение… самомнения в учениках обычно учителя не терпят, можно и по сопатке получить, если не физически, то морально. Значит, с этим делом надо поаккуратнее. Алексей? Ну, для него, сэр, любая чужая крутизна – всего лишь вызов и повод эту самую крутизну обломать… запросто и отлупить может, причем исключительно в учебно-воспитательных целях. Настена? Гм… после „сексотерапии“ чего-то там изображать из себя в ее присутствии просто не тянет. Да и не нужно – образ рыцаря мисс Джулии ее вполне устраивает, а для вас, сэр, он вполне естествен, ничего изображать и не требуется.
Мисс Джулия? Юлька, Юленька… ребенок, в сущности, но без всяких понтов и рисовки готовая положить жизнь на алтарь медицины. Единственный тихий и светлый уголок во всем этом дурдоме… ну, положим, не очень-то и тихий, но, несомненно, светлый. И перед ней, как это ни паскудно, придется притворяться. Увы, сэр, как вы тогда совершенно справедливо заметили: „сколь бы юным ни было нынешнее вместилище вашего сознания, а годы есть годы“. Было бы вам действительно четырнадцать, вы бы впервые в жизни ощутили, как это бывает, когда в толпе встречающих вдруг обнаруживаются ждущие только вас глаза, и впервые бы догадались, что нарядный платок надет специально для вас. Ну, и разумеется, не удержали бы это свое открытие в себе, а так или иначе озвучили бы…
Но вам-то, сэр, в сумме уже крепко за пятьдесят! И соответствующие вашему возрасту партнерши сами прекрасно понимают и замечают, как вы находите их глазами в толпе, а к словам „краше всех“ относятся… как бы это выразиться? Ну, скажем, с пониманием. И насчет платка… им не догадка нужна, что, мол, для меня надела, а что-то вроде: „как тебе к лицу это цвет“, да и то аккуратно, чтобы не было похоже на напоминание „это я тебе подарил“.
Но Юлька-то пока все это за чистую монету принимает, для нее это все – открытия, новые и непривычные ощущения. Приятные, волнующие, однако и смущающие, даже, может быть, слегка пугающие… И, слов нет, она всего этого заслуживает, так что, сэр, если не можете естественным образом ощущать юношескую восторженность, извольте ее изображать – для мисс Джулии не грех и постараться. Очень постараться, потому что она дает вам больше, чем вы ей – на фоне приключений засланца из ХХ века нормальные человеческие отношения и чувства, не зависящие от исторического периода!»
За размышлениями Мишка сам не заметил, как добрался до лазарета. Он уже было собрался подняться на крылечко, как дверь распахнулась и на пороге появилась Юлька.
– А-а, явился! А я уж думала, что ты так и будешь без рубахи с голым пупом шляться!
«Вот вам, сэр, и лямур! Предмет обожания, едрена вошь…»
Часть 2
Глава 1
Август 1125 года. База Младшей стражи
Чем дальше продвигалось строительство крепости, тем больше убеждался Мишка в высокой квалификации старшины плотницкой артели Кондратия Епифановича по прозвищу Сучок. Мастером он был редким – не только прекрасно «чувствовал дерево», не только имел богатейший практический опыт, но и был, как выяснилось, очень неплохо подкован теоретически: знал основы геометрии, приемы работы с циркулем и угольником, держал в голове рецепты клеев и лаков. Мало того, его чуть ли не дежурная фраза «Не строят так!» – была вовсе не консерватизмом, а следствием обширных знаний истории и новейших веяний в области зодчества!
В очередной раз Сучок поразил Мишку своими познаниями, когда бояричу загорелось обзавестись «офисным зданием», поскольку осуществлять управление «на коленке» стало уже трудно и понадобилось как-то упорядочить административную деятельность: делопроизводство, работу с личным составом, хранение информации на материальных носителях и прочее, и прочее. Проще говоря, понадобилось «присутственное место».[9]
Первой ласточкой в офисном строительстве Михайлова городка явилась конторка «начальника тыла» Ильи, пристроенная к складу. Семейство Ильи, возглавляемое его женой, с нескрываемым энтузиазмом переправило из дома в новое помещение завалы учетной документации, заляпанные чернилами письменные столы, ящики с берестой, гусиными перьями и вощанками, объемистые горшки с чернилами и еще кучу непонятно для чего нужного и неизвестно как накопившегося барахла.
Нарождение второго «гнезда бюрократии» ознаменовалось скандалом, чуть было не дошедшим до рукоприкладства из-за того, что отроки поломали макет крепости, пытаясь затащить его в один из свободных кубриков казармы, занятый Демьяном под «кабинет городового боярина». Демка в общем-то аккуратно последовал Мишкиным советам по оборудованию своего рабочего места, но вот пользоваться планом городка, начерченным на шкуре, отказался наотрез и пожелал иметь под рукой макет, который можно было постоянно дополнять вновь появляющимися сооружениями.
Наконец и Мишка «дозрел» до понимания необходимости строительства официальной резиденции. К его удивлению, Сучок, услышав предложение озаботиться строительством боярского терема, не устроил очередной скандал по поводу отвлечения рабочей силы от основных работ, а огорошил вопросом:
– Ты что, жениться собрался?
– А причем здесь женитьба? – удивился Мишка.
– Ну, а как же? – в свою очередь удивился Сучок. – Сестер своих ты в Туров увезешь, замуж выдавать, матушка твоя… гм… тоже во благовремении к мужу переедет, кого ж ты в тереме поселишь-то?
– А что, в тереме одни бабы живут, что ли?
– Ну, еще детишки малые… ну, которых те бабы нарожают… Погоди, боярич… ты что же, несколько жен завести решил? Ты в своем уме?
«Стоп, сэр Майкл, кажется, пошел разговор слепого с глухим, вы и ваш начальник строительства явно говорите о чем-то разном: вы – об архитектуре, а он – о делах семейных. Похоже, он знает что-то такое, что неизвестно вам».
– Погоди-ка, старшина, давай вон там на лавочке сядем да поговорим, а то я тебя чего-то не пойму: причем здесь бабы да детишки?
– А чего тут понимать-то, боярич? Хоромы, что княжьи, что боярские, строятся в три яруса. Терем – третий ярус жилья. Первый ярус называется подклет, потому что на него сверху ставится клеть – второй ярус. На втором ярусе делаются горницы… название такое, потому что он на верху – на горе, а терем…
– Понятно-понятно, – попытался перебить Мишка, сообразив, наконец, что название «терем», видимо, распространилось на все здание в более поздние времена, но Сучка, взявшегося что-то объяснять, остановить было трудно, а потом уже и не захотелось останавливать, поскольку плотницкий старшина начал демонстрировать просто потрясающую, с Мишкиной точки зрения, эрудицию.
– Вообще-то, слово «терем» происходит от греческого слова теремнон, сиречь, жилище, – продолжил Сучок лекторским тоном. – Правда, некоторые считают, что «терем» происходит от слова «гарем» – место, где сарацины своих жен держат, но это неверно. От греков терем пошел, от греков, а на сарацинов думают от того, что у нас на третьем ярусе бояре да князья женское жилье устраивают. И им с верхотуры в окошки глядеть веселее, и у хозяина на душе за девок да молодух спокойнее… мало ли что?
– Ага! «Живет моя отрада в высоком терему, а в терем тот высокий нет хода никому…» – продекламировал Мишка.
– Вот-вот, – Сучок согласно покивал головой. – Терем, правда, можно еще и над воротами поставить, но сейчас все больше норовят вместо терема надвратную церковь устроить, особенно над городскими воротами. Еще терема, бывает, над дружинными избами возводят, ну, как это у тебя называется, – Сучок скривился и проблеял гнусным голосом, – над казярмой… – искоса глянул на собеседника, не дождался реакции на подначку и продолжил уже нормальным тоном: – Но там не живут, а дозорные стоят или припас для обороны держат… стрелы, там, ядра для пращей, ну и прочее. Так ты какой терем возводить надумал, если не для жены?
– Э-э… я, пожалуй, неправильно сказал, старшина. Понимаешь, мне нужно место власти обозначить, чтобы все знали, что с делами надо идти вот сюда, и чтобы всем было видно, что власть находится вот в этом месте и нигде больше, а само здание было бы для управления приспособлено. Чтобы можно было совет созвать, чтобы пир при нужде устроить, и чтобы было где писарей посадить, и чтоб казну держать, и чтобы с возвышенного места приказы объявлять. Но с другой стороны, надо чтобы уважаемых людей принять можно было достойно… Хоть бы и самого князя…
– Ага, рубить-колотить! – перебил Сучок. – Хоромы тебе, значит, понадобились, наподобие княжьих.
– Ну, я же не князь… мне бы чего поскромнее…
– Поскромнее не выйдет! – безапелляционно заявил плотницкий старшина. – Сам сказал: «место власти», а оно скромным быть не может! Да и не получится скромно, вот смотри.
Сучок попытался рисовать на земле щепочкой, но грунт в крепостном дворе был утоптан почти до каменной твердости, и он достал из поясной сумки металлическую чертилку, которой обычно наносил разметочные риски на дереве.
– Вот, значит, подклет, – плотницкий старшина уверенно начертил на земле несколько четких и прямых линий. – Вот так он сбоку выглядит, а вот так сверху. Понятно? В подклете место для всяких хозяйственных дел и кладовок, но можно и жилье обустроить – для челяди там или для холопов…
Сучок принялся излагать прописные истины издевательски нравоучительным тоном, словно малому ребенку, но Мишке даже не пришло в голову обижаться или перебивать, настолько сильное впечатление произвел на него чертеж в нескольких проекциях, до сих пор представлявшийся ему для XII века чем-то запредельным.
«Да, учитель у мастера Сучка, по всему видать, был хорош… интеллектуал, наподобие Нинеи! Однако, сэр, это что же татары над нашим народом учинили, что такие знания были напрочь растеряны? Нет, похоже, что оставшиеся вам сорок с лишним лет жизни действительно есть на что с толком потратить: создать систему, способную противостоять беспределу кочевников – цель вполне достойная… Как изволит выражаться вдовствующая графиня Палий, цель на всю жизнь!»
Плотницкий старшина, в очередной раз не дождавшись реакции на свою подначку, заговорил, наконец, по делу.
– Впрочем, подклет – дело обыкновенное, а по-настоящему место власти начинается со второго яруса и, перво-наперво, с крыльца. Вести крыльцо должно прямо на второй ярус и быть таким широким, чтобы на каждой ступени могло три или четыре человека встать. А еще крыльцо должно быть либо целиком крытым, либо на самом верху накрыто деревянным шатром. Вот под этим-то шатром стоит или сидит князь, когда суд вершит, просителей выслушивает, что-нибудь народу вещает или смотрит на что-то… Вот как на тебя смотрел, когда ты в Турове воинское учение показывал. С крыльца же и бирючи указы возглашают, а рынды неугодных посетителей или провинившихся княжьих людей кувырком спускают. В общем, все, что надлежит творить на глазах у народа, происходит на крыльце.
А еще на крыльце сразу видно бывает, кто из бояр к князю ближе, а кто дальше. Когда князь по каким-то торжественным случаям на крыльце восседает, то бояре на ступенях стоят – ближники повыше, остальные пониже. Тебе, кстати, крепко подумать придется: кого выше ставить – ближников своих или наставников Укудемии. Гляди: тут и уважение надо выказать, и степень каждого из начальных людей простому народишку показать, и не обидеть никого! Так что думай!
«Ага! Вот откуда термин „вышестоящий“ появился! И „служебная лестница“, надо понимать, из этого же обстоятельства произрастает. А ведь действительно, как-то народ расставлять придется… табель о рангах, туды ее!»
– Теперь дальше… – Сучок добавил к своему чертежу еще несколько линий. – С крыльца прямо в хоромы попасть невозможно, для этого надо по гульбищу пройти. Вот, смотри: помост, вроде как на заборолах у вас, идет по всей передней стене второго яруса. Бывает, что и не только по передней стене, а и вокруг всего здания… это уж, как ты сам решишь. Снизу его столбы поддерживают, а сверху на таких же столбах над ним крыша… ну, и перила, конечно, по всей длине, чтобы не сверзился никто.
Вот на гульбище-то княжьи ближники целый день и толкутся, если, конечно, князь их в хоромы с каким-нибудь делом не призовет. Тут они промеж себя шушукаются, всякие хитрости задумывают, договариваются, ссорятся, мирятся, дела обсуждают… много всякого. Заодно и покой княжий берегут – кого попало к князю не допускают, а случись беда, собой князя от ворога заслонят. Хе-хе… – Сучок неожиданно ухмыльнулся. – Погоды-то у нас, сам понимаешь, всякие случаются, а гульбище всем ветрам открыто, разве что только от дождя крышей прикрывается, от того у бояр привычка завелась во всякое время в шубах ходить. Иной так в гордыню боярскую занесется, что и летом, в самую жару, в шубе преет, чтобы все видели – боярин! Придурки, прости Господи.
«Ага, вот, значит, как шуба стала чем-то вроде придворного мундира! А что? Дорогой мех, покрытый не менее дорогой импортной тканью, да еще с каким-нибудь золотым или серебряным шитьем, не слабее камергерского мундира будет. И никакие они не придурки – одежда в сословном обществе работает как удостоверение личности, даже покруче – „корочки-то“ издалека не видно, а прикид сам собой в глаза бросается. Интересно, а если гульбище застеклить, что они придумают? Так и будут в шубах париться или иные знаки отличия изобретут?»
– Так вот, боярич, если начинается «место власти» с крыльца и гульбища, то самая суть его в сенях! Это в простых домах сени ладят для сохранения тепла да для того, чтобы сразу с улицы в жилье не лезть, а в княжих хоромах да у бояр, что поважнее, сени для другого предназначены. На сенях князь пиры устраивает, послов принимает, боярскую думу собирает или совет с малым числом ближников устраивает. Здесь же и княжий стол находится – помост такой возвышенный над полом…
– Да знаю я, что такое стол…
– Не перебивай! – Сучок сердито ткнул чертилкой в землю. – Спросил совета, так слушай, я зря не болтаю! Стол, значит… а на столе столец – седалище княжеское, навроде кресла, что ты измыслил, только попроще будет. Ты вот, если деду твоему понадобится к князю Туровскому подольститься, возьми да и присоветуй ему, чтобы кресло князю привез. Князь Вячеслав, сказывают, телом излиха дороден, а такие люди любят с удобством восседать, вот и удоволите владыку своих земель! Еще бы узнать, какое у Вячеслава знамя, так можно было бы его на спинке кресла вырезать… или же знамя Рюрика – атакующего кречета – тоже почетно.
– Да! – подхватил мысль Мишка. – Можно еще и для княгини кресло чуть поменьше изготовить!
– Ну, не знаю… – засомневался Сучок, – я тебе для чего про стол и столец рассказывать взялся? Потому что столец – единственная постоянная мебель на сенях, а все остальное сменное. Надо устроить пир – соорудили столы на козлах, надо боярскую думу собрать – натащили скамей для бояр, надо принять послов – вынесли все, сидит один князь, остальные стоят, надо посоветоваться с ближниками – поставили небольшой стол и скамьи вокруг него, притащили напитки да закуски… Еще всякие разные случаи бывают, и все это на сенях происходит. Из-за этого сени делаются как можно просторнее – во всю клеть.
Окна в сенях устраивают большими, не только для света, но и для воздуха, а то ведь, бывает, что на пиру несколько десятков мужей соберутся, выпьют-закусят, да так надышат… и прочее, что в волоковые окошки[10] этакий дух и не пролезет! Ну а на ночь или в непогоду эти окна ставнями закрываются.
«М-да, симбиоз актового и банкетного залов с кабинетом и совещательной комнатой. Вот тебе и сени! Пожалуй, звание „сенной боярин“ соответствует примерно чину тайного или действительного тайного советника, а „сенная боярыня“ – ну, никак не ниже фрейлины».
– Слушай, старшина, а ты-то откуда это все знаешь? – заинтересовался Мишка. – Можно подумать, что ты сам боярином у князя был…
– Можно подумать, – передразнил Сучок, – что в княжьих или боярских хоромах пожаров не случается, что не ветшают они или не перестраиваются!
– Да, верно… Это я как-то не подумал…
– Да неужто тебе дед этого не рассказывал? – удивился Сучок. – Он же по молодости при князьях покрутился вдоволь!
– Рассказывать-то рассказывал, но у него взгляд на эти дела воинский, а у тебя строительный. Чувствуешь разницу?
– Воинский, воинский… – сердито проворчал Сучок. – Только и мыслей, что разломать или поджечь, а попробовали бы хоть раз что-то выстроить…
– Ладно, старшина, не ворчи! – примирительно произнес Мишка. – Когда-никогда, а жениться мне все равно придется, вот и терем сгодится, а пока мы туда девиц поселить можем, чтобы, значит, у них постоянное место в крепости было. Глядишь, им с верхотуры-то по ночам к парням шастать труднее будет…
– Ага, рубить-колотить, так ты их и удержал! Дело молодое, природа своего требует…
– Ну, тебе виднее… молодое дело или не молодое, сам-то в Ратное за тем же самым мотаешься… Бешеной собаке семь верст не крюк, как говорится…
– Ты не в свое дело-то не лезь! – взвился Сучок. – Молод еще меня попрекать! Говорим о стройке, рубить-колотить, так о стройке и говорим! И нечего тут…
– Да будет тебе, старшина! Что ты, как кипятком ошпаренный? Ходишь и ходишь, кто тебе запретит? И не попрек это вовсе… Радуюсь за тебя, женишься – сам первый тебя поздравлю! Такого мастера, как ты, еще поискать, а через женитьбу ты у нас ведь и насовсем остаться сможешь…
– Женишься… – Сучок вдруг как-то опал, словно из него выпустили воздух. – Кто ж за закупа пойдет…
– Выкупишься, мы же договорились обо всем! Или не поверил мне?
– Поверил – не поверил… – Сучок отвернулся от собеседника и заговорил в сторону, ковыряя чертилкой сиденье скамьи. – Я чего только не передумал, когда весть дошла, что воевода тебя из старшин разжаловал… Гвоздь так и сказал: «Не будет Михайла старшиной – не быть и нам вольными». А потом опять весть пришла, что тебя под стрелы попасть угораздило – чудом жив остался… – Голос плотницкого старшины дрогнул. – Ты, сопляк… ты хоть подумал, у скольких людей жизнь поломается, если тебя не станет? Других поучаешь, а сам…
«А ведь и вправду, сэр Майкл, сколько людей на вас завязано? Просто на одно ваше существование и на реализацию ваших планов! Случись что, и как им дальше жить? Это ж не ТАМ – накрылась фирма, другую работу нашли. ЗДЕСЬ работа с жизнью гораздо жестче связана – зачастую работа или служба и есть жизнь! Сколько же нервных клеток Сучок и его артельщики сожгли, пока вас из похода за болото дожидались? Да и не только артельщики… вместе с „курсантами“ почти две сотни народу в крепости обретаются, и все, так или иначе, от вас, сэр, зависят. Вот тебе и феодал-эксплуататор… в их понимании, чуть ли не отец родной. Да… дела».
– Ну, перестань, старшина… – Мишка совершенно неожиданно почувствовал, что и ему стало трудно говорить. – Кондратий Епифаныч, пойми правильно… я же еще учусь, да и присматривают за мной, не дадут просто так сгинуть… слыхал же, как меня Немой защитил…
Сучок ничего не ответил, только, все так же отвернувшись, повел плечами, а Мишкина растерянность (даже в какой-то мере растроганность), в полном соответствии с лисовиновским характером, быстро перешла сначала в раздражение, а потом в злость.
– Хватит, Кондратий! Попереживали и будет, давай-ка дальше о деле… Подклет, сени, терем, а жить-то где?
– Гм, жить… ишь, скорый какой! Хоромы в один сруб не ставятся! – Сучок, по-прежнему не глядя на Мишку, словно устыдясь проявленной слабости, снова принялся чертить. – Ставим рядом еще один сруб: подклет, клеть с горницами. Там и жить будешь: спать, трапезничать с семьей, добро хранить…
– Какое добро? – перебил Мишка. – Подклет же есть…
– А казну? А меха дорогие да паволоки?[11] Сам не заметишь, как рухлядью обрастешь… еще и тесно станет! Вот тут-то и третий сруб пригодится!
– Третий? Да куда ж еще третий-то? – в очередной раз удивился Мишка.
– А туда, что у княгини-то свои сени есть! – наставительно поведал Сучок. – Поменее княжьих, само собой, но тоже немаленькие. Там она и гостей привечает, и посетителей выслушивает, и с сенными боярынями… – Сучок, видимо сам для себя неожиданно, затруднился с разъяснениями, – …ну, чего-то ж они там делают, с сенными-то боярынями, не просто же так они… Вот, значит… а матушке твоей надо же где-то с девками рукоделием заниматься! Ну, и прочее всякое такое.
– Понятно, – Мишка обреченно вздохнул. – Не выйдет, значит, скромно.
– Даже и не надейся, боярич! Место власти скромным не бывает! – Сучок вдруг оживился и снова принялся черкать по земле. – Все это надо еще соединить лестницами да переходами и украсить наличниками, резными «полотенцами», причелинами, столбиками всякими, откосами… красиво будет, не то что твоя казярма!
«Так вот почему ты не возмутился, что народ от основной стройки отвлечь придется! Красоту тебе создать хочется… тоже творческая личность…»
Квалификация артели Сучка была высокой – боярские хоромы были «сданы в эксплуатацию» во второй половине августа, и получилось действительно красиво! Конечно же, не обошлось без споров на грани скандала со старшиной плотников. Если к требованию наладить отопление «по белому» Сучок уже как-то притерпелся, хотя и считал это чем-то вроде «архитектурного излишества», влекущего за собой напрасное разбазаривание дефицитных кирпичей и серьезное усложнение конструкции здания, то, например, сооружение прихожей, при наличии сеней, он воспринял просто как дурную блажь боярича.
Традиционный аргумент Сучка «так не строят» столкнулся с почти иррациональным неприятием Мишкой входа прямо с улицы. Все-таки парадные сени, хоть и не княжеского масштаба, сочетали в себе функции кабинета, гостиной и совещательной комнаты, вход в которую должен был, в Мишкином понимании, обязательно предваряться каким-то проходным помещением. Сломать сопротивление Сучка удалось, лишь обратившись к вопросу безопасности – придворные-то на гульбище не толпились, заходи, кто хочешь, и «нестандартную» горницу, где, по идее, было место секретарю или адъютанту, удалось «продать» старшине плотницкой артели, как помещение охраны. Под этот «проект» прошли и скамьи для ожидающих приема посетителей (как бы для размещения охранников), поскольку по нормам XII века посетителям, в соответствии с их статусом, надлежало ждать вызова либо на дворе возле крыльца, либо на гульбище.
В этих-то хоромах Мишка и поселился с матерью и сестрами (что, естественным образом, породило к жизни женскую половину дома), сюда же вселили брата Сеньку, после того, как «детский десяток» перебрался в крепость, сюда же почти ежедневно наведывался Алексей (бывало, и с ночевкой, но этого как бы никто не замечал).
Здесь же организовывались «семейные» ужины для отличившихся отроков, а под гульбищем, на некоем подобии деревянного тротуара, стояли скамьи для вечерних посиделок с песнями. Однажды отроки и девицы спрятались под гульбищем от дождика, а потом все так и осталось, сделавшись привычным.
Очень быстро Мишка убедился, что название «покои» тоже имеет совершенно конкретный практический смысл – обрести покой можно было только во внутренних помещениях. Хоромы действительно были центром общественной жизни, сопровождавшейся соответствующей суетой. Суету эту Мишка сам для себя разделил на несколько частей.
Первая – официальная. Стоя на крыльце, Мишка принимал утренний развод и вечернюю поверку, а также смену дежурных десятков. Принимал доклады, оглашал приказы и распоряжения, подводил недельные итоги соревнования между десятками и осуществлял прочие формальные публичные акты руководства Академией, а «на сенях» проводил заседания Совета Академии и «педсоветы» с наставниками.
Вторую составляющую суеты Мишка про себя поименовал «деловой». В терем постоянно перли посетители с делами самой разной степени важности. То являлась «шеф-повар» Плава и обрушивала на Мишку ворох кухонных проблем, то являлся с очередным скандалом Сучок (ну просто не мог он изложить даже простейший вопрос в иной, нежели склочно-пожарной тональности). То прибегал с подбитым глазом дежурный десятник и сообщал, что подрались силяжские с шеломаньскими (понимай: шестой десяток с девятым), наставники с дежурным десятком их угомонили, даже опричников звать не пришлось, но в темницу два десятка разом не запихнуть, да там и без того пятеро обретаются. То Роська «радовал» тем, что завтра ожидается аж семеро именин, но про одного святого из этой семерки он ничего отрокам рассказать не может, и надо срочно скакать в Ратное к отцу Михаилу. То черти приносили «кинолога» Прошку, длинно и занудно живописующего прямо-таки непреодолимые трудности с выбором имени для недавно родившегося теленка… и прочие дела, делишки, делища!
Для третьей составляющей суеты Мишка названия так и не придумал – просто суета от постоянно мелькающих лиц, обрывков разговоров и вообще непонятно чего. На протяжении дня обязательно находились поводы и причины заглянуть в хоромы у двоюродных братьев и крестников; на гульбище после обеда каждый день собирались и о чем-то толковали между собой наставники (другого места им не нашлось!); по подклету все время зачем-то лазали плотники Сучка и строители Нинеи (слава богу, наверх не лезли); какие-то бабы и девки (и откуда их столько?) постоянно таскались на женскую половину дома; по горницам, наподобие привидения, шастала Красава в компании Саввы… Порой так и подмывало схватить какой-нибудь предмет поувесистей и вышибить всю эту публику на крепостной двор, сопроводив сие управленческое воздействие соответствующими высказываниями из арсенала ненормативной лексики. А потом поставить на входе караул и ввести пропускную систему.
Четвертая составляющая суеты была, и вообще, атас – женская! В самых неожиданных местах терема все время попадались девки с тряпками и вениками; какие-то другие девки носились туда-сюда с горшками, ведрами, кувшинами коробами и еще бог знает с чем; третьи девки (а может и те же самые?) таскались с подушками, сенниками, одеялами и еще каким-то тряпьем. Все это выбивалось, вытряхивалось, сушилось и проветривалось на солнце, время от времени всю эту колготню, словно ледокол, прорезал громко сопящий Простыня с каким-нибудь неподъемным сундуком в руках, а руководила всем этим непостижимым в своей скрытой логике процессом горластая баба, которую в глаза величали Лизаветой, а за глаза Керастью.[12]
Девки то хихикали, то перекликались звонкими голосами, то поодиночке, а случалось, и компанией, хныкали в уголках. Что-то где-то падало (порой и разбивалось), где-то лилась вода, где-то хлопали по выбиваемым сенникам палки, кого-то отчитывала Лизавета…
Однажды Мишка то ли со зла, то ли для эксперимента (сам не понял) высунулся из сеней-кабинета-гостиной и гаркнул во всю мощь голоса:
– А ну, тиха-а-а!!! Чапай думать будет!!!
Единственным результатом акустического воздействия было то, что боярича облаял Роськин щенок Ворон, по своему разгильдяйскому обыкновению то ли прогуливавший занятия у «кинолога» Прошки, то ли смывшийся из вольера и принимающий деятельное участие в коловращении людей и предметов в районе кухни.
Кухня в Мишкиной «резиденции» вообще была отдельной песней! Несмотря на то, что Мишка, как, впрочем, и все остальные, дома только ужинал, а в остальное время питался в трапезной вместе с отроками, а женский состав – в специальном помещении возле «гарнизонного пищеблока», на кухне что-то булькало и шкворчало уже с утра: в программу обучения «благородных девиц» входил курс кулинарии и консервирования, и Мишка сильно подозревал, что перенос этого учебного процесса в хоромы был вызван опасением массового отравления отроков, в случае попадания «учебных блюд» в общую трапезную.
Однажды он даже решил, что его опасения подтверждаются самым ужасным образом – из кухни понесло запахом не то чтобы химии, но явно чего-то несъедобного. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что девки, под руководством Анны Павловны, красят на кухне нитки для вышивания.
Конечно же, во всей этой «суете сует и всяческой суете» ничего ужасного не было. Точно так же постоянно заняты были какими-то делами бабы и девки в лисовиновской усадьбе в Ратном, привычным было и то, что со всеми делами Воинской школы все шли именно к Мишке, хотя вопрос запросто мог решить Алексей или кто-то из ближнего круга, не должна была пугать или удивлять и некоторая бестолковость всего происходящего – Академия дело новое, непривычное. Однако, как только Мишка заселился в терем, и все это сосредоточилось в одном месте… Ох!
* * *
На следующий день после дуэли Корней заявился в крепость в компании Бурея и старосты Аристарха. Появление на базе Младшей стражи обозного старшины и ратнинского старосты было более чем показательным: если явился Бурей, то почти с уверенностью можно предсказывать – сидящего в темнице урядника Бориса ждет казнь.
С Аристархом было несколько сложнее. После обряда посвящения Аристарх (в язычестве, как выяснилось, Туробой), против ожиданий, не оставил Мишку-Окормлю для приватного разговора, хотя это и напрашивалось само собой – ведь назвал же Аристарх-Туробой его своим преемником. Возможно, староста приехал поглядеть, как Мишка «окормляет» Воинскую школу? Посмотрит, сделает какие-то свои выводы, а потом уже начнет посвящать в таинства Перунова братства?
Особо поразмышлять на эту тему Мишке не дал Корней. С недовольной миной на лице выслушав рапорт, воевода буркнул в ответ нечто сердито-неразборчивое и, постепенно разгоняясь, словно самолет на взлете, начал:
– Порядка не вижу, усердия тоже! Бездельники, лоботрясы, ничего как следует делать не можете, а если можете, то ленитесь, пользуетесь, что пригляда за вами нет…
Далее последовал классический монолог из серии «начальственный разнос» – попреки и угрозы, перемежаемые руганью, без указания точной причины начальственного гнева. Объяснения последуют позже, когда руководство выпустит пар и отведет душу. До того – никакой конкретики, иначе начнут перебивать, оправдываться (не ровен час, и оправдаются), и никакого облегчения души и разрядки эмоционального напряжения не получится.
«Чего он завелся-то так? Ну, случилась беда, так виновные уже или наказаны, или воеводского суда ждут. Или еще что-то случилось, чего я не знаю? Так вроде бы ничего такого особенного не должно быть…»
Послушав дедовы излияния еще немного, Мишка слегка набычился и уставился в переносицу деду.
– …И школа ваша дерьмо, и наставники ваши засранцы, и… – дед сбился с ритма. – Я сразу говорил, что толку не будет… Чего уставился?
– Не при ребятах, – негромко ответил Мишка. – Зайдем в дом – хоть убивай, а ученикам про то, что школа дерьмо, а наставники засранцы слушать незачем.
– Ты меня поучи еще, сопляк! – чувствовалось, что дед уже выпустил пар – замечание прозвучало значительно тише и не так энергично. – Указывать он мне будет, что надо, что не надо… Воеводы хреновы… Коня кто-нибудь примет, или мне до вечера тут?..
Коня, разумеется, приняли, дед шагнул было к крыльцу, но остановился.
– Кхе! Михайла… Это что, твой дом, что ли? Важнее дела на стройке не нашлось?
– Жилье боярича, начальника Воинской школы, господин сотник, – «служебным» голосом отрапортовал Мишка. – Милости прошу, господин сотник.
– Жилье, едрена-матрена… Совсем тут обалдели… Аристарх, видал, а?
– Да-а, Кирюш… в Ратном-то у нас такого нету. А давай-ка внутри глянем!
– Ну, веди, – Корней как-то странно покосился на Мишку, – воевода, едрена-матрена.
Сени-кабинет-гостиная тоже впечатляли. На выскобленных досках пола лежал четырехугольный светло-серый войлок с красными узорами (ковер был бы уместнее, но ковра не нашлось). Проконопаченные мхом бревна стен закрыли плотно подогнанными, гладко струганными досками светлого дерева. Потолок, тоже дощатый, побелен – Мишка хоть и знал, что от ЗДЕШНИХ «осветительных приборов» потолок быстро закоптится, но не смог отказать себе в этом удовольствии. От этого в парадных сенях было непривычно светло.
Посреди помещения, на войлоке, стоял длинный стол, накрытый белой льняной скатертью, а вокруг него двенадцать стульев. На стеллаже, бывшем на самом деле шкафом, только без дверец, рядами стояла раскрашенная «под хохлому» посуда. На столе, между двумя пятисвечниками, лежал поднос, тоже раскрашенный под хохлому, на котором стоял кувшин с квасом и лежал небольшой ковшик. Все это придавало горнице яркий, праздничный вид, а отсутствие стоящих вдоль стен лавок и сундуков добавляло простора.
– Михайла, – несколько оторопело произнес дед, – да ты, как князь…
Мишка налил квасу в ковшик и с полупоклоном поднес деду.
– Испей с дороги, господин сотник.
Дед машинально принял ковш, выпил, но при этом слишком сильно наклонил посуду, и струйка кваса, сбежав по бороде, испятнала лежащий на полу светлый войлок. Дед заметил свою оплошку, смутился и рассвирепел от этого снова.
– Совсем очумели, задрыги? Вы что тут устроили? С жиру беситесь! Князьями себя возомнили, боярами? Ты! – дед попытался схватить Мишку за ухо, но внук увернулся, разозлив Корнея еще больше. – Ты для этого себе Устиновых холопов забрал? В роскоши жить захотел, сопляк?
Дед снова надвинулся на Мишку, но неловко зацепился протезом за край войлока и чуть не упал, подошедший сзади Бурей подхватил его и зловеще прохрипел:
– Не о том говоришь, Корней, – потом поднял глаза на Мишку и совсем уж по-звериному прорычал: – Ты, сопляк, почто убогую обидел?
– Какую убогую? – не понял Мишка, невольно пятясь.
В устах Бурея обида, нанесенная убогому, была самым страшным обвинением. Если и имелись у обозного старшины какие-то положительные человеческие качества, то в первую очередь это было сочувствие калекам и уродам. Впрочем, это могло быть и не сочувствие несчастным, а благовидный повод дать выход агрессии и злобе, но все Ратное знало, что натерпевшийся с детства Бурей способен убить или изуродовать любого, кто позволял себе издеваться над ущербными. Скорее всего, именно из-за этого в Ратном совершенно не были распространены в общем-то характерные для средневековья развлечения за счет горбатых, хромых и прочих богом обиженных людей.
Сразу стало понятно, почему дед явился в воинскую школу в таком взвинченном состоянии. Видимо, Мишкины «доброжелатели» нашли способ подкинуть Бурею «дезу» о якобы нанесенной внуком сотника обиде кому-то из тех, кого Бурей считал своей обязанностью защищать, и обозный старшина явился «восстанавливать справедливость». Относительно того, как он это будет делать, Мишка никаких иллюзий не питал – запросто может и шею свернуть.
Дед торопливо встал между Мишкой и обозным старшиной и заорал на внука:
– Зачем Ваську украл?!
– Какую Ваську?
– Глухую! Хватит придуриваться! На кой тебе глухая сдалась, совсем тут одурел?
– Она сама пришла, деда, я забыл совсем…
– Не врать! Девки сами за десяток верст не приходят.
– Сама пришла, деда…
– Врешь! Видели тебя! Где девка?
– В лазарете она, у Юльки.
– Ага! Значит, здесь! Почему в лазарете? Бил?
– Нет, в речке чуть не утонула.
Дед собрался еще что-то сказать, но над его плечом появилась лапища Бурея и потянулась к Мишке.
– Да погоди ты, Бурей…
Дед уперся спиной в грудь обозному старшине, пытаясь остановить того, войлок под протезом сдвинулся, Корней опять чуть не упал, но успел ухватиться за Бурееву лапищу и повиснуть на ней всем весом. Мишка отскочил за стол и выпростал из-за пояса кистень, хотя прекрасно понимал, что против этой разъяренной горы мышц шансов у него нет ни малейших. Шансов как-то оправдаться, впрочем, тоже – Бурей просто-напросто не станет ничего слушать. Да, «доброжелатели» знали, что делали.
– Г-р-р.
Бурей с утробным рыком пытался стряхнуть с одной с руки Корнея, а другой дотянуться до Мишки, но длины даже его лапищи для этого не хватало. Что-то было не так – какая-то фальшь, наигранность…
«Скалится, рычит, но стоит на месте, хотя отпихнуть деда или просто протащить его следом за собой для такого бугая не проблема. Только пугает? Но дед-то удерживает его на полном серьезе, изо всех сил. Боится, что этот урод заиграется и поломает меня по-настоящему? Что ж делать-то? Притвориться, что напугался? Так меня и на самом деле жуть берет…»
Ничего придумать Мишка не успел – от двери раздался голос Алексея:
– А ну, не тронь парня! Он правду говорит!
– Г-р-р… – Бурей лишь мотнул головой, как собака, отгоняющая муху.
Ш-ш-ших – звук извлекаемого из ножен меча прозвучал очень отчетливо, а Алексей, поигрывая обнаженным клинком, позвал:
– Эй, уродище!
Назвать Бурея в лицо уродом – это было даже не легкомыслием, а натуральным безумием, сопровождающимся тягой к суициду. Игры (если, конечно, это были игры) мгновенно кончились – никакого рычания, жутких гримас и вытянутых рук со скрюченными наподобие когтей пальцами. Обозный старшина легко и бесшумно, словно балерина, развернулся на сто восемьдесят градусов, пригнулся, так, что горб выпятился вровень с головой, слегка развел лапищи в стороны и уставился на Алексея налитыми кровью глазами.
Старший наставник Воинской школы встретил его взгляд не то чтобы спокойно, а так, как смотрят на быка, перед забоем на мясо. Было понятно, что он совершенно точно знает, как и чем встретить это гориллообразное чудище, сохраняя за собой свободу выбора: убить, искалечить или только оглушить. Опыт есть опыт – во времена его «гуляний» по степи во главе отряда отморозков Алексею наверняка попадались всякие «оригиналы», возможно, и почище Бурея. Случались наверняка и конфликты, но поскольку Алексей был жив…
Обозный старшина чуть качнулся вперед, старший наставник Воинской школы синхронно сделал маленький шажок назад. Это было не отступлением, а занятием более выгодной позиции – теперь Бурей мог переть только прямо через дверь, а Алексей, оказавшись в прихожей, обрел свободу маневра и мог уклониться в любую сторону.
Бурей снова чуть сдвинулся вперед, его противник не шелохнулся, лишь негромко, но очень внятно произнес:
– Развалю. До жопы.
И это тоже не было ни угрозой, ни предупреждением, а лишь озвучиванием намерений. Если в преисподней есть диспетчер, то именно таким тоном он должен сообщать, в какой из кругов ада направляется очередной грешник.
«Вот он – настоящий ужас! Не рев, не зубовный скрежет, а почти безжизненный, лишенный малейшей эмоциональной окраски голос – функциональная готовность машины даже не для убийства, а для технологичной „переработки“ живых людей в трупы. Умеет Алексей пугнуть, и страшнее, чем у Бурея выходит, но только для тех, кто понимает. О тех же, кто не понимает, говорить, скорее всего, надо в прошедшем времени. Но Бурей-то не дурак…»
Если Бурей что-то и понял, то его это не остановило. Обозный старшина опять мягко и совершенно бесшумно переступил вперед и пригнулся еще больше, готовясь к прыжку.
– Пр-р-рекратить!!! – дед тоже цапнул рукоять меча, но не стал его обнажать, а изо всех сил толкнул Бурея плечом в бок. Казалось, с таким же успехом он мог бы толкать, например, печку, но старый вояка свое дело знал – толчок пришелся как раз на момент начала прыжка, и Бурей, метнувшийся вперед со звериной стремительностью, не попал в дверь, а с маху приложился об косяк, так, что стена возле дверного проема издала крякающий звук. – Прекратить!!! Обоих урою!!!
Никакой реакции на угрозу. Бурей завозился, поднимаясь на ноги, а Алексей шагнул из сеней, занося меч для удара. Дед выхватил оружие и парировал удар старшего наставника, но, как оказалось, это был всего лишь отвлекающий маневр – нога Алексея врезалась в голову обозного старшины, и тот осел кучей дикого мяса обратно на пол.
– Все, Корней Агеич, – Алексей со стуком вдвинул меч в ножны. – Я, бывало, и не таких в разум приводил. Чем страшнее выглядит, тем хуже боец – нет привычки на равных драться, заранее напугает, а потом делает, что хочет. Это же чудище наверняка ни разу в жизни никто и не бил как следует.
– Едрена… – Дед упер меч в пол и навалился на него, как на трость. – Леха, он же тебе этого ни в жизнь не простит.
– А и не надо! – в голосе Алексея не было ни лихости, ни бахвальства. – Он же, как зверь, а зверю достаточно один раз показать, кто сильнее, потом только спиной поворачиваться не надо, спереди не нападет. А ты – молодец, – Алексей одобрительно кивнул Мишке – не испугался. Только про меч, я гляжу, опять забыл? И встать надо было подальше от стола, ручищи-то у него длинные. Или ты по рукам бить собирался? Тогда зря, он тебя и сломанной рукой достал бы – зверь в ярости боли не чует… Человек, впрочем, тоже.
Мишка совершенно не представлял себе, в какое место он собирался бить Бурея и сумел бы махнуть кистенем вообще. Он машинально кивнул в ответ на слова наставника, но внимание его было приковано к Аристарху, стоящему за спиной Алексея. Вернее, не к самому старосте, а к кривому восточному кинжалу в его руке.
«Кого он резать собирался: Алексея или Бурея? Если бы Алексей ушел с линии броска, то Бурей вылетел бы прямо на Аристарха и… что бы было? Не о том думаю, надо как-то от обвинения отмазываться, сейчас это чудище очнется… и Алексей его прикончит. Нет, надо дело как-то миром заканчивать».
– Деда, а девку-то я и вправду не крал.
– А? Какую… Тьфу, едрена-матрена! С ума с вами сойдешь!
– Так все и было, Корней Агеич, – подтвердил Алексей, – девка сама пришла, пустилась вплавь через речку и чуть не утонула. Дозорный с вышки ее увидал, поднял шум, два десятка, что на стрельбище были, кинулись спасать, еле выудили. А Михайла в это время рядом со мной стоял, как раз гонца к тебе отправляли…
– Да что ты несешь? – перебил Корней. – Его видели!
– Плюнь в глаза тому, кто сказал – Михайла из крепости не отлучался, а как девка в реке бултыхалась, куча народу видела.
– Кхе…
– У-у-м-м… – Бурей со стоном заворочался на полу.
«Вот это да! Не башка, а танковая башня, без гранатомета и не подходи. И что сейчас будет?»
– Ну-ка, пустите меня… – Аристарх протиснулся мимо Алексея в сени и присел на корточки возле Бурея. – Серафим, слышишь меня? Эй, Серафим, глаза-то открой.
– Г-р-р…
– Серафим, объяснилось все, не виноват Михайла, – продолжал внушать Аристарх – Жива-здорова Васька, никто ее не обижал. Слышишь, Серафим?
– У-у-м-м… Корней, чем это ты меня?
Алексей хитро подмигнул Мишке, а дед удивленно вскинул головой, но тут же сориентировался:
– А не балуй, Буреюшка! Ты зачем сюда пришел: правду узнать или смертоубийство творить?
– У-у-х! – Бурей ухватился за дверной косяк, так что тот затрещал, и поднялся на ноги. – Ну, Корней, ты старый-старый а… аж в ушах звенит!
– А я и говорю: не балуй! Вас в строгости не держать, так вы и совсем от рук отобьетесь.
– Серафим, – встрял Аристарх, – пойдем на Ваську посмотрим. Сам убедишься: жива-здорова, никто ее не обижал.
«А почему девку Васькой называют? А-а, наверно, Вассой зовут! М-да, сэр Майкл, а не надоели ли вам сюрпризы? Как лорд Корней тогда изволил выразиться: „Что-то вокруг тебя, Михайла, всякая дурь происходит“? Только, вот беда, не сама эта дурь произошла, подставил меня кто-то опять, и я догадываюсь, кто именно».
Блуждающий взгляд Бурея наткнулся на старшего наставника Воинской школы, и в горле обозного старшины снова заклокотало рычание:
– Леха, гляди, в другой раз Корнея рядом может и не случится…
– Договорились! – покладисто отозвался Алексей – Заходи, если что.
– Где Васька? – рявкнул в ответ Бурей.
– Пойдем, Серафим, пойдем… – Аристарх подхватил обозного старшину под руку. – Здесь она, недалече. Михайла, показывай.
Идти было недалеко – вход в лазарет находился в торцовой стене казармы, в проходе между ней и домом Мишки. Юлька и Матвей мирно сидели рядышком на лавочке возле крылечка. Матвей был в кольчуге и подбрасывал в руке кинжал – указание сотника Корнея об обучении «фельдшера» военному делу выполнялось неукоснительно. Юлька же явно маялась бездельем, прислушиваясь к чему-то, происходящему внутри лазарета, и кривя рот в усмешке. Увидев подходящую к ним «группу руководящих товарищей», оба вскочили и вежливо поздоровались.
– Здравствуй, девонька, – отозвался за всех Корней, – Васька глухая у тебя?
– У меня, Корней Агеич, только она уже не глухая, все слышит.
– Неужто вылечила? – неподдельно изумился воевода.
– Сама вылечилась. Чуть не утонула же, а со страху, случается, и обезножившие ходить начинают, и немые голос обретают.
«Ну да, стресс, шок… Нинеино внушение и вышибло, как пробку. Нет, сегодня точно день сюрпризов!»
– Кхе! Слыхал, Бурей? Она еще и вылечилась, а ты-то раскипятился…
– Г-р-р, хм…
– А чего это вы с Матюхой здесь сидите? – заинтересовался дед. – Больных, что ли, нет?
– Больные-то есть, Корней Агеич, – Юлька снова покривила рот в усмешке. – Только из-за нашего чудотворца нам пока здесь ждать приходится. – Лекарка указала глазами на Мишку и сочла нужным пояснить: – Васька, как очухалась, сразу же и обрадовала: слух, говорит, к ней вернулся, как только Минька на нее свою рубаху надел. Он, мол, и раньше чудеса творил – с тетки Татьяны порчу снял, демонов из покойников изгнал, а теперь вот и еще и это. Ну, а святоша наш…
– Урядник Василий! – поправил Юльку Матвей.
Юлька раздраженно дернула плечом и продолжила:
– А Роська и обрадовался! Боярич наш, говорит, избран быть орудием в деснице Божьей, радуйтесь, православные, сие – знак свыше для всех нас! Ну, не придурок, а? Вот, приперся недавно, теперь «лечит».
Юлька приоткрыла дверь в лазарет, и оттуда донесся вдохновенный голос Роськи:
– …помозите нам, беспомощных заступницы. Гнев праведный, движимый на ны за беззакония наша, отвратите от нас вашим ходатайством у престола Судей Бога, Ему же вы предстоите на небеси, святые праведницы…
– Вот так и лечим! – Юлька захлопнула дверь. – Сейчас все здоровенькими выбегут, а нам с Мотей и заняться нечем станет.
– Не богохульствуй, Иулия! – наставительно изрек Аристарх. – От святой молитвы никому еще худа не было!
«Во, дает Туробой! Или у вас глюки, сэр, или… даже не знаю, что и сказать! Жрец Перуна жрицу Макоши в христианском благочестии наставляет! Ни одного театра на Руси еще нет, а фарс разыгрывают, ну прямо народные артисты!»
Ратнинский староста собрался было сказать еще что-то нравоучительное, но Бурей, отодвинув его ручищей, обратился к Юльке сам:
– Матушка твоя велела спросить: справляешься ли и не нужно ли чего из лекарств?
Мишка от изумления раскрыл рот – Бурей говорил с Юлькой ласково! Настолько, насколько, конечно, его глотка была способна производить звуки, свидетельствующие о добром расположении к собеседнику, а Юлька – язва и скандалистка – отозвалась голосом «послушной девочки»:
– Благодарствую, дядька Серафим. Поклон матушке передай, скажи, что справляюсь и ничего не нужно, трудных больных нет.
«Охренеть и не жить! Вы, кажется, в сумасшедший дом собирались, сэр? Не спешите, сие богоугодное заведение пребывает вокруг вас повсеместно, ежечасно и всякообразно, функционируя на полную мощность! А если серьезно, то ни хрена-то вы в ЗДЕШНЕЙ жизни за четыре года не разобрались, хоть и беретесь других поучать!»
– Угу… – прогудел Бурей. – Ваську-то выведи, сам глянуть хочу.
Юлька скрылась за дверью, и через краткое время на крылечке появилась Васса, подталкиваемая в спину лекаркой. Потупив взор, она тихонечко спустилась по ступенькам и, подняв глаза, испуганно ахнула, узрев прямо перед собой жуткую рожу Бурея. Шарахнулась в сторону, ударилась об Аристарха и отлетела прямо в руки Мишке.
– Г-р-р… – Бурей, хоть и привыкший к тому, как реагируют неподготовленные люди на его внешность, был явно раздосадован – в кои-то веки собрался доброе дело сделать, и одни неприятности. – А ну, не лапай девку! – рявкнул он на Мишку.
– Батюшка боярин! – вдруг заголосила тоненьким голосом Васса. – Не беглая я, не серчай, дозволь прислугой у Михайлы Фролыча остаться! Я ему по гроб жизни благодарна буду, верной рабой стану, дозволь остаться!
– Кхе! – Дед явно не ожидал такого поворота событий.
– Незачем! – вдруг вызверилась Юлька – Нечего этой соплюшке…
– Кхе! Буреюшка, гляди, как все обернулось, а мы-то с тобой… Кхе!
– Гы-гы-гы! – оценил юмор ситуации Бурей. – А ты говорил… ох! – Бурей приложил ладонь к ушибленной голове – А ты говорил, что девки за десяток верст не бегают!
– Но Михайлу-то видели! – внес долю здравомыслия в разговор Аристарх. – А скажи-ка, девонька, кто тебя надоумил самой сюда идти?
– Боярыня Листвяна… Ой! – Васька испуганно зажала себе обеими руками рот.
– Что?!! – Мишка и сам не заметил, как у него вырвалось это восклицание.
– Какая боярыня?!! – одновременно с Мишкой возопил дед.
Все, не сговариваясь, перевели взгляды с Васьки на свекольно покрасневшего Корнея.
– Ты… Ты чего несешь, дура!!! – Корней бешено выпучил глаза. – Да я тебя…
Он схватился за рукоять меча и грозно двинулся на Ваську, та пискнула и спряталась за Мишкиной спиной.
– Гы-гы-гы! – Бурей аж колыхался от смеха всей своей несуразной тушей. – Боярыня! Гы-гы-гы! Старый конь борозды не испортит!
– Хе-хе-хе! Седина в бороду – бес в ребро! – начал было вторить обозному старшине Аристарх, но, взглянув на Корнея, осекся.
Сотник, еще больше покраснев (хотя куда уж больше?), растерянно топтался на месте, не зная как себя вести – ну не рубить же, в самом деле, глупую девчонку?
Дед в глупом положении, над ним смеются, а сам он смущен и растерян – ничего подобного Мишка никогда не видел и даже не предполагал когда-нибудь увидеть. Обернувшись, он ухватил Ваську за ухо, вытащил ее из-за своей спины и, сам не замечая, что копирует тон и голос сотника, рявкнул:
– А ну, говори: от кого про боярыню слыхала?
– Ой, я не хотела… Михайла Фрол…
– Говори! – снова прикрикнул Мишка.
– От девок… на кухне…
– Что болтали?
– Что если мальчик будет…
– Ну! Дальше!
– То боярин зимой… – ноги у Васьки начали подкашиваться, и Мишка, отпустив ухо, подхватил ее под мышки.
– Гы-гы-гы! – Бурей от хохота начал приседать, одной рукой держась за голову, другой пытаясь ухватиться за плечо Аристарха. – Корней, я сватом буду!
– Запорю!!! – завопил, срываясь на визг, дед. – Языки вырву!!! Суки!!! Б…ди!!! На кол всех!!!
Васька закатила глаза и обвисла в Мишкиных руках мешком, Юлька и Матвей стояли, разинув рты, а из дверей лазарета высунулась недоуменная физиономия Роськи. Бурей все-таки шлепнулся задом на землю и, обхватив голову обеими руками, трясся от хохота.
Лицо у деда побагровело, глаза налились кровью, на лбу вздулись жилы. Надо было принимать срочные меры, и Мишка заорал, что было мочи:
– Васька помирает!!!
Васса действительно висела у него на руках, как тряпка. Все, кроме сидящего на земле Бурея, кинулись к девчонке, Мишка спихнул ее на руки Матвею и, ухватив Юльку за косу, прошипел ей в ухо:
– Деда сейчас удар хватит, отвлеки как-нибудь.
Чего не отнять было у Юльки, так это мгновенной реакции и находчивости.
– Мотька, забирай ее! – скомандовала лекарка своему помощнику и, повернувшись к деду, заголосила, уперев руки в бока: – Вы что, с ума все посходили?! Девку только вчера чуть не с того света вытащили! Добить ее хотите?
– А? – Дед, окончательно растерявшись, даже не обратил внимания на то, что текст, адресованный вроде бы всем, выкрикивается в лицо ему персонально. – Чего?
– На девку! С мечом! – Юлька обличающе указала на дедову руку, все еще сжимающую рукоять оружия, и перешла уж и совсем на скандальный вопль взбеленившейся бабы. – Воевода!!! С кем воевать собрался?!!
Ростом едва по грудь сотнику, Юлька поперла на Корнея, как теща на непутевого зятя, явившегося домой поддатым.
– Ты чего, очумела? – пробормотал дед, невольно делая шаг назад и отдергивая руку от рукояти меча.
– Это вы все тут очумели со своими железками! – продолжала напирать Юлька, выпятив вперед скорее воображаемый, чем имеющийся в наличии бюст. – Постыдились бы! Из-за бабьей трепотни за оружие хвататься! Подумаешь, девки на кухне сплетничают! Я тебе еще и не такое сейчас расскажу, так ты что, лазарет на щит брать будешь? Давай, поднимай сотню в седло!
– Да погоди ты, Настена… тьфу, Юлька…
«Есть! Ну артистка, ну, талант!»
Действительно, Юлькин метод подействовал – багровость с лица деда начала постепенно сходить.
Словно по заказу, из дверей лазарета высунулся Матвей с выпученными глазами и заорал:
– Юлька, скорей! Ей совсем худо!
Получилось у Матвея не очень натурально, артистизма ему явно не хватало, но публика была не в том состоянии, чтобы это заметить.
– Помрет, на вас на всех грех будет! – выдала Юлька последний «залп» и скрылась за дверью лазарета. Аристарх сунулся было следом, но дверь распахнулась сама, и из нее прямо на старосту вылетел Роська, похоже, выставленный на улицу пинком под зад. Вслед ошарашенному Роське донесся грозный голос Матвея:
– Нельзя, снаружи ждите!
– Едрена-матрена… – дед обвел присутствующих взглядом, в котором растерянность начала снова сменяться злостью.
«Ну, сэр, готовьтесь. Сейчас их сиятельство будет стравливать давление руганью, и, конечно же, главным виноватым будете вы».
Однако на этот раз Мишка ошибся: сотник остановил свое внимание на все еще сидящем на земле Бурее.
– Ты чего тут расселся, бугай? Из-за тебя все!
– М? – удивился обозный старшина.
– Чего мычишь?! Кто орал, что убогую обидели?
– Дык… кто ж знал? – Бурей с кряхтением начал подниматься с земли. – Опять же, дозорный…
– Что дозорный?! Он человека ночью видел, но не говорил же, что Михайлу!
– Ну, не знаю… гонец от Лехи к тебе прискакал, все и подумали…
– Не «все подумали», а ты подумал!
– Ты, Корней, говори, да не заговаривайся! – вступился за обозного старшину Аристарх. – Про то, что ночью у лаза через тын человека видели, тебе дозорный сказал, про то, что с утра девки на месте не оказалось, ты сам узнал, а Бурей тебе передал только то, что бабы у колодца трепали. И то, не сам по себе, а когда ты сказал, что тебя в крепость зовут.
– Ага! Я тебе так и сказал: «Если»… – Бурей с кряхтением поднялся с земли и продолжил. – «Если, бабы правы, то, наверно, Алексей тебя из-за девки вызывает». Так я тебе сказал? Так! А ты сказал, что сопляку надобно мозги вправить. Вот я и подумал…
Что подумал Бурей, осталось неизвестным. Дед, набрав в грудь воздуха, заорал в полный голос:
– Орясина!!! Облом неприбранный!!! У тебя место-то, которым думают, есть?! Оглоблю тебе в сраку, чтоб не чесал, где не надо! Думал он, осел иерихонский! Боров драный, поперек и наискось с левой стороны, в дух, в нюх, в потроха, в…
Монолог у деда получился пространный, экспрессивный и образный – на уровне боцмана с фекального лихтера. Бурей только невнятно мычал и время от времени хватался за ушибленную голову. Роська, несмотря на всю свою набожность, шокирован не был, а прислушивался, кажется, с интересом, видимо, сравнивая ладейную и кавалерийскую школы ораторского искусства, а Аристарх млел, словно меломан на концерте органной музыки. Наконец дед не то иссяк, не то просто утомился. Выдав заключительный аккорд «цитатой из Мишки»: «Козлодуй!!!» – он умолк и с чувством плюнул Бурею под ноги.
Аристарх издевательски растроганно вздохнул и умилился:
– Ну, до чего же душевно излагаешь, Корнеюшка. Златоуст ты наш, Боян!
– Сам ты Боян! – отлаялся дед, но уже без прежней страстности. – Роська, а ты чего вылупился? Пшел вон!
Роську словно ветром сдуло.
«Приехали „спасатели“. МЧС, мать их в маковку. Нет, надо с этим цирком закругляться. Дед душу отвел, на второй заход у него, пожалуй, пороха не хватит, пора кончать».
– Деда, а мы ведь тебя вовсе не из-за Васьки вызывали. Я же не знал, что я ее украл.
– Гы-гы-гы! – снова развеселился Бурей.
«Да что ж этого урода на хи-хи пробило-то? Алексей, что ли, так удачно ему по мозгам врезал?»
– Да знаю я! – Корней досадливо махнул рукой. – Доигрались, воспитатели, туды вас поперек. Пошли отсюда… в дом, что ли, расскажешь, как все было.
«Бери ложку, бери хлеб, собирайся на обед» – пропел над крепостью рожок Дударика.
– Чего это? – удивился Бурей.
– Обед… – объяснил Мишка. – Милости просим отведать нашего хлеба-соли.
– Обед – это хорошо! – Бурей почесал живот и задумчиво склонил голову, словно прислушиваясь к своему внутреннему состоянию. – В самый раз! Вот за обедом-то все и расскажешь. Веди!
Обед завершался вполне благостно. Отроки уже поели и ушли, кухонные девки убирали со столов, а Мишка еще сидел вместе с начальством и выслушивал пространные комплименты Корнея и Аристарха кулинарному искусству Плавы.
Бурей тоже изредка издавал одобрительное ворчание, хотя внимание его было главным образом занято извлечением мозга из здоровенного мосла, преподнесенного ему в качестве десерта.
Никто, казалось бы, не замечал того, что потчует начальственных гостей не сама Плава, в чей адрес отпускаются комплименты, а Анна Павловна.
«Просто необходимо отдать должное леди Анне, сэр! Умна, несомненно, умна – вспомнила, что Бурей запорол насмерть старшую дочку Плавы по приказу лорда Корнея. Разумеется, никакими похвалами поварскому искусству это не компенсируешь, а потому, во избежание сюрпризов, отослала Плаву куда-то, и взялась командовать кухонными девками сама. Ну, а с Листвяной так и вообще, высший пилотаж! Это ж надо так подставить бабу, нацелившуюся занять вакансию свекрови! Вроде бы и появляется ваша, сэр, матушка в Ратном не чаще раза в неделю – по воскресеньям церковь посещает, а как слушок сумела запустить насчет „боярыни Листвяны“! Лорда Корнея чуть удар не хватил, он Листвяне теперь такую „боярыню“ покажет – мама не горюй! А вы еще ей про информационные войны что-то там рассказывали! Смешно-с!»
Анна Павловна ласково кивала в ответ на похвалы и просила дорогих гостей еще немного задержаться, мол, как раз подходят пироги с малиной первого урожая. Мишку такой расклад вполне устраивал, поскольку после обеда по расписанию проводилась смена дежурных десятков. В крепости был воссоздан ритуал смены караула в Советской армии, а дед весьма скептически относился ко всякого рода строевым экзерсисам, исполняемым в пешем порядке и непосредственно не связанным с боевой подготовкой.
– Господин воевода, господин воевода! – раздался со стороны входа в трапезную голос. – Сучок с пришлыми работниками подрался!
Дед недовольно обернулся, и только после этого, совершенно невпопад, последовала уставная формула:
– Господин сотник, дозволь обратиться! Дежурный урядник Антон!
«Почему Антон? Он же позавчера дежурил, следующее дежурство только через несколько дней. Поменялся с кем-то? Ага, Антоша, любишь на глазах у начальства вертеться? Еще один штришок к твоему портрету – штабным бы тебе быть. Впрочем, адъютант вам нужен, сэр Майкл, или не нужен? Тем более, что мысли о повышении урядник Антоний в вас уже возбуждал. Так почему бы и нет?»
– Что значит подрался? Сразу со всеми? – осведомился Корней. – Хотя, этот может… Ну-ка, объясни толком, что случилось?
Нинея, как и обещала, после Велесова дня прислала на строительство крепости работников. Больше сотни. Мишка в это время был в походе за болото, но Кузьма вместе с оставшимися наставниками подсуетился: разместил прибывших во второй казарме и устроил большую охоту, чтобы обеспечить дополнительную рабочую силу мясом. Охота удалась – сами работники исполнили роль загонщиков, а «Нинеин контингент» смог попробовать свои самострелы в деле. И все бы было хорошо, но камнем преткновения стал скандальный характер старшины строительной артели Сучка.
Присланные волхвой работники строителями не были, а Сучок никаких скидок на отсутствие у них опыта делать не пожелал. И вот, как назло, именно в день приезда воеводы, артельный старшина достал-таки своим хамством работников, и несколько «Нинеиных кадров» сноровисто настучали кулаками по разным частям сучковского организма, а потом, видимо для охлаждения страстей, пустили его поплавать во рву с водой.
Место, правда, выбрали неудачно – в опасной близости к желобу, по которому вода поступала на колесо лесопилки. По счастью, затянуло в желоб только шапку, а самого Сучка вытащили на плотину караульные. Плотницкий старшина отплевался, утерся и огласил окрестности зовом, который ни в какие времена не оставлял равнодушным ни одного русского мужского пола:
– Наших бьют!!!
Тут-то и выяснилось, что учеба в Воинской школе все-таки сделала свое дело. Несмотря на то, что ни одного из наставников поблизости не случилось, быстро сбившаяся в кучку плотницкая артель больше ничего предпринять не успела, оказавшись отрезанной от дреговичей дежурным десятком, грозно наставившим на плотников заряженные самострелы. Еще через минуту к дежурному десятку присоединились опричники под командой Дмитрия, на всякий случай взявшие на прицел и дреговичей, особой агрессии, впрочем, не проявлявших.
Пока конфликтующие стороны испытующе глядели друг на друга, не решаясь предпринять какие-либо конкретные действия, в крепость вбежал виновник происшествия – Сучок, но, не успев ничего сказать или сделать, был сбит с ног конем Мефодия и чуть не затоптан конями десятка Варлама, с которым Мефодий проводил занятия неподалеку от моста через ров.
Никто из наставников все еще не появился, Мишки тоже не было, и инициативу взял на себя Дмитрий, показав, что жизненные уроки (свои и чужие) не прошли для него даром.
– Закуп! – заорал он на мокрого и грязного Сучка, чудом избежавшего смерти под копытами. – Как посмел на вольных людей руку поднять?!
Сучок замер на четвереньках, так и не успев подняться на ноги, над крепостью повисла настороженная тишина. Дмитрий с опаской покосился на плотников – не собираются ли те защищать своего шефа, – и скомандовал, указывая на плотницкого старшину:
– Младший урядник Филипп! Взять! В темницу его!
Обвел взглядом всех собравшихся и заключил:
– Все по местам, ждать решения господина воеводы! Хоть один в драку полезет, прикажу стрелять!
– Сучок живой, не покалечен? – деловым тоном осведомился у Антона дед.
– Так точно! Живой, – бодро отрапортовал Антон. – Артельщики с пришлыми чуть стенка на стенку не пошли, но мы их самострелами пугнули и развели, а Сучка старшина Дмитрий приказал в темницу посадить.
– Кхе! Молодцы!
– Рад стараться, господин воевода!
– Сучка оставить в темнице, Дмитрию присматривать за порядком. – распорядился Корней. – Мы здесь закончим и придем. Ступай.
– Слушаюсь, господин воевода!
– Кхе! Доигрался лысый дурень. Что делать станешь, Михайла?
– Я уже сделал все, что мог. Пока Нинея работников не прислала, Сучок себя прилично вел. Знаешь, деда, наверно, надо уже твою власть употребить – и для дреговичей, и для артельщиков твое слово весомее будет.
– А сам, значит, ничего измыслить не можешь? – Дед насмешливо прищурился. – Что ж так?
– А вот так, – Мишка сожалеюще вздохнул и развел руками, – моего внушения ему только на пару дней хватает, а потом опять начинается. Может, ты его на дольше угомонить сможешь?
– Кхе! Ладно, разберемся.
Как Корней разбирался с Сучком, никто не видел, но из темницы плотницкий старшина вышел тише воды и ниже травы, скособочившись и прижимая ладонь к правому боку. Выражение лица он имел совершенно несчастное, даже лысина не блестела на солнышке, словно припорошенная пылью. Гвоздь тут же повел его под руку в плотницкое жилье, а Нил отправился на кухню, добывать у Плавы нечто жидкое, согревающее душу. Экспедиция имела реальные шансы на успех, поскольку по крепости уже давно ходили слухи о благосклонности шеф-повара Младшей стражи к «специалисту по оборонным сооружениям».
Глава 2
Август 1125 года. База Младшей стражи
Следующий день в крепости начался с казни. Никакой особой судебной процедуры для урядника Бориса сотник Корней организовывать не стал. Просто объявил выстроенному на берегу Пивени личному составу, что за покушение на жизнь боярича Михаила урядник Борис прямо сейчас будет казнен, и пояснил, что казни острым железом он, не будучи ни воином, ни зрелым мужем, не достоин.
Возле парома, лежа одним краем на низком берегу, притулился плот, на плоту были укреплены два столба с перекладиной, а с перекладины свисала веревка с петлей.
«Так вот куда Бурей вчера отлучался – Сучку виселицу заказывал! Дед заранее все решил, а о том, что к несовершеннолетним смертная казнь применяться не должна, ЗДЕСЬ ни у кого и в мыслях нет. В том числе и у вас, сэр, не сочтите за попрек, подобная мысль даже не возникла, когда вы Амфилохия убивали».
Бурей вывел на берег Бориса со связанными за спиной руками, подталкивая в спину, провел через паром и вытолкнул на плот. Парень озирался, словно не понимая, что происходит, или не желая в происходящее верить. Так, кажется, и не поверил до самого конца – во всяком случае, обреченным он не выглядел. Может быть, надеялся, что только пугают? Обозный старшина поставил его прямо под веревкой, сноровисто связал ноги и вопросительно уставился на Корнея и Мишку, возвышавшихся в седлах позади строя учеников Воинской школы.
– Командуй! – негромко произнес сотник.
– Деда, я…
– Командуй, говнюк! – зло прошипел дед, толкая внука локтем в бок. – Я за тебя вершить должен?
«Господи! Как командовать-то? Нет, ну нельзя же так…»
Получив еще один толчок в бок, Мишка все же поднял руку и махнул ей в сторону плота с виселицей. Бурей недоуменно дернул головой и снова уставился на деда с внуком.
– Голосом! – снова зашипел дед. – Давай, Михайла! Пусть это угребище хоть раз ТВОЙ приказ выполнит.
Мишка прокашлялся и, сам не замечая, что до боли вцепился пальцами в поводья, вытолкнул из глотки царапнувший наждаком крик:
– Исполнять!
Бурей снова недоуменно дернул головой, потом пожал плечами и, обхватив Бориса одной рукой поперек туловища, приподнял парня, а другой накинул ему на шею петлю. Еще раз оглянувшись на всадников, отпустил приговоренного и отступил на шаг назад. Борис, выпучив глаза и синея лицом, забился в воздухе. Молодое, здоровое тело не желало умирать, изгибалось, дергалось, раскачивалось, казалось, что эти конвульсии длятся уже вечность и никогда не закончатся.
– Бурей!!! – хлестнул над головами дедов окрик.
Горбун слегка присел и по-обезьяньи подпрыгнув, обхватил тело Бориса руками и ногами, повиснув на нем всей тяжестью. Мишке послышалось, что даже сюда – метров за пятнадцать-двадцать – донесся хруст шейных позвонков.
«Господи, сейчас голова оторвется… Да что ж он творит!»
Бурей припал ухом к спине повешенного, как будто прислушиваясь к тому, как из тела уходят остатки жизни. Глаза закрыты, рот ощерен – урод наслаждался!
– Бурей!!! – Только после того, как палач отпустил тело казненного, до Мишки дошло, что кричал не дед, а он сам. И, что самое удивительное, тон совершенно не соответствовал тому, что переживал Мишка – не истерический вопль (лишь бы прекратить кошмарное действо), а требовательный начальственный окрик.
Обозный старшина перескочил на паром, отвязал чалки, оттолкнул плот с виселицей и остался стоять, провожая его взглядом: казалось, он вот-вот помашет вслед уплывающему мертвецу рукой, желая счастливого пути. Мишка оторвал наконец взгляд от гориллообразной фигуры и посмотрел на «курсантов». Строя не было, на берегу топталась стоящая рядами толпа – кто-то согнулся в приступе рвоты, кто-то, похоже, брякнулся в обморок, и его поддерживали соседи, от того места, где стояли девки, донесся звук истерического рыдания.
Сатанея от собственного крика, Мишка заорал что было мочи:
– Школа, становись! Равняйсь!
Какое там равнение! Толпа продолжала бестолково топтаться на месте, а девки, подгоняемые матерью, двинулись к мосту через ров, как отара перепуганных овец. Мишке вдруг, до дрожи в руках, захотелось пустить веером над головами длинную очередь из автомата, чтобы все попадали и наконец-то угомонились, а потом садить до полного опустошения рожка в горбатящуюся на краю парома уродливую тушу Бурея. В себя его привел очередной толчок в бок, сопровождающийся голосом деда:
– Очнись! Не слышат же тебя, дурила!
– Сейчас услышат…
Мишка соскочил на землю, взвел самострел, наложил учебный болт без наконечника и, найдя глазами спину Дмитрия, выстрелил так, чтобы удар пришелся тому по шлему вскользь. Дмитрий от неожиданности присел, потом оглянулся.
– Старшина Дмитрий!!! – заорал Мишка. – Куда смотришь?! Урядники команды не слушают!!!
Дмитрий понятливо кивнул и побежал вдоль строя, покрикивая и раздавая тумаки. Мишка вернулся в седло и снова скомандовал:
– Школа!!! Слушай мою команду!!! Кру-гом!!!
Повернулись. Почти все.
– Р-равняйсь!!! Смирно! Отставить! Кто там стоять не может? Вон из строя! Левый край, подравняться! Младший урядник Силантий! Ну-ка, дай этому оболтусу в ухо, чтобы в себя пришел! Равняйсь! Смирно! Нале-во! По местам занятий, шагом, ступай!
Пока «курсанты» уныло тащились мимо, Мишка, ощущая обожженным виском испытующий взгляд деда, сидел в седле выпрямившись, сохраняя спокойное, даже слегка надменное выражение лица, но как только рядом послышалось сопение Бурея, верхняя губа сама задралась, обнажая зубы, а рука зашарила в подсумке.
«Самострел взведен, сейчас я его… вон туда, где у всех людей переносица, а у этого Квазимодо яма. Черт… почему все болты без наконечников?»
– Ты с чего это, сопля мелкая, командовать взялся? – прохрипел Бурей, глядя в упор на Мишку.
– А с того, Буреюшка, – отозвался вместо внука дед, – что Михайла тебя бояться перестал!
– Гы! Это что же, мне его теперь бояться?
– Бойся, Буреюшка, бойся. Не велел бы я Роське болты подменить, лежал бы ты сейчас мертвенький на бережку, с дырочкой в головушке буйной.
– И за что ж? – Бурей подбоченился и смерил сотника взглядом от копыт коня до головного убора. – За то, что твой приказ исполнял?
– За то, что с радостью, Буреюшка. За удовольствие, вишь, платить иногда приходится.
– Ну, так и вешал бы сам… со слезами.
Что-то в словах деда обозному старшине не понравилось. Очень не понравилось. Было такое ощущение, что короткая реплика Корнея имеет отношение к какой-то давней истории, которую Бурею вспоминать очень не хочется. Он хоть и не опустил упертую в бок руку, утратил вызывающий вид, зыркнул глазами в сторону и совсем иным тоном спросил:
– Значит, все-таки вырастил Лиса, Корней?
Был в этом вопросе какой-то подтекст, как будто горбун говорил об ожидаемом, но очень нежелательном событии.
– Внука, – поправил дед. – И не вырастил еще, а ращу. Внука, я тебе уже объяснял… Михайла! Не трожь кинжал! А ты, Буреюшка, ступай… обоз Младшей стражи проверь, что ли. Да построже там, только рукам воли не давай, хватит с тебя уже сегодня.
– Ну-ну, посмотрим.
Что собирался посмотреть обозный старшина, так и осталось неясным – то ли порядок в хозяйстве Ильи, то ли кого вырастил Корней. Бормоча себе что-то под нос, Бурей покосолапил в сторону крепости.
– Деда, откуда ты знал? – спросил Мишка, когда уродливая туша обозного старшины отдалилась на достаточное расстояние.
– Чего ж тут не знать? – дед вздохнул, перебирая поводья. – Поживешь с мое… Роську не ругай.
– За что ж ругать-то? Он твой приказ выполнил.
– А то я тебя не знаю! Кхе… Если не за исполнение приказа, так за то, что не предупредил, ругать будешь!
– Не буду. А почему Юлька с ЭТИМ, как с человеком, разговаривала? И он с ней… ласково.
– Кхе! А я думал, ты все про всех знаешь! Настена когда-то это чудище разговаривать научила.
– Разговаривать?
– Ага. Он годов до восемнадцати половины звуков выговорить не мог – больше фырчал да булькал, а она – дитем еще была, младше тебя – вылечила! Сам не видел бы, не поверил. Он ни «ч», ни «ш» произнести не мог – «фы» получалось. А Настена взяла ложку, засунула ему черенком в пасть и говорит: «Скажи „Ать“. А он: „Ачь“» – и сам обалдел: впервые в жизни «ч» сказал! Так постепенно и выучила. Он ее с тех пор чуть ли не матерью родной почитает, любого за нее порвет. И за дочку ее тоже. Не дай бог кому их обидеть!
– Непонятно как-то получается, деда. Настена все время вспоминает, как ее мать по наущению попа сожгли, и боится, что и с ней такое же случиться может. А чего ей бояться, если у нее такой защитник?
– По наущению попа… А как ты думаешь, кого раньше слугой Нечистого посчитали бы, Настену или Бурея? То-то и оно!
Дед стащил с руки латную рукавицу, помассировал рассеченную бровь и неожиданно добавил:
– Может быть, как раз ты его и убьешь… и рука не дрогнет, и совесть мучить не будет.
– Я?
– А кто только что то за самострел, то за кинжал хватался? Жизнь, она такая… не зарекайся.
Дед и внук помолчали, провожая глазами медленно уплывающий по течению плот.
– Кхе, завтра к вечеру до Ратного доплывет, если не застрянет где-нибудь.
– Да уж, увидят там зрелище. Представляешь, деда, как он выглядеть будет? Птицы расклюют, может быть, мелкое зверье доберется…
– Угу, под мостками не пройдет, зацепится, придется кому-то пропихивать…
– Так, может быть…
– Хватит языком трепать, делом надо заниматься!
Дед сердито посмотрел на внука и вдруг спросил:
– Ты как по тревоге переправляться собираешься?
– Как переправляться? На пароме, еще две лодки есть.
– Ты чем слушаешь, Михайла? Я сказал: «по тревоге». У тебя на пароме сколько народу помещается? Человек тридцать? Это если пеших и битком набить, а всадников не больше шести-семи. Телега только одна. Так сколько ты здесь возиться будешь, пока все переправятся? А я сказал: «по тревоге», значит, быстро!
– Да, это я не подумал, деда.
– Вот и думай! А я поехал.
«К чему это он? Думайте, сэр Майкл, коли приказано, лорд Корней просто так ничего не говорит. Сначала… сначала он про плот заговорил, мол, завтра к вечеру… если не застрянет. Картинку в Ратном, конечно, узреют еще ту. А потом про переправу. Да, сэр, тут вы маху дали. Или мост строить надо, или брод искать. Рядом бродов нет, уже проверяли, придется на лодках вверх и вниз… Блин, на лодках! Ну, дед!»
Мишка дал шенкеля Зверю и, въехав на мост через ров, крикнул стоящему на страже «курсанту»:
– Где дежурный десятник?
– Только отошел, боярич, позвать?
– Зови!
Часовой сунул пальцы в рот и пронзительно свистнул.
– Все, больше смотреть не на что! Давайте все по местам! – донесся справа и сверху голос Нила.
Нинеины работники столпились на недостроенных стенах, чтобы поглазеть на казнь, и расходиться, похоже, не торопились.
«Однако же, неужели среди работников не было ни одного односельчанина Бориса? Семьдесят парнишек и больше сотни работников… И среди них ни одного знакомого или родственника, пусть и дальнего? Как же это Нинея так народ подобрала, Погорынье-то не беспредельно?»
– Боярич! Дежурный урядник Климентий!
Клим явился на свист почти сразу, действительно был где-то недалеко.
– Пошли кого-нибудь или сам найди мне младшего урядника Нифонта и пришли сюда, – распорядился Мишка, – я вон там ждать буду.
– Слушаюсь, боярич.
Мишка отъехал немного в сторону, спешился и принялся бродить по берегу туда-сюда.
«Так-так-так, сэр. Намекал на что-то лорд Корней, или у вас уже паранойя потихоньку развивается? То, что он втайне поклоняется Перуну и состоит в языческом братстве под псевдонимом „Корзень“, для вас не секрет. Оставлять покойника на растерзание зверью и птицам не считают возможным ни христиане, ни язычники, правда, хоронят по-разному. Мест для казни на Руси специальных не содержат, по крайней мере, вам, сэр, об этом ничего неизвестно. В общем-то, и не удивительно – по Русской Правде Ярослава Мудрого даже за убийство положен штраф, а не казнь. Казнят вообще редко и либо на льду, либо вот так, как сегодня – на плоту. Вода скорбное место смоет и унесет, но это не значит, что покойника надо оставлять не погребенным. Вроде бы все правильно».
– Боярич, младший урядник Нифонт по твоему приказанию явился!
– Значит так. Назначаю тебя урядником…
– Не хочу! – Нифонт отвел взгляд в сторону и набычился.
– Как это не хочешь?
– После этого, – Нифонт мотнул головой в сторону того места, где еще недавно стоял плот с виселицей, – меня совесть заест. Получается, что я на чужой беде…
– Да? А кто, кроме тебя, ребят от дури удержать сможет? Ну, называй имя!
– Не знаю… но урядником не буду, можешь меня, как Плоста…
– Дурак! Ты и так десятком командуешь – урядников, кроме тебя, не осталось. Пока ты тут капризничаешь, плот все дальше уплывает.
– Что?
– Ты думаешь, я не знаю, что вы Пахома и Амфилохия по-своему, а не по-христиански обихаживали?
– Ну, обихаживали! Наказывай.
– Надо будет, накажу, а пока слушай приказ, урядник Нифонт.
– Да не буду я…
– Молчать, когда боярич говорит! Господин воевода попрекнул меня тем, что на пароме мы быстро в случае нужды на тот берег переправиться не сможем. Мост строить долго, значит, надо искать брод, хотя бы для конных. Приказываю тебе, урядник Нифонт, взять две лодки и отправить своих людей искать брод. На одной лодке вверх по течению, на другой – вниз. Сам поплывешь в той лодке, которая пойдет вниз. Понял меня?
– Слушаюсь…
– Я спрашиваю: ты ПОНЯЛ меня?
– Понял… – Нифонт наконец-то поднял глаза и глянул на Мишку в упор. – Так точно, боярич!
– Вот и ладно. К обеду постарайся вернуться и языком особенно не трепли. Исполнять!
На въезде в крепость Мишку перехватил Аристарх, почему-то верхом, словно уже собрался уезжать обратно в Ратное.
– Погоди-ка, Михайла, не торопись! Алексей с Ильей все, что надо, Корнею сами покажут и расскажут, а мне с тобой потолковать надо.
– Так, может, присядем где-нибудь в сторонке? – покладисто предложил Мишка. – Чего посреди двора торчать?
– Да погоди ты присаживаться, едрен дрищ! – в тоне Аристарха прорвалось раздражение. – Может быть, как раз ехать придется! Ну-ка, скажи мне: как ты перед волхвой за трех покойников оправдываться собираешься?
– Никак не собираюсь! Воинское преступление в воинском поселении – мы в своем праве, а боярыню Гредиславу я уже давно упреждал: десятки собраны неверно, рано или поздно беда случится. Не вняла, значит, теперь мы любые средства применять можем.
– Боярыня Гредислава… – Аристарх покривился, словно ему это имя чем-то сильно не нравилось. – А что, десятки и вправду неправильно собраны? Это ты сам решил или кто-то из старших подсказал?
– И сам решил, и наставники согласны. Алексей, Филимон, Глеб…
– Ладно, ладно… – Староста жестом остановил перечисление и задал новый, совершенно неожиданный вопрос: – Почему волхва упорствует, как считаешь?
– Ну, тут только гадать можно…
– Так погадай! – тон Аристарха становился все более требовательным. – Давно бы уже задуматься пора: с чего бы это волхва опытным воинам в воинских же делах перечит?
– Я думаю, что раз каждый десяток в одном каком-то селище набран, то Нинея надеется их здесь выучить, а потом выученных здесь воинов в каждом селище наставниками сделать. Сразу десять обученных воинов с десятником… они же и сотню обучить смогут. Конечно, сотня получится не ратнинской чета, но все равно…
– М-да… – Аристарх был явно не согласен с Мишкиной версией, но спорить не стал, а заговорил, на первый взгляд, совершенно о другом. – Ты вот все время ждешь, когда я тебя Перуновой премудрости обучать стану. Что ж… вот тебе первый урок. Когда все дружно куда-то в одно место глядят, надо не туда же, куда и все, пялиться, а внимательно посмотреть на самих глядящих. Очень много полезного и интересного узреть можно.
«Угу, как в старом анекдоте: „Секс – сто долларов, наблюдение за чужим сексом – триста долларов, наблюдение за наблюдающим – тысяча“. И причем здесь Перун?»
– Понимаю, что во время казни тебе не до того было, чтобы Нинеиных работников разглядывать, а я вот поглядел…
Аристарх сделал паузу, словно ожидая от Мишки какого-то комментария, и, не дождавшись, снова повторил недовольно-многозначительное:
– М-да… едрен дрищ…
«Да что ж ему надо-то? Похоже, вы, сэр, в чем-то крепко обмишурились, и именно в ипостаси Окормли! Когда? В чем?»
– А скажи-ка мне, как ты мыслишь, – продолжил ратнинский староста, – можно ли найти в Погорынье семь десятков отроков и более сотни работников, да так, чтобы они между собой не только знакомы не были, но даже и в каком-нибудь дальнем родстве не состояли?
«А ведь точно! Позвольте вам заметить, сэр, вы болван, и работать вам только кассиром в платном сортире! Нинеины работники на казнь, как на зрелище, глазели – как будто Борис для всех совершенно чужим был, не только не родственник, но даже и не земляк!»
– Каюсь, батюшка Туробой, проморгал. Надо будет у Кузьмы спросить: привозили ли работники отрокам гостинцы от родителей, передавали ли…
– Не надо, – перебил Аристарх, – я уже спрашивал. Не было ничего, как на чужих смотрели. Ребятишки было сунулись, видать, лица знакомые увидали, но их тут же урядники окоротили, а где урядники оплошали, там Красава управилась. Мне Тит рассказал – как змея шипела, и отроки от нее, как от змеи, шарахались. Вот так-то…
– Ничего не понимаю…
– Ой ли? Сам ведь то же самое творишь! – Лицо Аристарха вдруг приняло такое выражение, что было совершенно непонятно: то ли он осуждает Мишкины действия, то ли одобряет. – Кто дело к тому ведет, чтобы отрокам прежнее житье скучным и серым показалось, чтобы будущее они себе мыслили только в твоей сотне? Не ты ли?
– Э-э… ну, так. Да… а Нинея-то тут причем?
– А всего-то и разницы между вами, что ты свое дело исподволь, медленно и незаметно творить стараешься, а она единым махом сотворила! Не понимаешь?
– Н-нет…
– Она ребят из родов НАСОВСЕМ забрала! Без возврата! По ним родня тризну справила, как по покойникам! И это немного и твоих рук дело!
– Как это? – Мишка почувствовал себя совершенно ошарашенным. – Я, наоборот, после года обучения собирался их домой на побывку отпустить!
– А кто настаивал на обязательном крещении? Вот и получается: дома с ними простились навсегда, а здесь другие имена дали. Все! Нет уж больше тех отроков на свете!
– Но я же не знал… даже и подумать не мог…
– Не мог он, едрен дрищ… не захотел ты подумать как следует, поленился!
Аристарх обличающе уставил в Мишку указательный палец и передразнил:
– По десятку воинов в каждом селище! Тьфу! Да с чего ты взял, что Велесова волхва будет мыслить и рассчитывать так же, как ты думал бы и рассчитывал на ее месте? Она, может быть, раз в десять тебя старше и знает такое, что тебе и не снилось!
– Но как-то же ее намерения надо себе представлять! – уперся Мишка. – Иначе же только и жди какой-нибудь неожиданности.
– Это верно, – Аристарх внезапно успокоился и заговорил уже другим тоном: – Ну, хорошо, вот я тебе об отроках объяснил, и как ты теперь понимаешь ее нежелание перемешивать десятки?
– Теперь? – Мишка на некоторое время задумался, Аристарх терпеливо ждал. – Я так думаю, что совсем-то власть над своими отроками она терять не хочет, а единственное, что их теперь с прошлой жизнью, а значит, и с Нинеей, связывает, это их землячества – отроки односельчане. Если с родней навсегда распростились, и имена у них теперь другие, и жизнь другая, то парни, с которыми они с детства знакомы, сейчас для них стали как братья кровные. И еще одно: я думаю, что втайне они все-таки рассчитывают домой вернуться. Пусть нескоро, пусть не все… Наверняка же представляют себе, как въезжают в родное селище на лихом коне, в дорогом доспехе, с богатой добычей и как их встречают…
– Так, правильно, – Аристарх согласно покивал. – А разрешить им вернуться может только волхва, значит, привязаны они к ней крепче, чем веревкой. А теперь, парень, вспоминай: с чего наш разговор начался?
– Ты спросил, как я буду за убитых отроков оправдываться, а я сказал… ой!
– Вот именно, что ой. Их НАДО было убить! Это не право твое было, а обязанность! Если они все в своих десятках как братья стали, а два дурака друг на друга оружие подняли, то поступать с ними надлежало, как с бешеными собаками! И ты это понял, и ты это сделал, и волхва понимание твое оценить по достоинству должна!
– Но я же не понял…
– А она об этом знает? Поступил-то ты верно! Значит, и намерения ее верно разгадал!
– Да чего я там разгадал… хотя…
– Ну-ну! – подбодрил Мишку Аристарх. – Давай, выкладывай, что ты там надумал!
– Выходит, что ей нужно войско. Обученное, опытное, послушное своим командирам, но, когда придет пора, готовое выполнить ее и только ее приказ. А когда такая пора настанет, знает только она и больше никто! Это, наверно, как у тебя… как у нас в братстве – живет себе Ратное, ни о чем таком не думает, сотник, староста, сход, да старики с серебряными кольцами делами правят, но есть и Перуново братство. Пока нужды в том нет, оно ни во что и не вмешивается, но если нужда возникнет, то и поперек сотника…
Мишка осекся и уставился на Аристарха, а тот, словно дождавшись, когда Окормля наконец-то додумается до очевидной истины, криво ухмыльнулся и кивнул головой.
– Вот именно! Дошло наконец? И что теперь делать прикажешь, сотник? Соревноваться с Нинеей, кто больше отроков под себя подгребет, и дожидаться, когда по тайному приказу они друг на друга кинутся?
– Так ты для этого меня и опричников в Перуново братство посвятил? Чтобы была сила, противостоящая… – Мишка не договорил, заметив, как досадливо поморщился Аристарх.
– Ты, парень, вообще, слушаешь, что я говорю, или, как глухарь, токуешь? Какая, к лешему, «противостоящая»? Забыл, что в Писании сказано о народе, разделившемся внутри себя? Тем паче такое непотребство в войске допускать…
– Хватит!!! – Мишка даже сам не ожидал, что лисовиновская ярость полыхнет в нем так внезапно и сильно. – Рыжего из меня делаешь?!! То Перун, то Христос, сам-то соображаешь, чмо флюгерное… туды вас всех с вашими богами, святыми и юродивыми, уже и небо в барахолку превратили…
Аристарх, вроде бы удовлетворенно, кивнул в ответ на Мишкину ругань, а потом отвесил ему такую затрещину, что чуть не вышиб из седла. Мишка покачнулся и уронил на землю шлем, который придерживал рукой на передней луке седла.
– Молод еще на старших голос повышать! – Аристарх резко осадил своего жеребца, который вдруг нацелился цапнуть зубами Мишкиного Зверя. – А ты не балуй! Умные все стали, куда вас только девать таких?..
Злость требовала двигательной активности, и Мишка, повторяя цирковой номер, свесился со спины Зверя и подхватил с земли упавший шлем, но этого, видимо, оказалось недостаточно – поднявшись обратно в седло, он почувствовал прямо-таки непреодолимое желание, держа шлем за бармицу, огреть им Аристарха, как кистенем.
– Даже и в мыслях не держи, детеныш! – Староста как-то так повел плечами, что стало понятно: Мишка даже и замахнуться как следует не успеет. – Пока Корней здоров был, я у него три поединка из пяти выигрывал!
– Едрит твою…
Мишка все-таки готов был рискнуть, даже слегка приподнялся на стременах, пружиня ноги и отслеживая взглядом движения Аристарха. Вроде бы сделал все правильно, но удар все-таки проворонил.
– Опа!
Практически не пошевелившись верхней частью тела, ратнинский староста пнул ногой Мишкиного Зверя так, что тот шарахнулся в сторону, чуть не сбросив всадника, а сам Мишка снова уронил шлем на землю.
– Поднимай! – хлестнул командой Аристарх.
Матерясь сквозь зубы, Мишка снова нырнул к земле, а едва выпрямился, вздрогнул от щелчка кнута возле самого лица.
– Бросай и снова поднимай! – от второго щелчка шевельнулись волосы на макушке. Пришлось подчиниться.
Аристарх еще несколько раз заставил Мишку бросить и поднять шлем, и только заметив, что у того кровь прилила к голове и сбилось дыхание, прекратил «воспитательный процесс».
– Вот так-то вас, молодых да борзых! А ты – ничего: в седле ловок и конягу правильно воспитал – стоит как вкопанный и даже помогает телом.
– Все равно… – Мишка, чувствуя, как пылает от прилива крови лицо, старался выровнять дыхание, – все равно, нельзя так! То Перун, то Христос… я-то стерплю, а у отроков ум за разум заходит…
– А ты объясни!
– Да что я им объясню, если сам не понимаю?
– Это от незнания, ничего страшного… – Аристарх вдруг уставился на Анну Павловну, вышедшую на крепостной двор в сопровождении стайки девиц. – Ну вот, я же говорил: ехать придется.
– Куда ехать? – только сейчас Мишка понял, что его «упражнения со шлемом» наблюдала куча народу, и скрипнул зубами от стыда и досады.
«Как последнего сопляка… у всех на глазах… Туробой драный…»
И снова Аристарх все понял без слов.
– Ничего-ничего! Не смущайся. Многие ли могут так, как ты, столько раз подряд в доспехе с седла до земли свеситься и обратно подняться? И у многих ли конь так выучен? Ты им сейчас показал, что до твоей стати еще учиться и учиться.
– Ага, под кнутом! – не удержался Мишка.
– А и под кнутом! – согласно кивнул Аристарх. – О почтении к старшим тоже лишний раз напомнить полезно.
– Так куда ехать-то? – Мишка решил далее не развивать неприятную тему, тем более что физическая нагрузка действительно погасила злость. – Ты сказал, что вот, теперь ехать придется…
– А ты сам-то, не видишь, что ли? Нет, ну куда это годится? – Аристарх досадливо шлепнул себя ладонью по бедру. – Я в крепости первый раз и вижу, а ты здесь постоянно обретаешься – и как слепой! На матушку-то свою внимательно посмотри! Ну? Ничего не замечаешь?
– А что замечать-то? – Мишка недоуменно пожал плечами. – Обычное дело: девки на занятия идут… Одеты для верховой езды, направляются к собачьим клеткам, значит, где-то там их Прошка ждет, и будут учить щенков бегать рядом с конем хозяйки и выполнять разные команды, но так, чтобы под копыта не попасть…
– И все?
– Вроде бы… А! Савва рядом с матерью тащится, значит, Красава куда-то… да не куда-то, она наверняка к бабке побежала про казнь рассказывать!
– Вот, значит, и нам с тобой тоже туда съездить надлежит, а то бабы совсем страх потеряли, пора мозги вправлять… – Видимо, заметив Мишкино удивление, Аристарх счел нужным пояснить: – Чем дольше нет войны, тем больше мир становится бабьим. У них ведь норов какой? Тихо да незаметно, но все по-своему поворачивать, и только тогда, когда железо звенеть начинает… М-да, сам понимаешь. Так что, время от времени войну дома устраивать надо – бабьему племени укорот давать, не то вовсе на шею сядут и ножки свесят.
Вот и нынче… тебе-то, по молодости лет, может, и незаметно, а задумайся-ка. Нинея в воинское обучение встревает? Хоть и неявно, но встревает! Настена как-то по-своему жизнь в Ратном повернуть норовит? Норовит… Нет, я не говорю, что во вред, от Настены Ратному польза великая, но ведь по-своему, по-бабьи все поворачивает! Да и Анюта… матушка твоя, тоже… чуть ли не святая покровительница Воинской школы, и, того и гляди, сама в это уверует да повелевать возьмется… Ты-то ведь не управишься с ней, одна надежда на Алексея… впрочем, об этом с самим Алексеем и поговорим. А вдобавок к этому всему и еще одна болячка вылезла – Листвяна… боярыня, едрен дрищ, чтоб ее! – Аристарх в сердцах сплюнул. – Когда-никогда, а дед тебя женит, вот тогда-то и поймешь бабью повадку – жена десятника почему-то воображает, что и она знает, как с десятком надобно управляться, жена сотника – с сотней, княгиня… ну, не знаю – не видал, но думаю, что и княгини мужьям потихоньку плешь протирают насчет того, как вернее дружиной править. А если не жена, то мать, а если не мать, то теща… а это и вовсе мрак и ужас. Помню, Аграфена Кирюхина с чего-то на Луку Говоруна взъелась, так… гм, ладно. Нынче Нинею вразумлять будем. Ты, если что, меня прикрыть сможешь, как отца Михаила тогда прикрыл?
– Не знаю… – Внезапный переход от темы бабьих происков к проблеме боевой магии несколько сбил Мишку с толку. – Смогу, наверно, да только не понадобится, скорее всего, ну, не захочет же Нинея с ратнинской сотней ссориться?
– Не захочет-то не захочет, а ты все же поглядывай… мало ли что. А сейчас вели опоясанным отрокам переправляться на тот берег, с собой их возьмем.
– Неладно выйти может, батюшка Туробой! Первым десятком Роська командует, а он так в христианство впал… даже прозвище «Святоша» заработал. Ты же, как я понимаю, с Нинеей от Перунова братства говорить собираешься? Если так, то Роське там делать нечего… И еще одно, тоже важное: Роську Нинея однажды уже завораживала – заставляла детство раннее вспомнить, имя свое, родителей. Он Нинее легко поддаться может.
– Вот как? – Аристарх нахмурился. – Чего ж Кирюха-то меня не предупредил? Или ты ему не рассказывал?
– Рассказывал, он запамятовал, наверно. Только это еще не все! Как же все-таки с христианским воспитанием отроков быть? Ну, нельзя же так им умы смущать! Плохо кончиться может.
– Да? – Аристарх издевательски ухмыльнулся. – И сильно у тебя ум смущен оттого, что ты промеж Нинеей, Настеной и попом нашим болтаешься? Или ласковое телятя трех маток сосет?
– Я – другое дело… – начал было Мишка и осекся.
– Это какое же другое?
«Во, влип, блин! Не объяснять же ему… Господи, взрослые люди, а как дети малые, в сказки верят и всякой хренью маются. Нет, лучшая оборона – нападение: сам такой!»
– Я верю в то, что Настена говорит: ОНИ там, – Мишка указал пальцем на небо, – как-то между собой разбираются, а до наших мелких дрязг ИМ дела нет! Это, по-моему, верно. А вот то, как ты нас в Перуново братство посвящаешь и тут же, как давеча Юльку, в христианском благочестии наставляешь, уж не сочти за дерзость, непонятно и неправильно!
– Угу… – Аристарх, кажется, не только не обиделся, но даже развеселился. – И думаешь, что уел старика? Нет, парень, мало ты еще знаешь, вернее сказать, знаешь только то, что и другие знают, а для сотника младшей дружины этого маловато, тем более – для Окормли, коему я свои дела передать собираюсь. Так что, давай-ка, командуй, чтобы твои опричники, но без Роськи, перебирались на тот берег, да вели еще, чтобы посох волхва из Отишия с собой прихватили… Смогут без тебя его найти?
– Роська знает, где он лежит.
– Вот пусть и отдаст его… кто там за старшего будет?
– Урядник Степан.
– Вот ему пусть и отдаст, а мы, пока они собираются, на том берегу переговорим.
Отъехав немного от перевезшего их на другой берег Пивени парома, Аристарх указал большим пальцем руки себе за спину и спросил:
– Видал? Лодки в разгоне, так они ради сопливой девчонки паром не поленились гонять! И даже разрешения не спросили ни у тебя, ни у дежурного урядника! Это дело? Ты себе представить можешь, чтобы в Ратном Настена могла хоть что-нибудь дежурному десятку приказать?
Мишка вместо ответа пристыженно молчал, уставившись в пространство между ушами Зверя.
– Молчишь? Правильно молчишь! – прокомментировал Аристарх. – Нечего тебе ответить! Эти, которые у парома, Нинеины отроки?
– Нет, батюшка Туробой… – Мишка прокашлялся, потому что собственный голос показался ему до отвращения детским. – Четвертый десяток, из куньевских ребят, урядник Климентий назначен во время похода за болото вместо Демьяна.
– Значит, даже и не Нинеины, а Красава ими командует, как хочет? – Аристарх подбоченился и грозно сдвинул брови. – Так кто же здесь главнее, ты или Нинеина сучка? Да, видать, раньше мне надо было к вам приехать! Все Корней: «Сами позовут, сами позовут…» Тьфу! Позовут они! Даже не видят, что у них под носом творится!
«Как по учебнику: неформальный лидер в некоторых вопросах оказывается влиятельнее руководства, а личному составу это представляется вполне естественным. Красава-то, конечно, не сама по себе, а всего лишь проводник воли Нинеи, но отрокам и этого достаточно. И ведь единственная, кто Красаву сразу невзлюбил – Юлька! Рыбак рыбака, как говорится… А вы-то, сэр, возомнили: „из-за меня девки поцапались“, хотя, как посмотреть – одно другому не помеха. Во всяком случае, девчоночья драка – не частный случай, а лишь индикатор, надводная часть айсберга противостояния сил, претендующих на неформальное влияние в Воинской школе. Противостояние Нинеи и Настены?
А мать? Неужели не участвует? Судя по тому, как она подставила Листвяну, стравить Юльку и Красаву ей квалификации должно хватить с запасом. Что там господин бургомистр толковал насчет баб, пытающихся через мужей влиять на воинские подразделения? Как раз ведь про маман и мистера Алекса получается! И… ведьмочка Красава – проводник воли Нинеи, мисс Джулия – проводник воли Настены, а леди Анна? Да конечно же, тут без падре Мигеля не обошлось! Она же одна из самых примерных его прихожанок! У-у, как все запущено! А вы-то, сэр, со своим скептическим атеизмом и принципиальным, да что там – высокомерным! – нежеланием обращать внимание на бабьи склоки, прощелкали клювом все на свете!
И тут появляется маэстро Туробой, олицетворяющий во всей этой мистически-интриганской каше сугубо мужское начало! Кхе! Как раньше писалось в ремарках к театральным пьесам: „Действие третье, явление второе. Те же и полицмейстер“. Да! У него же тоже свой человек возле Нинеи имеется – жена, старостиха Беляна! Опупеть можно, старик Шекспир такого не накручивал!
Погодите веселиться, сэр Майкл, Шекспир Шекспиром, но Туробой не волхв, он заведомо слабее Нинеи, но, тем не менее, явно собирается закатить волхве скандал, недаром же спрашивал, сможете ли вы его прикрыть. То есть сознательно идет на риск, так же, как в тот раз шел на риск отец Михаил. Действительно опупеть – народ чуть ли не в очередь записывается грудью на амбразуру лечь.
Будет вам изгаляться-то, сэр, не смешно! Мужики вполне серьезно головы решаются подставить, и все из-за вас, любезнейший! Но лорд Корней-то миром вопрос решал! И что решил? Обвела его Нинея, чуть ли не влюбила в себя и осталась при своем интересе! Вот теперь Туробою и приходится исправлять».
– О чем задумался, Окормля? – прервал Мишкины размышления ратнинский староста. – Что-то ты недобро глядеть стал, на кого осерчал-то?
– Неладно у нас как-то переплелось все, батюшка Туробой. Дело не только в Красаве, тут и Юлька, и, я так думаю, что и матушка моя…
– Во-во, все зло от баб!
– Да не о том я!..
– А я о том! – нажал голосом староста. – А виноват в этом ты! Робость твоя, страх твой, ну и молодость, конечно… Не знаешь ты баб, не понимаешь и боишься!
«Ну, дядя, это ты загнул! Было б мне и вправду четырнадцать… Однако ж, возразить что-то путное возможности нет…»
– И оттого… – продолжил развивать свою мысль Аристарх, – …придумал ты себе оправдание: я, мол, в бабьи дрязги не лезу, сие мужчины недостойно! Скорее всего, даже и не сам придумал, а услыхал от какого-то дурня и обрадовался – все, можно ни о чем таком не задумываться и голову над вещами непонятными не ломать.
«Кхе, как говорит лорд Корней! Ну надо же…»
– Вот и получается, что ты как бы полуслепой и полуглухой: половина событий и их причин, половина знаний и пользы от них, половина жизни мимо тебя проходит! – Аристарх, похоже, зацепился за любимую тему, для озвучивания которой у него не всегда находилась аудитория. – Да, наука непростая, тут все важно: и как посмотрела, и что сказала, а что не сказала, а только подумала, и как повернулась, и во что одета… Ты даже и вообразить не можешь, сколько всего узнать можно и как на жизнь Ратного повлиять, если правильно это все понимать!
«Угу, капитан Батлер, помнится, тоже в дамских нарядах на уровне эксперта разбирался, но персонаж-то этот женщиной выдуман».
– А уж если внимательно поглядеть, как бабы друг с другом себя ведут… – продолжал вещать Аристарх. – Вот, к примеру, сотник с десятником разговаривает или старик с отроком, тут все понятно: кто главный, кто подчиненный, кто приказать право имеет, кто повиноваться обязан. А у баб? Все на намеках, на недомолвках, со стороны не всегда и поймешь, а строгость, случается, почище, чем в воинском кругу…
– Отроки переправляются! – прервал излияния Аристарха Мишка.
– Ага… ну, ладно, я тебе потом все в подробностях объясню. Дед-то тебе такого не расскажет, он всегда до бабьей сласти слаб был. Сейчас-то уже ничего, а по молодости… сколько Аграфена-покойница слез пролила да утвари домашней об него изломала… Э-э… который из них Степан-то?
– Вон тот, который первым на берег сошел, гнедого коня в поводу ведет.
Дорога от переправы у Михайлова городка до Нинеиной веси была уже крепко убита копытами и тележными колесами, кусты и мелкие деревья выкорчеваны, низко свисающие ветви деревьев обрублены. При нужде по этой дороге могли свободно ехать три всадника в ряд, да и встречным телегам разминуться не мешало ничего. По меркам XII века прямо-таки автобан, правда, только в сухое время: после нескольких дождливых дней «дорожное полотно» обращалось месивом, в которое тележные колеса в иных местах погружались почти по ступицы.
Мишка с Аристархом ехали стремя в стремя, а опричники держались шагах в двадцати позади них – староста хотел поговорить без посторонних ушей. Кони тащились, что называется, нога за ногу – до Нинеиной веси меньше версты, а разговор был интересным. Вернее не разговор, а монолог Аристарха-Туробоя. Как выяснилось, официальная история Ратного и ратнинской сотни обо многом, очень обо многом, умалчивала. Впрочем, Мишка, внимательно слушая, не забывал и о том, что цель Аристарха-Туробоя – воспитать из него своего преемника, а значит, объективности и строгой достоверности ожидать от него было бы наивно.
«М-да, сэр: „Бывает нечто, о чем говорят: посмотри, вот это новое; но это было уже в веках, бывших прежде нас“. Как в девяностых учебники правили – только пух летел, да еще и отмазку придумали: „Россия – страна с непредсказуемой историей!“ А тут не Россия, а просто большое село, но страсти те же. Однако ж от комментариев воздержимся – и от такой информации тоже польза есть».
* * *
Со слов Аристарха получалось, что киевские ратники появились в Погорынье гораздо раньше, чем гласила официальная история – еще при князе Владимире Святославиче, крестившем Русь. Как раз в год крещения-то и ушло из Киева немалое число княжеских дружинников (а может, и не княжеских, а боярских – за давностью лет позабылось). Отнюдь не все потомки варягов стерпели публичное глумление над идолом Перуна, устроенное великим князем Киевским в угоду греческим попам. И не все славяне, служившие в княжеской или боярских дружинах, спокойно наблюдали, как уносит идола днепровская вода: недаром же сохранилась легенда о том, как толпа бежала по берегу и призывала его всплыть и вернуться. Особо же обидным низвержение Перуна и сбрасывание его в Днепр выглядело из-за того, что перед этим князь Владимир пытался сделать его верховным божеством всей Руси.
«М-да, „колебаться вместе с генеральной линией“ народ на Руси в те времена умел еще очень плохо. Может быть, крещение Руси, как раз и было первым уроком этого тонкого искусства?»
Остаться же в Киеве поклонникам Перуна не позволила не только обида, но и княжеское предупреждение «Да будет мне враг», адресованное всем, кто не пожелает принять новую веру. Впрочем, никакого особого дара предвидения для произнесения этих слов князю Владимиру не понадобилось – достаточно много жило в стольном граде и поблизости от него и жрецов Перуновых, и людей, по слову тех жрецов готовых пойти даже против самого князя. Как, разумеется, хватало и тех, кто готов был пойти по княжьему слову против старых богов.
«Вот те на! Оказывается служители культа Перуна, в отличие от коллег, служащих Велесу, звались не волхвами, а именно жрецами, это, видимо, потом христианские хронисты свалили всех в одну кучу и под одним названием».
Вдосталь напилось тогда острое железо человеческой кровушки, и крещение киевских людей началось не при ясном дне днепровской водицей, а под покровом ночи кровью тех, про кого князь был уверен: «Будет мне враг».
«Ну, действительно, не могла же столь масштабная реформа не породить оппозиции разной степени радикальности? Благостные же сказки о тех событиях сочинили уже позже. Но как ни старались сочинители, а об яростном сопротивлении язычников распространению новой веры умолчать было невозможно – остались об этом упоминания и в летописях, и в изустных сказаниях, и в архивах, поскольку проблемы с язычеством были у государственной власти еще много веков спустя, и не где-нибудь по медвежьим углам, а в европейской части страны. Ну, а в Х веке среди не пожелавших принять новую веру было полно профессиональных военных, и уж их-то силовые методы не смущали. Не только из-за попытки превратить их из внуков божьих в рабов Божьих, не только из-за подчинения „лукавым грекам“ Державы, в которой они до того считали себя хозяевами, но и из-за предательства князя, которому они верили и служили. Нет, сэр, не был для них Владимир святым и не мог стать, хоть, по незнанию Писания, и не ведали они истории Каина и брата его Авеля».
Уходили из Киева не с миром и не с добром. Избитые, израненные, лишенные имущества, многие потерявшие семьи, они поодиночке и малыми стаями вырывались из городских пределов, призывая кару богов на головы Владимировых ближников и самого вероломного робичича. Но вырваться было мало, надо было еще и уйти от погони, потому что и воевода Добрыня, и сам князь прекрасно понимали, что дать им собраться вместе, скопить силы, получить благословение выживших жрецов – смерти подобно. И греческие попы, прекрасно понимая, чем для них обернется победа язычников, благословили именем Божьим любую жестокость в отношении непокорных. Приказ был прост: догнать и уничтожить.
«А вот это сомнительно. Во-первых, подавляющее большинство попов были не греками, а болгарами – отец Михаил об этом рассказывал, и оснований не верить ему нет. Да и понятно – много ли греков славянский язык знают, а болгарские попы вполне могли на Русь бежать от императора Василия, прозванного Болгаробойцей.
Во-вторых, сколько бы тех оппозиционеров ни спаслось, идти на Киев для них было чистым самоубийством – Владимир без совета с дружиной такого решения не принял бы или не смог бы выполнить. Красиво вещаете, герр бургомистр, образно, с душой, но необъективно до неприличия!»
Сначала были погони, засады и схватки – беглецы резались с киевскими дружинниками на дорогах, ведущих от Киева подальше в глушь. Резались между собой те, кто еще недавно назывался одинаково – княжьими людьми, а теперь по-разному – слугами Божьими и слугами Сатаны.
А потом был разбой. Как уж там вели себя, оторвавшись от погони, другие – неведомо, а пращуры ратнинцев ловили по дорогам купцов, брали на щит боярские усадьбы и всем пленникам ставили только одно условие: возвращение имущества или жизнь детей гарантируется доставкой в оговоренное место одной из семей беглецов, оставшихся в Киеве. Хочешь – выкупай, хочешь – выкрадывай, хочешь… делай, что хочешь, но такую-то семью, жившую до крещения киевлян там-то, доставь.
Доставляли. Правда, не всегда. Кто-то так и не появлялся в условленном месте, и это было еще не самым худшим. Хуже, когда появлялся и приводил с собой княжьих воинов. Обратно живыми не выпускали никого – ни самого посланца, ни приведенную им воинскую силу. Шли по следу возвращавшихся ни с чем дружинников и истребляли их любыми доступными способами. Для того и места для обмена выбирали такие, куда и войти-то трудно, а уж выйти, если тебя не хотят выпускать, так и вовсе невозможно. Зверели окончательно, потому что знали: семья либо мертва, либо взята князем в заложники. Прощались с родными так же, как прощались во время бегства от погони с тяжелоранеными товарищами, которых увезти с собой – только длить их муки, а оставить на милость преследователей – муки те ужесточить.
А потом была степь. Один из поместных бояр не смог в обмен на жизнь своей семьи привезти семью беглого язычника, на зато принес весть: всю родню непокорных, не разбираясь, виновен глава семьи в чем-то или нет, продали в рабство. Лесные тропинки под копытами бывших киевских воинов сменились степными травами, а глаза, вместо блеска чужих шеломов сквозь листву, принялись высматривать пыль, поднятую невольничьим караваном. Ох, и тяжко расставались с жизнью работорговцы, настигнутые на караванных тропах! Будущие ратнинцы не просто умели заставить молить о смерти, как об избавлении от мук, они дошли уже до такой степени исступления, когда любые пытки, любые мучения казались им недостаточными.
Спасли, разумеется, не всех. Кто-то оказался в невольничьем караване, сумевшем раствориться в степной беспредельности, кого-то вывезли на ладьях по Днепру, кто-то сгинул и вовсе безвестно, но охоту пришлось прекратить. Таскать за собой женщин и детишек стало обременительно и опасно. И без того оставшихся в живых воинов стало меньше, чем спасенных семей. Надо было думать о постоянном пристанище.
«А вот это уж и вовсе сказка. Наверняка подавляющее большинство беглецов многочисленных семей не имели. Если оброс домом, детишками, хозяйством, то легче креститься, пусть и притворно, чем ударяться в бега. Пожалуй, ушли из Киева преимущественно отморозки, а, оказавшись в чистом поле, занялись разбоем. Когда же их основательно прижучили, начали искать место, где можно осесть. А теперь вот такая красивая сказка – благородные мстители, спасавшие семьи. Кажется, у Валентина Пикуля было высказывание о почтенных генеалогических древах, ведущих родословную от пыльного кустика у большой дороги. Как раз тот случай – весьма неприглядные факты, преображенные в красивую легенду».
Почему пришли именно в Погорынье, теперь уже никто твердо не ответит. Возможно, просто не дошли до земель волынян, которые в те времена назывались бужанами и Киеву не очень-то и подчинялись, возможно, не получилось добраться до полоцких земель, в которых Киев тогда, как, впрочем, и позже, ой как не любили. Очень может быть, что места оказались кому-то из пращуров ратнинцев знакомыми – то ли ходили туда походом примучивать дреговические роды, то ли хаживали с князем в полюдье, а скорее всего, выбрали Погорынье из-за отдаленности от Киева и непроходимой глуши – надо было спрятаться.
Не спрятались. Дошли, спустя несколько лет, руки у Киева и до Погорынья. Ох, не зря до сих пор говорят: «Путята крестит мечом, а Добрыня огнем»! По всей Руси отметились эти «добрые христиане» – от Днепра до Волхова и от Волги до Буга. Однако и будущие ратнинцы на новоселье не сидели сложа руки. Пока Добрыня устанавливал новый порядок в городах и весях, пока то тут, то там оставлял после себя кострища да новенькие кресты на шеях и на могилах, пращуры ратнинцев сумели прочно осесть в Погорынье и воспитать молодежь в лютой ненависти к христианам вообще и к киевлянам в особенности. Достойно сумел встретить Добрыню со товарищи воевода Горыныч, да так, что с тех пор стали рассказывать про него на Руси страшные сказки. А то, что срубил ему Добрыня голову, тем более три головы – вранье! Свою собственную на плечах сохранил, и то – радость!
«Это верно – кто же признается, тем более письменно, что посланное покарать поганых язычников христолюбивое воинство выскочило из лесов и болот междуречья Горыни и Случи с драной задницей и с изрядными прорехами в „стройных рядах“? Конечно же, победили! И славный воевода Добрыня собственноручно Змея Горыныча обезглавил в поединке. А раз победили, то больше и ходить в эту глухомань незачем! Разве что так – по краешку, для сбора податей, да и то овчинка выделки не стоит – дикие земли, дикие люди.
А вот „воевода Горыныч“… Больше похоже на имя кого-то из местной родовой знати. Ой, что-то врете вы, любезнейший бургомистр, ой, врете… Отец Михаил, кстати, совершенно иначе интерпретировал выражение: „Путята крестит мечом, а Добрыня огнем“ – как упрек новгородцам, которые вели себя столь буйно, что пришлось применять меч и огонь. В советской же школе это высказывание комментировали с точки зрения классовой борьбы и „опиума для народа“. Каждый, как говорится, со своей колокольни, хотя, по большому счету, настоящих „колоколен“ всего три: на передовой – потери, в штабах – статистика, в тылу – вдовы и сироты».
Как обживались на новом месте беглые воины, известно мало, а представить себе трудно – надо же было не только жилье построить да землю вспахать. Прежде всего, требовалось как-то вытянуть души из того кровавого безумия, в которое они окунулись и… не у всех это получилось. Несколько десятков человек, из тех, чьи семьи так и не удалось спасти, ушли и далее поить христианской кровью свои клинки. А остальных спасли женщины и дети – каждый из оставшихся взял за себя по две-три семьи погибших товарищей. Тут уже стало не до дальних походов и схваток без сожаления к себе – за спиной семьи.
Однако мирными соседями ратнинских родоначальников назвать было нельзя. Хоть и не сохранила память подробностей, но… Стоял в те времена недалече от тех мест богатый торговый город Хотомель, а ныне на его месте доживает свое лишь малая небогатая весь.[13] Впрочем, дело не только в исчезнувшем городе – другим поселениям тоже досталось, и иначе быть не могло, потому что новоселам требовались скотина, утварь, холопские руки – все, что наживается годами или берется силой оружия. Многочисленные семьи надо было кормить, а к мечу руки были привычнее, чем к сохе, и Погорынье, поклонявшееся Велесу, не раз и не два припомнило сказание о том, как их божество под ударами молний Перуна обращается в змея и прячется за камнями по оврагам да буеракам – сумели ратнинцы напомнить, во славу своего небесного покровителя Громовержца.
«Ну, вот шило из мешка и вылезло! Бандюки они и есть бандюки, только одни осели на землю, а другие остановиться уже не смогли и пошли разбойничать дальше. Так и сгинули».
С тех далеких времен в Ратном сохранили прямой счет колен четыре рода: род Лисовинов, род Репьев («не оттуда ли и детское прозвище Аристарха „Репейка?“»), род Притечей («Выходит, что предок Луки Говоруна присоединился к основателям Ратного позже»[14]) и род Стужей («Да, не очень-то подходит добродушному характеру наставника Филимона»[15]).
Правил Владимир еще долго – поболее тридцати лет, но ратнинцев больше не беспокоили, то ли не до того было, то ли действительно дядька Добрыня наврал племяннику Владимиру о полном истреблении крамолы в Погорынье. Ратнинцы тоже старались о себе не напоминать. Старики, помнившие бегство из Киева, постепенно вымерли, те, кто был в то время детьми, вспоминали прошедшее, как страшный сон или сказку. Жизнь берет свое, и ратнинцы женились на дреговических девах и отдавали замуж своих дочерей в дреговические роды, а был ли у ратнинцев свой жрец – Перунов – никто уже и не упомнит. Может, и был.
Однако парней из дреговических селищ, состоявших в родстве с ратнинцами, в воинское обучение принимали, но только с условием поклонения Перуну, хотя класть требы Велесу тоже не запрещали.
Весть о смерти князя Владимира ратнинцы восприняли уже относительно спокойно, хотя и не без злорадства, а вот четырехлетнее княжение в Киеве Святополка I Владимировича побудило у них мысли о том, что начинают сбываться проклятия беглецов, призванные на голову Владимира, но ударившие по его потомству[16]. Погибли дети робичича: Борис, Глеб, а затем и сам Святополк, заклейменный прозвищем «Окаянный», злейшими врагами Киева стали внуки Владимира – потомки Изяслава Владимировича Полоцкого, не заладилось с великим княжением и у Ярослава Владимировича, прозванного впоследствии Мудрым.
Это для простых людей и объяснение простое: мол, Святополк Окаянный убил братьев, а Ярослав восстановил справедливость и, сев на Киевский стол, дал Руси первый писаный закон – Русскую Правду, за что и прозван был Ярославом Мудрым. Однако же, на самом деле, все было вовсе не так просто.
Имелся у князя Ярослава еще один брат – Мстислав Тьмутараканский, получивший прозвище Храбрый – личность весьма примечательная. Начать с того, что был Мстислав первым Тьмутараканским князем. Князь Владимир Святой закончил дело своего отца, князя Святослава, и окончательно уничтожил Хазарский каганат. Среди трофеев этой войны был и хазарский город Самкерц, находящийся на Таманском полуострове. Византийское название этого города было Таматарха, отсюда и славянское название Тьмутаракань. Вот в этот-то город и посадил на княжение Владимир своего сына Мстислава, а было Мстиславу тогда всего семь лет!
Воспитателем малолетнего князя назначили варяга Сфенга, и, надо полагать, воспитателем он оказался отменным. Мстислав прославился и мудрым правлением, превратившим городок Тьмутаракань в богатое Тьмутараканское княжество, и храмовым строением, и особенно воинскими подвигами. Летописи упоминают и победу Мстислава в поединке с косожским воеводой Редедей, и удачные походы на Северный Кавказ, и подавление, совместно с цареградской ладейной ратью, хазарского восстания, окончательно поставившее крест на мечтах о возрождении Хазарского каганата. И печенегам отбил Мстислав всякую охоту устраивать набеги на свое княжество, которое расширилось и на другой берег Керченского пролива.
Схватился Мстислав Храбрый и с Ярославом Киевским, хотя и встрял он в междоусобицу сыновей Владимира позже других, но зато как встрял! Вдребезги разбил киевское войско, так, что надменные нурманы и варяги бежали с поля боя, бросая оружие, доспехи и дорогие одежды – недаром пошла молва про драгоценный золотой плащ одного из ярлов, сброшенный для резвости бега.
Кончилось, впрочем, дело миром. Русь поделили – все, что на восточном берегу Днепра, от Чернигова до Тьмутаракани, отошло Мстиславу Храброму, а западный берег, вместе с Киевом – Ярославу. В дальнейшем братья жили вроде бы дружно, во всяком случае между собой не воевали, а наоборот, ходили в совместные походы, а через двенадцать лет Мстислав Владимирович погиб на охоте, не оставив наследников (единственный сын умер раньше). Действительно произошел с ним несчастный случай или «помогли», неизвестно, но Ярослав снова взял под свою руку всю Русь.
«Да, милейший герр бургомистр, все в этой истории непросто, но вы, похоже, даже не представляете себе, насколько непросто. Дело в том, что ваш покорный слуга имел сомнительное удовольствие проходить срочную службу в Советской армии в карпатском городке Сколе, недалеко от которого находится захоронение еще одного брата Ярослава Мудрого – Святослава. Естественно, солдатиков туда на экскурсию свозили, а через пару дней направили нескольких связистов в местный краеведческий музей, чтобы в порядке шефской помощи привести там в порядок электрику, телефон, радио. Директор музея, само собой, проставился и за четвертью местного сизовато-мутного пойла с очень конкретным названием „бурякивка“ поведал солдатикам жуткую историю о вокняжении Ярослава Мудрого в Киеве.
Брат Ярослава Мудрого Святослав был убит примерно в одно время с Борисом и Глебом – первыми русскими святыми. Канонизированы Борис и Глеб, по официальной версии, за то, что с христианской кротостью поехали на заклание по приказу старшего брата и сюзерена. Святослав же попытался сбежать. Итог тот же – убит, но с канонизацией облом. Чьими людьми он был настигнут и убит? Людьми Святополка Окаянного или Ярослава Мудрого? С чего бы Ярославу посылать убийц в погоню за братом? А с того, что сказано мудрыми римлянами: „Quid prodest? – Кому выгодно?“ А кому выгодно, если в междоусобице погибли девять братьев из двенадцати, десятый бежал из страны с клеймом братоубийцы и прозвищем „Окаянный“, а одиннадцатый, с которым пришлось-таки Ярославу делить власть, „случайно“ погиб на охоте?
Кто сомневается, может почитать тексты шведских скальдов, служивших в войске Ярослава – там они открытым текстом хвастаются ловким убийством русского конунга Бурислейва, совершенного по приказу другого русского конунга Ярислейва. Не про Бориса ли и Ярослава идет речь в этих сагах?
Под конец застолья краевед крепко поплыл и все повторял: „Ай да Славик, ай да Мудрый! И не виноват ни в чем! Святополк, понимаешь, Окаянный – злодей, пробы ставить негде!“, да пьяненько сожалел, что не было в России своего Шекспира – ходячий кошмар Ричард III в подметки Ярославу Мудрому не годится!
М-да, сэр, мог ли тогда подумать старший телефонист Ратников, при каких обстоятельствах вспомнится ему этот разговор?»
Мишка сначала не понял, какое отношение к истории Ратнинской сотни имеет усобица сыновей князя Владимира, но Аристарх быстро развеял его недоумение. Дружина умершего Мстислава была многонациональной – были в ней, кроме славян, и косоги, и печенеги, и хазары, и другие языки. После смерти князя дружина разошлась – большинство воинов вернулись в родные места, но часть осталась и пошла на службу к князю Ярославу, с одной стороны, прибавив тому воинской силы, а с другой – навалив заботу: что делать с воинами, помнившими о том, как они били своего нынешнего великого князя? Ну, не в Чернигове же их оставлять, в самом деле? Того и гляди, опять Русь по Днепру делить придется – в жизни всякое бывает.
Сам князь Ярослав придумал отправить бывших Мстиславовых воинов в Погорынье, или присоветовал кто, сейчас уже не узнаешь, да только условие им было поставлено такое: назад дороги нет! Вот вам, ребятушки, жалованная грамота, садитесь на землю и живите, а не сможете – земля вам пухом и Царствие Небесное, как добрым христианам, положившим живот свой в борьбе с язычниками.
«Ну, прямо штрафная рота! Тех тоже, после команды „В атаку, вперед!“, обратно в окопы заградотряды уже не пускали. Только подход не сталинский, а гитлеровский – не до истечения срока по приговору, не до „смытия кровью“ или совершения подвига, а до конца войны, до окончательной победы над врагом. Мудрый, блин, как есть Мудрый!»
И зазвенело острое железо среди лесов и болот Погорынья, и оросились человеческой кровушкой травы и мхи, да как еще оросились! Потомкам беглых киевлян, уже считавших себя хозяевами этих земель, княжеская жалованная грамота была не указ, бывшим Мстиславовым воинам, в отличие от дружинников Добрыни, отступать было некуда, а дреговические волхвы и старейшины сочли случай удобным, для того чтобы избавиться и от христиан, и от перуничей путем истребления и тех, и других.
«Прямо-таки по Шекспиру: „Чума на оба ваших дома!“»
Что ни говори, а могло и получиться: сначала всячески споспешествовать взаимному изничтожению чужаков, а потом добить ослабленного победителя. Однако вышло все совсем по-иному – в пределы юго-западной Руси вторглись угры! Еще хаживали они в те времена на земли, лежащие восточнее Карпат, хотя уже, почитай, полтора века как подались из причерноморских степей на запад и осели на Дунае. Каким ветром занесло угорских всадников в Погорынье, одним лишь богам ведомо, да только стало там не до усобицы – надо было как-то отбиваться от черноволосых скуластых наездников, хоть и бывших потомками степняков, но прекрасно научившихся воевать и в лесах и в горах.
Вот тогда-то и прозвучало впервые в истории ратнинской сотни имя десятника Лисовина, прозвучало громко, хотя и раньше был род Лисовинов не из последних и вел счет своих колен от времен князя Олега Вещего. То ли потому, что был этот род древен и силен, то ли потому, что славился немолодой уже Непщата[17] Лисовин умом и здравомыслием, но удалось ему привлечь на свою сторону большинство потомков беглецов из Киева. А может, и не большинство, но достаточное количество – кто теперь, спустя сотню лет, подсчитает?
Приехал Непщата Лисовин к воеводе Мстиславовых дружинников Александру, чтобы договориться о совместном отпоре уграм и совместном же удержании в повиновении погорынских дреговичей. Казалось бы, дело рискованное и почти без надежды на удачу, но, опять же, судьба… или промысел Божий?
Во-первых, Александр оказался вовсе не дружинником покойного Мстислава, а киевским варягом, которого князь Ярослав поставил воеводой, чтобы сбагрить из Киева. Тот вроде бы и сам не возражал, поскольку из-за буйного нрава влип в разборки с кровной местью – Русская Правда Русской Правдой, но бить-то будут не по кошельку, а по голове – иди потом, жалуйся! Во-вторых, будучи по крови варягом, он, хоть и носил христианское имя Александр, но в душе оставался Харальдом и Перуну должное отдавал, хотя, разумеется, и не публично. Короче, Харальд и Непщата друг друга поняли и договориться сумели.
«Да, только и остается сказать: „Но тут судьба снова тонко улыбнулась и подставила Лисовину „рояль в кустах“. Нет, тут что-то не то, не приняла бы дружина чужака. А может, Харальд-Александр был сыном или другим родственником воспитателя Мстислава Храброго варяга Сфенга? Легенды… легенды, что тут правда, что нет…»
Условия договора были не такими уж и жесткими: потомки беглых киевлян переходят в полное подчинение воеводе Александру и формально принимают христианство. Сам же Александр обязуется ни в чем не делать разницы между своими дружинниками и пришлыми, не менять десятников и, самое главное, не препятствовать тайному поклонению Перуну. Дополнительно Непщата выторговал обещание не заставлять его людей поднимать оружие на единоверцев, которые не пожелают пойти под руку Александра и принять христианство.
Харальд-Александр оказался воеводой умелым и на выдумку изощренным – не только выполнил обещание, но и сумел не настроить против себя вновь обретенных подчиненных, добивая перуничей, не пожелавших пойти под его руку. Умудрился как-то подставить их под мечи угров, а может, они и сами попались – люди по-разному рассказывали. Новые же воины очень быстро стали для Харальда-Александра более близкими, чем те, кого под его начало отдал князь Ярослав, поскольку тоже втайне поклонялись Перуну, и во многих из них текла варяжская кровь. Так Непщата Лисовин возвысился из десятников в полусотники и вместе с еще тремя десятниками – Данилой Репьем, Андреем Притечей и Еремеем Стужей – составил ближний круг воеводы.
«Все вранье! Тайный язычник во главе христианской дружины покорешился с теми, кого пришел карать, а дружина молча стерпела? Не бывает такого! Либо достоверные сведения о тех событиях вообще не сохранились и эпизод целиком вымышлен, либо на самом деле тогда произошло что-то такое, о чем рассказывать уж и вовсе неприлично».
От угров отбились, но мира в Погорынье не наступило. Остались те потомки беглых киевлян, которые через женитьбы и замужества оказались в дреговических родах, но не перестали класть требы Перуну. Они охаяли Лисовина и присных его предателями и посчитали своей обязанностью всех их истребить до последнего человека. Воинская выучка у них была если и похуже, чем у лисовиновских ратников, то ненамного, а погорынские леса они знали, как собственное подворье, так что война продолжалась уже и после смерти Непщаты и Харальда-Александра, и пощады в той войне не было ни для кого. Это-то и удерживало вместе таких разных, по сути, людей, как бывшие черниговцы и бывшие киевляне.
Длилась эта война, затухая и снова разгораясь, долго – почти столетие, но ратнинцы постепенно одерживали в ней верх, потому что держались кучно, село свое строили и содержали, как крепость, а всех пригодных к тому мужчин тем или иным способом привлекали к воинским делам. Противники же их были разбросаны по разным селищам и, с течением времени, находили у односельчан все меньше и меньше сочувствия – тем, кто Перуну не поклонялся, и с самого начала причина конфликта, что называется, не легла на душу, а многолетнее кровопролитие, которое, хочешь не хочешь, захватывало и их, вконец осточертело.
Так уж распорядилась судьба, что последний отряд перуничей из дреговических селищ полег на дороге из Княжьего погоста в Ратное под мечами Корнея Лисовина и Андрея Немого, да под самострельными болтами мальчишек из того же рода Лисовинов. А последнего воеводу дреговических перуничей с подсеченными жилами и изуродованным лицом утащил в лес на мучительную смерть старший отрок из последнего поколения Лисовинов Михаил Бешеный Лис. И у тех из ратнинцев, кто худо-бедно знал подлинную историю ратнинской сотни, появился повод поскрести в бородах и затылках: больно уж чудесным выглядело совпадение – последнее слово в почти вековой вражде сказал этот непонятный и необычный отрок, в столь юном возрасте проявляющий способности и совершающий деяния под стать зрелому мужу, причем отнюдь не рядовому.
Мишка уже было собрался в очередной раз внутренне усмехнуться: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда…», но тут Аристарх снова заговорил о князьях, да не о Рюриковичах, а о делах более древних – о легендарном основателе Турова – князе Туры. По словам Аристарха выходило, что пришли из-за моря какие-то варяги, и их предводитель Рогволд сел в Полоцке, а некто Туры, то ли родич, то ли ближник Рогволда, заложил город имени себя и сделался князем.
Отец Михаил озвучивал для учеников своей школы иную версию: варяжский витязь Тур из дружины киевских князей Аскольда и Дира заложил город, дал ему свое имя, стал князем, а впоследствии крестился сам и крестил свою дружину.
«Как-то это все не вызывает особого доверия, сэр Майкл. Имя в обеих версиях совпадает, принадлежность к варягам тоже, а остальное… По версии Аристарха получается, что варяги еще и до Рюрика шлялись по славянским землям, как хотели, и творили, что заблагорассудится, вплоть до закладки новых городов и перехвата южного варианта пути из варяг в греки. А по версии отца Михаила выходит, что Туров крестился гораздо раньше Киева, что и вовсе уж чудесно[18].
Довольно часто под подобными кудрявыми заворотами прячется довольно простая, но либо неприличная, либо идеологически неправильная история. Вполне возможно, что на месте нынешнего стольного града стояло городище славянского рода, чьим тотемным животным был тур – Турово городище. По нынешним временам это идеологически неправильно и должно стать поводом для создания „неверной, но правильной“ версии. „Технология“ проста, как мычание. Для начала, название: если прижилось и трудно переменить, то тогда меняем его носителя: не скотина бессловесная, а доблестный воитель. Так дикий бык становится человеком. Далее, кто может стать князем, не являясь членом родоплеменной знати? Ну, конечно же, варяг! Вот вам и пожалуйста – легендарный варяжский витязь Тур (или Туры).
Ну, а дальше уже пошли варианты, наиболее приемлемые для авторов версий. Предки Аристарха пришли в Погорынье и отвоевали себе место для жизни, отсюда и версия: пришли из-за моря и всех победили. Отец Михаил – христианский пастырь, а потому вооружен иной версией, по которой легендарный герой сподобился уверовать за сотню лет до того, как на это пришло указание из центра. Потом разные версии попадают в разные летописи, и ученые мужи позднейших эпох мучаются от несовпадения содержания исторических документов с археологическими находками. Кхе! Интересно, как в ХХХ веке будут состыковывать бодрые официальные отчеты тысячелетней давности с археологическими свидетельствами упадка? Впрочем, не будем отвлекаться…»
Аристарх продолжал поражать своего слушателя все новыми и новыми историческими фактами. Оказывается, воевода Горыныч, столь неласково принявший воеводу Добрыню в Погорынье, был прямым потомком основателя Турова! Вытеснили Рюриковичи этот род в погорынские дебри, но не смогли истребить! Мало того, сын Непщаты Лисовина, десятник Петр, женился на последней представительнице этого рода – внучке воеводы Горыныча Яромиле!
«Поздравляю, сэр! Вам еще не приходилось выступать в роли персонажа мексиканского сериала? Извольте, такая возможность представилась – род Лисовинов умудрился всосать в себя не только гены Рюриковичей, через жену лорда Корнея Аграфену, но и гены древних славянских князей, через жену Петра Лисовина Яромилу. Еще немного, и выяснится, что вы имеете права на византийский трон, парочку европейских корон и, чем черт не шутит, титул японского микадо!»
До претензий на императорский трон дело, слава богу, не дошло, но вещал Аристарх о не менее интересных вещах, укладывая правду и вымысел, факты, события и обстоятельства в рамки какой-то собственной логики и подводя повествование к какому-то, явно нетривиальному, выводу.
Итак, ратнинцы задумались о необыкновенных способностях Мишки Лисовина. Причина же задуматься была серьезней некуда. Жила в Ратном легенда… даже, вернее, так: ЛЕГЕНДА. Рассказывали знающие люди следующее. Мстислав, как истинный князь, от рождения имел дар свыше, дававший ему удачу во всех делах, победу в боях и любовь мужей его дружины (люди – свободное население княжества, а мужи – княжьи воины, элита, те, из кого позднее выросли бояре). Но был еще у него и некий меч – такой, что против Мстислава с мечом в руках никто не мог устоять, и дружина княжеская билась вдвое храбрее. Но не всякому, а только князю истинному дано было владеть этим мечом. Не захотела ближняя дружина Мстиславова отдавать меч Ярославу, забрала с собой в Погорынье, и хранился он в Ратном.
Мишка даже не особенно и удивился – ожидал чего-то подобного, когда Аристарх принялся объяснять, что воспользоваться силой меча дано не всякому и владеть им может только природный князь, причем природный не только по крови, но и по духу…
«Ага, ага! Может быть, этот артефакт еще и в камень воткнут? Как его там звали-то… Эскалибур, кажется?»
Но Аристарх довольно быстро перешел от артефакта к классике – каждая легенда, претендующая на роль эпоса, почти обязательно включает в себя фрагмент с перечислением поколений, что-то типа: «Авраам родил Иакова, Иаков родил Исаака, Исаак родил…» – длинно, нудно, но придает повествованию ореол солидности и достоверности. История ратнинской сотни на роль местного эпоса претендовала и потому включала в себя список всех сотников, а зачастую и обстоятельства их избрания.
После смерти Харальда-Александра ратнинской сотне впервые пришлось выбирать себе сотника. Вот тут-то и случилась неожиданность – черниговцам не удалось избрать своего человека! Они-то пришли в Погорынье с семьями, но дети были еще малы (а кое-кто и вообще явился холостым и обзавелся женой только здесь), а потомки беглых киевлян уже укоренились в Погорынье, роды разрослись, и в каждой семье было не по одному, как у черниговцев, а по два-три, а то и больше, взрослых мужчин. Выбрали сына Харальда-Александра – от добра добра не ищут.
На следующих выборах произошло то же самое, хотя уже и с натугой. Черниговская часть сотни разрослась и уже не так сильно проигрывала в численности, но была и другая беда. Старший внук Харальда-Александра погиб в бою, а второму по старшинству не было еще и тридцати – маловато для сотника, но страсти уже накалились так, что встань во главе сотни потомок беглых киевлян или потомок черниговцев, раскол был бы неизбежен. И понимали мужи ратнинские, что не дело творят, но иначе не получалось – избрание молодого внука Харальда был единственным способом избежать усобицы.
«Еще один повод вспомнить Экклезиаста: нет ничего нового – до боли знакомая, прямо-таки родная, политика сдержек и противовесов».
Как и всегда, когда при решении важного вопроса руководствуются не главным, а некими сторонними соображениями, до добра это все не довело. Меньше двух лет правил молодой сотник, а в походе в Угорскую землю подвел он сотню по молодости и горячности. И сам погиб, заведя своих ратников в засаду, и потери сотня понесла серьезные, а самое главное, уходить пришлось врассыпную и в выборах сотника, проведенных на скорою руку на привале, принимали участие не все ратники. Потомки черниговцев поставили своего человека.
«И опять знакомо: избирательные технологии, туды их в печенку! Демократия, блин!»
Выбрали, несмотря на обстоятельства, удачно, грех жаловаться – хорош был сотник. И сын его, и даже внук правили сотней хорошо. Может быть, кто-то другой правил бы и лучше, но «если бы, да кабы…». А вот завершил свою сотничью стезю третий сотник из этого рода скверно – случился мятеж полусотника Митрофана, уведшего за Горынь почти треть ратников, да так и сгинувшего на Волыни, а самого сотника, хоть и не стар он еще был, болезни от тяжких ран ослабили, да вина за мятеж грузом на совесть легла… Попросился сотник Петр на покой, а сын его старший еще совсем молод был.
Выбрали Ивана – тоже из потомков Мстиславовых дружинников, но… «НО» оказалось большим и серьезным. Род Ивана выделялся среди ратнинцев сугубой набожностью и нетерпимостью. Всем хорош был сотник Иван, однако договоренности Непщаты Лисовина и Харальда-Александра были давно позабыты, и ратнинцам, тайно поклонявшимся Перуну, стало очень и очень неуютно. На открытый конфликт сотник Иван не шел – помнил мятеж Митрофана, но по-тихому ущемлял, как мог. За время своего сотничества не утвердил ни одного десятника из перуничей, ни разу не дал им собраться в новый десяток, хоть и было это против обычая, наоборот, распихивал новиков в десятки твердых христиан. Вновь раздул начавший было утихать пожар войны с дреговичами, постоянно выискивая и разрушая языческие капища. Так и умер, пронзенный сразу несколькими стрелами лесовиков, с нательным крестом, зажатым в кулаке, и проклятием поганым язычникам на устах.
Сына Ивана избирать сотником не хотели – опасались раскола сотни. Судили да рядили долго и, возможно, выбрали бы кого-то другого, но тут в первый и в последний раз в дело открыто вмешался ратнинский священник. Больно уж мил его сердцу оказался столь набожный и усердный в служении христианской вере род сотника Ивана. Прилюдно, в церкви, взял он с сына Ивана – Силантия обещание поступать по старине, как от пращуров заповедано: не препятствовать молодым ратникам собираться в новые десятки и утверждать без препон выбранных ими десятников. И тут же, не дожидаясь голосования, благословил Силантия Ивановича на сотничество. Ратники, конечно, поворчали на такое нарушение их исключительных прав, но сотником Силантия все же избрали. Если б знали они, к чему это приведет!
Так уж вышло, что избрание нового сотника совпало с серьезными переменами в жизни Ратного – село, из-за истощения пахотных земель, переезжало на новое место. Поп и сотник начали потихоньку внушать ратнинцам, что для обустройства нового села надо бы избрать нового старосту – переезжали-то не в один день, прежнему старосте на два места не разорваться, да и в годах он уже преклонных. И снова поп благословил на труды по руководству обыденной жизнью села еще неизбранного на сходе человека – двоюродного брата сотника Силантия. Слова в церкви всякие добрые про того сказал, напомнил, что благословение дает только от себя, а мужи ратнинские могут на сходе и кого-то иного избрать… Все вроде бы прилично, но в то же время и странно как-то – никогда раньше священники в эти дела не встревали, а идти против уже оглашенного благословения тоже как-то не так… Выбрали и старосту.
«Ага, и PR-технологии… ну, прямо все родное! А вот с переездами Ратного какая-то нестыковка – Илья это по-другому описывал. То ли Илья напутал, то ли Аристарх „исправленную версию“ излагает».
Ну и началось… Тихо все, вроде бы незаметно, а только стали замечать перуничи, что из жизни их начала удача уходить. Скажем, распределяют участки под застройку в новом селе. Все по обычаю, тянут жребий, да только тайным поклонникам Перуна самые плохие и неудобные места выпадают. В другой раз тянут жребии на участки под росчисть, и опять перуничам самые дальние да неудобные выпадают. И тут же поп торчит, которому сотник со старостой разрешили на сходе быть, и вещает, что, мол, жребий есть воля Божья и принять ее надлежит безропотно, да в грехах своих покаяться. Вроде бы и не говорит, что наказаны те, кто идолищу поганому поклоняется, но выходит как раз так.
А времена беспокойные: в степи вместо битых и усмиренных печенегов лютуют половцы, чуть не каждый год набег, с запада ляхи лезут, меж князьями размирье – князя Василька Теребовльского ослепили безвинно, князя Давыда с Волынского стола согнали (правда, за вину), на рубежах волынских и полоцких разбой творится. В Киеве четырнадцать лет после смерти Ярослава Мудрого спокойно было, а потом началось: Изяслав Ярославич за двадцать два года аж три раза на киевский стол садился. Один раз после смерти отца, а дважды – выгоняя из Киева сначала Всеслава Полоцкого, потом брата Святослава. В Турове же и вовсе беда: как ушел на киевское княжение Изяслав Ярославич, так двадцать шесть лет не было там князя!
Раз за разом поднималась ратнинская сотня в седло – то по призыву туровского или пинского посадника, то своей волей, защищая рубежи. Уж не знали, кому и служат, да помнят ли о них в Киеве? И, как на грех, главные потери – в новых десятках, где молодежь из родов перуничей собрана. Один раз четверо убитых в десятке, в другой раз – трое убитых и трое раненых, еще раз – один убитый, но зато почти все ранены.
Собрались на капище Перуновом (а где ж еще?) и принялись толковать: что ж такое происходит? А может, и впрямь воля Божья да наказание грешникам? Один Агей Лисовин твердо на своем стоит – не Божья то воля, но людские происки! Как со жребиями устроили, непонятно, а вот с потерями в бою разобраться можно – опытные воины есть, память тоже никому не отшибло, давайте-ка вспоминать да думать.
Стали думать. То, что молодых перуничей в самые опасные места намеренно суют, отринули сразу – незаметно такое не сотворишь. Так и сяк прикидывали, но в конце концов докопались! Получилось, что битыми молодые перуничи оказываются тогда, когда от опытных воинов их твердые христиане отделяют! Выходит, не только не выручают молодых и неопытных, а наоборот, намеренно оставляют без помощи! Своих отдают ворогам на растерзание! А может, и сами исподтишка бьют?
Вот тогда-то полоснул себя мечом по руке Агей Лисовин, брызнул кровью на алтарный камень и произнес только одно слово: «Предел!» И все, кто был на капище, повторили за ним: «Предел!»
А потом был поход и была сеча, и пришло в Ратное горе великое – великие потери в битве на Стугне[19]. Русичи тогда бежали от половцев, бежала и ратнинская сотня. С наступлением темноты, как водится, преследование прекратилось, ратнинцы собрались вместе, и тут-то Агей и обвинил сотника в том, что тот, уйдя в сторону, бросил остальных на произвол судьбы.
Возразить сотнику было нечего – действительно, рыскал где-то до темноты всего с полутора десятками ратников, а горячность Агея была понятна – среди убитых оказался и его старший сын. Секира у Агея была добрая и, войдя Силантию наискось в плечо, завязла только в грудинной кости. Возразить против расправы никто не успел, а возразить против немедленного избрания Агея Лисовина сотником никто не решился. Были, разумеется, недовольные, но почуяли, видать, что возразив, можно из круга своими ногами и не уйти. Смолчать-то смолчали, но не успокоились, да и не дали им успокоиться ратнинский поп и староста – двоюродный брат убитого сотника.
«Что-то не то! Больно легко „твердые христиане“ своего сотника сдали. А не проредили ли их перуничи, воспользовавшись ситуацией? Не потому ли такие тяжелые потери? И дед говорил: не „зарубил“, а „зарезал“. Похоже, опять „отредактированная версия“».
Было у Агея Лисовина четыре сына. Старшего он, считай, разменял на сотника Силантия. Второй сын пережил старшего всего на пару месяцев – погиб в схватке с засадой лесовиков. И все вроде было правильно: стрела, поразившая его, была дреговической, попала она в лицо – в то место, что не было прикрыто полумаской шлема, и прилетела она, как будто, со стороны лесовиков, но были и странности. Во-первых, прилетела стрела уже тогда, когда лесовики стрелы кидать прекратили и схватились с ратнинцами грудь в грудь, а во-вторых, попав в скулу, стрела пробила голову насквозь и с такой силой ударила в шлем изнутри, что сломался наконечник. Ну, не бьют с такой силой лесные луки-однодеревки! Да и самого стрелка, поразившего сына сотника Агея, никто из ратнинцев не углядел.
Осталось у Агея два сына. Подумал он, подумал, да и отправил, на всякий случай, младшего – Корнея, во Христе Кирилла – в Туров, вроде бы как пообтереться при княжьем дворе, завязать знакомства в стольном граде, да и вообще жизни поучиться, а на самом деле – от беды. Вещуном оказалось отцовское сердце – меньше полугода прожил третий сын. В самый разгар заготовки сена, когда ратнинцы целыми семьями, с бабами и детишками разъезжались по своим покосам, налетели на полевой стан Лисовинов ратники во главе со старостой.
Сильным и многолюдным был лисовиновский род, столько в нем было зятьев, племянников, двоюродных и троюродных родичей, что, не опасаясь лесовиков, обосновывался он на дальних покосах отдельным станом. Выезжал в луга полным составом, оставляя в Ратном только нескольких, совсем уж ветхих, стариков да старух. В один день не стало рода, не пожалели христолюбивые воины ни баб, ни детишек, ибо получили на сие деяние пастырское благословение и кровь лили не просто так, а во славу Божью.
Сам Агей только тем и спасся, что был в отлучке – остался он один, да еще меньшой Кирюха где-то в чужих краях обретался. Но! Но было Перуново братство! И был мальчишка из рода Репьев, за каким-то делом посланный в стан Лисовинов. Был он верхом и ушел-таки от убийц, унося в плече стрелу, пробившую его тщедушное тельце насквозь. И хоть донес его конь уже без памяти – кровью изошел малец, – но отец нынешнего старосты Аристарха Семен Репей и так понял: беда! Остальное рассказали следы – отпечатки подков работы ратнинских кузнецов отличить был способен любой ратник.
Ратное перуничи брали как вражескую крепость, благо, из-за лесовиков в поля выезжали при оружии и с доспехом, лежащим наготове в телегах. Главу убийц – старосту, имени которого с тех пор никто в Ратном не произносил вслух, Агей, обезоружив, ломал голыми руками, пребывая в такой ярости, что хруст костей пробивался даже через лязг оружия, а вопли казнимого слышны были, наверно, за версту и дальше.
Убийц перебили всех, а ратнинский поп и тут сумел извернуться – благословил с амвона справедливую кару убийцам, проклял их и пригрозил анафемой всем, кто еще осмелится сеять в Ратном рознь. Пытался даже и персонально Агея благословить, но тот, не постеснявшись, прямо в церкви обложил лукавого пастыря всеми срамными словами, какие знал, вышел вон и больше в церкви не бывал ни разу, напоказ молясь только в кладбищенской часовне.
«А вот это, видимо, правда. Слишком недавние события, Аристарх сам был свидетелем. Но, что интересно – табу. Не болтают об этом в Ратном, даже и намеков не слыхать. Похоже, психологический шок дает о себе знать до сих пор. Впрочем, на недавний бунт теперь придется взглянуть совсем иными глазами – как на попытку добить род Лисовинов. Вот оно как оборачивается-то…»
Сильна была ратнинская сотня – во времена мятежа полусотника Митрофана насчитывалось в ней восемнадцать десятков зрелых воинов[20], да много лет подряд имелось на подхвате по нескольку десятков новиков. А осталось под рукой Агея – слезы: меньше девяти десятков, да и то вместе с новиками, которых тоже было не так много, как в прежние времена. Видать, побились промеж себя христианский Бог да Перун об заклад – чья возьмет в Ратном? Поспорили, а потом, глядя на результат, горько о том споре пожалели, Велес же, в своем подземном царстве, хихикал злорадно да ладони потирал.
Тогда-то и порешили перуничи, что каждый из них обязан обрюхатить по пять холопок, а из родившихся мальчишек воспитать пополнение для сотни. Сказано Перуновым жрецом, правда, было несколько иначе: «Самое меньшее, пять, а так – кто сколько сумеет. У кого же и пятерых не выйдет, друзья и соседи пускай помогают, а буде случится у кого через те дела от жены недовольство, так и власть употребить не грех!»
«Какой сюжет для порнофильма! Особенно насчет соседской помощи – дас ист фантастиш! Впрочем, помнится, один из Римских пап, по тем же самым причинам, разрешил в Германии многоженство».
И с чего ратнинский поп поперек этого дела встрять решил? Нажаловался ему кто-то из баб, но ведь сами же христиане и говорят: «Жена да убоится мужа своего». В церковь Агей заходить не стал, на улице попа отловил, и крестил тот, через девять-десять месяцев, прижитых в грехе младенцев, шепелявя изрядной прорехой в передних зубах. А крестить ему пришлось тогда много – перуничи постарались на общее благо так, что аж самим удивительно сделалось, праздная баба[21] в том году в Ратном редкостью была!
А спустя некоторое время – новая беда! Явились в Ратное княжьи люди в поисках последнего выжившего сына Агея. Провинился Кирюха – княжью дочку украл. На старшего Лисовина смотреть страшно было, почернел весь, враз постарел, шутка ли – род пресечься может! Начали ему друзья намекать, мол, не старый еще, женись второй раз. Все настойчивей и настойчивей намекали, даже с десяток невест присмотрели, каждый на свой вкус. Но Агей все эти намеки однажды пресек раз и навсегда! Встал на капище под идолом и объявил: «Будет нам знамение! Если Корней уцелеет – правы мы были, а если сгинет – кровь односельчан пролили неправедно, тогда пресечение рода Лисовинов станет искуплением того великого греха!» Перечить Агею не осмелился никто.
Не пресекся род, вернулся Корней в Ратное! Награжденный и обласканный великим князем Киевским, с красавицей женой княжьих кровей, да еще и двух внуков Агею привез – Фрола и Лавра. Вранье это, будто ратнинский поп нарочно, чтобы напакостить Агею, такие имена близнецам дал, а Агей его за это еще раз отметелил. Крестили детишек в Киеве, и на крестинах сам великий князь за здоровье младенцев чашу осушил.
Воспрял духом Агей, даже будто помолодел, и перуничи возрадовались знамению, подтвердившему их правоту, а выжившие твердые христиане стали после ратнинской резни именовать сотника Бешеным Лисом. Хоть и звали его так только за глаза, Агей об этом прозвище знал и даже, кажется, им гордился. Однако недолго длилось отцовское счастье ратнинского сотника – умеет христианский Бог посчитаться за проигрыш, пусть даже и в пустячном споре, недаром же в десяти заповедях он сам себя именует Ревнителем! Поругались Агей с Корнеем, да так, что сын даже из отцовского дома ушел, благо, что после истребления почти половины твердых христиан свободного места в Ратном много стало.
Мирился Агей с сыном долго и тяжко, скольких трудов это стоило невестке Аграфене, только она и знала, да еще старуха Добродея, чье участие, в конце концов, и решило дело. А все потому, что не смирились твердые христиане с победой перуничей, и, если не выступали открыто, то втайне выдумывали то одно, то другое.
«Э! Господин бургомистр! А из-за чего поругались-то? Или тоже неприлично рассказывать? Ладно, решили же вы, сэр, не перебивать – терпите теперь».
Перво-наперво, месяца еще не прошло после ссоры, явился к Корнею молодой ратник Данила и сообщил, что одиннадцать молодых воинов порешили собраться в десяток и желают избрать себе десятником его – Корнея Лисовина. Был Данила из рода сотника Петра (того, что сам от сотничества отказался), и все молодые ратники в новом десятке были из твердых христиан. Агей аж задохнулся от возмущения, когда повестили на сходе о том, что его сын дал согласие стать десятником. Однако против обычая не попрешь – имеют право ратники выбирать себе десятников. Примирение же отца и сына это избрание затруднило еще больше.
Потом новая забота вылезла: измыслили (опять же твердые христиане) собирать Совет опытных воинов, носящих на пальце серебряное кольцо, даваемое за десять побед в поединке с равным противником. Обычай этот принесли с собой черниговцы, говорят, сам князь Мстислав такими кольцами своих храбрецов жаловал. Авторитетом среброносные ратники пользовались очень серьезным, а уж собравшись вместе, могли и самому сотнику окорот дать. И как-то так вышло, что начал этот Совет довольно быстро наполняться зрелыми мужами из твердых христиан, и перуничи оказались в нем в меньшинстве.
Подозрительно это показалось Агею, но все по правилам – каждый раз есть два-три свидетеля, да зачастую один из них десятник. Так мало того – трех лет не прошло, как пришлось сотнику надевать серебряное кольцо и Корнею да сидеть с ним на Совете глаза в глаза. Редким по ловкости мечником оказался Корней, да к тому же, если перед сечей выкликали противники поединщика, Корней всякий раз вызывался первым. И побеждал! Почитай, половину из десятка побед, надобных для получения серебряного кольца, он так и добыл – у всех на глазах! Зауважали Корнея Агеича в Ратном непритворно, тут уж и Агею деться некуда было – помирился с сыном.
Прожил Агей после этого еще долго. Дождался, пока вырастут и женятся внуки, дождался даже того времени, когда жена внука Фрола, после двух дочек, родила мальчика – правнука. Крестили того Михаилом.
А погиб Бешеный Лис через несколько месяцев после рождения правнука Мишки нелепо и обидно, даже тела не нашли – положили в домовину одежду и оружие. Перуничи справили по сотнику тризну, окропив алтарь кровью черного коня, и порешили двигать в сотники Корнея, которому шел уже тридцать седьмой год и который только что приобрел свое зловещее прозвище «Корзень».
Случилось же все так. Осенью на ярмарке в Княжьем погосте княжьи людишки, пришедшие в полюдье, попеняли Агею, что податей дреговичи привезли меньше обычного. Может, и врали – жадность княжьих людей уже стала притчей во языцех, но Агей пообещал порыскать по глухоманям в поисках неизвестных селищ лесовиков, после того как встанут реки и замерзнут болота. На снегу искать следы легче – летом-то лесовики за собой следов почти и не оставляют.
Сказано – сделано. Пока после большой облавной охоты по первой пороше ратнинцы разделывали туши, клали в ледники, солили и коптили мясо, выделывали шкуры да занимались другими заготовками, подкатили и крепкие морозы. Агей всего с десятком ратников отправился по лесам искать следы, а сотне наказал быть наготове – мало ли, большое селище найдется, одним десятком и не примучаешь. Хотя надежда отыскать крупное селение, доселе неизвестное, была невелика. Через несколько дней поисков наткнулись на след волокуши и нескольких пеших, пошли по нему. След раздвоился – волокуша и конские копыта в одну сторону, пешцы в другую. Агей своих людей тоже разделил: пятеро с десятником пошли по следу волокуши, а Агей, еще с пятерыми – по следу пеших. Переночевали в лесу и еще до полудня вышли к хутору извергов. Изверги встретили ратников, хоть и без радости, но вежливо: кланялись, пригласили в дом, выставили угощение. Дальше же – неизвестность. То ли опоили чем-то, то ли сонных зарезали, никто не знает, и спросить не у кого. Единственное, что поняли по следам десятник и пятеро оставшихся воинов – Агея и пятерых ратников, что были с ним, уже мертвыми (или без памяти) дотащили до проруби и спустили под лед.
Сами-то ратники, шедшие с десятником, никакого жилья не нашли, потому что след волокуши привел их к поляне со стогами сена. Двое молодых парней, грузивших сено на волокушу, увидев ратников, все бросили и скрылись в лесу, а следы их завели ратнинцев в такие буераки, что и пешему-то пролезть трудно, а уж конному и вовсе пути нет. Вернулись на старый след, к вечеру вышли к хутору. Изверги кланялись, приглашали в дом, сулили угощение, но никто из тех, кто ушел с Агеем, так и не появился, и это показалось десятнику очень подозрительным. На хутор не пошли, а пошарили вокруг и поняли, что тела сотника и ратников спустили в прорубь. Впятером лезть на хутор побереглись, а встали вокруг дозором, отправив гонца в Ратное.
Принесенная гонцом весть об убийстве сотника подняла в седло всех, способных носить оружие, и как-то само собой получилось, что во главе карательного похода встал Корней. Никто особенно и не удивился – на святое дело идет человек, за отца мстить! Только вот не догадывался никто, какой вид примет эта месть.
Шли быстро, чтобы не растягиваться – несколькими отрядами, и один из отрядов отловил по пути двух охотников дреговичей. Корней приказал их не обижать, но вести с собой. Когда подошли к хутору, увидели на снегу два пробитых стрелами тела – хуторяне, предчувствуя беду, пытались ночью сбежать, но ратники в дозоре не спали. Взять полным составом сотни хутор, где вместе с бабами и детишками, от силы, набралось бы два десятка народу, никакой сложности не представляло, но Корней задумал нечто иное. Он приказал снять плетень с огорода и обнести им хутор. Плетня оказалось недостаточно, и тогда в снег воткнули колья и переплели их ветками.
После того, как работа была завершена, Корней вышел к самому ограждению и заорал: «Эй, слушайте! Перун Громовержец всегда вашего Велеса побеждал, а Крест Животворящий над всем властвует! Посему судьба ваша предрешена, и изменить ее не может уже никто и ничто!» Похлопал рукой по плетню и снова заорал: «Знаете, что это такое?! Вы ведь, когда покойников своих хороните, корзинь для них плетете! Так вот, это – корзинь для вашего хутора, для всех сразу!»
Откуда-то из-за дома вылетели две стрелы, Корней принял их на щит и приказал поджигать хутор сразу со всех сторон. Кое-кому из ратников потом долго вспоминались крики заживо сгорающих людей. Стрелять по выбегающим с хутора Корней запретил, луки в руках держали только четверо: он сам, его приятель с детства Аристарх, ратник Данила и ратник Лука Говорун. Били бегущих по ногам, а когда выбегать люди перестали и крики затихли, раненых подобрали и зашвырнули обратно в огонь.
Дождавшись, когда пламя начнет спадать, Корней подозвал к себе захваченных охотников и наказал им: «Ступайте и расскажите всем: если к нам с добром, то и мы никого не обидим, а если нет… Коли понадобится, то я для всего Погорынья корзинь сплету! Так и рассказывайте!»
Кто первый придумал прозвище «Корзень», неизвестно, но так вскорости стали звать Корнея и ратнинские перуничи, и погорынские дреговичи, а потом и все Погорынье.
Так стал Корней сотником ратнинской сотни и правил ей без малого десять лет. Правил не только умело, мудро, но и удачно – люди понимающие знают, что сочетание мудрости и удачливости редко сходятся в одном человеке. Удачей было и то, что младенцы, рожденные холопками по решению Перунова братства, ко времени его сотничества стали уже зрелыми мужами, сами обзавелись многочисленным потомством, и сотня обрела почти былую силу. И то, что тесть его Святополк Изяславич, став великим князем киевским, оставил Туров и Пинск в области великого княжения, и на Туровский стол не сел очередной временщик; посадник – не князь, совсем уж не наглеет, да и помнит, что в Погорынье сидит не просто сотник, а княжий зять. И то, что на Волынском столе на какое-то время утвердился друг молодости князь Ярослав – настал покой на волынском рубеже, и то, что в Киеве, даже после смерти Корнеева тестя, не закрутились новые неурядицы, а сел на целых двенадцать лет мудрый и грозный муж – Владимир Мономах… Да мало ли событий, независимых от нашей воли, происходят вокруг в благоприятном для нас смысле, порождая некое «поле удачливости»? Случается, впрочем, и наоборот, и могут не помочь ни мудрость, ни умения. Корнею в этом смысле повезло.
Мудрость же Корнея – его собственное достояние. Сумел он, к примеру, правильно расставить людей. Во главе первого десятка встал ратник Данила, сделавшись первым помощником сотника. Десятником девятого десятка и старшим над двумя десятками лучших в сотне лучников стал Лука Говорун. Друга детства Репейку, вставшего во главе Перунова братства под именем Туробоя, путем сложных соглашений и договоренностей, сделали ратнинским старостой. На Княжьем погосте, тоже немалыми усилиями, пристроил еще одного друга – боярина Федора.
Главное же, умудрился Корней свести на нет внутреннее противостояние между перуничами и твердыми христианами, требуя от всех, без исключения, ратнинцев надлежащего исполнения обязанностей православных христиан, а перуново братство превратив в сообщество профессиональных воинов – да, со своими традициями, обычаями и ритуалами, но творимыми не напоказ и православному вероисповеданию вреда не наносящими, по крайней мере, явно. Сумел новый сотник оборотить дело так, что в среде ратников возникло и укрепилось убеждение: искусным воином помимо Перунова братства стать невозможно. А поскольку о серебряном кольце мечтал всякий новик, то молодежь в братство уже можно было не зазывать, а отбирать – запретный плод сладок, а творимое в тайне для молодежи привлекательно вдвойне. В результате пошли в Перуново братство и дети твердых христиан (втайне от родителей или при их молчаливом попустительстве), а неугодные Корнею, даже из родов перуничей, туда не допускались (например, недоброй памяти десятник Пимен).
Ну, а умения Корнея – особый разговор. Проистекли они и из удачи, и из мудрости (хотя о какой мудрости можно было говорить в годы беспутной юности?). Тем не менее, обретаясь в разных землях и при разных княжеских дворах, тратил время Корней не только на шалости и удовольствия – где только можно, присматривался к действиям воевод, а если получалось, то и расспрашивал их или умудренных жизнью ветеранов. Потому и воевала сотня успешно, и потери были невелики, хотя за десять лет легло их на душу сотнику немало – два-три человека в серьезной схватке, десяток-полтора в длительном походе, например, в степь на половцев. Но видели ратники, что умеет Корней людей беречь, и каждую потерю переживает непритворно, и умеет расчесться за нее вражеской кровью, оттого и не услышал он от ратников ни одного слова упрека за все десять лет. От ратников, потому что жены и матери убитых – особый разговор.
Удачливость нового сотника снова и снова порождала разговоры о непростой крови, бродящей в жилах Лисовинов. Ложились эти разговоры на благодатную почву общего недовольства Рюриковичами и каких-то смутных надежд на приход «правильного князя». Да, ратнинцы гораздо меньше других страдали от произвола княжьих людишек, да, всему Погорынью было легче оттого, что подати собирает погостный боярин, а не наезжающие раз в год в полюдье бояре с дружинниками, которых боялись и ненавидели чуть ли не как половцев. Но живут-то люди не в пустыне – слухи и разговоры доходят. Вон, недалече, на другом берегу Случи, стоном стонут после наездов княжьих людишек, и не только смерды, но и бояре-вотчинники. Причем совершенно одинаково, что в нижнем течении Случи – в княжестве Туровском, что в верхнем течении – княжестве Киевском, бывших древлянских землях, что и вовсе в истоках – в княжествах Владимиро-Волынском и Галицком.
А что до «правильного князя», так в любом городе и окрестностях бояре, купцы и ремесленный люд желают иметь своего постоянного князя, который не поглядывал бы на более почетный и богатый стол, а остался бы навсегда и завещал княжество детям.
«А что, были на Руси такие времена, чтобы народ не ждал доброго государя? Так и в Ратном – спроси: „Какие надежды связывают ратнинцы с этой самой „непростой“ кровью?“ – толком не ответит ни один, но ждут чего-то… эдакого, ждут!»
Не дождались. Моровые поветрия, увечье Корнея на Палицком поле, разгром (иначе и не назовешь) ратнинской сотни в походе на Волынь против Корнеева друга молодости князя Ярослава прервали удачливую полосу в жизни сотника, а вместе с ним и в жизни Ратного. Казалось, уже не поднимутся Лисовины… Ан нет, поднялись! Вернулся Корней из Турова с княжеской гривной на шее, снова подмял под себя сотню (хоть уже и не ту, что была когда-то), дважды сводил ратников за добычей… Да-а, обычный человек так вряд ли смог бы, видать и правда непростая кровь! А уж когда Корнеев внук Михайла чудесить начал, так и вовсе всякие сомнения пропали… Опять же, «Бешеный Лис» – не может быть, чтобы все это просто так!
* * *
«М-да, сэр, одно дело теоретически рассуждать о том, что у каждой семьи есть свой скелет в шкафу, и совсем другое – понять, что у вашей собственной семьи в шкафчике имеется не один, а целая коллекция скелетов. Средневековье, блин, режут друг друга, как курей и, что характерно, не из каких-то злодейских соображений, а исключительно во славу божью. Только боги у всех разные!
Да уж, в идеологии „каждая запятая стреляет“, лучше и не скажешь. И не зависит это ни от времени, ни от места – что в Европе, во времена Реформации, что в „отдельно взятых“: Голландии – во времена Вильгельма Оранского, Англии – во времена Кромвеля, Франции – во времена Робеспьера, Штатах – при Эйби Линкольне, у нас – в Гражданскую… Да и в других местах и иных временах. И совершенно неважно, как это называется: религиозными догматами, философской концепцией или политической доктриной. Рецепт один – резня с благими намерениями. Вот и живой пример: в изложении главы Перунова братства „твердые христиане“ выглядят сущими подонками, а их убийство получается вполне справедливым делом, еще и знамением божьим освященным.
Но как лорд Корней сформулировал: „Перун Громовержец всегда Велеса побеждал, а Крест Животворящий над всем властвует“ – златоуст, истинно златоуст! А вы-то, сэр, голову ломали: как это все совместить можно, чтобы у пацанов крыша не поехала? Да вот вам, пожалуйста!..»
– О чем задумался, Окормля? – прервал Мишкины размышления Аристарх.
– Да тут много о чем подумать придется, батюшка Туробой. Только приехали уже, – Мишка указал подбородком вперед, – вон, Нинеина весь прямо за деревьями.
– А все же? – непонятно почему заупрямился староста. – Или, может, спросить о чем-то хочешь?
– Да и вопросов тоже много, не для короткого разговора.
– Ну, а самый-то, самый? – любопытство Аристарха стало уж и совсем каким-то неестественным. – О чем более всего узнать хочется?
«По идее, вы, сэр, должны заинтересоваться своим необычным предназначением – княжья кровь, нестандартные способности и все такое прочее – намеки-то были более чем прозрачные… И напрочь обалдеть от открывающихся перспектив, а дальше последует вполне банальное: „Слушайся меня, и все у тебя будет“. Ну уж нет, насчет перспектив мы и сами как-нибудь…»
– А почему тебя Туробоем нарекли?
– Тьфу, чтоб тебя! Поехали… балаболка!
Глава 3
Август 1125 года. База Младшей стражи и окрестности
Аристарх остановил коня шагах в двадцати от ворот Нинеиного подворья и замер в седле, Мишка последовал его примеру, а отроки, в соответствии с предварительными указаниями старосты, выстроились полумесяцем позади них еще шагах в двадцати. Ждали недолго – Снежана, крутившаяся во дворе, увидала прибывших и тут же кинулась в дом. Минуты не прошло, как из дверей высунулась Красава, зыркнула на Мишку с Аристархом и втянула голову в сени, словно черепаха под панцирь. Впрочем, довольно быстро выскочила обратно и заспешила куда-то за угол дома. В проеме ворот появились Глеб с Нежданом, удивленно похлопали глазами – Мишка впервые явился в гости в доспехе и вел себя странно – и отпрянули под окриком Красавы.
Почти сразу же Красава вышла из ворот, а следом за ней… Мишкин подарок Нинее – бывший «смотрящий» Иона. Вид у него был вполне ухоженный и благополучный, если бы не совершенно тупое, ничего не выражающее лицо и неподвижный взгляд, упертый в спину маленькой волхвы. Иона, с двумя скамьями под мышками, тащился за девчонкой, как скотина на веревке, ничего вокруг не замечая и повинуясь только жестам соплячки, а та, не удостаивая «подарок» ни словом, ни взглядом, повелительным жестом указала место для установки скамей и мановением руки отпустила Иону.
«М-да, сэр, когда вы решили что „смотрящий“ крепко попал, это было еще, оказывается, мягко сказано, такое вам и в голову не приходило. Оказаться „макиварой“ для отработки приемов ментального воздействия самодовольной девчонкой, врагу не пожелаешь… Ох, мать честная!»
Охнуть было отчего. Мишка подозревал, что Нинея заставит Иону оказывать ей сексуальные услуги, а может быть (чем черт не шутит?), и станет использовать его в качестве донора «жизненной энергии», по методике своей то ли тетки, то ли наставницы, бабы Яги. Но чтоб с таким эффектом! Нет, она не стала двадцатилетней красавицей, но пожилые-то женщины ведь тоже бывают и постарше, и помоложе. Если раньше Нинея выглядела, по меркам ХХ века, хорошо сохранившейся женщиной лет семидесяти пяти, то теперь ей едва можно было дать шестьдесят! Ну, может быть, с очень небольшим «хвостиком».
Нинея была строга и величественна, но Мишка готов был поклясться, что она заметила его реакцию на изменение своей внешности (ну не могут женщины такого не замечать!), и реакция эта ее вполне удовлетворила. Впрочем, Мишке очень быстро стало не до того – Нинея и Аристарх схлестнулись взглядами. Еще не сели, только встали возле скамей попарно – Нинея с Красавой, Аристарх с Мишкой, а уже…
Жрецы разных богов – Перуна и Велеса. Женщина и мужчина: одна – считающая всех мужчин (за редким исключением) тупыми скотами, неспособными узреть и понять хотя бы половины сущего, другой, искренне убежденный, что все зло – от баб. Графиня и сельский староста, одна, исколесившая почти пол-Европы (а может, и больше), другой, после того, как стал старостой, даже не участвующий в походах ратнинской сотни – оставался беречь Ратное. Одна, получившая, по меркам XII века почти энциклопедическое образование, другой… Вот о знаниях и умениях Аристарха Мишка не имел даже приблизительного представления.
Нет, это не было поединком, подобным схватке с отцом Михаилом. Аристарх не шел на смерть, как ратнинский священник, а Нинея не собиралась его убивать, было похоже, что она даже и не рассержена, и не раздосадована появлением главы Перунова братства – просто-напросто они существовали в разных плоскостях бытия, почти не пересекающихся между собой, им нечего было делить, ну, разве что… Мишку. Да, пожалуй, так – Аристарх пришел сюда из-за него.
Ни поклона, ни приветственных слов – глянули друг другу в глаза, что-то там такое увидели (или не увидели?), и все. Нинея медленно опустилась на скамью, рядом, столбиком, словно аршин проглотила, пристроилась Красава. Аристарх почти синхронно с волхвой, так же неторопливо и с достоинством, занял свое место, Мишка попытался проделать то же самое, но не вышло – такому тоже надо учиться. И почти сразу ощутил давление. Кажется, Нинея не делала ничего, но руки у Мишки вдруг зажили самостоятельной жизнью – заерзали по коленям, принялись оправлять пояс, ножны с мечом, потянулись теребить подол кольчуги. Проявилось ли это как-то внешне, неизвестно, но внутри Мишка ощутил приближение паники – Аристарх просил прикрыть его от Нинеиного волхвовства, а он сам…
«Отставить бздеть!!! Туды тебя в козлодуя трам-пам-пам… не может эта старая кошелка ничего мне… стоп!!! Ощущение знакомое!»
Ощущение действительно было знакомым – точно так же Мишка не мог совладать с руками, когда пытался изображать из себя посла воеводы Погорынского к боярыне Гредиславе Всеславне… Славно тогда волхва его мордой по столу повозила! Мишке сразу же полегчало – то, что понятно, не так страшно. Он поднял глаза и… чуть не выматерился вслух: Нинея на него и не смотрела, а вот Красава уставилась, как очковая змея на мышь. В выражении лица девчонки явственно проступили хищные черты, рот слегка приоткрылся, показав края верхних зубов, и стало вдруг совершенно ясно: соплячка испытывает удовольствие – власть ей, власть над людьми подавай!
«Ах, так это ты, посикуха! Ну, погоди, сейчас я тебе покажу видеоролик!»
Еще тогда, когда Аристарх попросил прикрыть его от воздействия Нинеи, Мишка вспомнил рекомендацию волхвы – в случае ментальной атаки «выпускать из себя Лиса» и воображать, как тот вцепляется клыками в горло противника. Раздумывая об этом, Мишка пришел к выводу, что у него имеется весьма существенное преимущество перед людьми XII века – натренированное кинематографом и телевидением воображение позволяло представить себе очень реалистическую картинку, практически любого содержания. Люди же XII века могли себе представить только то, что видели сами, да и то, весьма несовершенно. Вспомнить хотя бы иконы и иллюстрации в книгах того времени – такое ощущение, что рисовали не профессиональные живописцы, а дети. Ни подчинения законам перспективы, ни знания анатомии, ни других технических приемов! Нет, построить в сознании реалистичную картинку, да еще не статичную, а в движении, в XII веке способны были очень, очень немногие, а создать чисто фантазийный видеоряд (из того, чего сам никогда не видел), вообще, наверно, никто!
Этим-то Мишка и воспользовался – мысленно начертил между скамьями, на которых попарно сидели собеседники, воображаемую линию и заставил бегать по ней туда-сюда Лиса. Причем вправо бежал натуральный лис с рыжей, поблескивающей на солнце шерстью, а налево «оцифрованный» – бронзовый, позванивающий металлическими шерстинками и с весьма красноречивой зарубкой на загривке, оставленной Мишкиным кинжалом. Превращение на поворотах живого лиса в бронзового и обратно получилось настолько эффектным, что понравилось даже самому Мишке.
Что уж там уловили Нинея с Красавой своим экстрасенсорным восприятием (саму картинку или только общие ощущения), понять было невозможно, но Красава, явно испуганно и недоуменно, зыркнула на траву между скамьями, по которой «бегал Лис». Дополнительно Мишка припомнил свое желание выпороть маленькую волхву, после того, как та поизгалялась над дядькой Никифором (помнится, получилось так хорошо, что у Красавы даже зачесалась попка), и постарался максимально энергично «транслировать» это свое чувство в сторону волхвы и ее правнучки. Тут уж Красава откровенно заерзала на скамье и успокоилась только после того, как Нинея едва заметно повела плечом.
С Красавой все явно удалось, а вот Нинея… Мишка глянул на волхву, и у него чуть не отпала челюсть – вдовствующая графиня Палий вроде бы и не улыбнулась, и не подмигнула, но как-то сумела передать Мишке веселое, даже озорное, одобрение, как если бы воскликнула вслух: «Ай да Мишка, ай да сукин сын!»
«Чего она веселится-то? Элементарно, сэр! Помните, как сия почтенная дама неоднократно высказывалась на тему: „Если уж я тебя заворожить не могу, так и никто не сможет“? Она и дальше будет всячески поощрять вашу самодеятельность, чтобы вы не превратились в „оловянного солдатика“ перуничей. Поняла, надо полагать, что вы не с подачи Аристарха колдуете – Лис-то ну никак в „номенклатуру“ Перуна не вписывается!»
Мишка и сам не заметил, как его отпустила суетливая неловкость – правая рука успокоилась на колене, левая – на рукояти меча, а корпус распрямился, привычно распределяя тяжесть кольчуги без перекоса в какую-либо сторону. Аристарх все это время демонстрировал прямо-таки каменное спокойствие – как сел, так и замер, глядя куда-то за левое плечо Нинеи.
Красава наконец-то справилась с собой (или Нинея помогла) – прекратила ерзать, коситься под ноги, построжела лицом и вопросила так, словно это Великая Волхва заговорила голосом десятилетней девчонки:
– С чем пришел?
Не «пришли», а «пришел», и вопрос адресовался непосредственно Мишке.
«Они что, так и будут через нас общаться? Политес, едрена шишка… А вот хренушки! Аристарх с Нинеей – как хотят, а себя с соплячкой равнять не дам!»
– А здороваться тебя не учили? – что-что, а командный тон Мишка уже отработал и задать вопрос умел жестко.
Такой поворот, видимо, предусмотрен не был. Красава стрельнула глазами на Нинею, похоже, ничего в ответ не получила и дала слабину:
– Так мы с тобой сегодня уже…
– Не от себя говоришь и не с одним мной! – Мишка был неумолим.
– Здрав… вы будьте… – прочирикала Красава, растеряв всю свою самоуверенность, – с чем пожаловали?
– И вам здравия! – Мишка почтительно склонил голову в сторону Нинеи. – Позволю себе напомнить об одном давнем нашем споре. Я тогда усомнился в том, что Красаву уже можно посвящать в искусство творения волшбы, вкладывать силу в детские руки, а светлая боярыня попрекнула меня тем, что я сам вкладываю опасную силу в руки детей, доверяя отрокам убойное оружие. Ныне случилось так, что можно и нужно о том споре вспомнить – три отрока мертвы, а Красава лишь чудом жива осталась…
Мишке пришлось прерваться, потому что Нинея дернулась всем телом, чтобы повернуться к правнучке, но сдержалась и замерла, а Красава втянула голову в плечи и зажмурилась, похоже, ожидая беспощадного удара.
«Да она же ничего старухе про драку с Юлькой не рассказала! Ой, быть тебе драной, девонька, да еще как драной… А вы-то, сэр, стукачом оказались, заложили девку, вот те на!»
Под требовательным взглядом волхвы Мишка рассказал обе истории: сначала о вызволении Красавы из собачьей клетки, а потом о дуэли и последовавших за ней репрессиях, добавил и свои соображения по поводу Нинеиного запрета перемешивать десятки, а в конце заключил:
– С отроками мы справляемся, хотя, порой, и сурово поступать приходится, а вот с Красавой сложнее. Светлой боярыне Гредиславе Всеславне, конечно, виднее, но, на мой взгляд, волхвовскую науку она постигает хорошо – Савва-то заметно на поправку пошел, но пределов – ни своих, ни чужих – не разумеет. Юль… Людмила же ее убивать или калечить не стала, а сотворила так, что Красава сама бы убилась – просто-напросто расшибла б себе голову об решетку, и все. Это ж какая разница в силах между ними, что Людмила может ее заставить самое себя убить! А Красава этой разницы не разумеет – посчитаться с Людмилой собирается. Добром это не кончится, а меня рядом может и не оказаться… больше же, как мне думается, никто в крепости Людмилу остановить не сможет.
Однако и это – не самое скверное, хотя, казалось бы, куда уж хуже? А вот есть кое-что и похуже – Красава от власти над людьми удовольствие получает, и чем дальше, тем больше, а это засасывает сильнее пристрастия к хмельному. Сама она того, к сожалению, не понимает. К примеру, думает, что с Людмилой из-за меня поцапалась, а на самом деле – соперничества во властвовании над умами и душами отроков не стерпела.
Мишка говорил, а сам пытался хоть как-то уловить реакцию слушателей на сказанное. Во всех этих мистических заморочках, которыми руководствовались бабы и девицы, обладающие «нестандартными» способностями и навыками, он разбирался слабо и сейчас, что называется, вступил на тонкий лед предположений и догадок, постоянно рискуя ляпнуть какую-нибудь несуразицу. Плюс, пресловутая женская логика, которую ему не постичь даже теоретически… Тем не менее, Нинея, кажется, слушала внимательно и, что самое удивительное, Аристарху, похоже, тоже было интересно, а Красава… на нее было просто жалко смотреть – предчувствие неизбежного наказания начисто задавило девчонку. Невольно ей посочувствовав, Мишка попытался хоть как-то смягчить ситуацию:
– Прошу понять меня верно: я не жалуюсь и наказания для Красавы не прошу – Людмила ее и так крепко попотчевала, – но пригляд за ней нужен, причем пригляд мужской, а потому хочу забрать в Воинскую школу брата Красавы Глеба. Мне ведомо, что светлая боярыня Гредислава Всеславна почитает мужскую половину человечества ущербной – неспособной ощутить тонких течений сущего… спорить с этим не берусь, но в Воинской школе и вообще во всей крепости – мужской мир, со своими законами, обычаями и вещами, само собой разумеющимися, для женского ума непонятными, неприятными, а то и невыносимыми. Глеб же все это понять сможет и сестру от ошибок удержит… да и Савве приятель нужен, не все ж ему с девчонкой-то…
Мишка запнулся, поняв, что «поехал не туда», и быстренько поправился:
– Братишка мой Семен командует десятком, где собраны ровесники Глеба, туда его и определю, но христианские обряды исполнять понуждать не стану, а Глеб пусть проследит за надлежащим поведением сестры… Волшбу творить на земле, осененной крестом, все равно, что гадить на чужом капище… непотребно это. Да и известия про жизнь в крепости Глеб сможет приносить светлой боярыне по-мужски – с пониманием, а не так, как девчон…
Злой удар волхвовским посохом в землю прервал Мишку на полуслове, видать, все-таки ляпнул что-то несуразное! Тут же это и подтвердилось – Нинея наконец-то заговорила:
– Поучать меня будешь?! Только крест где появится, так сразу всех в округе жизни учить начинают! И кто? Скоты тупые, ничего, кроме силы, не разумеющие! Волшбу творить? Да зачем? Вас всех и так…
И тут Аристарх ДАЛ! Ох, как дал!
Мишка вдруг ощутил, что сзади над ним навис кто-то огромный и чудовищно сильный, поигрывая не менее чудовищным оружием и упершись взглядом в то место на Мишкиной шее, удар в которое отделит голову от тела легко и чисто, проведя лезвие точно в щель между шейными позвонками – не в кость, а в хрящ. Аж волосы на затылке зашевелились! И, одновременно со смертельным ужасом (боже, какой восторг!), Мишка наконец ощутил то, чего безуспешно добивался от него Алексей – полное слияние с висящим на поясе оружием! Да, он был несравнимо слабее того, нависшего сзади, но он был РАВЕН ему в братстве острого железа, ставшего даже не продолжением руки, а неотъемлемой частью организма – как крылья у птицы, ибо какая же птица без крыльев?
И пришло понимание: Аристарх просил прикрыть не из-за слабости, а из-за неспособности ограничивать силу своего воздействия – все или ничего, а это тоже бывает неуместным и опасным, как ввязаться в мордобой на дискотеке, впершись прямо на танцпол на бронетранспортере.
У других собеседников ни восторга, ни понимания не наблюдалось. Красава… Красавы не было, был детеныш мелкого зверька, напуганный даже не до потери сознания, а до блокирования рефлексов, способный только на мелкую дрожь и неконтролируемое опорожнение кишечника и мочевого пузыря. Нинея… Нинеи тоже не было, во всяком случае такой Нинеи, какую знал Мишка. Внешне неподвижная, с закаменевшим лицом, внутри (Мишка ощутил это вдруг обострившимся восприятием) волхва обратилась в дикую кошку, защищающую детенышей и готовую схватиться хоть с мамонтом, хоть с динозавром, напрочь игнорируя полную безнадежность своего положения.
Аристарх, кажется, достал даже до отроков – Мишка услыхал сзади несколько щелчков взведенных самострелов и непередаваемый, едва слышный звук, с которым разворачиваются кольца боевого кнута. Изобразив правой рукой сигнал «Стой», он даже не стал оглядываться, откуда-то пришла уверенность: заметят, поймут и исполнят беспрекословно.
– Молчать, баба! – рявкнул Аристарх.
Это был не голос старосты, а гром небесный, исполненный человеческим голосом. Мишка, если и не считал себя мастером ненормативной лексики, то уж наверняка не был и дилетантом в этом специфическом виде искусства, но даже он, при всей своей «подкованности», не смог бы подобрать слова или выражения, несущего в себе столько презрения, уничижения и даже брезгливости, сколько умудрился вложить в слово «баба» Аристарх! Впрочем, и Аристарха тоже не было, был Туробой, умеющий, как выяснилось, пробудить боевой экстаз даже в мальчишке и, одновременно, смять, подавить, разметать волю противника! Из всего, что видел ЗДЕСЬ Мишка, именно это, похоже, и проходило по разряду боевой магии – отвлечь, напугать, дезориентировать и, выгадав таким образом мгновение, добить обычным оружием. ТАМ от поклонников восточных единоборств Мишка много слышал про всякие энергии и ментальные атаки, но не очень в это верил, а сейчас на собственной шкуре убедился в правдивости тех рассказов.
– Долго ты терпение Перуна испытываешь! – продолжал рычать староста, медленно поднимаясь со скамьи. – Слишком долго!
Вз-з-зинь! Мишкин меч радостно (именно радостно!) вылетел из ножен, а Мишка вдруг понял, что стоит лицом к Туробою, закрывая собой Нинею и Красаву. Какая сила сдернула его со скамьи, он и сам не понял. Женщин понесло защищать или боевой транс «пришпорил» тело, отключив рассудок? А может быть, просто захотелось повернуться лицом к тому, огромному и сильному, кто навис сзади? Мишка и сам не разобрался, но зато прекрасно понял, что он покойник – Туробоя было не остановить! Но и не встать против него тоже было невозможно!!! И… и наплевать!
«Ты что? Идиот! Похрен!!! Есть упоение в бою!!!»
А дальше… дальше началось такое… такое… Рациональная часть сознания Михаила Андреевича Ратникова относилась к подобным вещам вроде бы с пониманием, во всяком случае, признавала сам факт наличия мотиваций, способных высвободить скрытые резервы организма, а вот эмоциональную часть сознания это все никак не трогало – просто не имелось соответствующего личного опыта, а литература, поэзия, кинематограф изображали все это настолько, по его мнению, слащаво и неубедительно…
Пальцы Нинеи скользнули по Мишкиному рукаву и легли на кисть левой руки, мертвой хваткой вцепившейся в ножны у самого устья. И… да, черт побери, нет в человеческом языке слов, способных это описать! В единую вспышку, казалось, способную выжечь мозг, вместилось все: и Нинея, глотающая слезы, вздрагивая плечами под привезенным из Турова платком, и бледная до синевы мать, лежащая в санях вместе с тушами убитых волков, и Юлькина ладошка, зажатая между Мишкиными плечом и щекой, и еще множество всего – и ОТТУДА, и ОТСЮДА.
Вспышка полыхнула и угасла, оставив после себя глаза Туробоя и его правую руку. Как с расстояния меньше метра можно удержать в поле зрения и то и другое, было совершенно непонятно, но получалось! Медленно-медленно, как бывает только на экране, большой палец правой руки Туробоя сначала перестал оттягивать вниз пояс, за который он был засунут, потом начал вылезать наружу, а остальные пальцы, до того сжатые в кулак, распрямляясь, указали направление, в котором будет двигаться рука – к рукояти меча.
Точно так же медленно, но все же побыстрее руки Туробоя, кончик Мишкиного клинка пошел с уровня левого плеча в ту же сторону и, вроде бы несильно, звякнул плашмя по оголовью рукояти чужого оружия: «Лучше не трогай!». Звякнул и тут же двинулся влево, очень красноречиво намекая на то, что может по своему выбору либо рассечь руку между пальцами, либо ткнуться прямо в середину живота, защищенного одной лишь льняной рубахой.
Взгляд Туробоя, словно привязанный, проследовал за острым железом, а рука приподнялась, собираясь ударить по плоской стороне клинка, сбивая его вниз, но меч, будто издеваясь, повернулся заточенным ребром: «Бей на здоровье!», а потом едва-едва, почти нежно, коснулся льняного полотна.
Сколько раз заставлял Алексей Мишку «играть мечом», подкидывая на кончике клинка разные мелкие предметы, но ни разу еще у Мишки не получались столь быстрые и точные, прямо-таки игривые движения. Меч стал почти невесомым, повинуясь даже не сокращениям мышц, а одним лишь мыслям; и зрение обострилось, став почти круговым; и тело, вроде бы почти не двигаясь, постоянно перетекало из одного положения в другое, почище, чем на занятиях у Стерва. И… не страшен стал Туробой, совсем не страшен!
Миг, и наваждение сгинуло – время снова потекло в нормальном ритме, меч обрел вес, Красава медленно сползла со скамьи на землю, Нинея шумно вздохнула, а Туробой легко отмахнулся от Мишкиного клинка, пробурчав:
– Не засти, не с тобой разговор… – помолчал, дожидаясь, пока Мишка сдвинется в сторону, и продолжил, оставаясь стоять, нависнув над Нинеей: – Опять вывернулась… изворотлива, аки Велес твой.
– Ты не жрец… – попыталась вставить Нинея.
– Да! – прервал ее Туробой. – Всего лишь потворник[22], но на тебя, старая, и того довольно будет! Нечем тебе воинскому духу противиться!
«Это что же, у языческих жрецов тоже какая-то иерархия и чины были? Потворник, надо понимать, ниже жреца, но тоже не мало, раз он так на Великую Волхву наезжает… Стоп, не отвлекаться!»
Туробой тем временем продолжал вещать ультимативно-издевательским тоном, и когда по лицу косящейся на лежащую Красаву Нинеи становилось уж очень заметно, что она не столько слушает, сколько терпит, в голосе его снова прорезался громоподобный рык.
– …Коли ты о войске возмечтала, то не бывает войска без князя, как и князя без войска! Есть он у тебя – настоящий князь? Не избранный, не поставленный, не самозваный, а природный – князь по крови и по духу? Видать, есть, коли ты войском озаботилась! У нас тоже есть!
«Это он о ком?»
– А осенен ли твой князь благостью богов, способен ли наделить землю свою благополучием, призвать на нее благословение и защиту высших сил? Наш может! Ему и Макошь, и Перун благоволят, и от Креста он милостью не обделен, да и Велес твой к нему добр!
«О вас, сэр Майкл, о вас, о ком же еще?»
– А прославлен ли твой князь истинно княжьим делом – градостроением? Ведь никто, кроме князей, от веку города не ставил![23] Наш один городок уже заложил!
«Что он несет? Да я же без Нинеи ничего бы…»
– А даровано ли твоему князю воинское искусство? Удачлив ли он, храбр ли, почитает ли его дружина? Наш храбр, удачлив и люди ему подчиняются охотно! Вот, гляди! – Туробой швырнул под ноги Нинее добытый в Отишии посох волхва. – Кажись, второй уже? А?
«Вранье! Я в Куньем городище вообще не был!»
– А теперь самое главное – способен ли твой князь переять удачу другого князя? Сможет ли одолеть в бою, перейдет ли к нему сила и удача побежденного?[24] Вспомни своего князя и погляди на нашего – кто кого одолеет?
«Ему что, Корней рассказал, что княжича Михаила соплей перешибешь? Да нет же! Он про Нинеины планы ничего знать не может – блефует, зараза, но как блефует!»
– На этом все! – совершенно неожиданно закруглился Туробой. – Нужное ты услыхала. Поймешь – твое счастье, не поймешь – твоя беда! Пошли, парень!
Туробой ухватил Мишку за плечо и чуть ли не силой поволок его к сидящим в седлах опричникам, задев ногой и опрокинув опустевшую скамью, на которой они до того сидели.
«Ну, это уж хамство, господин бургомистр! Можно было бы и аккуратнее, прямо, как дверью хлопнул».
Оглянувшись, Мишка увидел, что Нинея склонилась над лежащей на земле Красавой.
– Дядька Аристарх, ты Красаву-то не убил, часом?
– Оклемается, от этого не умирают… Зато и наказания от старухи избежит, то на то и вышло, а урок нужный получила! Нет, ну это ж надо так обнаглеть! Отроками она повелевать взялась! Козявка, едрен дрищ! Ничего, теперь в разум войдет…
– Если вообще разума не лишится… – неуверенно пробормотал Мишка, – дите ж еще совсем…
– Вот с малолетства и надо вразумлять! Меж бабья пускай свои выкрутасы творит, среди холопов! С вольными смердами уже как выйдет, а перед воином баба, волхва она или не волхва, только в одном виде быть должна: глаза в землю, язык в жопе, руки на п…е!
– Ну уж… – Мишка от такого пассажа даже слегка опешил.
– Не «уж», а «так»! Иной вид может быть только по приказу… и еще, когда баба воина из похода или долгой отлучки встречает! Тогда в правой руке чарка, в левой – закуска, подол – в зубах! И никак иначе!
Подобные высказывания, да еще со смачной присказкой «едрен дрищ», были настолько нехарактерны для ратнинского старосты, обычно степенного и выдержанного, не склонного к ругани, что Мишка даже споткнулся на ровном месте. Потом, правда, вспомнилось «в тему», как призванные на армейские сборы с виду вполне приличные мужики, надев форму и оказавшись в казарме, превращались вдруг в такое жлобье… Видимо, тут имел место тот же эффект – смена имиджа: староста слишком вошел в роль сурового воина, вправляющего мозги глупым бабам и подросткам.
– А ведь ты соврал, Окормля! – поведал неожиданно Туробой, умащиваясь в седле.
– А?
– Помнишь, ты ляпнул, что волшбу творить в крепости, под сенью креста, все равно, что гадить на чужом капище?
– Да… а что такое?
– Крепость с часовней не капище, а славище! Капище – место упокоения умерших, а идолы на капище, суть почти то же самое, что кресты на христианских могилах. На капищах творят тризны по усопшим, общаются с душами предков, приносят им жертвы[25]. Так что капище – что-то навроде жальника, кладбища, хотя и на иной лад, чем у христиан[26]. А богов мы славим на славищах, там идолов нет, не нужны они богам. Мы, славяне, славим своих богов только за то, что они есть. Мы ничего у них не просим, потому что они уже все нам дали. На своих праздниках мы приносим им дары, но это не подношения, а приглашение к нашему праздничному столу, этим мы показываем, что мы, их внуки, живы, что у нас есть все необходимое и мы помним наших богов и наших предков, помним и храним наше уважение им. А если ты начинаешь чего-то просить у богов, значит, ты слаб. Слаб прежде всего духом.
Староста пристально посмотрел на Мишку, как-то вдруг весь подобрался, и в голосе его снова зазвучал рык:
– Это в христианских храмах у Бога все время канючат: «Подай, прости, помилуй, спаси!» Рабы, едрен дрищ! Понял теперь, для чего воинам Перуново братство нужно… даже если они христиане? Понял?!
– Д-да…
– Так вот: чтобы я больше от тебя не слышал, что мы отрокам умы смущаем! Воинов мы воспитываем, воинов!
«Ох, мать честная! Так вот почему лучшие воины в Перуновом братстве воспитываются! Морально-психологическая подготовка, идущая вразрез с христианской кротостью – не проси, а будь достоин, встань вровень с предками и богами! Да ведь Нинея о том же самом толковала! „Ощути себя наследником древнего рода, продолжателем дел славных предков, частицей великого народа славянского, внуком Божьим!“ Нет, милейший бургомистр, зря вы баб за людей второго сорта держите, самую суть они не хуже вас понимают!»
– Понял, батюшка Туробой… прости, не по злобе дурное сказал, по незнанию.
– То-то же! А отроков теперь можешь перекидывать из десятка в десяток, как захочешь. Эта, – Туробой небрежно мотнул головой в сторону подворья Нинеи, – и пикнуть не посмеет.
«Ну уж и „не посмеет“… Нет, герр бургомистр, вы, конечно же, великий и ужасный, но и бабка тут тоже не в СОБЕСовской очереди стоит. „Не сочтет нужным“ или „посчитает несвоевременным“ – вот это для Нинеи больше подходит. И вообще, весь этот спектакль, похоже, разыгран только для вас, сэр Майкл, потому что объяснить Нинее ее ошибку и порекомендовать не упорствовать Аристарх мог бы и через Беляну… но как он нам всем по мозгам врезал! Нет, сэр, спектакль был нужен! Иначе, как бы он вам силу воинского духа продемонстрировал? И… вот, блин! Этот спектакль и для Красавы тоже нужен был! Бабка ей сколько угодно могла на словах объяснять про силу служителей Перуна, но вот так почувствовать ее на собственной шкуре… Лучшего лекарства от детского беспредела и не придумаешь!
Они что же, сговорились? Или Нинее было приказано, а она умудрилась, исполняя требование, от которого не могла отказаться, соблюсти как-то и свой интерес? А может, это было совместное действо коллег, которым потребовалось провести „практикум“ для учеников? Теперь встретятся где-нибудь и обсудят результаты… да еще и лорда Корнея третьим пригласят… Хватит, сэр! Остановитесь, а то в любом слове и взгляде заговоры видеть начнете! Учиться! Да, блин, по Ленину: „Учиться, учиться и еще раз учиться!“, тогда и начнете понимать смысл происходящего! А в условиях дефицита информации все ваши гадания – чистой воды паранойя!»
Когда Мишка с Туробоем въехали на лесную дорогу и Нинеина весь скрылась за деревьями, староста резко расслабился, утер рукавом лицо и шумно вздохнул:
– Ф-ф-у-х-х, парень, учить тебя… Воевать и то легче!
– Учить? – изобразил удивление Мишка.
– А ты думал, я сюда ради этой бабищи притащился? Да все, что я ей сказал, она не хуже меня знает, а силой покрасоваться – так это отрокам твоим пристало, я для таких игрищ стар уже. Просто Леха уже отчаялся тебя отучить все только разумом понимать – вреден разум в бою, медленный он, тело само все делать должно по велению души горящей! Почуял разницу? Вижу, что почуял – меч у тебя в руке, как живой, играл! И много в тебе тогда разума было?
– Я как-то и не подумал…
– И не надо! – Аристарх решительно рубанул ладонью воздух. – У настоящего воина, когда требуется, тело само думать может! Зрение, слух, обоняние, осязание ему все, что надо, говорят, разуму к этому добавить нечего, а оружие само свое дело знает…
– Какая же война без ума…
– Война с умом, а поединок должен быть только на чувствах и навыках, чтобы оружию не мешать… Что, не понял? Ну, как тебе объяснить… ну-ка, скажи: почему у Георгия Победоносца на иконах лик скорбен?
«Опять поехали… жрец, то есть, не жрец, а… потворник, кажется, а на христианские иконы ссылается…»
– Ну… потому, что Георгий великомученик…
– Дурак! Лик скорбен, потому что Георгий не убивает Змея, а казнит! Не сам решил, а приказано ему Зло покарать! Не он приговор вынес – воля Божья! Так и воин, настоящий воин – не след ему одновременно судией и вершителем быть. Настоящему воину власть дана узреть Зло, под какой бы личиной оно ни крылось, и приговор ему вынести, а оружие сей приговор исполняет! Но для этого оно живым должно быть, а такое бывает только в руке истинного воина! А еще его смущать ничего не должно – воин решил, оружие исполнило, и ответ за это не на нем, а на воине! Если же у тебя в руке мертвое железо, то все на тебе, и каждый раз раздумывать надо: как, да что, да «Не убий», да куда железо направить, да как самому уберечься, да… много чего, а если ворог, сиречь воплощение Зла, прямо перед тобой, то думать некогда! Понял?
– Вроде бы…
– Ни хрена ты не понял… пока, но начинаешь понимать… Ничего, выучим!
Как ни странно, но староста ошибался – еще ТАМ Михаил Ратников познал чудо отношения к автомату Калашникова как к живому существу, и, самое поразительное, «Калаш» на такое отношение отзывался! Сам бы не ощутил – не поверил бы, но ощутил и был при этом трезв и в своем уме, а позже, в конце девяностых годов, не единожды слышал рассказы о том, что есть, оказывается, и молитва «Калашу», правда содержания молитвы никто из рассказчиков не приводил. Разговор, как правило, сводился к тому, что там, в Чечне, молиться некому – все предано и все продано, а против «Аллах акбар» только «Калаш» и помощник…
– Скажи-ка лучше, – прервал Мишкины воспоминания староста, – а чего это ты такое сотворил, что та соплюшка враз увяла, да все себе под ноги косилась, будто что-то там такое бегает… или ползает?
– А вот его, – Мишка вытащил из подсумка бронзового Лиса, – между нами бегать заставил! В одну сторону обычный лис бежал – рыжий, а в другую вот такой – бронзовый, только размером с настоящего.
– Хо-хо! Силен! – Аристарх выставил в улыбке зубы из-под усов. – Это ты ловко!
– Да не в моей силе тут дело, дядька Аристарх, а в их чувствительности! Ты-то вот ничего не увидел, да и они… не знаю, видели ли Лиса, или как-то иначе ощущали…
– Старуха точно видела, да и девка, наверно, тоже. Хороший тебе оберег Настена дала, и попользовался ты им правильно…
– Почему Настена? Это у меня не от нее, а с куньевского капища…
– Едрен дрищ, – брови Аристарха изумленно взлетели вверх – так ты сам не знаешь, что это за зверь?
– Откуда? Отец Михаил о таком не рассказывал, а больше никто…
– Ну… это ж… я даже и не знаю… – Аристарх возмущенно шлепнул себя ладонью по бедру. – Да разве ж можно так?! Ты о чем своей головой книжной думаешь? Неизвестную вещь с собой таскать да еще пользоваться ей…
– Ну, почему же неизвестную? Мне Нинея объяснила, что есть двенадцать зверей Велеса: Лис, Медведь, Рысь…
– Что-о? – Аристарх прямо на глазах начал опять превращаться Туробоя. – Велесов звериный круг? Да ты хоть знаешь?.. Да не знаешь ты ни хрена, едрен дрищ! Не двенадцать зверей в круге, а тринадцать – в середине круга Змей – сам Велес!
Вщи-ш-ш, меч старосты вылетел из ножен, и Мишка невольно зажмурился и отшатнулся – староста, видимо «на автомате», хитрым воинским приемом швырнул солнечный зайчик с клинка ему прямо в глаза.
– А ну, бросай эту пакость!!! Бросай, я сказал!!! Да не наземь, а на меня, вот сюда!!!
Приказ был отдан так, что не подчиниться было невозможно. Чак! Хоть и не ходил сейчас староста с сотней в походы, но в молодости, видать, был лихим рубакой (впрочем, чего еще ждать от друга детства действительно искуснейшего мечника Корнея) – разрубить на лету бронзовую фигурку, это надо было суметь! Хотя уверенности в том, что это у Аристарха получилось, не было – слишком быстро все произошло. Лиса было откровенно жаль, однако переть против правил, которые сам толком не знаешь, но видимо, очень серьезных правил, глупо и опасно. Все, на что осмелился Мишка, так только отметить в памяти место, где последний раз мелькнул в траве бронзовый блеск – потом можно будет сюда вернуться и поискать.
– Вот так-то! – Аристарх, не глядя, ловко кинул меч в ножны. – Ну, подтирка Велесова, как обошла тебя, дурня… Знать бы раньше, так она бы у меня окарачь уползла, если б жива осталась… вернуться, что ли? – Аристарх начал придерживать коня, похоже, всерьез собрался поворотить назад. – Ты не почуял, волхва на тебя через него давила?
– Волхва… не знаю, но сам Лис меня подчинить пытался. – Мишка решил, хотя бы внешне, принять правила игры. – Может, по приказу волхвы, а может, и сам по себе.
– И что?
– А ничего! Я ему такую зарубку на загривке поставил… враз ручным сделался! Ты думаешь, почему он у меня так послушно под ногами туда-сюда бегал? Я, может быть, много чего не знаю, но куклой ничьей не буду, на это у меня сил и разумения хватит!
– Ишь ты… не будет он… Сам не заметишь, как оседлают… – говорил-то Аристарх тоном ворчливым, но вот выражение лица у него тону никак не соответствовало. Староста внимательно-настороженно всматривался в своего ученика, словно спрашивая: «Что ж ты за парень такой, Окормля?». – Ну, что ж… впредь тебе наука. Ладно, возвращаться – плохая примета… Поехали!
* * *
– Дуроломы!!! Козлодуи!!! Драть вас не передрать!!! Вы что о себе возомнили, соплячье племя?! Думаете, вам мечи навесили, так вы уже и полными ратниками заделались? Величаться перед отроками надумали, перед девками гоголем ходить? Щенки мокрожопые!
Корней драл глотку так, будто перед ним стояли в строю сотни воинов, хотя на самом деле на его перекошенную яростью рожу испуганно пялились лишь две шеренги опричников, да еще Аристарх с Мишкой сидели в седлах чуть в сторонке.
– Товарищей своих по боевому походу обижать? Урядникам грубить? Я вас уму-разуму научу, только сопли на версту во все стороны полетят!
Дед встретил вернувшихся из Нинеиной веси возле моста через крепостной ров уже верхом, вид имел сердитый и, перекрикивая топот копыт по настилу моста, скомандовал:
– А ну, все за мной, задрыги гребаные! – развернул коня и двинулся в сторону стрельбища. – Шевелись, едрена-матрена!
Правда, случилась при этом у Корнея маленькая заминка – ровно на столько, сколько понадобилось, чтобы кинуть на Аристарха вопросительный взгляд и получить такой же безмолвный ответ, которого Мишка не видел, потому что смотрел на деда. Впрочем, догадаться было нетрудно – Корней интересовался итогами визита к волхве, а Аристарх, видимо, его успокоил.
На стрельбище Корней приказал опричникам спешиться, построиться, и началась ругань, поначалу не имевшая никакой информативной нагрузки, но потом сквозь перлы ненормативной лексики начала проглядывать причина воеводского гнева.
Похоже, кто-то (а может, и не один человек) нажаловался воеводе, что опричники, опоясавшись мечами, загордились и начали вести себя неподобающе отрокам, находящимся в обучении.
Мишка прекрасно понимал, что иначе и не могло быть – ребята участвовали в реальных боях, видели кровь и смерть (свою и чужую), познали вкус победы и обрели вожделенные воинские пояса. Не могло это не сказаться на их поведении и самооценке. Да и на психике тоже. Взять хотя бы атаку конницы у Яруги – устоять, когда на тебя прут галопом конные копейщики, да не просто устоять, а удачно отстреляться – какая дикая нагрузка на подростковую психику и какая победа над собой! Бесследно такое не проходит. Тем более, не мог пройти бесследно обряд «удара милосердия», а через него десятник Егор провел всех опричников. Ну и посвящение в Перуново братство – совершенно недвусмысленное выделение опричников из остальной массы отроков – тоже не хухры-мухры.
Конечно же, после такого первые два десятка Младшей стражи стали поглядывать свысока даже на тех, кто участвовал вместе с ними в походе за болото, но мечей не удостоился, а уж на остальных соучеников так и вовсе поплевывали. Разумеется, все это было достаточно наивно и почти безобидно по сравнению с тем, чему Мишка сам был свидетелем во время срочной службы в Советской армии, и вообще не шло ни в какое сравнение с дедовщиной в армии Российской, но пресекать это следовало в корне. Во-первых, потому, что Младшая стража не была «армией мирного времени», и конфликты между отроками могли самым фатальным образом сказаться на их боеспособности. Во-вторых, потому, что все это приходило в вопиющее противоречие с насаждаемой в Младшей страже идеей воинского братства.
А еще Мишке было чрезвычайно любопытно, какие рецепты противодействия дедовщине имеются у сотника латной конницы, который, по идее, ни с чем подобным сталкиваться в своей практике был не должен.
Начал дед с того, что увел опричников из крепости в такое место, где никто посторонний их не увидит и не услышит, значит, не хотел позорить ребят при всех. Продолжил погорынский воевода тоже вполне тривиально – громкой руганью. Начал он бодро и энергично, но довольно быстро выдохся и сейчас, было понятно, выдавал «заключительные аккорды». Мишка, будучи уверенным, что этим не закончится, приготовился наблюдать продолжение воспитательного процесса.
– Сейчас посмотрим, как вы врученным вам оружием пользоваться способны! – многообещающе завершил Корней свой монолог. – Вон учебные мечи лежат, разбирайте.
Дед спешился, велел подать ему деревянный меч, а опричникам приказал выстроиться в очередь. Дальше началось избиение. Первый из «проверяемых» не успел сделать вообще ничего, получив удар по пальцам, сжимавшим рукоять учебного оружия. Если бы не латная рукавица, пальцы были бы раздроблены, а так он лишь выронил меч и согнулся, прижимая пострадавшую руку к животу.
Вторая жертва сотника Корнея успела прикрыться щитом и получила удар по ноге, заставивший шлепнуться на землю. Третий опричник, видимо, решил, что лучшая оборона – нападение, за что и поплатился. Корней легко парировал его выпад, а потом, ухватив за бармицу, слегка повернул шлем на голове у отрока. И как воевода умудрился заметить, что подбородочный ремень не затянут как следует? Сдвинувшаяся полумаска закрыла парню обзор, и он остался стоять, слепо размахивая руками – дурак дураком.
В том же духе «показательное выступление» и продолжилось – не просто избиение неумех, а еще и с элементами издевательства. На шестнадцать человек дед потратил примерно минут десять, и то только потому, что один из отроков, пользуясь увечьем сотника, скакал вокруг него козлом, не давая к себе приблизиться. В конце концов и он допустил промах и получил по зубам краем собственного щита.
Дойдя до конца очереди дед остановился и с преувеличенным удивлением громко спросил:
– Кхе! И ты туда же?
Последним в очереди стоял Мишка, ответивший деду так же громко, чтобы слышно было всем:
– Мои люди дураками выставились, мне и ответ держать!
Рассчитывать на победу было просто смешно, продержаться некоторое время, не теряя достоинства, реальных шансов было мало. Оставалась только надежда на то, что дед из педагогических соображений не станет работать в полную силу, чтобы не подрывать авторитет боярича в глазах подчиненных и… на только что полученный в Нинеиной веси урок.
Мишка слегка пригнулся и скользящими шажками пошел вокруг деда, выдерживая дистанцию, а сам отчаянно пытался воспроизвести ощущения боевого транса, в который он окунулся под воздействием Аристарха-Туробоя. Нет, не получалось – помнить помнил, а вот воссоздать…
Корней, слегка склонив голову набок, с интересом наблюдал за внуком. Подождав, пока Мишка «задействует подсветку» – встанет так, что солнце окажется у него за спиной, а тень вытянется в сторону сотника, Корней одобрительно кивнул и тут же нанес удар, от которого Мишка, хоть и прикрылся щитом, но вынужден был отшагнуть назад, чтобы сохранить равновесие.
Сразу стало понятно: давать внуку послабления дед не намерен. От следующего выпада Мишке удалось увернуться, еще один удар он опять принял на щит, но неудачно – пришлось превращать падение в кувырок назад. Подняться Мишка не успел, дед уже навис над ним, и уйти от удара удалось только кувырком вправо. Получилось неожиданно удачно – открылась возможность для атаки, Мишка воспользовался ей и… непонятно как, лишился оружия, словно по собственной воле вывернувшегося из его руки.
На этом можно было бы и заканчивать, но уроки Алексея не пропали даром – как в руке оказался кистень, Мишка не понял и сам, да и не до того было. Левая рука слушалась плоховато, но прикрыться щитом, все же удалось, а ремешок кистеня захлестнул крестовину дедова меча. Мишка что было силы рванул ремешок на себя и полетел на землю – дед спокойно выпустил оружие и двинул раскрытой ладонью в латной рукавице прямо в полумаску Мишкиного шлема.
Поражение было полным и несомненным, но опричники почему-то разразились радостными воплями, словно их боярич забил гол в решающем матче футбольного чемпионата. Мишка, правда, воспринимал это все смутно – в голове гудело, перед глазами мелькали искры. Привел его в себя голос деда, уже успевшего вернуться в седло:
– Тиха-а!!! Слушать сотника, раззявы!!! Молчать!!! – Дед дождался, пока установится тишина, выдержал длиннющую паузу и продолжил уже спокойным голосом: – Ну, поняли, какова ваша истинная цена – что с вами может сделать воин, пусть даже и увечный? В другой раз в сторонку отводить не стану, а наоборот, позову девок и у них на глазах вас измордую.
– А стоит ли возиться, Кирюш? – подал голос молчавший до сих пор Аристарх. – Может, выгнать их к чертовой матери?
– Да нет, Аристаша, кому они нужны, пусть даже и опоясанные? Сам же все сейчас видел. Ни один десятник их к себе не возьмет – и слабы еще по малолетству, и навык иной, нежели в ратнинской сотне, а переучивать хуже, чем заново учить.
Приподнявшись на стременах, Корней окинул взглядом не на шутку перепуганных опричников и, снова перекосившись лицом, заорал:
– Слыхали?!! И не надейтесь, что мы шутим или просто пугаем!!! Нигде, кроме Младшей стражи, вы не надобны, а что с изгоями бывает, вы и сами знаете, так что держаться вам за Младшую стражу надо, как за мамкину титьку – без нее вы никто и ничто! Если же вы думаете, что вам воинские пояса дадены за доблесть, так нет! Если думаете, что их для вас Михайла добыл, заклад выиграв – тоже нет! Они вам в наказание даны!!!
Если до этого момента Мишка в общем-то, ясно понимал, что и зачем делает дед, то последняя фраза поразила его не меньше, чем всех остальных присутствующих.
– В наказание за то, что вы боярича Михаила и наставника Андрея одних под вражьими стрелами бросили! А я вас с ним послал для того, чтобы вы его оберегали, как и надлежит простым воинам своего начального человека оберегать!
Это была явная несправедливость, но Аристарх молча кивнул, подтверждая сказанное Корнеем, а Мишка просто не решился вставить слово поперек.
– Вот для того вас в воинское братство и приняли, – продолжал дед, – что для ратника обережение своего начальника – не добрая воля, а обязанность! Может так статься, что вскоре нам опять в бой идти, а посему запомните: если с Михайлой что случится, никому из вас не жить! Больше от вас толку пока никакого нет, и если вы с этой обязанностью не справитесь, то более вы мне нужны не будете, а раз опоясанных воинов в холопство возвращать нельзя, то наказание будет вам одно – смерть!
Корней немного помолчал, оценивая впечатление, которое его речь произвела на опричников. Впечатление было сильным, по виду отроков было понятно, что в угрозу они поверили всерьез.
– Вот так! Кхе! Учеников в Воинскую школу мы и новых набрать можем, а боярич Михаил у нас один… – Дед неожиданно запнулся и поправил сам себя… – …старший из бояричей. Братья Михайлы, не важно, по крови или через Святое Крещение, тоже бояричи, и если кто из вас им сгрубит или ослушается, велю старшему бояричу наказывать за это жестоко, вплоть до лишения живота! – дед обернулся к Мишке. – Понял меня?
– Так точно, господин воевода!
– И не жалеть!!! Парочку зарежешь, остальные умнее станут. А теперь… пошли вон, недоноски!!!
И вот тут-то Мишка в очередной раз убедился, что месяцы учебы не прошли для отроков зря. Вместо того чтобы бегом рвануть от грозного рыка воеводы, опричники шустро выстроились в колонну по два и, повинуясь командам Степана, печатая шаг, лихо промаршировали мимо воеводы в сторону коновязи.
– Кхе! – универсальный комментарий Корнея явно имел одобрительную интонацию.
«Вот тебе и „Кхе!“. А представьте себе, сэр Майкл, что оружие у вас в руке играло бы так же, как в те несколько секунд, когда вы были под воздействием господина бургомистра! Вот бы шоу устроили, пацаны бы уссались от восторга! Конечно, лорд Корней и тогда бы победил, но… а вообще-то не факт – он-то на протезе, а у вас подвижность и глазомер усилились бы будь здоров… Не важно! Главное, надо учиться входить в боевой транс, а научиться этому можно только у Аристарха. Увы, но если даже другие это и умеют, тот же Алексей, например, то обучить этому искусству, видимо, очень сложно, а Аристарх обучить может, но вместе с этой наукой придется осваивать еще кучу мистических прибамбасов из арсенала жрецов Перуна. Ну, будем считать это платой за учебу, да и не бывает информация лишней, сами же поняли, сэр, что разобраться в некоторых обстоятельствах без знания этих самых прибамбасов невозможно!»
Из задумчивости Мишку вывел Зверь, пихнувший его мордой в спину, мол, долго тут еще торчать будем, хозяин? С утра же не жравши!
Действительно, они остались на стрельбище одни – опричники убрались первыми, за ними, стремя в стремя, последовала «сладкая парочка» Корней и Аристарх. Судя по жестам, староста как раз живописал воеводе, как между ним и Нинеей бегал бронзовый лис.
– Прости, Зверюга, задумался, сейчас поедем – тебя покормить надо, а опричникам разъяснить: что лорд Корней говорил, что при этом имел в виду, что на самом деле думал и какие выводы из всего вышеперечисленного надлежит сделать. А то запугал старый хрен детишек: «Зарезать! Не жалеть!» Он же на самом деле добрый… ну, почти. Оп-па! Поехали!
Заниматься разъяснительной работой Мишке не пришлось – судя по жизнерадостному ржанию опричников, столпившихся у конюшни, кто-то уже взялся поднимать их угнетенный выступлением господина воеводы «морально-политический» дух, и… разумеется, это был «начальник тыла» Илья. Пережидая очередной взрыв смеха, он смачно откусил кусок морковки, целый пучок которой держал в руке, пожевал, жмурясь, как кот, а потом продолжил:
– Это еще что! А вот был случай… пришла как-то к Добродее молодая баба и жалуется, что муж-де к ней охладел. Так, мол, и так: лягухой обзывает, глаз, говорит, у тебя рыбий, и ни любви, ни ласки от него ни по будням, ни по праздникам. Прям беда! Добродея ее спрашивает:
«Бьет?»
Та отвечает: «Бывает… иногда, да и то… как-то без интересу, вроде как работу исполняет, даже обидно!»
«Да, – говорит Добродея, – беда у тебя тяжкая, но помочь ей можно! Научу я тебя наговору чудесному, всю холодность мужнюю как рукой снимет: и лупить тебя будет от всего сердца, и… все прочее творить станет от всей души, пламенно! Слушай и запоминай, слова там такие: „Я женщина слабая, беззащитная, меня всякий обидеть может!“ Запомнила? Повтори».
Ну, та повторила, а Добродея сердится: «Да не так, дура! Это со страстью говорить надо, даже не говорить, а кричать! Чтобы со слезой, со злостью… Ну, представь себе: ты мужняя жена, а всякий обидеть может! Разве ж это жизнь?»
Мучились они, мучились, наконец, сказала бабенка все, как надо.
«А теперь, бедолага, запоминай самое главное: на каждое слово этого наговора должен приходиться один удар скалкой! Вот так: „Я! Женщина! Слабая!“»
Илья запищал женским голосом и принялся наносить «удары» зажатым в кулаке пучком морковки.
«Господи, знал бы Антон Павлович, из каких глубин веков пришли к нему эти слова!»[27]
– Ну, бабешка от такого обалдела слегка и спрашивает Добродею:
«Почему скалкой?»
«Ну, не скалкой, так вальком или рубелем. Да что ж у тебя дома снасти нужной не найдется? На крайний случай, можно и поленом, только гляди, чтобы не очень занозистое попалось. И лучше бы не при детях, они у тебя хоть и малые совсем, но смотреть на такое им не надо».
«Да нет, матушка Добродея, ПО ЧЕМУ бить-то?»
«Так по мужу! По чему ж еще-то?»
Проходит, значит, дней десять или двенадцать, и приходит та бабешка к Добродее в другой раз.
«Спасибо, матушка Добродея! По гроб жизни благодарна тебе буду, вот, прими подношение от всей души!»
А сама прям цветет: щеки румяные, глаза блестят, тело так и играет, на шее следы от поцелуев страстных… правда, под глазом синяк, слегка прихрамывает и вроде как тревожится о чем-то.
«Ну что, помог тебе наговор чудесный?»
«Еще как помог, матушка Добродея! Такие страсти, такие страсти… а любимся как! Спальную лавку напрочь расшатали, другую ставить пришлось, на сеновале все сено разворошили, в кладовке полку со стены оборвали, на огороде пугало повалили…»
«Это что ж, ты везде снасть горячительную разложила, даже на огороде?»
«Да нет, матушка Добродея, я уж и так, без снасти приспособилась, голыми руками!»
«Ага! Это ты молодец, умница. А глаз-то муж подбил?»
«Нет, матушка Добродея, свекор. Я вот как раз из-за этого у тебя еще совета спросить хочу. Опасаюсь я… такое дело, понимаешь… Пошла я вчера свекра со свекровью навестить. Все честь по чести: пирожков напекла, в корзиночку сложила, платочком накрыла… Прихожу, здороваюсь, а свекор меня тут же, у порога, укорять начинает, что-де с мужем непотребство творим, шум, гам, соседям спать не даем… Я слушала, слушала, а потом вдруг как закричу: „Я женщина слабая, беззащитная…“, да хрясь свекра корзинкой по башке! Ну, свекор-батюшка, дурного слова не говоря, развернулся, да в глаз мне ка-ак… Очнулась – сижу на полу, в голове звон, одним глазом ничего не вижу, в руке от корзинки одна ручка осталась, а вокруг пирожки раскиданы. Смотрю уцелевшим глазом на свекра и вдруг замечаю, что он не старый еще совсем и, как мужчина, очень даже завлекательный!
Вот я и опасаюсь: мне завтра в церковь на исповедь идти… А вдруг отец Михаил меня тоже укорять начнет, а я, как со свекром, начну ему объяснять, что я женщина слабая, беззащитная… подсвечником там, или еще чем, что под руку подвернется… а потом… а потом, вдруг он мне тоже завлекательным мужчиной покажется? Во-первых, зашибить могу – отец Михаил-то хлипкий совсем, а во-вторых… грех-то какой!»
Илья подождал, пока опричники отсмеются, потом строго оглядел их всех по очереди и вывел мораль своей басни:
– Так вот и вы, ребятушки, с даденными вам мечами, наподобие той бабешки со скалкой – всякие пределы и приличия позабыли, а воевода Корней Агеич вас, как свекор-батюшка ту дуру, поучил. И он прав! Потому что, во-первых, зашибить кого-нибудь сдуру можете, а во-вторых, грех-то какой! Гордыня, мать вашу в маковку!
Вечером Мишка собрал личный состав в трапезной на «вечернюю сказку». В последнее время это мероприятие перестало быть ежедневным: то после занятий с Алексеем Мишка иногда не мог ни ногой, ни рукой пошевелить, то еще что-то мешало, но хотя бы трижды в неделю Мишка «лекцию» устраивал – очень уж любили эти мероприятия «курсанты». Напряженки с темами не было – для «Нинеиного контингента» можно было повторять уже рассказанное «первому набору», ребята слушали повторы с не меньшим удовольствием.
Сегодня, после утренней экзекуции, визита к Нинее и «воспитательного избиения» опричников Корнеем, настроение было, мягко говоря, пасмурным, да еще и мать, приведшая в трапезную девок, шепнула, чтобы рассказал «что-нибудь душевное». Плюс ко всему, среди слушателей впервые присутствовали дед, Бурей и Аристарх.
«Душевное ей… и это – после всего, что сегодня произошло! Именно, сэр, именно: очистите-ка душу классикой! Какая, к черту, классика? Нет, ну просто охренеть можно – прямо-таки пресловутая многопартийность: Христос, Перун, Велес, Макошь! И все, блин, нацелились на монопольное право руководить „перспективным кадром“ Мишкой Лисовином, заделаться через это в будущем партией власти, а остальных, разумеется, к ногтю! Да еще Аристарх-едрендрищ со своим мужским шовинизмом нарисовался – индикатор, блин, формирования жестко патриархального общества на могиле пережитков матриархата, туды его в архетип, папочку Юнга, дедушку Фрейда и мать их Шизофрению фон Паранойя с племянничком Ницше!»
Курсанты повесили на стену коровью шкуру с «картой мира», в зале наступила тишина, а Мишка все еще не знал, что будет рассказывать. Дверь отворилась, и, тихо проскользнув в трапезную, рядом с девичьей компанией пристроилась Юлька. И сразу же тема для «вечерней сказки» пришла сама, словно подсказанная кем-то со стороны.
«Душевное вам? Ну так полюбуйтесь, что с детьми бывает, когда взрослые и умные промеж себя грызутся!»
Две равно уважаемых семьи В Вероне, где встречают нас событья, Ведут междоусобные бои И не хотят унять кровопролитья. Друг друга любят дети главарей, Но им судьба подстраивает козни, И гибель их у гробовых дверей Кладёт конец непримиримой розни.Мишка повернулся к карте и ткнул пальцем в «сапог» Апеннинского полуострова.
– Верона находится здесь!
Можно было, конечно, и не указывать географическое место событий, но Мишке нужна была пауза, потому что наизусть он трагедию «Ромео и Джульетта» не знал. Дальше пошла проза пересказа «своими словами», но публика внимала, нимало не беспокоясь по поводу стиля изложения. В очередной раз подтверждалось ранее сделанное открытие: классика есть классика, Шекспир, как выяснилось, захватывает воображение слушателей XII века так же, как и Пушкин.
Некоторое время Мишка вообще не смотрел в зал, углубившись в процесс воспроизведения сюжета в собственном изложении, потом пошло легче и он начал поглядывать на слушателей, убеждаясь, что слушают его внимательно, только в тот угол, где сидела Юлька, он смотреть избегал. Во-первых, в поле зрения, в этом случае обязательно попал бы Бурей, что запросто могло сбить с настроя, во-вторых… Мишка и сам не знал, почему.
Впервые он глянул на лекарку, когда дошел до сцены в саду Капулетти, и стихи вспомнились сами собой:
…Но что за блеск я вижу на балконе? Там брезжит свет. Джульетта, ты как день! Стань у окна, убей луну соседством; Она и так от зависти больна, Что ты ее затмила белизною.И сразу же исчезла куда-то злость на «многопартийцев», рассказываемое вдруг приобрело совсем иной смысл, а аудитория куда-то исчезла – осталась только ОНА!
Как она слушала! Не имея ни малейшего понятия ни об Италии, ни о роскошных дворцах итальянской знати, она всем своим существом была там – под бархатным южным небом, среди пышной зелени дворцового сада. Это она стояла на балконе, это к ней были обращены слова:
О милая! О жизнь моя! О радость! Стоит, сама не зная, кто она. Губами шевелит, но слов не слышно. Пустое, существует взглядов речь! Стоит одна, прижав ладонь к щеке. О чем она задумалась украдкой? О, быть бы на ее руке перчаткой, Перчаткой на руке!Мишка готов был поклясться, что еще несколько секунд назад он не помнил ни одной из произносимых сейчас строк и смог бы лишь пересказать их смысл своими словами, неизвестно с какой степенью достоверности, но сейчас…
Проговорила что-то. Светлый ангел, Во мраке над моею головой Ты реешь, как крылатый вестник неба.Кажется, он пропускал реплики Джульетты, но «существует взглядов речь» – какая Джульетта, когда на него смотрела Юлька!
Меня перенесла сюда любовь, Ее не останавливают стены. В нужде она решается на все, И потому – что мне твои родные! Они тебя увидят и убьют. Твой взгляд опасней двадцати кинжалов. Была бы ты тепла со мной. А если нет, Предпочитаю смерть от их ударов, Чем долгий век без нежности твоей.Сбоку от Юльки раздалось громкое сопение – Бурей дрых. Волшебство пропало, Мишка вздохнул, матюгнулся про себя и снова перешел на прозу пересказа.
«Нет, дед прав: именно я этого урода и грохну. Не знаю как, не знаю когда, но… Сей зверь премерзкий, порожденье темных сил, подобный образам ужасным Босха, повергнут будет мною без пощады, и мой клинок упьется его кровью! Прости мне, Господи, столь кровожадные намеренья…»
Слушали хорошо: Аристарх пригорюнился, подперев щеку кулаком, дед время от времени разглаживал усы, заметно для глаза сдерживаясь, чтобы не прерывать Мишку своим «Кхе!», мать, возможно из-за того, что на нее все время косился Алексей, смотрела в пол, а Анька рдела под пламенными взорами Николы. Кто-то из «курсантов» сидел, приоткрыв рот, а кто-то не менее пламенно, чем Никола, поглядывал на девок. Поначалу эти взгляды не оставались без внимания, но в конце повествования «дамский контингент» дружно принялся утирать слезы и хлюпать носами.
Отец Лоренцо тайно венчал Ромео и Джульетту, кормилица клялась былой невинностью, Тибальт убивал Меркуцио, а Ромео – Тибальта, Джульетта сначала закидывалась наркотой, а потом закалывалась кинжалом… Зараза Бурей дрых так сладко, что даже становилось завидно – столь безмятежно может спать только обладатель кристально чистой совести и непоколебимого душевного спокойствия. Хорошо, хоть не храпел.
А повесть о Ромео и Джульетте Останется печальнейшей на свете. [28]Произнеся последние слова Мишка умолк, а в трапезной еще некоторое время висела тишина. Очень не хотелось орать: «Встать! Выходи строиться на вечернюю поверку!» Раньше – еще в ТОЙ жизни – сцена свидания Штирлица с женой в «Семнадцати мгновениях весны» казалась Мишке чрезмерно сентиментальной и затянутой, но сейчас, после того, как он смотрел на Юльку, а она на него… Действительно, «существует взглядов речь».
– Митя, командуй.
– Школа! Встать! Выходи строиться на вечернюю поверку!
Говор, шарканье ног, звук отодвигаемых лавок… Юльки на прежнем месте уже не было, она сидела у самого выхода и ушла одной из первых. Неожиданно рядом раздался голос сестры Машки:
– Минь, ты видел, как Никола на Аньку пялился? И она на него, а мама хочет нас в Туров везти – за бояр замуж выдавать. Как же они тогда?
– Откуда я знаю? – Мишка пожал плечами. – А ты-то чего так волнуешься?
– Но ты же сейчас сам рассказал! А вдруг они тоже…
– Вот и рассказывай вам сказки! Глупости это все. Отец Михаил – не отец Лоренцо, он на Николу епитимью наложил, так что, ничего, кроме взглядов… Иди, на построение опоздаешь.
Машка засеменила к выходу, по пути испуганно шарахнувшись от вскинувшегося со сна Бурея.
«М-да, а ну как и правда, хватит ума „по Шекспиру“ поступить? Нет, для Аньки это все игрушки, а вот Никола… влип парень, можно только посочувствовать. Едрить вас всех в кандибобер, мне бы ваши заботы, а то Нинея, Настена…
Две равно уважаемых семьи Прибыли в погорынские селенья, Их поделить спокойно не смогли, И не хотят унять волшбы творенья. Мишаню любят дети главарих, Он обручен с боярышнею с детства, Неясно нам, кто победит из них В борьбе за погорынское наследство.Комедь, трагедь, магия… добавить соли и перцу по вкусу, кипятить на медленном огне…»
Часть 3
Глава 1
Начало сентября 1125 года. Село Ратное
Поднятая по тревоге Младшая стража приближалась к Ратному. Шли быстро, одвуконь, пересаживаясь с заводных коней на строевых с таким расчетом, чтобы строевые кони пришли в село хотя бы относительно свежими. Два с небольшим часа, потраченные на сборы и дорогу, показались Мишке чуть ли не вечностью – больно уж тревожные вести принес гонец от воеводы Корнея.
Накануне к вечеру в Ратное прибыли, ведомые погостным священником отцом Симоном, два десятка ратников боярина Федора и несколько семей с Княжьего погоста. Сам боярин Федор как уехал недели три назад в Туров в сопровождении десятка воинов, так и не появлялся, а Княжий погост с большинством населения захватили пришедшие на двух ладьях ляхи. У тех беглецов, которые добрались до Ратного, шансов спастись было немного – просто повезло. Ляхи менее чем в версте от Княжьего погоста умудрились посадить переднюю ладью на мель и были обнаружены вездесущими мальчишками, которые и предупредили жителей.
Начавшуюся было панику и бестолковщину решительно пресек отец Симон, но помогло это мало – ни скотину, ни скарб спасти не удалось. Оказалось, что находники двигались не только на ладьях, но и по суше, верхами. От конных захватчиков сумели уйти только те, кто сам был верхом или на не обремененных поклажей телегах – ляхи просто не стали за ними гнаться. То ли кони у них притомились, то ли сам Княжий погост, с не успевшими сбежать жителями, показался более привлекательной добычей, чем несколько почти пустых телег, в компании двух десятков латников.
Сколько было ляхов, со слов беглецов выяснить не удалось, одно понятно – много, но у страха, как говорится, глаза велики, да и не разглядывали погостные ляшский отряд, другим были заняты. Дыма от горящих построек постоянно оглядывающиеся беглецы не заметили, значит, ляхи не стали жечь погост, а решили задержаться там на какое-то время. По всему выходило, что надо ждать супостатов и здесь – относительно наезженная дорога от Княжьего погоста в глубь Погорынья шла только к Ратному.
«Отобьемся, сэр Майкл, больше сотни самострелов – это вам не танцы под радиолу, даже к тыну не подпустим, сколько бы этих „братьев-славян“ ни было. Однако все же тревожно – для семи десятков парней, не ходивших за болото, это первый бой».
Мишка уговаривал сам себя, преодолевая навязчивое желание послать Зверя наметом, не жалея. Спешить, собственно, было незачем – даже если ляхи снялись с Княжьего погоста на рассвете, так же как и Младшая стража из крепости, то добраться до Ратного, учитывая, что пехоту придется везти на телегах, могли лишь ближе к вечеру. Времени на подготовку к обороне хватало.
На выезде из леса, разглядев у речных ворот ратника Арсения, явно поджидавшего Младшую стражу, Мишка не выдержал и оторвался от общего строя, за ним увязались адъютант Антон и младший брат Сенька, совмещающий обязанности командира десятка гонцов и личного связного Мишки.
– Здрав будь, дядька Арсений!
– Здорово, Михайла… ого! Изрядно!
Последнее замечание относилось к Младшей страже, стройными рядами, в колонну по три, выезжавшей из леса – Мишка специально велел остановиться, дождаться отставших и построиться. Зрелище действительно впечатляло: сто десять всадников, молодость которых выдавали только безбородые лица. В остальном – настоящая латная конница: юношескую угловатость телосложения скрадывали начищенные доспехи, покачивающийся над строем лес копий имитировали сулицы, которые отроки, для форсу, упирали тупым концом не в стремя, а в специально притороченную к седлу ременную петлю, на черных щитах, взятых в положение «на руку», изображен некий зверь красного цвета, держащий в лапах ярко-желтый православный крест.
Впереди ехали трое наставников Младшей стражи: Алексей, Глеб и Стерв, а позади них знаменосец с черным знаменем, на котором корчился в складках полотнища «Лис, несущий сияющий крест, во тьму язычества».
Естественно, Арсений, который, как и большинство ратнинцев, никогда не видел Младшую стражу в полном составе, был впечатлен:
– Д-а-а… Это ж сколько ты стрелков привел, Михайла?
– Сто десять и трое наставников. Еще десяток гонцов есть, но они бездоспешные и самострелы у них слабенькие – совсем дети еще.
– Угу, остальные больно взрослые… – не удержался от язвительного замечания Арсений, но тут же добавил: – однако ж, если все так же стреляют, как вы тогда у Яруги… м-да, умудрил Господь Корнея, ничего не скажешь!
Для Мишки слова Арсения прозвучали прямо-таки песней, даже жалко стало, когда ратник перешел на деловой тон.
– Ладно, недосуг мне, слушай внимательно. Тебя, наставников и Дмитрия сотник ждет у себя в усадьбе, там уже все десятники, кроме Луки и Игната, собрались…
– А где Лука с Игнатом?
– В усадьбах своих боярских, Лука еще и почти весь свой десяток уволок – родня же… Тьфу ты, не перебивай! Значит, в крепость к себе шли гонца, раз уж их у тебя целый десяток, предупреди, что баб с малыми детишками мы, от греха, из Ратного к ним отправляем, пусть пристроят на несколько дней. Что-то еще… да, отец Михаил тебя видеть хотел, но это потом, сначала ты к сотнику, а остальных в село заводи… Вот забота: куда ж вас девать-то стольких? И кормить еще…
– Еда у нас с собой в тороках, на неделю хватит, ну и обоз еще подойдет, хотя и небольшой…
– Ну и ладно. Все, поехал я!
– Куда это он так борзо ускакал? – поинтересовался подъехавший к Мишке Алексей. – Даже не поздоровался.
– Сказал, что недосуг, – ответил Мишка – а на самом деле, я думаю, спохватился, что не подумали, где сотню отроков разместить. Но вообще-то это он зря, мы же в учебной усадьбе заночевать можем, если, конечно, ляхи сегодня не нагрянут.
– Только Корнею и заботы, чтобы нас спать уложить! Не для того позвал, – проворчал Алексей. – Не для ночлега места выбирать надо, а для стрельбы, на заборола-то вся сотня не поместится, надо места на крышах обустраивать. С Лукой бы потолковать…
– Нет Луки, в усадьбе он в своей и почти весь десяток с собой увел, видать, занялся строительством всерьез. Игната тоже нет, а остальные десятники у деда собрались и нас туда же зовут – меня, тебя, остальных наставников и Дмитрия.
– Ну, поехали тогда…
– Погоди, дядька Алексей, пусть отроки через мостки переправятся, и проведем Младшую стражу через село строем и с песней – пускай ратнинцы на нас посмотрят.
– Нашел время красоваться! – встрял в разговор Глеб.
– Да не для красоты я! – Мишку взяла досада: опытный воин, а простых вещей не понимает. – Пойми ты, Глеб, люди в тревоге, баб с малыми детьми собираются к нам в крепость отправлять! Надо людей приободрить. А еще ратнинцы Младшую стражу недолюбливают, сам знаешь. И тут увидят, как сотня самострелов к ним на подмогу пришла, да не просто так, а уверенно, стройно, весело и с песней. Глядишь, хоть немного к нам отношение в добрую сторону переменится.
– Стратег… – поморщился в ответ Глеб, потом спохватился. – То есть, как это баб с детишками отправляют? Корней что, Ратное сдавать собирается? Он что, совсем…
– Да не дергайся ты! – досадливо перебил Глеба Алексей. – Никто ничего сдавать не собирается! Стрелы тут будут летать, пожар может приключиться, да мало ли еще что! Очень тебе надо, чтобы во всем этом бабы да мелкота под ногами крутились? Уходят и хорошо – одной заботой меньше. Семен!
– Здесь, господин наставник! – звонким голосом отозвался Сенька.
– Пошли кого-нибудь из своих в крепость, пусть передаст… Хотя зови гонца сюда, я ему сам все объясню.
– Слушаюсь, господин наставник!
Сенька отъехал чуть в сторонку и пронзительно свистнул, с того берега отозвались, и один из мальчишек сунулся было к мосткам, по которым редкой цепочкой, чтобы не повредить хлипкую конструкцию, каждый год обновляемую после весеннего ледохода, двигались отроки Младшей стражи. Его, конечно же, не пустили, и тогда мальчишка погнал коня через Пивень вплавь.
– Лихие у тебя гонцы, Семен! – улыбаясь, похвалил Алексей.
– Так наставник Тит учит строго: умри, но весть доставь! – отозвался Сенька, зардевшись от похвалы старшего наставника.
Пока Алексей втолковывал мокрому, но полному энтузиазма и готовности к подвигам гонцу, что и как надо сказать боярыне Анне Павловне, Мишка строил Младшую стражу на берегу и инструктировал урядников:
– Запевалы, вперед. Сейчас пройдем строем и с песнями через все село. Вид иметь лихой и веселый, петь громко и с присвистом, пускай ратнинцы видят, что их пришли защищать не молокососы, трясущиеся перед первым боем, а почти готовые воины, только молодые. Ну и… – Мишка запнулся, но решил, что кашу маслом не испортишь, – и на девок поглядывайте. Строй не нарушать, ничего им не кричать, но подмигнуть одной-другой не запрещаю.
Отроки на столь необычное предписание отозвались нестройным довольным гулом и смешками. Мишка дал им немного пошуметь, потом сделал строгое лицо и скомандовал:
– В колонну по три! За мной, шагом, вперед! Запевай!
Сталь звенит! И враг бежит! На знаменах Крест блестит! Тверже шаг, Смелей вперед, Воевода нас ведет!Стихи были Мишкины, музыка ансамбля «Beatles» – «Yellow submarine». Однажды на вечерних посиделках, слушая пение отроков и девиц, Мишка вдруг обнаружил серьезнейший пробел как в собственном, и без того мизерном, музыкальном образовании, так и в идеологической работе с личным составом. Ни в школе, на уроках пения, ни в солдатском хоре не было ни одной песни с религиозным содержанием. Еще бы! В советской-то школе и в советской же армии! Естественно, не было таких песен и в личном Мишкином репертуаре, на который он только и мог опираться, разучивая с Артемием «новые» песни. Пришлось приняться за стихосложение. С мелодиями особого напряга не было – никто в плагиате не обвинит, а вот с текстом…
То, что сейчас исполняли отроки, как раз и было первым Мишкиным опытом в роли поэта-песенника. В голове тогда крутился мотив «Yellow submarine», и Мишка решил, что он подойдет – мелодия простая, но прилипчивая, строки короткие, так что со всякими ямбами и хореями особенно заморачиваться не придется.
Так и родились первые строчки: «Сталь звенит! И враг бежит». Дальше пошло легче: меч разит, конь летит, стрела свистит, а враг соответственно бежит, дрожит, разбит, лежит и даже смердит. И по этому поводу: «тверже шаг, смелей вперед!», потому что воевода-батюшка, невзирая на сложности бытия, исполняет свои обязанности надлежащим образом, а на знаменах блещет православный крест. Особенно «удался» припев – в духе православного воинства, твердо и недвусмысленно:
Все мы славим Господа Христа, Господа Христа, Господа Христа! Мы всегда славим Господа Христа, Господа Христа, Господа Христа!Мишка перечитал плоды поэтического вдохновения, почесал в затылке, несколько раз матюгнулся и… решил, что сойдет – длинно, воинственно и идеологически выдержано. То, что и требуется!
Песня прижилась. Личный состав тоже внес свою лепту в текст (по слухам, с подачи Роськи) – в паузе, после двукратного исполнения припева, отроки дружно орали: «Аллилуйя!!!». Так и закрепилось. Теперь, проходя через Ратное, Младшая стража лихо драла сотню глоток, компенсируя громкостью огрехи исполнения:
Меч разит И враг убит! На знаменах Крест блестит!Встречные ратнинцы останавливались и слушали, кое-кто даже раскрыв рот. Из-за заборов и из дверей высовывались любопытные лица.
Тверже шаг Смелей вперед Воевода нас ведет!– Горланили отроки, не забывая, в полном соответствии с Мишкиной инструкцией, подмигивать девкам. Те хихикали и стреляли глазками, на минутку забывая о том, что Ратное готовится к обороне.
Все мы славим Господа Христа, Господа Христа, Господа Христа! Мы всегда славим Господа Христа, Господа Христа, Господа Христа! Аллилуйя!!!На четвертом припеве строй конных отроков добрался до церкви. Отец Михаил, что-то объяснявший окружившим его женщинам, прислушался, разобрал слова и, просветлев лицом, размашисто благословил проезжающих мимо отроков.
– «Аллилуйя!!!» – грянула Младшая стража так, что сразу в нескольких дворах заполошно загавкали собаки. «Премьера песни» в пункте расположения резиденции погорынского воеводы удалась!
– Господин воевода! Младшая стража, числом сто десять отроков, по твоему приказу явилась конно и оружно!
– А еще песенно! – подкусил десятник Фома. – Так орали, что чуть крышу… – уловив, что никто из собравшихся его настроения не разделяет, Фома не закончил фразу, а лишь криво ухмыльнулся.
За столом, кроме Корнея и десятников ратнинской сотни, сидели еще двое погостных десятников и староста Аристарх. Вид у всех был серьезный, а у Корнея, несмотря на видимое спокойствие, Мишка заметил признаки недовольства и даже злости.
– Почему только сто десять? – жестко вопросил воевода. – Должно быть больше!
– Шестеро в походе погибли, один убит в поединке, двое казнены, – Мишка краем глаза уловил, как удивленно обернулись на него погостные десятники, – четверо от ран не оправились, двое больны, Кузьма и двое отроков, которых он себе в подмастерья взял, приедут с обозом.
– Двое, значит, казнены? Кхе!
– Отрок Амфилохий, за участие в поединке, закончившемся смертью его противника, казнен мной на месте преступления! – столь же жестким тоном, как и у деда, доложил Мишка. – Отрок Борис повешен по твоему приказу!
Погостные десятники дружно отвели глаза от плотоядно оскалившегося Фомы и переглянулись между собой.
– Во, во! Полупайте глазами, полупайте! – тут же окрысился на них Корней. – Это вам не рухлядь в кладовках пересчитывать! Здесь, – воевода пристукнул костяшками пальцев по столу, – воины живут!
Посверлив несколько секунд пристальным взглядом совсем затосковавших погостных десятников, дед поднял глаза на пришедших.
– Леха, проходи, садись, ты, Глеб, тоже… Евстратий, ты, я вижу, все же лягухой вырядился! – Корней осуждающе уставился на камуфляжные штаны и рубаху, в которых Стерв явился пред начальственным оком. – Я же запретил!
– Ты отрокам запретил, – Стерв с безмятежным выражением лица запустил руку за спину и поскреб поясницу, – а я не отрок! В таком наряде ты меня в лесу и с собаками не сыщешь! Польза есть, а потому, ругайся ты или не ругайся, а десятку разведчиков боярыня Анна повелела такой же наряд пошить… по моей просьбе, конечно. А чтоб тебе глаза лишний раз не мозолить, они его только в дело надевают.
– Польза, польза… Кхе! Ладно, проходи, садись.
Стоять остались только Мишка и Дмитрий.
– Так, добры молодцы, слушайте приказ! – обратился к ним Корней. – Доверяю Младшей страже оборону Ратного. Поставите своих стрелков на заборола, а кто не поместится, тех разместите на крышах. Аристарх накажет хозяевам домов, чтобы помогли им устроиться. И смотрите мне, чтоб ни один ворог до тына не дошел! Понятно?
– Так точно, господин воевода! – дружно гаркнули Мишка и Дмитрий.
– Кхе! Да погодите вы орать-то, не все еще. Ратнинская сотня и эти… – дед скривил лицо в сторону погостных десятников, – уйдут из села в лес, туда, где учебная усадьба. Когда вы ляхов перед тыном остановите да побьете их… сколько получится, короче, когда ворог в смущение придет, мы ударим им в спину. Ясно?
– Так точно, господин…
– Да не орите вы, вот привычку взяли, едрена-матрена! Слушайте дальше. Третий и четвертый десяток я у тебя, Михайла, заберу – тогда, на переправе, они показали, что здорово помочь нам могут, вот и тут пусть помогают… Опричники пусть тоже будут готовы в седло сесть и нам на помощь выехать, чтобы ляхов со всех сторон прижучить. Понятно?.. Молчать!!! Кхе! За старшего над вами от ратнинской сотни оставляю ратника Арсения, больно уж он вашу стрельбу нахваливал, даже вроде бы и своих семейных собирается самострельному делу обучить… вот пусть за вами и присматривает.
Теперь ты, Глеб. Пятый десяток опять без десятника остался – Тишка обгадился по самые уши. Давай-ка принимай его снова под свою руку… Не сметь перечить, тебе сотник приказывает!!!
Глеб собирался что-то сказать, но после окрика Корнея сначала передумал, а потом, вскочив с лавки, выпучил глаза и рявкнул на манер Мишки с Дмитрием:
– Слушаюсь, господин воевода!!!
Первым прыснул десятник Фома, за ним рассмеялись и остальные, только погостные десятники пялились, будто попали в театр абсурда.
– Будет ржать-то, жеребцы стоялые! – было заметно, что дед сам с трудом сдерживает улыбку. – Что-то я еще хотел… Да! Михайла, Прошка с тобой?
– Нет, с обозом подъедет.
– Угу, пусть сразу к Листвяне идет. У нее почти два десятка девок с самострелами, пускай присмотрит, чтобы не случилось чего непотребного. Раз уж у него дар такой с бабьим сословием управляться, то пусть и управляется.
– Как это?.. – проявил неуместное любопытство один из погостных десятников. – С бабами…
– А ну, заткнись!!! – снова взъярился Корней. – Своих баб не сберегли, теперь об наших любопытствуешь?!!
– Да нас же всего двадцать… – попытался оправдаться ратник боярина Федора, но Корней не дал ему договорить.
– Нас тоже чуть больше полусотни, но какую мы себе смену растим! – указательный палец воеводы уставился на Мишку с Дмитрием. – Видали в Отишии, на что они способны? Видали, я спрашиваю?
– Видали…
– А скажи-ка, друг любезный, – Корней перешел на людоедски ласковый тон, – как они поступили бы на твоем месте? Может быть, вернулись бы втихую да подсчитали ляхов, а повезло бы, так и языка взяли бы? Или так же, как ты, драпали бы без оглядки, пока до Ратного не добежали? Ну, чего примолк? Не-ет, други любезные, так просто я с вами в бой не пойду! Я вас под начало вот к нему поставлю! Знаете, кто это такой?
– Ну, Алексей… наставник этих…
– Не «ну, Алексей», а… – Корней выдержал драматическую паузу, – … про Рудного Воеводу слыхали? Вижу, что слыхали! Так вот это он и есть!
– Э-э-к-к…
– Ой!
Сказать, что погостные десятники были шокированы, значит, ничего не сказать – оба уставились на Алексея, как кролики на удава.
– Все, братцы, отпрыгались! – жизнерадостно объявил Фома. – Лучше заранее солью и зеленым лучком посыпайтесь, чтобы ему вас жрать способнее было! Леха, ты с какого места обычно откусывать начинаешь?
– С твоего языка начну, чтоб не отвлекал и аппетит не портил, – абсолютно серьезным тоном пообещал Алексей, не сводя с погостных десятников пристального взгляда, от которого один из них слегка побледнел, а второй, наоборот, покраснел и покрылся крупными каплями пота.
– Ой, молчу, молчу! – дурашливо напугался Фома и прикрыл себе ладонями рот.
«Обратите внимание, сэр, лейтенант Фома ведет себя, как минимум, странновато. И тогда, на хуторе, докопался до вас ни с того ни с сего. Может быть, его всегда перед боем колбасит? И лорд Корней, что показательно, его не обрывает, видимо, такое поведение Фомы в порядке вещей».
– Кхе! – удовлетворенно констатировал Корней факт доведения клиентов до нужной кондиции. – А чтобы Алексею с вами в одиночку не возиться, даю ему в помощь твой десяток, Егор. И не смущайтесь, ребятки, малейшее неповиновение или трусость – рубить их без пощады!
«Здрасьте, приехали: штрафная рота и заградотряд! Ну, силен лорд Корней!»
– Вот так! – погорынский воевода приосанился и оглядел собравшихся взглядом лихого отца-командира. – Всем все понятно?
– Так точно, господин воевода! – горница содрогнулась от акустического удара в исполнении трио: Глеб, Алексей и примкнувший к ним Фома.
Один из погостных десятников (тот, что постарше) от акустического удара вроде бы пришел в себя и даже изобразил что-то вроде улыбки, а второй (тот, что помоложе) совсем сомлел и смотрел в пространство глазами беременной козы, попавшей в операционную доктора Моро.
Корней, вторя общему смеху, слегка расслабился, подобрел, и Мишка решил, что более подходящего момента, пожалуй, не представится. Дождавшись момента, когда смех стал стихать, он выпалил «служебным» тоном:
– Господин воевода, дозволь доложить диспозицию?
– А? – рассеянно отозвался дед.
– Чего-чего доложить? – «перевел» вопрос сотника Фома.
Не отвечая, Мишка извлек из сумки свиток выделанной лосиной кожи и раскатал его на столе.
– Вот, господин воевода, чертеж Ратного и прилегающей земли. Здесь Ратное, – принялся объяснять Мишка, тыкая пальцем в кожу, – вот кладбище, поворот дороги на Княжий погост…
Чертеж был сделан крупно, толстыми линиями: чтобы деду не приходилось напрягать зрение, Мишка не пожалел трофейных чернил.
– Ляхи могут подойти только отсюда, по дороге, – продолжал объяснять Мишка, – через лес не полезут, потому что места им незнакомые. Если оставить на заборолах одну полусотню, то вместе с девками Листвяны получится семьдесят стрелков. Ляхов они к тыну не подпустят, ведь семьдесят выстрелов за раз! Остальных отроков можно разделить на две части по тридцать стрелков. Одну половину поставим в лесу левее оврага, другую половину – в лесу к западу от Ратного. Тогда получится, что по ляхам будут бить сразу с трех сторон. Выкосим, как траву! А тех, кто назад кинется, вы встретите. Получается что-то вроде загонной охоты – вы загонщики, мы стрелки.
В горнице повисло молчание. Мишка был готов к тому, что его предложение будет отвергнуто: все присутствующие здесь военные профессионалы привыкли к тому, что исход боя решается в рукопашной схватке, а лучники – лишь вспомогательная сила, ну а уж о такой штуке, как огневой мешок, и вообще слыхом не слыхивали. К тому же предложение исходило от мальчишки, которому в присутствии десятников даже не предложили сесть.
Единственное, что, по расчетам Мишки, не давало отвергнуть его предложение «с порога» – любопытство. До сих пор никому из присутствовавших не приходилось смотреть на будущее поле боя вот так – с высоты птичьего полета. Все молча разглядывали чертеж, мысленно сравнивая его со знакомой до мелочей картиной. Первым подал голос Леха Рябой – у командира второго в ратнинской сотне десятка лучников проклюнулся профессиональный интерес:
– Так, а расстояния здесь какие?
– Здесь полторы сотни шагов, здесь двести, здесь от семидесяти до сотни… – заторопился Мишка, опасаясь, что его перебьют. – Помнишь, мы прошлой зимой вешки в снег втыкали, чтобы расстояния отметить? Прямо сейчас отроки точно так же беленые колышки втыкают, Демьян там командует. Не ошибемся мы в расстояниях, будем стрелять точно!
– На сколько, говоришь, твои самострелы бьют? – продолжил расспросы Рябой.
– Доспех пробиваем на пятидесяти шагах, на сорока – уверенно, а бездоспешного можем убить или ранить и на сотне шагов.
– Угу, а как часто можете стрелять?
– На медленный счет от двенадцати до пятнадцати могут все, а опричники умеют быстрее. Под Яругой на нас галопом конники шли, половина в полном доспехе. Мы начали стрелять со ста шагов и, пока они до нас добрались, выбили равное себе число конников, остальных десяток Егора добил. Там у меня одни опричники были.
– Так, – подтвердил Егор, – было такое. Стреляли удачно.
– Ну, хорошо… – Леха Рябой что-то высчитывал про себя, подгибая пальцы на обеих руках, – значит, на пятидесяти шагах… Получается, что если кто-то из ляхов встанет точно посередине между тыном и лесом, вы ему доспех не пробьете?
– Коня под ним убьем, пешему по ногам стрелять станем, да до этого еще догадаться надо, чтобы там встать! Ну и… вы же из луков стрелять не разучились?
– Эти, – Рябой мотнул бородой в сторону погостных десятников, – и вообще никогда не умели. Скажи-ка лучше, как ты стрельбой управляешь? Больше сотни стрелков… их же направлять надо: цели указывать, время, когда начинать стрелять, распределять цели между десятками или… как это у вас делается?
– Если близко, то голосом, если далеко, то свистом, и еще у нас болты с дымом есть…
– То есть ты, стоя, скажем, на заборолах, сможешь управлять стрелками всех трех отрядов?
– Смогу. Мы специально учились, все отроки сигналы наизусть помнят.
– Так, ладно… – Рябой на секунду задумался, – ну, а если ляхи от тына шарахнутся в лес, где твои ребята будут? Грудь в грудь вы со взрослыми бойцами не совладаете.
– А я вот сюда, – Мишка ткнул пальцем в чертеж, – поставлю десяток разведчиков и два десятка опричников под командой наставника Стер… Евстратия. Их в лесу не поймаешь, скорее сам голову сложишь. А если в другую сторону сунутся, то там же вы будете, ну а на крайний случай можно в бурелом уйти, там такие дебри – табун коней спрятать можно.
Мишка отвечал на вопросы Рябого, а потом и других десятников, а внутри все пело – получилось! Если заинтересовались, расспрашивают, значит, сразу не отвергли, а потом могут и согласиться! Единственное, что тревожило – это дед, сидящий молча, с насупленным видом, да еще Алексей поглядывал как-то странно, кажется, сердито.
Наконец Леха Рябой подвел итог разговору:
– Ну, что ж, Корней, вроде бы все должно получиться.
– Кхе! Вроде бы! Так вроде бы или получится?
– Я себя на место командира ляхов попробовал поставить… так и сяк гадал… нет для него спасения! Ты сам подумай: сто тридцать самострелов и полсотни наших луков, а им не просто подойти к тыну надо, а взобраться на него или проломить. Нет, не выйдет у них. Единственная опасность – вот это место, где тридцать отроков стоять будут с Естр… Ет… тьфу, со Стервом! Если ляхи туда попрут…
– Пусть прут! – впервые за все время подал голос Стерв. Если их меньше тридцати будет, все там и полягут, если больше, то кто-то и сбежит. Не они на нас, а мы на них охотиться станем! Я ребят учил, я за них и отвечаю!
– Но-но, ты не очень-то… – попытался окоротить Стерва Корней.
– Не понукай, не запряг! Я на медведя-людоеда в одиночку ходил, и не единожды! Живой, как видишь, и не покалеченный. А охота на человека, если хочешь знать, самая интересная охота. Пускай приходят, редкий случай – ребяток на живую дичь натаскать.
– Неужто приходилось на людей охотиться? – заинтересовался Корней.
– Приходилось! – Стерв вызывающе выставил вперед бороду. – Хочешь об заклад побьемся? Если от тебя кто-то из ляхов сбежит, то я его с десятком разведчиков не просто отыщу, а назад в Ратное заставлю самого прибежать! Ну, что в заклад выставишь?
– Кхе! Ишь, разгорячился! Заклад ему… война не игрушки! За каждого отрока ответишь!
– Не хочешь, как хочешь, – Стерв как загорелся, так же быстро и остыл. – Война без потерь не бывает, но беречь ребят буду как родных, не сомневайся.
– Кхе… ну, так, значит… ляхов, по всему видать, мы сегодня не дождемся. Оно и понятно – на Княжьем погосте разобраться надо, полон в кучу согнать и где-то запереть, по кладовкам вашим, – Корней снова зыркнул на погостных десятников, – пошарить, баб ваших повалять…
– А ну, хватит! – старший из людей боярина Федора грохнул по столу кулаком и поднялся с лавки. – Или кончай изгаляться, Корней, или бери меч, да пойдем на двор, там я тебе язык и укорочу. Ну, идешь?
– А коли я тебе укорочу… голову?
– Тогда передашь боярину Федору мои слова: «Вот так случается, если старшим на погосте оставляют не воина, а писаря».
– Ну, слава Тебе, Господи, хоть один ожил! – отозвался Корней. – Я уж и ждать перестал, хотя… Михайла, ну-ка ответь: была надежда на то, что они в разум придут или нет?
«Внимание, сэр Майкл, лорд Корней ничего просто так не делает, для чего ему понадобился этот внезапный экзамен? Думайте, сэр, думайте! Способность их сиятельства графа Корнея Агеича оборачивать в свою пользу любое, даже мелкое обстоятельство, вам известна. Изводя насмешками и прямым хамством погостных десятников, он явно готовил какую-то ситуацию, но не дуэль же, в самом деле! А потом совершенно неожиданно включил в разыгрываемое действо вас. Зачем?»
Словно давая внуку время для размышлений, Корней обратился к десятнику, бросившему ему вызов:
– Да ты садись, Кондраша, садись! Что разгорячился, так это хорошо, не все ж снулую рыбу из себя являть, а что обижаешься, так это зря – самому, небось, не раз доводилось обалдевших ратников оплеухами в разум приводить. Приходилось же?
– Гм…
– Вот и ладно. И не смотри на меня так, теперь Алексею с Егором приглядывать за твоим десятком нужды нет – и на тебе позора не будет, и им заботы меньше.
«Так, сэр, подсказка была: лорд Корней признался, что ожидал проявления активности хотя бы от одного из погостных, значит, отвечать на его вопрос можно утвердительно, но надо же ответ как-то и обосновать! Чего же он от вас ожидает? Так-так-так, неожиданный экзамен… и вы, сэр, со своей „диспозицией“ неожиданно вылезли. Граф Погорынский на ваш демарш отреагировал не сразу, слушал молча и ни одного вопроса не задал, а потом… Есть! Не оборвал на первых же словах, хотя вам здесь выступать было не по чину, выслушал ваш доклад и ответы на вопросы, а теперь, задним числом, требует продемонстрировать право на подобное поведение! То есть, чтобы согласиться с вашим планом, сэр, надо показать присутствующим, что боярин и боярич знают что-то такое, что неизвестно остальным, и даже возможно, что боярич вылез со своими предложениями не сам, а по предварительному согласованию! Извольте, сэр Майкл, оправдывать оказанное вам высокое доверие».
Погостный десятник Кондратий, еще немного побуравив Корнея взглядом, шумно выдохнул и опустился на лавку. Тотчас почти все ратнинцы совершили одно и то же движение – слегка опустили правое плечо и шевельнули рукой возле голенища сапога – убрали на место засапожники. Никакого поединка, конечно же, не произошло бы, погостных десятников просто-напросто не выпустили бы из горницы живыми.
– Ну, что надумал, Михайла? – вернул общее внимание к Мишке Корней. – Была надежда, что кто-то из них опамятует, или я зря старался?
– Была, господин воевода! Еще в войско Александра Македонского старались не брать тех людей, которые бледнеют при опасности или разозлившись. Если кровь от головы отливает, то человек и соображает медленнее и видит хуже. Когда ты сказал про Рудного Воеводу и приказал десятнику Егору убивать за трусость или неповиновение, десятник Кондратий раскраснелся и вспотел, значит, был готов спорить или драться, а десятник… прости, не знаю имени, побледнел, да так и сидел потом, словно пришибленный.
Мишка вовсе не был уверен в правильности того, что излагает, но среди собравшихся вряд ли нашелся бы квалифицированный оппонент. Впрочем, усилить впечатление не мешало.
– И еще одно, господин воевода, – продолжил Мишка, – слова десятника Кондратия об оставленном за старшего писаре показывают, что он не только о себе, но и о деле думает.
– Кхе! Писарь-то, поди, первый в бега кинулся?
А, Кондраша?
– Первым он к кладовым кинулся! – отозвался Кондратий. – Две телеги наворотил, а семейство его еще две нагрузило скарбом домашним, только на выезде второпях за воротный столб зацепился, колесо соскочило, телега в воротах застряла… так все там и остались.
– То есть народом он не командовал, не ободрял, не успокаивал, что надо делать, не указывал? – уточнил Корней.
– Даже и не думал!
– Кхе! Ну, а вы куда смотрели?
Вместо ответа десятник Кондратий многозначительно покосился на своего напарника, имени которого Мишка не знал.
– А чего я-то? – нервно среагировал тот. – Сказано, писарь за старшего, значит, он за старшего, я-то чего?
«Похоже, сэр, десятники у боярина Федора, отнюдь не равны между собой. Первого в неофициальной иерархии Федор наверняка забрал с собой в Туров, а Кондрат, скорее всего, только третий: опытен, не труслив и перед начальством не очень-то прогибается – вон как деду дуэль предложил. Вот так же, наверно, как-нибудь и боярину Федору высказал то, что думает, да и не однажды, за что и нелюбим, мягко говоря. А этот, бледный да безымянный, начальству поперек наверняка никогда ни полслова, потому и второй. А не попробовать ли?»
– Готов биться об заклад, – обратился Мишка к «бледному и безымянному», – что ратник Дорофей в твоем десятке состоит.
– А чего Дорофей-то? Ну, у меня, и что с того?
– А то, что, как он пленного насмерть забил, я видел, как он грабить наладился, пока другие еще воевали, тоже видел, а в бою я Дорофея не видел, как ни смотрел.
– А ну, заткнись, сопляк! – гаркнул вдруг Корней. – Молод еще взрослых ратников судить!
«Черт вас за язык тянул, сэр!»
– Ишь борзый какой! Не видел он! – продолжал дед, но Мишке было видно, что разозлился он не всерьез, а «для проформы». – А что ты вообще видел? Молокосос, едрена-матрена, сейчас вот велю тебя пинком под зад отсюда выкинуть…
– А и велеть не надо! – Фома начал подниматься из-за стола. – Я его сейчас сам уму-разуму поучу…
«Вот уж хрен… я за базар отвечу, но не тебе!»
Тук, д-р-р – метательный нож воткнулся в столешницу между пальцами руки, которой Фома оперся на стол, и мелко задрожал.
– Пусть вот он меня выкинет! – Мишка указал пальцем на «бледного и безымянного». – Ну, давай! Я же тебя обидел и о человеке твоем дурное слово сказал. Давай! Чего сидишь?!
– Пугать меня, недоносок?! – Фоме явно было обидно, что от неожиданности он испуганно отдернул руку уже после того, как Мишкин нож воткнулся в дерево, не задев пальцев. – Давно пора тебе…
Ш-р-р – скребанул по столешнице окольчуженный локоть Алексея. Рудный Воевода не повернул голову и почти не изменил позу, но как-то сразу стало понятно, что его движение и скребущий звук адресованы десятнику Фоме.
– Назови свое имя! – игнорируя Фому, продолжил Мишка, обращаясь к «бледному и безымянному». – И я – боярич Михаил, сын Фролов из рода Лисовинов, опоясанный воин…
Закончить формулу вызова на поединок Мишке не дал десятник Егор:
– Корней, уйми щенка, не то мы его уймем, и этот, – Егор качнул головой в сторону Алексея, – не поможет!
– Дмитрий, вызывай опричников! – отреагировал на угрозу Мишка.
Сзади – ни звука, ни шевеления. Это Роська уже через пару секунд свистел бы с крыльца, вызывая подмогу, а Дмитрий даже не шевельнулся, ожидая подтверждения приказа от воеводы – понимал службу.
Алексей тоже никак не отреагировал на слова Егора, вернее, почти никак – лишь слегка подал вперед плечи и чуть-чуть склонил голову, переключая восприятие окружающей обстановки на слух и… интуицию, что ли? Фигура его мгновенно налилась звериной пружинистой силой и само собой вдруг вылезло на передний план то, что ратнинские десятники были хоть и при оружии, но в одних рубахах, а Алексей-то в доспехе! Даже если бы к Фоме и Егору присоединились Леха Рябой или Данила, исход схватки был далеко не предрешен…
– А ну, тиха-а!!! – ох, умел Корней, когда надо, ударить голосом! – Всем молчать! Никому не шевелиться! Митюха, никого не звать, никаких опричников! А вы, – Корней ощерился в сторону Егора и Фомы, – забыли, как в этой же горнице Пимен с болтом в башке валялся? Думаете, если Игната с Лукой нет, так с вами и управиться некому?
Фома, так же как и Корней, злобно ощерился, но смолчал, Егор поджал губы и уставился взглядом в стол.
«Скалятся, как волки… А что, собственно, вас удивляет, сэр? Это ТАМ вы жили в основном в окружении „обозников“, а таких, как здешние ратники, величали отморозками. И сравнение с волками отнюдь не случайно – таких может держать в повиновении только более сильный и опытный самец. Нет, сэр Майкл, у вас армия будет другой. Эти, конечно, хороши в бою, но спать вполглаза и постоянно держать пасть оскаленной…»
– Ты кого, Егор, щенком обозвал? – продолжил дед, чуть понизив тон. – Опоясанного воина? А не ты ли стариков с кольцами собрал и ВЫНУДИЛ меня Михайле меч навесить? Что ж ты тогда его щенком не называл? А? Соловьем разливался: «Новый сотник подрастает, жизнь мне в бою спас!» Забыл уже?
«Так вот оно что! Теперь понятен смысл сцены на хуторе, когда Фома на вас, сэр, наезжать начал. Егор ему тогда, помнится, сказал: „Отойдем, чего-то скажу“ и демонстративно крутанул на пальце серебряное кольцо. Надо понимать, он уже тогда придумал: либо спровоцировать конфликт между ветеранами-среброносцами и Корнеем, либо с треском „провалить“ вас, сэр, на испытаниях при приеме в Перуново братство. И ни то, ни другое не получилось!»
Мишка набрал в грудь воздуха и, уловив паузу в монологе деда, громко заговорил:
– Напоминаю слова воеводы погорынского, сказанные над трупом застреленного нами Пимена: «Лисовинов так просто не изведешь! Сейчас у меня четверо таких отроков, а к осени будет полсотни, и каждый за лисовиновский род хотя бы одного злыдня на тот свет да отправит!» Осень пришла, господа десятники, и за дверью стоят не полсотни, а сто десять отроков с самострелами, и один раз мы бунтовщиков уже покарали! Меня не станет – будет Демьян, после него – Кузьма, после Кузьмы – Дмитрий, Роська, Артемий. Кого на дольше хватит: вас или нас?
В разлившей по горнице тишине громко и отчетливо прозвучал тяжелый вздох Аристарха.
– Кхе! Аристаша, никак, ты опять, как в тот раз, на покой уходить собрался?
– Ну да, с вами покоя дождешься! – пробурчал староста. – Михайла еще не все сказал. Кроме отроков, есть еще у боярыни Анны Павловны и у ключницы Листвяны под рукой по полтора-два десятка девок, обученных самострельному бою. Ты, Фома, теперь ходи по улице и гадай: какая из встречных девок вдруг самострел из-за спины выпростает и яйца тебе отстрелит, коли на то воля Корнея будет!
Фома дернулся, собираясь что-то сказать, но Аристарх не дал, повысив голос:
– И даже если и не будет на то его воли, а просто бабам что-то такое померещится… поведешь себя не так или скажешь чего… а им это опасностью для Михайлы или Корнея покажется… Понимаешь, о чем речь?
Аристарх, не дожидаясь ответа от Фомы, перевел взгляд на Егора. Впрочем, Фома, по всему было видно, раздумал что-либо говорить. Даже не от слов, а от самого тона старосты повеяло таким смертным холодом, что всем, кроме Дмитрия и погостных десятников стало понятно: говорит не Аристарх, а Перунов слуга Туробой. Вместо Фомы заговорил десятник Егор:
– Дожили: ратнинский сотник за спинами мальчишек да девок прячется! Виданное ли дело…
– А не твоими ли стараниями, Егор? – перебил Аристарх. – Ты сам на себя глянь! Ты и воин из лучших, и десятник справный, и хозяин – другим в пример поставить можно, а почему-то все время оказываешься на подхвате то у Пимена, то у Фомы! Ведь ни того, ни другого старики слушать не стали бы, а тебя выслушали и согласились! Как же так выходит? Кто кем вертит: собака хвостом или хвост собакой? Ты глаза-то не прячь, не прячь, на меня смотри!
– А я и не прячу…
– Ага! Не ослеп я еще, вижу. Ты посмотри, Егор, до чего тебя дружба с этими колобродами довела: разумный муж, а какую глупость ляпнул! «За спинами мальчишек»! Кого Михайла позвать велел? Опричников – опоясанных воинов! Опоясанных по твоей просьбе! Ну, где твой ум был? И ладно бы, при своих это все – мы-то знаем, кто чего стоит! Но здесь же и люди боярина Федора и… – Аристарх покосился на Алексея, но называть его не стал. – Что они-то о тебе подумают? В общем так, Егор: Фома, если уж у него такое шило в заднице, что даже до мозгов достает, пускай теперь девок боится, а тобой, если что, я сам займусь! Ни сил, ни разума я еще не утратил, надеюсь, не сомневаешься? А?
– Гм…
– Вижу, что не сомневаешься, а если так, то, что я сейчас от тебя, Егор, услышать должен? Ну, едрен дрищ! Я жду!
С видимым усилием преодолевая себя, Егор негромко, но внятно произнес, не отрывая взгляда от столешницы:
– Проходи, Михайла… садись.
«Позвольте вам заметить, сэр, вас уже второй раз вместо извинений сажают за стол. Первый раз – после вашего побега из дому усадили за мужской стол дома, а сегодня за один стол с десятниками. Едрена-матрена, как изволят выражаться их сиятельство граф Погорынский!»
Мишка вопросительно глянул на деда, тот едва заметно кивнул, разрешая сесть, и четко, раздельно, словно зачитывая приказ, произнес:
– Не моей волей, но согласием десятников ратнинской сотни боярич Михаил приравнен в достоинстве к десятникам, а посему обязан принять на себя труды и заботы сотника младшей дружины Погорынского войска! Вы же, господа десятники, отныне становитесь десятниками старшей дружины Погорынского войска.
– Ну, ты прямо, как князь: старшая дружина, младшая дружина… – не удержался от комментария Фома, но это было уже так – последнее тявканье собаки перед тем как смыться в конуру.
– Молчать! – рявкнул в ответ Аристарх, и Фома послушно заткнулся.
Корней сжал кулак, но не ударил им по столу, а просто тяжко припечатал к доскам столешницы.
– Все, господа десятники, шутки кончились! Ратное отныне – главный город Погорынья, Михайлов городок – пригород Ратного, а всю Погорынскую землю надлежит привести под руку воеводы и в лоно христианской церкви! Сие есть наше дело на ближайшие годы, и кто выступит против меня, тот выступит против этого дела, а значит, против князя Вячеслава Владимировича Туровского и Православной Церкви! И да будет он нам враг!
«Ох, ни хрена себе! Позвольте вас поздравить, сэр Майкл! Лорд Корней проникся-таки программным методом управления – сформулировал цель на несколько лет вперед и четко обозначил наличие аппарата подавления инакомыслящих. И структуры с кадрами имеются – младшая и старшая дружины, и ключевой ресурс – „кузница кадров“ в Академии Архангела Михаила, и „Lebensraum“ – „Жизненное пространство“, которое предстоит завоевать, и идеологическое обоснование – христианизация языческих земель. А момент-то как выбрал! Сначала защитить „Lebensraum“ от внешнего посягательства, потом на правах победителя… да он уже победитель – решил самую болезненную проблему ратнинской сотни, медленно умиравшей из-за дефицита кадров и внутренних противоречий, порожденных отсутствием общей цели!
Теперь бы еще, кроме угрозы наказания, мотивацию бы для активной части… А есть мотивация! Новые земли – новые вакансии воеводских бояр! Лука, Игнат и Леха Рябой – живые примеры. И похрен веник, что „фланговое прикрытие“ осуществляет жрец Перуна, главное, что оппозиция его услугами воспользоваться не сможет! А девки-то, девки с самострелами – не меньше, чем тайная полиция! Однако, ваше сиятельство, снимаем шляпу и шаркаем ножкой!
А Егор… да ничего удивительного, сэр! Вспомните, сколько умных и честных людей „купились“ на болтологию дерьмократов-либерастов, а потом ужаснулись содеянному! И воин – что надо, и хозяин уважаемый, и не дурак, а как сунется в политику, пусть даже уездного масштаба, так сразу же становится игрушкой в чужих руках. Сколько вы ТАМ таких видели: и в погонах, и при научных степенях, и всяких заслуженных-народных, вдруг оказывающихся марионетками тех, кто и мизинца их не стоит!»
Корней помолчал, давая собравшимся «переварить» услышанное, а потом сменил тему:
– Так, Михайла, коли ты такой умный, что аж сотником заделался, то укажи-ка нам: где в твоей задумке самое слабое место?
– Так десятник Алексей уже указал, – недоуменно отозвался Мишка. – Ляхи могут в лес шарахнуться.
– М-да, что ты, что Рябой, мыслите как лучники – ежели вы постреляли, то никого живого уже и остаться не должно. А вот и не так! Останутся! Ты, Леха, себя на место командира ляхов поставил, это – правильно! А вот за всех ляхов не подумал. Смотрите все! – Дед придвинул к себе Мишкин чертеж. – Вот отсюда, отсюда и отсюда стрелы да болты летят. Отсюда мы в конном строю нажимаем. Куда бежать? Куда дорога открыта? А вот сюда – дорога на Выселки. Туда и побегут. Тем паче, что как раз посередине между тыном и лесом место для стрельбы из самострелов неудобное – далековато. Там могут и проскочить. Конечно же, догоним, конечно же, посечем, но нам эта лишняя возня нужна?
Сделаем так. В Ратном оставим не полусотню, а три десятка отроков. Не перечь, Михайла. Тут еще почти два десятка девиц Листвяны будут, да старостиха Беляна примерно столько же баб, владеющих луком, приведет. Достаточно. А два десятка – над ними поставишь Демьяна – пусть возле кладбища расположатся. И сильно прятаться не надо – пусть ляхи видят, что и там их ждут. Но и вылезать тоже не требуется – должно быть непонятно, сколько там народу находится.
Надо устроить так, чтобы ляхи к Пивени кинулись – между лесом и западной стороной тына, поэтому отрокам в лесу и бабам с девками поначалу, затаиться надлежит, а вот когда ворог к реке кинется, то с двух сторон, благо дальше, чем на сорок-сорок пять шагов стрелять не придется, ударить! Вот тогда все супостаты и полягут, ни за кем гоняться не понадобится.
– Гм, если по уму, так хорошо бы еще десяток и на том берегу Пивени поставить, – подал голос Данила. – Я своего Ероху учу помаленьку, и с ним еще десяток мальчишек. Луки у них пока слабенькие – однодеревки – но тех, кто до воды добежит и вплавь пустится, побить смогут.
– Так то по уму, Данила, по уму! Если бы там десяток из Михайловой сотни встал, я бы не сомневался, а твои… не дай бог, двое-трое ляхов до другого берега доберутся. Вырежут же твоих мальчишек, как овец! Нет, пусть уж они за тыном возле речных ворот встанут, чтобы никто из беглецов по мосткам перебраться не смог. А если кто вплавь уйдет, то… Евстратий, ты же хотел ребят на двуногую дичь натаскать? Вот и будет тебе твое «редкое удовольствие».
Еще кто-нибудь что-то предложить хочет? Нет? Тогда быть по сему. Сейчас все к церкви – отец Михаил молебен об одолении супостата устраивает, потом обедаем, потом всем конно и оружно выйти в поле перед тыном – будем нашу задумку пробовать. Вы двое, со своими людьми, – Корней глянул на погостных десятников, – будете ляхов изображать. Михайла, пошли в крепость за учебными болтами, а то поубиваете же сгоряча.
* * *
Ляхи не пришли и на следующий день. Корней, в своем фирменном стиле, довел всех тренировками до белого каления. Погостные ратники, проклиная натыканные отроками колышки, обозначавшие дистанцию для стрельбы, гарцевали между поворотом дороги и тыном; ратнинцы, вначале с криками и посвистом, а потом в угрюмом молчании выскакивали на рысях из леса, отроки постреливали в «ляхов» учебными болтами – по одному человеку из каждого десятка поочередно, чтобы пристрелять позиции.
К обеду «доигрались»: сначала Фаддей Чума, разгорячившись или обозлившись – у него не поймешь – так саданул одного из погостных ратников тупым концом копья, что вышиб того из седла. Только унялась ругань и крики, поначалу грозившие перейти в мордобой, и учение началось заново, как дядька Лавр навернулся вместе с конем, споткнувшимся о колышек, и чуть не пропорол себе другим колышком ногу. Отроки, выслушав о себе массу нелицеприятных высказываний, не в отместку, конечно, а совершенно случайно, попали, на следующем заходе, учебным болтом в глаз коню ратника Никона из десятка Фомы – того самого, которого тетка Алена однажды прогнала поленом вдоль по улице. Тут уж все окончательно осатанели, и Корнею волей-неволей пришлось объявлять перерыв, чтобы избежать вооруженного столкновения между своими.
В Ратном тоже не обошлось без неприятностей. К Мишке с жалобой на побои заявился Прошка, прикомандированный «военным советником» к женскому контингенту. Нет чтобы заниматься девками, к которым был приставлен, – понесла его нелегкая к взрослым лучницам! В «благодарность» за добрые советы, Прошка сначала был не столько больно, сколько обидно щелкнут старостихой Беляной древком лука по носу, а потом выкинут с «огневых позиций» могучей дланью тетки Алены.
Всю эту душераздирающую историю кинолог Младшей стражи поведал Мишке, как всегда длинно, запутанно, с многочисленными повторами и отступлениями от основной линии повествования, теребя пальцами покрасневший и слегка припухший нос. Мишка слушал и только диву давался: как такого зануду терпят языкастые ратнинские девки? Слава богу, разбираться в этом конфликте Мишке самому не пришлось – выручил Матвей, маявшийся без дела за отсутствием раненых. Со словами: «Пошли, болячка трепливая!» он ухватил Прошку за рукав и повлек куда-то за угол.
Результатом всех этих мучений стало то, что принесенную гонцом из дозора весть – «Идут!» – все восприняли чуть ли не с ликованием. Второй гонец, прискакавший уже на закате, ситуацию уточнил: идет передовой дозор из семи всадников и ищет не Ратное, а место для ночлега. Окончательно все прояснилось уже ночью – ляхов не больше сотни (точнее из-за темноты определить не удалось) и конных среди них едва-едва треть. Языка взять не удалось – очень уж бдительно ляхи охраняли место ночлега. Последнее обстоятельство наставник Стерв прокомментировал экспрессивно, неприлично и заковыристо – он, следовало понимать, языка взял бы обязательно, несмотря ни на какую бдительность.
* * *
Война началась на следующий день, с утра. Несколько всадников выскочили из-за поворота дороги, коротко глянули на Ратное и сгинули обратно за выступ леса. Ничего такого особенного они не увидели: все ратнинское воинство еще затемно укрылось на своих позициях, а на виду остались только дозорный на вышке, да два десятка отроков на заборолах посверкивали шлемами на утреннем солнышке, возвышаясь над тыном и изображая малочисленный, но готовый к обороне гарнизон. Как и полагалось по сценарию, с колокольни ударил набат, извещая не столько ратнинцев об опасности, сколько ляхов о том, что их ждали и опасались.
Не заставив себя особенно ждать, ляхи вывалили из-за поворота всем отрядом – пешие почему-то впереди конных. Долго, впрочем, удивляться такому построению не пришлось: передними оказались лучники. Перед их остановившимся строем пробежало двое с факелами в руках, и на Ратное обрушилось сразу несколько десятков стрел с огнем. Спустя короткое время еще один залп зажигательных стрел, потом еще один. Задумка была понятна – отвлечь селян тушением пожаров и прорваться внутрь тына.
Отроки с заборол ответили несколькими совершенно бесполезными выстрелами – больно уж далеко для самострелов стояли ляхи, и часть из них присела, имитируя уход с оборонительных позиций на борьбу с огнем. На самом же деле никому никуда уходить не требовалось: к пожарной безопасности в Ратном относились очень серьезно, и в каждом дворе заранее приготовили ведра с водой, мокрые веники и приставные лестницы, около которых дежурили подростки. Не прошло и нескольких минут, как почти все очаги пожаров были задавлены. Почти, но не все – лучники стрельбу не прекратили, но сменили зажигательные стрелы на боевые и, судя по раздавшимся крикам, кое в кого сумели попасть.
– Всем сидеть, не высовываться! – прикрикнул на всякий случай Мишка на начавших беспокойно оглядываться отроков. – Там без нас управятся! Ждать команды!
Дальше пошло что-то не совсем понятное – конные ляхи, обогнув строй пехотинцев, с криками погнали коней в сторону ворот. Было конников чуть больше двух десятков, и лишь немногие из них в доспехах – кольчугах, шлемах, поножах, на большинстве же вместо кольчуг были надеты кожаные куртки с нашитыми металлическими пластинами. Кони тоже, по большей части, особой статью не отличались, скорее всего, трофеи с Княжьего погоста. Пехота же была экипирована еще хуже, по сравнению с ратнинцами или дружиной боярина Журавля, сущая голытьба, бандиты с большой дороги.
«Пшепрашем, панове [29] , а чего это вы собрались в конном строю атаковать тын, до края которого вам, даже встав ногами на седло, не дотянуться? А-а, „ноу-хау“ привезли! Ну, это проблема решаемая».
Внутри строя кавалеристов прятался тележный передок, запряженный четверкой лошадей. На передке сидели двое – один правил упряжкой, а второй держал в руках что-то непонятное, при ближайшем рассмотрении оказавшееся толстым железным обручем с несколькими загнутыми внутрь зубцами на нижнем краю. К обручу была прикреплена толстенная веревка. Видимо, «экипаж» этого штурмового агрегата собирался накинуть обруч на заостренный верх одного из бревен тына и рывком четырех лошадиных сил сломать или вывернуть бревно из стены. Будто кто-то заранее предупредил ляхов, что давно не ремонтированный тын кое-где подгнил и расшатался.
Мишка дождался, когда четверка коней приблизится на расстояние уверенного выстрела, и всадил болт в лоб левому переднему коню. Конь полетел через голову, обрывая и запутывая упряжь, второй споткнулся об него и тоже упал, два других коня испуганно прянули в сторону, тележный передок опрокинулся… Все, этой «колесницей» можно было больше не заниматься. Мишка поднял глаза и оглядел поле боя.
Азартно щелкавшие самострелами отроки уже вынесли из седел несколько всадников, остальные, не доскакав до тына, отвернули в сторону леса напротив ворот. Пехота, сильно растянувшись, набегала на северо-западный угол тына – передние уже подбегали к отметке «пятьдесят шагов», задние только-только оказались между отметками «100» и «75».
– Ну, что ж, пора, пожалуй, – подсказал Мишке Арсений, приставленный к Младшей дружине Корнеем, накладывая стрелу и выискивая глазами достойную цель.
Оглянувшись назад и вниз, Мишка наткнулся на ждущий взгляд Дударика и скомандовал:
– Дым!
Тут же в небо, оставляя за собой дымный след, ушел самострельный болт. Почти сразу же оттуда, где в лесу скрывались всадники воеводы Корнея, вылетела стрела, тянущая за собой такой же хвост дыма – Корней подтверждал: пора!
– К бою…
Дальше командовать Мишке не пришлось, отроки, до той поры сидевшие на досках настила, чтобы их не было видно из-за края тына, вскочили, как на пружинах и разом разрядили самострелы в набегающих пехотинцев, тащивших попарно на плечах сучковатые бревнышки, которые собирались использовать вместо штурмовых лестниц. Осталось только продублировать команду свистом для отроков, засевших в лесу напротив северной стены. Впрочем, и этого не потребовалось – отвернувшие от тына кавалеристы как раз приблизились к опушке леса на дистанцию убойного выстрела, и навстречу им вылетела сразу полусотня болтов. Мишка только матюгнулся по этому поводу – мальчишки начисто позабыли все наставления. Во-первых, начали стрелять без команды, во-вторых, ударили залпом, в результате в кого-то полетели сразу два, а то и три болта, а кто-то из всадников «остался без внимания».
– По десяткам, справа по одному! – заорал что было мочи Мишка. – Мать вашу, с тетками и бабками… Урядники, навести порядок!..
Куда там! Урядники сами, позабыв про все на свете, лихорадочно перезаряжали самострелы и лупили в набегающих ляхов, начисто игнорируя свои командирские обязанности!
– Плюнь, не слышат тебя! – торопливо выговорил Арсений и вдруг, ухватив Мишку за плечо, рванул его вниз и заорал. – Берегись!!!
И тут же над самым тыном свистнули стрелы, кто-то из отроков вскрикнул, один, отшатнувшись, спиной вперед полетел с помоста на землю, другой скрючился и опустился на колени. Стало понятно, почему так растянулась пехота: одна половина, приставив к стенам суковатые бревнышки, должна была лезть на тын, а вторая, приотстав, остановилась и ударила по защитникам из луков, стреляя поверх голов штурмующих. Кавалеристы же, развернув коней у леса, видимо, собирались составить собой вторую волну атакующих.
В принципе, против обычного села, пусть и огороженного тыном, и даже после потери приспособления для разламывания тына, задумка могла и удаться – несмотря на затрапезный вид и бедность экипировки, нападающие были профессионалами и сумели бы сломить сопротивление селян. Но Ратное-то было воинским поселением! Даже без помощи погостных ратников и Младшей стражи Корней своими неполными шестью десятками сумел бы отбиться – особого численного превосходства у ляхов не было. Отряд их был заметно меньше сотни – человек семьдесят или около того. Короче говоря, ляхи нарвались – село оказалось совсем не таким, как они ожидали.
И все бы ладно, но отроки, позабыв про дисциплину, по-дурному подставлялись под выстрелы ляшских лучников.
– Урядники!!! Убью, суки!!! – заорал Мишка и, стряхнув с плеча руку Арсения, пригибаясь, побежал по помосту, нанося удары прикладом самострела в окольчуженные спины и железные затылки.
– Забыли, чему учились?!! Уряд… – перед лицом свистнула стрела. Мишка присел и огляделся. Прямо перед ним, согнувшись, перезаряжал самострел младший урядник Никон. Ухватив парня за шиворот, Мишка ударил его шлемом о бревна тына, сам чуть не слетел с помоста от ответного удара локтем, двинул Никона головой в бревна еще раз и, развернув на себя, заорал в лицо:
– Говнюк!!! Где твоя пятерка?!! Как себя под стрелами вести надо?!!
– А? – Никон явно «не врубался» в ситуацию.
– Слушай мою команду! – начал подсказывать Мишка, надеясь, что знакомые обороты речи настроят младшего урядника на нужный лад. – Укрыться! По лучникам, поочередно, отрок… – Мишка оглянулся, вспоминая имя ближайшего стрелка.
– Отрок Симеон! – подхватил Никон – Встать, бей! Отрок Гавриил! Готов? Встать, бей. Головы ниже, обалдуи! Без команды не вылезать!
«Ну, раз ругается, значит, опомнился!».
Мишка двинулся дальше и почти сразу наткнулся на командира десятка урядника Ксенофонта. Тот склонился над одним из своих подчиненных, прижимающим к животу пробитую стрелой руку. Получив кулаком по шлему, суматошно оглянулся, начал выпрямляться, и тут же ляшская стрела рванула его за бармицу так, что Мишке пришлось удерживать урядника от падения с помоста.
– Ксюха, урррод, забыл про десяток?!! – прорычал Мишка. – Гляди, как Никон командует!!!
– А? Да, я сейчас… десяток, укрыться! По лучникам, на четверть влево, расстояние семьдесят пять, младшим урядникам командовать поименно!!!
Где-то впереди тоже раздалась команда:
– Отрок Павел! Встать, бей! Отрок Илья, встать, бей!
«Так, вроде бы начали соображать, а что там снаружи-то?»
Мишка начал приподниматься над краем тына и сразу же по шлему звонко ударил наконечник стрелы, пришлось схватиться за заостренную верхушку бревна, чтобы не упасть. Внезапно верхушка соседнего бревна с хрустом расселась, и из трещины выглянул наконечник арбалетного бота.
«Ух, блин… кажись, коллега нарисовался, ну-ка, где ты?»
Чуть левее того места, где был Мишка, среди лучников обнаружился здоровенный детина, который как раз натягивал тетиву арбалета (тоже здоровенного, вдвое длиннее, чем у отроков Младшей стражи). Полуприсев и нагнувшись, он зацепил тетиву крючком, соединенным ремнем с поясом, и начал выпрямляться, взводя арбалет. Окончательно выпрямиться ему не дал Мишкин болт, легко пробивший кожаную куртку с расстояния шагов в шестьдесят.
«Надо будет Кузьке показать, может, и нам так же сделать… а дуга-то у него, похоже, металлическая, вот бы влепил он вам, сэр, если б точнее прицелился!»
Внезапно свист стрел над тыном прекратился, Мишка выглянул наружу и понял, что лучников опасаться больше не надо. Опричники и разведчики, засевшие на опушке леса слева от главных ворот Ратного, все-таки наладили под командой Стерва нормальную стрельбу. Болты летели из кустов практически непрерывно, а вот у Демьяна с командованием не ладилось – то густо, то пусто. Однако отроки в пятьдесят самострелов конных ляхов все же перебили – в седлах осталось всего трое. После этого парни Стерва ударили в спину лучникам, и те повалились, как кегли, успев ответить только тремя или четырьмя выстрелами по кустам.
– Встать!!! – заорал Мишка – По десяткам!!! Справа и слева по одному!..
– Бей! – хором подхватили урядники.
Пехотинцы с бревнами, уже почти добежавшие до тына, шарахнулись в сторону уже от одного только вида воинов, внезапно выросших над заостренными концами бревен, и нацеленных прямо в лицо самострелов, поэтому первые выстрелы отроков пропали зря – опять сказалась неопытность молодежи, а потом… Слева, от поворота дороги, раздался многоголосый рев, и на поле боя (точнее сказать, избиения) ринулись конные ратники, возглавляемые воеводой Корнеем. Сам воевода Погорынский скакал впереди, в сверкающем шлеме, в развевающемся за плечами алом корзне, а за его спиной угрожающе склонялся вперед частокол копий. Отроки на заборолах разинули рты и уставились на это впечатляющее зрелище, позабыв обо всем.
Зато ляхи сориентировались мгновенно и рванули в единственном направлении, откуда не стреляли – в узость между западной стеной тына и лесной опушкой. К Мишкиному удивлению, часть лежащих на земле лучников поднялась на ноги и последовала за пехотинцами. То ли их ранили легко, то ли они изображали покойников, избегая выстрелов отряда наставника Стерва. Туда же устремились и оставшиеся в седлах трое всадников.
Мишка выждал, пока большая часть бегущих окажется перед западной стеной, и свистнул, давая команду отрокам в лесу и девкам на западных заборолах, потом сам собрался бежать туда же – как еще все у девок получится? Парни-то вон как облажались – стрелки позабыли о дисциплине, урядники – о том, что должны командовать.
С чем, с чем, а с командованием у женского контингента все было в порядке. Услышав пронзительный голос Прошки, Мишка даже остановился и слегка приоткрыл рот. Прошка командовал, но как!
– Танька-Дунька-Катька-Манька-Снежка-Любка-Фенька-Светка-Гунька-Полька-Стешка-Ленка… – частил он со скоростью пулемета системы «Максим», и в такт его выкриками раздавались щелчки девичьих самострелов. Мазали девки отчаянно – попадали, в лучшем случае, одним выстрелом из десятка – сказывалось отсутствие навыка стрельбы по движущейся мишени, к тому же стреляли они только по самым ближним к ним ляхам.
«Чуть повыше бы прицел брать…»
Прошка, словно услышав мысли боярича, внес поправку, но не словами, а тоном – подняв частоту голоса почти до дисканта:
– Лушка-Зорька-Стешка-Ленка-Фенька-Катька… – И болты полетели чуть выше!!!
«Ни хрена себе! Вот это контакт с аудиторией! Обалдеть: частотная модуляция голоса как регулятор угла возвышения при стрельбе из метательного оружия! Ну, Прошка, ну талант!»
– Во голосит-то! – прокомментировал с улыбкой Арсений. – Будто кой-чего в дверях прищемили!
– Мажут девки, – отозвался Мишка.
– Ничего, бабоньки подчищают… – Бзынь, стрела с лука Арсения ушла в спину последнего конного ляха. – И парни твои… всего-то и осталось…
«Всего-то и осталось» на несколько выстрелов женщин-лучниц. Ни один лях до берега Пивени не добежал.
– А Корней-то! – ратник Арсений пихнул Мишку в бок. – Ты глянь!
Посмотреть было на что! Воевода Погорынский влетел галопом, впереди своих ратников, на то место, где собирался колоть и рубить супостатов и… остановил коня, растерянно оглядываясь – колоть и рубить было некого. Кое-где шевелились, стонали и кричали раненые, но на ногах не стоял никто. Даже половина ляшских коней валялась на земле – отроки, в азарте боя, лупили во все, что шевелилось. Хорошо, вовремя остановились, а то и сам Корней мог бы болт словить!
Некоторое время в рядах победителей царила тишина и даже некоторая неуверенность – слишком быстрой и легкой оказалась победа. Столько времени готовились, так напряженно ждали и вот: всего несколько минут, отстреляно по четыре-пять болтов… Неужели все? Откуда-то от ворот раздался одиночный выкрик:
– Слава!
Почти сразу же его подхватили юношеские голоса, и над полем боя раздалось многоголосое:
– Слава! Слава! Слава-а-а!!!
Только корнеевские ратники молчали. Покрытое телами поля боя им, конечно же, доводилось видеть не раз, и победы они одерживали неоднократно, но атаковать вот так, во внезапно разверзшуюся пустоту, победить, не нанеся ни одного удара (и преследовать-то некого, вот беда!), остаться не у дел, благодаря мальчишкам с игрушками… А уж что бабы скажут… Нет, ликовать им было не с чего.
Мишка орал вместе со всеми и потому не сразу расслышал, что снизу его кто-то зовет:
– Боярич! Боярич!
Внизу стояла какая-то девчонка и тоненьким голоском пыталась перекричать орущих отроков. Утирала рукавом слезы, шмыгала носом и снова надрывалась:
– Боярич! Боя-а-арич!!!
Первым услышал ее ратник Арсений:
– Чего тебе, малявка?
– Дядька Арсений, отец Михаил умирает, боярича зовет!
– Что?!! Как умирает? – Мишка даже не заметил, как сиганул с заборола на землю. – Ты что несешь?
Девчонка испуганно втянула голову в плечи и запищала прерывающимся голоском:
– Колюня крышу тушить полез, а его стрелой в ногу… он с крыши и свалился… отец Михаил над ним нагнулся, помочь хотел… а ему стрела прямо в спину-у-у…
Всякая надежда пропала, когда стоящий на крыльце поповского дома Матвей в ответ на вопросительный взгляд запыхавшегося Мишки лишь полуприкрыл глаза и отрицательно повел головой из стороны в сторону.
– Почему здесь ты? – вызверился на ни в чем не повинного ученика лекарки Мишка. – Где Настена?
– Не примет он от нее лечения, да и…
– Что?
– Он и так до зимы не дотянул бы, а стрела правое легкое пробила. Сам понимаешь…
Мишка понимал, но не верил – не мог поверить; казалось, сейчас зайдет в горницу, и все обернется к лучшему: и Матвей ошибся, и Настена придет к священнику, и… вообще, какое-нибудь чудо свершится.
Никакого чуда не свершилось, достаточно было только взглянуть на лицо погостного священника отца Симона, стоящего возле постели, чтобы понять: чуда и не будет.
– Подойди, отрок, брат Михаил попрощаться… – голос Симона дрогнул и он замолчал, недоговорив.
– Миша… – не голос, а смесь сипения с клокотанием – Брат Симон, оставь нас…
– Отче, мы победили… и убитых никого… – Мишка запнулся.
«Как же никого, вот же…»
– Отче, это и твоя заслуга! Тобой обращенные в православие язычники латинян побили!
– Не нашими потугами… но повелением Господним… – В углу рта лежащего на боку священника выступила кровь, пальцы отца Михаила впились в край постели. – Господь Вседержитель наш… не попустил… – было видно, как трудно отцу Михаилу говорить, но он сделал над собой усилие и продолжил: – Ми…ша… о другом говорить… хочу. Ты таился, но ОН все видит… а мне теперь… ответь: кто ты?
– О чем ты, отче?
– У меня детей нет… но тебя… я любил, как… – умирающий с сипением втянул в себя воздух и закусил губу. – Пожалей… не дай уйти в сомнениях… кто ты?
Мишка внутренне похолодел. Отец Михаил знал! Нет, не знал, конечно, но чувствовал… чувствовал что-то такое, что заставляло его сейчас – на пороге смерти – задать этот вопрос. Почему-то захотелось воровато оглянуться, хотя и так было понятно, что в горнице никого, кроме них, нет. Мишка секунду поколебался и, скорее не для того, чтобы признаться, а для того, чтобы не заставлять умирающего произносить так трудно дающиеся ему слова, словно чужим голосом выговорил:
– Я посланец, отче… из грядущих веков…
«Господи, что вы несете, сэр? Как в книжке: „Я из будущего, мы научились путешествовать во времени!“ А как еще сказать-то?»
– Посланец… – отец Михаил снова с сипением втянул в себя воздух и, было заметно, с трудом сдержал кашель. – Чей… от кого?
– От людей, отче… от православных, живущих через девять веков после наших времен…
Священник напрягся и вперился в Мишку испытующим взглядом.
– Значит, будущее уже есть?
– …Да… меня же послали…
– Сгинь, Нечистый!!! – голос отца Михаила вдруг стал ясным и твердым, глаза превратились в жгучие уголья, казалось, сама смерть в испуге шарахнулась от него в сторону. – Изыди!!! Отвергаю тебя, как Господь наш Иисус Христос отверг искушения твои в пустыне!
Мишка начисто растерялся, он ожидал какой угодно реакции на свои слова, но только не того, что произошло.
– Отче! Да что ж ты такое… ты же меня столько лет…
В горле священника снова заклокотало, из перекошенного рта по бороде потекла кровь. Он схватился рукой за грудь, но горящий взгляд, направленный на Мишку, оставался все так же тверд. И стало вдруг понятно, что не рану от стрелы, пробившей тело насквозь, пытается он зажать, а нащупывает крест, не находя его на привычном месте, из-за того, что лежит на боку.
Что можно было сказать, какие слова найти, чтобы остановить этого бойца за Веру, поднявшегося в свою последнюю атаку – атаку духовную, потому что плоть уже почти умерла? Не было у Мишки таких слов и не могло быть, но они пришли оттуда, где в его атеистическом понимании не было ничего – из-за рубежа между реальностью и виртуальностью, который был виден ему одному, позволяя манипулировать окружающими и даже, про себя, снисходительно посмеиваться над «темными суевериями».
– Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым… – выдохнул Мишка прямо в синюшное, перемазанное кровью, искаженное лицо друга и Учителя (да, для него сейчас он был Учителем, именно так – с большой буквы!). – И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденного прежде всех век, – никогда еще он не произносил слова Символа Веры так – из глубины… может быть и души, хотя вовсе не был уверен в ее наличии – просто из глубины… нет, только не разума, наверно, правильнее было бы сказать из глубины своей сущности, чтобы это ни означало. – Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша…
Мишка говорил и пропитывался пришедшей откуда-то уверенностью: подействует, не может не подействовать, когда ТАКИЕ слова произносятся ТАК! И действительно, из взгляда отца Михаила начали уходить ненависть и отторжение. Священник наконец-то нащупал свесившийся на сторону крест, сжал его в руке, но не расслабился, как можно было ожидать. Казалось, что эмоциональный взрыв, который должен был отнять у него последние силы, наоборот, прибавил их. Откуда, из каких резервов организма вытянула эти силы неистовая воля монаха, можно было только гадать.
– Веруешь… – голос священника опустился до прерывистого сиплого шепота, – нет, Миша, ты только начинаешь верить.
– Отче…
– Никогда… никогда не только не говори, но даже мыслить не смей…
– Но что я такого?.. Отче, я не понимаю!
– Не понимаешь… а меня Господь призвал… в какие руки ты теперь попадешь?
От жалости Мишке самому стало не хватать воздуха: монах не боялся смерти, лишь сожалел, что недоучил своего любимого питомца.
– Если будущее уже существует… ты пойми… если все уже произошло… то тогда все предопределено… свободы воли не существует. Ересь ты латинскую изблевал!..
«Неуд вам по богословию, сэр! Это вам не доисторическая бабочка Рея Бредбери, тут покруче будет!
– Заткнись, урод!
– Между прочим, сами себя уродом обзываете, сэр Майкл.
– Значит, заслужил! Заткнись!
– Ну, как будет угодно… сэр».
– Отче, но я же не врал, меня и правда послали!
– Значит, ты что-то неверно… неверно понял… и те, кто тебя послал… тоже чего-то важного не понимают… нельзя такие силы в руки глупцам давать… нельзя…
Отец Михаил все-таки не сдержал кашель, кровавые брызги полетели на руку с зажатым в ней крестом, которой он попытался прикрыть рот. Приступ был мучительным, и Мишке уже начало казаться, что это конец, но монах прекратил кашлять, быстро и неглубоко задышал, потом снова заговорил сиплым шепотом, часто прерываясь:
– И жестоки вы ТАМ… глупы и жестоки… Бога забыли… от гордыни все…
– Отче…
– Не спорь… ты ведь… ты ведь в младенца Михаила вселился? Так?
– Так, но…
– Никакого «но»… быть не может! Ты живую… душу убил и занял ее место… чем ты лучше… посланца Врага рода человеческого?
– Нет! Не так все!!! – Мишка заторопился, будто опасаясь, что не успеет оправдаться перед умирающим. – Он и сейчас во мне живет! Помнишь, ты меня берсерком посчитал? Это – от него, лисовиновская стать! Это он тебе сейчас Символ Веры читал, я бы… нет, не я, а такой, каким я вначале был, так бы не смог. А сейчас… не знаю, как сказать… мы в одно сливаемся, в единую сущность… что-то третье вызревает. Что-то лучшее, чем первые два… это ты, отче вырастил.
«Ага, а еще лорд Корней растил, и ученица Бабы-Яги руку приложила! Однако коктейльчик-с получается, доложу я вам, сэр!
– Усохни, трепло!
– Да пожалуйста! Я и вообще из этой коммуналки уйти могу!
– Ну и проваливай!»
– Не обольщайся… даже если душа младенца Михаила жива… то все равно: это будет уже не его жизнь… не его воля… тяжкий грех ты на себя принял… и те, кто тебя послал тоже. За… – голос священника пресекся, он некоторое время молчал, собираясь с силами. – Зачем? За что вы такую… такую цену платите?
«Ну, и? В ЗДЕШНИХ терминах, сэр, вы из поруба утекли, от татей спасаясь. А помог вам в этом колдун! И не за „спасибо“ а за вполне конкретные материальные ценности. Так и скажете?
– Ну, уж нет! Ему с надеждой уйти надо, со светом в душе, с радостью. Хоть это-то для него надо сделать!»
– Мы недавно тысячелетие крещения Руси отпраздновали… за столько лет многое забылось, что-то утрачено, а мы хотим знать: как все было на самом деле. Для этого я здесь, отче. Вернусь – расскажу… и про тебя тоже, отче! И через девятьсот лет тебя в храмах поминать станут!
– Утрачено… – в горле у отца Михаила снова заклокотало, на губах снова показалась кровь.
– Воссияла Русь православная! – заторопился Мишка. – Тысячи храмов, монастыри… Патриарх у нас свой, двадцать митрополитов!
Сколько на самом деле в России митрополитов, Мишка не знал, но что-то же сказать надо было. Возможно, это было последнее, что отец Михаил услышит. Однако стойкость священника оказалась воистину неисчерпаемой.
– Утрачено не что-то… утрачено главное… ради суетного… души губите. Как только Русь-то сберегли?
– Не просто сберегли, преумножили, отче! Нет больше поганых в степи, распахана вся! Русь великой державой стала! На юг – до морей и гор, на восток до океана… до края земли! И на запад… была большая война, отче… наши рати через Одру перешли, до самой Лабы… и по Дунаю… мой отец был в войске, которое Вену на щит взяло.
– До края земли… – Мишка вздрогнул и слегка отшатнулся, так неожиданно и неуместно возникло на почти мертвом лице монаха подобие улыбки. – Нет у земли края… или это неведомо вам?
– Ведомо, отче, очень многое ведомо, я даже и рассказать-то толком не смогу…
– Многое ведомо… и многое утрачено… что на что поменяли? Любомудрие… вам души иссушило. Кто хоть великий князь у вас… или… царь?
– Пре… император… Борис.
– Он рати на Лабу?..
– Нет, это за пятьдесят лет до него было.
– Кто? За кого перед Богом молить?
– Иосиф…
– Будь… благословенно имя его…
«Ну-с, милейший сэр Майкл, довольны? Православный священник умирает с именем Сталина на устах!
– Чтоб ты сдох!
– Только в компании с вами, сэр, откосить даже не мечтайте!»
– Отче…
– Молчи… не суесловь. Великие победы… свершения… дорого вы за это заплатили… очень дорого. Зря тебя… зря прислали. Даже если… поймешь что-то… ТАМ тебя не поймут… или не поверят.
– Отче…
– Молчи… я понял, зачем ты здесь… вы там осознали… утрату. Это… это хорошо… есть еще надежда. Но отсюда ты утраченного… не принесешь. Самим придется… возрождать… путь ваш будет… тернист и долог…
Голос отца Михаила стал быстро слабеть, но рука по-прежнему крепко сжимала крест, а взгляд, кажется, стал еще пронзительнее.
– Благословляю тебя… и всех вас… на сей духовный подвиг… и обещаю молить пред Горним Престолом о тебе… о Борисе, об Иосифе… обо всех, кто в суетности земной… растерял по капле… свет души…
Мишка вдруг понял, что не слышит дыхания отца Михаила. Священник не умер, не перестал жить – он ушел за тот рубеж, за которым для Мишки ничего не было.
– Отче? Отче… Отче-е-е!!!
Звук открывающейся двери за спиной, чьи-то шаги… Мишка на какое-то время выпал из реальности. Отец Симон что-то читал нараспев, билась в истерике и вырывалась из рук Матвея служанка Улька, происходило еще что-то, а Мишка стоял на коленях и впервые в жизни искренне молился.
Впрочем, вряд ли это можно было назвать молитвой. Да, слова были: «Прими душу раба Твоего»… «Прости ему прегрешения, как вольные, так и невольные»… Но смысл, вкладываемый в них… Мишка не знал, КОМУ молится! Не жестокому иудейскому богу, обрекшему собственного сына на мучительную смерть, и не его сыну, который то требовал подставить другую щеку, то грозил, что не мир принес, но меч, и, конечно же, не доброму дедушке а-ля Жан Эффель, сидящему на облаке в сандалиях на босу ногу. Но ведь и не информационному же полю вселенной!
Только сейчас он познал истинный смысл слов «глас вопиющего в пустыне», не умом познал, а через мороз по коже от страха не быть услышанным! Понял ужас невозвратности потери от смерти отца Михаила. К кому теперь идти с ЭТИМ? К Нинее? Да, выслушает, поймет и сумеет утешить, но сделает это бестрепетными пальцами хирурга, оперирующего душу. К Корнею? Да тому место не только не в христианском раю, но даже и не в славянском Ирии – самое подходящее место для него Валгалла. К Аристарху, жречествующему от имени Перуна и тут же поучающему молодежь христианскому благочестию? К Настене, убежденной, что и попы и волхвы одинаково дурят свою паству?
Это отец-то Михаил дурил? Что ж тогда держало его в этом мире, заставляло жить, когда он уже должен был умереть? Жить ровно столько, сколько понадобилось времени, чтобы понять то, что требовалось понять и сказать, то, что он обязан был сказать? Нет, ни Нинеины «технологии», ни дедов прагматизм, ни Настенина изощренность на такое не способны!
Одиночество! Мишка остался один на рубеже, видимом только ему одному, но не потому, что его глаз зорче, чем у других, а наоборот, потому, что он за этим рубежом слеп! Это для других там лежат целые миры, наполненные своим тайным смыслом, непостижимой красотой и беспредельным ужасом, а для него там пустота, с калейдоскопом холодных иллюзий, не дающих опоры ни разуму, ни… чувствам, что ли? Или все-таки душе?
«А чего вы хотели, сэр? Одного понимания того, что без идеологии управлять большими массами людей невозможно, недостаточно. И попользоваться для своих нужд чужой идеологией, это тоже еще умудриться надо! Прекратите комплексовать, в конце-то концов, сэр Майкл! Да, жалко человека. Да, железная сила воли, да, такая же железная вера. Да, сумел захватить вас своим неистовством так, что довел до шизофренического раздвоения личности. Ну и что? Индукция, она не только в толпе действует, но и в малых группах, и в парах. Да, нравственную ущербность, расплодившуюся ТАМ, сумел почувствовать… гм, насчет растерянного по капле света… это он сильно, конечно…
Да перестаньте же, сэр Майкл! Заладили: один, один… Корней тоже один, и Нинея одна, и Настена… Вам ли не знать, что такое одиночество первого лица? А недоступность желаемого… она ведь всякая бывает. Ну, вспомните хотя бы вашего знакомого Сергея Сергеевича. В очень немалых чинах пребывал, а что вам под коньячок о своей мечте поведал? „Встать бы утречком, принести дров из сарая, истопить печь, а потом пойти с женой в магазин и купить себе рубашку. Клетчатую! Фланелевую!“ А у самого на даче дрова только для камина, а фланелевые рубашки даже дома не носит. Ну, не бред? Вот и не завидуйте силе веры преподобного Май… отца Михаила. Вовсе вы не рожденный ползать, а просто совсем в иных сферах воспаряете».
Мишка вдруг обнаружил, что уже не стоит на коленях возле смертного одра отца Михаила, а сидит на крыльце его дома, свесив руки меж колен и тупо уставясь в землю, а над головой монотонно зудит голос Прошки:
– …Бабам-то военной добычи не положено, если даже она кого из лука и подшибет, то с тела все муж забирает, а как уж они там между собой – их дела. А у девок-то и мужей нет, вот я и говорю, что, может быть, отцам надо отдать, а она говорит, мол, виданное ли дело – девкам воинскую добычу, и девки тоже дуры дурами, покойников трогать боятся. Вообще дурь – сами убили, и сами же боятся… конечно, с этих-то оборванцев добыча невелика, но по справедливости же надо! Я ей объясняю, а она тетку Алену грозится позвать, а у меня еще от прошлого раза шея болит. Но девки-то ляхов почти десяток побили, а бабам добыча не положена, ты бы сказал ей, Минь, я так думаю, что заместо мужа добычу отец взять должен, а где ж я им всем отцов-то наберу? У некоторых так и нету отца-то, да и кто меня слушать будет, но болты-то меченые, сразу видно, чья добыча, хоть бабам и не положено, но чего на меня Алену-то натравливать? Она же – сила дикая, невменяемая, я к воеводе Корнею хотел пойти, а меня прогнали, к отцу Михаилу пошел, а он помер, а тут смотрю: ты сидишь. Ты им скажи, что если бабам добыча не положена, то вместо мужа можно отца, и чтоб тетка Алена не дралась, а старостиха хорьком не обзывала…
Голос Прошки все журчал и журчал, но почему-то не раздражал, как обычно, своей занудливостью, а, наоборот, успокаивал и отвлекал от тяжелых мыслей.
– …Вот я, значит, смотрю, ты сидишь, дай, думаю, скажу все тебе, а то тетка Листвяна, конечно же, девок в обиду не дала бы, но она же в тягости – постреляла, а потом пошла прилечь в дом, и ее добыча тоже теперь как бы ничья, потому что ни мужа, ни отца у Листвяны нету. Хотя про отца никакого разговора не было, это я так измыслил, а старостиха говорит: «Виданное ли дело – девкам воинскую добычу!» А виданное ли дело, чтоб девки почти десяток оружных мужей завалили? Но Листвяна-то ушла, в тягости она, а девки-дуры покойников боятся, и от меня защиты ждут – смотрят, как дите на мамкину титьку, а чего я могу-то? Вот был бы я, как тетка Алена, у нее тоже ни отца, ни мужа нету, а кто ей хоть слово поперек скажет? Она одного своего ляха стала обшаривать, а он такой весь корявый какой-то и одет плохо, и сапоги с чужого плеча, а на поясе кошель, а в том кошеле…
– Эй, ты, «сапог с чужого плеча»! – раздался вдруг голос Дмитрия. – Иди отсюда, видишь, господину сотнику не до тебя!
– Почему сотнику? – изумился Прошка. – Сотником у нас Корней, потому что…
– Пошел вон, кому сказано! – прикрикнул Дмитрий.
– Не пойду! – неожиданно уперся Прошка. – Ты посмотри: Минька весь как ушибленный, Настену звать надо, а то как бы опять… это самое… скачи за Настеной, я пока с ним еще поговорю…
– Да ты кого хочешь насмерть заговоришь! – Дмитрий склонился над Мишкой. – Минь, а Минь! Ты как? Глянь-ка на меня… ой, у тебя лицо опять…
– Да говори чего-нибудь! – взвыл вдруг Прошка. – Делом его займи… Минька! Демка Алексея убил, за неповиновение! Разбираться надо! Иди туда, а то Корней там Демку…
– Что-о-о?!! – неведомая сила вздернула Мишку на ноги. – Как это? Алексея?!!
– Скачи скорей, может, живой еще! – продолжал блажить Прошка. – И Демку выручать надо!
– Ты что, ополоумел? – начал было Дмитрий, но Мишка перебил его:
– Коня! Слезай, я сказал! Слезай!!! Прошка, где они?
– За воротами, там увидишь!
Проводив глазами нещадно погоняющего коня Мишку, Дмитрий обернулся к Прохору.
– Придурок! Демьян же не Алексея, а Александра убил! А он подумал…
– Ну и хорошо! – перебил кинолог Младшей стражи. – Вон как взбодрился! А то сидел, как каменный, я уж и так, и эдак… только замолкну, чувствую он в себя уходит, как тогда. Опять говорю, говорю – он вроде бы здесь, ну, не то чтобы слушает, а так как-то… А про Алексея соврать я сразу и не догадался…
– Лекарь, твою налево… пошли, что ли.
– Слушай, Мить, бабам-то добыча не положена, а она мне говорит…
Отроки строились буквой «П» на лугу перед главными воротами Ратного. Строились в пешем порядке, в седлах высились только Мишка и Дмитрий. Мишка, уже пересевший с коня Дмитрия на своего Зверя, даже разобравшись, что убит вовсе не старший наставник Алексей, а отрок Александр – урядник девятого десятка Младшей стражи, все равно был весь на нервах и жестко одергивал Зверя, которого сам же и горячил, не замечая этого.
Рядом орал на отроков Дмитрий:
– Живей, живей! Что, олухи, строиться разучились?! Урядники, куда смотрите? Седьмой десяток! Иона, да оттащите вы покойника, туды вас поперек, мешает же, неужто сам не видишь? Девятый десяток, десятый десяток, встать отдельно вот здесь… Чего вызверился, говнюк?! Опричники, слушай мою команду! Заряжай… Цель – девятый и десятый десятки! И пусть хоть одно рыло дернется! Всех бл…ей положим! Я вам покажу, как на брата сотника руку поднимать! Кто там раненого-увечного из себя строит? Стоять, сука, стоять, я сказал! К Матвею пойдешь, если мы вас живыми отпустим! Опричники, товсь! Девятый и десятый десятки, оружие на землю! Опричники, если хоть одна гнида промедлит… Вот так! А теперь два шага назад и стоять, не шевелиться!
С другого бока топтался Демьян – взбешенный и напружиненный, готовый, казалось, набросится на любого, кто даст к этому хоть малейший повод. Нервно оправлял на себе амуницию, сплевывал сквозь зубы и косил глазом на самострел, который Мишка отобрал у него и держал у себя, положив поперек седла.
– Всем, кроме опричников и разоруженных! – продолжал Дмитрий. – На ре-мень! Равняйсь! Отставить! Что за шевеление?!! Команда всех касается!!! Стража, равняйсь! Смирно! Господин сотник! Отроки Младшей стражи по твоему приказу построены!
Мишка не стал давать команду «вольно», а мрачно окинул взглядом разоруженных отроков девятого и десятого десятков, потом покосился на опричников, держащих их на прицеле.
«Это Митька, пожалуй, погорячился… не дай бог, у кого-то из ребят нервишки сыграют. Хотя не должны бы, в боях уже побывали, мечами опоясаны, в масштабах Младшей стражи – ветераны. А даже если и стрельнут… отец Михаил умер, чего этих-то раздолбаев жалеть?»
Он уже набрал в грудь воздуха, чтобы начать говорить, но Дмитрий неожиданно тронул его за плечо и негромко сообщил:
– Воевода едет.
«Принесла нелегкая… А вот хрен, сам буду разбираться. Произвел в сотники, так и не лезь! Я тебе не рак на горе, чтобы только по четвергам после дождичка свистеть».
Мишка оглянулся. Корней подъезжал не один, а в компании Аристарха и Алексея. Позади них кучковалось человек тридцать ратников.
«Угу, остальные, значит, отправились ляшский обоз брать. Да что в том обозе? Грабить ехали, телеги, наверняка, пустые. А при себе лорд Корней оставил два погостных десятка да людей Фомы и Егора. Наказанные, надо понимать, даже такой мелкой добычи лишены. Или? А что, вполне возможно! Поучительный культпоход в театр, на спектакль „Разбор полетов в Младшей страже“. Ну что ж, будет вам спектакль, ваше сиятельство, вы же, сэр Майкл, надо полагать, и так никого жалеть не собирались?»
– Стража! Смирно! Равнение направо! – скомандовал Мишка и начал разворачивать Зверя, чтобы выехать навстречу Корнею, но воевода издали замахал рукой, мол, продолжай сам, я со стороны посмотрю.
«Точно, спектакль, для неблагонадежных! Ну-с, отыграем по полной программе, тем паче, сэр, что вам сегодня вдохновения не занимать – лучший актер тот, кто верит в то, что играет. А вы, сэр, как раз в это-то и верите!»
Мишка напряг голос так, чтобы слышно было не только стоящим в строю отрокам, но и подъезжающим ратникам:
– У нас сегодня случилось две беды! Одна беда – великое горе, но также пример исполнения христианского долга и истинного мужества. Пастырь наш отец Михаил принял мученическую смерть, закрыв раненого своим телом от вражеской стрелы. Царствие ему Небесное и вечная память!
Мишка подождал, пока все отроки осенят себя крестным знамением и вернут на головы шлемы, потом продолжил:
– Вторая беда – позор и бесчестие! Отроки девятого и десятого десятков не исполнили приказа, а когда урядник Демьян вознамерился их к исполнению воинского долга принудить, подняли на него руку… Молчать!!! – рявкнул Мишка в ответ на протестующий жест кого-то из отроков. – Виновны все!!! И те, кто это преступление совершил, и те, кто этому не воспрепятствовал!
– Молчать!!! – эхом отозвался откуда-то сзади голос Корнея, адресуясь, надо было понимать, не отрокам, а ратникам. – Смотреть, слушать и мотать на ус!
«Угу. Внимайте, почтеннейшая публика! Сейчас Бешеный Лис зубы показывать будет! Мотайте на ус, ибо их сиятельство Корней Погорынский при случае и с вами то же самое сотворит, а иначе зачем спектакль? Циркус, туды б тебя в воеводский титул и боярское достоинство».
– В чем причина такого преступного поведения отроков девятого и десятого десятков? – продолжил Мишка. – Только в одном! В том, что они собственный интерес поставили выше общего дела! Да-да! И нечего рожи кривить! Стреляли не туда, куда надо, а в ляхов, на которых доспех побогаче был! Добычу взять возжелали, а о том, что вражьи лучники по вашим же товарищам бьют и стрелять в первую очередь надо по ним, забыли начисто! Старшина Дмитрий, сколько народу от вражьих стрел пострадало?
– Четверо отроков ранено, из них один тяжело! – отрапортовал Дмитрий. – В селе тоже четверо раненых и один убитый… и еще отец Михаил.
– Вот! – Мишка выставил указующий перст в сторону обвиняемых. – Все они на вашей совести! Но мало того! Вы еще и взбунтовались, когда урядник Демьян вас в разум привести попытался!
Мишка обвел взглядом отроков, а Демка в очередной раз сплюнул и со скрежетом провел латной рукавицей по кольчуге на бедре.
– Что в обычных селениях делают с теми, кто свой интерес ставит выше общей пользы? – вопросил Мишка и, не дожидаясь ответа, объяснил сам: – Они становятся извергами! Либо по собственной воле, либо изгоняются по решению схода. Что делают с воинами, ради собственной корысти забывшими о долге и приказе? Они повинны смерти!
Строй девятого и десятого десятков не то что бы распался, но утратил монолитность – отроки словно бы постарались отстраниться от соседей, мол, это все они, я тут ни при чем!
– Стоять! Команда «смирно» была! – прикрикнул на них Дмитрий, впрочем, совершенно бесполезно: плотность строя не восстановилась.
– Один из виновных, урядник Александр, свое уже получил! – Мишка указал на тело отрока, лежащее перед строем. Из левой глазницы личины убитого все еще торчал кинжал Демьяна. – Как еще двоих зовут? – негромко спросил Мишка у Дмитрия.
– Герман и Филимон.
– Отроки Герман и Филимон, три шага вперед!
Двое парней неохотно вышли из строя. Один поддерживал левой рукой правую – последствия удара Демкиного кистеня – это ему Дмитрий кричал, что пойдет к Матвею, если живым останется. Второй сильно хромал – Демьян врезал ему ногой чуть ниже подола кольчуги.
– На колени! – приказал Мишка. – Шлемы снять!
Оба послушно опустились на землю, Филимон стащил с головы шлем, а Герман замешкался – одной рукой получалось неловко.
– Урядник Демьян! – Мишка протянул брату отнятый самострел. – Довершай, что начал!
Демка цапнул оружие, как кот, хватающий на лету зазевавшегося воробья, мгновенно взвел, наложил болт… Филимон запрокинулся на спину с пробитым лбом.
– Старшина Дмитрий, второго! – скомандовал Мишка.
Герман успел вскрикнуть и вскинуть в защитном жесте левую руку. Его болт тоже ударил прямо в лоб.
– Кхе! Вот так, значит! – раздался сзади и сбоку голос Корнея. – Чтобы доспех, понимаешь, не портить!
«Руководство ясно дает понять, что одобряет и не возражает против продолжения банкета. А вот обломайтесь, ваше сиятельство, мы кадры разбазаривать не приучены!»
– Девятый и десятый десятки! – начал Мишка спокойным голосом, а потом заорал, насколько хватало мощности глотки. – На колени, бл…ди!!! Шлемы долой!!!
Отроки принялись испуганно озираться и бестолково топтаться на месте – что только что произошло с теми, кто встал на колени и обнажил голову, все прекрасно видели.
– Исполнять!!! – заорал Дмитрий тоже во всю мощь глотки и, видя, что команда не исполняется, скомандовал. – Опричники! Товсь! По бунтовщикам, справа и слева по одному…
Сзади что-то проговорил Корней, и Мишка увидел, что десяток погостных ратников, под началом Кондратия, тронул коней, заезжая за спину девятому и десятому десяткам. Наконец в отроках что-то сломалось – спереди почти в упор смотрят самострелы опричников, сзади разворачиваются в линию, опуская копья, погостные ратники – один за другим парни начали опускаться на колени и сбрасывать шлемы на землю.
Краем глаза Мишка уловил какое-то движение и, повернув голову, встретился глаза в глаза с Роськой.
«А! Ну, тоже верно. То есть унтер-офицер Василий, конечно, думает, что казнить без молитвы и покаяния нельзя, а вы, сэр Майкл, можете воспроизвести то же действие, но в целях морально-политического воспитания личного состава. И… отец Михаил одобрил бы… если не образ мыслей, то хотя бы образ действий».
– Читать «Отче наш»! – приказал Мишка.
– Отче наш… – начал одинокий мальчишеский голос. – Сущий на небесах… – подхватило еще несколько голосов. – Да святится имя Твое, да будет воля Твоя…
Дождавшись заключительного «Аминь», Мишка удовлетворенно кивнул.
– Моление ваше услышано! Слушайте приказ. В следующий бой пойдете с обнаженными головами, уповая на милость Божию и справедливость Высшего Судии – Он всеведущ и сам решит, кто из вас более повинен, кто менее. Урядник десятого десятка Игнатий… Не слышу ответа!
– Здесь, господин сотник.
– Урядник десятого десятка Игнатий, ты явил неспособность командовать десятком и лишаешься достоинства урядника… Ну, не слышу ответа.
– Слушаюсь, господин сотник.
– Отрок Игнатий, ты переходишь рядовым в девятый десяток, чтобы заменить собой казненных.
– Слушаюсь, господин сотник.
– Отрок Максим, отрок Власий!
– Здесь, господин сотник! – хором отозвались оба парня, пошедшие вслед за Мишкой в воду в бою у брода.
– Отрок Максим, назначаю тебя урядником девятого десятка Младшей стражи.
– Слушаюсь, господин сотник.
– Отрок Власий, назначаю тебя урядником десятого десятка Младшей стражи.
– Слушаюсь, господин сотник.
– Вы оба в походе за болото себя хорошо показали, надеюсь, и в достоинстве урядников не оплошаете. С Богом, принимайте командование.
– Рады стараться, господин сотник!
– Девятый и десятый десятки, встать, разобрать оружие! Сейчас пойдете собирать убитых ляхов – тех, из кого уже вынули болты и стрелы и обыскали. Волочь их вон туда, на берег Пивени и скидывать в воду. Христианским погребением псов латинских не удостаиваем!
– Кхе! – раздалось сзади.
Тональность универсального полуслова-полукашля Корнея была явно осуждающей, даже предостерегающей. Мишка недоуменно обернулся, наткнулся на сердитый взгляд деда и, уже понимая, что сотворил что-то не то, скомандовал:
– Отставить! Слушать приказ господина Воеводы!
– Кхе! – снова повторил Корней, заметно напрягаясь, чтобы подобрать правильные слова. – Псы-то они, конечно, псы, но… души христианские… хоть и латиняне. Опять же, славянского языка… не половцы какие-нибудь или сарацины… Кхе! Так, значит… приказываю сносить убиенных к часовне на кладбище, а там… отец Миха… отец Симон укажет, как с ними поступать надлежит. Да… Кхе, к часовне!
– Исполнять! – скомандовал Мишка, когда стало ясно, что господин воевода закончил давать указания.
Два десятка отроков, с нескрываемым облегчением, отправились таскать покойников под началом новых урядников. Пока они торопливо, но аккуратно проскальзывали между конями ратников Кондратия, Мишка вполголоса переговорил с Дмитрием:
– От десятка Первака почти ничего не осталось. Переведи оставшихся к Степану, у него как раз троих не хватает.
– А Варлама куда?
– Я Антона себе в помощники забрал, ты сам выбери, кого из младших урядников на его десяток поставить, а Варлама – на его место определи.
– Да из него командир пятерки, как…
– Зато стреляет хорошо и в бою не теряется. Он меня выручил в лесу у Кипени. А командуют все хреново, ты сам сегодня все видел.
Девятый и десятый десятки ушли, казненных отроков унесли, опричники разрядили оружие, но десяток Кондратия так и остался стоять, где стоял, хотя нужды в нем уже не было.
Надо было продолжать, и Мишка попытался сделать радостное или по крайней мере довольное лицо. Получилось плохо, но отроки-то ни в смерти отца Михаила, ни в Мишкином тоскливом настроении виноваты не были. Пришлось наклеить улыбку и сделать над собой усилие, чтобы не коситься на пятна крови, оставшиеся на месте расстрела Германа и Филимона.
– Ну что ж, те, кто заслужил наказание, наказаны, вы же заслужили похвалу! Не подвели, оборонили Ратное от татей, не дали уйти ни одному. Поздравляю вас с первой победой Младшей стражи! Горжусь тем, что мне выпала доля командовать вами.
Мишка помолчал, не придумал, что бы еще такого добавить и, вздев над головой меч, выкрикнул:
– Слава православному воинству!
– Слава!!! Слава!!! Слава!!! – откликнулся строй, тоже, впрочем, без особого энтузиазма.
– Слава Младшей страже! – кинул Мишка еще одну здравницу.
– Слава!!! Слава!!! Слава!!! – теперь вроде бы получилось пободрее.
– Слава воеводе Корнею! – добавил Мишка, уже чисто для проформы.
– Слава!!! Слава!!! Слава!!!
– Слава сотнику Михаилу!!! – вдруг заорал что есть мочи Дмитрий.
А вот этот клич, что называется, упал на сердце.
– Слава-а-а!!! Слава-а-а!!! – разразились отроки такими криками, что Мишка даже почувствовал что-то вроде смущения. Чего-чего, а такой реакции через несколько минут после расстрела он никак не ожидал. Несколько растерянно он оглянулся на Дмитрия, выглядевшего таким довольным, словно совершил невесть какой подвиг, а потом на деда. Корней по-гусарски расправил усы и подмигнул внуку, совершенно неожиданно вогнав того в краску.
– Гм, – Мишка промахнулся, вкладывая меч обратно в ножны, и, воспользовавшись поводом, спрятал лицо, сделав вид, что никак не может попасть клинком в нужное место.
«Ну что вы, сэр, право, как гимназистка от первого в жизни комплимента… Ребята первый бой пережили, потом расстрел, и вдруг – доброе слово. Да не будь у вас такого поганого настроения, вы бы их и плясать запросто заставили бы! Ну и приятная неожиданность случилась – все же поверили, что вы оба проштрафившихся десятка расстрелять прикажете. Сюрприз, так сказать, почти happy end».
Чувствуя, как против воли на лицо наползает уже вполне искренняя улыбка, Мишка распорядился:
– Опричникам, разведчикам и всем урядникам остаться, остальные свободны. Дмитрий, распорядись.
Пока Дмитрий раздавал команды, Мишка отъехал к деду.
– Кхе! Сурово ты, внучек, сурово…
– Ну, не скажи, батюшка! – вмешался Алексей. – По мне бы, так, за нападение на Лисовина весь десяток казнить надо, чтобы все остальные знали: пощады не будет, и сами бы Лисовинов оберегали!
– Всех казнить, с кем воевать будем? – начал возражать Мишка.
– Да какие они воины? – перебил Алексей. – Неужто сам не видишь? Даже опричники твои…
– Верно! – не дал Алексею договорить Корней. – Пока еще не воины. А остальное – неверно, Леха! Какие из них воины вырастут… вот и от сегодняшнего дня тоже зависит. Сурово Михайла поступил, но справедливо и… милосердно, а значит, правильно!
– А скажи-ка, Михайла, – неожиданно подал голос Аристарх, – вот ты тогда отрока застрелил за убийство на поединке… и Демьян сегодня урядника застрелил за неповиновение и бунт. В чем разница? Или нет разницы?
– Так я же не видел… – растерялся Мишка от неожиданного вопроса. – Меня там не было. А так… все по правилам, вроде бы…
– Кхе!
Дед был явно разочарован Мишкиным ответом, даже отвернулся и крикнул своим ратникам:
– Все, ступайте собираться, после обеда выходим на Княжий погост!
Аристарх понимающе переглянулся с Алексеем и слегка кивнул, словно соглашаясь с чем-то, о чем Мишке не было известно.
– А что не так? – спросил Мишка, уже понимая, что совершил ошибку, причем ошибку, ожидаемую всеми троими: Корнеем, Аристархом и Алексеем.
– Да все не так, парень, почти все… – Аристарх потеребил броду и снова переглянулся с Алексеем. – Припомни-ка, как ты Пахома казнил. Предупредил, чтобы всем все понятно было, а потом с холодной головой и твердой рукой свершил. Так?
– Так…
– А Демьян не так, едрен дрищ! Он в драку полез! Он не казнил, он в драке убил! Понимаешь? Его и наше счастье, что Демьян драчун отменный, а то бы ты сейчас не только отца Михаила оплакивал, а еще и брата двоюродного, и где б тогда твое милосердие было? Всех бы положил! Что, не так?
Мишка молчал, отвечать было нечего.
– И остальных виновных по-дурному казнил! – продолжал Аристарх. – Не мог, что ли, опричникам приказать? Зачем Демке самострел дал? Получилось, что ты позволил Демьяну продолжить драку, но уже с беспомощными! И где здесь справедливость?
«Да, сэр, это вы крепко лажанулись. Потерпевший и палач в одном лице сочетаться не должны. Казнит не человек, карает закон – не из мести, а за вину».
– Ну, будет тебе, Аристарх! Понял он уже все! – вмешался Корней и резко переменил тему. – Отца Михаила-то успел в памяти застать?
– Успел, деда… попрощались… благословил меня…
– Да, крепкий муж был, телом слаб, но духом… и смерть принял истинно христианскую! Ты нос-то особо не вешай, я за свою жизнь стольких перехоронил…
Вопреки собственной рекомендации, дед тяжко вздохнул и нахмурился.
– Я что узнать хотел, деда, – торопливо спросил Мишка, – мы на Княжий погост уже сегодня пойдем?
– Да, я уже велел Бурею обоз готовить. В дороге заночуем, а с утречка в гости и заявимся.
– Так, может, я Стерва с десятком разведчиков вперед пошлю?
– Кхе! А без тебя, значит, не разведаем?
– Ну почему? Разведаете, конечно, но ребятам-то учиться надо.
– Ладно, ладно.
– Ну, что дальше-то со своими делать собираешься? – Аристарх продолжал гнуть свою линию. – Одних наказал, других похвалил… и все?
– Нет, не все! – Мишка вдруг ощутил злость, хотя и не смог бы сказать, на кого персонально он злится. – Урядники ни хрена в бою командовать не способны! Вот прямо сейчас это и будем исправлять!
– Ну-ну, посмотрим…
Мишка развернул Зверя и, уже отъезжая, расслышал голос Корнея:
– Чего ты к парню прицепился? Видишь же, что не в себе слегка из-за попа…
– Самое время для учебы, Кирюш, самое время! Когда все тихо да спокойно – одно дело, а вот совладать с собой и с другими, когда самого всего трясет да ломает…
– Второй десяток опричников, надзирать за наказанными! – распорядился Мишка, вернувшись к строю. – Уряднику Степану остаться, пусть младшие урядники свои пятерки уводят.
Теперь на месте общего построения остались только члены Совета Академии, урядники, командующие десятками, и первый десяток опричников, целиком набранный из куньевской родни тетки Татьяны.
– Господа урядники, может быть, думаете, что моя недавняя похвала к вам относилась? – Мишка подбоченился «а-ля лорд Корней». – Нет, не к вам! Рядовые отроки ее заслужили, они воевали, как могли, а вот вы не сделали почти ничего из того, что были обязаны сделать! Старшина Дмитрий!
– Здесь, господин сотник!
– Сколько всего ляхов было?
– Семьдесят один!
– Сколько из них на счету Младшей стражи?
– Сорок три!
– А сколько выстрелов сделали отроки?
– По-разному, господин сотник, кто по три, кто по четыре, а кое-кто и пять раз успел.
– Это выходит четыре-четыре с половиной сотни болтов – четверть того, что у нас есть! – Мишка с преувеличенным удивлением оглядел притихших урядников. – Куда ж вы такую прорву подевали, если убитых всего сорок три?
Ответом ему было молчание, большинство урядников смотрели себе под ноги. Да и что тут было говорить? Меньше одного попадания из десяти, такого не было даже в самом начале учебы.
– Старшина, а нет ли среди убитых таких, в ком больше одного болта сидит? – продолжал юродствовать Мишка. – Не все же отроки мимо лупили?
– Есть, – мрачно констатировал Дмитрий. – Есть и больше, чем два. Вон там вроде бы воевода ляшский валяется, так в нем самом три болта, на шлеме две отметины, щит в трех местах пробит и в коня три болта всажено!
– Так… – Мишка перешел на серьезный тон. – А ну, смирно! Что глазки потупили, как красны девицы? Это как надо умудриться, чтобы в одного человека не меньше одиннадцати выстрелов одновременно сделать? Можете не отвечать! Такое бывает только тогда, когда урядники своими людьми вообще не командуют, как будто их и нет вовсе! Тогда все скопом лупят в того, у кого самый лучший доспех. И этот самый лучший доспех превращается в мусор! Команда «смирно» была! Смотреть на меня!
Урядники были готовы смотреть куда угодно, только не на своего сотника. Одни преувеличенно дисциплинированно пялились прямо перед собой, у других зрачки елозили из стороны в сторону, помимо воли хозяев.
– Урядник Ксенофонт, что надлежит делать, чтобы избежать одновременной стрельбы в одну и ту же цель? – тоном беспощадного экзаменатора вопросил Мишка.
– Стрелять по очереди, перекатом с одного края на другой, или с обоих краев к середине…
– Урядник Нифонт, продолжай.
– Пока десяток перезаряжает самострелы, урядник и младшие урядники берегут свои выстрелы на случай, если враг приблизится и может нанести ущерб десятку!
– Так! – Мишка кивнул и перевел взгляд на следующего «истязуемого». – Урядник Иона, как надлежит стрелять, если для этого надо высовываться из-за укрытия?
– Стрелять пятерками, а младшие урядники должны командовать поименно, чтобы стрелки появлялись неожиданно и в разных местах!
– Урядник Климентий, какие команды отдаются при стрельбе «перекатом»?
– Десяток, товсь! По такой-то цели, направление такое-то, расстояние такое-то, целься! Справа или слева по одному! Бей!
– Ну вот, все знаете! – Мишка обвел урядников взглядом. – Почему же не исполняли?
Снова тишина. Вопрос был, как говорится, риторический.
– Напоминаю, если кто забыл: четыре сотни болтов, которые вы сегодня по-дурному раскидали, – это четверть того, что у нас есть! По вашей милости четверть всего времени мастерские работали впустую! И теперь у нас только по пятнадцать выстрелов на стрелка! Чем воевать собираетесь?
Дожидаться ответа и на этот вопрос было, разумеется, бесполезно, но Мишка все-таки выдержал садистски длинную паузу.
– Слушай приказ!
Строй, казалось бы, и не шелохнулся, но Мишка сразу уловил облегчение урядников – то ли вздохнули, то ли чуть менее напряженными стали позы, а вот глаза перестали елозить совершенно точно. Оно и понятно – измывательство кончилось, теперь пойдут конкретные указания.
– Впредь запрещаю урядникам в бою накладывать болт на взведенный самострел! Держать оружие наготове, но не применять! Личное оружие – для личных дел! – только если вам самим будет угрожать прямая опасность! В остальных случаях стрелять вам запрещено. Оружие урядника – его десяток. Если будете правильно управлять десятком, то самим стрелять и не придется!
Это – первое. Теперь второе. Запрещаю вам в бою думать о добыче! Если болт урядника найдется в богато одетом и вооруженном трупе, я буду считать, что этот урядник думал не о деле, а о корысти, и поступлю с ним соответственно! Напоминаю: всей добычей Младшей стражи распоряжается господин воевода, а он вас не обидит! По обычаю, десятник имеет три доли рядового ратника, думаю, что господин воевода так же и для нас сделает…
– Кхе! – раздалось позади.
«Тпру, сэр Майкл, не туда заехали – нечего за начальство решать, а вдруг у него иные планы?»
– Впрочем, все это на усмотрение господина воеводы, – поправился Мишка, – к тому же четверть добычи Младшей стражи по праву принадлежит господам наставникам. Ну, а за сегодняшний бой вы не получите ничего – не командовали, за что вам долю в добыче давать?
На этот раз дедово «Кхе» имело явно одобрительный оттенок. Мишка немного выждал, не последует ли что-то более членораздельное, и продолжил:
– Повторяю для тугодумов! Первое: ваше оружие – это ваш десяток. Второе: ваша добыча – это добыча вашего десятка. Всем понятно?
– Так точно, господин сотник!
Ответ прозвучал не очень-то дружно – отроки все еще осмысливали услышанное.
«Ну-ну, поскрипите мозгами, поскрипите. Это в бабкиных сказках: „Еруслан-богатырь махнул рукой – среди ворогов улица, отмахнулся – переулок“. А нам требуется не сборище индивидуальных бойцов, пусть и сколь угодно высокой квалификации, а сплоченный и управляемый воинский коллектив. Стая, способная растерзать хоть быка, хоть мамонта, хоть тираннозавра, хоть… другую такую же стаю, едрена вошь!»
– Теперь третье! В то, что вы, господа урядники, с первого раза в разум придете и в следующем бою не сотворите такой же дури, как сегодня, я верю с трудом. Поэтому над каждыми тремя десятками я ставлю одного из господ советников Академии Архангела Михаила, так, как сегодня надзирал за девятым и десятым десятками боярич Демьян! – Мишка перешел на крик. – И так же беспощадно!!! Лучше еще несколько дураков казнить, чем загубить всех!!! Жалости не ждите! Или вы станете такими урядниками, как нужно, или… – Мишка снова понизил голос до нормальной громкости, – сами сегодня все видели.
«Блин, ораторский прием в стиле Адольфа Гитлера, но ведь производит нужное впечатление!»
Произвело. Все взгляды сошлись на Демьяне, а тот, ничуть не смущаясь всеобщим вниманием, ответил своей «фирменной» кривой ухмылкой, сильно напоминающей хищный оскал.
– Опричников и разведчиков беру под свою руку! – продолжил после паузы Мишка. – Над остальными ставлю троих своих ПОРУЧИКОВ. Запомните это слово. Поручик – мой товарищ, с которым мы во всем стоим рука к руке, поручик – человек, которому я ПОРУЧАЮ вас, поручик – мои глаза и уши среди ваших десятков, поручик – мои уста, которыми передается моя воля, поручик – мой указующий перст и направляющая длань. Так вот на них и смотрите, так о них и думайте!
Первым поручиком назначаю господина советника Василия Михайловича. Под его руку отдаю восьмой десяток урядника Ионы и оба провинившихся десятка – девятый и десятый – с новыми урядниками. Поручик Василий, надеюсь на твое умение сочетать христианское увещевание с воспитательной затрещиной и ожидаю, что под твоим присмотром провинившиеся отроки в самом скором времени заслужат прощение.
– Рад стараться, господин сотник!
«М-да, сэр Майкл, лорд Корней прав! Роська – это на всю жизнь. Даже не поморщился из-за того, что ему „штрафников“ подсунули. Ну, а кому же еще? Его первый десяток – самый лучший в Младшей страже по всем показателям. Золотой парень!»
– Вторым поручиком назначаю господина советника Артемия Исидорыча. Под его руку отдаю его собственный третий десяток и четвертый десяток урядника Климентия. И еще: отдаю тебе, Артемий, самое дорогое, что у Младшей стражи есть – детский десяток под командой Семена – нашу смену. В поход их, по малолетству, конечно, не возьмем, но потом… Какими ты их воспитаешь, такой Младшая стража в будущем и станет.
– Рад стараться, господин сотник! Благодарю за доверие!
«О как! Этой формулировке вы, сэр, ребят вроде бы не учили? Надо же, сам сочинил! Творческая личность, однако!»
– Кхе! Вот ты и детишками обзавелся, Артюха! Сразу десятком. Э… продолжай, продолжай, Михайла, это я… так…
– Так много детей – это хорошо, господин воевода! – не остался в долгу Артемий. – Будет к кому в старости голову преклонить. Да и старшенький – добрых кровей, лисовиновского корня!
– Трепач, едрена-матрена… продолжай, Михайла.
Мишка, даже не оборачиваясь, по голосу понял, что дед улыбается.
– Третьим поручиком назначаю господина советника Демьяна Лавровича! Под его руку отдаю шестой десяток урядника Ксенофонта и седьмой десяток урядника Нифонта. Еще один десяток наберешь из тех, кого мы сейчас в крепости оставляем, после того, как выздоровеют. Это и будет пятый десяток, которого у нас не стало.
– Не в крепости, а в Михайловом городке! – поправил Демка вместо уставного ответа.
«Однако, сэр, если вас нынче постоянно затягивает в черную меланхолию, то у вашего кузена наблюдаются несомненные симптомы присутствия известного сапожного инструмента в анусе, позвольте вам заметить. Плюс, бьющая через край агрессивность, не сочтете ли уместным охладить его пыл?»
– Поручик Демьян! Отставить трепотню, отвечать, как положено!
– Виноват, господин сотник! – гаркнул Демка, встав «во фрунт» и выпучив глаза. – Больше не повторится, господин сотник! Рад стараться, господин сотник! Благодарю за доверие, господин сотник! Приложу все старание и умени…
Мишка прервал бравый монолог, вытащив ногу из стремени и двинув ей Демку по загривку, благо новоиспеченный поручик был пешим и стоял рядом. Демьян заткнулся на полуслове, но при этом глянул на стоящих перед ним урядников так, будто они уже лежали выпотрошенными на разделочной доске, а он решал, какие части их тушек пустить на жаркое, а какие на солонину.
– О Михайловом городке впредь приказываю говорить так… – Мишка на секунду задумался, подбирая слова, потом продолжил, чувствуя, что перехватывает горло, так же, как недавно в доме священника. – Сей малый городок назван в честь тезоименитства духовного пастыря нашего иеромонаха Михаила, в успении вошедшего в сонм праведников, стоящих пред Горним Престолом…
Голос у Мишки предательски дрогнул, и он умолк, не закончив фразы.
«Хоть это я для тебя, отче, могу…»
Справиться с голосом удалось не сразу, но за все время вынужденной паузы никто ни проронил ни звука, даже Демка стоял спокойно, только раз покосившись на Мишку через плечо.
«Ну-с, сэр, пора завершать? Виновные наказаны, назначения произведены, ценные указания розданы… Нет, нужно что-то еще… первый бой Младшей стражи в полном составе… нельзя просто так сказать: „Все, можете быть свободны“. Нужен какой-то итог, вывод… Что бы отец Михаил сказал? Не знаете, не можете себе представить, хотя и должны бы, а вот что сказала бы Нинея, вполне представить можете, ведь можете же? Мда-с, и это – сотник православного воинства! Ну что ж, делайте, что умеете, а то, что ДОЛЖНЫ, будете делать, когда научитесь… если, конечно, научитесь, когда-нибудь. Так что с выражением „Делай, что должен…“ не все так просто, как кажется на первый взгляд».
– Советникам и первому десятку остаться, остальным: разойдись!
Пока урядники выполняли команду, Мишка развернулся в седле и задержался долгим взглядом на Корнее, Аристархе и Алексее, показывая, что именно сейчас и будет сказано самое главное. Корней понял внука и подал коня вперед, подъезжая поближе, вслед за ним подтянулись и остальные.
– Господа Совет и… помощники. – Мишка окинул взглядом строй отроков первого десятка. – Да вы подходите поближе, ребята, разговор сейчас будет свойский – промеж родни.
Подчеркивая «демократичность ситуации», Мишка спешился, Дмитрий тотчас последовал его примеру. Отроки, сломав строй, образовали полукруг, в центре которого оказались Мишка, Дмитрий и Демьян. За спинами отроков высились в седлах: воевода, староста и старший наставник Младшей стражи.
– Напоминаю: внутри своего, родственного, круга мы вправе говорить все и обо всем, но не вынося эти разговоры за пределы нашего Совета.
Парочка голов тут же обернулась на Корнея, Аристарха и Алексея.
– Ну-у, Иоанн, Фаддей, – Мишка укоризненно покачал головой, – неужто все, как детям малым объяснять надо?
Янька смущенно засопел, а Фаддей, видимо, чисто машинально притронулся к рукояти меча. Действительно: Корней – глава рода, Алексей, считай, родня, а из рук Аристарха-Туробоя получен этот самый меч. Какие уж тут тайны?
– Вы сейчас слышали, как я хвалил рядовых отроков и ругал урядников… – Мишка выдержал паузу и огорошил аудиторию: – Вам же следует знать, что ни похвала, ни порицание, высказанные мной, особого значения не имеют.
Над собравшимися повисла недоуменная тишина, не нарушенная даже универсальным «Кхе» Корнея.
– Непонятно? – задал Мишка риторический вопрос. – Давайте разбираться по порядку. Чего стоит наша сегодняшняя победа? Стоила ли она тех криков и восторгов, которые были? Стоила ли она того количества болтов, которое было нами раскидано? Стоила ли она тех надежд, которые на Младшую стражу возлагались? Нет!
Теперь недоумение уже не было молчаливым – послышался и недовольный ропот, и корнеевское «кхе», и что-то невнятное, но явно ругательно, произнесенное вполголоса Демьяном. Даже Дмитрий повернулся было к Мишке, чтобы что-то сказать, но все же сдержался.
– Еще раз повторяю: нет! – повысил голос Мишка. – Потому что не победить мы не могли! Считайте сами: сто десять наших выстрелов из самострелов, около сорока выстрелов девок и баб да еще семь десятков латной конницы, которая могла ударить ляхам в спину. А ляхов было всего семьдесят, из них в хорошем доспехе меньше двадцати, и такого отпора от нас они не ждали. Достаточно было всем нам правильно и вовремя выстрелить по одному разу – и их бы не стало. Сразу! Вмиг! Вместо этого четверо раненых у нас, четверо раненых и двое убитых в селе, двадцать восемь ляхов на счету баб да девок, четверть болтов истратили, да еще троих казнить пришлось. За что нас хвалить?
С другой стороны, шесть урядников из одиннадцати в бою оказались впервые. Тут за самим собой уследить – дело непростое, а им надо было еще и за десятью отроками присмотреть, притом, что и младшие урядники про свои обязанности позабыли. Да, не справились, да, первый блин комом, но могло ли быть иначе?
Так как же нам оценить то, что сегодня случилось? Оценить только для себя, потому что рядовым и урядникам мы уже все, что нужно, сказали, оценить для себя, потому что именно нам надлежит сделать так, чтобы сегодняшние ошибки больше не повторялись. Ну, кто-то хочет что-нибудь предложить?
Мишка в очередной раз оглядел всех, задерживаясь взглядом на каждом лице. Только ожидание, даже у зрелых мужей, никто ничего предлагать и не собирался – ждали его слов.
– Вспомните, как отзываются родители на первый шаг, сделанный их ребенком или на сказанное им первое слово. Радуются, гордятся, хвалят. Но долго ли длятся эти радость и гордость? Долго ли звучат похвалы? Вовсе нет. Очень скоро их сменяют порицание и поучения: «Не ходи по грязи!», «Не спотыкайся, смотри под ноги!». Уже не радуются, а огорчаются, если дитя шепелявит или долго не может выговорить «р». Вот так и мы сегодня похвалили наше дитя – Младшую стражу – за первый, еще нетвердый шаг, за первое, пусть и невнятное слово. Потому что они были первыми! Но больше за то же самое хвалить нельзя, потому, что тогда походка нашего дитяти так и останется нетвердой, а речь невнятной.
Мишка поймал себя на том, что невольно копирует интонации Нинеи и его так и тянет изобразить улыбку доброго дедушки.
«Черт вас дернул, сэр, вспомнить волхву, да еще сравнить ее с отцом Михаилом! Они разными вещами занимаются – Нинея действительно управляет, а отец Михаил учит… учил делать выбор между добром и злом. Да нет же, не учил, а учит до сих пор, и еще долго учить будет!»
Сбившись, потеряв последовательность аргументов, Мишка разозлился и перешел на командный тон:
– Для того вы, уже имеющие какой-никакой боевой опыт, и ставитесь отныне над урядниками! Спрос за то, как они будут командовать своими десятками, теперь будет с вас! А вы, – Мишка сделал широкий жест в сторону стоящих полукругом опричников, – запомните особо: вам не величаться навешенными мечами перед иными отроками надлежит, а помнить, что спрошу с вас за каждый впустую выпущенный болт, за каждый промах…
«Остановитесь, сэр, вас уже несет!»
– …За каждого убитого, за каждого раненого…
«Сэр, у вас запоздалый отходняк…»
– Если хоть одна сука… своей рукой порешу!!! Как этих сегодня…
«Прекратить!!!»
– …Я вас, мать… – Мишка хватанул воздух широко открытым ртом, рыскнул туда-сюда наливающимися кровью глазами, но все же сумел остановиться. Некоторое время помолчал, глядя в землю, потом, уже совсем тихо, произнес:
– На этом все. Дмитрий, командуй дальше, если что, я в церкви.
Глава 2
Начало сентября 1125 года. Княжий погост
Мишка осторожно, стараясь не производить ни малейшего шума, вынырнул из воды под самым бортом ладьи. Рядом одна за другой появились еще пять голов опричников и разведчиков – сотник Младшей стражи взял с собой только тех, кто уверенно чувствовал себя как в воде, так и под водой, не боялся темной ночной реки и мог пронырнуть достаточно большое расстояние, несмотря на то, что этому довольно сильно мешал самострел.
Вообще-то, освещенный лунным светом борт ладьи был не самой лучшей исходной позицией для абордажа, но на берегу, к которому была причалена ладья, в кустах ждали остальные опричники и разведчики, а чуть дальше в седлах дожидались сигнала два десятка погостных ратников. Задача Мишкиной группы состояла в том, чтобы ударить в спину ляхам, когда все их внимание будет привлечено к берегу.
Мишка щелчком сбил капли воды с тетивы, густо смазанной жиром, чтобы не размокла, и прислушался к происходящему на ладье. Оттуда доносились негромкие голоса и возня, сопровождающая укладку груза – ляхи старались не шуметь. Чуть громче других доносился один властный голос, распоряжавшийся погрузкой, поторапливающий остальных, но в то же время постоянно требующий тишины и осторожности.
«Крысятничают панове. Работают ночью, не зажигая огня, пленных не грузят, только товар, видимо, с погостного склада, таскают на себе – ни лошадей, ни телег. Собрались, значит, кинуть подельников – стырить, сколько получится, добычи и смыться».
Шум на ладье начал стихать: судя по репликам, ляхи собрались сделать еще одну ходку к складу и обратно к ладье. Расстояние от причала на берегу Случи до Княжьего погоста не превышало полуверсты. Здесь в Случь впадал то ли широкий ручей, то ли узенькая речка, по которой дреговичи, собираясь на осеннюю ярмарку и, одновременно, для уплаты податей, без проблем поднимались на своих челнах-долбленках, а вот ладья в узкое и мелкое русло не влезала.
Судя по звукам, на ладье осталось двое. Один из оставшихся – обладатель властного голоса – отдавал распоряжения. Его передвижения постоянно сопровождались деревянным стуком, видимо, при ходьбе он опирался на палку – то ли хромой, то ли раненый. Обращались к нему уважительно – пан Торба. Стук палки, на которую опирался Торба, удалился в сторону кормы, а громкое сопение второго раздавалось где-то в середине корпуса, похоже было, что лях перекладывает поудобнее груз.
«Так, сэр, минут десять-пятнадцать туда, столько же обратно, ну и минут десять, может быть, чуть больше, там. Минут сорок у нас есть. Пора, пожалуй».
Мишка дал знак Якову: «брать живым», имея в виду пана Торбу, и осторожно зацепил за планширь два деревянных крюка, обмотанных тряпками для бесшумности и связанных между собой веревкой. Остальные отроки проделали то же самое, и борт ладьи сразу же стал похожим на борт спасательной шлюпки, обвешанный леерами. Встав на эту веревку ногой, Мишка резко высунулся почти по пояс над бортом, вскинул самострел и… не обнаружил цели. Или силуэт ляха слился с темным фоном берега, или тот нагнулся зачем-то… Если нагнулся, то подниматься не станет – отроки, выбираясь из воды, достаточно нашумели, к тому же Торба, которому Яков накинул на шею ременную удавку, громко хрипел и бился, словно рыба на крючке.
Торчать над бортом, имея за спиной блестящую в лунном свете поверхность реки – изображать из себя мишень. Мишка перевалился внутрь ладьи, скорчился за грудой мешков и коробов и прислушался. Сначала, кроме хрипа и возни со стороны кормы, ничего не было слышно, но потом разведчики как-то угомонили сопротивлявшегося Торбу и наступила тишина. Почти сразу же рядом бесшумно возник Яков, жестами обменялись информацией: «Пленный „упакован“, на другом борту ладьи есть еще кто-то – один или двое».
Мишка уже было начал отдавать распоряжение, чтобы трое заходили с кормы, когда жизнь опровергла его предположение о численности противника – от противоположного борта донесся шепот:
– Матка… боска… топельцы вылезли…
– Запыхайсе глупец![30]
Шепот доносился примерно от середины корпуса ладьи, а чуть ближе к носу кто-то, видимо, сильно испуганный, громко шмыгнул носом.
«Минимум трое… не критично. Работаем план „В“».
План «В» был разработан как раз на тот случай, если ляхи решат сделать еще одну ходку к складу. В соответствии с ним зачищать ладью предполагалось силами Мишкиной «абордажной группы», а остальные должны были последовать за ляхами к Княжьему погосту, поднять шум и подождать, пока «крысы» и остальные ляхи сцепятся между собой. Затем подключиться к разборке, всемерно содействуя процессу взаимного истребления панов узброёных[31]. Судя по всему, оставшиеся на берегу отроки и погостные ратники к исполнению плана «В» уже приступили.
Мишка, уже не стараясь соблюдать тишину, с треском вскрыл берестяной короб с беличьими шкурками, Яков, понимающе кивнув, ухватил какой-то мешок, остальные отроки тоже вооружились различными предметами, чтобы швырнуть их на противоположный борт, отвлекая внимание ляхов.
– И-и-и раз!
Мишка схватил связку шкурок и швырнул ее в воздух в том направлении, откуда доносилось шмыганье носом. Связка в полете развернулась, изобразив в лунном свете не то многолучевую звезду, не то какую-то каракатицу черного цвета… в общем, страшно, особенно после разговора о вылезших утопленниках. Результат воспоследовать не замедлил – из-за кучи груза раздался истошный вопль. Другой лях оказался характером потверже – брошенный Яковом мешок наделся на острие выставленного копья; как реагировал третий лях, осталось неизвестным – отроки уже вскочили на кучу мешков и коробов и разрядили самострелы. Никто из ляхов, прятавшихся между скамьями для гребцов, даже не дернулся.
«Ну, таким, значит, образом, сэр: „А вдоль дроги мертвые с косами стоят, и тишина…“»
– Всем укрыться, заряжай! – скомандовал Мишка, вглядываясь в темноту прибрежного леса. – Яков, никакого сигнала с берега не видел?
– Не-а, наверно, за ляхами на погост пошли… но кого-то же должны были оставить…
С берега по-прежнему ни звука, ни огонька. Княжий погост был поставлен хитро: вроде бы и у самой Случи, но с воды не увидишь – между берегом и поселением около полуверсты леса, даже церковный крест не выглядывает. А таких ручьев, какой течет от Княжьего погоста к Случи, здесь не один десяток – не зная места, не догадаешься. Кто-то ж все-таки ляхам место указал. Не дай бог, они захватили ладью, на которой Осьма с купеческими детишками пошел в Пинск. Взяли кого-то из парней живым, развязали пытками язык… даже думать о таком не хотелось.
«Да что они там все, провалились, что ли?»
– Яков, посигналь.
Над водой разнесся крик ночной птицы: если бы Мишка не знал, что это подает сигнал урядник разведчиков, нипочем не догадался бы. С берега тотчас раздался ответный сигнал. Яков поднялся в рост и помахал рукой с самострелом. Кусты на берегу зашевелились, и на берег выбрался урядник второго десятка Степан.
– Эй, вы чего, уже все, что ли?
– Мы-то все! – зло отозвался Мишка. – А ты чего, уснул там?
– Да нет… – Антон растерянно оглянулся на лес. – Ждал, пока они подальше отойдут, чтоб не услышали…
– Ждал он… – проворчал Мишка, уже понимая, что виноват в нестыковке сам, не рассчитал время. – Ладно… Яков, оставь здесь троих, а остальным одеваться и по коням.
Отроки двинулись к кустам, а Мишка одобрительно кивнул своему адъютанту Антону, притащившему не только одежду и доспех, но и полотенце, чтобы сотник мог вытереться.
Антон старался. Уже по дороге в Княжий погост у него состоялся весьма нелицеприятный разговор со своим начальником:
– Ты где был, когда ляхи к Ратному подступили? – грозно вопросил Мишка.
– Я это… стрелял… – покаянным тоном отозвался адъютант.
– А где должен был быть?
– Э-э-э…
– Я спрашиваю: где должен быть мой помощник в бою?
– Рядом с тобой…
– Ну и на кой мне такой помощник, который в самое нужное время неизвестно куда девается?
– Э-э-э…
– Ну, вот тебе мой сказ, Антоха. К этому разговору я больше возвращаться не буду, слушай и соображай с первого раза. Твое место урядника занято, теперь у тебя только два пути: или выслужишься в подпоручики, как и другие помощники господ советников, или уйдешь рядовым в тот десяток, в котором народу будет не хватать.
Антон внял предупреждению, и было видно, что готов служить не за страх, а за совесть. Он даже хотел идти на абордаж вместе с отобранными опричниками и разведчиками, хотя откровенно боялся черной ночной воды, но Мишка оставил его на берегу.
План «В» поначалу развивался, как по нотам: наставнику Стерву удалось привлечь внимание часового, охранявшего спавших в боярской усадьбе ляхов, к подозрительной возне у ворот склада. Часовой пошел разбираться и даже успел поднять шум, прежде чем его не то оглушили, не то вообще убили. А вот дальше все пошло не совсем так, как предполагалось, – подвели погостные ратники. Когда ляхи, пойманные на горячем, рванули из усадьбы боярина Федора в сторону берега Случи, два десятка погостного воинства выскочили из леса раньше времени. Часть бегущих они порубили и покололи, хоть и быстро, но не мгновенно, поэтому оставшиеся успели повернуть назад и, что самое скверное, затворить за собой ворота усадьбы, предпочтя разборки с «коллегами» в неопределенном будущем опасности немедленного столкновения с неизвестно откуда взявшимися конными латниками.
Два десятка воинства боярина Федора бесполезно поболтались некоторое время перед тыном, окружавшим боярскую усадьбу (хоть и не таким высоким, как в Ратном, но тоже солидным), приняли на щиты несколько ляшских стрел и, потеряв одного человека, убитого арбалетным выстрелом, скрылись в темноте.
Ситуация складывалась патовая – ляхи сидели запертыми, а штурмовать укрепленную усадьбу сил не было. Трех десятков мальчишек для этого явно недоставало, а погостные ратники (Мишка был уверен) на тын не полезут – дождутся подмоги от ратнинцев. И плевать, что ляхов в усадьбе осталось не более тридцати, подставлять головы ради боярского добра они не станут. Но в том-то и состояла проблема, что дожидаться подмоги было нельзя. Так решил совет боярина Корнея и боярича Михаила, состоявшийся уже во второй раз – первый был в Отишии, а этот – в пути между Ратным и Княжьим погостом.
Проблема была весьма деликатной – боярин Федор мог остаться нищим (ну, если не совсем нищим, то, во всяком случае, мог очень сильно обеднеть). Ляхи захватили на Княжьем погосте все: и то, что боярин Федор уже успел собрать в счет податей за этот год, и то, что сумел «сэкономить» от податей прошлых лет, и личное боярское достояние… Вообще все. Если ратнинская дружина выбьет ляхов с погоста, то все это станет законной добычей ратнинцев, а погостному боярину только и останется, что «сосать лапу».
Подобное развитие событий приходило в вопиющее противоречие с концепцией поддержки и усиления боярина Федора, принятой дедом и внуком на памятном совещании в Отишии, поэтому Корней и решил послать на Княжий погост сводный отряд из трех десятков отроков Младшей стражи и двух десятков погостных ратников. Люди боярина Федора ни на какую добычу претендовать не имели права – защищать боярское добро и так было их обязанностью, а добычей отроков распоряжался Корней – уж он-то со своим другом молодости договориться сумеет. Однако сделать все надлежало быстро – в течение ночи, ибо удержать ратнинцев, заночевавших в дороге, Корней с наступлением утра не сможет.
Поначалу все шло даже лучше, чем предполагалось: ляхов на погосте (в полном соответствии с показаниями пленных) оказалось немного, к тому же они разделились – одна часть честно выполняла договоренность между командирами мелких отрядов и охраняла общую добычу, пока другие отряды (человек по двадцать) разбрелись для грабежа дреговических поселений. Другая же часть решила скрысятничать, что было только на руку нападавшим.
Тихо сняли часовых у двух амбаров, в которых ляхи заперли своих будущих холопов, удачно захватили ладью, вроде бы уже сумели стравить между собой людей пана Торбы и остальных бандитов, и на тебе – ошибка погостных ратников порушила все надежды! Теперь можно было топтаться перед тыном до прихода ратнинской сотни и все без толку.
Мишка подъехал к понурившемуся в седле десятнику Кондратию и поинтересовался:
– Тебе воевода объяснил, почему погост до подхода взрослых ратников отбить надо?
Кондратий в ответ только поморщился, но заговорил второй погостный десятник – Парфен:
– Так чего теперь-то? Нас вместе с твоими ребятами меньше полусотни, а ляхов там десятка три заперлось! При таком раскладе по открытому месту бежать да на тын лезть – проще самим зарезаться. Перебьют, как гусей.
– И что вам боярин Федор Алексеич скажет, когда вернется?
На этот раз промолчали оба десятника, да и что было отвечать?
Мишка поерзал в седле, снова поглядел сквозь прорехи в кустах на боярскую усадьбу. Рассчитывать на то, что ляхи передерутся, было наивно, а больше никакого конструктива в голову не приходило. Только для того, чтобы прервать тягостное молчание, спросил у Кондратия:
– Ты боярскую усадьбу хорошо знаешь?
– Чего ж не знать-то? Столько раз там бывал…
– Другой вход, кроме этих ворот, есть?
– Есть, а толку-то? – Кондратий уныло пожал плечами. – Такие же ворота со стороны Протечи, да только к ним тоже незаметно не подберешься. Либо придется по открытому месту идти от церкви и через мосток, либо по берегу Протечи под самым тыном. Ни там, ни там пройти не дадут.
«Ну да, твоих долдонов хрен заставишь по открытому месту атаковать… впрочем, и я своих под луки и арбалеты не поведу».
– Протечь… это ваш ручей, что ли?
– Угу…
Мишка стянул с руки латную рукавицу, задумчиво покрутил в пальцах самострельный болт.
– А на кой с той стороны ворота, если они прямо на ручей выходят?
– Как «на кой»? – удивился Кондратий. – Лесовики товар на челнах привозят, ну вот прямо с челнов и в ворота… там еще лесенка деревянная сделана, а то берег-то, хоть и невысокий, но крутой. Для удобства, значит…
– Да… это удобно… Ну-ка, погоди! У вас тут челны есть? Ну, такие же, на каких товар привозят?
– Есть пара штук, а тебе зачем?
– Где? Далеко? Давай, показывай! Давай, давай! – заторопился Мишка. – Скоро светать начнет! Да не сиди ты, как пришибленный!
В двух челнах, если лежа, не высовываясь, могли поместиться шесть отроков. Вниз по течению можно было доплыть до ворот усадьбы так, что с высоты тына никто ничего не заметит. Оставалось только найти лестницы или другие приспособления, чтобы перебраться через ограду и открыть ворота изнутри.
– Да не надо ничего! – вспомнил вдруг Парфен. – Там в воротах дверца малая есть, она изнутри на щеколду закрыта. Ты нож в щель просунь и щеколду поддень, она, правда, зацепляется там, но ты дверцу туда-сюда подергай и все получится. Как войдете, сразу напротив будут задние ворота склада, с ними и вообще все просто – они снаружи брусом закрываются, а из склада есть вход прямо в дом…
– Так может, с нами пойдешь? – предложил Мишка без особой надежды на успех. – Раз уж ты все так хорошо там знаешь…
– Не, я в челн с вами не помещусь, – быстренько нашел отмазку Парфен. – Да ты не сомневайся, как только вы там шумнете и ляхи отвлекутся, мы мигом… Тын-то не такой уж высокий – если на седло встать, перелезть можно, ребята твои постреляют, а мы ворота откроем и… ну и все, побьем ляхов.
Поддетая клинком щеколда действительно поднялась, стоило лишь несколько раз осторожно, чтобы не нашуметь, качнуть калитку в воротах туда-сюда. Раззява часовой, стоявший на крыше сарая, примыкавшего к тыну, смотрел не наружу, а внутрь подворья, освещенного несколькими факелами, и даже, наверно, не успел понять, что убит – болт Марка пробил кольчужный капюшон, закрывающий его голову. Второго часового, стоявшего с этой же стороны усадьбы, выстрелом снаружи снял кто-то из лучших стрелков Младшей стражи (Петр или Серапион), засевших по пояс в воде прямо в русле Протечи.
Пока Марк перезаряжал оружие, отроки сняли брус с задних ворот склада, и Мишка, заглянув внутрь, увидел на другом конце освещенный факелами проем раскрытых передних ворот.
«Если что, будем стрелять из темноты по силуэтам, а им придется лезть в темноту да еще спотыкаться о мешки и короба, которые „крысы“ с полок стащили и на землю побросали. Годится. Теперь надо в другом месте показаться».
– По команде быстро отходим сюда и прячемся в складе. А сейчас, за мной!
Пройдя по проходу между сараем, на крыше которого валялся убитый часовой, и стеной склада, Мишка осторожно выглянул из-за угла. Пауза в боевых действиях не пошла на пользу обороняющимся – во дворе усадьбы, перед запертыми воротами разгорался скандал: ляхи начали выяснять, почему раскрыты ворота склада, кто и зачем выволок наружу часть добычи, отчего это вдруг люди пана Торбы посреди ночи оказались полностью одетыми и вооруженными?.. Вопросы эти, разумеется были риторическими – все всё прекрасно понимали и так, но словесная перебранка еще не перешла в стадию применения оружия, хотя руками уже размахивали очень активно. План «В» продолжал работать!
«Может, подождать, пока передерутся?.. Вот блин! Холера ясна, как изволят выражаться господа оппоненты, не передерутся!»
Властный голос одного из ляхов, одетого и вооруженного побогаче других, и несколько розданных им тумаков прервали разгорающийся скандал в тот момент, когда уже казалось, что дело дойдет до оружия.
– Внимание, слушай приказ! – Мишка оглядел своих подчиненных. – Расстояние небольшое, цели неподвижны, никакого упреждения брать не надо. Я стреляю в их командира. На заборолах два арбалетчика и сколько-то лучников, не успел подсчитать. Ты стреляешь в левого арбалетчика, ты – в правого, ты – в самого левого лучника, ты – в самого правого, ты – сам выбирай. Я иду первым, вы – за мной. Выбежали, развернулись влево, прицелились… не торопиться – нас заметят не сразу, выстрелили и быстро назад, чтобы оставшиеся лучники не успели ответить. Встали по порядку… Готовы? Вперед!
Мишка выскочил из-за угла склада, пробежал десяток шагов и остановился. Достаточно – остальным отрокам должно было хватить места, чтобы не мешать друг другу. Вскинул самострел и ругнулся сквозь зубы: под этим углом в командира было не попасть – заслоняли другие ляхи. Рядом защелкали самострелы отроков. Ощущая, как уходят драгоценные секунды, всадил болт в спину первому же попавшемуся ляху и опрометью кинулся назад, за угол склада.
– Заряжай!
Команда была лишней – отроки уже и так взводили самострелы и накладывали болты. Мишка «на автомате» тоже взвел свое оружие, не отрывая глаз от вонзившейся в стену сарая стрелы, свистнувшей у него за самой спиной – у кого-то из лучников оказалась отменная реакция, и если бы он не пригнулся, уже подбегая к углу склада, все могло кончиться весьма скверно.
Впрочем, у командира ляхов реакция была, похоже, ничуть не хуже – до слуха отроков донесся начальственный рык, затем приближающийся топот ног и металлический лязг. Мишка поднял самострел и начал пятиться назад, не сводя глаз с начала прохода между складом и сараем. Отроки последовали его примеру.
– Первый выстрел – Федор, второй – Марк, третий…
Закончить Мишка не успел: из-за угла склада вылетел здоровенный детина с секирой, щелкнул самострел младшего урядника Федора, и тело секирника, по инерции ударившись о стену сарая, отлетело назад, под ноги следующему ляху. Тот споткнулся, упал, и выпущенный Марком болт улетел в пустоту. Следующий лях оказался более ловким – перепрыгнул сразу через два лежащих тела, но приземлился уже с болтом Захария в груди. Четвертый лях, оценив происходящее, отпрянул назад так быстро, что выстрел Исидора тоже пропал даром.
– Назад, к воротам! Здесь уже не полезут! Не дать им через склад пройти. Бегом, бегом…
Мишка развернулся спиной к лежащим ляхам и побежал следом за отроками.
– Зарядить и держать ворота…
Отрок Исидор вдруг изо всех сил толкнул Мишку на стену склада, а сам осел на землю с копьем в спине, даже не вскрикнув. Это поднялся с земли и метнул свое оружие споткнувшийся лях, о котором все забыли.
Мишка обернулся и навскидку выстрелил в темный силуэт, тот охнул и согнулся.
«Вряд ли в живот, скорее в ногу, но будем надеяться… Что с Исидором?»
Копье было брошено сильно и умело, наконечник миновал сбившийся на сторону щит, пробил доспех и застрял в спине отрока. Косясь на скорчившегося ляха, Мишка попытался подхватить раненого под мышки и оттащить к воротам склада. Копье закачалось в ране.
«Нет, так нельзя, надо вытащить…»
Надо было много чего: вытащить копье из раны, но тут же и зажать ее чем-нибудь, иначе парень истечет кровью, перезарядить самострел, чтобы отбиться, если в проход сунется кто-то еще, следить за раненым ляхом – мало ли чего еще выкинет… и все это одновременно. Мишка на секунду растерялся, но тут же рядом вырос Антон, вернувшийся от складских ворот.
– Господин сот…
– Быстро, Антоха, пакет для перевязки есть?
– Конечно…
– Вытащишь копье, просунешь пакет под одежду и прижмешь рану.
Мишка перезарядил самострел и поискал глазами раненого ляха – лучше добить, чтобы без сюрпризов. Однако лях опустился на землю, так что его было не разглядеть, видимо, Мишкин болт зацепил его крепко… или догадался спрятаться за трупами. Наконец, заметив какое-то шевеление, Мишка выстрелил туда, но результата не понял – ни вскрика, ни стона. Или убил наповал, или промазал.
– Не вынимается, – перепуганным голосом сообщил Антон, – застряло…
– Дай я… самострел заряжен? Прикрывай.
Мишка наступал ногой Исидору на спину и, зажмурившись, будто рвал железо из себя самого, дернул древко вверх, в спине у Исидора хрустнуло.
«Угроблю парня…»
– Все, Антоха, быстро, потащили его, там перевяжем.
В воротах их встретил младший урядник Федор.
– Что с Иськой? Живой?
– Не знаю, надо посмотреть… Что у вас здесь?
– Двоих подшибли, – Федор махнул рукой в сторону противоположного конца склада, – больше не суются… пока. Нашим свистеть не пора?
– Нет. Наскоком не взяли, сейчас собираются и думают, как навалиться на нас разом. Вот когда навалятся, надо будет свистеть – у ворот ляхов совсем мало останется.
Мишка наконец нащупал на шее Исидора бьющуюся жилку и с облегчением выдохнул:
– Живой! Помоги-ка перевернуть.
Кольчуга Исидора была прорвана как раз напротив правой лопатки, поддоспешник напитался кровью.
– Господин сотник, ты самострел-то зарядил бы… – аккуратно напомнил Антон, – Иську мы сами перевяжем.
– Да, давайте… потом вынесите его наружу и положите на берегу. Ты, Федор, возьми Марка и следите за проходом, а я с остальными здесь…
– Господин сотник, одиннадцать получается! – неожиданно заявил Антон.
– Что одиннадцать? – не понял Мишка.
– Ну… ляхов. Там мы шестерых положили, потом еще троих и здесь двоих… вместе – одиннадцать. Если всего их было…
– Не суесловь попусту! – оборвал Мишка своего адъютанта. – Во-первых, про того, что на крыше сарая стоял, забыл…
– Тогда двенадцать!
– Да не тараторь ты! Откуда ты знаешь, что все шестеро попали и попали убойно? Смотреть-то некогда было! И там, в проходе, один вроде бы не убит, а ранен, возможно, остался боеспособным. И здесь двое… Федор не зря сказал «подшибли», а не «убили», где трупы-то? Не видишь? И я не вижу.
– Ну, все равно, у нас-то только один…
– Хватит болтать!
Было прекрасно понятно, что Антона «несет» на нервной почве, но его болтовня мешала сосредоточиться и решить, каким будет следующий шаг противника. К тому же Мишку все время не оставляло чувство какого-то упущения, казалось, что он забыл какую-то важную деталь.
«Вроде бы все верно… Если сильно надавят, путь отхода есть – выскочим за тын и спрячемся под мостиком, ляхи за нами наружу не полезут. Тут тоже пока держимся нормально… Может, баррикаду из мешков накидать? Так с этого края полки пустые, а к тем воротам шляться не стоит, мало ли что…»
Так и не пришедшему в сознание Исидору завернули доспех и одежду на голову, наложили повязку… Ляхи подозрительно долго не проявляли никакой активности. Мишка уже было собрался пойти и посмотреть, что там происходит на дворе, как вдруг внутрь склада с фырчанием влетел факел и, ударившись о стеллаж, упал на земляной пол посреди прохода. За первым факелом последовали еще несколько, один даже подкатился к самым Мишкиным ногам.
«Так, теперь мы тоже на свету… или они собрались пожар устроить и нас отсюда выкурить? Нет, вряд ли, сами же и погорят».
– Всем укрыться! – скомандовал Мишка, затаптывая сапогом ближайший факел. – Сейчас полезут!
В проеме ворот что-то мелькнуло, и Захарий нажал на спуск.
– Дурак! Это они какую-то одежку кинули… не стрелять без команды! Быстрей заряжай…
В склад одновременно влетело сразу три факела. Пока отроки провожали их глазами, в ворота проскочили четверо ляхов. Захарий и Антон выстрелили одновременно, но попал только Захарий, да и то потому, что самострел в его руках от резкого нажатия на спуск «клюнул» вниз – ляхи, едва вбежав в помещение, сразу же бросились на пол. Болт Антона вылетел наружу, а Мишка, с трудом удержавшись от выстрела, тут же мысленно похвалил себя за это. Залегшие ляхи не стали подниматься, а в проеме ворот выросли фигуры двух лучников, видимо, уверенных в том, что противник разрядил оружие и можно смело стоять в полный рост. Один из них тут же поплатился за эту уверенность, получив Мишкин болт в грудь, а второй слишком поторопился выстрелить и отскочить в сторону – его стрела расщепила стойку стеллажа рядом с Мишкиной головой.
И тут снаружи хлестнула команда:
– Встачь! Напшуд![32]
С пола поднялись трое ляхов. Стрелять нечем, лезть в рукопашную против взрослых мужиков… Мишка попятился, набирая в грудь воздух, чтобы крикнуть «Уходим!», но тут два болта ударили в двух передних ляхов – выручили Федор и Марк, видимо, следившие не только за проходом, но и поглядывавшие внутрь склада.
Третий лях медленно двинулся вперед, выставив перед собой миндалевидный щит и занося над левым плечом меч.
«И не споткнется же, зараза, осторожный. Ну, девочки, на сцену! Эх, где мои еще сорок шесть лет?»
Еще можно было уйти, можно было попытаться выгадать несколько секунд, пока отроки перезарядят самострелы, но… Сколько раз рассказывал о таких моментах Алексей, сколько обдумывал такую ситуацию и воображал себе подобный поединок сам Мишка! Да и не только ЗДЕСЬ, где это было обычным делом, но и ТАМ, где место подобному было только в мальчишеских фантазиях. И… надоело ждать! Если ты еще не утратил окончательно мужских качеств, если их не разъели женское воспитание, унисекс, гламур, политкорректность и прочие кунштюки, расслабляющие характер не хуже, чем слабительное кишечник, тяжесть оружия в руке и вид вооруженного соперника будят такие чувства… словом, будят и… вдохновляют, черт возьми! Да, вдохновляют!
Щит привычно переместился из-за спины на руку, а меч, будто и был обнажен еще с утра – отработанные до автоматизма движения даже не затронули сознания, оно все было поглощено изучением противника и места схватки.
«Проход между стеллажами узкий, значит, сдвинуться влево, чтобы случайно не зацепиться клинком. Он долговязый, руки длиннее и меч тоже – ввязаться в ближний бой. У меня за спиной на полу чисто – можно свободно двигаться, он только что перешагнул мешок, если отшагнет назад, запнется. Стреляет глазами мне за спину? У него нет времени! Ребята сейчас перезарядят… Нет! Я тебя сам завалю! А отвлекаться на ребят – пожалуйста, сколько угодно. Лицо не закрыто ни бармицей, ни личиной, только наносник шлема… высоковато, через щит не достану. Ноги… куртка из толстой кожи защищает почти как кольчуга, но доходит ему только до середины бедра. Ноги мои! Ближний бой и атака понизу! Меч поднят над плечом… естественно, в тесноте удобнее бить сверху. Прикрыться щитом? Мужик здоровый, двинет так, что… Нет! Вперед, проскочить под ударом и по ногам! Вперед!»
Мишка прыгнул навстречу ляху, словно на нем и не было многокилограмового доспеха. Лях, видимо, не ожидал такой наглости от мелковатого, по сравнению с ним, противника и упустил время для нанесения удара клинком, но не растерялся и врезал по Мишкиному шлему навершием рукояти меча, одновременно его щит нырнул вниз и пресек движение Мишкиного клинка к ноге.
Удар по шлему пришелся немного вскользь, но Мишку ощутимо шатнуло и пришлось махнуть левой рукой со щитом, чтобы удержать равновесие. И… вдруг пришло то состояние, которое Мишка испытал под воздействием Аристарха в Нинеиной веси. Лях снова занес руку для удара, но как-то медленно и совершенно без всякой хитрости – расчет только на силу и длину клинка. Мишка «выстрелил» ребром щита под мышку ляху. Такой удар, по словам Алексея, мог выбить плечевой сустав и сделать противника совершенно беспомощным. Получилось или не получилось, Мишка не понял, но его противника слегка развернуло, и он запнулся-таки о валяющийся сзади мешок. Лях на мгновение замер, стараясь сохранить равновесие, дернул для баланса щит вверх… Но это для него было мгновение, а для Мишки длиннющая пауза между двумя ударами сердца. Мишкин меч, описав красивую (залюбуешься!) дугу, достал выставленную вперед левую ногу ляха спереди, чуть ниже колена, перерубая сухожилие, разгибающее ногу!
Из-под Мишкиного противника словно выдернули землю – он хрипло вскрикнул, взмахнул руками и начал было валиться назад и влево, но задержался, упершись щитом в стеллаж, и тут Мишка, полностью раскрываясь, кинул левую руку со щитом назад, а по правой стороне тела запустил «волну» от ступни до кончика меча, превращая рубящий удар в хлещущий. Клинок отсек кисть руки ляха вместе с зажатым в ней оружием, будто бы и не ощутив сопротивления.
Еще один хриплый вскрик, брызжущая из обрубка руки кровь, и третий удар – добивающий – между плечом и шеей. Даже если бы клинок и не рассек кожаный капюшон, удар все равно смертельный.
– Федька-а-а!!! Свисти-и-и!!!
Если бы не нужно было отдавать приказ, Мишка орал бы просто так – возбуждение распирало изнутри, требовало действия, движения или хотя бы крика…
Больше ничего ни сказать, ни сделать Мишка не успел, он даже не услышал, подал ли Федор сигнал – столько всего произошло в следующий момент. В проеме передних ворот склада снова появились фигуры лучников, одна стрела, с хрустом пробив щит, ткнулась наконечником в кольчугу на груди и остановилась, вторая, просвистев над плечом, ушла назад, где с грохотом и треском падала прямо на Антона и Захария опрокинутая секция стеллажа.
«Блин! Про проход из дома в склад забыл! Оттуда вылезли и стеллаж на ребят завалили…»
Бросок плашмя на землю спас Мишку от еще двух стрел, пролетевших над ним и ударивших, судя по звуку, во что-то деревянное. Мишка, ломая застрявшую в щите стрелу, перекатился и втиснулся под нижнюю полку стеллажа, мельком заметив, что на поваленную секцию, не доставшую до земли из-за узости прохода, лезут сразу несколько ляхов.
«Все, кранты, сейчас задавят… заигрался, дурак, надо было раньше линять…»
Мысли прервал мужской крик боли и треск ломающегося дерева.
«Держатся ребята! Не зря в учебной усадьбе столько тренировались…»
Мишка протиснулся под нижней полкой дальше и вылез с другой стороны стеллажа – была мысль заскочить в тыл атакующим ребят ляхам, но не успел он подняться на ноги, как перед ним возникла фигура с занесенной секирой. Как в фильме ужасов – в полутьме еще более темный силуэт с играющими на кольцах кольчуги, шлеме и лезвии секиры алыми отблесками света факелов. Только и удалось, что дернуть вверх щит, как страшный удар обухом «отсушил» левую руку и сбил с ног – лях не стал бить лезвием, чтобы оно не завязло в деревянном щите.
Секирник снова поднял оружие для удара. Мишка подогнул ноги и, упершись каблуками в земляной пол, попытался отодвинуться, но кольчуга плохо скользила по земляному полу – сдвинуться удалось совсем немного, и каблуки сорвались с упора. Опять подогнул ноги, но теперь левый каблук сорвался сразу.
– П-п-с-с паррш-ш-ивы![33] – неразборчиво прошипел лях и шагнул вперед для добивающего удара.
Лезвие секиры (теперь уже лезвие, а не обух) гипнотизировало, как взгляд змеи, но тело сработало само, без участия разума: вытянутая левая нога зацепила ляха за щиколотку, а правая, резко распрямившись, ударила его каблуком в колено выставленной ноги. Хруст сломанного сустава, истошный вопль, лях уронил секиру за спину и осел на землю, а Мишка (словно неведомая сила подняла!) вскочил и двинул сапогом прямо в бороду противника.
– Н-на, курва драная! Н-на!!!
Лях запрокинулся на спину, а Мишка, наступив ему на грудь, перескочил через тело и ухватил валяющуюся на земле секиру (куда делся меч – непонятно, а искать некогда). Треснувший щит гирей висел на утратившей подвижность левой руке, но хватило и одной правой.
– Н-на, пшек е…ый! Н-на! Н-на!
Первый удар разрубил подбородочный ремень, челюсть и сбил с головы шлем, а дальше уже пошло кровавое месилово… И надо было бросить уже неопасного ляха, надо было идти на помощь ребятам… а Мишка… нет, не Мишка, а Бешеный Лис все никак не мог остановиться, выплескивая в ударах засевший где-то в середине груди ужас и «замазывая» брызгами крови и мозга видение нависшего лезвия секиры.
В себя Мишку привел крик:
– Сотник!!! Антоха, б…дь, где сотник?!!
Голос принадлежал уряднику Степану, хотя его здесь вроде бы не должно было быть.
– Убью, сука! Где Лис?!! – продолжал надрываться Степан.
В ответ доносился какой-то невнятный бубнеж, к которому Мишка даже не прислушивался, потому что со двора усадьбы в склад ворвалась волна криков и лязга оружия – отроки Младшей стражи и погостные ратники все-таки прорвались во двор боярской усадьбы.
– На хрена… ты здесь… если Лис… – судя по прерывистости речи и раздававшемуся в паузах ойканью, Степан пинал Антона ногами, потом, прекратив бесполезную экзекуцию, заорал: – Что встали?!! Искать сотника!!!
– Здещ… Кхе! Здесь я! Хорош орать! – подал голос Мишка. – Сейчас подойду… – Его все еще колотило от смеси возбуждения, ярости и остатков страха, левая рука по-прежнему висела, не слушаясь, и почему-то очень хотелось стащить с головы шлем. – Не трогай Антоху, он не виноват!
На застрявшей наклонно секции стеллажа валялись трупы двух ляхов, причем один в совершенно дурацкой позе – верхняя часть тела провалилась между полками, а ноги и зад остались наверху. За поваленной секцией, на земле, обнаружился еще один.
«Значит, через дом прошли четверо… если б не Степан… а он-то здесь откуда?»
– Господин сотник!!! – заблажил Антон, стоящий на четвереньках под стеной склада, без шлема и с окровавленным лицом. – Скажи ему… Я одного пристрелил, а потом вон этот мне как дал…
– Заткнись, усерыш! – Степан замахнулся на Антона факелом. – Сейчас морду-то прижгу! Мы прибежали, глядим: ляхи Захария убивают, а этот под стеночкой сидит и глазками, как девка, помаргивает…
– Не так все было!!! – взвился Антон.
– Молчать всем!!! – рявкнул Мишка. – Что с Захарием?
– Его, видать, этой штукой придавило, – принялся объяснять Степан – а он изловчился и вон того ляха засапожником в ногу… а они его мечами… а этот… Степан снова ощерился в сторону Мишкиного адъютанта.
– А этот остался в одиночку против двоих, – перебил Мишка Степана, – и одного уложил! Ты бы сумел лучше справиться?
– Я бы около тебя был! – почти истерически выкрикнул Степан.
С урядником явно творилось что-то ненормальное – обычно он был спокойным и здравомыслящим парнем, Мишка неоднократно убеждался, что Дмитрий очень удачно подобрал себе замену, а сейчас…
– А ну-ка, охолони! – прикрикнул он на урядника второго десятка. – Где должно находиться моему помощнику, решаю только я и никто больше! А вот ТЫ почему вдруг тут оказался? Тебе где было приказано быть?
– Так… а чего? – зрачки Степана метнулись туда-сюда. – Там их сорок рыл осталось, а здесь моих ребят убивают… а по берегу под тыном уже можно было пройти, ляхи на вас отвлеклись… – тональность голоса Степана снова полезла вверх, – и вообще… да вас бы тут всех поубивали, если бы мы не подошли!
«Да, сэр, последний аргумент не оспоришь, да и остальные тоже… на уровне, однако, готов поспорить: все они придуманы экспромтом, прямо сейчас! Унтер Степан, нарушая приказ, попер сюда явно по другой причине, о которой и сам не подозревает… Для десятника ратнинской сотни – поступок вполне допустимый, но для урядника Младшей стражи, мягко говоря, не характерно… не ощущаете ли руку графини Палий, сэр? Но Степан с Нинеей вроде бы не общался… или она через Красаву… Черт побери, Настена же первой полусотне медосмотр устроила! Неужели внушила потребность защищать сотника любой ценой? Ну, бабы…»
Сразу же захотелось заорать, сломать что-нибудь… – опять умные дяди и тети решают за него! Мишка, с трудом сдержавшись, выдавил из себя улыбку и ободряюще кивнул Степану.
– Все верно, молодец! На то ты и урядник, чтобы при нужде своей головой думать. Хвалю!
– Рад стараться, господин сотник!
На лице Степана отразилось такое счастье, что даже стало неудобно.
– И тебя, – Мишка обернулся к Антону, – тоже хвалю!
– Рад стараться, господин сотник!
– Степ… Захарий точно убит? – спросил Мишка. – Вы смотрели?
– Да чего там смотреть-то? – урядник мгновенно помрачнел. – Когда такой детина три или четыре раза мечом…
– Еще потери? – Мишке очень хотелось присесть, но под поваленной секцией стеллажа лежал убитый Захарий, а больше сесть было некуда.
– Еще двое, – совсем упавшим голосом сообщил Степан. – Иннокентия стрелой, наповал, и Исидор умер…
«Еще трое… Господи, уже одиннадцать… Исидор… нельзя, наверно, было копье из него вырывать… копье! Ну, курва польска!»
– А ну-ка, пошли со мной!
Трупов в начале прохода между сараем и складом прибавилось – отроки, пришедшие со Степаном, добавили к куче убитых еще двух лучников.
– А ну-ка, посвети! – приказал Мишка Степану.
Того, кто метнул копье в Исидора, Мишка нашел почти сразу – у всех хвостовики болтов торчали из убойных мест, а у этого из верхней части бедра. Лях лежал неподвижно, с закрытыми глазами.
«Бледный… может кровью истек? Проверим…»
Мишка пнул ляха по раненой ноге, тот дернулся, застонал и раскрыл глаза.
– А-а, живой, значит?
– Проше… пан… для бога…[34]
– Ты этой рукой копье метал?
– Для бога, пан![35]
– Н-на!!!
– Иезус!!![36]
Секира перерубила ляху руку выше локтя и, вырвавшись из Мишкиных пальцев, осталась лежать на трупах.
– Не добивать его! Пусть так подыхает… за Исидора!
Мишка вышел из-за угла склада, глянул на наполненный людьми и лошадьми двор усадьбы и почувствовал, что надо хоть на несколько минут сесть где-нибудь в уголке и расслабиться. На глаза попался стоящий возле сарая чурбак, Мишка опустился на него и, привалившись спиной к стенке сарая, закрыл глаза. Странное чувство – тело вроде бы и расслабилось, а внутри все натянуто, как струна… и смотреть ни на что и ни на кого не хочется.
«Два поединка, сэр Майкл… вы теперь опоясанный воин, можете открывать личный счет, до серебряного кольца восемь осталось. Хотя, сказать по чести, с первым – тем долговязым – вам просто повезло. Он вам за спину пялился не потому, что ребят боялся, а потому, что ждал, когда четверо из прохода в дом выскочат, а от вас такой шустрости не ожидал – надеялся на расстоянии удержать, пока те четверо не навалятся. Вот второй – ваш, без вопросов, спасибо лорду Корнею за науку: драться, даже лежа, учил вас он.
А теперь, сэр, пора подумать: какую пользу можно извлечь из вашей сегодняшней победы. Вашей, вашей, не надо скромничать, погостные ратники без вас и ваших „преторианцев“ ни черта бы не смогли. Имидж, сэр Майкл, имидж! На Княжьем погосте ярмарки проходят, значит, здесь не только административный и торговый центр, но и информационный! Хватит от Нинеи зависеть в контактах с местным населением, пора свои каналы создавать. Да и „преторианцы“ ваши после внушения „доктора“ Настены и сегодняшней победы каждое ваше слово, как откровение, воспримут.
Вы обратили внимание на то, что нет никаких восторженных криков? Отроки еще не въехали в ситуацию, а погостные дурни кинулись разбросанный товар собирать. Десятник Кондратий, как последний дурак, такой выгодный шанс упускает – сейчас бы выехал на середину, махнул бы мечом да заорал: „Победа! Благодарю за службу!“ или что-нибудь в этом роде. И все – он победитель, он командир, освободивший погост от захватчиков, он здесь хозяин, пока боярин Федор не вернется. А когда вернется, то будет принята именно та версия событий, которую изложит он, а не обгадившийся писарь, „оставленный на хозяйстве“ и не оправдавший оказанного ему высокого доверия. Действуйте, сэр, действуйте!»
– Степан! – окликнул Мишка стоящего неподалеку десятника второго десятка. – Это ты Антону харю раскровянил?
– Нет, это его лях так в щит двинул, что Антохе полморды бармицей обшкрябало и зуб вроде бы…
Теперь, когда с сотником было все в порядке, Антон для Степана сразу же перестал быть «усерышем», и в голосе урядника даже проскользнуло сочувствие, что дополнительно подтвердило Мишкины подозрения насчет внушения, проведенного Настеной.
– А ногами зачем его пинал? Пинал-пинал, я знаю! Если уж ты так обо мне беспокоился, то сразу надо было посылать отроков на поиски. А вдруг я раненый лежу и кровью истекаю? Ты же, вместо того, чтобы мне помочь, Антоху лягал – время зря тратил!
– Господин сот…
– Не говори ничего! Просто запомни: между возникновением желания и действием по его исполнению должен обязательно быть небольшой промежуток. И в промежутке этом всегда, запомни, всегда должна быть мысль: «А надо ли? На пользу ли?» Приучишь себя к этой мысли, сразу же намного меньше глупостей делать станешь. Понял меня?
– Так точно, господин сотник!
«Время теряете, сэр, время!»
– Так, Степан, теперь пошли кого-нибудь из отроков за урядниками Яковом и… – Мишка запнулся, так как все еще не привык, что первым десятком командует не Роська, – и урядником Андреем, да пусть не орут, а тихонько ко мне позовут. Еще одного пошли найти мои меч и самострел, они там где-то остались… и щит мне на замену подбери, мой-то, того и гляди, развалится.
Пока Степан отдавал распоряжения, потом помогал своему сотнику избавиться от разбитого щита и даже пытался высказаться насчет того, что опять, мол, левой руке досталось, Мишка безуспешно высматривал погостного десятника Кондратия. Того почему-то нигде не было видно, как и второго погостного десятника Парфена.
Онемение в левой руке начало проходить, и она заныла от плеча до самой кисти. Мишка попробовал пошевелить пальцами, согнуть руку в локте – мышцы подчинялись, но как чужие, и ощущения, словно через вату.
«Исидор, Захарий, Иннокентий… еще трое. Могли бы жить… чтоб оно все провалилось, в бога, душу, гроб… за благополучие боярина Федора трех пацанов… Вот за это военные и не любят… да что там не любят – ненавидят – политиков! Никакой же военной необходимости… с утра бы, полным составом, под прикрытием самострелов вышибли бы ворота… высшие соображения, туды их в печенки! И ведь не денешься никуда – надо! Как там у Симонова в романе „Солдатами не рождаются“… „Написал в приказе букву – а кто-то умер. Провел сантиметр по карте – а кто-то умер. Крикнул в телефон командиру полка „нажми“, – и надо крикнуть, обстановка требует, – а кто-то умер…“ Почувствовали на собственной шкуре, сэр? И ладно бы на шкуре, а то ведь на совести! И с этим придется жить… и, если понадобится, повторять снова и снова…
А может быть, правы либерасты, и нормальный человек совершать такое должен быть не способен? Но что считать нормой? Вот, скажем, Нинея посчитала бы, что все сделано правильно – цель оправдывает средства. А Настена? Вроде бы она заставила ребят закрывать вас, сэр, собственными телами, значит, жизни разных людей для нее имеют разную ценность. Но такая же прямолинейная позиция, как у Нинеи, – не ее стиль. Настена, пожалуй, посчитала бы правильным штурмовать Княжий погост всеми наличными силами, но при этом как-то удержать ратников от „прихватизации“ имущества боярина Федора… а это вообще возможно? Для Настены, может быть, и возможно.
А отец Михаил? Вот для него размен трех жизней на материальные ценности неприемлем в принципе. Ибо сказано: „Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут; но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет и где воры не подкапывают и не крадут; ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше“. И можно было бы согласиться, но ваше-то сердце, сэр Майкл, здесь – на земле…
Аристарх-Туробой? Вот для него, скорей всего, во главе угла должны стоять чисто военные соображения, а с этой точки зрения упрямое продолжение операции после того, как первоначальный план провалился… правильно или неправильно? Экспромт, позволивший все-таки выполнить поставленную задачу, но стоивший жизни трем отрокам… это как? Не с нравственной, а именно с военной точки зрения? Это вам, сэр, лорд Корней утречком объяснит…»
– Господин сотник, урядник Яков по твоему приказу явился… Ой, Минь, а у тебя опять левая…
– Погоди, Яш, чего это погостных десятников нигде не видно?
– Так, беда, господин сотник, оба погостных десятника побиты! Парфен насмерть, а Кондратий покалечился…
– Как насмерть, как покалечился?
– Парфена из этого… ну, самострела ляшского…
– Из арбалета?
– Да, прямо в лицо, а Кондратий с тына на ляха прыгнул, ляха насмерть задавил, а сам ногу сломал. Матвей говорит, что перелом какой-то нехороший.
– А наши?
– Под Варфоломеем коня убили – он, когда падал, руку вывихнул. Матвей вправил, говорит, что ничего страшного. Фоме чем-то по шлему звезданули, глаза в разные стороны, тошнит… Матвей говорит: не боец, лежать надо. И еще… отрок Симон самострел поломал – под ним тоже коня убили, ну, когда падал, прямо на самострел…
– Господин сотник, урядник Андрей… – Мишка махнул рукой, прерывая доклад, но Андрей, против ожидания, не замолчал. – Господин сотник, не дело творится! Эти… – урядник первого десятка махнул рукой в сторону погостных ратников, – …наши болты из убитых выдирают, и говорят, что это их добыча, как бы…
Мишка недослушал – от полыхнувшего ощущения опасности отступила даже мозжащая боль в левой руке. Сразу же вспомнилась сцена в Отишии, когда напарник Дорофея Митяй потянулся за копьем, готовый схватиться из-за добычи даже с ратнинцами. Тогда рядом был Немой, а сейчас никого, тогда кругом были свои, а сейчас… Да еще и сами погостные ратники «без руля и без ветрил» – один десятник убит, другой серьезно ранен.
«Неужели в своих стрелять придется? А что делать, если эти жлобы совсем обнаглеют? Торгаши, туды их… мы для них сопляки, таких при дележе добычи обнести – „дело чести“, иначе себя уважать перестанут. Жизнью в торговом месте воспитаны… как менты при рынке. Что делать? Стерпеть, дождаться деда и требовать справедливости? А что пацаны подумают? Да даже если и не подумают ничего такого… Это жлобье, считай, дважды свой погост просрало, из-за этого трое пацанов… а теперь… Вот уж хрен! Только самострелов наших боитесь, а так за людей не считаете? Ну, будут вам самострелы!»
– Яков! Быстро свой десяток на крыши и заборола! Петра и Серапиона с собой возьми! Постарайся не убивать и не калечить, только напугать… но если закрутится, а я командовать не смогу, сам решай!
– Так… свои же… – нерешительно попытался возразить Яков.
– Это они в бою своими были, а сейчас в них торгашество взыграло, а десятников нет… забыл, как взрослые ратники к нам относятся? Исполнять!!!
– Слушаюсь, господин сотник!
Мишка проводил глазами разведчиков и приданных им двух лучших своих стрелков и удовлетворенно кивнул.
«Нет, стрелять в своих, какими бы они ни были, конечно, не дело… однако конфликты из-за дележа добычи не должны быть ЗДЕСЬ чем-то необыкновенным, наверняка, время от времени случаются. Так что чего-то экстраординарного в этом не увидят… Попробуем все же обойтись без кровопролития».
– Степан, Андрей, глядите, чтобы ваши ребята не разбредались, мало ли…
Договорить Мишка не успел – над усадьбой боярина Федора разнесся крик:
– Наших бьют!!!
Орал погостный ратник, выскочивший из ворот склада – какой-то весь тощий, нескладный, в кольчуге не по комплекции, распояской, да к тому же еще и оттопыривающейся на животе, словно там что-то спрятано. Он снова раззявил рот и даже уже начал повторять призыв «Наших бьют», но вслед ему из склада вылетел помятый шлем (похоже, его же собственный) и крепенько приложил его по загривку. Крикун бухнулся на четвереньки и возопил:
– Люди!!! Да что ж это делается?!! Сопляки ратников…
Крик оборвался – следом за крикуном из склада выскочили отроки Никита и Марк. Никита с размаху двинул крикуна сапогом по ребрам, а Марк завертел головой, разыскивая взглядом Мишку. Шлема на Никите тоже не было, из носа текла кровь, а левая сторона лица, прямо на глазах, заплывала синяком.
– Бей недоносков!!! – заблажил кто-то, невидимый Мишке.
Погостные ратники, поначалу замершие, сунулись было в сторону Никиты и Марка, но переднему прямо под ноги врезался самострельный болт так, что тот от неожиданности отпрыгнул назад, а еще двоим болты звонко щелкнули по макушкам шлемов и ушли в рикошет. Кто-то вскрикнул, видимо, поймав срикошетивший болт, и все дружно завертели головами, глядя на стоящих на крышах разведчиков Якова.
– Стоять, козлодуи!!! Всех перебьем на хрен!!! – заорал что было мочи Мишка.
– А ну, не трожь лук!!! – донесся откуда-то сверху голос Якова.
Затем послышался щелчок выстрела и сразу за ним треск разламываемого колчана и невнятное ругательство кого-то из погостных ратников. Судя по голосу, тот же ратник, что призывал бить недоносков, начал орать что-то типа: «Да чего вы смотрите…», но самострельный болт рванул его за бороду и, кажется, задел оперением по лицу, потому что ратник шлепнулся задом на землю и схватился рукой за подбородок.
«Ну? Подействовало, или убивать придется?»
– Тиха-а!!! – раздался из задних рядов голос Мишкиного знакомца Дорофея. – Правда, перебьют! Я вам про Бешеного Лиса рассказывал!
«О как! Даже и кличку знает. Видать, впечатления были сильные. Это нам на руку!»
– Михайла!!! – продолжал надрываться Дорофей. – Пусть не стреляют, я подойду, поговорим!!!
– Ну, подходи, поговорим.
Мишка так и не поднялся с чурбака, на котором сидел, а сейчас еще и принял «начальственную» позу Корнея – уперся правой рукой в бедро и отставил локоть в сторону. Дорофей уже почти дошел, когда наверху опять щелкнул самострел и за спинами передних ратников кто-то взвыл дурным голосом:
– У-юй-юй-юй!..
За что разведчики решили наказать пострадавшего, Мишка так и не понял, но им с крыши было виднее. Дорофей при звуке выстрела остановился и испуганно втянул голову в плечи, но поняв, что стреляли не в него, обернулся и снова заорал:
– Не дергайтесь, дурни!!! Потерпите, сейчас разберемся!!! Михайла… господин сотник, ты бы хоть объяснил, в чем дело, а то сразу стрелять… Чего случилось-то?
– А чего ты меня спрашиваешь? Ты вот у него спроси.
Мишка кивнул на корявого крикуна, который так еще и не поднялся с четверенек.
– Э-э, да это Семка-Клещ! С него и раньше-то спросу путного не было, – Дорофей пренебрежительно махнул рукой, – а сейчас и вообще… сам видишь.
– Кондратий ногу сломал, Парфен убит… – Мишка напрягал голос, чтобы слышно было всем, – ну, и с кем теперь разговаривать?
– А давай со мной! – Дорофей приосанился и расправил усы. – Я на погосте хозяин не из последних… не боярин, конечно, но и… в общем, прислушиваются ко мне, даже и Федор Алексеич, бывает.
«Очень показательный момент, сэр Майкл. Обратите внимание: он себя не воином называет, а хозяином, и это в такой-то обстановке! В Отишии, кстати сказать, он себя тоже не воином, а хозяином-куркулем показал. И намекает на уважение к себе именно как к хозяину. Очень красноречивая оговорка, недаром лорд Корней погостных за воинов не держит».
– Ну, что ж, на бесптичье и жопа соловей.
Кто-то из отроков хихикнул, и Мишка с трудом удержался, чтобы зло не глянуть в его сторону. Дорофей не обиделся, даже слегка улыбнулся и кивнул.
– Так что ж случилось-то, Мих… господин сотник? Меж своими-то…
– Младший урядник Никита! – гаркнул Мишка. – Доложить о происшествии!
– Воровство, господин сотник! – Никита, видимо машинально, утерся и замолк, удивленно глядя на вымазанную кровью ладонь.
Марк не стал дожидаться продолжения доклада, а дернув за волосы, опрокинул Клеща на спину и выдернул из-под его кольчуги сверток какой-то яркой ткани.
– Вот! – отрок поднял ткань над головой. – Украл, а когда Никита его остановить хотел, кровь ему пустил!
– Вот скотина! – с чувством прокомментировал Дорофей. – Ну, мы тебя поучим, пожалеешь, что на белый свет родился…
– Нет! – перебил Дорофея Мишка. – Он кровь моего человека пролил! Требую выдать мне его головой![37]
По толпе погостных ратников пошло недовольное бурчание, понятно было, что отлупить Семку Клеща за воровство были бы рады все, возможно, многие готовы были отдать его и на казнь, но не мальчишкам же! Дорофей несколько секунд прислушивался к общему говору, а потом сплюнул и махнул рукой.
– А! Забирай! Дерьмо свинячье, вечно через него какое-нибудь паскудство случается. Не жалко, забирай.
– А ты кто такой, чтобы решать? – тут же отозвались из толпы.
Дорофей сразу не нашелся, что ответить, и Мишка пришел ему на помощь, негромко подсказав:
– Утром воевода придет и спросит…
Реакция Дорофея была мгновенной:
– А вы подумайте, честные мужи! Утром воевода Корней придет, узнает, что мы укрываем вора, пролившего кровь его человека, и что тогда будет? Сколько мы еще из-за этого поганца дерьмо хлебать должны?
Снова, вместо ответа, неразборчивый говор, и снова Мишка негромко подсказал Дорофею:
– Спроси: кто против выдачи?
– Ну, кто против того, чтобы Клеща головой выдать? – снова заорал Дорофей. – Подай-ка голос!
– Да все против! – тут же отозвался кто-то из заднего ряда. – Где это видано, чтобы…
Защитную речь прервал звук оплеухи и комментарий:
– Поговори у меня еще за всех, угребище!
– Нету против! – объявил Дорофей. – Все согласны!
Снова неразборчивый говор, но сквозь него прорвались отдельные голоса:
– А и правильно!
– Ну! Сколько еще терпеть эту паскуду?
– Верно! Вот, к примеру, в прошлом году…
Продолжения дискуссии Мишка ждать не стал:
– Урядник Степан!
– Здесь, господин сотник!
– В кнуты его! – Мишка указал на Семку-Клеща. – Не жалеть!
Может быть, на Княжьем погосте и слышали о том, как ратнинцы умеют управляться с кнутами, может быть, даже знали о вплетенных в кончики кнутов железных жалах, но в деле, скорее всего, этого оружия не видали. Когда от корчащегося на земле и по-свинячьи визжащего Семки-Клеща в погостных ратников полетели, вперемешку с кровавыми брызгами, обломки кольчужных колец, мужики дружно перекосились рожами и попятились.
Долго Клещу мучиться не довелось – пять жал, попеременно бьющих в него со скоростью пистолетной пули, быстро сделали свое дело. Визг перешел в хрип, тело несколько раз дернулось и замерло, не реагируя на удары.
Слово «хватит» произнес почему-то, не Степан, а его подчиненный – младший урядник второго десятка Федор. Сам же Степан, глядя на Мишку совершенно дурными глазами, невпопад пробормотал заплетающимся языком:
– Рад стараться, господин сотник.
«Не адекватен. Впрочем, и не удивительно – он еще там, в складе, истерил, а теперь-то… Надо его чем-нибудь с градусами напоить и пусть спать отправляется. Попортила мне Настена ребят, из добрых побуждений, но попортила…»
Мишка сидел в горнице боярской усадьбы – той самой, в которой в апреле боярин Федор принимал Корнея с внуком по пути из Турова. Сидел за столом, на месте хозяина и, пользуясь тем, что его никто не видит, разминал левую руку.
«Ох и отзовутся вам, сэр, эти травмы годков через тридцать, намаетесь… если доживете».
Горница была изрядно загажена незваными гостями, а стол являл собой немое свидетельство долгой, обильной, но плохо организованной пьянки. Три девки, которых отроки обнаружили в доме – запуганные, избитые и не по разу изнасилованные ляхами – явно не относились к числу боярской прислуги и нормально обеспечить смену блюд, напитков и приличный вид стола не могли, а может, и не до того было. Требовать с них чего-то еще было бы сущим садизмом, поэтому порядок в горнице пришлось на скорую руку наводить отрокам. Антон, с лицом в запекшейся крови и распухшими губами, сунулся было помогать, но Мишка пожалел его и отпустил отдыхать.
Для услуг были оставлены два брата-близнеца из десятка Якова, Елисей и Елизар, кудрявые золотоволосые юнцы, прямо-таки неприлично ангельской внешности, которую не портили даже признаки периода полового созревания – на задуманный Мишкой спектакль должна была работать любая мелочь, даже внешний вид отроков.
Мишка в очередной раз нетерпеливо глянул на дверь – гонец к деду был уже отправлен, и времени для проведения «мероприятия» оставалось мало. Словно отзываясь на его нетерпение, дверь отворилась, и в горницу просунулся то ли Елисей, то ли Елизар – различать их умели, наверно, только родители.
– Господин сотник, привели!
– Зайди-ка! – Мишка подождал, когда отрок затворит за собой дверь и спросил:
– Сколько?
– Трое, один из Хуторов, еще двое из лесных селищ… ну, и этот тоже.
Мишка кивнул. «Этот тоже» был погостным писарем, которого ратник Дорофей поименовал изящным прозванием Буська-Грызло.
– Так, слушай внимательно. Узнай имена всех троих и названия их селищ. Пригласишь войти с честью: поклонишься и пропустишь впереди себя.
– Да понимаю я вежество… – попытался прервать инструктаж то ли Елисей, то ли Елизар.
– Не перебивай! – негромко прикрикнул на него Мишка. – Когда войдете, назовешь им сначала меня, потом Дорофея, и только потом их: честной муж такой-то, оттуда-то. Обносить за столом будешь по старшинству – сначала их, потом Дорофея, потом кувшин поставишь, а потом уже мне нальешь. Так же и с едой. Понял?
– Но ты же сотник, а они…
– Для них я не сотник, а старших уважать надо! Брату скажи, чтобы так же делал, и в разговор не встревать ни под каким видом!
– Да что ж я не понимаю?!
– Исполнять!
– Слушаюсь, господин сотник!
Как только утряслись дела на боярском подворье, Мишка велел Якову вместе с Дорофеем выпустить запертых в амбарах пленников и привести к нему по одному человеку от каждого селища. Вместо двоих, против Мишкиного ожидания (ведь отрядов ляхов было два), привели троих, видимо, Хутора были захвачены еще до Княжьего погоста.
Вид пленники имели весьма потрепанный, если не сказать больше. У одного голова была перевязана тряпкой с проступившим кровавым пятном, другой, тощий и длинный, как жердь, сильно хромал, у третьего испятнанная кровью рубаха была разодрана от ворота почти до подола, а кисть левой руки сильно опухла. Все были не чесаны, перепачканы и явно не понимали смысла происходящего. Всем было, судя по виду, за сорок (Мишка велел выбрать мужей посолиднее, а стариков в плен, как известно, не берут), и все трое выглядели сущими бродягами на фоне Дорофея, неизвестно когда умудрившегося сменить доспех на ярко расшитую рубаху из беленого полотна.
Один из освобожденных пленников, тот, что с перевязанной головой, поднял руку для крестного знамения, замер, не обнаружив в красном углу иконы, но все-таки перекрестился, двое других пошарили глазами по горнице, щурясь на горящие свечи, и вопросительно уставились на поднявшегося из-за стола мальчишку в доспехе.
Мишка, прошелестев бармицей, уложил шлем на сгиб левой руки и отвесил вошедшим церемонный поклон, получив в ответ кивки головой (большего мальчишке не положено), требовательно глянул на Елисея (или все-таки на Елизара?). Тот, указав на Мишку протянутой рукой, оттарабанил:
– Сотник младшей дружины воеводы Погорынского боярич Михаил из Михайлова городка!
Мишка снова поклонился, но уже в полпоклона, а в ответ получил удивленно-заинтересованные взгляды.
– Ратник Дорофей из Княжьего погоста!
Это представление особого интереса не вызвало, возможно, Дорофея знали и раньше.
– Честной муж Прокопий из Хуторов!
«Понятно: откуда же еще быть христианину, не из лесного же селища?»
– Честной муж Брезг[38] из Малой Шеломани![39]
«Интересно: если есть Малая Шеломань, то, может, имеется и Большая?»
– Честной муж Треска[40] из Уньцева Увоза![41]
«Вот уж точно Треска – тощий, длинный…»
Мишка, соблюдая политес, пригласил пленников и Дорофея за стол, сам сел хоть и во главе стола, но после всех. Елисей, строго соблюдая Мишкину инструкцию, налил в чарки мед… и тут все-таки обнаружилось упущение: Треска попросил воды, а ее-то в горнице и не оказалось. Братья Елисей и Елизар на секунду растерялись, потом один бросился прочь из горницы, а второй вопросительно уставился на своего сотника.
– Может быть, квасу? – вежливо осведомился Мишка.
– Не-а! – Треска отрицательно повертел головой. – Не умеют тут настоящий квас делать!
«Туды тебя, не успел освободиться, уже капризничаешь! Стоп, сэр Майкл! Все верно! Если мальчишка уселся во главе стола, да еще сотником величается, его хоть как-то на место надо поставить, хотя бы и капризами».
Когда пленники поочередно напились из принесенного ковша, Мишка, памятуя, что разговор о деле сразу начинать нельзя, сделал широкий жест над столом и вежливым тоном предложил:
– Угощайтесь, уважаемые, погреба боярские обширны, ляхи все выгрести не успели.
Не удостоив Мишку даже взглядом, мужики приняли по чарке и потянулись к закуске, сотнику младшей дружины пришлось оставить свою чарку нетронутой – всем своим видом взрослые, присутствующие за столом, показали, что его присоединиться к возлиянию не приглашают.
– И откуда только этих ляхов принесло? – Прокопий тяжко вздохнул. – Свалились, как снег на голову. Это ж дорогу и место знать надо, так-то просто нас не найдешь.
– А вот кто-то из ихних и навел! – Брезг сделал неопределенный жест рукой куда-то между Мишкой и Дорофеем. – Они-то дорогу к нам знают.
– Угу, – Треска подтверждающее кивнул. – В середине лета от них торговать приезжали.
– Вот! А я говорил: не пускать! Так нет, разнылись: ярмарки не было, ярмарки не было! – Брезг произнес последние слова, явно передразнивая кого-то из женщин. – Дождались! Вот вам ярмарка, вот вам веселье!
– И в этом году ярмарки не будет, – Прокопий снова тоскливо вздохнул. – А если б и была бы, чем торговать-то? Все выгребли…
– Дома-то хоть не пожгли? – включился в разговор Дорофей.
– Не пожгли. Дождей мало было – сухо кругом, наверно, побоялись, что на лес перекинется и их пожар достанет.
– А вас? – Дорофей повернулся всем корпусом к Брезгу и Треске, положив при этом локоть на стол так, что оказался почти спиной к Мишке.
«Паскуда! Вообще от компании отсекает! Мстит, падла, за сцену во дворе…»
– И нас жечь не стали, – отозвался Брезг. – Разорили начисто, народ полонили, но жечь не стали.
– Ну, из полона-то мы вас освободили…
Дорофей не договорил, но сказал это таким тоном, что само собой напрашивалось продолжение: «могли бы и благодарность высказать». Лесовики, однако, намек не только проигнорировали, но и, нахмурившись, умолкли. Повисшую паузу прервал Прокопий:
– Слушай, а чего это мальчишки в доспехе тут везде? И этот… сотником величается.
– А он и есть сотник, – Дорофей заторопился, пытаясь «замазать» им же самим созданную неловкую ситуацию. – У него под началом сотня таких же сопляков с самострелами. Корней-то, сотник ратнинский, Воинскую школу устроил, а сам теперь воеводой Погорынским величается. Ну вот из этой-то школы они все и собрались. Здесь-то сейчас всего три десятка, а с утра остальные подойдут, получится как раз сотня, а сотником у них Корнеев внук.
– Совсем с ума посходили, – проворчал Брезг, – мальчишки с оружием…
– Ну, не скажи! – Дорофей никак не желал упускать инициативу в разговоре. – Они вчера под Ратным семь десятков ляхов перестреляли, нам даже мечи доставать не понадобилось. И здесь тоже больше половины ляхов положили. А мы уж так, остатки подчистили – пускай мальчишки учатся, все на пользу…
– Ты ври, да не завирайся! – прервал Дорофея Брезг. – Семь десятков…
– Да у меня на глазах все было! – зачастил Дорофей. – Как дали из сотни самострелов… а потом еще раз, как дали! Мы подскакали, а они уже последних добивают! И здесь… Вы вон в склад загляните, там ляхи один на другом в два слоя лежат!
Мишка сидел и молча слушал, тихо сатанея от происходящего – Дорофей и освобожденные пленники разговаривали так, словно его не только за столом, но даже и в горнице не было.
«А чего вы хотели, сэр? Избаловались! В Михайловом городке вы начальник, в Ратном ваши выкрутасы, хоть и морщатся, но терпят, а здесь-то вы кто? Сопляк, мальчишка, с которым зрелым мужам на равных и разговаривать-то зазорно. Да еще, оказывается, что они вам своим освобождением обязаны! Черт знает что, конфуз, моветон, скандал, неудобняк по полной! А вы, вместо того, чтобы спрятаться в уголке и старших товарищей в неловкое положение не ставить, еще и во главе стола уселись. По всем правилам вас бы за волосья и пинком под зад, чтобы дверь лбом вышиб, а нельзя! И что прикажете делать? Ради вашей эксклюзивной персоны древние обычаи рушить?
Не-ет, досточтимый сэр Майкл, наладить контакт с местным населением помимо Нинеи – план, конечно, замечательный, но бодливой корове, как известно, сильно мешает отсутствие надлежащего инструмента. Лет пять, а то и больше, вам только из-за спины лорда Корнея чирикать надлежит, или извольте вспоминать, как вы всякими хитрыми маневрами упомянутого лорда на идею создания пасеки наводили».
– Да он и сам тут дел натворил! – продолжал вещать увлекшийся Дорофей. – С одним ляхом на мечах схватился и руки-ноги ему поотрубал, а второму его же собственной секирой голову в шмотья разнес!
«Во, пройдоха, когда узнать-то успел? Или кто-то из ребят наболтал? Но что ж делать-то? Время уходит, сейчас дед заявится и сам распоряжаться начнет, туды их всех с дедушкиными обычаями и бабушкиными обрядами…»
– Про него чего только не рассказывают! – продолжал токовать, словно глухарь, Дорофей. – Бешеным Лисом прозвали, после того, как…
– А ну, погоди! – прервал погостного ратника Треска, до того по большей части помалкивавший. – Значит, внук Корнея, говоришь? А Агею, выходит, правнук?
– Ну да, – подтвердил Дорофей, – а что такое?..
Треска с Брезгом многозначительно переглянулись, и Брезг несколько растерянно пробормотал:
– Опять Бешеный Лис… только этого не хватало…
«Опаньки, сэр! Помнят кликуху прадеда, за полтора десятка лет не забыли! А впрочем, чего удивляться-то? Собственного сотника зарезал, попу зубы вышибал… так что же он с местными язычниками тогда вытворял? Такого и сам запомнишь, и внукам расскажешь».
– Вы это про что… – начал было Дорофей, но Треска прервал его безапелляционным тоном:
– Зачем он нас позвал?
«Молчать, сэр! По статусу подростку положено отвечать только на вопрос, адресованный непосредственно ему!»
– Так кто ж его знает…
Под сверлящим взглядом Трески Дорофей осекся, и Мишка увидел, как медленно наливается краснотой его шея. Ситуация читалась однозначно: Дорофея «назначили» в компании младшим, который должен транслировать вопросы старших сопляку, до прямого разговора с которым старшие не опускаются. Дорофей немного поерзал на скамье, но Треска не отводил от него взгляда (ох, не прост был лесовик, совсем не прост!) и погостному ратнику пришлось развернуться к малолетнему сотнику, чтобы спросить:
– Ты, Михайла, это… для чего честных мужей позвал?
Мишка поднялся на ноги и, обращаясь к Треске, раз уж тот сумел поставить себя старшим из присутствующих, заговорил:
– По-славянски зовусь Жданом, – поклон в сторону Трески остался без ответа. – Мне и моей сотне, по молодости лет, доли в воинской добыче не положено. Всем, что мы добудем, распоряжается воевода Погорынский. Им, – Мишка, не поворачивая головы, скривился в сторону Дорофея, – тоже от имущества боярина Федора ничего не перепадет, они и без того боярское добро защищать обязаны. Но остаются те пожитки и скот, которые ляхи в ваших селищах взяли.
Не удержался и стрельнул глазами по лицам мужиков – Треска сидел с каменным лицом, Брезг смотрел тяжело, слегка исподлобья, а Прокопий, услышав об имуществе, засуетился глазами и даже слегка приоткрыл рот.
– Светлая боярыня Гредислава Всеславна, – продолжил Мишка, – оказала мне великую честь, сделав воеводой своей боярской дружины, а потому защищать вас ныне моя обязанность. Но воля моя имеет силу только до того времени, пока сюда не прибыл воевода Погорынский, поэтому прошу вас поспешить и свое себе вернуть. А чтобы не вышло путаницы и вы могли бы отделить ваше добро от боярского, в сенях вас ждет погостный писарь Буська-Грызло.
Мишка снова поклонился и уставился в столешницу, не поднимая глаз. Первым отреагировал на сказанное Прокопий:
– Э! А наше-то? Что с Хуторов взято?
«Ага, напрямую заговорил!»
– Про вас светлая боярыня ничего не приказывала, – Мишка поднял глаза и уставился на Прокопия.
– Вы под боярином Федором обретаетесь, ему и решать.
– Так он же в отъезде! – чуть ли не плачущим тоном возопил Прокопий. – А когда вернется…
– Светлая боярыня мудра и справедлива! – тоном судебного приговора объявил Треска. – И да будет все свершено по ее воле! Однако ж не боишься ли ты… – Треска поджал губы, но, видимо, раз уж начал, то решил продолжить, – не боишься ли ты, Ждан, спроса воеводы за самоуправство?
«Есть, блин! Получилось! Нинеин воевода общается с ее подданными, а Прокопий с Дорофеем стоят в сторонке! Только не пережимать, сэр, вы для него никакой не воевода и не сотник, но уже и не просто сопляк, а ближник Великой Волхвы».
– Беру все на себя!
– А не много ли берешь? – Брезг, похоже, был от природы злобен или очень уж не любил христиан.
– Дед мой как-то обмолвился, что в Ратном, почитай, все семьи с дреговическими родами через женщин породнились, пора бы уже и перестать друг на друга волками глядеть. К тому же он теперь не просто ратнинский сотник, а воевода Погорынский, и в ответе не только за Ратное, но и за все Погорынье. Вы же подати исправно платите, а потому имеете право на защиту ратнинских мечей…
– Что-то они не очень нас от ляхов защитили! – Брезг все никак не желал успокаиваться. – В ответе он! Да перед кем он отвечает? И чем?
Треска недовольно покосился на Брезга, но ничего не сказал.
– Пока мы ответили сотней ляшских трупов, и тем, что в нашей Воинской школе дреговические отроки обучаются. И обучаются, как видишь, неплохо.
– Родственнички…
Брезг не договорил, уловив недовольное шевеление Трески. Действительно, зрелому мужу опускаться до перепалки с отроком было уж и совсем неприлично.
– Добро! – Треска хлопнул обеими ладонями по столу и поднялся. – Пошли, не будем время терять. А ты, Ждан… хорошие у тебя наставники.
– Благодарствую на добром слове, дядька Треска. Елизар, проводи честных мужей.
– Слушаюсь, господин сотник!
Один из золотоволосых братьев кинулся отворять дверь перед хромающим Треской, а Мишка, дождавшись пока мужики выйдут, со вздохом опустился на лавку.
«Ну-с, сэр, вроде бы все, что требовалось, сказано и… получилось, черт побери! Получилось! Не совсем так, как вы рассчитывали, но главное – результат! Прадед Агей совершенно неожиданно помог, да и без опоры на авторитет Нинеи не удалось обойтись, но результат есть! Пусть теперь в затылках чешут: Бешеный Лис – и вдруг на их защиту встал! Есть тема для разговоров и пересудов, а чем больше будут обсуждать, тем больше будет вылезать разница между тем Бешеным Лисом и нынешним».
– …В этом году ярмарки опять не будет, но, как снег ляжет, в Туров от нас обоз пойдет… – донесся из сеней голос Дорофея. – Так если вам что-то продать или купить надо будет, я мог бы…
«Дурак, да пока обоз с податями в Туров соберется, лесовики десять раз догадаются в ратнинскую лавку наведаться! Облом тебе, „хозяин Дорофей“, вчерашним днем живешь».
– Господин сотник, а как это ты… – Елисей как-то нерешительно, даже робко, глянул на Мишку, – со старшими так? Ну, и выслушали, и согласились… а я думал…
Что такое он думал, Елисей сформулировать так и не смог.
«Елки-моталки! Да ведь у них же старики во время эпидемии вымерли! Возможно, Треска и вообще в своем Оленьем Спуске… или Подъеме самым старшим остался! А может быть, если его род в нескольких селениях живет, то он тут что-то вроде главы местного Совета Старейшин? То-то такую крутизну из себя изобразил, что все остальные ему подчинились! Так, а что Елисею-то ответить? На Нинею сослаться или про прадеда объяснить? А вот нефиг! Раз уж ситуация так удачно повернулось, надо пользоваться!»
– А ты, значит, не понял?
– Виноват, господин сотник!
– Да перестань ты! Садись-ка вот и слушай, да не просто слушай, а так, чтобы остальным ребятам объяснить мог… будут же спрашивать.
– Но разговоры старших, даже если услышишь…
– Я разрешаю… даже приказываю! Расскажешь все, что запомнил, а объяснение такое: мы теперь не просто мальчишки сопливые, а молодые воины, стоящие на защите Погорынья. Вежество, конечно же, нарушать нельзя… Но ты и видел, что я от обычаев пращуров ни на шаг не отступил, однако и себя тоже правильно понимать надо. Место наше среди народа погорынского стало уже иным, но не само по себе, а оттого, что мы на стезю воинскую встали и на первых шагах не обгадились. Честь, конечно, великая, но и плата за эту честь высока: пролитая кровь, отказ от добычи, возможный гнев воеводы, нелюбовь взрослых ратников. Понял?
– Так точно… то есть нет…
– Ну, хорошо, вспоминай: как разговор шел? Сначала меня как бы не замечали, а с Прокопием и Дорофеем говорили как с равными. Так?
– Ага! Но так же и должно по обычаю…
– Правильно: Треска, Брезг, Прокопий и Дорофей, а я отдельно. А потом: Треска, Брезг и я, а Прокопий и Дорофей отдельно. Почему?
– Ты как-то так устроил…
– Жизнь устроила, Елисей, жизнь! Я только дождался, когда это устройство явным сделается! Сначала для Трески и Брезга в горнице были четыре зрелых мужа и непонятные мальчишки, которые не по возрасту величаются. Но потом-то я и Дорофей Треске и Брезгу совершенно разные вещи сказали! Не заметил?
– Н-нет… Дорофей вроде бы ничего такого… – Елисей напрягся, припоминая. – Он старшим только про тебя рассказывал.
– Это уже потом! – Мишка демонстративно отмахнулся, как от совершенного пустяка. – Дорофей с самого начала Треску и Брезга напугал и обидел.
– Напугал? – Елисей непритворно удивился.
– Ну конечно! Ты сам подумай: если воины отбивают у ворога пленников, то, что с пленниками делается?
– Это, смотря, какие воины и какие пленники! Если своих отбивают… – Елисей замолчал и уставился на Мишку расширенными глазами. – Это что же, господин сотник, мы их… как куньевских могли?
– Похолопить? – Мишка взглянул Елисею в глаза и утвердительно кивнул. – Да, могли! И Дорофей их этим попрекнул! Не впрямую, намеком, но попрекнул. А они все поняли! И тут я им сказал, что имущество возвращаю.
– Значит, холопить не будем! – догадался Елисей.
– Да, правильно мыслишь, но дело не только в этом! Ты же сам сказал: «Если своих отбивают…» Вот так и получилось, что мы сразу же стали для Трески и Брезга своими, а Дорофей чужим! А еще я им объяснил, что делаю это не просто по доброй воле, а потому, что это моя обязанность – обязанность воеводы боярыни Гредиславы Всеславны. Ну, а с Прокопием и совсем все просто – ему-то я ничего про имущество не сказал! Треска с Брезгом уже успокоились – холопить не станут, достояние вернут – можно и о высоком побеседовать, а Прокопию-то не до того, вот он из разговора и выпал, даже мешать стал. Вот так все и получилось: выслушали, согласились и даже похвалили.
– Ловко!
– Не ловко, а тяжко! Ничего, Елисей, просто так не бывает, за все своя цена платится.
– Господин воевода осерчает?
– Это потом, а сейчас… как ты думаешь, чем сейчас урядники Яков, Филипп и Степан заняты? То есть Степана-то мы спать отправили, вместо него урядник Федор… ну, ты понял. Так чем они сейчас заняты?
– Ну… не знаю… ты им приказал что-то?
– А что бы ты им на моем месте приказал?
– Так ты сотник, а я…
– Пленники голодные, среди них могут быть раненые… – подсказал Мишка.
– Ага! Накормить, раненых обиходить!
– Верно. Этим сейчас младший урядник Федор со вторым десятком занимается и Дорофея к этому делу притянет. Притянет-притянет, не сомневайся! А почему я это приказал именно второму десятку?
Ответа на этот вопрос у Елисея, конечно, не было, но его выручило возвращение брата.
– Господин сотник, разреши доложить…
– Не надо! – Мишка махнул рукой, прерывая доклад. – Садись-ка лучше и послушай… начало разговора тебе брат перескажет. Так вот: почему я приказал позаботиться о пленных именно второму десятку? Они злы были, очень сильно злы, потому что у них троих отроков убили, да потом еще этот Клещ Никите лицо разбил. Я и дал им эту злость выплеснуть, когда велел Клеща казнить. А теперь пускай добром душу омоют – голодных накормят, раненым помогут. Понятно?
– Ага…
– Ну, если понятно, пошли дальше. Что я, по-твоему, должен был приказать Якову и Филиппу? Ну, давай, думай! Яков разведкой командует, значит, что?
– А-а! – нашелся Елизар. – Надо в округе пошарить, мало ли кто-то из ляхов уцелел и затаился!
– Верно, молодец!
– Рад стараться, гос…
– Отставить! – Мишка снова махнул рукой на Елизара. – Ну, надо же различать: когда по-строевому разговаривать, а когда обыденно. Я, кстати, теперь вас все время звать буду, когда понадобится, вот как сегодня, с кем-то важным потолковать. Вежество понимаете, собой благообразны… и вообще подходите.
Братья дружно потупились и зарумянились.
– Так, с Яковом разобрались. А Филипп? – Мишка выдержал паузу, но братья молчали. – На погосте постороннего народу полно, отроки с погостными ратниками друг на друга неласково смотрят, опять же ляхи добычи натащили…
– По погосту дозором ходить! – чуть не хором отозвались Елизар и Елисей.
– Верно! А что еще я им всем приказать должен был? Не догадываетесь? А кто тут сейчас слюнки глотает, на стол глядя?
– Покормить отроков… – догадались братья, а Елисей еще и добавил: – только в очередь, чтобы служба без перерыва шла… А… господин сотник, так это ж… голова лопнет все упомнить… и людей выбрать…
– А это, ребятки, моя плата за сотничество. Ну, так: пленники, ляхи, погостные… гм, вояки, наши отроки… еще что? Думайте, думайте! Поесть, кстати, тоже можете, только мед не трогать, вон квас есть…
Глава 3
Начало сентября 1125 года. Княжий погост
Мишка сидел на берегу Случи, недалеко от стоянки отбитой у ляхов ладьи. Без доспеха, простоволосый, босой – пленник среди нескольких десятков других пленников… только вот не лежат в траве рядом с обычными пленниками взведенные самострелы. Опричники и пара десятков лесовиков (в основном женщины) изображали из себя захваченных ляхами жителей Погорынья, приведенных за какой-то надобностью на берег. Охрану представляли собой два пленных ляха – при оружии, но наконечники на копьях держались у них на честном слове, а крестовины мечей были накрепко привязаны к поясам. Поджидали вторую ляшскую ладью, спускавшуюся по течению к Княжьему погосту – о приближении её загодя известила разведка.
* * *
Дед Мишкины действия во время освобождения Княжьего погоста вроде бы одобрил, по крайней мере не обругал. Особенно в подробности вдаваться не стал и прокомментировал всего два момента: поединки с ляхами и разговор с лесовиками.
По первому пункту ни хулы, ни одобрения не высказал, а лишь поинтересовался у присутствующих при разговоре десятников, можно ли что-то засчитать Мишке в счет серебряного кольца. Одного ляха десятники решили засчитать, а вот второго нет – как Мишка его убивал, никто не видел. Дед с их мнением согласился, а ворчание десятника Фомы, что не надо бы и одного засчитывать, потому что это видели только сопляки, проигнорировал, озадачив внука вопросом:
– Ну, и как дальше будешь?
– Рано мне еще в такие игры играть, – честно признался Мишка. – От одного хорошего удара с ног валюсь… и вообще, силы во мне еще настоящей нет, а на одной ловкости не всегда выкрутишься. Так что, только если другого выхода не будет, а сам не полезу.
– Тьфу, чтоб тебя! – возмутился Корней. – Мысли, что ли, читаешь?
– Чего тут читать-то, деда? Как подумаю, что кто-нибудь из моих ребят вот так же полезет… Хоть на луну вой! И ведь не уследишь за каждым, особенно теперь, когда я сам же дурной пример и показал!
– Кхе! Вот именно! Показал… во всей красе! Раньше подумать не мог?
– Не мог! Иногда, чтобы нужные мысли в голове появились, по ней постучать надо.
– Не разговор с тобой, Михайла, а одно мученье! Нарочно, что ли, то, что я сказать должен, заранее говоришь?
– Да я, деда…
– Ладно! Дальше излагай.
Беседа с лесовиками деда заинтересовала очень сильно. Он заставил Мишку пересказать ее насколько можно дословно, несколько раз возвращался к разным эпизодам, но определенного отношения к произошедшему не высказал. Десятники тоже слушали внимательно, Фома снова попытался было поворчать, но его быстренько заткнули.
Саму же операцию по освобождению Княжьего погоста Корней оценил не очень высоко:
– Меньше полусотни ляхов, да еще и между собой перегрызшихся… могли бы и быстрее управиться! Не надо было вообще погостных охламонов на ляхов напускать – пускай бы одни убегали, а другие догоняли. Выждали бы, пока они все из усадьбы выскочат да промеж себя хлестаться начнут, и добили бы оставшихся!
– Да кто ж знал, деда?..
– Теперь будешь знать и в другой раз не промахнешься! А всего в твоем возрасте знать невозможно, какие б тебе книги читать не довелось – жизнь… она такая, что ни в книгах, ни в былинах… Кхе! Иди-ка ты, Михайла, спать, отроки-то твои уже дрыхнут, всю ночь ведь суетились. Э-э, погоди, дай-ка и я с тобой схожу, ты где лечь-то собираешься?
На то, что Корней собирается укрыть внучка одеяльцем и спеть ему колыбельную, Мишка, конечно же, не рассчитывал, но и оплеухи сразу после того, как за ними закроется дверь, тоже не ожидал, однако получил. От второй затрещины ему удалось увернуться, но потом пришлось терпеть, поскольку приказ «Стоять! Приказываю стоять! Смир-рно!» – дед произнес таким тоном, что ослушаться было невозможно.
Корней еще дважды попотчевал внука с обеих рук, а потом (было заметно, что с трудом сдержавшись), отошел в сторону, опустился на лавку и только тогда взялся объяснять причину наказания. Как ни странно, в голосе его превалировала не злость, а горечь, даже, как показалось Мишке, обида.
– Я-то, старый дурак, обрадовался, когда ты урядникам запретил болт на самострел накладывать. Вот, думаю, наконец-то Михайла смысл начальствования понял, теперь перестанет сам во все дырки лезть! А ты? На кой тебя в усадьбу понесло? И не говори, что ребята без тебя не управились бы! Степка-то сообразил еще пятерку вам на помощь привести!
А если бы ты не в усадьбе был, а снаружи? Ведь мог же все три десятка отроков через ворота внутрь послать, раз уж там проход удалось расчистить! Все лучше, чем, как собакам, на забор кидаться! А в тридцать самострелов… да еще с ребятами, обученными в тесноте драться, вы бы ляхов перещелкали, те бы и охнуть не успели! Но для этого тебе надо было снаружи быть и командовать, а ты по-дурному внутри голову подставлял!
Так что все трое убитых – на твоей совести! И не гляди на меня так! Наверняка ведь думал, что трех мальчишек за добро боярина Федора отдать пришлось! Ведь думал же? Ну, чего молчишь? Думал? Признавайся!
– Думал, деда… потом понял, что цена гораздо выше, потому такой разговор с дреговическими старейшинами и устроил. Треска этот… не простой муж, я так думаю…
– Не простой? – перебил Корней. – А ты что, простой? Княжий погост под свою руку взять, пусть и на время, это, по-твоему, простота?
– Под свою руку? – Мишке даже и в голову не приходило взглянуть на произошедшие события с такой точки зрения. – Я как-то и не думал…
– Нет, вы только поглядите на него, едрена-матрена! – Корней возмущенно шлепнул себя ладонями по коленям. – Не думал он! Кхе! Нет, ну я не знаю, что с ним еще делать! Не думал! А кто главной воинской силой на погосте был? Кому погостным ратникам подчиниться пришлось? Кто суд и расправу творил? Кто дела с добычей своей волей решал? Чье слово вятшие мужи четырех селищ слушали и по тому слову поступали? – по мере перечисления голос Корнея становился все громче и громче, постепенно переходя в крик. – Не думал он! А о чем ты вообще думал?! Ты что, позабыл, что в эту ночь на Княжьем погосте никого боярского рода, кроме тебя, не было?! Ты почто перед десятниками позорился, будто извинялся за сделанное? Это же не просто право твое было, но и обязанность!!! Они в тебе своего будущего начальника увидеть должны были!!!
«А-яй-яй, сэр, а еще Роську учили сословными категориями мыслить! А сами-то? Какой конфуз!»
– Да плевать на рухлядь Федорову, – продолжал горячиться Корней, – еще наживет! Нам боярство и воеводство свое в умы вбивать надо! Мне одному, что ли, все на себе тащить? Из Лаврухи боярин, как с хрена дудка, Кузька вовсе свихнулся – дай волю, так он вместо бабы на лесопилке женится, Демку народ чуть ли не как Бурея пугается… и этот туда же… Все, как надо, сотворил, а оказывается даже и не думал!!!
– Но ведь сделал-то, как надо… – попытался оправдаться Мишка.
– Дура-а-ак!!! – возопил совсем уж в полный голос Корней, потом, оглянувшись на дверь, заговорил тише. – Вот в чем болезнь твоя, Михайла… не боярин ты! В душе у тебя боярства нет! То-то мне Алексей жалуется: «Михайлу мечом опоясали, а он то за самострел, то за кистень хватается, про меч забывает». А дело-то не только в мече! Мало все правильно делать! Надо еще и понимать правильно, а ты не понимаешь! Ты – боярского рода! Ты знаешь то, что другим не ведомо, ты вправе вершить то, что другим невместно, ты выше других, и это не требует доказательств! Но все это проистекает из одного: ты сам себя так ощущать должен! Слышишь? Не мыслить, а ощущать! А ты не ощущаешь!
«Вот, блин, еще немного, и демократом обзовет… или республиканцем… слава богу, слов таких не знает».
– Вот Дмитрий, старшина твой, – продолжал Корней, – вот он в боярстве не растеряется! Меч ему навесить – за кистень хвататься не станет, приказ отдает – в праве своем не сомневается, мыслями да сомнениями лишними ни себя, ни других не обременяет… Говорил я, что не доведут до добра твои посиделки с попом… прости, Господи, Царствие ему Небесное…
«Ну-ну, то „много о себе понимаешь, сопляк“, то „боярином себя не ощущаешь“… и где логика? А Нинея-то опять, получается, права: „Ощути себя наследником древнего рода…“ Нет, не так! Вы, сэр, раздумывали над тем, как оценили бы ситуацию Нинея, Настена, отец Михаил и Туробой, а лорд Корней показал вам, какое решение, удовлетворяющее требования всех четверых, вы могли бы принять, но не приняли! Не приняли по командирской безграмотности и легкомыслию, да еще и в позу обвинителя встали: „Трех ребят убили из-за боярского добра!“. А вот если бы вы по рецепту лорда Корнея действовали, то ребятам вас своими телами прикрывать и не пришлось бы! Так что, досточтимый сэр Майкл, вспоминайте-ка висевший в „Ленинской комнате“ плакат „Учиться военному делу настоящим образом! В. И. Ленин“ и впредь действуйте соответствующим образом, а то во времена, скажем, Великой Отечественной вам бы за такое командование, как этой ночью, прямая дорога в трибунал была бы!»
Дальнейшее уже происходило без Мишкиного участия, и он узнал о произошедших событиях только в пересказе Дмитрия и Роськи. Начал Корней с допроса пана Торбы, который в руках такого умельца, как Бурей, заговорил практически сразу, но, увы, многого не знал, поскольку присоединился к отряду пана Вацлава с опозданием. Паном Вацлавом, как уже выяснилось раньше, был тот самый лях в богатом доспехе, в которого отроки умудрились засадить аж одиннадцать болтов. Вообще, под Ратным стрелки и лучницы явно перестарались – пригодными к допросу оказались только двое раненых ляхов, да и те померли на руках у Бурея, толком ничего не рассказав. От допроса пана Торбы тоже проку оказалось мало – общего числа ляхов он не знал, упомянул лишь, что и на правом берегу Случи тоже должно быть несколько мелких отрядов. Не ведал он и о происхождении ладей, его отряд просто ждал на берегу Припяти, когда их заберут.
В общем, Корней остался недоволен, и тут, на свою беду, пред грозные очи воеводы Погорынского заявился погостный писарь Буська-Грызло с жалобой на Мишкино самоуправство. Менее подходящий момент просто трудно было выбрать, но, по всей видимости, писарь родился в рубашке. Повезло ему дважды: первый раз, когда воевода Корней не убил его на месте, а просто приказал Бурею потыкать Буську мордой в труп Семки-Клеща, «чтобы понимал, значит, что с такими, как он, говнолазами бывает, ежели они не сидят тихо в уголке и не радуются, что живы остались».
Бурей, пришедший после допроса пана Торбы в игривое настроение, выполнил приказ буквально и располосовал писарю всю рожу об драную кольчугу Клеща. Дело обязательно кончилось бы либо серьезным членовредительством, либо повреждением писарского рассудка, но тут Буське повезло вторично – Бурей отвлекся. Проявив воистину академический интерес к трупу казненного, он, продолжая удерживать Буську за шиворот, несколько раз пинками перевернул покойника с боку на бок, чтобы внимательнее рассмотреть следы кнутобойских упражнений отроков второго десятка. Погостный писарь, воспользовавшись паузой, рванулся, что было сил, и был таков, а Бурей, нисколько не огорчившись, тем, что у него в кулаке остался лишь клок рубахи вырвавшегося Буськи-Грызло, громогласно вынес вердикт:
– Гы-ы! Гляди-ка, и сопляки чему-то путному выучились!
Столь двусмысленного и неожиданного комплимента Мишка не получал еще ни разу. Ни в ТОЙ жизни, ни в ЭТОЙ.
* * *
Ратнинцы и лесовики, изображавшие сидящих на берегу пленных, устали сидеть неподвижно, началось шевеление, негромкие разговоры. Ляхи, исполнявшие роль часовых, тоже несколько сбросили напряжение, принялись переминаться с ноги на ногу и даже прохаживаться туда-сюда. В общем-то, это было хорошо – чем естественнее ведут себя «часовые», тем легче будет обмануть прибывших на ладье, но когда один из ляхов направился к ближайшим кустам, Мишка подхватил с земли самострел и крикнул:
– Эй, куда? Назад!
– По потшебе[42]… – послушно откликнулся лях и универсальным жестом изобразил процесс отправления малой нужды.
– Потерпишь! – безапелляционно заявил Мишка, многозначительно поведя самострелом. – Или прямо здесь дуй… ишь, каким застенчивым сделался! Не бойся, не оторвут тебе ничего!
– А вот я так и оторвала бы! – неожиданно заявила немолодая женщина, сидящая на земле недалеко от Мишки. – Как сильничать, так не стеснялся, а тут вдруг застенчивым стал!
Лях, пряча глаза, на всякий случай отошел на несколько шагов в сторонку.
«Комедь, блин: зеки вертухаями командуют! Сладкая мечта „спецконтингента“».
– Эй, парень! – окликнула Мишку молодуха в драной рубахе, с синяком на пол-лица и сильно расцарапанной шеей. – А ты попал бы из своей стрелялки, если б этот гнус свое хозяйство достал?
«Гм, сэр, разбитная, однако, мамзелька! Поваляли ее, надо полагать, неслабо, однако живости не утратила!»
– Ха! Да наш боярич на слух стрелять умеет! – влез в разговор урядник Степан. – Он бы этому усерышу с закрытыми глазами, только по журчанию, болт, куда надо, засадил… и куда не надо, тоже!
«Пленники» негромко загомонили, наперебой перечисляя разные места ляшского организма и классифицируя их по признакам: «куда надо» и «куда не надо». Получалось, что «надо» вообще-то бы везде, но только так, чтобы не сразу помер. «Часовые» и вовсе затосковали.
– Боярич! – немолодая женщина, высказавшая желание «оторвать», пересела поближе к Мишке. – А ты и в правду боярич?
– Да, боярич из рода Лисовинов, внук воеводы Корзня.
– И сотником у этих? – женщина качнула головой в сторону Степана.
– Верно. Меня Жданом звать.
– Жданом?
– Во Христе Михаил сын Фролов.
– А… ну да, конечно… А меня Буеслава.
«Ого! Не простая бабонька! Буеслава – напористая, сильная [43] . Просто так подобные прозвища не дают, наверно, что-то вроде нашей Добродеи, только в ином смысле, разумеется. Короче, крутая баба, с воинственным характером».
– Рад познакомиться, матушка Буеслава! – Мишка, хоть и не вставая, подчеркнуто склонил голову, коснувшись груди подбородком. – Честь для меня.
– Вежливый… – Буеслава скупо обозначила улыбку, – и внук Корзня… – улыбка тут же угасла. – А скажи-ка, Ждан, где ж ты себе сотню таких удальцов набрал?
– Так у нас там Воинская школа есть, матушка Буеслава. Все мои ребята в той школе ученики.
– Да? И кого ж вы в той школе учите?
Мишка чуть не ляпнул: «Воинов, конечно», но вовремя сообразил, что вопрос о том, кого в Воинскую школу принимают.
– Да всех учат, не только ратнинских! У нас там и ребята из Турова есть, даже торк один затесался, а больше половины – из дреговических родов. Светлая боярыня Гредислава Всеславна их на учебу благословила…
– Почему Гредислава? – перебила Мишку женщина. – Правильно говорить Градислава – создающая славу.
– Да? А у нас так говорят. Я думал, что Гредислава – это от грядущей славы. И боярыня не поправляла…
– Ну… ей виднее, может, и надо так с вами, христианами…
– Эй! Тихо там! – над бортом захваченной у ляхов ладьи поднялась голова десятника Егора. – Расшумелись, как на торгу!
«Злой – пацанами командовать оставили, да еще Луку вчера чуть не грохнул случайно… ругани в свой адрес наслушался…»
* * *
Поспать после боевой ночи Мишке с опричниками удалось только до обеда, потом поднялась тревога – к погосту приближался небольшой отряд ляхов, возвращавшихся с грабежа какого-то лесного селища. Поучаствовать в его истреблении отрокам не пришлось, потому что дорвавшиеся наконец-то до дела ратнинцы искрошили неполные два десятка бандитов, совершенно не готовых к подобному обороту дела, в считанные минуты. Потом, где-то через пару часов, была еще одна тревога, чуть не закончившаяся весьма скверно – ратнинцы с лихим гиканьем и посвистом налетели на отряд, возглавляемый Лукой Говоруном. Только вид уникальной рыжей бородищи воеводского боярина и его не менее уникальные ораторские способности в последний момент предотвратили кровопролитие.
Оказывается, одна из групп грабителей, на свою беду, вылезла из леса как раз туда, где Лука занимался оборудованием своей боярской усадьбы. Вернее, не к самой усадьбе, а к находившемуся неподалеку небольшому дреговическому поселению. Лесовики каким-то образом засекли приближение неприятеля и, здраво рассудив, что если уж поблизости завелся боярин, то надо поиметь с этого хоть какую-то пользу, послали к Луке гонца. Остальное уже было делом техники: восемь, считая самого Луку, конных и доспешных ратнинцев – лучшие лучники сотни! – и с десяток лесных охотников устроили засаду и истыкали ляхов стрелами раньше, чем те сумели что-то сообразить.
Потом Лука повел свое воинство к соседу – тоже получившему воеводское боярство десятнику Игнату. До тех мест ляхи не добрались, но зато сводный отряд Луки пополнился тремя ратнинскими воинами и еще десятком, с небольшим, дреговичей. Уяснив из допроса раненого ляха сложившуюся ситуацию, Лука с Игнатом решили двигаться не к Ратному, а к Княжьему погосту. По дороге лесовики, исполнявшие роль разведчиков и проводников, обнаружили следы еще одного отряда ляхов, гнавших по лесным тропинкам захваченных пленных и скотину, но догнать их не успели – напоролись на своих. Тут-то десятник Егор чуть и не вздел Луку на копье; в последний момент удержался, а Лука на весь лес орал такое, что, по словам ратника Арсения, у Егора наконечник копья прямо на глазах ржаветь начал.
* * *
– И куда ж вы дреговических отроков после учебы денете? – продолжила расспросы Буеслава, понизив голос почти до шепота. – Или у себя на службе оставите?
– Боярыне Гре… Градиславе Всеславне надлежит боярскую дружину иметь, вот и будет ей дружина.
– И не опасаетесь?
– Чего? – Мишка сделал вид, что удивился, хотя суть вопроса прекрасно понял.
– Ну… так… – Буеслава тоже сделала вид, что не может подобрать нужных слов, – вы христиане… а она…
«Ага, не желаете четко формулировать, мадам, значит, надо понимать, не хотите портить отношения. Эге, а случайный ли у нас разговор? Тех, кому надо изображать пленных, среди лесовиков выбирал почтеннейший Треска. Не его ли поручение выполняете, сеньора?»
– Ты про то, матушка Буеслава, что христиане с велесовцами в Погорынье уже больше ста лет режутся?
– И что ж ты скажешь? – не стала ни подтверждать, ни опровергать Мишкины слова Буеслава.
– Да сказать-то много чего можно. К примеру, что за столько лет, через жен из дреговических родов, ратнинцы чуть ли не со всем Погорыньем породнились. Можно еще сказать, что мы с боярыней Градиславой никогда не ссорились, а недавно воевода Корней к ней ездил, принят был ласково и какой-то ряд заключил, но какой именно, мне неизвестно. А еще… знаешь, матушка Буеслава, случилась как-то в давние времена такая история. Однажды Господа Бога нашего Иисуса Христа остановили у входа в храм его недруги. Был Он тогда еще совсем юн, и решили они, что легко могут Его в смешном виде перед людьми выставить. Спрашивают Его: «Надо ли платить подати римскому кесарю?» Что ответить? Сказать: «Не надо, потому что римляне захватчики»? – получится, что призываешь к бунту против римлян. Сказать: «Надо»? – получится, что ты против своего народа и своего Бога.
Увидел Иисус монету в руке у одного из своих недругов и спрашивает: «Чей лик на монете?» – «Кесарев» – отвечают. «Ну, так и отдайте Богу – богово, а кесарю – кесарево». И недруги Его удалились в великом смущении. Вот и я повторю за Ним: «Богам – божье, людям – людское. И не надо одно с другим мешать».
– Хм… – Буеслава покривила рот в усмешке. – Думаешь, и я в смущении удалюсь?
– Да с чего бы? – снова изобразил удивление Мишка. – И я – не Он, и ты мне – не недруг! Или я ошибаюсь?
– Верно говорят, – Буеслава снова не стала отвечать на впрямую заданный вопрос, – интересный ты отрок, Ждан…
«Кто говорит? Не почтеннейший ли Треска?»
– Так учителя у меня хорошие, матушка Буеслава. Та же боярыня Градислава Всеславна не брезгует, уму-разуму учит… и другие.
– Богам – божье, людям – людское… – повторила за Мишкой женщина. – Значит, так ты и рассуждал, когда дал нашим возможность свое достояние спасти? Или же тебе боярыня заранее подсказала?
«Ну, конечно, Треска, кто же еще?!»
– Не подсказывала, но уверен – одобрила бы! Матушка Буеслава, взял б кто из ваших да приехал бы на нашу Воинскую школу посмотреть, заодно и с боярыней повидались бы, мы ж рядом – меньше версты.
– А чего мне на вашу школу глядеть? – резкая смена темы сбила женщину с толку.
– Так ведь ярмарки-то в прошлом году не было и в этом году не будет!
«Хе-хе, реклама – двигатель торговли, сэр! Ну, сеньора, ну, спрашивайте: „А причем здесь…“».
– А причем здесь ярмарка-то? – послушно последовала мысленным рекомендациям Буеслава.
– Так у нас, в Ратном, лавка купеческая открылась, хоть каждый день торг веди. К вам же летом с товарами приезжали?
– Приезжали…
– А много ли во вьюках привезешь? В лавке же всего, чего хочешь, полно! Приезжай, торгуй! И добираться удобно, хоть летом, хоть зимой – по Пивени, мимо нас не проедешь! А как расторгуетесь, то всего полдня пути, и можно боярыне почтение выказать да на Воинскую школу глянуть.
– Да что ты привязался-то со своей Воинской школой? – Буеслава недовольно повысила голос.
– Т-с-с… – Мишка приложил палец к губам. – Опять десятник Егор ругаться будет.
«Нормальненько! Информация о лавке, считай, „двадцать пятым кадром“ прошла! Потом всплывет. Маркетинг, блин… А теперь, внимание, почтеннейшая публика, сейчас будет фокус!»
– Матушка Буеслава, не сочти за труд, передай честному мужу Треске, что лучше бы ему самому со мной потолковать, а то получается…
Ап! Пальцы Буеславы впустую цапнули то место, где обычно висит на поясе нож.
«Ой, недаром тебе такое прозвище дадено, бабонька!»
– Изгаляешься, змееныш… – Буеслава злобно ощерилась, но почти сразу же злость на ее лице сменилась сначала настороженностью, а потом растерянностью. – А откуда ты…
– А что, светлая боярыня ЛЮБОГО себе в ученики возьмет? – подчеркнуто внятно вопросил Мишка, пристально глядя в глаза собеседнице. – Я же тебе сказал: «Богам – божье, людям – людское!» И не надо одно с другим путать! Или ты, БАБА…
«Эх, не получается, блин, как у Аристарха!»
– …решила, что лучше честного мужа про Воинскую школу все понять можешь? Или зазорно от Бешеного Лиса приглашение принять? Или я добрых намерений не выказал? Воеводу светлой боярыни змеенышем обзывать? Тебя за этим Треска послал?!
Мишка угрожающе качнулся в сторону Буеславы, и та вздернула руку в защитном жесте.
– Сядь, где сидела, БАБА! Не исполнила ты поручения честного мужа! Видать, не способна!
Как смотрели на своего сотника сидящие вокруг опричники! Какая тишина повисла над дреговичами, изображавшими из себя пленных! Над бортом ладьи опять маячила голова десятника Егора, но тот молчал, а левый висок и щеку буквально жгло от взгляда той самой разбитной молодки…
Мишка обернулся к ней и, чувствуя себя распоследним подонком, нагло «раздел» ее глазами, напрочь позабыв про свою подростковую прыщавость. Молодуха закусила губу и отвернулась.
– Всем сидеть, молчать и думать! – негромко, но с отчетливыми повелительными интонациями приказал Мишка, благо мужчин старше его по возрасту в группе фальшивых пленников не было. – А думать вот о чем: если Ратное хочет мира, это не значит, что мы ослабли; если мы разговариваем вежливо, это не значит, что нам можно в ответ хамить; если вы сами от ворогов оборониться неспособны, то это сделаем мы, но с вас за это возьмем подати – бесплатно не бывает ничего!
«Вот так, господа-товарищи дреговичи, раз уж лорд Корней взялся формировать в своем графстве настоящие баронства, требуется надлежащая пропагандистская поддержка… И никуда вы, на хрен, не денетесь!»
* * *
Когда квелый с недосыпа Мишка заявился по зову Корнея в дом боярина Федора, то оказался на военном совете и прямо с порога был задействован в качестве счетовода – Корней с десятниками подсчитывали истребленных ляхов и пытались сообразить, сколько их еще осталось.
– Так, Михайла, давай-ка считай: у Ратного было их семь десятков…
– Семьдесят один, – уточнил Мишка.
– Не суть! Одним больше, одним меньше… не перебивай! – Корней досадливо отмахнулся, как от надоедливой мухи. – Давай считай: семьдесят один и здесь вы сорок шесть ляхов положили…
– Сто семнадцать! – доложил Мишка.
– Кхе! Изрядно… Вот тебе и сопляки с игрушками… Лука, сколько ты с лесовиками перебил?
– Шестнадцать… – Лука с интересом глянул на Мишку, видимо успехи Младшей стражи оказались для него сюрпризом, – и одного живым взяли.
– Ага! И мы здесь еще восемнадцать посекли… Михайла, сколько всего выходит?
– Сто пятьдесят два!
– Так, значит… – Корней поскреб в бороде. – Бурей, чего пленный сказал? Сколько еще осталось?
– Еще голов пятнадцать-двадцать должно быть, они на ладье вверх по Случи ушли. И еще должны быть на другом берегу, но точно он не знает, говорит, что много, примерно столько же, сколько и здесь.
– Это выходит, что их аж три сотни набирается? Что-то многовато… – Лука с сомнением покачал головой. – Три сотни собрать… ладно, где-то набрали, но провести их сюда…
– Ну! – подхватил десятник Фома. – Пограбить и ближе можно было! Чего сюда-то приперлись? И как дорогу узнали? Ладно, Княжий погост – место известное, ладно Ратное – наезженная дорога есть, а как же до лесных селищ дорогу вызнали?
– А вот так же! – Бурей сделал пальцами правой руки такое движение, словно что-то ломал или выворачивал. – Погостных людишек попытали да вызнали! Мне пленный рассказал: Вацлав ихний еще с одним… как-то звали… не помню, себе Ратное взяли, а остальные, у которых людишек менее двух десятков, жребий метали – кому какое селище грабить. Пытаных людишек себе в проводники взяли и расползлись.
– Да это-то понятно! – Лука все никак не мог успокоиться. – Но как они три сотни через Волынь провели?
– Не через Волынь, а через городненские земли! – досадливо поправил Корней. – Кхе! Значит, так: подробно объяснить не могу – сам всего не знаю, но ляхов через себя пропустил князь Всеволод Городненский, а понадобились ляхи здесь, чтобы отсюда помощь в Заприпятье не пришла. Полоцкие князья, пока Мономашичи в степи половцев гоняют, вроде бы собираются от Турова Заприпятье отторгнуть и устроить там Пинское княжество, которое им в помощь против Киева будет. Может быть, и не так задумано, тут только гадать, но Борис Полоцкий, Святослав Витебский и Рогволд Друцкий, возможно, уже осадили Пинск, Слуцк, другие города… непонятно только, почему Всеволод Городненский в это дело ввязался, он же на сестре Мстислава Киевского, Агафье, женат. Не должен бы он против Мономашичей идти.
Сообщение Корнея, ничего, в общем-то, не объяснив, вызвало оживленный обмен мнениями – каждый стремился хоть что-то высказать по поводу сложившейся ситуации.
– А ну, тиха-а!!! – Корней хлопнул ладонью по столешнице. – Успеете еще князьям косточки перемыть! Нам сейчас не о них, а о здешних делах помыслить надо! Пока мы тут рассуждаем, на том берегу Случи ляхи веси грабят, а нам, хоть разорвись, и здесь сидеть надо, чтобы последних ляхов изловить, и на тот берег с помощью подоспеть нужно!
В горнице опять повис многоголосый говор. Корней немного помолчал, слушая десятников, видимо, не уловил в их высказываниях конструктива и оборвал общий говор командным голосом:
– Слушайте приказ! Здесь остается Михайла с первой полусотней младшей дружины. С ним останутся десятники Егор и Глеб со своими людьми – они повадку отроков хорошо поняли и с Михай… с сотником Михаилом у них разлада не случится.
– Это каким-таким сотником? – недоуменно спросил Лука, но Корней вопрос проигнорировал.
– Старшим назначаю десятника Егора, и хоть наизнанку вывернитесь, но командира ляхов возьмите живьем. Нам надо знать, сколько точно ляхов на том берегу, что они делать собирались и, самое главное, где, как и когда они намереваются переправляться через Припять. С пленными, скотиной и прочей добычей это долго и трудно, не подумать об этом они не могли.
– Сделаем! – Егор коротко кивнул. – Куда потом идти?
– Усадьбу боярина Опары ты ведь знаешь? Вот туда и подходи. Или мы там будем, или весть для тебя оставим. Теперь ты, Леха! Да не ты! – Корней отмахнулся от Лехи Рябого. – Вот этот Леха… тьфу, запутаешься тут с вами! Ты Алексей… э-э… Дмитрич. У погостных обормотов десятников нет. Один убит, другой ногу сломал… Бурей, ты его смотрел, что с ним?
– Плохой перелом, – выдал диагноз Бурей. – Может на всю жизнь хромым остаться. Я, конечно, вправил, в лубок уложил, но… не знаю.
– Ну, вот. Кхе! Лех… Алексей, бери погостных ратников под себя. И построже с ними, вояки, конечно, дерьмовые, но нам и такие сгодятся. А вот теперь, ты, Леха, слушай. На погосте надо кого-то оставить, чтобы пригляд был, так что я у тебя Ефрема и Василия забираю. И не гляди на меня так! Кому же еще тут приглядывать, как не сыновьям ратнинского старосты?
Леха Рябой лишь вздохнул, но возражать не стал.
– Теперь ты, Лука! – продолжил Корней. – У тебя как с лесовиками срослось?
– Ну, любви особой, конечно, нет, однако со стариками беседовал, и не один раз. Съездил еще…
– Стой-стой-стой! – склонность Луки Говоруна к пространным рассуждениям была Корнею прекрасно известна. – Пользу от тебя они нынче узрели?
– Оно, конечно, так, но…
– Вот и ладно! Лесовики с нами в поход хотят, но просят отдать им ляшское оружие, у самих-то только луки с топорами, а если у кого что-то из оружия и доспеха имеется, так все дедовское-прадедовское. Пора тебе, боярин Лука Спиридоныч, полусотником становиться! Бери под свою руку всех лесовиков, что с нами пойдут.
– Гм… – впервые на Мишкиной памяти Лука Говорун промедлил с ответом, потом встал, отвесил Корнею поклон и только после этого заговорил: – Благодарствую, господин воевода, все исполню с надлежащим тщанием… Сколько и чего назначаешь в уплату за ляшское оружие для моей дружины?
«Однако! Как выражался один персонаж „Бриллиантовой руки“: „Куй железо, не отходя от кассы“. Вот и первая боярская дружина в Погорынье образовалась. Хотя нет, не первая – вы же, сэр, в дружине боярыни Градиславы воеводствуете! Интересно, а как она отреагирует на рекрутирование Лукой ее подданных?»
– Кхе! Так-то уж и дружины… – Корней, надо было понимать, тоже по достоинству оценил маневр Луки. – Хотя… А пускай будет дружина, но… – Корней назидательно вздел указующий перст, – дружина твоя есть не что иное, как полусотня погорынского войска! Так себе и мысли впредь!
– Слушаюсь, господин воевода! – в голосе Луки Говоруна не проскользнуло даже и намека на насмешку, он титуловал Корнея так же, как отроки Младшей стражи, на полном серьезе. – Однако цену за оружие все ж таки…
– Разочтетесь из добычи, коли чего добудете, не это главное. Главное – условие, под которое это оружие они получат, а получать они его будут только из моих рук… Так вот, главное условие – клятва приходить оружно по моему призыву и под твоей рукой! За оружие, долю в добыче и льготы – с них служба.
– Какие льготы? – тут же оживился Лука. – Подати уменьшить?
– Потом решим, пускай сначала себя в деле покажут.
«Внимание, сэр Майкл! Похоже, здесь и сейчас имеет место не просто военный совет! Их сиятельство граф Погорынский начинает формировать свое графство, причем начинает совершенно правильно – с создания баронств! Вот и первый барон нарисовался – Лука Спиридоныч. Барон Говорун… уписаться!»
– Теперь ты, Игнат, – продолжил Корней. – Ставлю тебя под руку боярина Луки… Молчать, я еще не закончил! Ставлю ПОКА. То, что ты тоже воеводский боярин, я не забыл, но годами ты молод и под рукой Луки Спиридоныча тебе походить не только не зазорно, но и на пользу – есть у него чему поучиться. К тому же дружины у тебя пока нет, кроме твоего десятка. Ишь, вскинулся! И полугода в боярстве не пробыл, а гордыня из всех дырок прет! Я тебе гордыню-то пообломаю, на всю жизнь величаться позабудешь!
– Виноват, Корней… господин воевода, – мгновенно присмирел Игнат, – не серчай, погорячился я…
«Браво, ваше сиятельство! Можно подумать, что лорд Корней историю средневековья изучал и опасность боярской вольницы предвидит заранее».
– То-то, что виноват… Кхе! В наказание и для пользы дела будешь учиться не только у Луки, но еще и у них! – Корней ткнул указательным пальцем в Мишкину сторону. – Они все больше пешими воевать норовят, и получается у них… сам слышал – больше сотни ляхов уже положили, да и за болотом… сам видел. Так вот: тех лесовиков, кто пойдет с нами пешими, а они, почитай, все в седлах сидят, как собака на заборе, боярин Лука отдаст тебе. А рядом с тобой будет старшина Младшей стражи Дмитрий.
Приглядывайся к тому, как он отроками командует… и про гордыню забудь! Приказываю забыть! Луки у лесовиков слабые, с ребячьими самострелами примерно вровень будут, а строй и командование у Младшей стражи правильные, вот и приглядывайся.
– Слушаюсь, господин воевода! – и снова титул Корнея был произнесен совершенно серьезным голосом, даже с явственным оттенком уважения.
«Однако, сэр, кто бы мог подумать: воеводские бояре берут пример с ваших мальчишек! И это правильно! Короля играет свита и, прежде чем выставляться воеводой Погорынским во внешнем мире, надо, чтобы этот титул намертво врос в систему внутренних связей. Вот, как сейчас – не только на словах, но и в отношениях, в чувствах. Чтобы и помыслить о лорде Корнее иначе как о воеводе и в голову не приходило. Не сразу, конечно, получится, но первый шаг сделан. Респект, ваше сиятельство!»
– Э-э… Корней, ты же вроде бы мне обучение пешцев отдать сулился, – подал голос десятник Данила. – Помнишь, когда воеводских бояр ставил? Сам же тогда сказал…
– Кхе! Я-то помню, я все помню, а вот ты-то чего не учил?
– Так некого же было!
– Ну вот и сиди теперь, помалкивай. По справе и служба – нашлись пешцы, так ими и командовать будет тот, кто их нашел.
«Вот вам, сэр, портрет неудачника с амбициями! Был первым помощником лорда Корнея, так сказать, особой, приближенной к их сиятельству, краткое время даже в сотниках покрутился, опять же потомок рода, в котором было четыре сотника. Казалось бы, все условия для карьерного роста, и на тебе: сначала боярство мимо проплыло, а теперь – перспективное направление развития погорынского войска. М-да, измельчал род, измельчал… Однако поворачиваться спиной к Даниле теперь не стоит – неудачники с амбициями, что мины с часовым механизмом – когда рванет, неизвестно. Вам, сэр, кстати, тоже за Ерохой присматривать надобно – яблочко от яблони… И еще одно, пожалуй, не менее важное обстоятельство: лорд Корней, помнится, назвал Данилу „вечно вторым“, а ваш кузен Демьян, тоже вписался в роль „number two“, что-то с этим надо делать, и побыстрее».
– Теперь ты, Леха… э-э, боярин Рябой! У тебя же жена огневская? И старшую дочку, ты, помнится, тоже в Огнево замуж выдал?
– Еще и племянницу тоже, а что?
– А то, что в Огневе у тебя два зятя и полсела родни! Я вам какой наказ давал, когда в воеводские бояре верстал? Первый год на обустройство, на второй год повинны вы иметь под рукой два десятка, на третий год… в общем, помнишь. Так?
– Так. И что? Года же еще не прошло.
– Поедешь в Огнево, предложишь тамошним мужам с нами в поход пойти. С долей в добыче не обидим. Сердца у них на ляхов, конечно, нет, до Огнева, по всему похоже, не добрались, но на добычу польститься должны, тем паче, что поля уже сжаты, а с огородами и бабы управятся…
«О-го-го, сэр! Похоже, лорд Корней решил заявиться на правый берег Случи во главе дружины численностью под три сотни. И пусть теперь кто-то из тамошних бояр попробует назвать его худородным! Сами-то наверняка сидят, запершись в усадьбах, и трясутся… А тут воевода Погорынский весь из себя в алом корзне и во главе войска из четырех боярских дружин! Кхе, едрена-матрена!»
– …А ты, Бурей, половину обоза тоже в Огнево отсылай, там у них своя переправа есть, быстрей на том берегу окажетесь.
– Не-а, – Бурей, без всякого почтения к воеводскому достоинству, отрицательно покрутил головой. – Телеги не пройдут, разве что вьючных лошадей туда отослать, дорога-то… Стой, Корней! Дорога к Огневу по тому берегу идет! Ляхи могли…
– Едренать!!! Что ж ты раньше-то… Рябой, Данила! Быстро на тот берег, может, успеете еще! Вторую полусотню щенков с собой!
– Деда, я с ними! – сунулся Мишка. – Мы вплавь для быстроты можем…
– Сидеть, без тебя обойдутся! Рябой, Данила, тоже вплавь… Рябой старший, а над сопляками – Дмитрий… давайте, давайте!!!
* * *
От кустов донесся негромкий свист – сигнал о появлении ладьи с ляхами. Мишка продублировал сигнал для десятника Егора, и от ладьи, в которой засели люди Егора и Глеба, долетел звук короткой, но энергичной возни.
– Всем сидеть, не шевелиться, головы опустить! – скомандовал Мишка «пленникам».
Сам он голову опускать не стал, напряженно вглядываясь в поверхность реки выше по течению. Вот из-за поворота показался нос ладьи, вот корпус вышел почти весь…
Все! Последняя надежда умерла – это была та самая ладья, на которой Осьма, Спиридон, четверо холопов-гребцов и полтора десятка «курсантов коммерческого отделения» отправились в Пинск.
– Петр, Серапион, часовых на прицел, только глядите, чтобы с воды не заметили!
Ляхи, изображающие охрану пленных, замерли – им при инструктаже продемонстрировали, как способны стрелять лучшие стрелки Младшей стражи, и предупредили о последствиях не то что неверного слова, а даже неверного движения.
Ладья, не в лад шлепая веслами левого и правого борта (видимо, не нашлось ни среди ляхов, ни среди полона путных гребцов), приближалась, лишь ненамного превышая скорость течения Случи. Нагружена она была явно сверх меры – пожадничали ляхи.
«Сколько же они туда народу напихали? Когда ладья была досками загружена, там спокойно размещались двадцать человек, а сейчас… Добычи в малом лесном селище много не возьмешь, и она компактна. Скотину в ладью не загонишь, разве что несколько поросят или овец, для еды в дороге. Значит, основная нагрузка – пленники. В стандартную спасательную шлюпку помещается пятьдесят человек, а наша ладья размерами побольше будет… ляхов около двух десятков, значит, пленников пять-шесть десятков. Неплохое имение себе командир ляхов организовать собрался – три или четыре деревеньки холопов».
Сначала Мишка не понял, что в движении ладьи было не так – сбивали с толку неуклюжесть гребцов и низкая посадка ладьи, да и потеря сразу всех ребят с «коммерческого отделения» пробудила бурю эмоций, отнюдь не способствующих наблюдательности, однако потом дошло – ляхи не собираются приставать к берегу!
«Они что, решили „скрысятничать“, как люди пана Торбы? Или другая причина есть? Утопят же ладью, идиоты… или на мель посадят!»
– Эй, ты! – прошипел Мишка в сторону ближайшего «часового». – Спроси: почему приставать не хотят?
Лях в ответ лишь непонимающе вылупился на Мишку. Пришлось объяснять еще раз, а ладья уже проходила мимо. Наконец лях прокричал вопрос и получил ответ в том смысле, что на другом берегу появились ратники Туровского князя и надо срочно смываться.
«Да это же наши у Огнева засветились! А ляхи, что же, выше села поднимались? И их там не заметили? Да для огневцев экипаж малой ладьи, максимум, в два десятка человек – добыча вполне посильная. У них там и плавсредства есть – те же челны и кое-что посолиднее, село-то на обоих берегах Случи расположилось. Могли же ляхов перехватить, чего же клювом щелкали?»
Словно подтверждая Мишкины мысли, из-за поворота выплыли три хищных силуэта насадов[44].
«Ага, вот, значит как! Ну что ж, работаем по плану „Б“».
Ратнинцы не были бы ратнинцами, если бы не предусмотрели несколько вариантов развития событий. Над бортом причаленной к берегу ладьи выросли силуэты лучников, и в сторону ляшского судна полетели срезни, расщепляя лопасти весел левого борта, перерубая или надрезая веретено весла так, что оно ломалось на первом же гребке после попадания срезня. Да и весел-то тех было всего по три с каждого борта. Квалификация лучников Луки Говоруна или Лехи Рябого вовсе не требовалась, ратники Егора и Глеба прекрасно справились – ляшская ладья замедлила ход и ее начало разворачивать бортом к течению.
– Опричники, за мной!
Мишка вскочил на ноги и бросился к ладье, занятой ратнинцами. Бежать было легко – босиком, без доспеха – а в голове ни с того ни с сего закрутились слова, зацепившиеся в памяти со времен учебы в мореходке: «…Часть весла между лопастью и вальком называют веретеном. Толщина весла в уключине равна 1/48 его полной длины, ширина лопасти 1/36…»
Чалки[45] уже отдали, сходни сбросили, опричникам пришлось сигать на борт прямо с берега через медленно расширяющийся просвет воды между землей и бортом. Кто-то опоздал и оборвался в воду, кто-то не стал прыгать, а отрок Фаддей, не допрыгнув, ударился ногами о борт, но успел уцепиться руками и повиснуть. Ратник Фаддей Чума вытащил своего тезку за шиворот и жизнерадостно заржал:
– О-го-го! Гляньте, какую рыбку выловил!
– Хватит ржать! – рявкнул десятник Егор. – Шевелись-шевелись! Огневцы подгребают, без добычи останетесь! Михайла…
Егору пришлось прерваться, поскольку все звуки перекрыла громогласная ругань Фаддея Чумы, которому кто-то из людей Глеба, неловко разворачиваясь с веслом, заехал вальком по затылку.
«Пехота, туды б вас, весла лопастями к носу укладывать надо, приподнял и сразу за борт унес, тогда никого не заденешь… не говоря уж о том, чтобы весло вертикально поставить, а потом за борт вывалить, вы такого и не видали никогда!»
– Михайла! – снова заговорил Егор, прервав пинком экспрессивный монолог Чумы. – К ляхам на ладью без доспеха не лезть! Стрелять отсюда, и не забудьте: главаря приказано живьем взять!
– У нас тупые болты есть! – отозвался Мишка. – Мы его обезножим, а вы…
– Да шевелитесь же, обормоты! – недослушал Егор. – Как корову рожаете!
Щелк, свищ-щ, свищ-щ, хрясь, бзынь!
– Уй, бл…а-а!
С полдесятка стрел прилетели от ляшской ладьи. Несколько просвистели мимо, одна звякнула по шлему многострадального Фаддея Чумы, еще одна оторвала щепку от планширя[46], а кого-то, судя по крику и ругани, зацепило. Мишка не видел, кого именно, потому что уставился на замершего в ступоре урядника Степана, которому стрела расщепила ложе самострела, чуть-чуть не дойдя до живота.
– Щиты на борт!!! – заорал Егор. – Минька… раз приперлись, делом займитесь – не давайте им стрелять! Остальным не высовываться!
«Ну, да, лучнику над бортом по пояс выставиться надо, а мы…»
– Опричники! Всем укрыться! Стрелять в щели между щитами… только гребцам не мешайте! Степку, Степку заберите, видите – охренел!!!
Степана сбил с ног кто-то из ратников, а Мишка перебежал к десятнику Глебу, отзываясь на его призывный жест. Тот вместе с еще одним ратником пристроил два щита на борту ладьи, оставив просвет для стрельбы.
– Тебе такой щели хватит?
– Ага, сейчас! – Мишка выудил болт из подсумка и наложил его на ствол самострела. – Подвинься чуть, наискось стрелять придется – ляхов-то уже мимо пронесло.
Сквозь щель между щитами ляшскую ладью было видно довольно хорошо. На корме стоял лях в приличном доспехе и что-то орал, размахивая одной рукой. В него Мишка стрелять не решился – еще убьешь ненароком, а он главарем окажется. Повел самострелом немного левее и чуть не выматерился вслух – давка на ладье была под стать трамваю в час пик: пленники перемешались с ляхами, и их лупили по чему попало, а над головами этой толкучки болтались два весла. Одно, видимо, запасное, выдирали откуда-то изнутри, но получалось плохо – весло торчало лопастью вверх и только меняло туда-сюда угол наклона, не продвигаясь к борту, а второе передавали с правого борта, поочередно стукая по головам и своих, и чужих, что тоже не добавляло порядка. Потом весла скрестились, мешая одно другому, да так и застряли. Куда стрелять, было совершенно непонятно.
«На что они рассчитывают-то? От насадов им все равно не уйти, да и мы сейчас разгонимся… Кстати, а где насады?»
Мишка глянул назад и увидел, что на переднем насаде, немного опередившем два других, перестали грести и как-то суетливо возились внутри. Похоже, им от ляшских стрел досталось больше, чем ратнинцам.
– Ну, чего не стреляешь-то? – понукнул Глеб.
– Да там толкучка, не разберешь… Ага!
Над бортом ляшской ладьи поднялось несколько лучников, направляя наложенные стрелы на ладью ратнинцев, Мишка выстрелил в крайнего и тот запрокинулся назад, запустив стрелу в небо. Тут же у «амбразуры» Мишку сменил азартно сопящий отрок Петр. Мишка, скорчившись за щитом, собрался взводить самострел, когда ляшские стрелы долетели до ладьи – две с хрустом врезались в щиты, а одна просвистела поверху.
«Три! А лучников было человек пять-шесть, значит, мы двоих-троих уложили».
– Молодцы, ребята! – тут же подтвердил Мишкины выкладки Егор. – Уполовинили лучников, теперь не высунутся!
Щелкнул самострел Петра, и его сразу же сменил отрок Серапион. Некоторое время смотрел в щель между щитами, потом недоуменно спросил:
– Дык… а куда стрелять-то? Там, как в муравейнике…
– Ну-ка, дай я гляну! – Глеб оттер Серапиона от «амбразуры». – А никуда не надо! Сейчас мы их догоним, приготовьтесь – мы туда, а вы прикрывайте. Только вот в того, на корме, не стрелять – похоже, главарь… О, и на носу такой же! Придется обоих брать.
– И-и-и раз! И-и-и раз! Навались! И-и-и раз! – командовал Егор. Рулевым веслом он не пользовался, наверно, не умел, но распоряжался вполне грамотно, чувствовалось, что ладейный бой для него не новинка.
– Левый борт, полегче! Правый борт, навались!
«О как, даже учитывает, что гребцы сидят спиной по ходу и „лево-право“ у них местами поменялись. Умеет, ничего не скажешь!»
Нос ратнинской ладьи покатился вправо, нацелившись куда-то за корму ляшского судна, все еще дрейфующего бортом к течению.
– И-и-и раз! И-и-и раз! Навались! Стрелки! На левый борт, не давать лучникам высовываться! И-и-и раз! И-и-и раз! Правый борт, придерживай, левый, навались! Сильнее, мать вашу!!! Сильнее!
Ладья развернулась поперек течения, и ее начало наваливать бортом на меньшее по размерам судно ляхов.
– Бросай весла!!! Щиты на руку… Вперед!!! Р-р-ратно-о-о!!!
– Р-р-ратно-о-о!!!
Ратнинцы с ревом ломанулись на ляшскую ладью, прессуя толпу, живо напомнив Мишке футбольных болельщиков, штурмующих городской транспорт по окончании матча. Стоящий на кормовом помосте лях рванул меч из ножен, но десятник Глеб на манер античного дискобола запустил ему в ноги щит, металлическая окантовка которого врезалась в голени ляха и тот начал валиться на колени, но окончательно упасть не успел, получив от Глеба еще и удар сапогом в морду. На носу Арсений и Чума «жестко паковали» второго прилично вооруженного ляха, а в середине ладьи творился сущий ад – ратнинцы сначала лезли чуть ли не по головам, а затем один за другим начали проваливаться в людскую толчею, как в болото.
Отроки настороженно поводили самострелами, но стрелять было сложно – толпа закручивалась водоворотами, над головами мельтешили руки с оружием, тут же болталось одно из весел, которое ляхам так и не удалось дотащить до борта… Крик, вой, визг, лязг оружия, ругань.
В глазах рябило, и разобрать отдельные детали было просто невозможно… Отроки явно растерялись от такого зрелища, а тут еще Фаддей Чума, с воплем «Эй-йех!!!», сиганул с носового помоста в толкучку, как в воду. Естественно, все взгляды отроков немедленно сошлись на нем.
«Нет, так дело не пойдет! Надо вмешаться…»
– Слушай мою команду!!! Федька, задрыга, меня слушать!!! Янька, пасть закрой!!! Слушай команду!!! Каждый выбирает одного нашего ратника и следит только за ним, чтобы в спину не ударили! На шлемы, на шлемы смотреть, у ляхов таких нет! Петр, Серапион, ко мне! Стрелять, куда я укажу!
Обалдение, кажется, стало уходить с лиц, а взгляды отроков начали приобретать осмысленность и целенаправленность. Почти сразу же проявился и результат: позади ратника Савелия из толкучки вынырнул лях с занесенным оружием в руке, Мишка уже навел на него самострел, но его опередил кто-то из отроков – лях, так и не нанеся удара, канул вниз с болтом в загривке. Какой-то лях вылез на кучу мешков и коробов, наваленную на том месте, где должна быть мачта, и, не успев разогнуться, получил сразу два болта.
«Ну, слава богу, кажется, начали ориентироваться!»
Мишка огляделся. Ратник Арсений добыл где-то копье и, стоя на носовом помосте (назвать это полубаком у Мишки не повернулся бы язык), бил ляхов, до которых мог дотянуться, как рыбу острогой.
Глеб и вовсе изображал нечто цирковое – лежа животом на краю кормового помоста, свесился вниз и шуровал мечом под помостом, как повариха половником в котле.
– Петька, присмотри за десятником Глебом, как бы его…
– Слушаюсь, господин сотник!
– Серька, отойди в сторонку и попробуй заглянуть под помост. Кто там Глебу не дается?
– Слушаюсь!..
Краем глаза Мишка уловил какое-то движение на поверхности воды – обогнув корму, к правому борту ляшской ладьи скользнули два насада.
«Ой, блин! Если еще и эти сюда залезут, тут вообще, как в консервной банке будет…»
Мишка ошибся – никто из огневцев на ляшскую ладью влезть не успел, наоборот, пленники (мелькнул среди них, кажется, и один лях) начали валиться за борт. То ли их толчея выдавила, то ли по собственной инициативе подались из кровавой каши, но огневцы, конечно же, ожидали чего угодно, но только не того, что им на головы начнут сыпаться пленники со связанными руками.
«Что-то это все совершенно не похоже на киношные абордажные бои! Больше напоминает неудачные действия полиции по разгону уличной демонстрации, когда зажатой в угол толпе некуда деться, а полицейские, нарушив строй, смешались с демонстрантами. Похоже, что кроме Егора, опыт ладейных боев есть очень у немногих».
Тем не менее, ратнинцы справлялись со своим делом вполне успешно. Только приглядевшись и уловив некий ритм вроде бы беспорядочного движения человеческих тел, Мишка понял, что не все так просто. Часть лесовиков действительно металась в панике или шарахалась от размахивающих оружием воинов, но часть, хоть и со связанными руками, умудрялась помогать ратнинцам, толкая ляхов, подкатываясь им под ноги и вообще всячески мешая. А много ли в рукопашном бою нужно? На полсекунды промедлил, вовремя не уклонился или не отшагнул, и все – ты труп. Тем более, что ратнинцы превосходили противника и экипировкой, и, в большинстве случаев, воинской выучкой. Лишь немногие из ляхов были способны на равных схватиться с ратнинцами… Хотя, может быть, такое впечатление складывалось из-за того, что ляхам мешали дреговичи. Во всяком случае, какого-то осмысленно организованного сопротивления ляхи сразу оказать не смогли, и схватка сразу рассыпалась на отдельные поединки.
Вот ратник Аким щитом притиснул противнику руку с оружием к куче мешков и его самого придавил спиной к той же куче, а тот перехватил левой рукой правую руку ратнинца. Некоторое время они борются, а потом Аким бьет козырьком «журавлевского» шлема ляха в лицо. На том нет шлема, только кольчужный капюшон с оплечьем, лицо не защищено, и козырек проламывает ему переносицу.
Ратник Григорий, раненный в ногу, валится боком на скамью для гребцов, потом проваливается дальше – между скамьями, лях заносит меч для смертельного удара, но его толкает плечом дрегович. Лях сшибает дреговича с ног ударом щита, но и сам сгибается и жутко кричит – Григорий умудрился достать его клинком в пах. Крик обрывается после второго выпада Григория.
Ратник Савелий, с окровавленными мечом и рукой до самого плеча, вымахивает на кучу поклажи, рубит сверху ляха, но тот ловко прикрывается щитом и, в свою очередь, пытается подсечь ноги Савелия. Ратнинец подпрыгивает, пропуская летящее железо под собой, но мешки и свертки расползаются, и Савелий падает, оказываясь во власти противника. Лях замахивается, и в этот миг ему в висок ударяет самострельный болт так, что левый глаз выскакивает из глазницы и повисает на красной жилке.
Еще один лях отпрыгивает от копья Арсения, но сзади кто-то из пленников подкатывается ему под ноги, он падает и его тут же принимаются топтать ногами. Лях, потеряв секиру, умудряется достать нож и тыкает им в пленников, а Арсений, метнув копье, пришпиливает его к сланям[47].
Никита Свистун попеременно лупит завалившегося на скамью ляха то краем щита, то рукоятью меча, словно тесто месит. Сзади к нему кидается лях, но падает на спину Никиты уже мертвым, получив от опричников сразу два болта. Никита разворачивается и рубит уже мертвого ляха, а тот, которого он охаживал щитом и рукоятью оружия, лежит неподвижно, жутко скаля зубы сквозь разорванную щеку…
«Толчея, понизу не ударить – раны все больше в голову, в лицо, ребятам кошмары ночью…»
– Господин сотник, задание выполнено! – радостно известил Мишку Серапион. – Туда, под помост, аж трое набилось! Одного десятник Глеб уложил, а остальных я!
– Молодец!
– Рад стараться, господин…
– Петька! Стреля… не надо уже… – перебил Серапиона Мишка. – Ратника Никифора чуть не зарубили, но кто-то из наших успел.
– Вроде бы все уже… – с явным облегчением сообщил отрок Петр. – Вон, на лесовиках веревки режут, а ляхов не видно.
– Ну и слава богу! – Мишка обмахнулся крестом и сам на себя удивился – подобного машинального движения он раньше за собой не замечал.
Ратнинцы действительно уже почти завершили дело. Одни, распихивая пленных дреговичей, выбирались из толкучки, другие резали веревки на пленниках, и только двое ратников возились между скамей для гребцов, не то добивая забившегося под них ляха, не то, наоборот, пытаясь того из-под скамьи извлечь. Да еще Глеб копошился под носовым помостом, потом вылез наружу, обернулся к отрокам и заорал:
– На хрена стреляли, ослы иерихонские?! Там же раненые были!
– Ты куда смотрел, раззява? – Мишка резко развернулся к Серапиону. – Лучшему стрелку Младшей стражи другого дела нет, кроме как раненых добивать?
– Дык… кто ж знал… господин сотник… виноват…
– Уйди с глаз моих, козлодуй!
В общем-то, Серапион был не так уж и виноват, и Мишка не столько разозлился, сколько в очередной раз остро ощутил, как катастрофически не хватает его ребятам не только боевого, но даже и обычного жизненного опыта. Ну, очевидно же, что Глеб не стал бы связываться в одиночку с тремя ляхами, да еще вися вниз головой, значит, с теми ляхами было что-то не так. Но Серапиону и в голову не пришло о чем-то задуматься – сотник приказал разобраться «кто там Глебу не дается?», а как еще разбираться в бою, да если у тебя в руках самострел? Только выстрелами!
Абордаж завершился полной победой. Ратники приняли брошенные отроками веревки и принялись подтягивать отошедшие друг от друга ладьи.
– Кого развязали, перелезайте на нашу ладью! – надрывал голос Егор. – Удавитесь тут, не вздохнуть, не повернуться.
Не тут-то было! Часть дреговичей действительно перебралась на большую ладью, удивленно глядя на босых отроков, одетых весьма скудно, но зато поголовно вооруженных самострелами. А остальные пленники… сразу в двух местах опять завертелся человеческий водоворот – кого-то били. В мах, со злобным хеканьем, в запале даже не озаботившись подобрать ляшское оружие. Ратнинцы встревать не стали – бьют, значит, знают, кого и за что. Мишка попытался рассмотреть, кого там метелят, но ничего не увидел и уже начал отворачиваться, когда все шумы покрыл противный, но знакомый голос, возопивший:
– Боярич!!! Заступись!!! Боя…
– Спиридон!!!
Мишка птицей перелетел на малую ладью, поскользнулся на залитой кровью скамье, чуть не упал, но устоял, поддержанный прыгнувшими следом отроками, и принялся пробираться к ближайшему месту избиения, щедро раздавая удары прикладом. Рядом работали прикладами отроки, но Серапион взял самострел неправильным хватом и сам себе заехал дугой по затылку. Решив, видимо, что кто-то ударил его сзади, он отмахнулся не глядя и врезал ни в чем не повинной женщине, выше его на голову и, наверно, вдвое массивнее. Та в долгу не осталась и, сопровождая свои действия энергичным речитативом, ухватила Серьку за волосы, словно непутевого мужа, явившегося домой пьяным, и принялась мотать отрока туда-сюда.
Рядом кто-то громко стонал, кого-то тошнило, кто-то кого-то звал, под ногами валялось оружие и еще какие-то вещи, все это было обильно полито кровью, то здесь, то там валялись трупы, порой растоптанные чуть ли не в лепешку… Вдобавок ко всему кто-то не то открыл, не то сломал загородку, за которой под носовым настилом находилось несколько поросят и с десяток кур, и вся эта живность с визгом, кудахтаньем и хлопаньем крыльями рванула наружу. Ладья быстро и уверенно превращалась из поля боя в плавучий сумасшедший дом.
Еще раз поскользнувшись в луже крови, Мишка больно ушиб обо что-то босую ногу, потом наступил прямо в распоротый живот покойника (босиком – то еще ощущеньице!) и, медленно приходя от всего этого в бешенство, с разбегу врезался в группу дреговичей, избивавшую кого-то, невидимого за их спинами. Один из мужчин, не то отмахиваясь от Мишки, не то занося руку для удара, врезал тыльной стороной ладони его прямо по губам. Обидный удар, внезапная боль в разбитой губе и вкус крови во рту словно сняли последний предохранитель – Бешеный Лис рванулся наружу.
– У-р-р-рою!!!
Удар прикладом в затылок обидчику, еще один – сбоку под ребра другому дреговичу, пяткой под колено третьему… Жертва, наконец, попала в поле зрения и… это оказался, судя по одежде, лях.
Не останавливаясь, Бешеный Лис пробежал прямо по телу ляха, похоже, уже мертвого или умирающего, протаранил оторопевших дреговичей и двинулся к следующему месту «экзекуции». Петька сунулся следом, но опомнившиеся мужики по-быстрому насовали ему плюх и выкинули из круга.
Следующей жертвой народного гнева оказался все-таки приказчик Спиридон, вернее, некто жутко избитый, но обряженный в лохмотья, еще недавно бывшие пижонской голубой рубахой Спиридона.
– П-р-р-рекратить!!! У-р-р-рою!!!
– Пошел на…
Скольких зубов недосчитался дрегович после удара прикладом, Бешеного Лиса не интересовало. Еще какие-то бьющие и хватающие руки, приклад врезается во что-то хрустнувшее, потом во что-то мягкое, потом самострел вырывается из рук, но в них тут же оказываются выхваченные из-под рубахи кинжалы, а тело совершает почти балетный пируэт… скорее, фуэте, поскольку разворот сопровождается хлещущим движением ноги. Бородатые морды шарахаются в стороны, кто-то трясет окровавленными пальцами, кто-то пытается схватить сзади и визжит по-бабьи, заполучив клинок в ребра… Бешеный Лис пляшет танец смерти, защищая Спирьку с той же слепой яростью, с какой несколько месяцев назад пытался его же догнать и убить, защищает от тех, кого только что спасал!
Правая рука заблокирована… удар левым кинжалом в живот… звяк клинка о кольчугу, а из глаз от удара в лоб, летят искры… Мишка отлетел к борту ладьи, крепко приложился спиной о шпангоут[48] и медленно начал выплывать из дурмана бешенства. Умеет ратник Арсений бить, ничего не скажешь…
– Ты что, очумел? – Арсений навис над сидящим у борта Мишкой. – Мало нам одного Фаддея…
– Эт… Кхе! Это Спиридон, приказчик наш… и ладья наша… на ней Осьма с ребятами в Пинск ушел.
– О как! А ну! Пошли все прочь! – Арсений угрожающе положил руку на рукоять меча, и дреговичи предпочли не связываться. Один, правда, начал чего-то орать, но Арсений, притворившись глухим, переспросил «Ась?» и, шагнув вперед, наступил сапогом скандалисту на босую ногу. На этом дискуссия себя исчерпала.
– Спиридон, значит, говоришь? – Арсений всмотрелся в распростертое у его ног тело. – А он живой хоть?
– Недавно верещал, а сейчас не знаю… Его бы на берег, к Матвею. Никто же больше не расскажет, что с Осьмой и ребятами случилось.
– Ну уж и никто! Ляхов поспрошаем, целых пять штук живьем взяли… Правда, один без руки, а другой без глаз, но говорить-то смогут… Ты чего, парень?
На Мишку вдруг накатила волна тошноты, он ухватился за планширь, перегнулся через борт и его вырвало прямо в стоящий под бортом насад огневцев.
– А-а-й! Вы что там, дырка сзаду, охренели совсем?! – раздалось снизу. – То люди, понимаешь, сыплются, то это самое, дырка сзаду, блюют прямо на голову!
Орал мужик совершенно разбойного вида, владелец столь объемного брюха, что, казалось, кольчуга на нем вот-вот лопнет.
– Не сердись, дядя, не в тебя целились! – миролюбиво заявил Арсений, придерживая Мишку за рубаху. – Ты бы хоть предупредил, что ли, чтоб левее блевали… или в сторонку отъехал бы.
– Еще б ты в меня целился! – мужик воинственно выставил лохматую бороду. – Куда ж тут отъезжать-то? – Там, дырка сзаду, бабы связанные падают, тут, понимаешь, харч метают… Что дальше? Оправляться на голову станете?
– Не, дядя! – Арсений отрицательно помотал головой. – Я, правда, собирался как раз, но ты голос вовремя подал.
– Благодарствую, «племянничек»! – мужик смачно сплюнул за борт. – Так и кукарекать теперь, чтобы насад с нужником не перепутали? А вот ни хрена, дырка сзаду! Только попробуй! Я вот возьму секиру, да вдоль струи лезвием, куда достану, туда достану, не обессудь!
– У-у-у, дядя! Так тогда дырка не сзаду, а спереду выйдет! – Арсений сокрушенно вздохнул. – Ничего не поделаешь, чтобы стать твою не рушить, придется мне не малую, а большую нужду на тебя справлять…
Еще пятеро огневцев, сидевших в насаде и с удовольствием внимавших куртуазной беседе, дружно заржали. Их не менее дружно поддержали несколько собравшихся у борта ратнинцев.
– Хотя тоже не получится, – перекрывая смех, повысил голос Арсений, – у меня там одна дырка уже есть!
Мужик разбойного вида тоже ощерился в улыбке.
– Разговорчивый, дырка сзаду. Откуда вы только взялись на нашу… гм, голову.
– Ратнинские мы.
– Сотника Корнея, что ли?
– Бери выше, дядя! Воеводы Погорынского Корнея Агеича!
– Ишь ты, дырка сзаду… воеводы… – мужик поскреб в бороде. – А что, Леха Рябой не с вами, случайно?
Арсений напыжился и вопросил судейским тоном:
– А кто ты таков и что у тебя за дело до боярина Алексея Трофимыча?
Огневцы отвесили челюсти, а ратнинцы заухмылялись – спектакль продолжался. Мишку от знакомого с юности солдатского юмора даже тошнота подотпустила.
– Так это… боярина? Какого боярина? Ты мне голову не крути, дырка сзаду! Я свояк Лехин, Семен Дырка!
– Сзаду?
– Со всех сторон, свистеть те в грызло! Какой боярин? Он десятником у вас!
– Господин сотник, дозволь обратиться, урядник Степан! – донеслось сзади.
– Обращайся!
Мишка начал поворачивать голову и замер – после секундной тишины ратнинцы взорвались буквально гомерическим хохотом. Опустив глаза, он понял, что смеяться было над чем! Чего стоили одни только выпученные глаза Семена Дырки!
Явный перебор: то Корней оказывается воеводой Погорынским, то свояк Леха Рябой – непонятно как в бояре залетел, то вот этого сопляка, с прямо на глазах опухающей губой, нагадившего в насад и удерживаемого за шиворот ратником, величают сотником. Дырка сзаду, иначе и не скажешь!
– Ну, что с ним? – Мишка подбородком указал на лежащего прямо на земле и громко стонущего Спиридона. – Что-то ты долго с ним возился.
– Плохо с ним, – Матвей поморщился. – Если выживет, будет одноглазым чудищем, без зубов и… да сам все видишь, рожи, считай, нету совсем. Только не выживет, сразу-то не помрет, но не жилец.
– Что, нутро отбили?
– Да там и без нутра… хватает, – Матвей безнадежно махнул рукой. – Остатки глаза вынимать нужно, а я этого не делал никогда, даже и разговоров о таком не слыхал, и руку надо по самое плечо… Тоже не умею и снасти нужной нет, не топором же рубить. Бурей на том берегу, Илья тоже… и возиться с этим упырем… да пошел он!
– Я тебя насчет следов пыток посмотреть просил. Как с этим?
– Не пытали его.
– Уверен?
– Ну, может, в морду пару раз и дали, так сейчас и не разглядишь, а ни ожогов, ни увечий… ну, кроме сегодняшнего, ничего такого нет.
Мишка задумался. Получалось, что Спиридон пошел на предательство – навел ляхов на Княжий погост, Хутора и, по крайней мере, еще на одно селище – просто со страха. Здесь, на Княжьем погосте, приставив ножи к горлу детей, ляхи заставили служить проводниками еще нескольких человек, но началось все именно со Спиридона.
Из невнятного шепелявого бормотания, перемежаемого стонами и всхлипываниями, Мишка понял, что сам Спиридон виноватым себя не считает или не признает. По его словам, возле самого впадения Горыни в Припять на ладью напал целый ляшский флот. Двух гребцов и кормщика убили сразу, Осьму и кого-то из ребят ранили, но они сбежали с ладьи, бросив несчастного Спиридона одного на растерзание ляхам, и он под пытками вынужден был показать дорогу на Княжий погост. Теперь Матвей говорит, что следов пыток на теле приказчика нет…
– Так… Слушай, Моть, а стоять-то он сможет? Ну, хоть полчасика выстоит?
– А чего ж не выстоять? Ноги-то у него как раз целы, – Матвей пожал плечами. – Только надо, чтобы его придерживал кто-нибудь… или головню горящую рядом держать.
– Головню?
– Угу. Прижигать, чтоб не притворялся, а то завалится и сделает вид, что без памяти. Слушай, Минь, а зачем надо, чтобы он стоял?
– Судить его буду. Лесовики, вишь, хотят его по своему обычаю деревьями разодрать, пришлось даже самострелами пугнуть, а я кой-чего поинтереснее придумал, только не знаю, выйдет ли.
– А чего придумал-то?
– Увидишь. Вон, Егор с Треской идут, сейчас опять про раздирание деревьями талдычить будут.
– Михайла! – заговорил десятник Егор, едва миновав отроков, охранявших Спиридона. – Чего ты эту гнусь бережешь? Отдай его дреговичам – и по справедливости, и нам возни меньше.
– Нет, дядька Егор, я его судить буду.
– А ну, хватит! Заигрался в сотника! Тут и постарше тебя мужи есть, и они решили…
– По возрасту да! – перебил Мишка. – А по знатности нет! Господин воевода Погорынский на том берегу Случи, все бояре там же, а из бояричей старший я!
– Ты что, головой ушибся, соп… – Егор запнулся, так и недоговорив слово «сопляк».
– Я! – чуть напряг голос Мишка. – Я буду судить, я буду и ответ держать перед воеводой, а доведется, так и перед князем Вячеславом Владимировичем! Ибо сказано: «В смерти волен только князь!» И если он захочет узнать, был ли перед казнью суд, кто судил и как судил – отвечу! Князь меня знает, и роду я не худого!
Мишкины аргументы оказались для Егора явно неожиданными, да тут еще и Треска сунулся не вовремя и не по делу – по-прежнему игнорируя боярича, он повернулся к Егору и спросил:
– Это что ж, у вас все сопляки такие борзые?
Егор зло дернул плечом и сказал, как отрубил:
– Иных в младшей дружине не держим! – помолчал и добавил уже другим тоном: – Верши суд… боярич. Бурея нет, но у Глеба в десятке Гурьян… тоже умеет. Я ему велю к тебе подойти.
Суд много времени не занял. Мишка сидел на крыльце боярского дома и выслушивал свидетелей – по паре человек с Хуторов, Княжьего погоста и из пленников, освобожденных на ладье. Попытки красочно живописать зверства ляхов он пресекал с самого начала, интересуясь только свидетельствами предательства Спиридона. А сомнений в предательстве не осталось ни малейших – плененные на ладье ляхи подтвердили, что весь экипаж ладьи, кроме троих убитых, успел сбежать на берег, предварительно убив и ранив более полутора десятков нападающих, а Спиридона обнаружили забившимся под кормовой настил. Сгоряча его, конечно, поколотили, и он сам (сам!) предложил показать дорогу к богатым селищам, стоящим недалеко от берега Случи.
Опричники, пощелкивая кнутами, пресекали шум в толпе зрителей, а десятник Егор (Мишка все больше и больше удивлялся его поведению) стоял на крыльце рядом с покрытой ковром скамьей, на которой восседал боярич, и всем своим видом показывал, что все идет так, как и должно идти.
С другой стороны стоял Треска, которого Мишка вызвал из толпы и в самых вежливых выражениях попросил наблюдать за ходом судебного процесса со стороны дреговичей.
Далеко на заднем плане ратник Гурьян, связав вместе несколько тетив от трофейных луков и подвесив к ним подкову, совершал некие загадочные манипуляции возле дерева, что именно он делает с такого расстояния, было не разобрать. Спиридон выглядел не просто плохо, а прямо-таки по пословице «Краше в гроб кладут», но на ногах держался – хватило и однократного взбадривания «методом горящей головни», рекомендованного Матвеем, чтобы приказчик прекратил попытки изобразить из себя «живой труп».
– Итак, приказчик купца Никифора из Турова Спиридон обвиняется в том, что указал ворогам дорогу к нашим селищам и стал, тем самым, причиной многочисленных смертей, увечий, бесчестья и иных несчастий жителей Погорынского воеводства! – Мишка слегка притопнул ногой по верхней ступеньке крыльца, как бы утверждая свои слова. – Есть ли тут кто-нибудь, кто может опровергнуть обвинение? – Мишка держал паузу, переводя взгляд справа налево, пока в толпе не утих говор. – Есть ли кто-нибудь, кто хочет сказать что-то в защиту приказчика Спиридона? – снова длинная пауза, и снова желающих не нашлось. – Ты, Спиридон, что можешь сказать в свое оправдание?
– Меня пытали!!! – И откуда у этого сморчка взялись силы, чтобы так орать? – Огнем жгли!!! Боярич, пощади!!! Ногами топтали!!! Кости ломали!!! Боярич!!! Меня бросили одного, в лапы ляхам отдали!!!
Мишка некоторое время послушал его вопли, потом кивнул уряднику Степану.
Тот пихнул Спиридона и буркнул:
– Заткнись говнюк! – видя, что приказчик не внемлет, демонстративно потянулся к жаровне и спросил: – Еще раз прижечь?
Спиридон заткнулся.
– Лекарский ученик отрок Матвей осмотрел приказчика Спиридона незадолго до суда. Кто из взрослых ратников возьмется отвечать за правдивость слов отрока Матвея?
– Я! – ратник Арсений положил руку на плечо Матвею и вытолкнул того из первого ряда зрителей. – Я, ратник второго десятка ратнинской сотни Арсений сын Андреев из рода Боспорца, берусь отвечать за правдивость речей отрока Матвея!
«Ох, ничего себе! „Боспорца“ означает жителя Боспора, значит, его пращур пришел с князем Мстиславом из Крыма! Да не просто пришел – кличка „Боспорец“ означает, что кто-то из предков Арсения появился в дружине Мстислава, когда тот еще не перешел на крымский берег Керченского пролива и не переименовал Боспор в Корчев».
– Лекарский ученик Матвей, достаточно ли ты обучен, чтобы различить следы пыток недельной давности? Как ты можешь отличить их от повреждений, которые Спиридон получил сегодня?
– Обучен достаточно, боярич! Ожогов на Спиридоне нет, так что про огонь он врал! А другие…
– Я не спрашивал тебя, врал он или нет! Это не тебе решать! Ожогов нет. Дальше!
– Старые побои опухают, заплывают синяками, а за неделю синяки изменили бы цвет. Ничего этого я на Спиридоне не увидел. И выбитый глаз за неделю загнил бы, и кожу на голову я обратно натянуть бы не сумел… Если надо, я могу с него повязки и лубок снять, сами увидите!
– Все?
– Не пытали его! Все!
– Оправдания твои, Спиридон, ложные! В защиту твою…
– Боярич!!!
– Молчать! В защиту твою никто ничего сказать не смог. И ты сам не смог, а потому слушай приговор! За злодейство твое, кое подтверждено свидетелями и очевидно из произошедших событий, приговариваю тебя к смерти!
– Боя… а-а-а!!!
– Так и держи его, Степан, не давай орать! Приговариваю к смерти! Приговор велю исполнить немедля! Погостному писарю велю составить запись о суде, в коей привести слова свидетелей, слова лекарского ученика Матвея и слова самого Спиридона. Оную запись велю представить на подпись мне, десятнику Егору и честному мужу Треске из Уньцева Увоза!
Слева – оттуда, где стоял Треска – раздалось громкое сопение.
«Вот-вот, посопи-посопи, честной муж. Приговоры-то, поди, ни разу в жизни не подписывал? Да и не видал, наверняка, ни разу. Вот мы твою „юридическую девственность“ и порушим. А ты как думал? Я же не случайно всех нас одним термином „жители Погорынского воеводства“ поименовал. Привыкай».
– Судебную запись передать боярину Федору, а противень[49] переслать воеводе Погорынскому боярину Кириллу! – Мишка прервался, вспоминая, не забыл ли чего, не вспомнил и указал на Спиридона.
– Взять! Туда его, под дерево! Антон, коня!
Визжащего Спиридона поволокли к Гурьяну, Мишка поехал следом. Дождавшись, пока к месту казни подтянется толпа, а Спиридона пинками и руганью заставят встать на низкий, толстый чурбан, Мишка набрал в грудь воздуха и заговорил в полный голос:
– Жители Погорынского воеводства! Иуда Искариот, предавший Господа Бога нашего Иисуса Христа, мучимый угрызениями совести, повесился на осине. В тот миг, когда на шее Иуды затянулась петля, дерево вздрогнуло от ужаса и омерзения, и с тех пор листья всех осин всегда дрожат на ветру! Дрожат, а с изнанки имеют цвет тех самых тридцати сребреников, которые Иуда Искариот получил за предательство! Если же ободрать кору на осине, то под ней выступит сок цвета запекшейся крови Иуды! Сие есть указание нам – как надобно поступать с предателями!
Мишка потянул паузу, а потом, обернувшись в седле, выкрикнул:
– Честной муж Гурьян, верши справедливое дело!
Гурьян вышиб из-под ног Спиридона опору. Чурбан был низкий, а жильная тетива, из которой Гурьян соорудил удавку, спружинила, поэтому Спиридону не сломало шею. Он забился в воздухе, пытаясь подсунуть пальцы здоровой руки под петлю, но жила врезалась в шею, и ничего не получилось. Петля не затянулась: Мишка перед судом взялся было объяснять Гурьяну, как надо завязывать «беседочный» узел, но оказалось, что тот и сам знает всякие хитрости, которые можно устраивать с жильной тетивой, и обещал, что петля затянется только так, чтобы из нее не выскочила голова Спирьки, а намертво не сожмется. Нога повешенного вдруг наткнулась на выступающее из земли корневище, и Спиридон, оттолкнувшись от него пальцами, немного подал тело вверх, ослабляя давление петли. Потом пальцы сорвались с опоры, и жила снова впилась в шею. Бьющееся тело опять нащупало корневище, и все повторилось.
Мишка отвернулся. Так могло продолжаться довольно долго – тело Спиридона управлялось сейчас не осмысленной жаждой жизни, а звериным инстинктом самосохранения, и пока не иссякнут силы… Толпа потрясенно молчала. Возможно, кто-то и слыхал о подобном способе казни, но не видел его, скорее всего, никто. Даже Гурьян, когда Мишка объяснял ему, что и как надо сделать, смотрел на боярича со смесью удивления, страха и, кажется, уважения, а сняв мерку со Спиридона, пробормотал (впрочем, достаточно разборчиво):
– Такого даже Бурей не делал.
«Вот и пусть тебя, паскуда, удавит столько раз, сколько людей из-за тебя погибло!»
* * *
Сотник младшей дружины Погорынского воеводства Михайла Лисовин, он же беглый «зек» Михаил Ратников, осужденный по части 1 статьи 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны), стоял на кормовом помосте ладьи и смотрел на медленно удаляющийся западный берег Случи.
Погорынье… Четыре с лишним года назад он был перенесен сюда, то ли игрой случая, то ли силой науки, то ли волей кого-то из богов, а через два года осознал себя в теле двенадцатилетнего мальчишки. Что же случилось с ним за эти два года? Нет, конечно же, путь от слабенького подростка, неспособного противостоять в драке более сильным сверстникам, до боярича, стоящего во главе сотни мальчишек, постепенно превращающихся во все более и более серьезную силу – тоже путь, отнюдь не простой, но только ли в этом итог прошедших лет?
Он узнал людей, для которых война – не только профессия, спасение и дело чести, но и сама жизнь. Они сделали с ним то, что не удалось офицерам во время срочной службы в армии – он стал одним из них. Принял их взгляд на действительность, их понимание своих обязанностей и их видение своей ответственности: «Если не я, то кто? Никто не придет и не справится с твоими бедами вместо тебя, ты есть, прежде всего, то, на что способен сам!» В этом их честь, в этом их право и правда, в этом их вера… вера?
Да, и вера тоже! Нет, он не уверовал ни в богов славянских, ни в богов, принесенных варягами, ни в бога христиан, но понял: даже если богов не существует, они все равно правят этим миром, потому что вера управляет поведением людей, живущих в этом мире. Не подчиняясь законам, диктуемым верой, не выжить, а потому, если не способен уверовать, то пойми! Не веру пойми – её понять невозможно, на то она и вера – людей пойми, и тогда, может быть, и для тебя самого там, за гранью реальности, станет не так пусто и холодно.
И, казалось бы, с простым выражением: «Делай, что должен, и будь что будет» – тоже, как выяснилось, не все так просто. Во-первых, надо еще правильно понять свой долг, а во-вторых, суметь его исполнить! Неумехи, пусть даже правильно все понимающие, ничего не могут, а без понимания не помогут никакие умения. За два года жизнь продемонстрировала это Мишке Лисовину неоднократно.
И управление ЗДЕСЬ иное. Да, управленческие технологии действуют и ЗДЕСЬ, слегка иначе, но действуют, однако возможности управленца и спрос с него – принципиально иные! Управленец ЗДЕСЬ может карать вплоть до смерти (что и в ХХ веке возможно), но и сам он, если не справится, запросто может ответить головой (а вот это ТАМ редкость). Ответственность объекта и субъекта управления одинакова – вплоть до высшей меры, и даже высший уровень управления ЗДЕСЬ от этого не застрахован. Не в силу несовершенства законодательства или неразвитости общественных отношений (хотя и эти обстоятельства, разумеется, наличествуют), а еще и потому, что управлять приходится настоящими МУЖЧИНАМИ и настоящими ЖЕНЩИНАМИ, которых еще много и которые пока не дают захлестнуть себя теплой, мутной и вонючей волне субпассионариев.
Вот и получается, что ЗДЕСЬ просто не может существовать часть 1 статьи 108 УК РФ! ЗДЕСЬ платят головой не только за покушение на жизнь, но и за покушение на честь! Хамы и подлецы сто раз задумаются, прежде чем сотворить мерзость, потому что покойнику не помогут ни связи, ни деньги, ни адвокаты, ни «общественное мнение», а если смолчал и стерпел – с тобой будут так же поступать и впредь!
Да! Надо было с головой окунуться в реалии XII века, чтобы еще раз убедиться: тогда – в 1999 году – он был прав, он поступил, как МУЖЧИНА, и вторую жизнь он имеет право рассматривать, как награду за поступок, который ТАМ рассматривается как преступление, а ЗДЕСЬ – как норма. Значит, ЗДЕСЬ ему и жить, ЗДЕСЬ управлять людьми, понимая и принимая здешнюю меру ответственности и… не бояться «бабочки Брэдбери», потому что незачем жалеть мир, утративший свет души!
Если умеешь и понимаешь, то делай, и будет то, что сделал ты! Если есть хоть малый шанс сделать так, чтобы Русь осталась «светло светлой и красно украшенной», на это не жаль потратить остаток жизни! А если для этого понадобится, чтобы в Степи русским именем «детей своих пугали в колыбели, а литва из болота на свет не показывалась, а венгры каменные города укрепляли железными воротами… а немцы радовались, что они далеко за синим морем», значит, надо сделать так! И тогда, может быть, не будет написано «Слово о погибели Русской земли», а европейские монархи по-прежнему будут наперебой свататься к русским принцессам, и не подадут русские князья дурного примера потомкам, покупая у чужеземцев ярлыки на княжение, и не придется царю-реформатору рубить бороды да заставлять носить иноземное платье, и не войдет в моду у интеллигенции называть собственный народ варварским, и не будут то и дело захлестывать Русь волны Смутных времен, и не будет… много чего еще не будет.
А что будет? А вот то, фундамент чему сможет заложить нынешний четырнадцатилетний мальчишка, стоящий на корме отходящей от берега ладьи! В меру своего умения и понимания, с верой в правоту своего дела и своего долга, в силу любви к своей стране и своему народу! И пусть корчатся причинно-следственные связи, горят огнем еще не написанные архивы, сгинут, не свершившись, исторические события! Четырнадцатилетний мальчишка – русский и мужского пола, в этом его правда и сила!
«М-да, досточтимый сэр Майкл, удобная штука этот ретроградный анализ – сам для себя человек всегда найдет оправдание любым своим поступкам, и, что особенно приятно, это является свидетельством психического здоровья! Ну, что ж,
Опять скрипит потертое седло, И ветер холодит былую рану. Куда вас, сударь, к черту, занесло?В XII век, мсье, в XII век!»
Люди, события, разговоры
За несколько дней до начала похода
Младшей стражи на земли боярина Журавля.
Село Ратное
Настёна и Юлька
Лекарка Настена возвращалась домой, привычно изображая всем своим видом – выражением лица, походкой и осанкой – сложный комплекс уверенности, мудрости и сосредоточенности, присущий обладательнице тайного знания. Лекарка лечит не только лекарствами и наговорами, но и верой больного в ее способность победить недуг, а вера эта слагается из множества мелочей, в том числе и из внешнего вида.
Проходя мимо колодца, она вежливо, но с достоинством ответила на приветствия прервавших разговор женщин, не замедляя шага, сумела задержаться взглядом на всех четырех лицах поочередно, словно запоминая, кто и как с ней поздоровался, и делая какие-то, ей одной известные, выводы об их здоровье и настроении. Нельзя упускать ни одного случая напомнить о том, что лекарка всех знает, обо всех помнит и видит такое, что сокрыто от глаз простых смертных. И это тоже давно стало привычкой и исполнялось само собой – не отвлекая от мыслей, не изменяя настроения.
А настроение было отменным. Как-то так уж удачно сложился день: в нескольких домах хозяева похвастались намечающимся богатым урожаем, жар у холопки ратника Григория из десятка Фомы оказался обычной простудой, и не очень сильной, младший сын обозника Леонтия бросил, наконец, костыли – сломанная нога срослась, как надо, сотник Корней разговаривал ласково, интересовался: все ли хорошо, не надо ли чем помочь? И то сказать: почему бы ему ни быть ласковым, если Настена с уверенностью подтвердила, что у ключницы Листвяны, по всем признакам, ожидается мальчик? Сама Листвяна зазвала отобедать и развлекала Настену приличной к случаю беседой, не изводя расспросами на медицинские и ведовские темы, как это делало подавляющее большинство баб, которым удавалось втянуть лекарку в разговор, и, хотя была Листвяна бабой с двойным, если не с тройным, дном, обычного раздражения она у Настены сегодня не вызывала.
Обозный старшина Бурей, узрев лекарку, прервал процесс любимого времяпрепровождения – наблюдения за жизнью села поверх забора, вылез на улицу и с радостным оскалом, способным напугать до икоты даже взрослого мужика, поинтересовался: усердно ли работают холопы, посланные им к Настене для починки крыши. То, что при этом, будучи на восемь лет старше лекарки, Бурей величает ее матушкой, уже никого не удивляло – привыкли, а то, что на жуткой роже обозного старшины имеет место приветливое выражение, могла разобрать только сама Настена.
У самых речных ворот лекарку перехватила Февронья – та самая баба, которую Настена задействовала для сеанса «сексотерапии», вытаскивая Корнеева внука с кромки между явью и навью. Что ж поделаешь, если еще не старая, вполне здоровая баба страшно страдает от бездетности, не решаясь передать мужу слова лекарки о том, что вина за бесплодный брак лежит на нем, а не на ней? «Гульнуть налево» Февронья тоже отказывалась наотрез, хотя Настена и обещала сама подобрать подходящего «донора» и обеспечить «конфиденциальность», рассказывать же несчастной бабе, сколько мужиков в Ратном воспитывают не своих детей, лекарка не позволила бы себе никогда. Так вот и пришлось убеждать, мол, парень без памяти – даже и знать ничего не будет, кровь у Лисовинов добрая – ребеночек будет здоровым, да и во внешности дитя не будет ничего такого, что могло бы натолкнуть мужа Февроньи на ненужные мысли. Тем паче, что внешность Михайле уже «подправили» – сестра граблями да Марфа лучиной, теперь сходство сможет уловить только очень острый опытный взгляд, при условии, что будет знать, что искать. А вот знать-то никто и не будет. Короче, дала себя уломать баба, теперь, вот, смотрит коровьими глазами.
Не произнося ни слова, Февронья лишь с надеждой смотрела на Настену и судорожно комкала в руках холщовую сумку. Настена по-матерински улыбнулась, сказала несколько ободряющих, но на самом деле ничего не значащих, фраз, а сама внутренне замерла от вдруг возникшего ощущения: «Получилось!» Февронья, конечно же, еще ничего не почувствовала – времени-то прошло всего ничего, а Настена обостренным ведовским восприятием уловила легкий отблеск (пока только отблеск) того внутреннего света, который озаряет женщин, несущих в себе росток новой жизни.
Февронье она ничего не сказала – побоялась сглазить, да и уверенности полной не было, но настроение сделалось по-настоящему радостным. И наплевать, что улыбка одной из баб, встреченных у колодца, была вовсе и не улыбкой (ведунью не обманешь), и вслед Настене, когда она отошла достаточно далеко, наверняка была сказана какая-нибудь гадость. Лекарка давно приучила себя все замечать и запоминать, но держать чувства в узде. При нужде она без особого труда могла бы заставить ту же Варвару, якобы лицезревшую превращение Юлькиной косы в гадюку, валяться у себя в ногах и лизать сапоги. Но то – при нужде, а не для собственного удовлетворения. Сейчас же радость от удачи и без того перекрывала любые неприятные мелочи. Тем более, что радость была редчайшей – многослойной.
Во-первых, чисто женская – помогла зародиться новой жизни, сохранила разваливающуюся семью и (чего греха таить) в очередной раз «объехала» бородатого козла, и в мыслях не допускавшего, что беда была как раз в нем, а не в жене. Во-вторых, обычная, человеческая – помогла хорошим людям. В-третьих, профессиональная – все верно рассчитала и заставила события идти тем путем, который был нужен: ох, не только и не столько лекарствам тела и умы подчиняются! Ну, и в-четвертых… да, об этом никому не расскажешь, даже дочке… пока. Ни Мишка, ни Корней не знают, что в Ратном скоро появится еще один Лисовин, если, конечно, будет мальчик. Соломку-то подстилать надо не только там, где упадешь, а и в других местах… на всякий случай.
Радостно на душе, и самочувствие иное. Сразу же забылась несколько излишняя тучность, шаг сделался легким, чуть ли не девичьим, где-то внутри заиграл один из тех ритмов, которые лекарские пальцы, надавливая на нужные точки, передавали телам больных, вытаскивая их из уныния, страха, отчаяния или слабости, мышцы лица легли свободно, лоб стал как будто выше и светлее… Хорошо стало, одним словом, хоть пой. Настена приблизилась к створу Речных ворот и… словно натолкнулась на стену.
На противоположном берегу Пивени из-за деревьев выехала верхом Юлька в сопровождении кого-то их Мишкиных отроков. Они были еще далеко, подробностей не разглядеть, а Настена уже поняла: что-то не так – матери такое чувствуют, для этого вовсе не обязательно быть ведуньей. Как будто бы все нормально – юная лекарка ловко соскочила наземь, властным жестом передала отроку поводья, что-то коротко приказала, отрок послушно кивнул и поворотил коня. Как будто бы все было нормально, но…
Как только всадник скрылся за деревьями, Юлька перестала быть привычной Юлькой – ссутулилась, повесила голову и медленно побрела к мосткам через Пивень. Мать, стоящую возле створки ворот она не заметила, да и вообще, вряд ли замечала что-либо вокруг – весь ее вид свидетельствовал о каком-то тяжком горе, захватившем сознание настолько, что окружающий мир сделался чем-то неважным, второстепенным. И это Юлька, сызмальства приученная держать себя на людях достойно, как бы тяжело ни приходилось!
Уже подходя к берегу, дочка мазнула рукавом по лицу, не то утирая нос, не то смахивая слезы – Настена не разобрала. Сердце защемило жалостью и тоскливым предчувствием, мгновенно разрушившими недавнюю радость, и сразу стало понятно, что девчонку пригнала домой не какая-то мелочь, представляющаяся катастрофой в тринадцать лет, а что-то действительно серьезное.
Когда Юлька, сойдя с мостков, повернула прочь от ворот в тыне и побрела вдоль берега в сторону лекарской избушки, Настена наконец стронулась с места и размашистой, почти мужской, походкой зашагала вдогонку дочери. Догнав, не стала ни окликать, ни расспрашивать, просто пошла рядом.
В последнее время во взаимоотношениях между матерью и дочкой произошли существенные перемены, и Настена все чаще стала ловить себя на мысли, что Юлька ведет себя с ней не как с матерью, а как со старшей сестрой или, наоборот, как с выжившей из ума древней старухой. Все было вроде бы понятно – дочка стремительно превращалась из девочки в девушку, ведовской силой уже превзошла мать, но иногда так хотелось задать ей трепку… Останавливало лишь непреложное правило – с лекаркой ничего нельзя делать против ее воли, ни к чему нельзя принуждать: потеряет уверенность в себе, тут же потеряет и лекарскую силу. Было, впрочем, и еще одно обстоятельство – Настена прекрасно понимала, что своим суровым, лишенным всяких сантиментов и нежностей характером сама превращала дочку в ощетинившегося во все стороны колючками ежика.
Но кто же объяснит соплюшке, что под любым, самым суровым и строгим внешним видом скрыто любящее материнское сердце, кто расскажет, как выхаживала она почти нежизнеспособное крошечное существо – наследницу многих поколений ведуний-лекарок, сколько слез выплакала, как сама терзалась, превращая, через боль и тяготы, слабое и безвольное тельце в крепкий и энергичный организм? Какими словами описать, через что ей – ведунье – пришлось переступить, чтобы самой, по своей воле, предать дочку обряду крещения? Сколько любви и нежности было вложено, сколько бессонных ночей, сколько раз приходилось ради пользы душить в себе жалость и сострадание… Не расскажешь, сама поймет, когда сама родит – дети отдают долги не родителям, а своим детям, на том и стоит род людской от Одинца и Девы.
«Во многой мудрости многие печали» – говорят христиане. Правду говорят! Любая бы мать начала со слов «Что случилось, доченька?», а Настена молчала, хотя эти слова так и рвались наружу. Молчала, потому что знала: одно неверное слово, даже не слово, а интонация, и слезы у Юльки мгновенно перерастут в озлобление – великую цену запрашивают светлые боги славянские за ведовское искусство, а если смертные еще и дерзают подправить работу богов, цена и вовсе может стать непомерной.
Так и шли, рядом молча, и неизвестно, кому из ведуний было тяжелее – младшей или старшей. Младшей было больно только за себя, а старшей – и за себя, и за младшую, но старшая знала, что почти из любого трудного положения можно найти выход, и еще она знала, что время лечит. У молодых лечит, а старикам до забвения просто не дожить. Светлые боги, какой же старухой она себя сейчас чувствовала!
Юлька ничем не показывала, что замечает идущую рядом мать. Шла молча, глядя себе под ноги, была напряжена, как тетива лука, и так же готова отозваться на любое прикосновение, но ни слова, ни жеста. Наконец, Настена не выдержала:
– Расскажешь, что случилось?
– Ничего… все хорошо, – голос дочери не дрогнул: ни всхлипов, ни вздохов.
– Совсем все хорошо не бывает никогда, – Настена тоже ничем не выдала своего состояния, хотя чего ей это стоило, знала только она одна, – а тебе сейчас плохо. Ну-ка, что надо делать, когда больному плохо, а сам он ничего рассказать не может?
– Признаки болезни искать… – голос Юльки был спокоен до безжизненности, но хоть отвечала, и то хлеб.
– Признаков нет, ты здорова, значит, что-то произошло. Я хочу знать: что?
И это – тоже плата за ведовское искусство. Обычная баба уже давно орала бы на дочку или на пару с ней обливалась бы слезами, а Настена держала сама себя, будто кузнец клещами раскаленную поковку, и жгло ее так же, как железо в горне, но оказаться слабее дочери – погубить все. Вот и получалось вместо «доченька, милая, кровинушка моя, да кто ж тебя изобидел?» – «я хочу знать…».
Настена сначала спросила, а потом поняла, что не вовремя – сказалось эмоциональное напряжение – они как раз подошли к дому, и у Юльки, пока проходили в калитку, потом заходили в дом, был повод не отвечать. Войдя в жилую клеть, дочка уселась на лавку и, уставившись взглядом в пол, принялась переплетать перекинутую на грудь косу. Еще один тревожный признак. Движения рук, наново переплетающих нижнюю часть косы, были характерны для всех девиц без исключения. Означать они могли все, что угодно: чисто машинальное, привычное действие, способ занять руки, когда не знаешь, куда их девать, кокетство при общении с парнями, томную меланхолию, сопровождающую девичьи грезы, – существовало множество оттенков и нюансов. Только вот Юлька не делала этого никогда – от проблемы «куда девать руки?» Настена избавила дочку внушением и объяснениями давным-давно, к кокетству она склонна не была, да и вообще, ни в какие нормы и правила не вписывалась, то-то подружек среди ратнинских дев у Юльки не было ни одной.
Так хотелось сесть рядом с дочкой, обнять… Настена пересилила себя и занялась домашним хозяйством – разворошила и вздула угли в печи, подвигала туда-сюда горшки со снедью, протерла и без того стерильно чистую столешницу. Взялась, было, за веник, но подметать было нечего, принялась перебирать развешенные для просушки пучки трав, но поняв, что даже не смотрит, за какие травы берется, вздохнула и села напротив дочери, положила локти на стол, сплетя между собой пальцы, и очень внимательно вгляделась в Юльку.
– Так что же случилось, Гуня?
Ласковое прозвище «Гуня», звучавшее в устах Настены только в моменты особой душевной теплоты и близости, было маленьким секретом «кодового языка» матери и дочки. Настена употребила его непреднамеренно – само вырвалось, но оказалось, что вырвалось правильно и вовремя – Юлька отозвалась:
– Мы с Мишкой поругались…
– Удивила… а то вы раньше ни разу не ругались!
– Не поругались… не знаю, как сказать… – Юлька подняла голову, блеснув мокрыми дорожками на щеках. – Нету такого слова… Мама, это – насовсем…
– Понимаешь, значит, что сама беду накликала? Перешагнула черту, которую нельзя переходить? – Настена читала в глазах дочери, как в раскрытой книге, ей ли, ведунье, не уметь, дочке ли пытаться утаить что-то от матери? – Да, он теперь не будет ТАК смотреть – на тебя одну, не будет ТАК улыбаться – тебе одной. Вообще на тебя глядеть не станет.
Настена била словами наотмашь, не жалея, потому что… жалела. Не впервой (сколько женских и девичьих слез пролито было в лекарской избушке!), но впервые такое пришлось делать с дочерью. Била, в сущности, самоё себя, но иначе было неправильно и невозможно.
– И вернуть уже ничего нельзя! Знаю, Гуня: хочешь вернуть. Но не вернешь.
И тут Юльку, наконец, прорвало! Будто ветром сорванная с лавки, то ли с криком, то ли с рыданием, она кинулась к матери в сами собой, помимо воли Настены, раскрывшиеся объятия, и, перемежая слова всхлипами и плачем, заговорила, хоть и прерывисто, но не бессвязно – острый ум не поддался даже истерике:
– Мама! Я же не первая… такая дура… Ты же все можешь, все умеешь… Что же мне теперь?.. Как все будет?.. Ты все знаешь, есть же средство… Что делать, мама?!
Ну, вот: уже не сестра и не выжившая из ума старуха… Все вернулось на круги своя, жизнь вообще любит водить людей по кругу и не всякому дано круг этот разорвать. Так же, как и не дано знать, к счастью этот разрыв или к беде. Но, Макошь пресветлая, до чего же сладкими порой бывают слезы, как легко они размывают панцирь воли и тайных знаний, способный выдержать почти любой удар судьбы!
В маленькой избушке, спрятавшейся от посторонних глаз за прибрежными деревьями, плакали, облегчая душу, две женщины…
* * *
Солнце уже скрылось за деревьями, но его лучи еще подсвечивали редкие облака, словно разметенные в вышине гигантской метлой. Глядя на них, знающие люди сказали бы, что нынешняя ночь, а может быть и завтрашний день, будут ветреными. Только вот заниматься метеорологическими наблюдениями было некому. Стариков, традиционно снабжавших односельчан метеопрогнозами, прибрала недавняя эпидемия, а приближение непогоды воины ратнинской сотни и сами прекрасно чувствовали старыми ранами, практически независимо от возраста.
Люди и животные заканчивали дневные дела и готовились к ночи. Мужики прибирали инструменты и снасти, готовили что-то для завтрашних работ да поторапливали мальчишек, припозднившихся с выездом в ночное, бабы снимали с веревок белье, ставили киснуть молоко на ночь, собирали на стол к ужину… да мало ли дел по хозяйству! Делай – не переделаешь.
Отец Михаил, с немалым облегчением проводив тетку Алену восвояси, мрачно взирал на накрытый стол и аккуратно устроенную постель, терзаясь сомнениями и разрываясь между необходимостью исполнять предписание епископа Туровского и потребностью провести ночь в молитвенном бдении, разумеется, натощак. Коровы жевали жвачку и шумно вздыхали над своей коровьей судьбой, собаки самозабвенно чесались, выкусывали блох из шерсти и заинтересованно принюхивались к запахам еды, струящимся из открытых дверей и волоковых окошек, куры копошились и квохтали, обсиживая шестки, – всяк знал свое место и дело, от веку привычное и неизменное.
Настена и Юлька сумерничали, не зажигая света – сидели на лавке, обнявшись, и, если бы их увидел сейчас кто-то посторонний, то мог бы и не признать. Обычно строгое, даже суровое, лицо Настены помягчало, обрело черты доброты, даже нежности, а Юлька, обычно ерепенистая и упругая, как занозистая доска, умудрилась свернуться мягким, теплым клубочком где-то у матери под мышкой, уткнувшись носом сбоку в мощный Настенин бюст.
Мать и дочь негромко разговаривали. Настена – спокойно, неторопливо, с длинными паузами и обволакивающими интонациями, но не сбиваясь на «лекарский голос», потому что Юлька этот секрет уже знала и пользоваться им умела достаточно хорошо. Юлька – иногда переходя на взволнованную скороговорку, но и ее собственная поза, и умиротворяющее тепло, исходящее от матери, настолько не соответствовали торопливой речи, что, начав частить, юная лекарка почти сразу же сбавляла темп, невольно копирую неторопливый говор матери.
– Так что же случилось, Гуня? – Настена, все так же обнимая Юльку одной рукой, другой заправила за ухо дочке выбившуюся прядь волос. – Что ты такое сотворила, что самой теперь тошно? А?
– Я его стукнула… сильно… туда…
– За дело хоть?
– За дело! То есть я тогда думала, что за дело, а потом… да я вообще тогда не думала! Так неожиданно все…
– Ш-ш-ш… – Настена вроде бы ласково погладила дочь по волосам, а на самом деле слегка придержала начавшую поднимать голову Юльку. – Не спеши, Гуня, ты же чувствуешь Мишаню, можешь понимать больше, чем глазами видно. Давай-ка, с самого начала: с чего все началось…
– Да, чувствую… он мне так в спину дал… не телесно – мысленно, я думала, убьет. Как сбежала, не помню.
– Ну уж и убьет. Хотя… Мишаня может, – Настена помолчала, раздумывая. – И все ж, с чего у вас началось? Только не спеши, вспоминай не только то, что он сказал или сделал, но и что при этом чувствовал, думал. Ты же можешь.
– Могу… а тогда не могла – злая была очень. Он с Мотьки все заклятия снял, даже те, которые мы не смогли… и наши тоже снял.
Рука Настены, лежащая на плече у Юльки, чуть заметно дрогнула, но голос она сумела сохранить спокойным:
– Все? И наши тоже?
– Угу.
– Как с Татьяны?
– Даже легче, мама. – Юлька подняла глаза и выглянула из-за Настениной груди, как зверек из норки. – Помнишь, он после Татьяны в беспамятство впал? А тут даже и не почесался.
– И что ж ты?
– Ну… наговорила ему всякого… – Юная лекарка снова спрятала взгляд, немного помолчала и продолжила: – Я же разозлилась… лицом обожженным попрекнула, гневом Морены пугала, псом смердящим обозвала… еще глупости… всякие… мол, грешник – Христа и светлых богов в одну кучу свалил…
– И что Михайла при этом чувствовал? – Настена с трудом удержалась от крепкого словца, но добивать Юльку, когда той и без того было так плохо… – Обиделся, разозлился? Что ты ощутила?
– Ничего… не до того было… Дура я, только себя и слышала.
– Будет тебе казниться-то, Гуня. Первый раз, что ли, Михайлу облаяла? А может, ты ничего не почувствовала, потому что ничего и не было? Знаешь, ругань ведь, как обувка, снашивается, если долго трепать. Привычно делается и не задевает уже.
– Да я про лицо первый раз… должен был обидеться.
– И?
– Отшутился. Он часто так… как с ребенком капризным… Понимаешь, мама, он иногда так глянет… или скажет что-то… как будто ему не четырнадцать, а сорок. Знаешь, как обидно…
– Только обидно? – Настена улыбнулась и потрепала дочку по волосам. – А может быть, приятно? Такой сильный, умный, храбрый, везучий и – твой.
– Ну, да… мой… Он ничей. Нинея говорила, что он ни светлых богов, ни в Христа не верит… Ой, мама! – Юлька вскинулась и расширенными глазами уставилась на мать. – Никому требы не кладет, а удачливый! Это что? От Чернобога… или от Сатаны?
– Не поминай на ночь! – резко оборвала дочь Настена, потом сделала над собой усилие и снова заговорила мягким спокойным голосом: – Нет в Мишане ничего от темных сил, было б – ты сама почувствовала бы.
– Но как же, мама… – Юлька испуганно глянула в самый темный угол избы, словно ожидая, что прямо сейчас оттуда вылезет Мишка с рогами, с клыками и обросший шестью. – Ой, мамочка!..
– Не бойся ничего, Гунюшка.
Настена одной рукой притянула дочку к себе, а другой снова погладила ее по голове, мысленно досадуя сама на себя: сутками не смыкать глаз у постели единственного чада получалось само собой, а вот путно приласкать кровинушку так и не научилась. Не жалела Настену жизнь, ласк покойной матери она почти и не помнила, а бабка была женщиной суровой – на подзатыльники не скупилась, а приголубить сиротку…
– Не знается Мишаня ни с кем из нави, хоть нашей, хоть христианской, хоть какой другой. А удачливость… Один он, не на кого ему надеяться, а потому всегда настороже, каждый шаг рассчитывает. Думаешь, чем ты его прельстила? Покойно Мишане подле тебя, почти не приходится за собой следить, да и разговаривать с тобой можно не только о том, о чем все другие девки тараторят – душой ты ему даешь отдохнуть, нельзя же все время, как натянутый лук быть, никто такого не выдержит.
Настена умолкла и затянула паузу, раздумывая, стоит ли говорить о том, в чем сама была не очень уверена? Юлька тоже помалкивала, по-своему осмысляя сказанное матерью. Наконец ведунья решилась и заговорила снова:
– А еще, уважает он тебя.
– Ну, уж… уважает…
– Да! Мишаня к тебе после морового поветрия очень сильно переменился – понял, что ты жизнью ради больных рисковала. Для других – есть болезнь, есть и лекарь, все само собой разумеется, как есть туча, есть и дождик, иначе и быть не может. А Мишаня понял. Для воина тот, кто собой рискуя, другого спас, роднее брата кровного делается. Он, в отличие от остальных, в тебе это увидел и оценил. Бабу по достоинству оценить, с уважением отнестись, с благодарностью… редко это у них бывает, даже у самых лучших. А уж признать равной себе… почитай, никто из них не способен, явь – мужской мир. Мишаня же способен, это – редкость, повезло тебе.
– А я его…
– Вот и объясни-ка: за что? Не за то ведь, что на ругань твою отшутился? А?
– Он как-то догадался, что Мотьку на капище Морены держали и что мы с тобой пытаемся заставить его об этом забыть. Мы же добро творили, а он: «Увели, как телка с привязи», а потом еще хуже: «Мужчины Макоши не служат, себе в услужение забрать хотите»… Дурак! Что он понимает?
– Такой ли уж дурак, Гуня? Ты же видела: Мотя, за избавление от кошмаров, рабом нашим готов был стать.
– Но мы-то его рабом делать не собирались!
– Доченька, доченька… – Настена тихонько покачала головой. – Учиться тебе еще… Есть сила, которая заставляет раба на волю рваться – очень большая сила, казалось бы, нет ничего сильнее ее, да только в том-то и дело, что «казалось бы». Совсем вольным, свободным от всего на свете человек быть не может – нормальный человек. А ненормальный… Если он свободен от общежитийных правил, то становится бродягой перекати-поле – ни с кем не уживается, нигде корней надолго не пускает, для всех неудобен, противен. Если он свободен от долга и обязанностей, то ему верить ни в чем нельзя – предаст, обманет, украдет, и совесть его мучить не будет. Если он свободен от преданности роду, обычаям, земле – он враг! Приведет на свою землю иноземцев, принесет чужие нравы и предательством это не сочтет. Ну, а если он свободен от совести, любви, сострадания, то и не человек он, а зверь, убить такого – явь от скверны очистить.
Пойми, Гунюшка: нет и не может быть полной, ничем не ограниченной свободы, во всем есть мера и соразмерность. Это, как с лекарствами – одно и то же средство может и вылечить, и убить, вся разница в мере. Каждый из нас опутан узами обычаев, подчинения, любви, привязанности… много всякого. А мы еще и новые оковы на себя накрутить стремимся. Не понимаешь? А подумай-ка: какими цепями дитя к себе мать приковывает? Однако рожаем! А? Вот и Мотя… Не принял он уз, привязывающих его к жрицам Морены, как вырваться сумел, даже не представляю – от них так просто не уйдешь. Беда, наверно, какая-то приключилась – христиане капище погромили или еще что-то… Мы ведь с тобой так и не дознались, не желает парень вспоминать, страх ему память запер. Но у Свояты ему лучше показалось, а раз так, то и привязался, потому и уходить не хотел – не верил в лучшую долю. Потом к нам привязался, еще крепче, чем к Свояте. Вот и все рабство. И никто Матвея из такого рабства освободить не может. Гнали бы, не ушел!
Умный, Мишаня, а не догадался, что не освобождает Матвея, а меняет одни узы на другие – от нас к себе. А может и догадался, да так и задумывал. Ну-ка, доченька, признавайся: почувствовала, что Михайла одни узы на другие поменял, оттого и разозлилась?
– Ну…
– Даже и не думай врать мне! Почувствовала?
– Да он же не только от нас Мотьку увел! От светлых богов к Христу, тоже! Мотька теперь таким же святошей, как Роська, станет!
– Не станет! – с уверенностью возразила Настена. – Матвей на капище Морены так смерть понял, как нам с тобой и не снилось, а воин, понявший врага, втрое сильнее. Добрым лекарем Матвей станет, сильным, страстным бойцом за жизнь, а коли одна страсть душу захватила, другой туда пути уже нет – не бывать Матвею святошей. Будет лекарем, только б не помешал никто… Придется мне с Михайлой насчет Матвея, поговорить… Хм! – Настена хмыкнула и, улыбнувшись, покрутила головой. – Сопляк же еще, а ведь не говорить – думать вместе придется. Кто бы рассказал, не поверила бы…
Ладно, с Матвеем понятно, а тебе, дочка, я вот что скажу… Ты еще не знаешь, что такое жить без любви. Когда никто о тебе не вспоминает и никто тебя не ждет. Когда мужчины проходят мимо тебя, как мимо пустого места. Когда в доме не пахнет мужиком. Да, да – плохо пахнет! Но придет пора, и этот запах станет для тебя самым родным. И ты готова будешь дышать им и днем, и ночью. И это тоже называется узами – узами любви, семейными узами.
Словами этого не расскажешь, Гунюшка, язык слов – мужской язык, а наш – язык чувств. Языком слов о чувствах не поведаешь, а если попытаешься, бледная тень получится. Нет, это можно только ощутить, пережить, пропустить через себя и… помнить всю оставшуюся жизнь. Тем более, что не многим удается сохранить это – не растратить на суетное, не погубить в озлоблении, не утопить в обыденности – жизнь по-всякому оборачивается.
Не врут христиане: Бог есть любовь. Сильнее любви нет ничего, ее даже Морена одолеть не может. Если любовь есть, то все беды, несчастья, горести, болезни, увечья – все преодолимо. Хочешь – верь, не хочешь – не верь, но, даже если она безответная, тот, кто ее познал, ни на что не променяет и никогда не забудет, а уж если взаимная… Любовь – свет, любовь – радость, любовь – сила…
Настена осеклась, некоторое время помолчала, потом усмехнулась.
– Вишь ты как… Сама сказала, что словами не объяснить, и сама же объяснять взялась… старею, видать.
– Ну что ты, мама…
– Ладно, ладно… Попробую тебе так объяснить, чтобы понятно было… на простых вещах, хотя… и они тоже не просты… – Настена, слегка склонив голову, задумалась, Юлька терпеливо ждала. – Вот подумай: есть человек, за чьей спиной можно укрыться чуть ли не от всех земных бед – от скудости, неприкаянности, от людской злобы… И никто не посмеет тебя обидеть, а если посмеет… Притчей во языцех стало то, как страшна мать, защищающая своих детей, но почему никто не вспоминает, как муж защищает свою женщину? Жизни не жалеет! И не в тягость ему это, а дело чести, потребность! Вспомни-ка, как в прошлом году Михайла тебе зеркало в подарок принес. Вспомнила? Ты тогда редкий случай увидела – в мальчишке мужчина проклюнулся, он понял, что ему есть кого защищать. Можешь еще вспомнить, как Фаддей Чума озверел, когда свою Варвару раненой увидал, хоть и была она сама виновата – вылезла любопытствовать, дура, а все равно попер Фаддей, хоть и не на тех, кто в Варвару стрелу пустил, но попер не задумываясь. Да и ты уже этой сласти испробовала. Помнишь, хвасталась, как к тебе в Младшей страже уважение выказывают? Думаешь, только из-за тебя самой? Нет, еще и потому, что видят, как к тебе их старшина относится.
Но и муж, сколь бы крепок ни был, тоже за женщину прячется, хотя никто из них в этом никогда не признается, а многие и сами того не понимают. Мужам уверенность в себе нужна не меньше, чем нам – лекаркам. Женщина эту уверенность может дать. Мужам место нужно, где голову приклонить, где покойно, приятно, надежно. Женщина это место может обустроить. Муж смысленный перед другими гордится не только богатством, доблестью или умом, но еще и тем, какая у него женщина. А стать мужниной гордостью женщина может только сама, никто за нее этого сотворить не способен.
Вот так, доченька, мужчины и женщины друг в дружке опору и обретают, вот так их жизнь зависит от того, как между ними все сложится. Лишиться всего этого, как вдовы лишаются, или вообще не познать, как бабы-вековухи, горше смерти. Ну, и напоследок, то, что тебе уж и совсем понятно должно быть. Женщине без мужчины жить просто-напросто для здоровья вредно.
– А… а как же ты, мама?
– А что я? – Настена отвернулась и, хотя в избушке стало уже совсем темно, принялась что-то смахивать со стола ладонью. – У лекарок стезя особая, с простыми бабами нам равняться нечем.
– А если бы отец…
– Юлька! Ты сколько раз обещала?!
– Мам…
– Не отец он – бугай племенной! Сделал свое дело и ушел! Обо мне не вспоминает, а о тебе и слыхом не слыхивал!
– А я его найду и всю женилку отобью напрочь! Или Миньке скажу, он его на куски порубит!
– Заступница… – Настена еще крепче прижала к себе дочку и тяжело вздохнула. – Думаешь, ему сладко было, как быку на случку?.. Полтора месяца в лесу прятался, чтобы не заметил никто, пока бабка не сказала, что уходить можно. – Голос Настены предательски дрогнул. – Даже не попрощался…
– А Лукашик?
– Как прознала? – если Настена и смутилась, то по голосу ее этого совершенно не чувствовалось. – Или по селу уже треплют?
– Не-а, никто ни гу-гу. Но я ж, какая-никакая, а ведунья.
– Ведунья… – голос Настены снова потеплел. – Богатырша, за веником не видно. А Лукашик… вот уж за чьей спиной ни от чего не укроешься. На гуслях, конечно, бренчит бойко, да только и в голове один звон. Даже и язык-то за зубами держит не сам, а потому, что я ему мозги вправила. Мог бы ратником стать, я б ему наставника нашла, так нет – ему, пустозвону, и в обозе хорошо!
– Может, его в Младшую стражу пристроить?
– Староват, восемнадцать скоро. А! – Настена пренебрежительно махнула рукой. – Такой до седых волос мальчишкой будет. Отец его покойный – Проня Гусляр – таким же был. И женился-то не как люди. Вдова Пелагея Проньку как-то с дочкой в сарае застала да поленом ему все ребра и пересчитала, а через неделю, так скособоченного, под венец и погнала, чуть ли не тем же поленом. Не тот бы случай, так бы и помер холостяком. Лукашика я ни у кого не отнимаю, девки вокруг него, конечно, хороводятся – веселый, но замуж за пустозвона – разве что совсем с горя великого… Ну, или поленом, как папашу с мамашей.
– А Бурей? – Юлька, по девичьему легкомыслию уже позабыв, с чего начался разговор, бессовестно пользовалась редким настроением матери, а Настена то ли делала вид, что не замечает, то ли действительно поддалась настроению.
– Бурей? Бурей – пес. Такой пес, который за хозяйку жизнь отдаст, не задумываясь, и такой, около которого душой отмякаешь, если к страховидности его привыкнуть сможешь. Защитник – да, преданный – да, умом… тут, как посмотреть – в Ратном и дурнее его народу полно, только застрял он где-то посредине между человеком и тварью бессловесной, да такой тварью, что ее и медведь стороной обходит. Страшной тварью, но ты его не бойся – он не только сам тебя никогда не тронет, но и никому другому даже пальцем… – Настена внезапно умолкла, поразившись внезапно пришедшей в голову мысли. – Гунюшка… а ведь если бы Михайла тебя сегодня отлупил, а Бурей об этом дознался, я бы его удержать не смогла. Убил бы он Мишаню… может быть… или Михайла его…
– Что-о-о?
– Да нет, я знаю, что сильнее Бурея в Ратном мужчины нет, разве что Андрей Немой, но Михайла… нет, не страшнее, он вообще не страшный, а… опасный… да, опасный. Меня еще тогда что-то зацепило, когда он от волков отбился и мать к нам привез. Помнишь?
– Помню, только ничего такого…
– Ничего такого? Ты вдумайся: мальчонка, только что от смерти спасся – не сбежал, а победил, и что же? Голос спокойный, говорит толково, руки не трясутся, лицо не бледное. Сделал все правильно, как муж смысленный…
– Ага, и меня отчитал, когда язык распустила…
– Вот, вот! – Настена покивала головой. – И Корзень говорил: на Устиновом подворье – первый бой, со взрослыми ратниками! А он все до мелочи запомнил, словно со стороны смотрел… Да! Словно со стороны! Вот оно!
Настена зацепила указательным пальцем нижнюю губу и оттянула ее вниз, что делала только в состоянии сильного волнения или глубоко задумавшись. Юлька, приоткрыв рот, настороженно уставилась на почти неразличимую в темноте мать, контуры фигуры которой выделялись на фоне слабого свечения тлеющих в печке углей. После долгой паузы, Настена, отстранив от себя дочь, положила ей руки на плечи и, вглядываясь в едва различимое пятно Юлькиного лица, спросила:
– Ты никогда не замечала, что в Мишане как бы два человека уживаются? Один – мальчишка, обычный, как все, а второй – холодный разум… нет, не холодный, а… как бы это… в самую суть вещей глядящий.
Юлька снова испуганно стрельнула глазами в темный угол, но теперь все углы в избушке были темными, она поежилась и неуверенно ответила матери:
– Я же говорила: он иногда… как взрослый с ребенком, даже, как старик… Знаешь, я как-то только сейчас подумала… вот он отшучивается, когда другой бы или обругал, или рукам волю дал… Так же часто бывает: отец или прикрикнет, или подзатыльник даст, а дед за то же самое пожурит, улыбнется. Я же много в других семьях бываю, приходилось видеть.
Хорошо, что было темно. Настена даже зажмурилась от хлестнувшей по сердцу пронзительной жалости к дочери. «Я же в других семьях бываю», Макошь пресветлая, столь щедро одарить и тут же так беспощадно обделить, что за чужим счастьем тайком подглядывать приходится. Как же так? Знать и помнить чуть ли не обо всех жителях Ратного, а собственную дочь… Сыта, обута-одета, лекарскому делу учится с радостью, ярости озверевшей толпы не ведает, костра на месте родного дома не видела и собственной обделенности жизнью не сознает. Разумом… но душа-то тепла просит! Да не защиты от мирских бед она в Михайле ищет, как баба в муже, а доброго, всепрощающего дедушку, заботливого отца! В мальчишке? Потому что никогда не жила в нормальной семье? Или потому, что он может глянуть из детского тела стариковскими глазами? Из детского тела… От нахлынувшего ощущения жути, перекрывшего даже чувство жалости к дочке, Настена замерла, позабыв, что все еще отстраняет от себя Юльку положенными ей на плечи вытянутыми руками.
Темно-то было темно, но Юлька обостренным ведовским восприятием что-то такое почувствовала. Поведя плечами, она выскользнула из-под Настениных ладоней и сама обхватила мать руками.
– Мам, ты чего? Я же не знала, что Бурей… А Минька не опасный… и не бешеный вовсе, врут на него со зла… он добрый… Мама, ну перестань!
Юлькина ладошка осторожно размазала по щеке Настены одинокую слезу.
– Все так, Гунюшка, умничка моя…
Усилием воли лекарка попыталась взять себя в руки, получалось плоховато – хоть и знала, что успокоить себя порой бывает труднее, чем мечущегося в бреду больного, но сегодня выходило как-то уж совсем туго.
– Поздно уже, давай-ка, доченька, спать ложиться. Утро вечера мудренее… Да! Ты же голодная, ведь не ужинали мы, а ты и не обедала, наверно. Сейчас…
– Погоди, мама! А как же теперь Минька… Как я?
– Может быть, все-таки завтра?
– Ну, мам!
– Ну, хорошо, хорошо… Минька, говоришь? Значит, перестала его бояться? А?
– А я и не боя…
– Ой ли? А кто почитай ни разу за весь разговор Михайлу по имени не назвал, все «он», да «он»? Словно Нечистого накликать боялась, да по углам все зыркала.
Юлька ничего не ответила, только смущенно засопела и закопошилась, снова устраиваясь у матери под боком. Какой там муж-защитник? Вот она, главная опора и защита – мама, все знающая, все умеющая и способная укротить одним словом, да что там словом – взглядом, любого врага: хоть человека, хоть зверя, хоть… не к ночи будь помянут.
– Значит, ты Михайлу из-за Матвея… двинула?
– Нет, мам. Он… Минька как-то еще догадался, что мы с тобой им крутим, так прямо и сказал…
– Что-о-о? Мы Михайлой? Да с чего он взял?
– Ты же сама говорила, что его Нинее отдавать нельзя…
– Да ты… – от возмущения у Настены даже не сразу нашлись слова. – И ты ему такое ляпнула?
– Нет, он сам… я ничего такого…
– И ты его ударила?
– Ага…
– И этим подтвердила его догадки пустые!
– Ой, мама…
– Нет, ну надо ж такой дурехой быть! – Настена возмущенно шлепнула себя ладонью по бедру. – И Мишка тоже хорош – додумался! Да вы там все с ума посходили! Куда Анька-то смотрит? Вроде здравая баба, и Лешка ее муж бывалый… Или только друг на друга пялятся? Так там же еще и Илья – не все пока мозги пропил…
– Да Илья там за все время ни разу не напивался!
– Ну, да! Еще не хватало ему на глазах у учеников под забором в мокрых портках валяться!
– Тебя послушать, так все дураки…
– А ну, придержи язык! – не дала Юльке договорить Настена, потом умолкла сама и, сделав несколько глубоких вдохов, заговорила уже спокойным тоном: – Дите ты еще, дите… Ладно, что сделано, то сделано, уже не воротишь. Запомни, дочка, накрепко: когда говорят, что муж голова, а жена шея, и куда шея захочет, туда голова и повернется, мужчины только посмеиваются, даже и не всегда вслух, но про себя посмеиваются. Однако стоит какой-нибудь бабенке от «великого ума» в это всерьез уверовать, да еще вид показать – по этой самой шее ей однажды и накостыляют! Не можешь – не берись! А если можешь – по-настоящему, по-умному – то этого никто никогда не заметит, даже и в голову не придет! А теперь скажи-ка: Михайла зло говорил, про то, что мы им крутим, или посмеивался?
– Не то чтобы посмеивался, но как-то так… мол, вы думаете, что я не замечаю, а я все понял.
– И сама дурой выставилась, и меня выставила, благодарствую, доченька.
– Я ж не нарочно…
– Еще не хватало, чтобы нарочно! Ладно, это – не самое страшное. Слушай дальше… вот уж не думала, что доведется тебе такое объяснять, но раз уж сама не понимаешь… Такой удар, какой Михайла от тебя получил, мужчины, если их женщина ударила, считают хуже удара в спину – наравне со змеиным укусом держат. А что с ужалившей змеей творят, тебе, я думаю, объяснять не надо? И еще: такой удар на какое-то время мужа перед бабой беспомощным делает. Пусть на краткое время, но унижение это запоминается надолго, бывает, на всю жизнь. И случается, что, казалось бы, все забылось, месяцы или годы миновали, помирились давно, но случись бабе того мужа в неловкое положение поставить или высмеять, даже пошутить неудачно – все! Только кости хрустят, а он потом и сам удивляется: чего на него накатило?
Нечасто такое бывает, но случается. Бабка моя почти шестьдесят лет лекарствовала и за все это время пять таких случаев видела – две бабы калеками остались, а троих насмерть. Мне тоже одну такую у мужа отбивать довелось…
– Спасла?
– Помогли… Только проку-то? Всех передних зубов лишилась и говорить потом только шепотом могла… Да не её, дуру, жалко, сама виновата – язык до пупа. Дочка у них маленькая была, так со страху в уме повредилась… Насовсем, ничем не помочь было. Лушку убогую помнишь?
– Это которая у своей матери на могилке зимой насмерть замерзла?
– Она…
В избушке вновь повисла тишина, мать и дочь, каждая по-своему, переживали рассказанную Настеной историю. Юлька, по правде говоря, Лушку убогую помнила не слишком хорошо – маленькой еще была, но разговоров слышала много, лишь об истинной причине ее болезни не знала.
– Мам, а его как-нибудь наказали за это?
– Если б убил, сотник бы решал, а так – семейное дело. Казнился он сам потом, переживал сильно, а меньше чем через год его в бою убили. Неслучайно, как я думаю.
– Как это, неслучайно? Каялся, сам смерти искал?
– Чтобы дочку болезную сиротой оставить? Думай, что говоришь, да бабьей болтовни поменьше слушай.
– А что ж тогда?
– Да пойми ты: муж, битый бабой – не муж. Даже если не видел никто и не насмехаются, он-то сам помнит. Для смерда или ремесленника еще туда-сюда, а для воина потерять уверенность в себе – смерть в первом же бою. Если пересилит себя – нескольких врагов уложит, кровью слабость свою зальет – будет жить, а если не сможет, то смерть. Слабые на войне не живут. Я-то, когда жену у него отнимали, тоже ему врезала, да еще на людях.
– Туда?
– Да что ж ты… – Настена беззвучно шевельнула губами. – Других мест нету, что ли? Я же тебе показывала, как надо в ухо дать, чтобы оглушить! Туда, не туда… Его два раза бабы побили, и все об этом знали, что после этого от воинского духа осталось? Как наказали, как наказали… Я его наказала – к смерти приговорила! Я! А ты – Михайлу!
– Ма… – Юлька обеими руками зажала себе рот, в ее распахнутых глазах отразился красноватый блеск последних углей, дотлевающих в печи.
– Да! И не смотри на меня так! Михайлу до тебя уже дважды бабы били – сестра граблями и Марфа лучиной. И оба раза он отбиться не смог, другие выручали. А теперь ты. А он зарок дал тебя защищать, ему на тебя даже руки поднять нельзя. Ты только вдумайся: ты его бьешь, подло, как змея, жалишь, а он даже ответить не может!
– Как же… что ж теперь? Мама, его же убьют!!!
– Может, и убьют… а может, и нет, – Настена опустила голову, плечи обвисли, рука, которой она обнимала Юльку за плечи, словно потяжелела. – От него самого зависит… чувствует ли он себя униженным, утратил ли дух мужества… Глядишь, и обойдется, если душой крепок.
– А он… крепок?
– Да не знаю я! – Настена отстранилась от Юльки и беспомощно всплеснула руками. – Не знаю!
– Ты? Не знаешь?
Лекарка снова положила руки на стол, сцепив пальцы, и заговорила, глядя прямо перед собой, в темноту:
– Не знаю, не дано. Светлые боги разделили людей пополам не для того, чтобы обе половинки во всем одинаковыми были. Есть многое в нас, чего они никогда не поймут, и есть нечто в них, для нас непостижимое. Казалось бы, ну что там может быть такого? Злые, грубые, чувствами обделены, самовлюбленные – только себя видят и слышат, простые, как чурки деревянные, а поди ж ты, не понять! Иной разумом тяжел, как наковальня, мыслями и делами прямой, как бревно, а вдруг так просветлеет, таким понимающим и чувствующим сделается – чуть не в Ирий тебя вознесет… а потом опять – козел козлом. И что с ним делать? Ты видела, как они по праздникам стенка на стенку ходят? Глядеть тошно: у одного нос набок свернут, у другого глаз заплыл, у третьего зубов недочет, а на мордах восторг, чуть не в пляс пускаются! Это можно понять? С железом убойным тетешкаются, как с дитем, а оно… оно им любовью отвечает! Железо смертельное! Это возможно постигнуть? Порой глянешь – сущий петух в курятнике – всех холопок перетоптал, чуть ли не на каждую бабу масляными глазами пялится, а жену любит! По-настоящему, без притворства! В это можно поверить?
– Но, мам… ты же их лечишь. И не только тела… и я уже умею.
– Мы знаем, хоть и не понимаем. Знаем. Или чувствуем. Ты вот понимаешь, почему на них так твой лекарский голос действует? Знаешь, что действует, чувствуешь, как они отзываются, подчиняются… А причины понимаешь? Но мы-то хоть знаем, а они и знать о нас ничего не хотят, кроме одного… кобели.
– Минька не кобель…
– Угу. У каждой из нас хотя бы один «не кобель» есть, только он потом вдруг козлом оказывается… или хряком.
– А ведь ты их боишься, мама. Ни разу не сказала «муж» или «мужчина», все время: «они», «иной», «козел», «кобель»…
– Боюсь, доченька, – Настена шумно вздохнула и продолжила говорить, все так же глядя куда-то в темноту: – В каждом из них зверь дремлет. Чутко, в любой миг вскинуться готов. Хороший воевода умеет этих зверей, когда надо, пробудить всех разом. И тогда – победа, и убитых почти нет. Но не попусти светлые боги этим зверям в обыденной жизни пробудиться. Если у одного или нескольких, еще ничего – справиться можно, но если у многих…
Настена замолкла, Юлька тоже сидела, не шевелясь и не издавая ни звука: было понятно, что мать вспомнила толпу, в которой зверей пробудил не воевода, а поп. Затянувшуюся паузу прервал звук удара ладонью по столу и не то злой, не то досадливый голос матери:
– И убить-то этого зверя нельзя! Знаю способ, почти любая баба это сделать способна, но нельзя! Лишился зверя внутри – не муж! Рохля, размазня, скотина тупая и ленивая. И изменить зверя тоже нельзя, потому что и без того больше, чем у половины уроды внутри. У того же Лукашика сущий глухарь – поет, ничего вокруг не слышит и не видит. Только глухарь раз в год токует, а Лукашик все время. А есть такие… Тьфу, даже говорить неохота!
В избушке в очередной раз разлилась тишина. Темно и тихо, даже сверчок голоса не подает, только слышно, как за стенами слитно шелестят листья под порывами разгулявшегося ветра. Юлька беспокойно пошевелилась на лавке и неуверенно произнесла:
– Так тогда… мама, все же понятно.
– Да? И что ж тебе понятно? – отозвалась Настена. Несмотря на саркастическое построение фразы, в голосе ее не чувствовалось насмешки, скорее, раздумье.
– Ну, ты говорила: не понять, не постигнуть, не поверить… А если они так своего зверя тешат? То есть не тешат, а кормят, только не мясом там или другой едой, а чувствами. Вот помахали они кулаками, друг другу рожи синяками украсили – зверь насытился и радуется, и они вместе с ним. Или этот, который как петух в курятнике… У каждого зверя, наверно, свое любимое яство есть – одному одно подавай, другому другое… А кто не может зверя удоволить, хмельным его заливает, чтобы душу когтями не драл.
– Хм, а оружие? Как мертвое железо любить способно? А?
– Так оно – продолжение руки, само шевелиться должно, в бою раздумывать некогда.
– Ну, дочка, это каждый дурак знает. Упражняйся, пока оружие тебе, как собственное тело подчиняться не станет. Подчиняться! А тут – любовь…
– Да не о том я, мама! Я подсмотрела, как дядька Алексей Миньку учит. «Ощути себя клинком. Ты весь напряжен, чуть не до дрожи, тебя огонь жжет нестерпимо, а загасить это пламя можно только вражьей кровью. Сил уже нет терпеть, а тебе все мешают: вражье оружие тебя в сторону уводит, щит и доспех препоны ставят, враг увернуться норовит. Прорвись, проломись, пробейся, растолкай и расшвыряй всех, обойди, извернись, обмани и настигни! Обопрись на руку, а через нее на все тело, они тебя поддержат, помогут, им тоже невмочь этот жар терпеть». Страстно так говорил, как будто его и вправду жжет. Я не знаю… я пробовала себя клинком представить, не могу. Молнией могу, а клинком нет.
– В том-то и дело, что не представить… – Настена помолчала и опять в сердцах хлопнула ладонью по столу. – И ведь разум умудряются сохранить! Алексея послушать – безумец, крови алчущий, ничего вокруг не видящий и не понимающий, а сколько лет степняков резал, и ни изловить, ни убить его не смогли! Выходит, сохранял здравомыслие?
Лекарка обернулась к дочери, словно ждала от нее ответа на свой вопрос, но Юлька думала о своем:
– Так, может, и Минька сохранит… ну, здравомыслие?.. А, мам? Он же спокойный такой, а иногда и вообще, как будто и не здесь…
– Не от мира сего… – негромко проговорила Настена, потом повернулась к дочери, взяла ее за руку и требовательно, тоном строгой лекарки, велела:
– Ну-ка, что ты там говорила про то, что он к тебе, как к капризному ребенку относится?
– Так я ж уже рассказала…
Юлька осеклась, потому что Настена, без окрика или замечания, одним требовательным сжатием пальцев, заставила ее сменить тон и сосредоточиться. Теперь это был уже не разговор матери с дочерью – ведунья работала.
– Иногда ведет себя, как старик, – заговорила Юлька тоном старательной ученицы, – там, где мальчишка обругал бы или драться полез, он или отшутится или снисходительно так глянет. Бывает, что как бы со стороны на все смотрит. А еще Митька клялся, что однажды глянул на Михайлу, а у того лицо стариковское. Я тогда не поверила, а теперь… даже и не знаю.
– Что-то еще замечала?
– Ну… умный он, знает много… Да! Я еще заметила, что он в Младшей страже властвует так, будто иначе и быть не может, а отроки это чувствуют и подчиняются, хотя и постарше его на год-полтора есть.
– Снисходителен и в праве повелевать не сомневается, – задумчиво пробормотала Настена. – Что-то ты еще поминала… что-то меня зацепило… – Лекарка приподняла руку потеребить нижнюю губу, но не донесла пальцы до рта. – А! Ты его попрекала, что он и Христа и светлых богов в кучу свалил. Так?
– Так.
– А как это было?
– Я сама не видела, мне Роська рассказал. Минь… Михайла, когда с Моти заклятья снимал, заговор творил землей, водой, огнем, ветром и животворящим крестом. Разве так можно?
– Погоди, доченька, погоди. Четырьмя стихиями и крестом… Кого-нибудь из светлых богов поминал?
– Нет, Роська бы запомнил. Он же святоша, для него светлые боги…
– Да знаю я! Перуна точно не поминал?
– Да нет же! Роська бы обязательно… А что такое, мама?
– Угу, – невпопад отозвалась Настена и надолго замолчала.
Юлька затихла. Хоть и ей не терпелось выяснить, что же погрузило мать в столь глубокую задумчивость, юная лекарка знала, что отвлекать Настену от размышлений нельзя – во-первых, бесполезно, а во-вторых, можно было нарваться на подзатыльник – старшая ведунья на руку была скора. Наконец, Настена пошевелилась, меняя позу, перевела дух, словно после тяжелой работы, и пробормотала, скорее размышляя вслух, чем объясняя что-то Юльке:
– Вроде бы все сходится, только вот Перуна не помянул почему-то… Или потому, что обряда еще не прошел?
– Что сходится, мама? Какой обряд?
– Как тебе сказать… Помнишь, я тебе объясняла, что дети иногда рождаются похожими не на родителей, а на кого-то из дальних пращуров?
– Ага, как Борька Мешок – рыжий, конопатый, а в роду никого рыжих нет. Потом только вспомнили, что прапрадед таким же был.
– Верно, – подтвердила Настена. – Еще считается, что так же могут и черты характера передаваться: горячность, спокойствие, привычки какие-то… Так или не так, сказать трудно – это ж надо чем-то таким отличаться, чтобы и через несколько поколений помнили, но многие считают, что это возможно, во всяком случае, родовые черты характера действительно существуют. А еще слыхала я, что может в человеке память предка отдаленного проснуться. Сама-то я такого никогда не видала – редкость это великая, но рассказывала мне об этом женщина, которой верить можно. Вот и вспомнилась мне одна история, которая могла бы Михайловы странности объяснить.
Было это, как рассказывают, лет через двадцать-тридцать после того, как ратнинская сотня на здешние земли пришла. Резались тогда наши с дреговичами люто, говорят, что за одного убитого ратнинца пятерых лесовиков под нож пускали, а бывало, что и целые селища истребляли. Был тогда в ратнинской сотне десятник из рода Лисовинов, имени его не знаю, а прозвище сохранилось – «Крестильник», и прозвище это он не за набожность получил, а за лютость.
Случилось так, что поймали дреговичи ратнинского попа. Пытали страшно, все секрет вызнать хотели, как пришельцев извести или изгнать, но так ничего и не вызнали – принял поп венец мученический, помер под пытками. Сама понимаешь: разочлись за это с лесовиками ратнинцы сторицей – целым городищем в Погорынье меньше стало. Не щадили никого, а десятник Лисовин нашел в одном доме наперсный крест того попа и этим крестом, как кистенем, всех в том доме перебил, а потом вздел его на себя и сказал: «Пока нового священника у нас не будет, беру все ваши грехи, братия, на себя! Режь, не жалей!» Так он прозвище «Крестильник» и заработал.
Через какое-то время после той резни подстерегли дреговичи три десятка наших ратников, и один из тех десятков был десятком Крестильника. Как-то так вышло, что сошлись в поединке волхв Велесов и Крестильник, сеча прекратилась – все на них смотрят. Волхв посохом в землю ударил, заклятье сотворил и ждал, что Крестильник молитвой христианской ответит, а тот взял да и к Перуну воззвал! Велесов слуга от такого оторопел, а Крестильник цапнул его каким-то хитрым захватом и хребет сломал, голыми руками! Дреговичи от такого дела в смущение пришли, и ратнинцы их в бегство обратили, хотя и было их много меньше, чем лесовиков.
Что тут правда, что вымысел, судить не берусь, а только крест тот мне покойная Аграфена Ярославна – жена Корзня – показывала. Тяжелый, медный, весь битый, царапинами и зазубринами покрыт – хочешь не хочешь, а поверишь, что им как кистенем орудовали. А Крестильник, как говорят, под старость тихим стал, богомольным, с детишками возиться любил, но если что, то и сотнику поперек сказать не смущался.
А теперь сравни Крестильника с Михайлой – пра-пра-, не знаю сколько, внуком его. Оба клички «Бешеный» заслуживают, оба к детишкам по-доброму относятся, оба светлых богов с Христом путают, оба, при случае, супротив старшего или супротив обычая пойти и на своем поставить не боятся. А Михайла еще и из детского тела стариком глядит, да в своем праве людьми командовать не сомневается. Так вот и подумаешь: а не проснулась ли в Михайле память Крестильника?
– Ой, мама… неужто?.. – Юлька прихлопнула рот ладошкой, словно боясь высказать то, что пришло ей на ум.
– Это я тебя спросить должна: неужто? – Настена снова взяла дочку за руку. – Ты при слиянии с Михайлой ничего такого не замечала?
– Чего тако?..
Крепко сжавшиеся пальцы матери в очередной раз прервали недоуменный вопрос и заставили Юльку сосредоточиться.
– Не знаю, я же и не думала, что так… Я ж тебе уже рассказывала, что когда мы сливаемся, я и думать-то почти не могу – он думает. Он вообще сильнее меня, если чего-то утаить захочет, мне нипочем не узнать.
– Значит, и в мыслях сильнее… все одно к одному, – Настена покивала каким-то своим размышлениям. – Одно только не сходится: Перуна Михайла никогда не поминает. Ведь не поминает? А, дочка? Не слыхала никогда?
– Нет, ни разу.
– Может быть, потому, что Михайла пока еще обряда воинского посвящения не прошел?
– Какого обряда, мам?
– Перунова обряда. В чем там дело, не спрашивай, не знаю, и никто из женщин не знает. Мужчины тоже не все знают – стерегутся ратники. Твердо сказать могу только одно: наши мужи воинские христиане-то христиане, но Перуна Громовержца чтят. И есть ведь у христиан свои небесные воины: Георгий Победоносец, архистратиг Михаил, но чем-то они наших вояк не устраивают, чем – не ведаю, да только все новики через тайный обряд посвящения в воины проходят. Только после этого их в десятки берут.
Ты, дочка, только не болтай об этом. Не попусти Макошь пресветлая, кто-то из ратников решит, что ты что-то лишнее проведала – удавят в тихом уголке, не задумаются. Строго у них с этим делом.
– Да что ты, мама! Когда это я болтушкой…
– А я говорю: не проболтайся! Одного подозрения им хватит! Хрустнет горлышко и… были уже случаи.
Юлька поежилась, поелозила глазами в темноте избы, придвинулась на лавке поближе к матери и тихонько пискнула:
– Страшно-то как, мамочка. Крестильник, Перун…
– Не бойся, Гуня, – Настена снова обняла дочку за плечи и прижала к себе. – Мы же с тобой ведуньи. Так или иначе, но все равно все по-своему повернем. Ведь повернем же? А, Гунюшка?
– Да-а, а если Минька меня не простит? – совсем по-детски протянула Юлька и хлюпнула носом. – Или убьют его?
– А вот на то мы, доченька, и ведуньи, чтобы не допустить ни того, ни другого. Только сделать надо все правильно… Ну-ну, хватит кукситься, сейчас мы с тобой все хорошо обдумаем, решим, как и что, а потом… Да что б мы и не справились? У умной бабы муж на веревочке ходит, как… гм, и сам не замечает. А уж у ведуньи-то… Хорошая ведунья не только людьми, а и событиями должна уметь повелевать! Вот мы сейчас и выдумаем, как нам события в нужную сторону повернуть. А потом и повернем, вот увидишь. И не бойся ничего. Перун там или не Перун, к этому мы касательства не имеем и голову себе забивать не станем, а Крестильник, если я все правильно угадала, нам поможет.
– Как поможет?
– А так. Крестильник-то духом ой как крепок был, и уверенности в себе ему не занимать. Это ж надо – грехи всей сотни на себя взять! И сотнику перечить не боялся, а времена тогда были строгие, не то, что сейчас. Вот эта-то крепость духа Михайлу и поддержит, если в нем память пращура пробудилась.
И в тяжести твоей вины Крестильник Михайлову горячность поумерит – уж он-то в жизни всякого повидал, а к старости помягчал нравом, помягчал… Но и ты себя правильно повести должна, не ошибиться ни в коем случае – ни в слове, ни в жесте, ни во взгляде! Все должно быть так же соразмерно и гладко, как при творении лечебного наговора. И точно так же ты должна последствия любого своего слова или действия предвидеть и понимать. Значит, что?
– Что?
– Эх, Гуня, Гуня, да чему ж я тебя учила-то? Ты, когда заговор целебный творишь, для кого это делаешь, для себя или для больного?
– Для больного.
– А если для больного, то что важнее: как это тебе видится или то, что о тебе больной думает?
– То, что больной…
– А когда резать приходится, мы как себя вести должны, чтобы разговоров не пошло, будто нам живого человека полосовать нравится?
– Так что же, мам, все время оглядываться, как бы кто чего не сказал, как бы чего не подумали?
– Да! Все время, а не только, когда лечишь. Постоянно себя спрашивать: «Как я выгляжу?» и «Что обо мне подумают?»
– Да так только девки, которым замуж пора…
– А нам все время так надо, доченька. Каждый день, каждый час, каждый миг, – Настена улыбнулась в темноте и сдержалась, чтобы не добавить: «Как и всем женщинам, которые настоящими женщинами себя мыслят».
– Да так же с ума сойдешь, мама, все время за собой следить…
– И как же ты до сих пор разум сохранила, среди полутора сотен отроков обретаясь? Или не ты мне хвасталась, что никто из них тебе поперек слова сказать не смеет? Взяла б ты их под свою руку, если бы была такая, как сейчас: с мокрым носом, с писклявым голосом, у меня под мышкой прячущаяся?
– Так то отроки… и Минька приказал.
– Однако ж и ты своим видом и поведением тот приказ подтвердила! И над каждым шагом, над каждым словом не задумывалась – один раз себя поставила да так дальше и держалась. А, дочка?
– Не знаю, я как-то и не думала…
– И очень хорошо, что не задумывалась, так и надо! Запомни: как ты себя понимаешь, так ты и выглядишь. Сама же про Михайлу говорила, что он в Младшей страже властвует так, будто иначе и быть не может, а отроки это чувствуют и подчиняются. Так и ты себя сразу так поставила, что перечить тебе никому и в голову не пришло, а потом ты это ощущение в отроках все время поддерживала – лечением, строгостью, обладанием тайными для них знаниями и… близостью с их старшиной, конечно, тоже.
– Я еще кой-кому и наподдала, как ты показывала… а Минька добавил.
– И это тоже не лишнее, только увлекаться не надо. В меру, все только в меру хорошо.
– Да где она, эта мера-то? Я же Миньку… – вместо окончания фразы последовал горестный вздох.
– А ведь вы с ним похожи, в людских глазах, Гуня.
– Как это?
– Очень просто. Нас, лекарок, опасаются. Нет, уважают, конечно же, некоторые даже искренне любят или благодарны за избавление от хворей. Но живем-то мы не так, как все, знаем что-то такое, что другим недоступно, а все непонятное и необычное у простого человека опасения вызывает. А еще есть такие, что завидуют нам – власти нашей над людьми, уверенности в себе, особому положению, тебе, доченька, вдобавок, и за то, что Михайла ни на кого, кроме тебя, не смотрит. А женихом-то скоро завидным станет!
– Угу, с его-то рожей…
– Ой-ой-ой! Матери-то родной уши не заливай… и не красней, аж в темноте видно!
– Ну, мам!
– Ладно-ладно. Так, вот: завидуют, а некоторые еще и тихо ненавидят. За то, что знаем о них такое, о чем им самим даже и вспоминать неохота. Мне же, бывает, исповедуются почище, чем попу нашему. Сколько в этих стенах слез пролито, сколько тайн открыто, о скольких грехах и тайных пороках поведано… Облегчение-то они получили – иногда ничего и делать не требуется, только выслушать, но помнят ведь, что кроме них, и я теперь про все это знаю, а как им хотелось бы, чтоб никто не знал!
Ну, и сплетни, конечно, пересуды, небылицы… Ты, поди, и не догадываешься, что у тебя коса змеей оборачиваться способна? А? У Лушки, Силантьевой жены, все зубы гнилые из-за того, что я на нее косо посмотрела, а бабка Маланья слепнуть стала за то, что кричала, будто нам слишком много зерна отдают. Сама потом сына с мешком крупы прислала – извиняться. Правда, прозреть не успела – померла в моровое поветрие. И надо ж, все старики от болезни преставились, а бабка Маланья – из-за того, что я ее не простила! А еще после того, как поп наш где-нибудь святой водой покропит, ночью сюда домовые, банники, овинники и прочая мелкая нечисть прибегает – ожоги от святой воды лечить. Еще рассказывать или хватит?
– Хватит. Дураков не сеют, не жнут – сами родятся, – Юлька, несмотря на серьезность затронутой матерью темы, улыбнулась. – У нас там один из сучковских плотников тоже себе по пальцу обухом тяпнул, за то, что меня срамным словом за глаза помянул. Здоровый бугай, старшая дочь уже замужем, а как дите… – Юлька фыркнула и проблеяла козлиным голосом, передразнивая плотника. – Прости меня, девонька, принял кару за язык дурной! Такие искры из глаз летели, чуть пожар не сделался! – Мать и дочь тихонечко похихикали. – А еще, – продолжила Юлька, – девки повадились мне новые платья показывать, кто-то им ляпнул, что если я одобрю, то это к жениху хорошему. Приходится хвалить… – Юлька протяжно вздохнула. – А платья и правда красивые…
– Будет, будет тебе платье, – Настена ободряюще потрепала дочку ладонью по волосам. – Михайла свою мать уже попросил. Тебе скоро тринадцать исполнится, вот и получишь.
– Правда?
– Правда, правда. Только не проговорись, я молчать обещала. Михайла тебе нежданную радость доставить хотел. А насчет одобрения платьев, это мы с Мишкиной матерью придумали – раз уж тебе отроки подчиняются, то и на девок влияние должно быть. Так что, если наказать кого их них решишь… сама понимаешь… Только помни: кару-то она примет, но злобиться на тебя втихую будет долго. Особенно же не доверяй, если наказанная тобой вдруг ласковой да улыбчивой к тебе станет. Змеиная эта улыбка.
Так, доченька, и получается одно вслед другому: непонимание и непохожесть порождают опасение, опасение – страх, а страх легко может перерасти в ненависть. Тогда и до беды недалеко.
– Ну и останутся без лекарок, кто их лечить-то станет?
– Это они, Гуня, понимают, но только каждый по отдельности, а если в толпу соберутся… Толпа – зверь безумный, у нее только два чувства есть – страх или ярость. Либо бежать, либо нападать… Так-то.
– Ты говорила, что Бурей…
– Да, Бурей защита отменная, но только от одного человека или от нескольких, а от толпы… Его же первого и порвут – он ведь тоже страшен и непонятен.
– И что же, все время беды ждать, никак не защититься? Мам, это же не жизнь, а… я даже не знаю…
– Ну почему же не защититься? Для этого нам ум да знания и даны. Только постороннему взгляду наша защита не должна быть видна. Вот как обычный человек на сплетни да небылицы о себе отзывается? Злится, ругается, обиду таит, в драку полезть может, еще что-то такое же… А мы? Ты когда-нибудь слышала, чтобы я отругивалась или оправдывалась?
– Нет, не слыхала.
– Правильно, доченька, никогда. Больше скажу: я иногда, незаметно, еще и сама им повод для дурацкой трепотни подкидываю – такой, какой мне требуется. Ну, к примеру, как с теми же платьями. Спросишь: для чего? А для того, чтобы в нас непонятности меньше стало. Зачем, ты думаешь, люди про нас всякие байки сочиняют, даже самые глупые? Они так нас познать и понять пытаются. Вот нарисуют у себя в голове наш образ, пусть неверный, пусть дурацкий, и становится им легче – вроде бы как узнали о нас что-то. И чем полнее этот образ, чем меньше он места для недоумения оставляет, тем понятнее им: как мы в том или ином случае себя поведем, как на то или иное слово или дело отзовемся, проще говоря, как с нами нужно себя вести. А когда знаешь, как в том или ином случае поступать, страх сразу унимается, потому что страшнее всего неизвестность.
Нам же надо уловить, каким наш образ им видится, стараться ему соответствовать, да потихонечку подправлять в нужную нам сторону. Ты, к примеру, можешь мозоли на языке набить, доказывая, что коса у тебя самая обыкновенная и ни в какую змею оборотиться не может. И все впустую. А можно, как-нибудь ненавязчиво, дать понять, что зимой, когда обычных змей днем с огнем не найдешь, я твою косу в змею обращаю, чтобы яд у нее взять и лекарство от ломоты в костях приготовить. Вроде бы и не оспорила, а смысл совсем другой. Те, кто болями в суставах или в спине маются, еще и одобрят. Вот так, доченька, вот так… я даже сказала бы: только так! Поняла?
– Угу… – Юлька примолкла, осмысливая сказанное матерью, потом припомнила: – Мне Минька несколько раз говорил: «Знание – сила», выходит, и про это тоже.
– Правильно! – подтвердила Настена. – Умные мысли он в книжках вычитывает, молодец.
– Это ж сколько мне еще учиться придется… Роська сказывал: учеба до конца жизни кончаться не должна…
– Роська? – удивилась Настена. – Вот уж от кого не ждала!
– Он не сам, это ему Минька когда-то объяснил. Когда ж я настоящей-то ведуньей стану?
– Женщиной, Гунюшка, женщиной! Нет женщины – нет ведуньи.
– Что, обязательно? – робко поинтересовалась Юлька. – А как-нибудь… ну, без этого, нельзя? То есть я, конечно…
– Ох, и дуреха ж ты еще! – Настена наклонилась и, что было уж и вовсе редкостью, чмокнула Юльку в макушку. – Да разве ж я о том говорю? Нет, плотскую любовь познать, дело, конечно же, великое. Дитя родить – тем паче, без этого тебя явь полностью никогда не примет, а Макошь и вовсе, как от пустоцвета, отвернется. Есть, есть дуры и дураки, которые себя от этой части жизни отрывают – что у христиан, что у нас. Думают, что так они духовно над тварным миром воспаряют… А на самом деле уподобляются тому, кто ноги себе отрубает, рассчитывая, что от этого быстрее бегать станет… – Лекарка пожала плечами и отрицательно покачала головой. – Понять явь, отвернувшись от какой-то ее части, невозможно, а не поняв, что ты сможешь? Ущербная ведунья! Ты себе такое представить можешь?
– Но светлые боги ущерб иным заменяют – слепой лучше слышит и осязает, у однорукого вторая рука сильней и ловчей делается…
– И охота тебе слепой или однорукой быть? Или ты и без того уже сейчас не видишь и не ощущаешь того, что ни одна твоя сверстница не может?
– Так ты ж меня учишь…
– И дальше буду! Так что, внемли, отроковица Юлия… – Настена не выдержала и фыркнула, Юлька хихикнула ей вслед, не очень понимая, в чем дело, но тихо радуясь – больно уж редко строгая и суховатая мать бывала в таком расположении духа, как сегодня. – Познание плотских радостей и тягот, – продолжила мать – только первый шаг. Истинно же женщиной тебя сделает только понимание: ты не пуп земли, и явь вовсе не крутится вокруг тебя. Не все дозволено тебе в жизни, не все простительно, за слова и дела приходится отвечать, и есть границы, переступать которые нельзя. Те бабы, которых ты дурами величаешь, границ этих либо не видят, либо не желают с их существованием смириться, но тебе этих баб хулить невместно, потому что ты еще дурнее их – не испробовав на себе, судишь других.
– Да когда ж мне было пробовать-то? Я еще…
– Всю жизнь, Михайла верно сказал! По соизволению Макоши пресветлой будет у тебя мужчина, да по сути, он у тебя уже и есть. И он место твое в жизни, права твои, стезю твою видит иначе, чем ты – по-своему. Через это видение он и пределы дозволенного для тебя очерчивает. Любой твой шаг за эти пределы будет встречен ударом – словесным, телесным или умственным. Да, умственным – иногда удивление, насмешка или безразличие в глазах мужа способны ударить страшнее кулака. Не по злобе, таково мужское естество – крушить, проламывать любые препоны. На войне, на охоте, в труде, стоит ему усомниться или проявить слабость – смерть или прозябание.
– Так что ж, все терпеть?!
– Нет! Вторая часть мужского естества – трезвая оценка своих сил и сил, которые ему противостоят. Тот, кто дуром прет на более сильного противника или лбом стену прошибить пытается, не выживает. В твоей власти выстроить стену, с которой он бодаться не станет, она-то и будет для тебя пределами дозволенного. Твоя стена, тобой выстроенная, твоим разумением очерченные пределы! Но! – Настена назидательно вздела указательный палец. – Очерченные не так, как тебе заблагорассудилось, а так, как нужно для благости и покоя в доме. Не быстро и не явно. Третья часть мужского естества – решение всех дел рывком, напором, ударом. Напрячься на пределе сил, своротить заботу, потом спокойно копить силы для следующего рывка.
Женское же естество рывков не терпит. Мы свои дела делаем по пословице: «Вода камень точит». Вода, она какая? Мягкая, прозрачная… а какие омуты, какие водовороты таит, и самое главное – все камни в реке гладкие! Без острых граней, которые только от удара и образуются! Таков второй шаг к обретению истинно женской ипостаси. Не каждой дано, и не с каждым мужем такое получится, но если не выйдет – доброй жизни и счастливой семье не бывать!
И это – еще не все. Есть и третий шаг. Совершается он не по своей воле, а по обычаю. Тебе, дочка, до этого еще далеко, но знать об этом надо. Есть разница в достоинстве просто мужней жены и хозяйки, матери семейства. Семья без детей – еще не семья, хозяева без своего хозяйства – не хозяева. Есть свой дом, с достатком и порядком, есть несколько детей в том возрасте, когда уже ясно становится, что они выживут, и ты превращаешься в хозяйку – в уважаемую мать семейства, в женщину! Тут тебе и границы дозволенного как бы сами собой раздвигаются, и муж тому не препятствует, и все остальные на тебя уже иными глазами смотрят – не так, как на девку или на молодуху. Появляется в яви место, где все действительно вокруг тебя крутится, где жизнь по тобой заведенному порядку течет. Не весь мир, а только небольшая его часть, и не потому, что тебе так хочется, а потому, что ты сама так сумела устроить своим трудом, терпением и разумением.
Это не весь третий шаг, а только его половина, но длится он долго – годы, а бывает и десятилетия. Совершить эти полшага суждено не всем, и хорошо это получается тоже не у всех, но если получается… Посмотри, с каким уважением относятся к вдове Феодоре, к Мишкиной матери, к Любаве – жене десятника Фомы…
– К тетке Алене! – перебила мать Юлька и хихикнула. – Сучок вокруг нее так и вертится, так и вертится, а поп по струночке ходит, как новик перед сотником!
– Тьфу на тебя! Я серьезные вещи объясняю, а тебе все хиханьки… – Настена хоть и отозвалась ворчливым тоном, но с трудом сдержала улыбку: больно уж комичную пару представляли собой Сучок и Алена, а трепет, который молодая вдова богатырского телосложения внушала отцу Михаилу, уже стал поводом для веселья всего Ратного. – А вообще-то, если сложится у Алены с Сучком, так совет им да любовь, старшина-то плотницкий мал, да удал – ни насмешек, ни Алениных ухажеров не страшится.
– Да он же лысый совсем!
– Под шапкой не видно, и… – Настена немного поколебалась, но все же продолжила: – такое часто бывает у тех мужей, кто до плотских утех особо ярый.
– Как это «ярый»?
– Вырастешь, узнаешь. Не сбивай меня… Так, вот: третий шаг к истинно женской ипостаси не по своей воле свершается, а по обычаям древним. В стародавние времена у славян во главе родов женщины стояли. От тех времен и сохранилось уважение к женщине-матери, особо же к старым женщинам, хранительницам родовой памяти. Так уж вышло, что сейчас совсем древних старух в Ратном не осталось, а до морового поветрия была у нас баба Добродея. Помнишь ее, наверно?
– Помню.
– Однако, по малости лет, ты ни силы ее, ни власти не разумела. А власть ее была… над женщинами так поболее, чем у сотника над воинами! Да и над мужами ратнинскими… Перечить ей никто не смел, если уж случалось такое редкое событие, что она в мужские дела встревала, даже и в воинские, все знали: не попусту – знает, о чем говорит. Ходили к ней: и за советом, и с жалобами, и споры разрешать… всякое бывало. Варваре как-то, когда та уже совсем завралась, приказала: «Высунь язык!» Та высунула, а Добродея ей раз – и иголку в язык воткнула! Варька – к мужу плакаться. Фаддея-то не зря Чумой прозвали – увидал жену в слезах – так и взвился весь. «Кто посмел?» – кричит, а как узнал, что Добродея… и смех и грех. Он как раз новое корыто, в котором капусту рубят, выдалбливал, так этим самым корытом… хорошо, по мягкому попал, но синячище получился – с тарелку.
Или вот еще случай был. Ратник один – его на той самой переправе потом убили – жену смертным боем лупил. По-дурному, под настроение. По обычаю-то, в семейные дела лезть посторонним не положено, если, конечно, смертоубийства или увечья тяжелого не случится. Но сколько ж терпеть-то можно? Пожаловалась она Добродее, та меня призвала, расспросила: правда ли, что сильно битая баба бывает, да не сумасшедший ли он? Я подтвердила, что бьет сильно, а в уме повреждения нет – просто характер такой злобный. Пошла к нему Добродея, всех из дому выставила… Долго сидела, разговаривала с ним, а как ушла, жена в горницу заглядывает, а муж сидит, словно пришибленный, и рубаха на нем, хоть выжимай, от пота вся промокла. Жена к нему и так и сяк, а он сидит и молчит, сидит и молчит – все в пол смотрит, а потом как бухнется ей в ноги и давай прощения просить. После того случая ни разу даже пальцем не тронул. Корзень его десятником сделать собирался, так Добродея только и сказала: «Не годен». Корзень и переспрашивать не стал.
Да… сильна старуха была! – Настена немного помолчала, что-то вспоминая. – Свадьбы устраивала… или расстраивала. Бывало, родители взъерепенятся, а она только клюкой пристукнет и… Было, правда один раз: пошли родители Добродее поперек – не благословили молодых, так девка с горя утопилась, а парень с охочими людьми на цареградскую службу подался. Там и сгинул. Против Добродеевых слов идти, все равно, что против судьбы. Не потому, что она судьбами людскими правила, а потому, что вперед заглянуть могла… вернее сказать…
Настена прервалась, затрудняясь с формулировкой, потом продолжила:
– Чувствовала она: вот с этим человеком так надо поступить, а с тем – эдак. Вот и с теми влюбленными… Ну, все против них было! Она – холопка, он – новик, родич десятника. Она – сирота, у него родни толпа. На нее никто и не смотрит, а ему родители невесту чуть ли не из десятка девок выбирали. Однако ж поняла Добродея, что не жить им друг без друга. Так и вышло.
Не ругалась, почти никогда голос не повышала, однако наказать могла так, что хоть в петлю лезь. Вот представь себе, что тебя все ратнинцы как будто перестали видеть – на слова твои не отзываются, мимо тебя проходят, как мимо пустого места, подружки не узнают, разговоры при твоем появлении прекращаются… А и всего-то – Добродея мимо прошла и не поздоровалась. Целое село вокруг тебя, а ты одна-одинешенька. День, неделю, месяц… Месяц, правда, мало кто выдерживал – выли под воротами Добродеи, в ногах валялись, бывало, и руки на себя накладывали, если прощения не добивались. А Добродее не покаяние нужно было, а понимание. Так, бывало, и спрашивала: «Поняла, что сотворила?» И надо было объяснить свою глупость. Если правильно объясняли – Добродея прощала и совет давала: как беду исправить, а если не могла объяснить, то молча отворачивалась, и все оставалось по-прежнему.
Бывало, конечно, и наоборот. Обозлятся бабы на кого-то, начинают цепляться к каждой мелочи, злословить, шпынять без причины, пакостить по мелочи, до рукоприкладства иной раз доходит. Добродея только скажет: «Будет, уймитесь!», и все – как отрезало, и не приведи кому ослушаться!
И со мной… Как бабка померла, я одна осталась… Молодая совсем, робела сильно, а какое лечение, если лекарка сама со страху трясется? Так Добродея месяца три вместе со мной к недужным ходила. Сядет где-нибудь в уголке, руки на клюке сложит, подбородком на руки обопрется и, вроде бы как дремлет, но стоит только кому меня молодостью да неопытностью попрекнуть, она только кашлянет негромко, и все сомнения куда-то деваются. Так и приучила ратнинцев мне доверять, а у меня и робость пропала, даже сама не заметила, как.
Вот это, доченька, и есть полный третий шаг в истинно женскую ипостась. И необязательно для этого до седых волос дожить или матерью всех ратнинцев стать, как Добродея и предшественницы ее. Просто однажды наступит тот час, когда слово твое станет весомым для всех – баб, мужей, стариков. Весомым, а то и непреложным, не только в силу ума и опыта твоего, не только из-за уважения и признания тебя хранительницей великого дела тысячелетнего продолжения рода людского, но и потому, что ты будешь знать, когда это слово сказать, а когда промолчать. И все будут уверены в том, что слово твое верно, что за ним – извечная женская мудрость и правда.
– Что ж, Добродея была как бы женским сотником или старостой?
– Ну, вот: распинаешься перед тобой, а у тебя в одно ухо влетает, в другое вылетает! – Настена досадливо скривила губы. – Рано я, видать, разговор этот с тобой завела.
– Да, нет же, мама! – Юлька, хоть и не видела в темноте материной мимики, но все поняла по голосу и зачастила. – Ничего не рано! Понимаю я все, только просто спросить хочу: как это так – ты сначала говорила, что явь – мужской мир, а потом вышло, что нет. И как матерями всех ратнинцев становятся? Сотника-то ратники выбирают, старосту тоже…
– Ладно, ладно, затараторила… – Настена слегка прижала палец к Юлькиным губам, заставляя ее умолкнуть. – Раз уж не рано тебе это знать, ведунья великая, слушай дальше. Каким бы мужским миром явь ни была, для всякого мужа есть мать – и есть все остальные женщины. Какой бы мать строгой, неласковой, даже злой, ни была, все равно это мать – самый близкий и самый родной человек в мире, который тебе зла никогда не пожелает, всегда поймет, простит, пожалеет. Всегда у нее сердце за тебя болеть будет, и всегда ты для нее ребенком останешься, даже если у тебя свои внуки по дому бегают. И есть женщины… ЖЕНЩИНЫ, которым дано светлыми богами ощущать любовь и заботу не только к близким, но и ко всем, или почти ко всем, кто рядом с ними обретается. Такие женщины и становятся Добродеями. Добродея ведь не имя, а прозвание… и призвание. Никто ее не выбирает, просто потихоньку, не сразу, так начинают ее величать другие женщины, до тех же высот любви и понимания поднявшиеся, уважение у ратнинцев заслужившие, а вслед за ними и все остальные.
Настена замолчала, словно раздумывая: все ли, что требовалось, сказано и правильно ли поняла ее дочка? Все-таки неполные тринадцать лет, хотя по остроте ума и, пусть специфическому, жизненному опыту Юлька опережала сверстниц года на два-три. Все равно ребенок, в котором, впрочем, уже угадываются черты будущей женщины, не столько по внешности, сколько по повадке и вовсе не детским интересам. И женщина эта будет – Настена чувствовала – сильнее, жестче своей матери, решительнее и… беспощаднее к себе и к другим. В покойную прабабку – не столько лекарка, сколько ведунья, жрица Макоши, стоявшей когда-то чуть ли не выше остальных славянских богов, способной урезонить громыхалу Перуна и поспорить с самой Мореной. Добрая-то, Макошь, добрая, даже всеблагая, но, когда надо, могла все – вообще все! Тот же Велес поглядывал на Макошь из своего подземного царства со смесью опаски и уважения. Давно это было, очень давно… Но и теперь в скотьих делах Макошь домашней скотиной повелевает в большей степени, чем Велес.
– Мам! – перебила Настенины размышления Юлька. – А кто ж теперь-то у нас Добродея?
– Нету, – Настена вздохнула и развела руками. – Старухи все перемерли, Аграфена, жена Корзня, которую следующей Добродеей видели, еще раньше умерла, а Марфу, которая тоже могла бы, Михайловы отроки убили. Правильно, кстати, убили – если не смогла мужа от бунта удержать, то какая же из нее Добродея?
– А старостиха Беляна?
– Умна, хозяйственна, по возрасту самая старшая из ратнинских баб… но суетна, мелочна. Так-то незаметно, но если вдруг что-то неожиданное случается и думать быстро надо, тут-то все и вылезает. Аристарх ее иногда, как пугливую лошадь, окорачивает. Нет, не годится.
– А другие? Ты, вот, поминала: вдову Феодору, Любаву – жену десятника Фомы, Минькину мать…
– Феодора… не знаю. Чем-то она светлых богов прогневила или… Христа. Чтобы так жизнь бабу била… просто так не бывает. Ты погляди: мужа и среднего сына в один день в бою убили, старший сын ратником не стал – с детства с клюкой шкандыбает, а в сырую погоду – так и на костылях, родители в моровое поветрие преставились, уже второй внук подряд до года не доживает. Нет, держится она хорошо, горю себя сломить не дозволяет – за то и уважают ее. Но я-то вижу: зимняя вода у нее в глазах, и на кладбище чаще… чаще разумного ходит.
Любава могла бы, но… – Настена невесело усмехнулась. – Вишь, как выходит, Гуня: у каждой свое «но» имеется. За Фомой у Любавы уже второе замужество, и она на четыре года старше мужа. Сейчас-то ничего – Фома заматерел, седые волосы в бороде проклюнулись, а раньше очень заметно было. И как-то она очень уж в мужние дела вошла: вот повздорил Фома с Корзнем, и Любава на всех Лисовинов исподлобья смотрит. Порой до смешного доходит, мужа в краску перед другими вгоняет. Недавно принесла Лавру в кузню мужнину кольчугу – несколько колец попорченных на подоле заменить. Разве ж это дело – вместо мужа за оружием следить? Сыновья, уже женатые, чуть не в голос воют, так она их материнскими заботами извела. Невесток как девчонок-неумех… Привыкла старшей в семье быть, ничего не поделаешь, но, если меры в чем-то одном не знаешь, то не знаешь ее и во всем. Так-то!
– А Минькина мать?
– Медвяна… э-э, Анна-то? Может! Молода пока, но лет через десять-пятнадцать сможет, вернее смогла бы, но… Вот видишь: и здесь свое «но». За чужака она замуж выходит. Сама пришлая, хоть и сумела стать своей, и замуж за пришлого пойдет. Пойдет, пойдет! – отреагировала Настена на легкое шевеление дочери. – Сама же рядом с ними живешь, все видишь.
– Ага, тетка Анна прямо расцвела вся, лет на десять помолодела, а дядька Алексей… он такой… он весь… как глянет… – Юлька явно затруднилась с подбором эпитетов.
– Умен, силен, крут… – Настена Юлькиных затруднений не испытывала, – … жизнью битый, но не сломанный, ликом и статью истинно Перун в молодости!
– В какой молодости, мама? У него половина волос седая!
– Э-э-э, дочка, бывают седины, которые не старят, а красят…
– Ма-а-ма! Да ты никак сама в него…
– Дури-то не болтай! – оборвала Юльку Настена и тут же устыдилась горячности, с которой прикрикнула на дочь. Сама по себе эта горячность говорила больше, чем слова, и не только Юльке, но и самой Настене. И уж совсем затосковала лекарка, когда поняла вдруг, что оправдывается. – Влюбилась – не влюбилась, а… оценила… по достоинству. К тому ж лучше других умственное и телесное здоровье вижу… Да и не старуха я, в конце-то концов, на год моложе Аньки!
– Ой, мамочка…
– Да не ойкай ты! Не бойся, глаза выцарапывать мы с Анькой друг дружке не будем, еще не хватало из-за козла этого! Рудный Воевода, руки по локоть в крови, семью не сберег, в бегах, как тать, обретается, у бабы под подолом от бед упрятался!..
Настену несло, и она не находила в себе ни сил, ни, что самое ужасное, желания остановиться, хотя со все большей отчетливостью понимала, что ругань выдает ее сильнее, чем только что высказанные в адрес Алексея комплименты. Выдает себе самой, потому что еще сегодня, еще полчаса назад, ей и в голову не пришло бы задуматься о том, как сильно зацепил ее беглый сотник переяславского князя Ярополка. И разговаривала-то с ним только два раза (из них один – ругалась), и вереницу чужих смертей в его глазах угадывала, и… Спаси и помоги, Макошь пресветлая, не рушь покой, ведь смирилась же с долей ведовской, утвердилась на стезе служения тебе, богиня пресветлая… За что ж меня так? Или это – награда? Наградить ведь можно и мукой – сладкой мукой. Макошь это умеет…
Настена, наконец, замолчала, закусив нижнюю губу, навалилась боком на стол и подперла горящую щеку ладонью. Вяло удивилась про себя: когда ж это в последний раз было, чтобы щеки так горели? Давно, даже и не вспомнить. Юлька довольно долго молча сопела, ерзала на лавке, потом наконец не выдержала:
– Мам, ты же ведунья, ты, если захочешь… он сам на карачках к тебе приползет и объедки у крыльца подбирать будет! Ну, хочешь, я как-нибудь подстрою, что он на тетку Анну и смотреть не захочет? Можно же что-то такое придумать…
Юлька еще что-то говорила, строила совершенно фантастические планы… Настена ее не слушала, размышляя о том, что легко поучать других: «пределы дозволенного», «стену выстроишь», первый шаг, второй… А придет, откуда ни возьмись, вот такой Рудный Воевода, будто моровое поветрие для тебя одной, и куда вся премудрость денется?
– Хватит! – прервала она Юлькины рассуждения. – Он сам, кого хочешь, на карачках ползать заставит. Не вздумай, и правда, вытворить чего-нибудь, уже и без того наворотила, не знаешь, как и разгрести. Давай-ка свет зажги да поешь. Там в печи репа с копченым салом запарена, не остыло еще, наверно.
Юлька, понимая, что спорить бесполезно, засуетилась по хозяйству: раздула сохранившиеся под пеплом угли, запалила лучину, принялась собирать на стол, потом спохватилась, выложила в плошку немного еды и выставила в сени – домовому, чтоб не обиделся. Настена, глядя на прыгающую по стенам тень дочери, непонятно с чего подумала, что сейчас такие же плошки стоят во всех домах Ратного, какие бы истовые христиане в тех домах ни жили. Даже в доме попа, втайне от хозяина, Алена выставляла в сенях угощение для домового. Отец Михаил однажды застал ее за этим занятием и был так возмущен, что даже повысил голос, но тут же впал в ступор, когда Алена предложила, раз уж это жилище священника, осенять плошку с едой крестным знамением и читать над ней краткую молитву, мол, домовой существо мелкое, длинную молитву на него тратить – больно жирно будет.
– Мам, а молочка нет?
– Я ж не знала, что ты придешь, киснуть поставила – творог откинуть хочу. Сделай себе сыта, вон мед на полке стоит.
– А! – отмахнулась Юлька. – Воду греть… обойдусь. Бери ложку, мам, тоже ведь не ужинала.
Настена нехотя поковырялась в горшке ложкой, аппетита не было, зато ничего не евшая с утра Юлька управлялась за двоих. Стоило, пожалуй, продолжить беседу – крутящиеся в голове мысли все равно уснуть не дадут, а Юлька, похоже, сонливости еще не ощущала.
– На чем мы остановились-то, Гуня?
– Фто, мам? – отозвалась Юлька с набитым ртом.
– Прожуй, потом говори! Я спрашиваю: на чем у нас разговор-то прервался?
– На том, что Добродею заменить некому. А может быть, ты сможешь, мам?
– Годами я не вышла для такого дела.
– Ну и что? К тебе же со всякими делами ходят: с жалобами, за советом, просто так поговорить. Как Добродея померла, наверно, еще больше приходить стали?
– Стали, но такое дело не сразу творится – годы должны пройти, хотя… придется, наверно. Если пойти не к кому, пойдут туда, куда не следует.
– Это куда?
– Да к той же Нинее! – Настена качнула головой в сторону южной стены избы, словно прямо за ней располагалась Нинеина весь. – Она и так уже на Михайлу глаз положила, не хватало еще, чтобы в ратнинские дела влезать начала!
– Вспомнила! – вдруг встрепенулась Юлька. – Ты сказала, что мы с Минькой в людских глазах похожи, а чем похожи, не объяснила.
– Похожи? – Настена попыталась восстановить логическую нить разговора, который уже давно ушел в сторону. – Да! Вспомнила! Я тебе объясняла, что мы, лекарки, нужны, но нас опасаются. Вот и Михайла нужен, но и его опасаются. Добро бы только его книжные знания да рассудительность не по возрасту. Хотя и это уже само по себе странно, а непонятных странностей люди у нас не любят. Поначалу-то это немногие замечали: дед его, дядька Лавр, мать – само собой, Нинея – куда от нее денешься? Еще поп, хоть и видит все навыворот да толкует по-дурацки. Потом уж по всему селу разговоры пошли, когда он с тетки Татьяны волхвовские чары снял да об невидимого демона нож сломал… хм, выдумают же! По мне, так больше косе на длинной ручке удивляться надо бы да домикам для пчел.
Воинские мужи поначалу Михайлу одобрили – достойно себя в бою с лесовиками вел, но когда Петька Складень растрепал о том, что по следам в лесу нашел, призадумались. Помнишь, какие разговоры пошли?
– Да уж…
– Вот тогда-то, как я думаю, в Михайле Крестильник впервые в полную силу и проявился. Ну, а потом Пимена с собрания десятников вперед ногами вынесли, и убит он был самострельным болтом. А потом бунт был и Михайла со своими отроками усадьбу Устина, как крепость, взял – сам, без помощи взрослых! Мальчишки опытных воинов, оружных и латных, да в собственном доме, где и стены помогают, побили! И как – одного убитого на шестерых разменяли! Вот тут-то на Михайлу уже иными глазами смотреть стали, и каждое лыко в строку пошло: и то, что Демьян в разборки ратников с Сучком влез, опять же, с ущербом для гордости мужей ратнинских, и то, что, на манер князя, городок заложил…
– Какой городок, мама? Крепостца малая…
– А с чего города начинаются? Да, пока крепостца малая, но уже и посад складывается и ремесленная слобода – все к тому, что городок будет. Ты, кстати, подкинь мысль, чтобы его Михайловым городком назвали. Не прямо Михайле, а отрокам его, но так, чтобы до старшины дошло: лекарка Юлия придумала. Ему приятно будет, а придраться, если что, не к чему – часовня там в честь архангела Михаила… Не отвлекай меня! После всего того, что Михайла твой натворил…
– Так прямо уж и мой…
– А чей же? Я сказала, не отвлекай! – сердито оборвала дочь Настена. – Так вот, после всего, что твой Михайла натворил, каждому, кто в воинском деле хоть что-то разумеет, стало ясно, что задавить-то его щенячью свору ратнинская сотня при нужде сможет, но зубки у этих щенков уже железные и плату за себя они возьмут такую, что про название «сотня» придется забыть – от нее и так-то чуть больше половины осталось. А случись такое, что Михайла на Ратное ополчиться вздумает да время подходящее подберет – даже и подумать тошно. Сама же рассказывала, что отроки у него специально во дворах и домах воевать обучаются.
– Только первая полусотня.
– ПОКА только первая полусотня… не о том речь – не об отроках, а о тебе с Михайлой. Тебя опасаются, но ты нужна и благодарны тебе бывают за лечение. Михайлу тоже опасаются, но он нужен – в его Младшей страже надежда на возрождение и усиление ратнинской сотни. А теперь вспомни, что я тебе говорила про байки и небылицы. Выдумают люди что-нибудь про нас, и кажется им, будто они что-то в нас поняли, а раз стали мы понятнее, то и опасений меньше. Так и ты с Михайлой – то, что вы сошлись, для людей понятно и естественно – подобное тянется к подобному. Михайла сейчас в тот возраст вошел, когда подростки против родителей бунтуют, одни сильнее, другие слабее, третьи только в мыслях, но бунтуют все. Ты-то вон тоже на меня с прищуром поглядывать начала.
– Мама…
– Молчи, не прекословь! Через это все проходят – взрослым стать не так-то просто, и первые пробы почти всегда неудачными бывают, но набьют шишек, дураками повыставляются и поймут, что старики не от глупости такие, а от жизненного опыта, а пока… Ты только подумай, что может случиться, если Михайла из воли деда выйдет! Представила? То-то!
– Ой, мам, а Минька-то с попом поругался, выгнал его из крепости!
– Об этом я и толкую, доченька: заигрались вы там во взрослую жизнь, без Корзнева пригляда – Минька себя воеводой вообразил, ты – ведуньей, даже поп, уж не знаю кем… епископом, наверно, а Анна с Алексеем, нет чтобы приструнить да место истинное вам указать, друг другом заняты. Эх… ладно, говорено уж об этом.
– А чего ж Корзень не приедет да порядок не наведет? Что ж он, не понимает, что ли?
– Все он понимает, Гуня, Корзень мудр, но учить-то вас надо! Он еще приедет, он так приедет – взвоете, но сначала сотник вам побарахтаться в делах даст, ощутить, сколь неподъемно это пока для вас, да так ощутить, чтобы обрадовались его приезду, а то и сами бы позвали бы. Корзень мудр… да и Нинея рядом – совсем уж до дурного не допустит. Я думаю, что у Корзня с ней уговор на этот счет есть… опять отвлеклись, ну что с тобой делать будешь?
Так вот: если Михайла и вовсе удила закусит, так, что Корзню словом его обуздать не выйдет и понадобится силу употребить – остается надежда на тебя. Отроки и без того тебе перечить не смеют, а если ты еще со старшиной их по-умному обойдешься… Короче, ты защита Ратного от Михайловой отроческой дури. Так тебя ратнинцы и видят, вернее, видели, но сегодня они зрели, как ты в слезах и соплях из Михайлова городка прибежала, и сразу же надежда на тебя ослабла. Понимаешь?
– Угу, только…
– Постой, не перебивай. Одновременно ослабла и наша с тобой безопасность. До сегодня ратнинцы знали: стоит нас с тобой обидеть, Михайла так за эту обиду разочтется – Крестильник овечкой ласковой покажется! Мы с тобой, считай, за стенами Михайлова городка укрыты были, а ты нас этого укрытия лишила. Мало того, ты и вообразить не способна, какие теперь сплетни о тебе по селу пойдут. Оправдываться, спорить, злобиться бесполезно – ни веры, ни понимания, ни жалости не жди. А я на этом еще и часть лекарской силы потеряю – как мне сознание больного подчинить, с чего ему мне довериться, если я дочку толком воспитать не смогла?
– Мам, я и не думала… как же все в кучу свалено…
– Не в кучу свалено, а в сеть сплетено! У вас, молодых, все просто: здесь черное, там белое, это правильно, то неправильно, а на самом деле все вокруг тысячами нитей друг с другом связано – оборви одну такую нить, и обязательно это где-то в другом месте скажется, порой в самом неожиданном. Я тебе и десятой части не показала, а ты уже: «в кучу». А вот подумай-ка, как твой уход из Михайлова городка отзовется Сучку и Алене? Сучок и сам не знает, что его Младшая стража, вернее, опасение перед Младшей стражей охраняет. Ты ушла, старшину обидела – оборвала ниточку, и тут же Аленины ухажеры, уже ничего не опасаясь, Сучка покалечат или убьют. Дураки, конечно, Михайла и за Сучка разочтется, но уже поздно будет! А не осядет здесь семейным домом Сучок – разбредется и его артель, во всяком случае, так быстро и хорошо, как при Сучке, крепость не построится.
Вот тебе одна ниточка, а вот и целый клубок – девки незамужние. До вчерашнего дня как было? Ты – с Михайлой, полтора десятка девок в Воинской школе уже женихов выбирают, а остальные чуть не из обувки выпрыгивают – тоже туда хотят. Если не сами, то родители их. Правдами или неправдами, но приткнут, и – мир! Мир, Гуня, которого Ратное сотню лет добивалось – сразу со столькими дреговическими родами породнимся!
А что теперь стало? В каждой семье, где невеста подходящая имеется, уже прикидывают: а нельзя ли как-нибудь Михайлу в женихи заполучить? Жених-то завидный! Перво-наперво, конечно, надо лекарскую дочку добить, чтобы с Михайлой не помирилась, а там, глядишь… Представляешь, как за тебя возьмутся? А насколько ценность Михайловых отроков, как женихов, уменьшится? По сравнению-то с самим Михайлой!
– Как муха в паутине… – пробормотала Юлька.
Ее можно было понять: всего за один день мир вокруг нее разительно изменился. Просто страшно представить, как все в нем переплетено, как, оказывается, важен Мишка и для самой Юльки, и для матери, и для всего Ратного вообще, какие сложные и страшные игры ведут взрослые, и какая, на самом деле, маленькая, слабая и беззащитная Юлька бьется в этой непостижимо сложной паутине взаимосвязей, действий, мыслей, намерений…
– Если бы муха! – прервала Юлькины панические мысли Настена. – В том-то и дело, Гунюшка, что мы сами – и мухи, и пауки одновременно. Сами ткем нити, нас с миром и людьми связывающие, сами в них запутываемся, сами рвем. Трудно бывает понять, куда та или иная нить тянется, можно ли и нужно ли ее рвать? А еще труднее понять, надо ли новую нить прясть и к чему это приведет? Но сейчас все понятно: ты порвала не ту нить, и, чтобы не запутаться и не задохнуться в ее обрывках, надо эту нить сращивать. Проще говоря, мирись с Мишкой.
Понимаю – трудно, но ты же ведунья. Слабенькая пока, но ведунья. И ты женщина. Маленькая пока, глупенькая, но женщина.
На глаза ему пока не попадайся. Пусть пройдет какое-то время, Михайла поостынет, что-то подзабудется, да и Крестильник внутри него ко всему этому наверняка снисходительно отнесся, как к детской ссоре. Через несколько дней нагрузишь телегу лекарствами, еще каким-нибудь барахлом – вроде за этим и ездила. Возьмешь с собой еще двух девок в помощницы. Я тут их присмотрела – имеют склонность к лекарскому делу. Настоящих ведуний из них не сделаешь, а на повитух и травниц выучить можно. С этим добром и отправишься.
Внимательно смотри, как тебя Михайла встретит. Может случиться так, что он сделает вид, будто ничего и не было – самое лучшее, что может быть. Тогда и сама ему ни о чем не напоминай. Если станет ругаться, терпи, винись, можешь слезу пустить. Ох, не любят мужи наших слез, не любят, потому что не понимают. Притворной слезы от искренней отличить почти никто из них не способен, а уж про такое чудо, как сладкие слезы, никто из мужей и понятия не имеет. Так что слезами от них добиться можно многого, только часто этим пользоваться нельзя – привыкнут.
Самое же худшее, что может случиться – вежливо поздоровается и пройдет мимо. Вот тут не стесняйся окликнуть и, что хочешь, твори, но равнодушие его разбей! Не оглядывайся на присутствующих, внуши себе, что вас только двое – твое покаяние Михайлу в глазах отроков только поднимет, тебе же ущерба не нанесет. Они все поверят, что их старшина твоих слез и покаянных слов стоит. И найди способ ему хоть малую услугу оказать, любой пустяк – соринку стряхни, одежду оправь, о здоровье спроси, короче, прояви заботу. Потом девок-помощниц ему представь, спроси о делах в лазарете – займи его мысли делами, уведи от ссоры с тобой. Не смотри, что он равнодушие показывает, на самом деле он от тебя знака ждет, первого шага к примирению. И ничего не бойся! Ты же любишь его? Или нет?
Юлька уставилась в пол и на вопрос не ответила.
– Ну, так как? Любишь? – продолжила настаивать Настена.
– Да не знаю я, мама! Хорошо с ним, интересно… он умный, все остальные дураки какие-то.
– Вот и ладно. А чтобы всегда с ним хорошо было, научись когда-то промолчать, что-то стерпеть, где-то улыбнуться. Он же к тебе по-доброму относится, ответь и ты тем же, надо уметь подстраиваться под любимого человека. А мужчин без изъянов не бывает. Никогда. Вообще.
Неожиданно, так что мать и дочь вздрогнули, за стеной заорал петух, вдалеке, за ратнинским тыном, на его крик откликнулись «коллеги».
– У-у, Гунюшка, засиделись мы с тобой, давай-ка спать укладываться.
– Угу… А как это, мама, без изъянов не бывает? Что, совсем?
– Совсем, дочка, совсем. Ложись-ка, а я тебе сказку про это расскажу. Давненько я тебе сказок на ночь не рассказывала, ты, поди, и не помнишь…
– Вот и нет! Помню… А Минька ребятам часто разные истории рассказывает, даже и не понятно бывает: то ли сказка, то ли правда.
– Ну, мою-то сказку он не знает. Укладывайся, Гунюшка, укладывайся.
Уложив Юльку, Настена присела рядом, заботливо подоткнула одеяло и заговорила не так, как положено было рассказывать сказки и былины – речитативом, нараспев, а так, словно рассказывала обычный случай из жизни:
– Надоело как-то Макоши[50] жить одной и решила она завести себе мужа. Но где ж его взять такого, чтобы никаких изъянов не имел и был бы точно таким, как ей самой хочется? В таком деле полезно бывает спросить совета у кого-то такого, кто подобным делом уже занимался, и отправилась Макошь на берега Варяжского моря к карельскому богу-кузнецу Ильмаринену.[51] Славен был Ильмаринен своим великим искусством, карелы верят, что это он сковал небесный свод и светила, выковал железную лодку, которая без весел и паруса по воде бежит, изготовил волшебную мельницу Сампо, из которой с одной стороны сыплется соль, с другой стороны – мука, а с третьей – золото.
Но не эти чудеса привлекли Макошь и заставили пойти за советом к Ильмаринену, а то, что сковал он себе из серебра и золота жену. Пришла она к нему в небесную кузницу, поднесла подарки по обычаю, поговорила для приличия о делах посторонних, а потом изложила ему свою заботу. Ильмаринен даже и задумываться не стал, так сразу и ответил: «Не трать время, не выйдет у тебя ничего. Не потому, что ты неискусна, не потому, что силы у тебя мало, и не потому, что не хватает мудрости, а потому, что ты – женщина, и желание твое, как и многие желания женщин, невыполнимо».
С тем и расстались. Обидными показались Макоши слова северного кудесника, но зла таить на него она не стала – что муж, хоть и так умудренный, как Ильмаринен, может знать о женских желаниях и об их выполнимости?
Вернулась Макошь к себе и, вопреки совету Ильмаринена, все-таки сотворила себе мужа по своему разумению. Красавец получился писаный: станом могуч, но строен, ликом красив и светел, нравом легок и весел. Любил жену беспредельно, любые желания ее исполнял, лелеял и угождал всячески. Вроде бы все хорошо, но чего-то Макоши не хватало, сама понять не могла, чего именно.
Увидал как-то Макошина мужа отец ее Перун и спрашивает:
– Это кто ж такой дочку мою в жены взял, не посватавшись? Откуда пришел, как звать?
Растерялся Макошин муж, заробел при виде Перуна грозного, молчит – не знает, что отвечать. Сама Макошь отцу вместо него ответила:
– Это муж мой, зову я его Ладо, ниоткуда он не приходил – сама я его сотворила.
– А чего ж он такой робкий? – удивился Перун. – Разве ж может такой мужем богини быть? А если тебя обидеть кто захочет?
– От обидчиков я и сама защититься могу! – отвечает Макошь. – А Ладо мне другим любезен – без изъянов он: не грубит, ни с кем в драку не лезет, к хмельному не пристрастен, мне ни в чем не перечит, только всячески угождает.
Тут Перун как начнет хохотать, аж земля зашаталась.
– Так это не муж, а дитя! Ты его на свет произвела, ты себя и его защищаешь, а он тебе послушен. Только кто же за собственных детей замуж выходит? Дура ты, дочка, хоть и богиня, а через тебя и все бабы смертные дуры дурами.
Обругал Макошь и ушел, а она наконец, поняла, чего ей в муже не хватало – мужества!
Долго ли, коротко, но изловчилась как-то Макошь, добыла немного силы и ярости отцовской да влила в своего Ладо. Еще краше стал ее ненаглядный – в глазах огонь появился, силой и ловкостью молодецкой, на радость жене, во всяческих состязаниях побеждает, да и в любви плотской такую радость ей стал доставлять, о какой она раньше и не думала. Всем хорош! Стала Макошь даже подумывать, чтобы показать своего Ладо Ильмаринену – пусть убедится старый в своей ошибке. Но недолго она радовалась, стала замечать, что Ладо ее больно уж лихим глазом на служанок поглядывает, а потом и на месте преступления застала. Ох, и взыграла у нее кровь! От нее, от благодетельницы, которой всем и даже самим существованием своим, обязан – к какой-то служанке! Единым махом девку в мокрицу оборотила, хотела было и Ладо своего в распыл пустить, да больно уж жалостно он прощения просил, каялся, клялся, что больше ни-ни… Пожалела, одним словом. Какое-то время все по-прежнему шло, а потом опять попался Ладо на блудодействе. И снова простила его Макошь. Но на третий раз не стерпела – оборотила его в петуха.
С тех пор все петухи такие и есть. Собой хороши: вид гордый, осанистый, красавцы – гребень алый, перья в хвосте переливчатые, до любви ярые – кур топчут всех подряд и прозванья не спрашивают. Но горласты, драчливы, а если коршун налетит, сами первыми в курятник и улепетывают.
Погоревала Макошь, позлилась, а потом решила ошибку свою исправить – нового Ладо себе сотворить, но уже совсем другого. Изготовила детинушку сложенья богатырского, нрава крутого, самой Макоши преданного и, на всякий случай, от греха, не шибко умного. Поначалу радовалась – за таким мужем, как за каменной стеной, и батюшка Перун не насмехается. Только стало ей постепенно как-то скучно. Песен, шуток-прибауток новый Ладо не знает, гусли, свирель или гудок у него в лапах только хрустят да трещат, умственной беседы не дождешься – только о лошадях да об оружии. Приятно, конечно, если тебя, раскрыв рот, слушают, но рано или поздно захочется, чтобы и отвечали, а у нового Ладо ответ один – в охапку да на постель.
Отлучилась как-то Макошь по делам на несколько дней, возвращается, а в доме разор полный. Шум, грохот, крики, все поломано, Ладо новый кого-то лупит, кого-то срамными словами поносит… Макошь кричит: «Стой! Ты что творишь?», а он отвечает: «Тебя столько времени не было, должен же я куда-то свою страсть растратить!»
Ничего не успела Макошь ответить – явился на шум сам отец богов Сварог. Посмотрел на беспорядок, сказал: «Эх, внучка, внучка, зря ты Ильмаринена не послушала», и оборотил второго Ладо быком. С тех пор все быки такими и стали: сильные, ярые и тупые. Ни шерсти с них, ни работы, только и пользы, что коров покрывают да на мясо забить можно.
Не стала Макошь пенять деду Сварогу за то, что мужа ее лишил, только сказала:
– Один был ласковый, но слабый, второй сильный, но грубый, в третий раз не ошибусь – найду золотую середину.
А Сварог ей отвечает:
– Зачем? Вон они, золотые середины – по земле толпами ходят, выбирай любого.
– Так они же все с изъянами! – отвечает Макошь.
– Правильно, внучка, с изъянами, и иначе быть не может, потому, что вы, бабы, испробовав силы, начинаете хотеть слабости; упившись покорностью, жаждете властности; пресытившись мягкостью, алчете ярости, а потом все наоборот и так до бесконечности. Раз и навсегда на вас не угодишь, и это прекрасно! Если женщина всегда одинакова, предсказуема и не содержит в себе толику тайны, рано или поздно от нее сбежать захочется, а поскольку язык у вас длинный и тайны вы хранить не умеете, то ваша тайна – тайна и для вас самих. Чего вам на самом деле хочется, точно не знаете и вы сами. Так было и так будет впредь, ибо на том зиждется женская привлекательность.
С тех пор Макошь мужа без изъяна не ищет, да и сама со смертными мужами… не очень, или в тайности все творит. Но женщинам время от времени посылает таких мужчин, которые как раз их тайным желаниям, про которые они и сами не знают, подходят. А сама радуется их радостью, счастлива их счастьем и… плачет их слезами. Вот такая история, Гунюшка.
– Выходит, мне Миньку Макошь подсунула? – сонным голосом поинтересовалась Юлька.
– Тебе, не знаю, а вот Алексея мне… – протяжного вздоха, завершившего фразу Настены, Юлька уже не услышала – заснула.
Бурей и Сучок
– Эй, кто-нибудь!!! Ох… Эй… Всех убью, один останусь… Эй!!! Ох…
Против обыкновения, никто не нес Бурею рассола, никто вообще не являлся на его крик! При тех порядках, которые завел у себя в доме обозный старшина, это было чем-то вроде начала конца света и совершенно не укладывалось в голове, тем более в голове, трещавшей с похмелья.
– Да что ж такое-то? Ох… Эй!!! Ох… Уй… Поубиваю… и сам убьюсь…
Со двора доносились звуки какой-то суматохи, потом, словно по покойнику, запричитал женский голос. Бурей прислушался… Нет, вроде бы не по покойнику… но причитает… Собака еще гавкает… как-то непонятно гавкает…
– Гр-рр… Ох… С-сучок, зараза… Мелкий-мелкий, а пьет… как будто насквозь через него протекает…
– Лестницу, лестницу несите! – донеслось со двора. – Да не ту! Эта короткая!
– На кой вам… Ох… лестница? – Бурей на всякий случай огляделся – не на сеновале ли он заночевал? Нет, на своей постели. А зачем тогда лестница?
– Э-э-эй!!! Ох… не успею поубивать… так сдохну…
– Дурак!!! – донеслось с улицы.
– Что-о-о? Да я тебя… Гр-р-р… Ох… – Бурей попытался встать, но его повело в сторону, он запнулся за что-то и повалился на пол.
– Дурак!!! Уронишь!!! – снова раздался тот же голос.
– Так уже ж уронили!!! – взревел Бурей. – Мать вашу так-растак… Ох… Да помогите же кто-нибудь!!!
– Не-а! – донеслось со двора. – Без лестницы не выйдет!
– Да на кой вам… Ох… Ну, я сейчас выйду… я сейчас так выйду! Вот только сапоги надену…
Сапоги никак не желали попадаться на глаза… Перед глазами вообще плавала какая-то муть, а свет, проникавший через волоковое окошко, казался ослепительным до боли. Бурею вдруг стало жалко самого себя до слез – лежит тут один, всеми позабытый, и сапоги, стервецы, куда-то смылись… наверняка сговорились промеж себя…
– Ну, я вам, задрыги, каблуки-то… Ох… поотдираю, только попадитесь!
Бурей приподнял край свесившегося одеяла и заглянул под лавку. Оба сапога, перемазанные в навозе, обнаружились там… воняло от них… Бурей ощутил подкатывающую дурноту, но полностью прочувствовать ее не успел: через окошко долетел теперь уже женский голос:
– Ты куда заглядываешь, охальник?!!! Ты куда глазищи свои…
– Э? – удивился Бурей и торопливо опустил приподнятый край одеяла.
– Да чего у тебя там смотреть-то, коровища? – донеслось из окошка.
– А-а-а! – Бурей расслабленно ссутулился. – Так бы сразу и говорили… Ох…
– Глаза твои бесстыжие! И рожа у тебя гнусная!! Жеребец стоялый!!!
Сквозь ругательную бабью скороговорку стали прорываться звуки воспитательного физического воздействия и, совершенно непонятно почему, участия в этом воздействии дворовой псины.
– Гы-гы-гы-ы-ы! Ох… Не там искал, дурень… Ох… Сапоги-то здесь спрятались… – Бурей снова попытался подняться на ноги, но получилось только на четвереньки, зато поле зрения расширилось… – Э? А это… зачем? – Наискось через горницу разлеглась искомая холопами лестница.
Путь до двери сегодня оказался примерно впятеро длиннее, чем обычно, раз в десять продолжительней по времени и многократно труднее и опаснее. Как так получилось, для Бурея осталось совершенно непостижимым, но проклятая лестница попалась по дороге раз пять или шесть, и дважды при этом так ловко подставляла ему подножку, что он один раз просто упал, а во второй раз, пытаясь сохранить равновесие, добежал до стены, оборвал с нее висевший на колышке в углу медвежий тулуп и упал только после этого. Тулуп накрыл обозного старшину с головой, тот поворочался в темноте, несколько раз треснулся лбом и похолодел от ужаса – стены были со всех сторон сразу! Бурей еще повозился, осознал всю тщету своих усилий найти выход, длинно и тоскливо простонал, потом пристроил голову на согнутую руку и уснул.
Проснулся он от удушья. Под тулупом было жарко, как в бане, воняло чем-то до предела мерзостным, глотка аж скрипела от сухости, а в голове бил копытами целый табун коней… или два табуна? Рука, исполнявшая роль подушки, затекла до полного онемения, а глаза не желали открываться ни в какую. То есть веки-то поднимались, но ни одного, даже самого махонького, лучика света зрение не уловило.
– Эй! – позвал обозный старшина. Вернее, попытался позвать – то совершенно неубедительное кряхтение, которое была способна воспроизвести пересохшая глотка, умерло, едва оторвавшись от губ. Впрочем, Бурей не услышал и его, так грохотали в голове копыта. Удушье не оставляло времени на размышления, надо было как-то выбираться. Несколько сопровождающихся стонами движений, и суровая правда жизни предстала перед обозным старшиной во всей своей ужасающей неприглядности – выхода не было!
Дом обрушился и завалило? Нет… наверно, воз опрокинулся, и придавило мешками с… с чем? Судя по запаху, в одних мешках нестираные портянки, а в других… да не возят это в мешках! И в коробах тоже не возят! И вообще не возят! Да куда обозники-то смотрят? Старшину придавило, а они… Шерсть!!! Медвежья!!! Медведь в берлогу затащил и придавил!!! Нож!!! На поясе… правая рука не шевелится… Покалечил, зверюга, как не убил-то? Ничего, мы и левой… вот сейчас… Доски? В берлоге пол дощатый? Голоса? Люди!!!
– Куда поперлась? – спросил мужской голос. – Хозяин раньше полудня не проснется!
– Ой! Стой, куда? – невпопад отозвался голос женский.
– Чего такое?
– Да собака в дом забежала!
– Ну и ладно! Не шуми… не буди лихо, пока тихо!
Бурей напряг пересохшую глотку:
– Эй! Люди!!!
Не слышат… ушли… бросили на погибель… Доски, к которым обозный старшина приложил пылающий лоб, донесли какое-то клацанье. Что-то знакомое… Когти! Так клацают волчьи когти по камню!!! Обоз побили, люди ушли, теперь волки собираются на поживу… Вот, один уже и босые ноги лижет, сейчас вцепится…
– А-а-а!!! Гр-р-р…
Бурей, позабыв о том, что замурован, вскинулся, отбросил тулуп и схватил волка за горло… почти схватил – волк вырвался с истошным визгом и метнулся в угол горницы. Горницы? Волки в доме!!! Топор!!! Вон, в углу стоит… лестница какая-то… а, чтоб тебя… Что за хозяева? Лестница в горнице валяется, собака… Собака? А где волки? Бурей медленно начал приходить в себя. Обвел глазами помещение, опознал собственное жилье, рыкнул, ощерясь, на собаку, та в панике кинулась под лавку… что-то там важное было под лавкой… не вспомнил, плюнул и нетвердой походкой направился к двери – пить хотелось неимоверно. Уже собрался толкнуть дверь, как та сама распахнулась и за ней обнаружилась собравшаяся входить холопка.
– А-а-а!!!
Глаза молодой бабы распахнулись чуть ли не шире орущего рта. Было с чего. Хозяин (и без того не красавец) с диким взглядом, опухшей и перекошенной на одну сторону рожей, волосы дыбом… И топор в руке!
– Стой, дура! – Бурей зацепил уже нацелившуюся сбежать холопку топором за плечо и подтянул к себе. – Рассол неси! Воды неси… ну, хоть что-то…
– А… а…
– Чего?
– А… Аист…
– Какой аист? Дура! Пить подай!
– Ребеночек… хозяин…
– Совсем охренели? Я говорю, пить… Какой ребеночек?
– Так это… в гнезде…
– Что-о? Ты в уме? Ты… да ты что несешь?
– Пяточка… хозяин…
– Какая пяточка? Издеваешься? Убью!!!
– Розовенькая!!! Хозяин!!! Из гнезда торчит!!! Без лестницы не достать, а лестницу-то ты вчера с собой унес!
– А?.. Я?.. Зачем?
– Да, хозяин… не убивай!!! Ты сам… спать с ней лег и ругался, что баба костлявая попалась…
Бурею очень хотелось кого-нибудь убить… ну, очень! Однако кто-то уже совал ему ковш с водой, а правая рука еще не отошла и топор пришлось бросить… Кажется, кому-то на ногу…
В желании заиметь жизнеспособное потомство Бурей не пренебрегал никакими средствами, в том числе и весьма сомнительными, что уж там говорить про народные приметы! Так и появился у него на дворе высоченный шест, увенчанный тележным колесом. В положенный срок на этом колесе свила гнездо пара аистов, вывела птенцов и вот уже много лет каждую весну возвращалась на насиженное место. Своих-то птенцов они выводили ежегодно, а Бурею помощи от них что-то не было видно. Раз десять обозный старшина собирался перестрелять пернатых обманщиков из лука, раз двадцать сулил им награду (начал с ведра лягушек, потом обещал корзину, потом целую телегу и, в конце концов, дошел до обещания изловить всех лягушек во всех окрестных болотах).
Аисты ни на угрозы, ни на посулы не реагировали, может быть, потому, что Бурей всегда озвучивал свои намерения в пьяном безобразии? Один раз он даже выдернул шест с гнездом из земли и, не удержав равновесия, уронил его прямо на ворота, отчего колесо с гнездом соскочило с верхушки шеста и чуть не убило Варвару, наблюдавшую за процессом с улицы через щелку. Правда, это было зимой, и аисты о таком вопиющем акте вандализма ничего не узнали.
Сейчас Бурей стоял на крыльце и, щуря слезящиеся от яркого солнышка глаза, пытался разглядеть торчащую из гнезда пяточку. Действительно, что-то торчало… и даже, вроде бы, розовенькое… или желтенькое? В то, что аисты принесли ему ребеночка, обозный старшина не поверил ни на секунду – не привык он к подаркам судьбы. Тяжкое похмелье тоже не способствовало мечтаниям о внезапном счастье, а только что пережитая им отчаянная борьба за жизнь (не то под развалинами дома, не то под опрокинутым возом, не то и вовсе в медвежьей берлоге) настраивала скорее на мрачную решительность, чем на мечтательность. Но разбираться-то было надо!
– Лестницу давайте!
– Дык… в горнице…
– Несите сюда, чувырлы!
– Дык, хозяин… ты ее поломал вчера – в горнице не помещалась!
– Гр-р-р… убью, мать вашу…
– Хозяин!!! У соседей попросили… вон, смотри, несут уже!
– Ох… тогда не убью… рассолу мне!
Под взглядами разинувшей рты челяди Бурей, со стонами и кряхтением полез по приставленной лестнице к гнезду. Едва он поднялся над уровнем забора, как сделался объектом пристального наблюдения еще и со стороны соседей. Преодолев примерно две трети пути, обозный старшина не выдержал и огласил окружающее пространство ревом:
– Чего вылупились? Лестницы не видали?.. Э!!! Погоди!!!
Последние слова адресовались уже не соседям, а шесту, который начал медленно крениться, выворачивая свой нижний конец из земли. Бурей рванул по лестнице вниз, но было уже поздно – шест кренился все больше и больше, и в какой-то момент окрестности огласило дружное «Ах!» – из гнезда выпал ребеночек! Лысый!!! С бородой!!! Зовут Сучком!!!
Холопы и холопки дружно кинулись ловить «младенца», а Сучок падал камнем, в той же позе, в какой и спал – свернувшись клубочком. Проснулся он, надо понимать, только тогда, когда сшиб с ног сразу двоих пытавшихся подхватить его мужчин. Высота была уже невелика, да и «спасатели» смягчили удар, поэтому Сучок не разбился, а заметался – сунулся туда-сюда на четвереньках, натыкаясь на ноги окруживших его людей, ничего не понял, уселся на землю и, с совершенной очевидностью для окружающих, озадачился вопросом: «Где я, что я, и зачем?».
– Сучок!!! – взревел все еще стоящий враскорячку на упавшей лестнице Бурей. – Стебать тя оглоблей!!! На хрена ты туда залез?!!!
– А?
– Я говорю… Ох… Чурбан треснутый! Чего тебя в гнездо занесло?
– Сам просил уважить, – поведал Сучок, – место под ребеночка пригреть…
– Врешь!!
– Сам ты чурбан треснутый! Я бы без помощи туда взобрался? Ты же и подсаживал, жопа конячья!
Над подворьем обозного старшины повисла напряженная тишина. Молчал Бурей долго, но зато вопрос, заданный им после паузы был, что называется, не в бровь, а в глаз:
– Опохмелиться хочешь?
– Ох, и повезло же тебе, Кондрашка… – Бурей, прищурив глаз, как при стрельбе, уже в четвертый раз нацелился носиком кувшина с бражкой на чарку и опять промахнулся. – Да что ж ты вертишься-то?
– Кто? Я? – Сучок пощупал скамью, на которой сидел, и отрицательно покрутил головой. – Не, я не кручусь.
– Да не ты! Стол! – обозный старшина склонился к столешнице и с хлюпаньем втянул вытянутыми в трубочку губами лужицу пролитой браги. – Или весь дом… или это… вообще все! Вот, опять пролил.
– Э-э-э, Серафимушка, не бывать тебе плотником… целкости должной нет. Это тебе не с луку стрелять, тут таинством владеть надобно!
– Э? – Бурей озадаченно поскреб в бороде. – Каким таким таинством?
– Ага! Так я и рассказал! – Сучок приосанился и попытался придать себе неприступно-загадочный вид, но получилось неубедительно из-за застрявших в бороде прядей квашеной капусты. – Таинство… оно… Выпьем!
– Не буду!
– Ну, не хочешь… как хочешь! – Сучок пренебрежительно махнул рукой. – Я и один могу… А почему?
– Ты меня обидел!
– Я?!! – изумился Сучок. – Да ни в жизнь! Серафимушка! Да ты ж тут единственный человек, который в своем уме! Все ж остальные дикие какие-то, сущие звери! И дети у них… вон, на Младшую стражу глянешь, жуть берет! Так и мнится, что бабы их прямо в доспехе рожали! Корней, ну прямо… как его? А! Скимен рыкающий! Ратники его – смерть ходячая! Архи… Ахри… страх… староста ваш! Как глянет! Как глянет… и баба у него лучница! Да что там ратники! Обозники-то! Илья… недавно мне такое сказанул… я чуть портки не потерял! Твое воспитание, между прочим, Серафим…
– Э? Мое? – Бурей ненадолго задумался, а потом подтвердил. – Да! Мое! А чего сказанул?
– Чего, чего… – Сучка аж передернуло от воспоминаний. – Я ему по чарочке принять предложил, а он говорит: «Некогда. Дел много». Нет, ты представляешь себе?!!
– Ой… Ик! – Бурей прикрыл рот ладонью и вытаращился на Сучка. – Не-е, Кондраш, он, пока у меня был, никогда… Это его там испортили!
– Точно! – плотницкий старшина упер в Бурея указующий перст. – Ох, мудер ты, Серафим Ипатьич, ох, мудер, как все прозрел! Истинно, истинно, вертеп там бесовской! И Михайла, в любомудрии погрязший, и мать его… это самое… с Рудным Воеводой… и греха не страшится! И Юлька…
– Гр-р-р! Ягодку не трожь!!!
– Так я ж и объясняю… Михайла так прямо при всех и сказал: «Бурей – добрейшей души человек!» Уж ему ли не знать? Так и говорит: «Добрейшей души!» И все соглашаются! Да и как не согласиться? Я всяких в своей жизни видал… с князьми, как с тобой, разговаривал, а такого, как ты, ни разу не встречал!
– Ну… ты уж совсем… – Бурей опять ухватился за кувшин, но обнаружил, что чарки полны. – Прям… тебя послушать, так и…
– И скромный! – подхватил Сучок. – И набожный! И… давай, Серафимушка, за тебя! Дай тебе Бог здоровья!
Друзья опрокинули по чарке, Бурей захватил жменю квашеной капусты и смачно захрустел, а Сучок, нюхнув корочку хлеба, продолжил:
– Я ж тут было уже совсем затосковал: народ-то все вокруг дикий, видом страхолюдный… даже зверообразный! Прямо сыроядцы какие-то! Нет, на вид-то они даже и благообразны… некоторые, но в душе-то! Ты представляешь? Я ему в морду со всей мочи, а он смотрит так, будто неприятно ему, что я руки перед тем не помыл!
– Гы-ы-ы! Это у нас умеют!
– Вот именно! И вдруг ты! Посреди всего этого ужаса! Такая же, как я сам, душа неприкаянная. Ну, признайся: ты ведь тоже почуял? А? Ну, почуял же? – Сучок сжал ладони перед грудью и умилился. – Как ты меня тогда об забор! Ласково, даже не сломал ничего!
– Ну, уж… ласково… – засмущался Бурей. – Скажешь тоже… неприкаянная.
Застенчивость настолько не вязалась с внешним видом обозного старшины, что Сучку стало его жаль и захотелось сказать что-нибудь ободряющее.
– А за Юленьку ты, Серафим, не беспокойся! Она сама кого хочешь… Вот у меня один дурень ее как-то дурным словом помянул, так тут же, не сходя с места, себе обухом по пальцу и звезданул! Чуть не в лепешку разбил!
– Гы-ы-ы! – тут же развеселился Бурей. – А ты говоришь: «Таинство! Целкость!». Гы-ы-ы!
– Да! Таинство! – взвился Сучок. – Если хочешь знать, у нас в Новгороде Северском любой из моей артели… Ну, вот случается, что выпить страсть как охота, а нечего! И тогда мы идем в кружало и бьемся там об заклад… на выпивку, само собой. В мах, из-за плеча, рубим топором мухе лапки. А муха жива остается! Только муху покрупнее надо брать – работа все-таки тонкая. А еще лучше овода – он на вид муха мухой, только серая, но не в пример нажористей.
– Мухе? Ноги?
– Ага!
– Топором?
– Им, родимым!
– Врешь!
– На, смотри!
Сучок сунул Бурею под нос указательный палец левой руки с искривленным, бугристым, изуродованным давним ранением, ногтем.
– Вот! Это я еще, когда только учился, себе тяпнул.
– Ух, ты! – восхитился обозный старшина. – За это надо…
– Да! Наливай!
Бурей снова промахнулся мимо чарки, но на этот раз плеснул бражку не на стол, а в миску с кашей.
– Ничего! – успокоил его плотницкий старшина. – Так даже лучше – и выпивка, и закуска разом.
– Ничего не лучше! – не согласился Бурей. – Пока я его обеми… обиме… двумя руками держу… – он ухватился за столешницу так, что захрустели толстенные, в два пальца, доски, – не вертится. Но наливать-то тогда как? Руки-то заняты!
– Ну, давай я наливать буду.
– Невместно! – Бурей замотал головой. – Ты гость!
– Ну, тогда… не знаю! Э-э… Может быть, я стол подержать попробую?
– О! А ну, давай!
Некоторое время обозный старшина внимательно наблюдал за усилиями старшины плотницкого, у которого от натуги даже вспотела лысина, потом разочарованно вздохнул и поинтересовался:
– А сильней не можешь?
– Фу-у! – Сучок утерся рукавом. – Что, совсем не помогает?
– Не то чтобы совсем… крутится-то медленнее, но не останавливается же, зараза!
– И как же быть? Наливать-то надо!
Оба сотрапезника впали в задумчивость. Сучок чертил пальцем на мокрой столешнице какие-то сложные узоры, а Бурей, сжимая в кулаке по нескольку лесных орехов, дробил на них скорлупу и, сам того не замечая, просыпал большую часть плодов своих усилий мимо стола, на пол. После нескольких минут размышлений обозный старшина кивнул сам себе, решительно хлопнул ладонью по столу, скривился, наколов руку обломком ореховой скорлупы, и спросил:
– Кондраша, ты мне друг?
– Серафи-им! Да что ж ты такое… Даже и обидно как-то!
– А если друг, то научи меня таинству целкости!
– Вот, значит, как… – Сучок побарабанил пальцами по столешнице. – А! Будь по-твоему, Серафимушка. Для друга не жалко! Только уж не обессудь, научу не всему таинству, а только чтобы наливать без промаха. Значит, так…
– Т-с-с! – Бурей прижал палец к губам. – Идет кто-то.
В горницу вошла холопка с глиняной миской в руках. В миске горкой лежали куски исходящего ароматным паром, еще негромко скворчащего жареного мяса.
– Эге, мяско пожаловало! – Сучок радостно потер ладони.
– Откушай, гость дорог… – начала было холопка, но Бурей прервал ее, звонко шлепнув ладонью пониже спины. – Ой!
Бурей, не обращая внимания на холопку, поднес ладонь к глазам и принялся ее пристально разглядывать.
– Кондраш… гляди-ка, а тут не промахнулся!
– Конечно, не промахнулся! – согласился Сучок. – Она ж не крутилась.
– Точно заметил? – Бурей подозрительно прищурился.
– Не сомневайся, Серафимушка, у меня на это дело глаз навострен! Точно, не крутилась!
– Угу… так что там с таинством-то?
– Фефяшь… – Сучок уже успел засунуть в рот изрядный кусок мяса. – Уф… гогяшее.
– Сам ты гогяший! – возмутился Бурей. – Закусываешь, а не выпили!
Сучок торопливо задвигал челюстью и с натугой глотнул.
– Все-все, все уже! Слушай!
Зажав между большим и указательным пальцами правой руки перышко зеленого лука, плотницкий старшина оттопырил остальные пальцы и взмахнул получившейся «указкой» над столом.
– Вот, значит, чарка, – Сучок указал перышком лука на названную посуду. – А вот твоя рука. – Перышко щекотнуло ладонь Бурея.
– А это для чего? – обозный старшина выхватил лук из пальцев Сучка и засунул себе в рот.
– Вот душевный ты человек, Серафимушка… ничего не скажешь, душевный! А красоты не понимаешь!
– А причем тут красота-то?
– Ну… как бы это объяснить… – Сучок поскреб в затылке. – Был у меня случай один. Перестилали мы как-то полы в храме Божьем… дай Бог памяти… не важно. А там как раз регент с хором упражнялся. И все у них что-то не ладилось. Вроде бы и поют стройно, и голоса звонкие, а… все что-то не то! И регент сердится: без души, мол, поете. Мы уж и шуметь поменьше старались, чтоб не мешать, а у них все не ладится. И вдруг регент говорит: «Погодите», и выходит вон. Потом возвращается, а в руке ромашка. Показывает ее певчим и объясняет: «Вот, поглядите! Цветок будто бы и прост, а сколь красоты неизбывной Господь в него вложил! Какое чудо, какое совершенство! Вглядитесь, как все его естество приспособлено к тому, чтобы к солнцу тянуться, чтобы весь день за ним поворачиваться и воспринимать животворный свет, с небес льющийся! Как утром его лепестки раскрываются, ловя первые лучи зари, как дарит он трудящимся пчелам сладчайший нектар, как радует глаз человеческий, отдыхающий на нем от суеты сует мирской!
Господь одарил его радостью нести в мир красоту, но так же Он одарил и вас дивными голосами, дабы и вы могли приумножить красоту и радость в сотворенном Им мире. Этот цветок всей своей жизнью, всем своим существованием оправдывает дарованное ему Господом свойство малой своей лептой приумножать общую красоту мироздания! Разве ж это не пример для вас?
Вы можете сказать, что, кроме пения, у вас и других дел полно. Но так же и цветок: дает нектар пчелам, бросает в землю семена, служит кормом для скотины бессловесной или ложится в землю, удобряя ее. И все это он делает изо всех сил, не отлынивая и не отвлекаясь. Умом его Господь не наделил, а посему исполнение предназначения и есть для него высшее счастье. Вас же Господь наш Вседержитель одарил превыше всех остальных тварей, дав свободу воли и разум, чтобы ей воспользоваться. Разумно воспользоваться!
Да, цветок более того, к чему приспособлен, творить не может, но зато творит это всей своей сутью, без остатка. Вы в обыденной жизни заняты иными делами, но вступив под сень храма Божьего, отриньте мирскую суету, станьте, как этот цветок, отдайтесь всем существом своим той единственной стезе, ради которой вы здесь находитесь – оправдайте же и вы свой дар певческий, данный вам Господом!»
И взмахнул цветком. И они запели. Как они запели, Серафимушка! Моих обормотов аж слеза прошибла, да я и сам… веришь, Серафим, забыл, где я! Так тот регент все лето разными цветками перед хором и махал, а люди в тот храм даже издалека приезжали, чтобы певчих послушать… Я тоже ходил, хоть и работу там давно мы закончили. А потом осень настала… зима. Цветов нет. Встретил я как-то регента на улице. Идет, скукожился весь, грустный такой… Пошел я к себе и стал делать деревянный цветок! Не смеешься, Серафим? Нет, вижу, что не смеешься.
Бурей слушал, пригорюнившись и перекосив подпирающим щеку кулаком свою жуткую рожу. Показалось Сучку, или на самом деле как-то подозрительно заблестели глаза у обозного старшины?
– Больше недели возился, пока понял, что красить его не надо – у дерева своя красота есть! А как понял это, так и получилось! Деревянный-то, деревянный, а все равно живой! Подарил я его регенту… Так он меня благодарил, так благодарил… А я только после этого по-настоящему дерево чувствовать и научился. Наливай!
Бурей плеснул бражки в чарки, друзья выпили.
– Вот и все таинство, Серафимушка! Ты же в этот раз не промахнулся?
– Э? А как это?
– А вот так! У цветка ума нет, но он свое дело делает исправно. У руки твоей тоже ума нет, но дело свое она знает… много разных дел, все, которым ты ее за всю свою жизнь научил. Вот и пусть разум, тем более пьяный, ей свое дело делать не мешает. Ты же сейчас не думал: как кувшин держать да как в чарку струей попасть? Вот рука и не промахнулась.
– Э? – Бурей недоверчиво уставился на свою руку и пошевелил пальцами. – Так просто?
– Проще некуда, Серафимушка.
– Ну, ты прямо как… – Бурей запнулся, подбирая слово, потом выпалил: – Прямо, как Настена!
– Ну, так и я в своем деле не менее искусен, чем она в своем! – не затруднился с ответом плотницкий старшина. – У нее травы да наговоры, а у меня топорик, а суть-то одна: знание, освященное чувством – мастерство! – Сучок вдруг озорно подмигнул Бурею. – Ты думаешь, что я ума лишился, когда с малым топориком против меча пошел? Не-а! Я им владею… рука моя владеет получше, чем ваши ратники зверообразные мечами своими. Не лучше всех, конечно, но лучше многих. Тот обормот, с которым я тогда схлестнулся, меч с умом держал, моя же рука с топориком без ума управлялась. Не меня ты тогда от смерти спас, Серафим, а его. Меня же ты спас от убийства вольного человека закупом. Вот так-то, старшина!
– Кондрат… – Бурей потрясенно смотрел на тщедушного лысого человечка, едва достававшего макушкой середины его груди. – Предназначение… а какое у меня предназначение? Не знаю… Цветку хорошо – ему думать не надо, делай, что предназначено. А мне как?
– Да-а… Верно ты говоришь, Серафим: хорошо, когда думать не надо… для того и пьем. Наливай!
Выпили, закусили помолчали… вразнобой вздохнули, еще помолчали.
– Кондрат, а давай я тебя выкуплю! И долг прощу! У меня много…
– А я тебе ребенка сделаю, Серафим! Показывай, с кем?
– Что-о?
Бурей озверел мгновенно и вздыбился над столом как атакующий медведь. Сучок даже не пошевелился, а лишь издевательски поинтересовался:
– Может, и по нужде вместо меня сбегаешь, или есть вещи, которые все же самому делать надо?
– Гр-р-р… – Бурей еще некоторое время покачался на задних лапах (иначе не скажешь!), нависая над столом, потом тяжело осел на скамью. – Дурень лысый… убить же мог…
– А и убил бы! Пьяному умирать легко, не страшно. Наливай, умник волосатый… вот видишь, опять не промахнулся!
– Чтоб тебя…
– Согласен! – Сучок вознес чарку над столом. – Давай, Серафимушка! Чтоб меня!
Два голоса – басовитый рык и хрипловатый тенор – старательно выводили слова песни на совершенно непривычный, какой-то неправильный, но берущий за душу мотив. Певцов совершенно не смущало, что они повторяют одно и то же в пятый или шестой (а может, и в десятый) раз. Первый-то раз звучал только один голос, а второй только подрыкивал, да и то не в лад. Но потом дело пошло. Сейчас уже никто не сбивался, и песня лилась свободно.
Черный ворон, что ты вьешься Над моею головой? Ты добычи не дождешься, Черный ворон, я не твой!– Душевно… – пробормотал Бурей. – Не по-нашему как-то, но душевно.
– Михайла ребят своих учил, а я запомнил. И что за парень? Все у него через задницу, но получается, рубить-колотить… и даже хорошо бывает. Вот, как сейчас.
Что ты когти распускаешь Над моею головой? Иль добычу себе чаешь? Черный ворон, я не твой!– Да, хорошо… Знаешь, Кондраша, а ведь он меня убить должен. Пророчество такое.
– Наплюй, Серафимушка. Михайла всякие пророчества на хрену вертел. Бабы болтают, что его никто заворожить не может. Ни Настена, ни Нинея… и попа он не боится. Веришь, мальчишка, сопляк, а бывает… как сказанет что-нибудь, как глянет, сам себя сопляком чувствуешь. Нездешний он какой-то…
– Здешний он Кондраш, здешний. Я сам видел, как его крестили. Прямо в купель напрудил, зараза мелкая. Родиться не успел, а уже все не как у людей… Так и дальше пошло-поехало.
Завяжу смертельну рану Подаренным мне платком, А потом с тобою стану Говорить все об одном.– Кондраш, у тебя мечта есть?
– Угу. Выкупиться и артель выкупить. Сам же знаешь.
– Не, Кондраш, это не мечта, это работа, которую сделать надо и сделать можно. А мечта… это вот так, что, может, и не сбудется никогда, а думать об этом все время хочется.
– И у тебя такая мечта есть?
– Угу.
– А про что? Не, Серафим, если не хочешь, не говори…
– Тебе можно, Кондраш… ты поймешь. Как ты про цветок-то…
– Это не я, это регент. Я только повторил.
– А я и повторить не смог бы… Только ты, Кондраш, как от себя рассказывал… Я видел. Чужие слова так не повторяют.
Полети в мою сторонку, Скажи маменьке моей, Ты скажи моей любезной Чтоб не ждали впредь вестей.– Вот о любезной-то я и мечтаю, Кондраша.
– А я думал… об ребеночке…
– Ребеночек, Кондраш, само собой… только без любезной… пробовал я уже, ничего путного не выходит…
– Да… а рисковать мне больше нельзя, два раза уже женился… третий раз еще позволят, а потом ни-ни – таинство брака. Да и возраст уже…
– Ну так и что? Баб вокруг мало, что ли? Вон, у тебя по двору чуть не десяток бегает… Хотя… любезная… это да, это, я тебе скажу… И какая ж тебе нужна?
– Сильная!
– Так, не пахать же…
– Духом сильная, Кондраша! Такая, чтобы… такая, знаешь… чтобы робеть перед ней!
– У-у-у… Да таких и не быва…
– Настена!
– И ты пред ней робеешь?
– Бывает, Кондраша, бывает… даже и перед Ягодкой… случалось… только не про меня они. Я о них, как о бабах, и думать-то не могу…
– Да, Серафим, это ты… рубить-колотить… ну надо ж так!
Оба приятеля опять надолго замолчали, а Сучок так глубоко задумался, что даже вздрогнул от голоса Бурея, почему-то вдруг ставшего веселым.
– А и телесная сила – тоже хорошо! Такая, чтобы на руках меня носить могла!
– Да ты спятил!
– Не-а! Вон, позади тебя стоит!
Сучок обернулся – на пороге горницы стояла Алена и делала сразу два дела: крестилась на икону в красном углу правой рукой и выпихивала в сени сунувшуюся вслед за ней холопку левой.
– Здрав будь, Бурей! – поприветствовала богатырша. – И ты… свет очей моих!
– Гы-ы-ы! – приветливо отозвался хозяин дома. – Свет… это лысина блестит!
– Она… – не стала спорить гостья.
Голос и манера говорить вполне соответствовали телосложению Алены. Никто и никогда не слыхал от нее ругательной бабьей скороговорки, да и на визгливый тон она тоже не срывалась, наоборот, чем больше она сердилась, тем более размеренной становилась ее речь, и тем больше опускался ее голос к басовым нотам. Вот и сейчас он звучал так, словно Алена вещала через печную трубу.
– Аленушка… – проблеял Сучок, терзаясь самыми мрачными предчувствиями.
– Поете, значит, соловьи? А Варвара уже все село оббежала! Сучок убился, Сучок убился! Пока меня на огороде нашла, умаялась, еле на ногах стоит.
– Да не убивался я, Аленушка! – возопил Сучок так, словно тонул и звал на помощь. – Из гнезда только выпал…
– Из гнезда? – было заметно, что Алена ожидала чего угодно, но только не такого.
– Ага! – зачастил Сучок. – Из аистового… то есть из аистячьего… аистюч… – он запутался в словах, но увидев, что Алена шагнула в его направлении, взвыл и вовсе дурным голосом, – из аиститскава-а-а!!!
Зачем Бурей вылез из-за стола, что собирался сказать или сделать, так и осталось неизвестным, потому что, запнувшись на первом же шаге, обозный старшина побежал в сторону объекта обожания Сучка, так же, как утром бежал в угол горницы, споткнувшись о лестницу. Для Алены намерения несущейся прямо на нее несуразной туши тоже были загадкой, но действовала она быстро и энергично. Толкнув спиной дверь, она отшагнула в сени, а когда голова Бурея вошла в створ дверного проема, быстро дверь захлопнула.
Бум… дверь содрогнулась, но выдержала – строил себе жилье обозный старшина добротно, Алена тоже не сплоховала – Бурей в сени не вылетел, а отскочил обратно в горницу и с размаху сел на пол.
– Ы!!! – прокомментировал он случившееся, демонстрируя завидную прочность черепа и способность оставаться в сознании даже после таких ударов. – Ы-ы-ы!!!
От серьезной травмы обозного старшину спасло только почти полное отсутствие носа – удар приняли на себя мощные надбровные дуги.
– Не зашибся, Буреюшка? – участливо поинтересовалась гостья, вновь возвращаясь в горницу. – Что ж ты так неосторожно-то?
– Алена!!! Ты чего творишь?!! – Сучок возмущенно всплеснул руками. – Под Серафимом и так утром лестница упала, а тут ты еще…
– Лестница? – постоянно сообщаемые Сучком новости сбивали Алену с настроя, и это раздражало еще больше.
– Пяточку… поглядеть… – уточнил сообщение приятеля Бурей.
– Допились! – Объект роковой страсти плотницкого старшины принял стойку «руки в боки». – Один… птенчик… из гнезда выпадает, другой, чтоб на пятку глянуть, куда-то на верхотуру лезет! Да еще и поют так, что у соседей собаки воют! А я-то… дура… – Алена неожиданно всхлипнула, – бегу… думаю: живой или нет?.. А он тут…
– Аленушка! – Сучок шагнул к своей даме сердца, протягивая руки.
– У! Веник облезлый!!!
Реакция у Сучка была неплохой, и он успел прикрыть лицо скрещенными руками, но силой удара его все равно смело с ног и закинуло под стол.
– Чтоб ты сдох, поганка бородатая!!! И ты! – Алена развернулась к Бурею. – Нашел, с кем пьянствовать!
– Гр-р-р… – ответил обозный старшина, зверски оскалившись и переваливаясь из сидячего положения на четвереньки.
Что творится в гориллоподобной башке Бурея, никому невозможно было понять и в обычное-то время, а уж на второй день пьянки, да после всех приключений и сотрясений… Молниеносным броском оказавшись возле Алены, Бурей вцепился зубами сбоку в подол ее рубахи и, мотая головой, как собака, принялся трепать его, не прекращая утробного рычания. Другая бы женщина непременно от такого взвизгнула и попыталась бы вырваться, но сучковская любовь была не такой! Издав что-то наподобие уханья и подхватив с пола скамью, на которой в процессе возлияний восседал ее кавалер, она обрушила мебель на Бурея. Вернее на то место, где только что был Бурей. Обозный старшина, даже стоя на четвереньках, продемонстрировал воистину обезьянью ловкость – не только вывернулся из-под удара, но и сумел так рвануть зубами подол Алениной одежды, что сбил ее с ног и повалил на пол.
– Не тро… Уй!.. – Сучок крепко треснулся лысиной о край стола. – Не трожь ее!!!
Было, было, несмотря ни на что, в плотницком старшине нечто рыцарственное! Как он ринулся из-под стола на выручку к своей даме сердца! Как оседлал стоящего на четвереньках Бурея! Как вцепился тому в уши и рванул их на себя! Казалось, обозный старшина вот-вот заржет и, подобно породистому жеребцу, взовьется на дыбы, молотя воздух копытами!
Все испортила Алена! Лежа на спине, она подтянула колени к груди (Бурей и Сучок на миг окаменели от открывшейся картины) и ударила пятками Бурею в голову. Бурей, нырнув вниз, сумел увернуться и в этот раз, отчего мотнувшийся вперед из-за резко изменившегося угла наклона буреевской спины Сучок принял удар на себя!
Теперь его забросило уже не под стол, а на стол! Проехавшись по столешнице, он сгреб в одну кучу обломки, осколки, закуску, выпивку и обрушился на пол с противоположной стороны стола, увенчав своей персоной сотворенное им произведение искусства в жанре «натюрморт». Бурей наконец разжал зубы, снова придал себе сидячее положение, утерся рукавом и обогатил мир сентенцией:
– Гы-ы-ы! Во веселуха-то!
Холопы и холопки, стоявшие во дворе и любознательно прислушивавшиеся к доносящимся из дома звукам, разом вздрогнули, когда дверь распахнулась, и на крыльцо вылетело чудо-юдо, украшенное кровавой ссадиной – на лысине, кашей, солеными грибками, квашеной капустой, сотовым медом, зеленым лучком, укропом, петрушкой – по всему телу, и политое бражкой, льняным маслом, огуречным и капустным рассолами, сметаной и мясной подливкой. Следом на крыльце появилась баба богатырских статей, в рубахе, с сильно обтрепанным и замусоленным с одной стороны подолом, потрясающая смертоносным орудием – выломанной из скамьи ножкой.
И какой черт поставил прямо на пути Сучка двух холопок, державших в руках тележное колесо с остатками гнезда аистов? Имя его (черта) осталось для истории неизвестным, но дело свое он знал туго – холопки бросились бежать. Не выпуская из рук колеса. За ними Сучок. За ним Алена.
Забег длился недолго: достигнув запертых ворот, холопки замерли в ужасе – дальше бежать было некуда! Сучок останавливаться не стал – не смог или не захотел, кто знает? Вписавшись с разбегу в ставшее за ночь родным гнездо, он вырвал его у холопок из рук, ударился о створку ворот, упал, накрывшись гнездом с головой, и затих. Сладостный покой, обретенный плотницким старшиной с риском для жизни, оказался еще более кратким, чем забег по двору. Алена запустила руку под шедевр птичьего домостроения, ухватила Сучка за ногу и поволокла к калитке. Следом тащилось гнездо, в которое Сучок вцепился мертвой хваткой.
Краткая задержка при проходе через калитку так и не разрешила насущного вопроса: что оторвется раньше – нога, за которую тащила Алена, или руки, вцепившиеся в спицы колеса, застрявшего в узком проеме. Первым не выдержал проем. Сучок с гнездом скрылись из глаз холопов, но они этого даже не заметили – внимание собравшихся во дворе было приковано к хохочущей роже Бурея, занявшей собой всю площадь маленького окошка.
Примечания
1
Слана (старославянск.) – иней.
(обратно)2
Автору неизвестно, действительно ли эта пословица пришла к нам из Болгарии, но в XII веке ей на Руси было появляться рановато. А Болгария, из-за соседства с Византией, уже «познакомилась» и с судопроизводством, и с коррупцией.
(обратно)3
Это только фрагменты Песни песней царя Соломона. Ни Алексей, ни Анна не знали ее наизусть, да и непонятно было славянам многое в этом тексте.
(обратно)4
Казалось бы, неуместна в этом контексте цитата из рок-оперы, но Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II слушал «Юнону и Авось» и гимн «Аллилуйя любви» одобрил.
(обратно)5
От древнеславянского плост – войлок.
(обратно)6
От древнеславянского овен – баран.
(обратно)7
Автор сам в пятнадцатилетнем возрасте подвергся похожему испытанию. Впечатления были настолько сильными, что остаются яркими и по прошествии более сорока лет.
(обратно)8
Перуницы – крылатые девы-воительницы, дочери бога Перуна. Славянский аналог валькирий скандинавского эпоса.
(обратно)9
Присутственное место (присутствие) – государственное учреждение в Российской империи. Иногда в одном здании могло размещаться несколько присутственных мест, относящихся к разным департаментам или министерствам.
(обратно)10
Волоковые окошки служили не столько для освещения, сколько для вентиляции. Они задвигались – «заволакивались» – специальными дощечками, двигавшимися в пазах.
(обратно)11
Паволоки – дорогие ткани, как правило, импортные.
(обратно)12
Керасть (старославянск.) – змея; ехидна.
(обратно)13
По данным археологов, население покинуло город Хотомель именно в Х веке.
(обратно)14
Притечи (старославянск.) – прибежать.
(обратно)15
Стужити (старославянск.) – мучить.
(обратно)16
В усобице 1015–1024 годов выжили всего трое сыновей Владимира Святого из двенадцати.
(обратно)17
От непщати (старославянск.) – полагать, сомневаться, думать.
(обратно)18
Эти две версии наиболее часто упоминаются в исторических исследованиях.
(обратно)19
Аристарх немного путает: Василька Теребовльского ослепили в 1096 году, а битва на Стугне произошла тремя годами раньше. В этой битве русичи потерпели тяжелое поражение от половцев, князья Мономах и Святополк вынуждены были спасаться бегством, брат Мономаха Ростислав был убит.
(обратно)20
Еще в I тысячелетии н. э. числительными у славян определялось не только количество полноправных мужчин, но и административно-территориальное деление. Так, племена или племенные союзы (поляне, древляне, кривичи) именовались «тьма» (10 000), позднее этим термином именовались княжества (Смоленская тьма, Киевская тьма и т. п.). Город с прилегающими населенными пунктами именовался «тысяча», а комплекс из нескольких сельских населенных пунктов – «сотня». Отсюда, кстати, и термин «староста» – старший ста. Так что, ратнинская сотня – не только воинское подразделение, но и, если угодно, Ратнинский уезд.
(обратно)21
Непраздна – беременна.
(обратно)22
Потворник – во время проведения обрядов помощник жреца (стоял по правую руку, подавал священные предметы и т. д.), но кроме этого, у потворников были и собственные функции. Современной науке известны четыре «специализации» потворников: ЧАРОВНИК – травовед-гадатель, знающий травы, изготовитель снадобий и обрядовых напитков; ОБАВНИК – читающий славления и приговоры, изготовитель черт и резов; ХРАНИЛЬНИК – изготовитель священной утвари, оружия и снаряжения; НАУЗНИК – изготовитель наузов и оберегов.
(обратно)23
Это действительно так. В летописях нет иных персонажей, связанных с основанием городов – города либо возникают сами собой, либо их закладывают князья и больше никто.
(обратно)24
Считалось, что победить князя/вождя и забрать себе его мистическую силу может только другой князь или специально посланный князем человек, которому княжеский приказ давал право и силу для такого дела.
(обратно)25
Обычай выпить-закусить на кладбище, оставить на могиле стакан с водкой, накрытый куском хлеба, уходит корнями в очень давние времена, когда и кладбищ-то, в нашем понимании, не было.
(обратно)26
Слово «погост» приобрело смысл «кладбище» гораздо позже, когда князья перестали ездить в полюдье и гостить на погостах. Функция места сбора податей погостами была утрачена, а церкви и места захоронения при них остались. Сохранилось и выражение «свезти на погост», то есть отвезти на кладбище.
(обратно)27
Слова «волшебного наговора» заимствованы из рассказа А.П. Чехова «Беззащитное создание».
(обратно)28
Перевод Б. Пастернака.
(обратно)29
Przepraszam, panowie – извините, господа (польск.).
(обратно)30
Matka… boska… topielcy wyleźli… – Матерь Божья… утопленники вылезли… Zapychaj się, głupiec! – Заткнись, дурак!
(обратно)31
uzbrojonych – вооруженных.
(обратно)32
Wstać! Naprzód! – Встать! Вперед! (польск.)
(обратно)33
Pies parszywy! – пес паршивый! (Польск.)
(обратно)34
Proszę… pan… dla boga… – Прошу… пан… ради бога (Польск.)
(обратно)35
Dla boga, pan! – Ради бога, пан! (Польск.)
(обратно)36
Jezus!!! – Иисус!!! (Польск.)
(обратно)37
«Выдать головой» означало дать согласие на любое наказание, вплоть до смертной казни.
(обратно)38
Брезг – рассвет.
(обратно)39
Шеломань – холм.
(обратно)40
Треска – жердь, кол.
(обратно)41
Уньць – олень, Увоз – длинный спуск или подъем.
(обратно)42
Po potrzebie – по нужде (польск.)
(обратно)43
Буй – могучий, сильный (старославянск.).
(обратно)44
Насад – в основе тот же челн-долбленка, у которого борта наращивали досками «насаживая» их одну на другую, отсюда и название. Насад, разумеется, был менее вместительным, чем купеческая ладья, но зато превосходил ее скоростью и маневренностью.
(обратно)45
Сейчас на флоте употребляется иностранное слово «швартов», а вот производное от «чалки» – «причал» – сохранилось в русском варианте. Глагол же «причаливать» то употребляется, то нет, чередуясь с термином «ошвартоваться», который очень часто употребляется неправильно: «пришвартоваться», «отшвартоваться». На самом же деле следует говорить «ошвартоваться», то есть обвязаться швартовыми концами и «отдать швартовы».
(обратно)46
Планширь – самый верхний брус борта ладьи с гнездами для уключин.
(обратно)47
Слани – настил на днище ладьи или лодки для удобства ходьбы.
(обратно)48
Шпангоут – ребро судового «скелета». На деревянных судах делаются из деревьев, уже имеющих естественную кривизну, подходящую для обводов корпуса.
(обратно)49
Противень – второй экземпляр.
(обратно)50
Макошь, перемещенная в христианскую виртуальность, стала Параскевой Пятницей, а о ее «языческом периоде биографии» ученым известно довольно мало, поэтому автор позволил себе сочинить про нее сказку. Будем надеяться, Макошь не обиделась.
(обратно)51
Ильмаринен – популярный персонаж карело-финского эпоса. Его именем даже был назван построенный в 1930-х годах броненосец береговой обороны. Советская авиация безуспешно охотилась за ним и в Финскую войну, и в Отечественную, но «Ильмаринен» избежал бомбово-торпедных ударов, подорвавшись и затонув на минном поле.
(обратно)




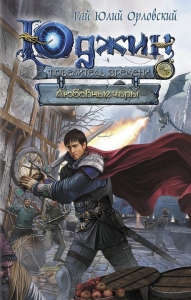


Комментарии к книге «Отрок. Богам – божье, людям – людское», Евгений Сергеевич Красницкий
Всего 0 комментариев