Валерий Елманов Сокол против кречета
Мне в жизни всегда везло на хороших людей, с которыми во множестве сталкивала меня судьба. Всем им с огромной благодарностью за то, что они мне дали, порою сами того не подозревая, ПОСВЯЩАЕТСЯ.
Еще одно, последнее сказанье — И летопись окончена моя, Исполнен долг, завещанный от бога Мне, грешному. Недаром многих лет Свидетелем господь меня поставил И книжному искусству вразумил… А. С. ПушкинПролог Далеко-далеко, за Луковыми горами
Прикрыта дикими кустами, На нем пещера есть одна — Жилище змей — хладна, темна, Как ум, обманутый мечтами, Как жизнь, которой цели нет, Как недосказанный очами Убийцы хитрого привет. М. Ю. ЛермонтовЕсли путешественник последует от благословенных аллахом городов Мавераннагра[1] прямиком через горные хребты Памира, соединяющие Тянь-Шань на севере и Тибет на юге, то он увидит на своем пути загадочное место, расположенное на северо-восточной окраине пустыни Такла-Макан. Это Турфанский оазис.
Обычный путник, изнуренный леденящим горным холодом и слепящим блеском девственных снегов Памира, а затем мучительным зноем, веющим не только с неба, но и от суровых раскаленных камней — единственных обитателей этой жестокой пустыни, навряд ли узнает о ней хоть что-нибудь интересное. Ему не до того.
Перебраться бы побыстрее через эти гиблые места да вступить в пределы великой Срединной империи — вот и все его мечты. Ему нет времени узнать даже название этой страны, которого, впрочем, у нее и не существует.
Китайцы в древности называли ее Сиюй, то есть Западный край, и концом ее считали Луковые горы — Памир и Алтай. У эллинов она называлась Серина, а местные жители в ответ на такой вопрос только недоуменно пожимали плечами. Они знают лишь название своего города и еще нескольких соседних.
Но это не означает, что они вообще ничего не знают. Жестокие зимние морозы, доходящие до сорока градусов, и еще более изнуряющая летняя жара — изрядная помеха для тех, кто хочет учиться.
Но для жаждущих знаний здесь зато имеется нечто иное. Ночью крупные, как китайское голубое блюдце, звезды с точно таким же нежным отливом, а днем — ослепительный блеск снежных вершин побуждают людей постоянно размышлять о высоком, хотя и недостижимом.
Да-а, светловолосые тохары — жители этой диковинной страны, где реки не имеют ни истока, ни устья[2], где даже озера постоянно меняют свои места[3], могли бы рассказать путешественнику немало интересного и поучительного.
Например, о том, как в таких тяжких условиях они ухитряются выращивать самый лучший в мире виноград, дыни, арбузы и абрикосы, как они дважды в году умудряются собирать со своих полей урожай, сколько усилий ими затрачено, чтобы защитить от смертоносных ветров хлопчатник, который сейчас надежно закрыт пирамидальными тополями и шелковичными деревьями.
Оазис в пустыне — само по себе великое и благодатное чудо, а когда он так заботливо ухожен, то чудо превращается в диковинную восточную сказку.
Ну а где сказка, там непременно должны быть не только отважные цари и герои, наподобие Гесера[4], не только справедливые и грозные далха[5], обитающие в небе и в горах, но и злые оборотни-мангусы.
Если ты будешь внимательно слушать, то седобородый старик, польщенный таким искренним интересом, расскажет тебе и про многое другое. Например, про местных и чужих дрегпа[6], про загадочных лу[7], обитающих у водных источников, про синего кузнеца Бала[8], который живет совсем недалеко в горах, в своей пещере. Не забудет он и про злых тхеурангов[9], которые по повелению Пехара[10] время от времени насылают на их благословенные земли то иссушающую засуху, то леденящий душу мороз.
Словом, много чего расскажут местные жители. Но ни один из них никогда, особенно после захода солнца, не упомянет о творце зла Нодджеде, ибо владыка небытия и тьмы не просто суров и не просто несет зло. Он сам и есть это воплощенное зло. Даже яйцо, из которого он вышел, было черного цвета, темнее самой непроглядной ночи.
Безнаказанно поминать его имя может разве что архаг[11]. Но с тех пор, как города и их окрестности заполонили кочевые уйгуры, поклоняющиеся Мани, а также бородатые несториане, исступленно доказывающие, что все боги ложны, кроме одного, распятого на кресте, архаги куда-то исчезли. Может, они и есть, ибо не жить земле без святых людей, но где найти их?
Разве что в Дуньхуане, где молчаливые буддийские монахи денно и нощно сидят в своих пещерных кельях, очищаясь от скверны и отрешаясь от ежедневных забот и суеты этого мира. Но до Дуньхуаня далеко, а тут дом, хозяйство. Ну куда все это оставлять?
Да даже если и найдешь ты этого архага — что толку? «Будь светильником самому себе», скажет монах[12], и как знать, возможно, что он прав. Только очень уж это тяжко — светить самому себе.
А потому лучше попросту не упоминать ни о Нодджеде, ни о Черном человеке — его слуге, принявшем человеческий облик. С этим страшным слугой лучше не встречаться, и сохрани тебя Гесер от общения с ним….
Увидев этого незнакомца в черных одеждах, солнце мгновенно спряталось за тяжелые фиолетовые тучи. Конечно, можно утверждать всякое, но навряд ли было совпадением то, что едва высокий худой человек с резким злыми морщинами на лице и пронзительным взором свинцово-серых глаз миновал городские ворота, как немедленно полил дождь.
Впрочем, жителям древнего Гаочана, лежащего прямо у подножия Пылающих гор, как здесь называют заснеженные вершины Тянь-Шаня, незнакомец не причинил особого вреда. Он добросовестно уплатил за все, что купил на городском базаре, полновесными золотыми динарами, договорился о проводниках, которые отвезут его вместе со всем добром в горы, а на следующий день уже выехал, держа путь по направлению к Пещерам тысячи Будд, которые местные уйгуры называли Безекликом.
Вот только солнце ни разу не появилось в небе, пока он находился в Гаочане. Вот только торговцы потом так и не нашли, как ни искали, тех золотых динаров, которые вручал им, расплачиваясь за еду, мулов и прочее, незнакомец в черной одежде. Вот только умерла с выражением дикого ужаса на лице услужливая уйгурка, предложившая ему свое смуглое стройное тело, а другую — синеглазую и светловолосую славянку-невольницу, которую человек в черных одеждах купил тут же, в Гаочане, и увез с собой, больше никогда и никто не увидел. Вот только бесследно исчез тот небольшой караван, с которым незнакомец прибыл в Гаочан.
Совпадение? Возможно. Но слухи поползли. Поначалу они были туманными и неясными, но затем, когда с гор вернулся чудом выживший проводник — один из восьми, которые взялись сопровождать его за щедрую плату, кое-что стало ясно.
По его сбивчивым односложным репликам и не договоренным до конца фразам трудно было догадаться о том, что же все-таки произошло в горах. Люди поняли только одно. Даже не добравшись до Пещер тысячи Будд, Черный человек и все его спутники свернули куда-то в сторону и еще один долгий и томительный день блуждали по хаотичному нагромождению скал. Потом, уже в темноте, они остановились близ неприметной мрачной пещеры, надежно укрытой от человеческих глаз.
Проводник был смертельно напуган увиденным, а уцелел лишь потому, что бежал без оглядки, наплевав на остальных, с которыми незнакомец пообещал расплатиться наутро. И расплатился, подарив им безболезненную и быструю смерть, когда скалы, окружающие людей, вдруг зашевелились, угрожающе загрохотали и принялись швыряться огромными неподъемными валунами.
Укрыться в пещере возможности не было — вход в нее попросту исчез. Неприметная тропа, по которой поднимались люди, тоже куда-то пропала. Остался только безудержный гнев и ярость гор, осыпающих людей камнями, да еще черный скалистый базальт, внезапно превращающийся в трясину и смачно всасывающий в себя людей, под ногами которых вдруг распахивались бездонные провалы.
Проводник еще долго убеждал жителей Гаочана, что он рассказал истинную правду. Почему-то ему было очень важно, чтобы ему поверили. А потом, через три дня, он поклялся разыскать проклятую пещеру и черного человека.
Возможно, он действительно ушел бы на поиски, но не успел. Его нашли утром следующего дня, привалившегося к стене дома, где проживал горшечник Нияз. Лицо мертвеца было искажено от страха, а в широко раскрытых глазах застыл ужас перед какой-то запредельной тайной, за краешек которой он по глупости заглянул.
Но в его глаза никто не вглядывался. Уж очень не по себе было тем, кто его обнаружил. Да и чего в них всматриваться — все равно в огромных черных зрачках бывшего проводника нельзя было ничего разглядеть, кроме густого мрака всепоглощающей бездны.
Только тогда и стало людям кое-что понятно, но опять-таки не всем, а лишь знающим тайную суть вещей. Таких же — увы — всегда было мало в мире и по пальцам перечесть в торговом Гаочане, жители которого знают толк лишь в умении развлечь заезжих путешественников, чтобы те оставили побольше золотых и серебряных кругляшков в их широких поясах.
К тому же сам Черный человек еще долгое время — не один год — совершенно не беспокоил жителей города. В другой раз он появился, когда те, кто видел безумного проводника сопливыми мальчишками, стали уже совсем взрослыми, обзавелись семьями и точно такими же непоседливыми сорванцами, какими были они сами.
Но странное дело — они-то изменились, а вот незнакомец, который на этот раз был один, без каравана, остался прежним. Все те же острые морщины двумя хищными стрелами отделяли его хрящеватый нос от впалых щек, все так же презрительно были поджаты его тонкие губы, и все так же щедра его рука, которая охотно раздавала золотые динары.
Вот только черных дирхемов, которые ему протягивали торговцы, честно отсчитывая сдачу с многочисленных покупок, он не брал. Наверное, был богат и попросту не нуждался в сдаче.
Именно поэтому его и припомнили. Купцов, побывавших за свою жизнь в гостеприимном Гаочане не два, а десять раз, жители города могли и забыть. Очень уж много людей едут с верблюжьими караванами через этот самый Гаочан, вывозя нежный гладкий шелк и тонкую невесомую фарфоровую посуду голубоватого цвета из пределов Срединной империи в богатые города Италии и Прованса. Не меньше их следует и обратно — европейцам тоже есть что предложить для выгодного торга! Разве тут всех упомнишь?
Но вот человек, который не торгуется из-за каждого черного дирхема, который отказывается принять серебро, а расплачивается исключительно золотом, жителям города запал в память, как удивительно редкостная диковина.
И вновь все повторилось, как и в первый раз. Никто так и не запомнил, куда выехал небольшой караван, который вели три брата, нанятые за баснословные деньги — по десять золотых монет каждому. Братья же так потом никогда и никому не поведали, куда они ездили, потому что больше их никто не видел.
А потом, когда еще одно поколение сопливых мальчишек стало степенными мужами, незнакомец появился в городе в третий раз.
Вот тогда и прояснилось многое, но тоже далеко не все, потому что есть вещи, до сути которых ни один здравомыслящий человек докапываться попросту не станет. Разве что в мыслях. А то чревато, знаете ли.
Да и как тут не поймешь, когда сразу после его очередного появления и исчезновения весь город буквально начало лихорадить. Кроткие мужья чем ни попадя лупили своих жен, жены, будто обезумев от похоти, накидывались на чужих мужчин, дружные соседи начинали между собой злые свары, переходящие в побоища, а уж какая ругань царила на базаре из-за одного-единственного неудачного словца, и описать нельзя.
Через день, от силы два после ухода незнакомца все начинало утихать, а к исходу третьих суток соседи шли мириться, муж покупал жене в знак извинения нарядные бусы, а та, в свою очередь, еще долго вела себя тише воды и ниже травы, хотя каяться в тайных грехах не спешила — авось пронесет.
Глава 1 Первый блин комом
Он и в томах старинных книг Отраву находить привык, И, в непонятные места Все углубляясь неспроста, Он в них отыскивал слова Для каббалы и ведовства… Вальтер СкоттТак случилось, что очередное появление Черного человека совпало с въездом в город небольшого военного отряда монголов. Вел его Бату, второй сын Джучи, который в ту пору возвращался с добычей, награбленной в богатых городах империи Цзинь.
Воинов у него было довольно много, около полутора тысяч, включая раненых и увечных, но остальные в город не заходили, разбив свои юрты недалеко от высоких и толстых каменных стен.
Дело в том, что еще во времена Чингисхана молодой отважный Барчук, правивший Уйгурским индикутством[13], куда входил и Турфанский оазис, и сам Гаочан, добровольно перешел в подданство к монголам. Впоследствии он столь успешно воевал и так сильно понравился потрясателю вселенной, что тот не только женил его на своей дочери Иль-Алти, но и назвал уйгурского индикута своим пятым сыном[14].
Выиграли от этого обе стороны. Чингисхан получал дань не только в виде благородного металла, но и людьми. Барчук посылал к монгольскому правителю образованных юношей, которых полководец назначал своими битекчи[15], а в войске монгольского хана с тех пор появился уйгурский тумен.
Кроме того, к немалой выгоде обеих сторон, оставался нетронутым великий торговый путь[16] — источник экономического благополучия жителей всех уйгурских городов.
Взамен Чингисхан давал своим новым подданным некоторые льготы, в том числе и строгое ограничение числа воинов, которых они обязаны были принять на постой в караван-сараях. Только в случае, если бы через Гаочан следовал сам потрясатель вселенной, это число можно было увеличить, но не более чем вдвое, со ста до двухсот.
Местные уйгурки были ласковыми и покладистыми, а хан — веселым и щедрым, да к тому же еще и молодым. Он не жалел своего семени, а уйгурки — ласк, и все были довольны, включая воинов его отряда и мужей этих уйгурок, которые радостно прятали серебро, получаемое от жен.
Довольны были и остальные местные жители. Ведь монеты в поясах воинов быстро заканчивались, и приходила пора продавать то, что они награбили в Срединной империи. Огромные куски нежного шелка, тонкие фарфоровые чашечки и многое другое уходило за бесценок, оседая в просторных ларях и сундуках хозяйственных гаочанцев в ожидании достойных покупателей.
Так длилось целых три дня, а утром четвертого в город вошел Черный человек. На этот раз он отсутствовал недолго, всего-то лет десять. Вид его был неизменным — суровое лицо и тяжелый взгляд серо-голубых глаз цвета грязного льда. Как обычно, он и на этот раз прямиком подался на городской базар, но затем двинулся туда, куда обычно не ходил, к ханскому дворцу, расположенному в северной части города, на высокой террасе и отделенному дополнительной стеной от всех прочих жилых кварталов.
Как его пропустили неподкупные и верные нукеры, зорко следящие, чтобы ни одно живое существо не проскользнуло в покои их повелителя Бату, — не скажет никто. Да и они сами тоже. Во всяком случае, трое из них, ибо впоследствии хан обнаружил их уже мертвыми.
От четвертого же добиться чего-либо вразумительного удалось бы разве что архагу, потому что на все вопросы начальника караула он только глупо улыбался, хлопал глазами, в которых не осталось ни капли разума, и обильная слюна стекала у него из приоткрытого рта.
Одним словом, когда Бату проснулся, то увидел человека в черных одеждах, стоящего совсем рядом и внимательно разглядывающего монгольского хана. Осмотр, по всей видимости, человека удовлетворил, и тогда он произнес свою первую фразу:
— Я думаю, что мы с тобой поладим.
— Ты кто? — встревоженно спросил Бату, лихорадочно шаря рукой под подушкой в поисках узкого стилета, который ему подарил один итальянский купец два года назад.
Одна сторона его лезвия была обильно смазана ядом, который действовал безотказно. Эта вещица приходилась весьма кстати, когда хану надо было устранить человека, заподозренного в неверности или лжи. Достаточно просто предложить ему совершить обряд крови, вознеся жертву Вечному Небу и Сульдэ.
При этом свое запястье Бату надрезал той стороной лезвия, на которой яда не было. Когда человек после совершения обряда умирал, ни у кого не оставалось сомнений в том, что он был лжив и таил в себе черные мысли, иначе бы он не умер. Ведь всем известно, как жестоко и беспощадно карает Вечное Небо тех, кто кривит душой.
— Ты ищешь его? — вместо ответа спросил человек в черном, и в его руках, как по мановению волшебной палочки, оказался стилет, уже извлеченный из ножен.
Хан сглотнул слюну и молча кивнул в ответ. Крикнуть нукерам, чтобы убрали наглеца, он почему-то не мог — горло перехватило, что-то невидимое властно сжимало его и не давало вымолвить хоть слово. Бату внезапно ощутил непонятную тяжесть в желудке и колющую боль в груди. Человек неторопливо провел большим пальцем по острому лезвию и удивленно посмотрел на густые, почти черные капли крови, выступившие из образовавшегося пореза.
— Это хороший нож, — похвалил он. — И лезвие у него тоже хорошее. Во всяком случае, острое. Хотя я видывал получше и поострее.
Он присел перед ханом на корточки и дружелюбно, можно сказать, доверчиво, протянул ему стилет.
— Нам надо поговорить, — предложил человек. — Если хочешь, мы можем сделать это здесь, а можем и поехать ко мне.
— Нам не о чем с тобой говорить, — обрел наконец дар речи Бату.
Вновь обретенный стилет придал ему спокойствия и уверенности.
— Я думаю, что нехорошо брать без спроса чужие вещи. Вечное Небо тебя непременно за это покарает, и очень скоро, — проворчал он, бросив взгляд на порезанный палец своего собеседника.
— Но оно же не карает тебя, когда ты без спроса берешь чужие города, насилуешь чужих женщин, а твои воины по твоему повелению отнимают чужие жизни, — удивился человек. — Неужто, терпя все это, оно покарает меня за сущую безделицу, тем более что я не украл твой нож, а вернул его тебе и сделал это добровольно?
— Ты можешь говорить что угодно, — великодушно разрешил хан. — Я позволяю тебе это. Что же до меня, то я беру не чужое, а свое, по праву воина и победителя. — Он немного замялся, но затем нашел еще более весомый аргумент в свою защиту: — К тому же я — любимец Вечного Неба, которое бережет меня для великих дел, — вспомнил он слова своего мудрого наставника Субудая, которые тот не раз говорил ему, многозначительно указывая пальцем на закат солнца.
— Любимец богов и отверженный богами. Это интересно, — задумчиво произнес человек в черном, размышляя о чем-то своем, и криво усмехнулся.
— Что ты там бормочешь? — подозрительно спросил Бату.
— Я говорю, что юный воин-хан и мудрый волхв могут найти общий интерес. Если мы с тобой объединимся, то навряд ли отыщутся силы, которые смогут помешать нам осуществить все, что мы захотим, — ответил тот.
— Твоя речь мутна, как воды Сейхуна[17], и извилиста, как путь змеи в траве, — заметил хан. — Ты говоришь многое, но не сказал ничего.
— Я поясню, — успокоил его человек в черном.
— Зачем мне тебя слушать? — возразил Бату. — Ты глуп, говоришь о великих свершениях, а сам не знаешь, какой малый срок для оставшейся жизни отвело тебе Вечное Небо.
— Это не так, — спокойно ответил его собеседник. — Я и впрямь не знаю, сколько лет отвела мне судьба, но поверь, что ни завтра, ни послезавтра я не умру. К тому же ты давно не освежал лезвие, и яд уже выдохся. Хотя… на пару человек его еще должно хватить, — произнес он, подумав.
— Я не знаю, откуда ты слышал о яде, но понимаю, что был не прав, назвав тебя глупцом, потому что ты глуп вдвойне, — фыркнул молодой хан. — Если, как ты утверждаешь, его должно хватить еще на пару человек, то тем более хватит для тебя самого.
— Хорошо, — решительно кивнул человек в черном. — Тогда просто выслушай меня, и я уйду, как ты говоришь, умирать. У тебя будет время подумать над моими словами, а когда через три дня я приду к тебе — ты дашь мне ответ.
Через полчаса Бату, внимательно все выслушавший, но по-прежнему недоверчиво поглядывающий на своего собеседника, сказал:
— Ты похож на белых шаманов с крестами на груди. Они тоже обещали мне много радостей и счастья, но лишь тогда, когда я умру. — И усмехнулся: — Глупцы. Зачем мне их рай, если там не будет моих воинов и врагов, которых можно убивать?
— Я обещаю тебе все это еще при жизни, — напомнил человек в черном.
— Да, в этом ты поумнее, чем они, — согласился хан. — Право же, мне будет немного жаль, когда ты умрешь. Я люблю послушать занятные сказки.
— Это не сказки, — не согласился его собеседник. — Так будет на самом деле. Я помогу тебе, а ты — мне. Но я не тороплю тебя. Три дня — хороший срок, чтобы сложное превратилось в простое.
— А если больше? — полюбопытствовал Бату.
— Тогда, следуя неизменному закону круговорота, который справедлив применительно ко всему, даже к мыслям и словам, простое вновь начнет превращаться в сложное. Ты можешь запутаться, — быстро ответил человек в черном.
— Ты уже ухитрился меня запутать, — мрачно сознался юный хан. — Ты играешь со своими словами, как маленькие лисята с мышью, которую приносит им мать. Я доволен тем, что ты уходишь и что я больше никогда не увижу тебя живым.
Но он ошибался. Ровно через три дня юный хан, проснувшись, вновь увидел человека в черном, терпеливо ожидающего его пробуждения. Было не похоже, чтобы он накануне умер, ибо нежить не может кривить губы в насмешливой улыбке. Те, кого похоронили без соблюдения должных обрядов, вообще не могут улыбаться. Они пьют кровь молча, а скалят рот лишь для того, чтобы обнажить свои острые длинные клыки.
К тому же их время — ночь, и самый крохотный луч солнца обязательно причиняет им боль. Но ночь давно прошла, человек в черном стоял на самом свету, льющемся из узкого оконца комнаты, в которой спал Бату, и это не причиняло ему никакого неудобства.
Стараясь не показать своего удивления, юный хан одобрительно заметил:
— Ты сдержал свое слово. Это хорошо. Так поступают настоящие воины. Теперь я готов выслушать тебя внимательнее. Но я не могу договариваться о чем-либо с незнакомцем. В тот раз ты даже не удосужился назвать себя и свой род, если только у шаманов вообще бывают родичи. Как твое имя, играющий словами?
— Какое все это имеет значение? — равнодушно пожал плечами человек в черном. — Рода лишился еще мой отец.
— Если его изгнали из рода, значит, он был плохой человек, — поучительно заметил Бату.
— Он был великим волхвом! — впервые вышел из себя человек в черном. — И не род изгнал его, а он сам ушел, потому что эти глупцы то и дело лезли в его дела и поучали: «Это нельзя делать, ибо оно преждевременно, а так нельзя поступать, ибо оно чревато». На самом деле они просто завидовали его уму, потому что он знал больше, чем все они вместе взятые. Они даже запретили ему читать свитки Первых людей, говоря, что знания, которые содержатся в них, станут опасны в его руках. И тогда он украл сокровенные свитки и ушел в эти края.
— Тот, кто ворует у своих, подлежит смерти, — поучительно заметил Бату. — Так говорит Яса моего великого деда.
— Это было давно, — человек в черном пренебрежительно отмахнулся. — Так давно, что дети, которые впервые увидели его, превратились в седых стариков и умерли. Теперь одряхлели даже их внуки.
Он не потратил это время впустую, изучил свитки и узнал, как можно добиться власти над миром.
— Твой отец так же глуп, как и ты, — фыркнул юный хан. — Я и без свитков знаю это очень хорошо. Достаточно победить своих врагов, и все.
— Но ты не знаешь, как их победить, если с тобой будет всего сотня, а против тебя встанут пять или десять туменов, — строго заметил человек в черном.
— На такое не способен никто, — мотнул головой Бату. — Даже мой великий дед, потрясатель вселенной[18], не смог бы одолеть врага, если бы у него было так мало воинов.
— А ты сможешь, — твердо произнес его собеседник. — Сможешь и это, и еще многое другое, потому что я подскажу тебе, как это сделать.
— Но если все на самом деле так, как ты говоришь, то зачем тебе я, человек без имени? — недоверчиво уточнил Бату.
— Что до моего имени… — Человек в черном ненадолго задумался, уставившись в синюю атласную подушку, валявшуюся у его ног, затем поднял голову и хитро улыбнулся. — Ты, кажется, заметил, что я хорошо играю словами? Думается, очень скоро ты убедишься в том, что я умею играть не только ими одними. Так что называй меня Горесев. Горесев, сын Изгоя. Если ты будешь делать все, что я скажу, то мы с тобой посеем много горя. Так много, что я в полной мере оправдаю это имя. Что же до власти над миром, то мне она ни к чему. Но у меня есть долг мести, который оставил мне в наследство отец, и уплатить его я обязан.
— Пока у меня очень мало воинов, — перебил его Бату.
— Для начала хватит и тысячи, которую ты пошлешь туда, куда я тебе скажу. После того как они сделают то, что им повелит хан, Русь окажется совсем беззащитной перед твоими воинами. Тогда и только тогда ты сможешь переломить ей хребет, — заверил его Горесев.
— А мне хватит воинов, чтобы одолеть другие страны? — жадно загорелись глаза хана.
— Конечно. Если серый кречет[19] победит белого сокола[20] русичей, то что ему десять глупых болтливых сорок!
— Что ж, я согласен, — важно кивнул Бату. — Говори, что нужно сделать.
— Есть на Руси озеро, именуемое Плещеево. А возле него лежит большой камень. Он не простой. Это оберег всей Руси. Он — ее сердце. Пока оно цело, можно победить их воинов, сжечь их города, сровнять с землей их капища, вывезти все золото и серебро, но Русь рано или поздно воспрянет из пепла и поднимется на ноги, ибо сердце все равно будет продолжать биться в ее груди. И тогда первым, кому придется плохо, будет сам завоеватель, а если он не доживет до этого страшного часа, то удар придется по его сыновьям, внукам или правнукам. Поэтому нужно в первую очередь уничтожить ее оберег. Я помогу твоим людям пробраться незамеченными. Мне легко это сделать. Главное, чтобы твои воины не проходили рядом со святыми местами. Возле них морок, что я наведу, пропадет.
— Я знаю, — перебил его Бату. — Ты говоришь о тех больших каменных юртах, в которых молятся их шаманы в таких же черных одеждах, как у тебя.
— Нет, — отрезал Горесев. — Их новых капищ с крестами можно не опасаться, не считая тех, которые построены на старых заповедных местах, но таких не так уж много. Я же говорю про другие места, где русичи молились своим богам не сотни, а тысячи лет. На всем пути твоей тысяче, если люди не отклонятся от дороги, встретится только одно из них, да и то далеко в стороне. Слушай дальше. Слушай и внимай…
Вот тогда-то и появился в Диком поле невесть откуда тысячный монгольский отряд. Почему-то никто не обращал на него внимания, и он преспокойно миновал бы рязанские земли и так же незаметно переправился бы через Оку, скрывшись в дремучих муромских лесах, если бы командир отряда не решил свернуть немного в сторону.
Он не был жадным. Но одно дело — миновать маленькие городки, где нечего взять, кроме нескольких серебряных монет и пленных, которых за собой все равно не потащишь. Тут соблазн невелик, и одолеть его легко. Совсем другое дело — столица всея Руси. Тут монет должно оказаться столько, что можно уплатить калым за сотню степных красавиц, какую бы высокую цену ни назначали их жадные отцы.
Тысяцкий Тудкан не нуждался в сотне жен, ему вполне хватило бы и одной, но старик Мугэду — слыханное ли дело — требовал за нее тысячный конский табун. Как удалось узнать Тудкану, эту цену отец его ясноглазой звездочки заломил для того, чтобы слух разнесся по всей степи. Люди будут интересоваться, что же за красавица выросла у него, если он требует так много. Донесется и до ушей хана, а там как знать…
Тудкан славно сражался под началом юного хана Бату. Как подобает хорошему воину, он не начинал грабить врагов, пока сражение не закончилось, но он и не был брезглив в поисках добычи. Даже пленных, подлежащих смерти, он не просто убивал, а усердно вспарывал каждому из них живот, старательно копаясь во внутренностях и разыскивая драгоценности, которые те могли проглотить, в надежде сохранить их от злобного степняка.
Усердие не прошло даром. Всего через два года он вернулся в свой улус почти богачом, который в состоянии купить целый табун в сотню голов. Но сотня — не тысяча, а только ее десятая часть. Получалось, что молодому сотнику нужно столь же старательно воевать еще двадцать лет, чтобы получить возможность жениться на своей избраннице.
А тут прямо в руки свалилась такая удача, причем дважды подряд. Первый раз она улыбнулась, когда хан Бату повелел именно ему, Тудкану, возглавить тысячу. И не просто возглавить, а дал ему поручение, за выполнение которого обещал не оставить своей милостью.
Второй же, когда рязанские смерды, схваченные на пути следования его тысячи, в числе всего прочего рассказали, что они направляются в Рязань на строительство городских стен, которые до сих пор толком не возведены.
«Хан, скорее всего, сдержит свое слово, но щедрость бывает разная, — рассуждал Тудкан. — Вдруг он сочтет, что табун в сотню голов — достаточная плата за то, что я выполнил все как надо. Тогда у меня будет две сотни, а мне нужна тысяча. Если же я возьму этот беззащитный город, в котором каан русичей хранит свою казну, тогда мне хватит добра и на тысячный табун, и на покупку украшений, и на то, чтобы за мою звездочку трудились рабыни, а она только повелевала, сохраняя нежность своих ручек для страстных ласк своего любимого мужа».
И тогда Тудкан самовольно изменил путь, указанный Горесевом.
Изменил и… погиб.
Во второй раз хан Бату, так и не дождавшийся возвращения своих воинов, вынужден был сам ехать к старому шаману. Цепкая память не подвела воина, и он вспомнил узкую дорожку в хаотичном нагромождении скал, по которой первый раз вел его в свою пещеру Горесев.
Правда, не обошлось без жертв. Скала, рухнувшая на тропу, одним разом унесла в пропасть или просто расплющила всех, кто сопровождал молодого хана. Это изрядно остудило пыл Бату, но желание рассчитаться за гибель отважной тысячи храбрецов пересилило, и он по-прежнему храбро шел вперед.
Однако все вышло не так, как он предполагал. Не Бату, хан Большой орды, получивший после смерти отца и отказа своего старшего брата Орду-Ичена, толстого добродушного увальня, старшинство над всем огромным улусом Джучи, обвинял и наседал на старого шамана.
Получилось как раз наоборот. Это Горесев с первых же минут напустился на Бату, на чем свет костеря его людей за их жадность и корыстолюбие. Хану оставалось лишь оправдываться, виновато жмуря свои узкие глаза, цвет которых так сильно напоминал дедовские.
«Словно в них плещется расплавленное золото», — как-то мечтательно сказала о них одна гао-чанская уйгурка. У Бату тогда не было денег, но ему так понравилось сказанное, что он, не долго думая, отрезал от своего нарядного чапана две пуговицы, сделанных из бирюзы, и подарил ей.
А еще его глаза напоминали по цвету тигриные. Вот только Бату никогда еще не видел, чтобы тигры виновато их жмурили, как сейчас он сам.
Жмурил и даже не помышлял сделать то, ради чего он сюда пришел. А привело его лишь острое желание выхватить из ножен дорогую бухарскую саблю, подарок дяди Тули, мир его праху, и хлестануть ею наотмашь, с такой силой, чтобы брызжущая слюной ненавистная голова немедленно умолкла и вообще, слетев с узких костлявых плеч, укатилась бы в угол пещеры. Желательно, самый дальний, в который не проникает этот тревожный тускло-красный свет, льющийся непонятно откуда. Тогда он сможет не только не слышать проклятия, слетаемые с ее губ, но даже не видеть ее саму, что вдвойне приятно.
Впрочем, после того как гнев Горесева спал и он заговорил нормальным голосом, Бату вновь ободрился. Оказывается, ничего еще не потеряно, хотя и надолго откладывается — аж на целых пять лет.
Если хан придет к нему через это время, то как знать, как знать. Горесев до конца не уверен, но, скорее всего, у них появится еще одна возможность. Повторная. А пока Бату предстоит заручиться поддержкой своего царствующего дяди Угедея, дабы тот, после того как добьет империю Цзинь, помог ему с войском.
А чтобы взор великого каана не привлекла иная, более заманчивая цель, например багдадский халиф и его неисчислимые сокровища, которыми он, по слухам, владеет, вот порошок. Надо только умело подсыпать его время от времени в еду или питье, которые поставят на стол Угедея, и все будет в порядке.
— Если бы ты не ненавидел Русь так же, как я ее волхвов, которых сами русичи называют Мертвыми, то ты вряд ли ушел от меня живым, — строго произнес в заключение Горесев и зловеще добавил: — Но помни, что следующая попытка будет последней. Это просто чудо, что звезды вновь собираются встать в нужный нам круг всего через пять лет. Обычно ждать этого приходится шесть или семь дюжин лет, а то и дольше. Тебе до этого уже не дожить.
— А тебе? — ревниво уточнил Бату.
— Мое счастье, если Мертвые волхвы не поняли, откуда что взялось, — медленно произнес Горесев. — Но даже если и так, то в другой раз они это непременно поймут, и я не думаю, что мне удастся надолго затаиться в этой пещере.
— А я слышал, что их шаманы советуют не противиться и подставить правую щеку, если их ударят по левой, — хихикнул Бату. — Очень удобная вера… для врагов. Лишь бы у моих воинов не устали руки.
— Глупец! — вспылил Горесев. — Когда ты наконец поймешь, что нынешние шаманы русичей тут ни при чем?! И их распятый Христос, возомнивший в своей гордыне, будто он сможет унести на плечах все грехи людей и одной его жертвы достаточно для их искупления, тоже не бог русичей. Он — всеобщий, то есть ничей. Русь же хранят совершенно иные древние силы, гораздо более могущественные, — он перевел дыхание, слегка успокоился и продолжил: — Словом, так. На сей раз ты не просто повторишь попытку прорваться к камню. Помимо этого ты соберешь всех воинов, которых Угедей вручит тебе, и поведешь их на Русь. Только запомни, что их должно быть не меньше десяти туменов.
— Так много?! — широко раскрылись от изумления глаза Бату.
— Это самое малое, — поправил его Горесев. — Даже я, живя в этих горах, знаю, что все княжества Руси ныне объединились. А когда растопыренные пальцы русичей сжимаются в один кулак, поверь, что тут может не хватить и десяти туменов. Какими путями их повести — я тебе скажу потом, ближе к нужному времени.
— Ты хочешь навести морок, чтобы они могли беспрепятственно пройти в глубь Руси, — догадался Бату и радостно улыбнулся, хищно обнажив острые белые зубы.
— Я не бог, а только волхв, хотя и самый великий из ныне живущих, — поправил его Горесев. — Даже моих больших сил едва хватит на то, чтобы сделать невидимыми, ну, или почти невидимыми для врага от силы две тысячи воинов. Да и это потребует всего меня без остатка. Так что твои тумены пойдут открыто. Но я подскажу тебе, как правильно жертвовать слона, чтобы сделать шах и мат королю.
— Э-э-э, — непонимающе уставился на него Бату.
— Да, — вздохнул Горесев. — С этой индийской игрой ты явно не знаком. Но ничего, я научу тебя, как правильно в нее играть. Только игра будет происходить не на доске, а в жизни. Так даже интереснее. Мы с тобой сразимся за черных, но сделаем свой ход первыми. А тех, что погибли, — не жалей. Они были дрянными воинами, которые ослушались своего хана, так что их кровь лежит на них самих. К тому же когда игра только начинается, то потеря одной маленькой фигурки значения не имеет. А теперь иди, и да помогут нам, — он слегка замешкался, искоса посмотрел на Бату и, решив не пугать его лишний раз, изменил то, что хотел произнести вначале: — Да помогут нам наши силы.
Глава 2 Горечь бессонной ночи
Есть, сын, загадка века — За что считают сладкой власть? И только мудрость человека Поможет в горести не впасть, Едва ее лишится он. На самом деле горя стон Сменить на радость бы ему… Петр МиленинУспех любой войны, во всяком случае для обороняющейся стороны, во все времена во многом зависел от успешной, а главное, быстрой мобилизации. Если вождь племени сумел заблаговременно собрать своих людей, значит, он сумеет и дать отпор посягающему на его земли. Не удалось это сделать — пиши пропало. Так было, так есть, и так будет. Вячеслав хорошо это понимал и делал все необходимое для того, чтобы каждый знал, куда он должен явиться, если его позовут.
Однако мало собрать людей, дать им хороший меч в одну руку, а щит — в другую. Недостаточно вручить им луки, копья и арбалеты, а на самих напялить добротные кольчуги. Все равно это будут люди, для битвы же нужны — воины. Вячеслав знал и это. Потому дважды в году, месяц-полтора летом и три — зимой, он гонял бестолковых ополченцев в хвост и в гриву, делая из беспомощного стада, которое можно разогнать одними плетями, несокрушимый пеший строй.
Однако нападение зачастую бывает внезапным, ибо неожиданность — половина успеха. Значит, надо заводить разведку. И не только тактическую, которая видит лишь очевидное, поверхностное. Ее мало. Нужна еще и глубинная, стратегическая, в которой должны быть задействованы не простые наблюдатели, а настоящие аналитики. Они должны сидеть в каждой стране, застыв, подобно пауку, почти в неподвижности, ибо их главная задача состоит не в том, чтобы вызнавать факты, но думать над ними, увязывать разрозненные события в единое целое и делать выводы.
Но не бывает паука без хитросплетенной паутины, без сигнальной нити. Значит, в распоряжении каждого аналитика должна иметься своя резидентура, включая все ту же сигнальную нить, то есть курсирующие туда-сюда гонцы с сообщениями. Обычными — по обычным, неторопливым каналам, важными — по особым, чтоб летели сломя голову, загоняя коней и задыхаясь от усталости.
Всех этих мудреных слов и терминов — резидентура, аналитики, стратегия и прочее — ни Любомир, ни Николка Торопыга и слыхом не слыхивали. Да оно им и ни к чему. Зато они хорошо понимали, что от них требуют государь Константин и его верховный воевода, и трудились на совесть.
Помогал им и Евпатий Коловрат, в чьем ведении находились все посольские дела, а ведь каждый посол — это тоже шпион, только на легальном положении, то есть под своей личиной. Так было, есть и будет.
А если все-таки врагу удалось осуществить тайную подготовку к войне и напасть неожиданно? Не держать же все войска круглый год вблизи своих рубежей. Уж больно оно накладно, знаете ли. Только на их прокорм уйдет столько, что за год-два рухнет любая держава, потому что опустеет казна и взвоют кормильцы этого самого войска, у которых придется отобрать последний кусок хлеба. Ситуация, когда один с сошкой, а семеро с ложкой, чревата весьма серьезными, а зачастую и трагическими последствиями.
Значит, нужны войска для охраны рубежей. Об их необходимости и важности воеводе Вячеславу говорить не надо. Когда-то давным-давно, хотя и в будущем, как это ни парадоксально звучит, юного Славу Дыкина призвали в ряды пограничных войск, и всю срочную службу он имел возможность любоваться высокими снеговыми шапками гор на аджарско-турецкой границе[21].
Так что о контрольно-следовой полосе и о прочих премудростях этого нелегкого дела он знал не понаслышке и организацией пограничной службы несколько лет занимался лично, не доверяя этого дела никому. Лишь когда все наладил, тогда только и угомонился, посчитав возможным довериться другим людям.
Толковых помощников у него хватало. Были они и на побережье Балтики, и на западных рубежах, и на южных — на Кавказе и в Крыму. На восточных же, наиболее важных, у него в подручных ходили не кто-нибудь, а князья, а то и царские сыновья. Вначале Святослав, а затем Святозар — тоже царский сын, хотя и внебрачный.
После трагической гибели его матери Купавы[22] Константин позаботился о том, чтобы малыш получил не только достойное содержание, но и хорошее воспитание. Приставленные к нему учителя научили его и чтению, и цифири, и многому другому, включая ратное дело, которое Святозару было особенно по душе. Малец жил, рос и вскоре превратился в симпатичного крепкого юношу.
К этому времени он уже прекрасно знал, что из огромного отцовского наследства ему ровным счетом ничего не светит — все перейдет его старшему брату Святославу. Конечно, поначалу, когда он только-только до конца осознал это, ему стало немного обидно. Почему одному все, а другому — ничего, ведь отец-то один? Почему даже сейчас Святослав — царевич, а он как был, так и остался княжичем? Почему Святослав пребывает в стольной Рязани, а его, Святозара, сунули в какой-то Углич, о котором на Руси не все и слышали? Селище — не селище, но и на город он не больно-то походил, разве что стенами — воробей перескочит, да сторожевыми башнями — дите плечом подопрет, они и рухнут. Он что, рожей не вышел?
Хорошо, что всю эту боль и негодование он не таил в себе, а как-то в сердцах выплеснул отцу, приехавшему в Углич. Тот задумался, вздохнул и предложил поговорить обо всем вечерком, чтобы никто их не мог прервать. Беседа их затянулась до самого утра. Напоминала она учебный поединок на деревянных мечах, когда неопытный воин пытается пробить глухую оборону мастера, а тот спокойно и даже насколько лениво отражает неумелые наскоки. Сын наседал, а отец спокойно отмахивался. До поры до времени.
Однако за полночь ситуация изменилась. Мастер так же спокойно произнес: «А теперь смотри, почему ты не прав» — и сам перешел в атаку.
О многом переговорили в ту ночь Константин со Святозаром.
И о том, что Русь — не кусок полотна. Если ее порезать на куски, то никто себе ничего путного не сошьет.
И о том, что власть — не краюха хлеба, а скорее бычий пузырь. Сделаешь маленькую дырочку, и он вмиг сдуется.
И о том, что в первую очередь власть — не право творить все, что вздумается, а обязанность думать, разумно ли, верно ли я поступаю, сделав так-то, а не эдак, ибо за каждым твоим решением, за каждым указом — людские судьбы.
По отцовским словам, выходило, что не его, Святозара, обделили, а — Святослава, взвалив на плечи старшего сына часть государева груза, который ох как тяжел для него.
— Ему даже жениться по любви не дозволено! — бушевал разошедшийся Константин. — Я ему невесту подыскивал, я ему и повелел с ней под венец идти. И его счастье, что она хоть более-менее смазливой уродилась, потому как даже если бы и страхолюдина была, то Святославу все равно пришлось бы с ней обвенчаться, ибо то — не моя причуда, но так для Руси надобно! А теперь сам раскинь умишком, каково с нелюбимой всю жизнь жить?!
— Старики говорят, стерпится — слюбится, — неуверенно предположил Святозар. Но разве может неумеха отбить удар мастера, который точно знает, куда бить, а главное — как.
— Это лишь несчастливые в утешение себе так говорят, а дураки за ними повторяют. И в другой раз, после ее смерти, когда я его сызнова женил, считай, опять вслепую невесту брал. А куда деваться, если надо именно из этого рода выбирать, а там всего одна девица и была? Думаешь, он хотел этого? Шарахался, как черт от ладана. А я настоял, да что там, — махнул рукой Константин. — Считай, что примучил. И чудо, что ему и на сей раз не кикимора, а пригожая женка досталась. Вот такую вот тяжкую дань ему уже сейчас платить приходится. У тебя же — воля вольная… Конечно, дочери смердов все равно отпадают, не по чину они тебе, но в остальном… Хочешь, с Угорщины невесту бери, пожелаешь — из ясов или касогов, а у ляшских князей какие девки поспевают — чудо! Так что кто кому должен завидовать, сын?
— А я думал, ты из-за того, что с моей матерью не венчан был, да еще потому, что она — из холопок, — задумчиво произнес Святозар и прямо-таки впился глазами в лицо отца — что скажет?
— Так вот что тебя мучило, — медленно протянул Константин и строго произнес: — Глупость все это. — И повторил чуть не по складам: — Несусветная глупость, и не более того. Впредь о том не смей и помышлять, ибо я твою мать любил, как… — Он запнулся, но затем твердо отрезал: — Как свою жену, княгиню Феклу, никогда не любил. Но наследник у государя должен быть только один. У меня уже сыновей не будет, но, думаешь, второму или третьему из сыновей Святослава что-либо достанется? — И отрезал: — Нет. Паки и паки повторюсь — нет и еще раз нет. Их, как и тебя, даже царевичами величать никто не станет, ибо не по чину, потому что царевич — это наследник титула, а он звучит — государь всея Руси. Ты вслушайся токмо — всея, то бишь один на всю Русь. И будут они точно так же, как и ты, ходить в княжичах, хотя мать их со Святославом венчана по всем правилам. Я тебе больше скажу. Если ума у них будет немного, то они и твоих высот нипочем не достигнут. Уразумел?
— Уразумел, — кивнул Святозар. — А ежели умрет царевич? Тогда как?
— Тогда им, скорее всего, нарекут следующего по старшинству княжича, — пожал плечами Константин. — Но тут уже царь вправе решать.
— Выходит, я у тебя как бы про запас, — не унимался Святозар.
— Ничего не выходит, — отмахнулся Константин. — Или сам не ведаешь — у Святослава уже трое. К тому же старший, Николай, немногим младше тебя. Да и Вячеслав с Михаилом от дочки Ивана Асеня тоже крепенькими мальцами растут. Опять же невестка моя снова на сносях, и знающие бабки шепчут, что и на сей раз сына родит. — Он подозрительно покосился на Святозара и спросил — А ты это к чему спрашиваешь?
— Да я так. К слову пришлось, — замялся княжич.
— Ты это «так» из головы-то выбрось, — посоветовал Константин и угрожающе пообещал: — А если я дознаюсь, что оно тебе не само туда залетело, а неведомые доброхоты постарались, то вот тебе крест — ноги им велю повыдергивать и собакам скормить.
— Нет! — вскричал княжич. — Я сам! Подумалось мне как-то, вот и все.
— Ну-ну, — засопел Константин. — Только ты запомни накрепко. От этого «так» вся Русь кровавым огнем займется и горючими слезами зальется. Да и тебе самому в этом огне уцелеть не удастся. А главное, ради чего? Гордыню потешить? А ты лучше про груз подумай, о котором мы с тобой говорили. Тяжела корона, сынок. Царский венец много дает, но еще больше спрашивает. Тебе о другом помышлять надо — как своему брату верной опорой стать, как подсобить ему и хоть часть ноши принять на себя. Тогда и только тогда тебе честь и хвала будет, и славу о тебе мои монахи-летописцы в века понесут, всем прочим в назиданье, уж ты мне поверь.
— Верю, — твердо заявил Святозар.
— Ну то-то, — облегченно вздохнул Константин, ощутив, что ответ сына не натужен, а идет от сердца.
Да и хотелось ему верить в лучшее, потому что иное грозило обернуться даже не проблемой — бедой. В такое время для полного счастья Руси только междоусобицы не хватает.
Словом, ночка выдалась бессонной. Хорошо, что под рукой были кубки с крепким кофе, который купцы в изобилии привозили Константину из далекого Йемена, а у посольства, вернувшегося оттуда год назад, одна ладья и вовсе была доверху нагружена мешками с зелеными зернами. Очень уж лестно было наместнику великих Айюбидов Умару ибн Али ибн Расулу, который буквально год назад объявил себя независимым султаном, что столь могущественный правитель, как Константин, признал его в этом новом качестве.
То, что наместник принял новое имя, назвав себя ал-Мансуром Нурад-дином, ничего не значило. Трон под ним пока еще оставался весьма шатким и неустойчивым, а потому это признание стало для него очень важным.
К тому же ал-Мансур знал, что если его признал Константин, то непременно признает и Византия. А учитывая, что она сейчас поддерживает прочный мир с Египтом и Сирией, где сидят Айюбиды[23], можно надеяться, что и они примирятся с тем, что в Йемене больше не хозяева. Да за такое не только мешков с зернами — за такое можно вообще вырубить и подарить все кофейные деревья.
А уже на Рязани человек, особо приставленный к этому делу, день-деньской трудился, обжаривая их так, как требовал царь, так что запас зерен у Константина был немалый. И горечь правды, открывшейся в ту ночь Святозару, у княжича навсегда смешалась с горечью странного напитка, впервые отведанного за компанию с отцом.
Когда Святозар уезжал на восточные рубежи, он испросил у отца небольшой мешочек. Только Константин подумал, что напиток ему понравился, а на самом деле причина была иной. Вкус кофе пробуждал воспоминания о беспощадных, суровых словах государя всея Руси, сказанных в ту ночь.
Чего уж там перед самим собой таиться. Были у него сомнения в отцовской любви, которую он с малых лет мечтал заслужить, чтобы понял государь-батюшка, что второй его сын ничуть не хуже, чем первый, а кое в чем и лучше, причем намного.
Да и доброхоты, о которых Святозар умолчал, не желая никого подводить, тоже немало потрудились, напевая княжичу, какой он хороший да какой пригожий, и вообще умница, весь в царя-батюшку. Не то что этот богомольный Святослав. Правда, после той ночи они живо заткнулись. Хватило всего одного раза.
— Отныне и впредь, — прошипел он перепуганному наставнику. — Чтобы ты и думать не смел сравнивать меня со Святославом! Он — царевич и наследник, а я — княжич, и мне с ним равняться не по чину. А ежели еще раз заикнешься, я все твои словеса поганые отцу перескажу. Он меня, кстати, уже спрашивал кое о чем, да я промолчал покамест, — и злорадно отметил, как тот испуганно отшатнулся.
И все. С тех пор как отрезало. Сам же Святозар, трезво рассудив, что лучше всего помочь отцу и брату он сможет на ратном поле, попросился подальше от столицы, на восточные рубежи.
Поначалу в его ведении была лишь сотня. Для молодого воина — честь немалая, для княжича же… Ладно, он и тут чиниться не стал, вовремя вспомнив, что брат Святослав и вовсе в рядовичах ходил, хотя и недолго.
А если уж забредали в голову сумрачные мысли, то он гнал их прочь: «Тебе и сызмальства никто ничего не обещал, так чего уж тут. Все честно было».
Прогнав же, пил горький кофе, благо государь снабжал им бесперебойно, и, небрежно накинув на плечи синее корзно, выводил из крепости своих воев, готовых идти за удалым командиром хоть на край света. В упоении схваток горечь стихала, уступая место азарту.
Уже через год его перестали именовать княжичем— только князем, и непременно с «вичем» — Святозаром Константиновичем.
Еще через год ему доверили одну из крепостей. Названная царем Константином Орском, она стояла на самой окраине державы, там, где Яик в своем течении делал крутой поворот с юга на запад, так что возможности отличиться у него были не раз.
Сшибки с монгольскими отрядами происходили все чаще и все злее. Поначалу пленные тихонько бормотали, виновато разводя руками, что якобы случайно забрели за Яик, а кто перед ними — не разглядели. Солнце им, видишь ли, глаза застило, а если зимой — то снег запорошил.
Но это когда Святозар еще был сотником. Потом, уже в бытность его главой Орска, они уже не винились, а только злобно прищуривали свои и без того узкие глаза-щелочки, а когда их уводили вешать, что-то угрожающе кричали на своем непонятном гортанном языке.
Впрочем, со Святозаром монголы предпочитали не связываться. Из-за цвета корзна они довольно скоро прозвали его Синяя смерть и, еще издали завидев плащ князя, уходили прочь, всячески стараясь избежать встреч с его отрядом, да и вообще не переходить рубежи, которые он охранял.
Одно время им это удавалось, но еще через год князь Святозар стал появляться не только в пределах этих границ, но и намного дальше. Причина же тому была проста. В одной из стычек отравленная монгольская стрела угодила в командовавшего всей пограничной стражей восточных рубежей князя Всеволода, кстати, тоже Константиновича, только из Переяславля-Южного.
Сам Всеволод в горячке боя не обратил на нее внимания, тем более что угодила она в мякоть левой руки и рубить нехристей не мешала. Поэтому он ее брезгливо выдернул, выбросил прочь да и позабыл. Вспомнил лишь вечером на привале, да и то потому, что рана разболелась не на шутку. Пока судили да рядили, пока везли к ученым лекарям, ему стало совсем плохо. Еще в двадцати верстах от Оренбурга он потерял сознание, а к исходу дня скончался.
Так другой Константинович оказался на его месте, в штаб-квартире всего восточного порубежья, расположенной в Оренбурге. Это уже был чин, с которым не мог сравниться ни один тысяцкий, считавшийся командиром полка и все чаще и чаще с легкой руки верховного воеводы Вячеслава именуемый полковником.
У Святозара все было гораздо круче. Только в шести порубежных крепостях сидели три тысячи воинов. Добавь к этому шесть сотен ратников из речной флотилии, и, как ни крути, даже по самым строгим меркам двадцатого века — получается корпус, а что уж там говорить про тринадцатый. Не каждый король — взять, к примеру, тех же ляхов — мог похвастаться, что имеет под рукой такую силу, причем готовую в бой с врагом в любое время дня и ночи.
О том же сказал во время небольшой пирушки по поводу его назначения и верховный воевода Вячеслав Михайлович, поправив кого-то из гостей, назвавшего Святозара тысяцким:
— Тут чин повыше получается. У древних римлян, про коих ты читал, князь, слово «генералис» означало главный. А так как ты, Святозар Константинович, становишься главным на всем восточном порубежье, то выходит, что ты и есть генералис, или же, если попроще, то генерал. — А когда уже уезжал, добавил:
— Если по уму брать, то тебя бы в помощниках с годик продержать надо было, чтоб пообвыкся. Только лучше тебя мы замену князю Всеволоду так и не сыскали. Людишек близ него толкалось много, а толку с них — как с козла молока. — И добавил вовсе уж непонятное: — Вот и пришлось тебя под танки совать.
Куда совать, Святозар так и не понял, хотя по тону верховного воеводы догадался, что место это под неведомыми танками не очень-то приятное. Переспросить же не решился, да и торопился Вячеслав Михайлович. К тому же для Святозара гораздо важнее было иное — доверие. О нем и сам воевода сказал. Мол, и он, и государь Константин Владимирович верят, что князь, несмотря на молодость, управится как должно.
Осваивать хлопотное хозяйство князь принялся уже на следующий день и чуть ли не сразу столкнулся с тем, о чем его предупреждал воевода, — толковых помощников практически не было.
Нет, что касается обеспечения, тут все работало как по маслу. Каждая крепость исправно снабжалась всем необходимым. Вошва, ведавший тыловым хозяйством, свой хлеб ел не даром.
Он не только с гордостью носил, не снимая даже в знойный летний день, зеленую шапку и красивый серебряный знак, наглядно подтверждающий, что его владелец окончил Рязанский университет, но и на деле доказывал, что знания, полученные в нем, пошли ему впрок. Были налажены и четкие пути подвоза всего необходимого через перевалочную базу-крепость на речке Самаре и далее по ней чуть ли не до самого Оренбурга, установлены четкие сроки доставки и все прочее.
Но вот на остальных людей, из коих чуть ли не половина точно так же, как и Святозар, гордо величала себя князьями, положиться было нельзя.
Нет, никто из них не был трусом. Но личная храбрость в бою, как успел понять Святозар, это одно, а умение командовать людьми, принимать разумные решения, быть строгим и в то же время справедливым — это совсем иное. Кое-кому из них Святозар и сотни бы не доверил, потому как развалят они ее. Да что сотня, когда и десяток жалко.
А тут, как назло, участились стычки, возросли потери не только среди простых ратников, но и сотников и даже воевод, которых нужно было срочно заменять, а кем — вопрос.
Отказавшись от мысли поставить на их место кого-нибудь из тутошних помощников — завалят все дело, ей-ей завалят, — он вспомнил про своих, ор-ских. Ну, то есть не совсем уже своих, можно сказать — бывших, но тем не менее. С ними он не раз и в бой ходил, да и внутри крепости расставался разве что глубоким вечером, перед тем как уйти в ложницу.
Из их числа и поставил двоих на места погибших, причем один из них, бывший сотник Олекса, уже не раз заменял самого Святозара. Посчитав, что он управится и с другой крепостью, молодой генерал решительно перебросил его в Яик. В Горном Яике же, самой верхней из шести крепостей, он поставил другого сотника со смешным прозвищем Поспелко, а в Орск назначил еще одного — Шолоха.
Все трое должны были справиться с делом. Во всяком случае, Святозар на это надеялся, да и доверял он им гораздо больше, нежели своим помощникам. Обращаться же к отцу, чтобы вовсе их сместить, он не решился. Было у него опасение, что государь может не совсем правильно его понять. Ведь почти все они были ставленниками Святослава, который одно время сам ходил в генералисах восточных рубежей.
Когда царь отозвал своего старшего сына, то Святослав и предложил в качестве замены князя Всеволода. Тот, надо сказать, и впрямь был не только воин, но и полководец от бога. О людях заботился, как отец родной, но не доверял никому, все сам и сам, поэтому никудышность людишек из своего ближайшего окружения попросту не замечал.
Вот и опасался Святозар, чтобы царь не подумал, будто его сын смещает своих помощников не потому, что они плохие, а потому, что поставлены эти люди его братом, то есть как бы ревнует к царевичу и наследнику.
«Вначале докажу, на что я сам пригоден, — мрачно размышлял он. — А уж потом, спустя лето или два, ими займусь».
* * *
Сыны же государя Константина бысть статью вельми славны и имеша столь мнози черт достохвальных, кои и перечести тяжко. Святозара же князя о ту пору вси ратники хвалиша, ибо мнози ворогов он побита на рубеже, кой ему беречь царь повелеша, и ни един от его не ушед. Корзно же оный князь носиша сине, посему и прозван бысть Монголами Синей Смертию, ибо разиша их нещадна и себя не жалеша для Руси.
Из Владимирско-Пименовской летописи 1256 года Издание Российской академии наук. СПб., 1760* * *
О. А. Албул. Завершая разговор о вероятных столицах средневековой Руси, на который я был вынужден отвлечься из-за своих оппонентов, хочу заметить, что и здесь все пошло по пути наибольшей исторической вероятности. Именно Рязань имела наибольшую перспективу стать стольным градом, исходя из целого комплекса благоприятных аспектов, каковыми Константин и воспользовался в полной мере. Напоминаю, что преодолеть инерцию древней, пусть и ослабевшей системы, чтобы на ее обломках воздвигнуть что-то принципиально новое, гораздо легче на границе ареала, где и находилось Рязанское княжество. Константин не совершил ничего из ряда вон выходящего. Справедливости ради отмечу, что в меньшей степени, но имелись похожие шансы у Киева, Галича, Смоленска, Владимира и Новгорода, хотя и не в такой благоприятной совокупности, как у Рязани.
Ю. А. Потапов. Не согласен. У них как раз этих шансов было значительно больше, да и не только у них. Вы просто недооцениваете роль личности в истории, в частности того же Константина.
О. А. Албул. А вы ее чрезмерно выпячиваете, почтенный Юрий Алексеевич. Я уважаю ваши большие научные заслуги, но в этом вопросе категорически с вами не согласен. Так вы, пожалуй, договоритесь до того, что если бы не было Константина, то немецкие рыцари захватили бы всю Прибалтику, или вообще до нелепицы о том, что какой-нибудь жалкий литовский князек, вроде Миндовга, ухитрился бы объединить всех литовских дикарей, вместе с родственными пруссами, ятвягами и жмудью, и создать целое государство, которое соперничало бы с Русью.
В. Н. Мездрик. А почему бы и нет? Мысль интересная.
О. А. Албул (язвительно). Дарю, уважаемый Виталий Николаевич. Только имейте в виду, что ваша докторская диссертация, да и ряд других научных работ и без того подчас напоминают фантастический роман, особенно когда речь идет о возможных путях развития нашей страны. Смею заметить, что подобный подход к истории более приемлем для какого-нибудь беллетриста-романиста, а не для историка, обязанного полагаться на факты и только на них. К тому же, если бы ваши фантазии хотя бы выглядели убедительно, а то…
В. Н. Мездрик. Вот только будьте любезны — без неуместной иронии и насмешек. Как я понял, Олег Александрович, вас не устраивает моя научная концепция, согласно которой разрозненные русские дружины и пешее необученное ополчение в самой ближайшей после Калки перспективе ожидал разгром, после чего неизбежно последовал бы длительный, возможно, на несколько десятилетий, период порабощения всей страны. Так ведь?
О. А. Албул. Совершенно верно. Вы бы еще сказали — порабощения на века! Уж пугать читателя, так пугать основательно. На самом деле совершенно очевидно, что Русь — не будь Константина — неминуемо объединил бы кто-нибудь другой. Просто для этого пришло время, и страна, если так можно выразиться, созрела.
Более того, не будь этой злополучной вражды рязанского князя с черниговскими и новгород-северскими владетелями, к которой впоследствии подключились чуть ли не все княжества, то и на Калку пришло бы куда более сильное войско, которое наверняка одержало бы победу над монгольскими туменами. Причем сделало бы оно это столь убедительно, что совершенно отбило бы охоту у степняков и впредь соваться на Русь. А что до оккупации, так это вообще несерьезно. Как вы себе представляете монгольскую конницу в непролазных русских болотах, окруженных со всех сторон дремучими лесами?
В. П. Мездрик. Но они могли бы выступить на Русь зимой, как это и сделали на самом деле.
О. А. Албул (поучительно). Сразу видно, что у вас смутное представление о военном деле. Воевать за обладание степью, при этом находясь в степи, — одно, а вот углубиться в русские пределы, где их встретили бы дремучие непроходимые леса, — совсем другое. Да и корм для коней зимой тоже негде взять.
Ю. А. Потапов. У самих русичей в захваченных селах и городах.
О. А. Албул. Напомню, что наиболее крупные города Хорезмской державы были взяты только благодаря трусости и предательству. Да они на одних только Пронске с Ряжском потеряли бы столько людей, что дальше и не сунулись бы. Кстати, в качестве подтверждения моих слов вспомните поведение Субудая близ южного Переяславля. Он даже не решился его осаждать.
Ю. А. Потапов. Потому что к нему подошли рязанские полки Константина. Зато что касается городов Волжской Булгарии…
О. А. Албул. Ну вот вы снова за свое. Я не спорю, его роль была велика, но если бы не было бы Константина, то непременно нашелся бы кто-то другой. А вас послушать, так получается, что замены ему на тот период времени не было вовсе. Да и со столицей Руси вы несколько… чрезмерно смелы. Почитав ваши труды, можно сделать вывод, что ею мог бы стать практически любой город при наличии умного и энергичного князя — хоть Тверь, хоть Нижний Новгород, хоть даже град на Волоке Ламском.
Ю. А. Потапов. А почему бы и нет? Что касается последнего, то стык торговых путей всегда благоприятен для экономического, а впоследствии, при наличии умного князя, не слишком щепетильного в отношении своих соперников, и политического развития.
О. А. Албул. А как вам какой-нибудь Бельз, Юрьевец или, скажем, Димитров с Москвой в качестве кандидатов на возможную столицу? Скажете, что и это возможно?
Ю. А. Потапов. Вы все норовите довести до абсурда. Во-первых, о подобной нелепице я никогда не писал, поскольку все, что вы перечислили, действительно слишком ничтожно, к тому же у них как раз отсутствует выгодное географическое положение. Хотя… (задумывается, после паузы) думается, что крохотные шансы при определенных обстоятельствах могли появиться и у них. Правда, для этого их князья должны были быть не только энергичными умницами, но и очень большими подлецами, не брезговать ничем в борьбе со своими соперниками, начиная от клеветы и предательства и заканчивая физическим устранением.
О. А. Албул. А вы не задумывались, ну хотя бы на секунду, потерпела бы Русь таких негодяев?
Ю. А. Потапов. Если бы они проиграли, то, безусловно, нет. Их непременно заклеймили бы, как Святополка Окаянного. А вот если бы они оказались в победителях — то запросто.
В. Н. Мездрик. Еще и святым бы кого-нибудь из них сделали.
О. А. Албул. Простите, уважаемые коллеги, но я хотел бы знать, мы с вами ведем научный диспут или сочиняем фантастический роман, причем довольно-таки страшный — с князьями-подлецами, с загадочным вековым рабством Руси, ее последующим расколом на несколько народностей и мучительно тяжким воссоединением. Бр-р-р, об этом и думать-то страшно, не то что говорить. Радует лишь то, что все это возникло в вашем воспаленном воображении и не имеет ничего общего ни с реальностью, ни даже с гипотетической возможностью, настолько все это нелогично и вообще… несерьезно.
Ю. А. Потапов. Благодаря князю Константину.
О. А. Албул. А я еще раз вам отвечаю, что природа не терпит пустоты. Не будь его — был бы другой, и как знать, может, и получше.
В. П. Мездрик. Да Константин и так практически не совершал ошибок.
О. А. Албул. Ой ли? А вот этот разброс собственных войск в погоне сразу за тремя зайцами — Прибалтикой, Константинополем и татарами? Да и в последующем, согласитесь, его действия не всегда можно назвать удачными. А его попытки перейти в католичество, которым, кстати, имеется документальное подтверждение в виде соответствующих грамот римского папы.
В. П. Мездрик. Фальшивка!
О. А. Албул. Это вы так считаете, а большинство здравомыслящих ученых склоняются к противоположному выводу. Да мало ли что еще. К тому же, Виталий Николаевич, не забывайте о его потомстве. Я имею в виду его сына Святозара, который… Впрочем, вы это знаете не хуже меня.
Ю.А. Потапов. Может быть, и так, но вспомните, что произошло то ли накануне смерти самого Константина, то ли сразу после нее, словом, примерно в тех пределах. Как вы считаете, не следует ли полагать, что выяснились какие-то неизвестные доселе обстоятельства? На мой взгляд…
О. А. Албул (перебивая). Не уподобляйтесь своему авантюристичному коллеге, голубчик. На основе голых догадок пытаться опровергнуть десятки, если не сотни свидетельских показаний, зафиксированных в летописях, это уж, знаете ли, переходит всяческие рамки. К тому же и без того понятно, что наиболее убедительная причина всего, что тогда происходило, — это борьба за трон, только и всего. В ней и только в ней кроются все корни тех или иных объединений и возникновение довольно-таки странных коалиций. Союзников в политике, знаете ли, выбирают исходя исключительно из общности интересов, пусть хотя бы и временных.
Председательствующий. Я вынужден прервать вас, дорогие коллеги, поскольку время позднее, вы устали, да и несколько отклонились от первоначальной темы обсуждения. Поэтому я предлагаю оставить острые стрелы ваших разящих слов и перенести дискуссию на другой день. Возражения есть? (Молчание.) Вот и чудесно. Перерыв.
Из протокола научной дискуссии Императорского Исторического общества, Рязань, май 1842 года.Глава 3 Хотел как лучше, а получилось… еще лучше
Моубрей
Тайный голос изнутри Меня все время предостерегает, Что между нами мир недостижим.Гастингс
Не бойтесь. Договор мы обеспечим Ручательством противной стороны. На этих обоюдных основаньях Наш мир незыблем будет, как скала. Уильям Шекспир. «Генрих IV».Как доказать, что ты достоин своего места, что тебя поставили командовать другими людьми не из-за княжеского титула или кровного родства с самим царем, а исходя из твоих собственных заслуг? Да только делом. А иначе никак.
Воевода Вячеслав Михайлович как учил? «Любой начальный человек — хоть десятник, хоть сотник, не говоря уже о тысяцком — должен быть для своих людей примером. Во всем. Иначе ничего путного не получится».
— Ты вдумайся в эти слова, княже, и сам все поймешь, — втолковывал он Святозару. — Что «начальник», что «поначалу». Корень у этих слов один, стало быть, кому надлежит первому во всем быть? — И сам же отвечал: — Ему. А уж велик ли его чин, мал ли — то дело десятое. Опять же, если не будет личного примера, то откуда у людей возьмется вера в тебя? Неоткуда ей взяться. Воин же без веры — это половинка воина. И рука его не так сильна, и глаз не так зорок, а в голове сомнения опасные вьются. Какая уж тут битва?! Не до нее ему. Совсем другое дело, если ратник за своим начальником готов в огонь и воду, если он в него верит, как в господа бога. Тут у него и сил вдвое против прежнего прибавляется. Тебе же мои слова надо запомнить особо.
— Почему? — удивился Святозар.
— А потому, что тебя с юных лет наш государь в начальные люди ставить принялся. Потому у многих обязательно черная мысль зародится — не своими заслугами, но только одним родством обязан этот начальник столь высоким чинам. Будь, мол, я царским сыном, так, глядишь, еще выше стоял бы.
— А что же тогда делать? — не на шутку испугался Святозар.
— А кому я только что все объяснял?! — возмутился воевода. — Сказано же — личным примером! Больше доказать ничем не получится.
Поэтому, узнав, что в степях появилась неуловимая сотня монгольских воинов, совершающая набеги через рубежный Яик, Святозар мгновенно понял: «Это оно!» Если получится изловить степных грабителей, самолично руководя поимкой, то его авторитет будет поднят на такую высоту, что поглядывать на незаконного царского сына всем прочим придется только снизу вверх.
К тому же, судя по рассказам тех, кто пытался чуть раньше отрезать сотню от Яика, командовал ею тот самый Бурунчи, который еще в Орске с неизменным успехом уходил от засад и погони. Сам Святозар не раз гонялся за ним, но безуспешно.
Подивившись тому, что они с Бурунчи стали такими неразлучными, князь принялся размышлять, каким образом уничтожить везучего сотника, но, как ни крутил, как ни вертел, верного способа так и не придумал, а рисковать не хотелось. Если уж принимать личное участие в погоне, то она непременно должна была закончиться успехом, иначе могло получиться еще хуже. Тогда те, кто теперь поглядывает на него искоса, станут смотреть уже с явной кривой ухмылкой, даже не пряча ее.
Сотник же с каждым днем все больше и больше наглел. Раньше он предпринимал свои вылазки очень осторожно, исключительно ночью, к тому же на солидном расстоянии от обеих крепостей, действуя почти посередине. Теперь же Бурунчи подходил к Оренбургу чуть ли не вплотную, орудуя в двадцати — тридцати верстах от него.
И вот пришел долгожданный день, когда Святозар понял, что у него есть возможность поймать окончательно зарвавшегося монгола. Сотня, которую он вел, все ближе и ближе сближалась с отчаянно удиравшими воинами Бурунчи, возглавлявшего это паническое бегство.
Монголы были уже в пределах досягаемости арбалетных стрел, чем и воспользовались русские пограничники. Конечно, целиться на скаку тяжко, но каждая десятая из них все равно нашла свою добычу. Немного, но, как известно, первый успех окрыляет.
Оставалось совсем чуть-чуть, но тут для сотника расстаралась сама природа, открыв прекрасный спуск к Яику. Почти весь правый русский берег был довольно-таки крут, но именно в этом месте во время очередного весеннего половодья пласты земли, нависшие над водой, рухнули в реку, да так удачно, что образовался пологий спуск к воде.
Бурунчи и его воины взвыли от радости, русичи — от разочарования, что неуловимый сотник в который раз уходит от них, и разгоряченный погоней Святозар, бесшабашно махнув рукой, приказал: «Следом!», хотя пересекать Яик порубежникам запрещалось.
— Как мы можем требовать от степняков не ходить на наши земли, если сами будем соваться к ним? — задал резонный вопрос воевода Вячеслав Михайлович, когда князь поинтересовался, почему те могут сюда шастать, хоть и рискуя не вернуться, а его люди — нет.
До сегодняшнего дня Святозар честно выполнял это распоряжение, но уж больно не хотелось ему упускать добычу, когда она рядом. К тому же неизвестно, представится ли в следующий раз такой удачный случай, а если да, то когда? Побывав на волосок от смерти, бесшабашный сотник непременно остепенится, и потом поди излови его.
Чалый жеребец Святозара первым плюхнулся в мутные воды Яика. Остальные кони послушно последовали за своим вожаком. Холод реки ожег разгоряченное тело князя, остужая его пыл и заставляя задуматься, а правильно ли он поступил?
И вообще, если уж говорить о личном примере, который он подает своим людям, то этот пример скорее из разряда непослушания. Но додумать эту, в общем-то, правильную мысль князь не успел. Конь уже выходил на противоположный берег, а поворачивать его обратно было бы настолько глупо, что Святозар лишь зло отмахнулся от нее и вновь ринулся в погоню, тем более что, по его прикидкам, гнаться оставалось не больше версты, от силы — двух. Дальше расстояние между противниками должно было сократиться настолько, что сотнику волей-неволей пришлось бы разворачиваться к врагу лицом и принимать бой.
Так оно и случилось, но, когда Бурунчи и его люди стали поворачивать своих коней, Святозар, обернувшись назад, чтобы еще раз ободрить воинов, с ужасом увидел, что из волка он сам превратился в зайца.
Как, когда и откуда вынырнули позади него еще три сотни, он так и не понял, но сейчас они находились уже в опасной близости от его пограничников, число которых заметно поредело. Монголы знали свое дело, и пущенные ими в приотставших от основного отряда русичей стрелы били без промаха. В седлах вместе с князем находилось уже не более семи-восьми десятков. А стрелы все разили и разили, безошибочно находя уязвимые места, впиваясь кому в ногу, кому в шею, а кому в лицо.
И тогда, поняв, что еще совсем немного, и драться будет некому, Святозар поднял коня на дыбы и повел своих людей в атаку. Она должна была стать самоубийственной, но это лучше, чем беспомощное ожидание смерти.
Один против пяти-шести — тут не выстоять никому. То, что князь исхитрился продержаться в седле целых несколько минут, само по себе являлось чудом, но было еще и второе, когда, очнувшись, он почувствовал, как чья-то заботливая рука бережно вытирает его лоб приятно холодной и влажной тряпицей.
«Жив?! — несказанно удивился он. — Почему?!»
Тем временем кто-то, осторожно приподняв его голову, настойчиво пытался влить какую-то солоноватую жидкость в пересохший рот. Святозар глотнул, поперхнулся, закашлялся, но, отдышавшись, немедленно сделал еще один глоток, затем еще, еще, еще и наконец-то сумел разлепить глаза.
Несколько секунд он тупо разглядывал смуглые физиономии, затем вгляделся в одну из них, показавшуюся ему до одури знакомой, после чего пожалел, что вообще уцелел. Мало того, что он, по всей видимости, положил всю сотню, так еще и ухитрился угодить в плен.
— Монголы, — прошептал он одними губами, и спасительное забытье тут же ласково обхватило его со всех сторон и бережно увлекло куда-то в темноту.
Ошибиться Святозар не мог. Перед ним явно стоял Бурунчи — наиболее удачливый сотник хана Вату. Он выделялся даже на фоне прочих счастливчиков, трижды уходил от самого Святозара, а потому пользовался особым почетом и уважением самого хана. Бату не приближал его к себе только потому, что нуждался в таких везунчиках, которые должны подавать пример всем прочим, внушая своим богатством уважение и зависть соседям и побуждая в них такое же желание попытаться обогатиться.
«Будешь ходить за реку, и у тебя тоже появятся тысячные табуны скакунов, и ты каждую ночь сможешь спать с новой рабыней», — говорили старые монголы своим сыновьям.
Только очень старые, а потому мудрые, вполголоса добавляли: «Если останешься жив». Впрочем, молодости всегда была свойственна излишняя самонадеянность, а также непоколебимая уверенность в собственном бессмертии, так что на мудрое предостережение никто не обращал внимания.
Да и сам Бату не раз говорил своим нукерам:
«Там, за рекой, богатые угодья, высокие травы и бесконечные табуны. Их владельцы — такие же степняки, как вы, а живут много богаче. Разве это справедливо?»
Одобрительный рев, вырывавшийся при этих словах у сотен слушателей, поддерживал его, и хан продолжал:
«Мой дед, великий воитель, завещал все эти земли мне и моему роду, а значит, и вам, мои доблестные воины. И разве справедливо, когда эти урусы, умеющие только рыться в земле, подобно грязным навозным червям, мешают нам твердой ногой ступить на то, что завещано мне по праву?»
И снова оглушительный рев вылетал из сотен и сотен молодых глоток.
«Я уезжаю добивать желтых лисиц, — заканчивал он. — Но когда вернусь, я вознагражу всех храбрецов, которые не побоялись сходить туда. Каждый получит от меня столько же коней, сколько он сумел угнать из стойбищ наших будущих рабов, столько же женщин, сколько он привезет из своих набегов».
И всякий раз после его отъездов количество монгольских отрядов, скрытно переходящих Яик, увеличивалось, вот только богатства это почему-то не приносило, потому что одновременно с этим увеличивалось количество плачущих вдов, а также полуголых оборванцев-сирот, оставшихся без отца-кормильца.
А когда Бату возвращался из далеких земель, он говорил, что во всем виноваты подлые убийцы-урусы, которые тайно подкрадываются и коварно нападают на монгольских воинов, отнимая у них то, что принадлежит им по праву.
Пока Святозар лежал в юрте Бурунчи, он ни разу не видел, чтобы тот был чем-то озабочен или встревожен. Напротив, рот его не закрывался от широкой, будто прилепленной навечно улыбки. Еще бы, взять в плен самого князя Синяя смерть — это о-го-го.
Пройдут века, но старые седобородые акыны будут продолжать петь об этом, восхваляя перед новыми поколениями героический подвиг Бурунчи-багатура и его нукеров. К тому же сотник верил своему хану, от которого и получил задание изловить князя.
— Поймаешь его — быть тебе темником, — коротко сказал он, и Бурунчи этого хватило.
Теперь он рассчитывал, что, когда он привезет Святозара и подарит царственного пленника своему хану, тот не просто даст ему власть над десятью тысячами воинов. Он непременно осыплет его золотом и приблизит к своему сердцу. Поэтому Бурунчи очень тщательно следил, чтобы две пленницы-башкирки вовремя меняли свежие повязки на голове князя, промывали рану чистой ключевой водой, а в его изголовье всегда стоял кувшин со свежим кумысом.
Через две недели, решив, что русич уже сможет перенести путешествие, Бурунчи начал готовиться к дальней дороге в Сыгнак[24], где была расположена ханская ставка.
Однако все сложилось иначе. Хан сам пожаловал к Бурунчи, прослышав о том, какой важный пленник попался в руки его воинов. А вот дальше все пошло совсем не так, как думал Святозар.
Он предполагал, что хан либо отпустит его за солидный выкуп, либо убьет, если чувство мести пересилит жажду наживы. Разумеется, казнить он его будет прилюдно и постарается придумать такой способ, чтобы можно было вволю насладиться страданиями пленника. Поэтому Святозар с самых первых дней начал подыскивать себе что-нибудь острое, дабы успеть лишить Бату этого удовольствия.
Вести поиск с колодками на руках, на ногах и на шее было затруднительно, а потому отыскать острый обломок когда-то разбитого кувшина, затерявшийся в густой траве возле юрты, ему удалось лишь перед ханским приездом, но и он не понадобился.
Бату был весел, словоохотлив и первым делом повелел снять с пленника колодки.
— Может, оставим их? — робко уточнил Бурунчи. — Вдруг пленник сбежит?
— Ты же собирался подарить его мне, — надменно заметил хан. — Считай, что уже подарил. Если он сбежит, то у меня, а не у тебя. Да и зачем ему бежать? Это у тебя он был пленником, а у меня он — гость. Разве вежливый гость может без предупреждения покинуть хозяина? — И приказал толмачу: — Переведи это и скажи, что если он даст слово не пытаться бежать в течение десяти дней, то хан не просто освободит его, но и вообще снимет охрану. А сотник Бурунчи подарит ему одного из своих любимых жеребцов, искупив свою вину за то, что так жестоко обращался со своим пленником. А через десять дней его с почетом проводят до Яика и даже помогут перебраться на ту сторону.
Толмач перевел.
— А какой выкуп ты возьмешь с меня, хан? — уточнил Святозар, понимая, что мучительная смерть вроде бы отодвинулась.
Бату поморщился и поучительно заметил:
— Разве можно брать выкуп с гостя? Наоборот, гостеприимный хозяин оделяет его подарками, чтобы он почаще приезжал и не унес в своей голове худые воспоминания о стойбище, в котором побывал.
— Разве враги могут быть гостями? — без всяких уверток спросил князь.
— В этом мире все изменчиво. Даже солнце может быть и врагом, когда оно день за днем нещадно выжигает траву в степи, и другом, когда помогает земле освободиться от снега и возродиться на ней новой, сочной траве. Так что тут говорить о людях. Вчера ты был враг, сегодня мы примирились, чтобы вместе напасть на третьего, а завтра делим добычу, пьем пенный кумыс и клянемся в вечной дружбе, — философски ответил хан.
— А послезавтра? Вновь враги? — уточнил Святозар.
— Даже самые мудрые из людей не смогут сказать наверняка, будут они живы к вечеру следующего дня или нет, — уклончиво ответил хан. — Так что ни к чему нам заглядывать далеко вперед. Мы все равно не увидим будущего, а даже если что-то и увидим, то все равно не поймем или поймем не так, как оно будет на самом деле.
— Хан мудр, — заметил Святозар с легкой усмешкой.
— Я не только мудр, но и справедлив. Если враг отважен и храбр, то я уважаю этого врага. Когда он попадает ко мне в плен, я не люблю наслаждаться его мучениями и смертью. Терзать беспомощного недостойно настоящего воина.
— Неужели ты просто так отпустишь меня и не потребуешь ничего взамен? — недоверчиво спросил Святозар.
Бату строго посмотрел на окружающую его свиту и произнес:
— Пусть кто-нибудь из вас вспомнит случай, когда я дал кому-то свое слово и не сдержал его. Хотя бы один. Ну! — нетерпеливо прикрикнул он.
Все молчали.
— А ты чего молчишь? — напустился хан на толмача. — Переведи князю то, что я спросил у своих людей.
Тот начал было переводить, но князь остановил его.
— Я знаю твой язык, — тщательно подбирая слова, медленно произнес он.
— Это хорошо, — одобрительно заметил Бату. — Взамен же подари мне то, что можно получить от гостя, — свою дружбу. В степи мне больше всего не хватает именно ее. — Он властно взмахнул рукой, и все присутствующие немедленно удалились.
В юрте остались только Бату и Святозар. Хан брезгливо пнул ногой по колодке, снятой с ног пленника, неторопливо уселся на подушку, валявшуюся на кошме, и жестом пригласил Святозара занять место подле него.
Когда тот уселся, Бату, понизив голос, продолжил:
— Если бы ты знал, как я устал от постоянной войны. Мне нужен прочный мир хотя бы с одной стороны моего улуса. Скажи, если ты напишешь своему отцу о моем предложении мира, он согласится заключить его со мной?
— Я не могу отвечать за своего отца, — сказал Святозар, но, заметив, как вытянулось и поскучнело лицо его собеседника, быстро добавил: — Но, насколько я знаю, он любит мир и всегда охотно заключает его с соседями. Он говорит, что правителю гораздо выгоднее, когда его подданные растят хлеб и торгуют, нежели когда идет война. За любую добычу рано или поздно придется заплатить такую цену, что станет невыгодно воевать. И еще одно могу сказать твердо. Если отец дает кому-то слово, он никогда не нарушает его.
— Это хорошо, — одобрительно произнес хан. — Я всегда считал, что с урусами можно иметь дело. Гораздо лучше, если они из сильного врага станут надежным другом, к которому можно без опаски повернуться спиной.
— Если отец заключит с тобой мир, то он никогда не ударит тебе в спину, — подтвердил Святозар.
— Вот и славно, — Бату довольно потер ладоши. — Но о делах у нас еще будет время поговорить, а сегодня мы будем наслаждаться нежной сочной бараниной, веселиться и пировать. Я привез с собой много крепких напитков, дурманящих голову, и хочу посмотреть, кто из нас сможет победить в этом сражении.
Дни понеслись вскачь, как молодой глупый джейран по весенней степи. Бату и впрямь не ограничивал Святозара в передвижениях, куда бы тот ни шел. Князь пару раз специально говорил хану, что хочет немного развеяться и побыть в степи, на что Бату только пожимал плечами и заявлял:
— Я же сказал, что ты у меня гость, а гость вправе делать то, что вздумается. Лишь бы тебе было хорошо. Хочешь поехать один — езжай. А если заблудишься, помни, что у Бурунчи — умные кони. Просто отпусти поводья, и он сам привезет тебя обратно.
Святозар отъезжал далеко, даже очень далеко, но, как ни оглядывался, все равно не примечал, чтобы кто-то из монголов следовал за ним. Хан и впрямь твердо держал свое слово.
К честному врагу поневоле испытываешь уважение. К великодушному — вдвойне.
«Если подсчитать всех, кого я положил за эти годы, наберется не меньше пяти десятков, а то и вся сотня, — размышлял Святозар. — Пускай он хочет мира с выгодой для себя. Пускай даже он потом наберет еще больше сил. Но кто сказал, что после этого Бату непременно нападет на Русь? Да отец и сам всегда говорил, что надо выиграть время. Чем больше Русь пребывает в мире, тем крепче она станет. Я никого не обманываю и не предаю. Я даже ничего ему не обещал, кроме того, что не убегу. Да и к чему бежать, если завтра заканчивается оговоренный ханом срок? Незачем».
Бату и тут сдержал свое слово, самолично поехав провожать Святозара. Последний вечерний привал они сделали в версте от Яика. Оренбург, ставший почти родным, грозно высился на другой стороне реки, гордо вздымая свои крепкие могучие башни. На этот раз хан не был так весел, как все эти дни, но князь даже не успел спросить, что так расстроило его, — Бату сам пояснил причину печали:
— Мне грустно расставаться с тобой. Ты показал себя хорошим собеседником. Пожалуй, ты первый, кто говорит со мной и при этом думает то же самое, что произносит. И еще мне жаль, что трон твоего отца унаследуешь не ты, а твой старший брат, который, как я слышал, предпочитает быстрой скачке заунывные завывания своих шаманов с крестами на груди. По мне, так твой отец не прав, сделав наследником его, а не тебя. Хотя… — Он ненадолго задумался, затем продолжил:
— Все в жизни переменчиво. Особенно когда рядом есть надежные друзья, всегда готовые помочь восстановить порушенную справедливость. Тем более что мне это хорошо ведомо. Я ведь тоже не был старшим сыном своего отца. Но он, в отличие от твоего, поступил мудро. Видя, что его первенец Орду-Ичен не способен держать твердой рукой свой улус, он выделил ему земли, много земель, но старшим в роду сделал меня.
«Вот оно, — сердце Святозара екнуло. — Началось самое главное. Вот зачем я нужен хану. Он хочет стравить нас с братом, а когда мы перегрыземся, ударит в спину. Или нет. Скорее он и впрямь на первых порах может мне помочь, чтобы уравнять наши со Святославом силы. А уж потом, выждав миг поудобнее, ударит по мне. И что делать?» А свобода была ох как близка.
— О чем задумался мой гость? — заботливо спросил Бату.
— Я думаю, ты был прав, когда сказал, что все в жизни переменчиво. И я рад, что твой отец поступил справедливо, сделав своим наследником самого лучшего из сыновей и не посмотрев, какой он у него по счету, — уклончиво заметил Святозар, решив не лгать, но и не говорить всей правды. — Это наводит на размышления. Но твое предложение так неожиданно, что только глупец ответил бы на него сразу, не обдумав всего как следует.
— Хорошо сказано, — оживился Бату. — Большие дела всегда требуют долгих дум. Ты оказался еще мудрее, чем я считал, и мне так жаль расставаться с тобой, что я передумал. — Он хитро улыбнулся и испытующе посмотрел на Святозара.
Князь побледнел.
— Неужели хан решил первый раз в жизни нарушить свое слово? Или слово, данное врагу, не обязательно к исполнению? Мой отец так не считает. В таком случае тебе трудно будет говорить с ним о вечном мире между нами.
— Ты не понял меня, Святозар, — еще шире улыбнулся Бату. — Мне настолько тяжко расставаться с тобой навсегда, что перед тем, как отпустить тебя, я хочу попросить. Дай слово, что через десять дней ты переправишься через Яик на это же место, где я буду тебя ждать. И помни — это просьба, — поднял он вверх палец. — Если ты не хочешь возвращаться, то не обещай.
— Что ж, я даю тебе его, — быстро ответил Святозар. — Через десять дней мои люди переправят меня на этот берег.
— Я верю тебе, — торжественно произнес Бату.
Князь сдержал обещание. Ровно через десять дней они вновь встретились с ханом на низком левом берегу Яика, куда его доставила ладья. Несмотря на все уговоры, он даже не стал поддевать кольчугу, а из всего оружия взял с собой лишь нож, да и то лишь для того, чтобы было удобнее резать баранину, в изобилии лежащую перед ним на блюде.
Однако Святозар и не держал в тайне того, что с ним произошло. Подробностей, правда, не рассказывал, но скупо поведал, что хан Бату желает заключить с Русью вечный мир. Именно поэтому он и отпустил сына царя всея Руси, даже не взяв с него выкупа.
«Я ничего не обещал ему, государь, — написал он в грамотке, которую нарочные уже на следующее утро повезли в Рязань. — Правду он мне сказывал или умыслил некую тайную зловреду — решать тебе. И еще я дал ему слово вернуться через десять дней. Ворочусь ли жив али нет — на все воля божья. Но ты сам сказывал, что ежели даешь роту[25], пусть и ворогу, то беспременно должон ее соблюсти. Посему поступаю так, яко ты заповедал в своем поучении».
Вопреки ожиданиям пессимистов, Бату при встрече со Святозаром не сделал ни малейших попыток к насильному удержанию князя. Да и вел он себя точно так же — веселился, смеялся, рассыпал массу лестных слов в адрес русичей. Слова Святозара о том, что он уже послал гонцов известить царя о желании хана заключить вечный мир, Бату воспринял как само собой разумеющееся.
Единственный раз он нахмурил брови, когда князь вежливо, но твердо отклонил еще одно его предложение помочь восстановить справедливость. Правда, Святозар по возможности постарался смягчить свой отказ, заявив, что его отец полон сил, чувствует себя бодро, а потому все разговоры о наследстве преждевременны. Как знать, может, через несколько лет он и сам решит поступить иначе.
— Ты говорил, что даже мудрым не дано предсказать, что случится с ними на следующий день. Тем более ни к чему загадывать на многие лета вперед, — заметил Святозар и развел руками. — Никто не ведает, когда придет его смертный час. Разве мало было случаев, когда отец переживал своих сыновей?
— Я понял тебя, князь, — кивнул Бату. — Наверное, ты прав. Что же до мира, то я мыслю так. Помимо надежно защищенной спины для победы над своими братьями, которые стали слишком своевольными, мне нужны сильные союзники. Я боюсь, что твой отец не до конца поверит моим мирным намерениям и не даст мне в помощь своих полков.
Он испытующе посмотрел на Святозара, но тот молчал, спокойно ожидая, что хан скажет дальше.
— Думается, что я найду поддержку, но для этого мне нужно время. Много времени. Поэтому я бы хотел, чтобы ты написал своему отцу о том, что я вновь вернусь сюда на этот берег, когда река покроется таким льдом, чтобы по нему могли ступать кони. Тогда мы окончательно обговорим все условия мира и заключим его на страх всем нашим врагам. Только отпиши, что я хотел бы говорить именно с ним, а не с его послами. Тогда он, если потом захочет нарушить свое слово, не сможет отделаться пустыми отговорками. — Но, заметив, как сразу же насторожился Святозар, Бату усмехнулся и упрекнул собеседника: — Я вижу, что ты не доверяешь мне.
А вот ворота моего сердца перед тобой распахнуты, как полог юрты в полдень жаркого дня. Хоп. Напиши ему, что в знак искренней жажды мира я готов сам приехать в вашу крепость, где скреплю наш договор своей большой печатью. С собой же я возьму не больше десятка воинов. Как видишь, я готов пойти даже на такое и не боюсь целиком оказаться во власти каана урусов, — завершил он свою речь.
«Лишь бы старый волк попал в мою западню, — подумал Бату, продолжая все так же мило улыбаться князю. — А уж я постараюсь, чтобы он нашел там свой конец».
— Я отпишу обо всем этом государю, — кивнул Святозар. — Думаю, что он по достоинству оценит, насколько глубоко твое доверие к нему.
— Тогда мы вновь начнем пировать и веселиться, как подобает друзьям, всегда готовым прийти друг другу на выручку, — улыбнулся хан.
Глава 4 Договор «поневоле»
Не всему еще жизнь научила, Больно стукая носом о дверь: Если что-то тебе посулили — Ты посулам не очень-то верь. Пусть ты сам никогда не забудешь, Если слово кому-то даешь, Но тебя — вот уж истинно — люди Подведут просто так, ни за грош. Мария Семенова— Ну почему, почему ты боишься высунуть нос из своей треклятой пещеры?! — ревел от бешенства Бату, в ярости колотя рукой по шершавому серому камню, чуть выступающему из гладкой стены. — Я клянусь тебе чем хочешь, что мои воины повезут тебя так бережно, как не везли в последний путь даже потрясателя вселенной. — Я же все продумал, но если ты не наведешь морока на русичей, то с десятком людей мне со всеми ними не управиться. А ты это можешь, я знаю.
— Могу, — вздохнул Горесев. — Я многое могу. Но еще раз поясняю тебе, что стоит мне пересечь эти горы, как меня тут же обнаружат те, с кем рассорился и от кого бежал мой отец.
— Ты боишься, — усмехнулся Бату. — Но ведь тебя будут постоянно защищать мои воины. И потом, что ты теряешь?! Вот это?!
Он широким жестом обвел все убранство пещеры. Черный человек и впрямь жил небогато. Можно сказать, скудно. Его ложе состояло из обыкновенного ковра, постеленного в дальнем углу прямо на камни. Стол, расположенный в середине, тоже из камня, верхнюю поверхность которого гладко срезала какая-то могучая сила. Каменным был и стул, на сиденье которого лежала обычная циновка, сложенная вдвое. Вот и вся обстановка, если не считать размещенных по периметру всей пещеры каменных полок, на которых в беспорядке валялись свитки и огромные толстые фолианты.
— Хочешь, я заплачу тебе за все твое добро три золотых динара? Нет, даже десять, — поправил себя хан. — Не думаю, что кто-то даст тебе больше двух.
— За некоторые из этих свитков знающий человек с радостью дал бы десять тысяч золотых динаров, — поправил его Горесев. — А потом прыгал бы от счастья, считая, что бессовестно надул меня. И это было бы правдой, ибо лишь редкие из них я оценил бы дешевле ста тысяч.
— И что же там написано? — поразился Бату.
Он ткнул пальцем в свиток, лежащий с краю, и потребовал:
— Прочти мне что-нибудь из него, чтобы я тоже мог насладиться древней мудростью и проникнуться ее величием.
Горесев криво усмехнулся, взял указанный свиток, развернул его и стал медленно читать вслух:
— «Древние[26] были, есть и будут. До рождения человека пришли они с темных звезд, незримые и внушающие отвращение, спустились они на первозданную землю. Много столетий плодились они на дне океанов, но затем моря отступили перед сушей, и полчища их выползли на берег, и тьма воцарилась над Землей».
Бату невольно передернулся. Леденящим холодом повеяло от глухого голоса Горесева, и сами слова были тягучи и неприятны, как… Он попытался найти сравнение, но не смог, потому что они были хуже всего, что знал хан.
А шаман продолжал читать:
— «У ледяных полюсов воздвигли они города и крепости, и на высотах возвели они храмы тем, над которыми тяготеет проклятие богов. И порождения древних наводнили землю, и дети их жили долгие века. Чудовищные птицы Лэнга — творения рук их, и бледные призраки, обитавшие в первозданных склепах Зин, почитали их своими Владыками. Они породили На-Хага и тощих Всадников Ночи; Великий Ктулху — брат их и погонщик их рабов. Дикие псы приносят им клятву верности в сумрачной долине Пнот, и волки поют им хвалу в предгорьях древнего Трока».
— Я не знаю, где находится Трок, но волки не могли петь им хвалу, ибо это наши первые предки[27], и ты, старик, не унижай их тем, будто они смирились перед чужими богами, — произнес встрепенувшийся Бату. — Я тоже люблю сказки, особенно когда они такие страшные. — Хан еще раз передернулся. — Но разве это стоит ста тысяч?
— Стоит, — не согласился с ним Горесев. — Только не сто, а больше, потому что это подлинный «Некрономикон», с помощью которого я могу, например, поднять из могилы твоего великого деда и заставить его делать то, что я хочу. Я могу… Словом, много чего могу.
— Не надо трогать моего деда и вообще касаться мертвецов, — спокойно произнес Бату. — Пусть они покоятся там, где их положили. Но, в конце концов, ты в состоянии наложить на свои драгоценные свитки какие-нибудь чары невидимости, чтобы они преспокойно лежали здесь и дожидались тебя?
— Могу и так, — согласился Горесев. — Дело не в них, а во мне. Я ведь уже сказал, что мое присутствие будет сразу обнаружено. Нас встретят через несколько дней после того, как мы пересечем горы. Поверь, я подвергаю себя очень большой опасности, отправляя твоих лучших воинов тем путем, по которому они выйдут напрямую к оберегу. Их дорога будет лежать совсем рядом с землями Мертвых волхвов. Если они учуют амулеты, которые наденут твои тысячники и сотники, то найти меня по ним не составит труда, и тогда я уже ничего не смогу поделать. Мне остается только надеяться, что на этот раз ты пошлешь действительно надежных воинов, и они справятся с порученным делом раньше, чем волхвы доберутся до моей пещеры. Тогда и только тогда не они, а я буду сильнее их всех, вместе взятых, — мрачно произнес он. — Если же они не успеют…
— Но мои нукеры, мои кешиктены![28] — взвился было на дыбы Бату.
— С Мертвыми волхвами не справиться даже мне, не говоря уж о твоих нукерах, — отмахнулся его собеседник. — И твое счастье, что, как бы тяжко ни складывались дела на Руси, волхвы все равно не будут в них вмешиваться и помогать своим соплеменникам, от которых они ушли давным-давно.
— Почему? — вновь не понял Бату.
— Да потому, что одно дело, если твоя сила сломит силу русичей, и совсем другое — если они почувствуют меня.
— Значит, все прахом! — горестно взвыл хан.
— Почему же прахом, — удивился Горесев. — Ты зародил в душе молодого князя горькие ростки сомнений, на которых должны вырасти ядовитые плоды братоубийственной войны.
— Это очень долго, — проворчал Бату.
— Что ж, тогда поступай так, как я тебе предлагал в самом начале. Только, учитывая то, что ты согласился подписать с русичами мирный договор, мы с тобой все немного переиначим.
— Мы подсыплем старому волку отраву, — догадался хан, и лицо его осветила плотоядная улыбка. — Только ты дашь мне медленно действующее снадобье, чтобы я успел унести ноги. Скажем, чтобы он умер на третий или четвертый день. И тогда…
— Я тебе ничего не дам, — прервал его мечтания Горесев. — Ты поступишь честно, как и подобает храброму воину. Ты приедешь к нему в крепость без оружия и подпишешь этот мирный договор. Ты повелишь всем своим воинам под страхом смертной казни не нарушать его.
— А как же мой дядя Угедей? — озадаченно спросил хан. — Я ведь уговорил его. Еще в прошлом году на великом курултае он объявил, что воинам пора повернуть своих коней на закат солнца. Он даже согласился с тем, что все они пойдут под моим началом.
Бату обиженно выпятил губы вперед и в этот момент стал удивительно похож на маленького ребенка, которому подарили новую игрушку. Мальчик только начал с ней забавляться, как вдруг ее забрали, внезапно выхватив из его рук. И вот теперь он стоит и не знает, то ли ему заплакать от незаслуженной обиды, то ли попытаться вырвать ее обратно из рук злого дядьки.
— Поход отменять не надо, — сжалился над ребенком «злой дядька». — Все останется неизменным, но сам ты поступишь иначе. Эх, жаль, что ты не умеешь играть в шахматы, — вздохнул Горесев. — Тогда бы ты гораздо лучше и быстрее понял меня. — И он приступил к изложению своего плана.
Когда он закончил говорить, воцарилось долгое тяжелое молчание. Хозяин пещеры терпеливо ждал, что скажет гость, а Бату напряженно размышлял, насколько реально осуществить все это на деле. Кроме того, ему мучительно хотелось отыскать в этом плане хоть какие-то недостатки, пусть маленькие, совсем крохотные, чтобы торжествующе указать на них Горесеву. Однако, как он ни крутил его со всех сторон, изъянов так и не нашел, в чем с сожалением и признался самому себе.
— Ты воистину мудр, — заявил он. — Даже мой хитроумный одноглазый барс с отгрызенной лапой навряд ли додумался бы до такого. Если бы я имел тебя в числе врагов, то я пообещал бы в награду тому, кто принесет твою отрубленную голову, тысячу слитков серебра[29].
— Я стою гораздо больше, — мрачно заметил Горесев.
— Возможно, — согласился Бату. — Только у меня больше нет. Короче, я бы отдал все, что имею, лишь бы ты не стоял у меня на пути.
— Но тебе нечего меня опасаться, — усмехнулся Горесев. — Ведь мы вместе идем по этому пути.
— Верно, — согласился хан, слегка покривив душой, потому что он опасался Черного человека даже сейчас.
При этом он подумал, что судьбу этого старика можно будет решить и потом, когда он сделает все так, как задумал этот страшный человек. Таких людей смертельно опасно иметь даже в союзниках, ибо сегодня он идет с тобой, а завтра может заступить твою дорогу. Гораздо проще избавиться от него заранее, пока он сам так не поступил.
— И не вздумай что-либо умышлять против меня, — словно прочитав его мысли, сурово громыхнул над самым ханским ухом голос Горесева. — Запомни, войдя в мою пещеру, ты перешагнул невидимый магический круг, соединяющий наши жизни невидимой нитью. Что бы со мной ни случилось, даже если твоей вины в этом не будет, ты не доживешь до следующего восхода солнца. Теперь ты должен беречь меня как зеницу ока.
Бату недоверчиво посмотрел на него.
— Я вижу, ты не веришь мне, — пожал плечами Горесев. — Тогда возьми саблю и убей меня прямо сейчас.
Хан нерешительно взялся за рукоять сабли, но вытаскивать ее из ножен не стал.
— Я и так верю, — глухо произнес он, убирая руку.
— И правильно, — заметил хозяин пещеры. — Здесь, в этом месте ты бы умер даже раньше меня, еще во время замаха.
— А если я умру раньше, то ты тоже не доживешь до следующего восхода солнца? — поинтересовался Бату, чувствуя, как все его тело покрылось тяжелым липким потом.
— Для этого надо было прочесть заклятие слияния, — пожал плечами Горесев. — Оно длинное, да и ни к чему. Зачем мне зависеть от твоей глупой удачи на войне? А если кто-нибудь сумеет угостить тебя ядом? Неужели и мне умирать вслед за тобой? Заклятие присоединения и короче, и лучше. Гораздо приятнее быть уверенным в том, что даже если с тобой что-то приключится, то я от этого не пострадаю.
— Да, это гораздо приятнее, — подтвердил Бату.
«И так случилось, что зимой года цзи-хай, в одиннадцатой луне[30], в русской крепости, называемой Орен-бург, старший хан Джучиева улуса Бату подписал с уруситами мирный договор и очертил царственным пальцем рубеж своей державы по реке Жани, именуемой уруситами Яик», — красивыми витиеватыми иероглифами записал на синеватом листе бумаги старый хромоногий уйгур и заботливо положил тоненькую кисточку в специальный пузырек с водой.
Тушь, которой он писал, сохла слишком быстро, и это создавало некоторые неудобства для письма — забыл помыть кисточку сразу после работы, и все, считай, надо ее выбрасывать. Запасные же кисти знакомый купец должен был привезти не раньше следующего лета, когда в горах откроются перевалы.
Он еще раз поднес лист чуть ли не вплотную к близоруким глазам и придирчиво вгляделся в него, однако каких-либо изъянов не нашел и удовлетворенно откинулся на спинку маленького стульчика.
Если бы речь шла об очередном взятии какого-нибудь города или о громкой победе монгольского хана, то писарь-уйгур так бы не старался. Но тут говорилось о подписании мира, о котором так любят твердить правители и за который — увы — так усердно сражаются воины.
К тому же, судя по лицу самого хана, он и впрямь остался довольным условиями, а ведь это очень важно. Плох тот мир, который устраивает лишь одну из сторон. Это значит, что он непрочный, а главное — недолгий и продлится ровно до того времени, пока другая сторона не соберет достаточно сил, чтобы снова начать войну.
«Эх, жаль, что я не смог посмотреть на царя Константина, — сокрушенно вздохнул уйгур. — Тогда бы я точно знал, сколько продлится этот мир и не нарушат ли его урус через год или через два».
Если бы старик-писарь мог видеть лицо правителя всея Руси, то он твердо уверился бы в том, что если мир и окажется когда-нибудь нарушен, то русичей в этом винить будет нельзя.
Святозар и сам не мог припомнить, чтобы отец так бурно проявлял свою радость. Обычно всегда сдержанный, даже суховатый и подчеркнуто строгий в обращении, сегодня царь даже не считал нужным скрывать своего ликования.
— Это же надо, — неустанно повторял он. — Я сколько лет послов туда шлю, и все без толку, а он раз… и все! — И Константин крепко обнял сына. — Проси чего хочешь!
Святозару даже неловко стало. Если по совести взять, то ведь он ничего такого и не сделал. Да и началось-то все с чего — с упущения, с того, что он зарвался. Люди погибли, он сам в плен угодил. За такое не благодарить надо, а карать нещадно.
И потом, положа руку на сердце, если уж хану так хотелось заключить с Русью мир, то неужто он сам послов не прислал бы? Просто совпало так, что как раз в это время в его владениях оказался он, Святозар. Вот хан и не преминул воспользоваться удобным случаем.
Он попытался сказать об этом отцу, но куда там. Разве сумеет человек, пьяный от радости, посмотреть трезвым взглядом? Но и его понять можно. Он ведь столько трудов положил, чтобы обезопасить рубежи своего государства.
Это и впрямь была еще та задачка. Вбить клинья в несокрушимый, казалось бы, гранит великой страны, которую с полным основанием можно было называть даже не государством, а державой, величая самого Чингисхана императором, — да возможно ли такое вообще?!
Но гранитная плита представляется гладкой да однородной лишь неопытному человеку. Опытный каменотес не станет вбивать свои клинышки куда попало — ни к чему зазря расходовать лишние силы. Он вначале проведет по ней рукой, чтоб не просто уловить все шероховатости, выступы и впадинки, а прочувствовать, чем дышит камень, понять, где таится его слабое местечко.
Иногда такое удается с первого раза, а нет, так мастер, не пожалев времени, еще и еще раз неспешно огладит материал, зная, что потом все это окупится сторицей. Ага, вот она — трещинка неприметная. Вроде бы в глубине камня сокрыта и на поверхность выходит лишь неприметным тонким волоском, но имеется. Сюда и надо вбивать клин.
Это бедняки, как правило, живут дружной семьей, потому что делить им нечего. Даже когда родители умирают, раздоры между наследниками происходят очень редко. Спорить из-за ледащей лошаденки, покосившейся хатки, убогого надела земли и пяти курей в хлеву — только людей смешить. Хотя и тут бывает всяко.
Совсем иное дело — богачи. У них, конечно, проблемы иные. У них не суп жидкий — у них жемчуг мелкий и поводов для свары хоть отбавляй. А если ты должен получить наследство от самого Чингисхана, то тут не один повод для раздоров сыщется, а сотни. Это ведь не старый кочевник с десятком баранов и прохудившейся юртой. А каждая тайная обида — это трещинка для будущего клинышка.
Константин занялся этим сразу после своего венчания на царство. Поначалу разработал основные направления, по которым предстояло двигаться. Но двигаться не вслепую — так много не наработаешь. Значит, нужно иметь четкий расклад — кто есть кто, чем дышит и чего хочет, то есть предстояло просто «поводить рукой по камню».
После тщательной подготовки, в лето одна тысяча двести двадцать четвертое от рождества Христова, вместе с купеческими караванами в степь двинулись первые русские посольства, везущие богатые дары. Было их три.
Одно направлялось к самому Чингисхану. Особых надежд Константин на него не возлагал. Навряд ли этот кровожадный садист смирится с тем, что кто-то намылил его воинам холку. Если он сразу не положит все посольство в отместку за своих, убитых в Киеве, — уже неплохо. Коли удосужится выслушать — хорошо, а снизойдет к некой незамысловатой просьбе — и вовсе прекрасно.
Сама просьба должна была исходить не от царских послов. Если перед всякими бандюками шапку ломать, то они от этого, почуяв слабину, лишь еще больше обнаглеют. Так что у них для этого упыря были только предложения. А просьба должна была носить исключительно частный характер. Просто один любознательный человек из посольской свиты пишет летопись славных и героических деяний всех государей.
Старики порой любопытны как дети. Должен Чингисхан заинтересоваться, что тот уже написал, непременно должен. Ну а после того, как он услышит о «великих» свершениях западных королей, состоящих в том, что две с половиной сотни рыцарей одного маркграфа отлупили целых полторы сотни другого пфальцграфа, ему самое время возмутиться. Мол, какие же ничтожные деяния ты описываешь, глупец, когда я тут сотнями тысяч орудую, сотнями тысяч в плен беру, а уж вырезаю, когда очередной город захватываю, и вовсе бессчетное количество!
Вообще-то, оно и справедливо. Мелкие бандиты, значит, упомянуты в летописи, а он, не просто большой, но самый главный негодяй, — нет. Есть от чего возмутиться.
А тот ему в ответ: «Тогда дозволь, государь, близ тебя остаться, чтобы все это записать, дабы и твои великие деяния навечно остались в людской памяти, чтобы люди не оболгали их со временем, не умалили их величие».
Примерно так оно и случилось на самом деле. Послы возвратились ни с чем, если не считать ответного письма к государю Руси. В нем потрясатель вселенной приказывал Константину не потакать кипчакам, которые есть не более чем «монгольские конюхи и слуги», не мешать великим степным воинам и привезти дань за урон, который понесен его полководцами. Иначе он сам придет за этой данью, и тогда будет намного хуже.
Да пес с ним, с этим повелением. Послы вернулись живыми — и ладно, и хорошо. На большее Константин и не рассчитывал, а зря, потому что спустя несколько дней после их отъезда великий владыка как бы между прочим заметил Субудаю:
— А ведь я был прав, когда говорил тебе, что не следует спешить. Каан урусов умен и хочет мира. Он понял, что может разбить кого-нибудь из моих багатуров и нойонов. — Он насмешливо прищурился, но полководец, стоящий перед ним, сделал равнодушный вид, словно не понял явного намека, и несколько разочарованный Чингисхан горделиво продолжил: — Но со мной ему никогда не совладать. Мы дадим ему время, чтобы он обдумал наши слова и повиновался им. К тому же собрать дань с такой большой страны — дело долгое, так что ни к чему нам спешить с войной. Зачем лезть на дерево за яйцом, если птичка скоро сама принесет его.
В ответ одноглазый барс с отрубленной лапой желчно заявил, что змея всегда ласково шипит, перед тем как ужалить, но эти слова не возымели действия и не повернули мысли Чингисхана на более воинственный лад, тем более что голова правителя была занята тангутами.
Константина же радовало то, что его человечек остался при ставке великого воителя. Значит, двухлетние труды не пропали даром, и теперь хромой Ожиг, которого в свое время люди Вячеслава освободили из половецкого полона, добросовестно выполнял свою нелегкую, но такую полезную работу по сбору всевозможных сведений.
Лопоухий хромой русич со смешным лицом, пальцы которого были постоянно перепачканы чернилами, Чингисхану понравился. Мало того, что он, несмотря на юные годы, умел правильно слушать, то есть вовремя цокал языком от восторга, вовремя восхищался, вовремя горевал по погибшим воинам. Он вдобавок еще и хорошо переносил слова повелителя вселенной на бумагу, ухитряясь выстроить их даже лучше, чем они звучали в устах самого хана.
Порою, сидя рядом с ним, он хоть и ненадолго, но ощущал себя прежним простым мальчишкой Темучжином. Пускай зачастую он вспоминал и нечто постыдное, например, как до одури боялся собак или как молился на горе Бурхан-халдун, когда, в панике бросив молодую жену на произвол судьбы, бежал от набега тайджитов и меркитов.
Хан сам досадовал на себя, припомнив, из-за какой нелепости убил своего брата Бектера, за что родная мать обозвала Темучжина чудовищем, а в другой раз улыбался, вспомнив, что в конце концов он отомстил всем своим врагам.
О мести он вспоминал особенно часто. Он вообще любил своих врагов, кроме тех, которые успели умереть раньше, чем их настигла его карающая неумолимая длань. Он любил их так сильно, что с удовольствием согласился бы, чтобы они ожили. Тогда он сумел бы убить их еще раз.
Но Чингисхан рассказывал далеко не все из того, что припоминал, ибо есть знания, носитель которых обречен на смерть, а урус был нужен великому воителю. Он даже разрешил ему заходить вместе с ним в заветную старую юрту, где вспоминалось лучше всего.
«Потом — да, потом он конечно же умрет, — думал Чингисхан. — Но только после моей смерти. Пока же пусть слушает».
К тому же урус умел рассказывать красивые занятные сказки о былых временах, о славных богатырях и невиданных чудесах. Пускай из него никогда не выйдет добрый воин — ну и что ж. Но то, что он умел делать, он делал мастерски.
Да и имечко у него было подходящее — Ожиг. Человек с таким именем не должен таить в себе коварных злобных мыслей, потому что священный огонь, которому он посвящен с рождения[31], никогда не позволит осквернить себя.
Ожиг и впрямь не таил дурного. Он просто записывал все, что доносилось до его ушей, а попутно составлял родословную самого Чингисхана, живо интересовался его предками и родичами, уверяя, что вся родня великого воителя заслуживает упоминания в его летописи.
Всемогущий владыка монголов не знал лишь того, что каждую страничку, исписанную мелким почерком, Ожиг по вечерам перебеливал не в одном, а в двух экземплярах.
Да и то — какой от этого вред? К тому же в его записи никто ни разу не заглядывал. А если спросили бы, то немедленный ответ не заставил бы себя ждать: «Всегда лучше иметь два листа. Случись что с первым — останется другой, и труд не пропадет даром».
Он писал и ждал. Ждал каждый день и каждый месяц, несмотря на то что его сразу предупредили, что раньше чем через три года его отсюда никто не заберет. Иногда дни летели — не оглянуться, а порой тянулись уныло, как верблюды через пустыню. Особенно тягостно было поздней осенью.
В эти дни ему с особенной тоской вспоминалась Берестяница[32], которая после известия о гибели Любима первый месяц вообще ни с кем не разговаривала — думали, уж не тронулась ли баба умом. Потом немного отошла, но все равно чуралась людей. Так, парой слов перекинется, и все.
Ожиг, который за время, проведенное в полоне, успел лишиться всех родичей, — нет, постарались не половцы, а люди князя Всеволода Большое Гнездо, — поначалу ее жалел и даже несколько восхищался такой верностью. К тому же она приходилась ему единственной, хоть и очень дальней родней, так что с ним-то Берестяница как раз общалась, хоть и немного.
Ее доверие простерлось даже до того, что она согласилась на его настойчивые уговоры научиться грамоте и освоила больше половины буквиц.
А потом как-то раз, уже отъезжая с князем Константином — лучше Ожига на языке половцев никто говорить не мог, и потому рязанский князь всегда брал его с собой, — парень вдруг с удивлением обнаружил, что в родной Березовке ему ни с кем так не жаль расставаться, как с Берестяницей.
Правда, о своих чувствах он осмелился заикнуться лишь раз, перед самой отправкой в степь. Да и то — какие там чувства. Ожиг просто спросил, не может ли она, если к ней кто-то присватается, пока он будет в отлучке, не давать сразу согласия, а совсем немного подождать до его возвращения. Спросил, а сам побоялся даже взглянуть на нее. Так и стоял с багровым от смущения лицом, уперев глаза в землю.
Берестяница уже открыла рот для гневной отповеди, но так и не произнесла ни словечка. Она и сама не могла понять, что же ей помешало. В одночасье навалилась какая-то слабость, да еще нахлынула сладко щемящая боль внизу живота. Немного помолчав, она вздохнула и лишь вымолвила тихонько:
— Ты бы не спешил такими просьбами бросаться. Я тебя, почитай, на два лета старее, если не на три. Нешто тебе девок юных мало?
Тогда только и посмотрел на нее Ожиг. Посмотрел и диву дался. Оказывается, не он один под стать своему имечку ликом полыхает, хоть лучины поджигай. Берестяница тоже вся зарделась. Неужто она… Но тут, как на грех, подъехали люди Константина, мол, пора отправляться, сам государь тебя ждет.
А когда он шел, услышал тихое:
— Я обожду…
Ожиг даже споткнулся от таких слов на больную ногу, так что не он на коня садился, а дружинники его в седло водрузили, как старую квашню. Ох и осрамился! Это ж Берестяница увидела, что за жених к ней присвататься решил — с конем совладать не может! Обернулся — так и есть, стоит, усмехается — и полоснул плетью наотмашь ни в чем не повинного жеребца, чтоб вскачь и куда подальше. Пропади ты пропадом, жизнь злосчастная.
Потом, уже по дороге в степь, до него дошло, что ведь совсем ничегошеньки не сказал ей, да и срок не назвал — на сколько он уезжает. Неотступная мысль об этом преследовала его все то время, что послы жили в ставке Чингисхана. Перед их отъездом он, правда, осмелился и изложил свою просьбу хмурому боярину Лазарю. Мол, упредить бы ненароком, что не на месяц отлучка его и даже не на год. Да и кто знает, вернется ли он вообще. Так что пусть она сама решает, только ведает, что он ее всю свою жизнь до самого последнего вздоха не забудет.
Правда, последнюю и решающую фразу произнести у него язык не повернулся — это он уже в грамотке отписал. И опять дурень забыл, что сам же Берестяницу буквицы учил разбирать, да так и не успел. Снова на душе расстройство. Да и на что ей Ожиг сдался? Вон как она усмехалась, когда дружинники подсаживали его на коня.
Теперь же, сидя в юрте и под заунывный вой ветра неспешно выписывая свои буквицы — чтоб одна к одной, — впервой подумал: «А может, и не усмехалась она вовсе? Может, просто улыбнулась по-доброму, а я худое возомнил?»
Но от таких мыслей ему еще сильнее захотелось домой, в Березовку, а ждать оставалось не меньше двух с половиной лет, да и то если следующее посольство прибудет вовремя, а если нет?..
Он вздохнул, протянул, не глядя, свободную руку к чашке, ощупью ухватил горсточку изюма, бросил в рот и еще проворнее заскрипел пером по белоснежному листу самаркандской бумаги.
Буквицы становились одна к одной, складываясь в строки: «А исчо у великого Чингисхана имеются молодшие братья. Я слыхал про троих. Именуют же их Джочи-Хасар, Тэмугэ-отчигин и Белгутай-нойон, кой оному Чингисхану токмо единокровный, но любит он его пуще прочих. У первого из них ведомы мне шесть сынов — Агулдар с сыном Жиркитаем, Туку с сыном Эбугеном, Есунгу с сыном Амаканом. Еку имеет двоих — Тайтака и Харкасуна, Каралджу пока вовсе молодой и Курджи тоже, но евоная баба уже на сносях. А у Белгутай-нойона я слыхал токмо про Джауту…»
Тут он остановился и нахмурился. «А чей же это Джаута будет? Не спутал ли я? Может, он сын Тэмугэ-отчигина?»
Он плюнул с досады и проворчал:
— Вот же нелюдь нерусская. И удумают себе имечки подобрать — не разберешь ничего. Да православный человек собаку так не наречет, — однако зачеркивать ничего не стал, вовремя вспомнив, что ошибки нет и написано все правильно.
«Пишу и пишу, — вновь поползли унылые мысли. — Уже с полгода пишу, а государь возьмет да и запамятует, что им тут такой Ожиг оставлен».
Он еще раз тоскливо вздохнул и вновь взялся за перо. Буквица к буквице, строка за строкой, изо дня в день, из месяца в месяц…
На самом деле Константин не запамятовал. Однако Ожиг, сам того не ведая, вел стратегическую разведку, рассчитанную на долгие годы. С ним спешить было нельзя, особенно сейчас, после того, как от русичей потребовали дань. Лучше уж в следующий раз появиться там после смерти Чингисхана. Поэтому Константин больше помышлял об остальных двух посольствах, направленных им к Джучи и Джагатаю.
Договориться со старшим сыном Чингиза Джучи шансы были. Константин не без оснований предположил, что у сынка со своим суровым папашкой непременно имелись какие-то конфликты, причем достаточно серьезные. Ничем иным нельзя было объяснить то обстоятельство, что после завоевания Средней Азии он получил так мало, ведь при дележке ему достались глухие степи, Арал с прибрежными солончаками да увесистый кусок южной тайги. И это первенцу!
Причем Чингисхан официально вроде бы не обидел своего старшего сына, отдав ему столицу громадного Хорезмского государства Гургандж[33]. Только вот от некогда цветущего города теперь осталось практически одно название. После того как были взломаны дамбы на реке Джейхун[34], он целиком ушел под воду, а над речной гладью возвышались лишь самые высокие башни и купола минаретов. По слухам, вода эта до сих пор не спала, не торопясь расставаться с захваченной землей.
Потому Джучи и избрал в качестве столицы маленький полуразрушенный Сыгнак, стоящий на Сейхуне, что больше ни одного приличного города в своих владениях не имел. А что такое этот Сыгнак по сравнению с той же Бухарой или Самаркандом? Пигмей, не больше. Его иначе как медвежьим углом и не назовешь.
То ли дело Джагатай. Пусть он и не объявлен наследником, но зато оторвал себе практически все обильные людьми города Мавераннагра и земли кара-киданей.
Да и Тули, четвертый сын, не остался в обиде. Ему в долю, как младшему, по монгольскому обычаю, досталось родовое гнездо, то есть коренной монгольский улус. А уж про Угедея — наследника — и вовсе говорить не приходится. Верховный каан!
«Эх, знать бы, из-за чего папка на Джучи окрысился», — мечтательно вздыхал Константин.
Возможных причин отцовского гнева было несколько. Одна из них заключалась в том, что сынок был живым укором для него, ведь молодой Темучжин не сумел уберечь свою жену от меркитского плена, а отбил ее потом, причем беременную. Когда Чингисхан обсуждал с сыновьями вопрос наследства, злобный Джагатай откровенно заявил, что не станет подчиняться сыну неведомого меркита.
Другая заключалась в том, что у отца и сына были разные взгляды на отношения с завоеванными народами. Сын предпочитал действовать кнутом и пряником, а отец вообще не считал нужным баловать сладостями новых подданных. Эта причина, при условии, если только она истинна, была бы наиболее благоприятной.
Но имелась еще и третья, самая худшая. Джучи, больше всех похожий на отца, как ростом, так и манерами поведения, мог быть отодвинут в самый дальний угол огромных отцовских владений из-за того, что Чингисхан подозревал своего первенца-приблуду в возможном перевороте. Особенно после того, как официальным наследником был объявлен веселый беззаботный Угедей.
В этом случае тоже все сходилось. Попробуй-ка собрать в этой глуши войско. Умучаешься. А сколько времени дорога займет? Половины пути не пройдешь, как суровый батька на пути объявится, а у него шлепком по попке не отделаешься.
Вот все это и предстояло выяснить наверняка, памятуя, что Чингисхан, очевидно желая утешить Джучи, подарил ему право покорить все земли, лежащие западнее его владений, то есть половецкие степи, Волжскую Булгарию, Русь, ну и прочую мелочь, вроде Европы.
Прояснилось это довольно-таки быстро, но, к сожалению, далеко не лучшим образом. Послы, вернувшиеся из Сыгнака, только смущенно разводили руками. Надменный Джучи даже не стал с ними разговаривать, заявив, что он может принять только самого хана Константина, да и то лишь с веревкой на шее[35].
Текст грамотки, привезенной ими, гласил то же самое: «Если ты подчинишься, то обретешь доброжелательство и покой. Если же посмеешь поднять на своего хана меч, то лишь бог всевечный знает, что тогда с тобой будет».
Правда, внизу был оттиск синей, а не красной печати[36]. Ну что ж. Как говорится, и на том спасибо. Следовательно, верной причиной размолвки отца с сыном оставалось признать третью. Жаль, конечно, но что уж тут поделаешь.
Вопреки ожиданию послов, несколько опасавшихся реакции государя на это унизительное изгнание и на оскорбительный текст грамотки, весь гнев Константина обрушился на высокомерного Джучи. Сурово подняв вверх руку, царь громогласно, в присутствии всего своего Малого совета, пообещал, что не пройдет и года, как кара божья непременно обрушится на того, кто осмелился так пренебрежительно разговаривать с его посланниками.
Некоторые из присутствующих отнеслись к этому проклятию скептически, решив, что тут царь, несомненно, перебрал, тем более что, по рассказам тех же послов, Джучи был в самом соку — лет сорок, не больше, да и здоровье у него крепкое, лучше не пожелаешь.
Когда же через два года заезжие купцы привезли на Русь весть о том, что старшего сына Чингис-хана больше нет на свете, Константин напомнил усомнившимся о своем проклятии:
— Выходит, дошли мои слова до всевышнего. Милосерден господь к нам, грешным, но и его терпению наступает конец. Но Джучи сам виноват — негоже посланников божьего помазанника в шею со двора прогонять.
Никто не проронил ни слова, лишь простодушный Добрыня Златой пояс изумленно крякнул, выражая общую реакцию присутствующих.
Позже всех прибыло третье посольство. На обратном пути их дважды грабили, невзирая на охранные грамоты, на которые местному разбойному люду было ровным счетом наплевать, равно как и на самого Джагатая.
Затем, в довершение всех бед, они еще и заблудились в горах, спасаясь от преследования очередной бандитской шайки, и лишь чудо спасло их от смерти.
Помогала золотая пайцза с изображением кречета, извлекаемая в самые критические моменты, наступавшие у них трижды, потому что преодолев горный перевал, они тут же оказались лицом к лицу с воинами Чагатая, настроенными весьма и весьма решительно. А потом люди второго Чингизова сына еще раз повстречались на их пути. И еще…
По прибытию все послы разом бухнулись в ноги государю, благодаря его за маленькую золотую пластинку, которая не раз уберегала их от неминуемой гибели, а сам Константин вспомнил добрым словом купца Ибн аль-Рашида, у которого он ее добыл, и спецназовцев Званко и Жданко, с чьей невинной шалости и началась та давняя история[37].
Но царь напрасно надеялся на то, что хоть третье посольство привезет что-то утешительное. Им также не удалось добиться успеха. Джагатай не собирался вести какие бы то ни было переговоры за спиной отца. Мало того, он еще напомнил русичам про убийство монгольских послов в Киеве.
Чингисхан не зря именно его назначил хранителем Ясы. Джагатаю, склонному к откровенному садизму, доставляло несказанное удовольствие судить своих же людей по ее суровым законам и девять десятых из них обрекать на мучительную смерть.
Правда, справедливости ради надо заметить, что если Яса в отношении какого-либо поступка говорила иное, то Джагатай поступал честно. С теми же русскими послами едва не приключился казус, когда они у себя на подворье «неправильно» зарезали барана, а кто-то, увидевший столь вопиющее нарушение, поторопился донести об этом, рассчитывая на неплохую мзду[38].
Разбирательство длилось целый день. Лишь к вечеру Джагатай пришел к выводу, что послы совершили это по причине незнания, а потому к ним надлежит применить иное положение Ясы. Короче говоря, бояре отделались испугом, хотя и не сказать, что легким.
А потом пришел черед Ожига. Забрали его из Каракорума аж через пять лет — раньше никак не получалось. Но в качестве компенсации Константин заверил парня, что самолично станет его сватом. Пусть Берестяница попробует устоять, когда к ней пожалует сам государь с нарядным рушником, перекинутым через плечо. Однако вначале надлежит сделать дело, а уж потом царь отпустит его до самого лета.
Вдохновившись такой радужной перспективой, Ожиг без умолку трещал целых три дня, поясняя и растолковывая сведения, занесенные мелким бисерным почерком на бумажные листы.
— А вот тут ты пишешь, что Темуге-отчигин трусоват, хотя и жаждет власти. Почему так решил? — следовал вопрос Константина.
— А сыны Джочи-Хасара довольны таким разделом? — это уже спрашивал боярин Коловрат.
Едва успев ответить, Ожиг получал еще один вопрос, опять от царя, затем еще, следовавший от молодого, но дородного боярина по имени Любомир, затем еще… Словом, дней пять он вертелся, как карась на сковороде, аж упарился.
Правда, государь не обманул, сосватал Берестяницу, как и обещал.
— А я и без царя согласная была, — тихонько шепнула ему на ухо смущенная невеста, отчего Ожиг еще больше возликовал, купаясь в потоке счастья.
Медовый месяц длился у Ожига целых полгода — и здесь Константин сдержал свое слово, а потом вновь последовало дальнее путешествие в составе очередного посольства, правда, на сей раз уже первым помощником у возглавлявшего его боярина Липня. Потом было еще одно, затем еще, на которое Ожиг ехал уже в чине боярина, но ощутимых результатов по-прежнему не было, да и не могли они проявиться вот так сразу.
После того как клин вбивается в трещину и поливается водой, нужно время, чтобы разбухшее дерево углубило раскол в каменной глыбе. Иной раз на это хватает часов, а подчас мало и суток.
Но то простой камень. Для гранитной плиты монгольской державы нужны были годы и годы. Во всяком случае, один вывод напрашивался сам собой — пока Угедей жив, все прочие будут ходить под ним и раскола ждать глупо. А вот когда его не станет — тут уже как посмотреть.
Очень ограниченное число людей знало, что клинышки, вбитые Ожигом, ко времени смерти Угедея непременно дозреют. Надо только дождаться кончины третьего сына Чингисхана. Остальные же знали иное. Государь просто так боярскую шапку никому не вручает. Раз дал, значит — по заслугам.
Ожиг и впрямь ее заслужил, потому что сделал все, что было в его силах, выполняя задачу Константина — пока Угедей жив, оттянуть падение империи чжурчженей. Пусть каан обращает поменьше внимания на север и гораздо больше — на юг, а также на запад.
Рассказы боярина Ожига Станятовича о неисчислимых сокровищах индийских государей так вскружили голову приближенным великого каана, да и ему самому, что Угедей, оторвав от боевых действий в империи Цзинь несколько туменов, направил их на Делийский султанат, тем более что путь туда был не нов. В свое время, сразу после разгрома основных войск государства хорезмшахов, там уже побывали воины Чингисхана, дойдя до Мультана, Лахора и Пешавара.
Однако правитель Кашмира Раджадева, вовремя предупрежденный купцами и тоже не без участия Константина, и владыка Делийского султаната Илтутмиш сумели оказать достойное сопротивление. Первые два тумена нашли свою бесславную кончину в Хайберском проходе, ведущем из Кабула к Пешавару. Следующие два — чуть дальше, в междуречье Чинаба и Джелама, еще на подходе к древнему Лахору, который, по преданию, основал сам легендарный Лох — сын Рама Чандры, чьи подвиги воспевались в «Рамаяне»[39].
Лишь третья по счету экспедиция сумела взять Лахор, Мультан, Нагаркот и Дибалпур, расположившись на самом южном притоке Инда Сатледже и готовясь к решающему прыжку на Дели и города, стоящие в верховьях Ганга. Но тут пошел сезон дождей, в стане завоевателей начались эпидемии, из-за чего монголам вновь пришлось отступить.
Благодаря всему этому падение империи Цзинь было несколько отсрочено, чего и добивался Константин, зная, что, пока она не рухнула, Угедей никогда не даст свои войска в помощь сынам Джучи.
Однако, несмотря на весь титанический труд и отвлечение части сил каана монголов, прогнившее северо-китайское государство все равно погибло и теперь было неизвестно, чего ждать от Угедея, но вдруг, как подарок судьбы — мир с Бату, который заключался не просто по согласию хана, но и по его инициативе. Ну как тут не радоваться, как не веселиться.
— Батюшка, я только об одном твоего дозволения хотел испросить, — несмело начал Святозар, решив воспользоваться подвернувшейся оказией.
— Никак о женитьбе речь поведешь? — угадал Константин. — Неужто доселе не передумал дочку мельника под венец повести? — И на его лицо набежала легкая, еле заметная тень неудовольствия. — Нешто и впрямь она краше всех тех, о ком я тебе рассказывал?
— Не передумал, — подтвердил Святозар, подумав: «Знал бы ты, государь, что не просто не передумал, но не далее как полгода назад, когда ты вызывал меня к себе, уже и сводил».
Но говорить об этом сейчас было бы глупо. Вначале надо получить разрешение. Это гораздо важнее. Тогда получится, будто он обвенчался с ней вроде как и не самовольно. А если сказать, то государь может и осерчать. Не с теми невестами отец в мыслях его судьбу связывал, ох, не с теми.
— Ну, раз не передумал, значит, это любовь, — констатировал вновь заулыбавшийся — пасмурное облачко оказалось небольшим — Константин. — Говорят, что она от бога, а разве можно божьему велению противиться?! Женись, сын, коли так!
Видя такое бесшабашное настроение отца, князь уже открыл было рот, чтоб сказать, что он уже женился. Теперь-то, поди, можно, государь своего слова назад не возьмет. Но подходящий момент был упущен. Константин повернулся к своему воеводе, продолжая неоконченный разговор.
«Ладно уж. В другой раз скажу», — довольно подумал Святозар, оставляя государя наедине с Вячеславом.
— А ты не рано ли ликуешь? — попытался внести трезвую мысль воевода, когда Святозар вышел. — Вспомни, что говорил Торопыга. И про курултай заодно, на котором поход объявили. А на кого поход-то?
— Так ведь я не собираюсь ни войска с рубежей снимать, ни крепости рушить, — улыбнулся тот другу. — И Бату только в одном верю. Ему главное — время выгадать, спину свою уберечь. Я даже не верю, что он на братьев собрался идти. Может, совсем иное у него в мыслях. Да разве в этом дело?! Мы из него два-три года выжали — вот в чем суть!
— А потом?
— Потом должны умереть Чагатай и Угедей, и тут у наших степных друзей начнется такое веселье, что им будет уже не до Руси! — чуть не выкрикнул Константин, не в силах сдерживать переполняющие его чувства.
— Это ты с господом богом договорился? — уточнил воевода. — Или люди Торопыги сработают?
— Да нет, все гораздо проще. Я в свое время историков наших много читал, вот кое-что и запомнилось, в том числе и даты их смерти. Они как раз на следующий год приходятся, причем сразу у двоих.
— А ты помнишь, что этот мир вроде бы наш, а вроде бы и не совсем? — не отставал Вячеслав. — Вон и Калка по летописи произошла в одно время, а на самом деле совсем в иное. Чуть-чуть не влетели. Гляди, чтоб мы во второй раз на те же грабли не напоролись, — предостерег он.
— Так я же не призываю совсем расслабиться. Бдить будем в оба, а зрить — в три, — весело подмигнул Константин.
— Ох, гляди, как бы твоя радость боком не вышла, — вздохнул Вячеслав. — Чую я, что крутит он, гад, только не пойму, что задумал. Уж больно он хитрожо… гм, короче, тот еще кадр.
— Так ведь и у нас на его хитрое седалище кое-что с винтом сыщется, — подмигнул Константин.
— Сыщется-то оно сыщется, — хмуро пробормотал себе под нос воевода. — Боюсь только, что оно у него с закоулками, и куда винт вставлять — поди разбери.
* * *
И приложиша длань свою к харатье мирной сам государь земли русския, ибо возжелаша он мира и покоя в державе своея и позабыта слова писания, кое гласит: «Кто скоро доверяет, тот легкомыслен и возможет быти обманутым».
Из Владимирско-Пименовской летописи 1256 года Издание Российской академии наук. СПб., 1760Глава 5 Помощь «другу»
Правдивый свет мне заменила тьма, И ложь меня объяла, как чума. Уильям ШекспирСвятозар, не раз проинструктированный и воеводой Вячеславом, и Торопыгой, и Евпатием Коловратом, не говоря уж об отце, бдительности не терял, особенно в первое время.
Однако Бату вел себя весьма дружелюбно. Он по-прежнему частенько посылал к Святозару гонцов, вызывая друга для приятного времяпровождения. Более того, хан не раз предупреждал князя о том, что вот, мол, не сегодня-завтра прибудут в эти места тумены, посланные его дядей Чагатаем, вместе с которыми он собирается ударить по братьям, злоумышляющим против него.
А пока войска дядюшки задерживались, Святозар и сам получил наглядное доказательство того, что ближайшие родичи Бату строят против него козни. Это произошло, когда хан повез князя на охоту.
Случилось так, что они остались почти одни, не считая двух десятков ханских телохранителей. Воины, налетевшие на них, по своему внешнему виду практически ничем не отличались от ханских, но зато их оказалось очень много. Так много, что принимать бой было безумием. Спасти могло только бегство.
Нападавшие сходились двумя клиньями, истошно визжа на скаку «Орду! Орду!» — слева и «Шейбани! Шейбани!» — справа. Не надо было быть стратегом, чтобы понять — их хотят взять в клещи, чтобы потом раздавить наверняка.
Бату затравленно посмотрел по сторонам в надежде, что сможет увидеть своих воинов, участвовавших в большой облаве, но затем, коротко выругавшись, махнул своим нукерам, давая команду уходить. Отчаянная скачка длилась недолго. Уже через несколько минут стало понятно, что кони монголов, поджидавших хана и его телохранителей в засаде, намного свежее. Расстояние до беглецов с каждым мгновением сокращалось все больше и больше.
Наконец в их сторону полетели первые стрелы, и раздались жалобные крики раненых. То один, то другой воин на полном скаку вылетал из седла, падая в густую траву, которая никогда не бывает в степи такой высокой и сочной, как по весне. Святозар почувствовал, как две стрелы ударились в его кольчугу и беспомощно отскочили от металла. Изделие ожских кузнецов пока спасало своего владельца.
«Пока. До поры до времени», — мелькнуло в голове Святозара, но он отогнал эту мысль прочь, чтоб не мешала.
О том, что спасение маловероятно, скорее всего, подумал и хан, скакавший рядом. Выпрямившись в седле, он бросил двум нукерам:
— Князя сберегите. Чтоб ни один волос с его головы не упал. А я их задержу, — и, резко поворачивая коня влево, бросил на прощание, смешно коверкая трудное русское имя: — Удачи тебе, Свитозара. Помни, что…
А вот дальше князь не разобрал. Ветер унес последние слова Бату. Святозар поначалу попытался было устремиться следом за ханом — негоже гостю бросать хозяина в такой трудный час, но повернуть не смог. Два нукера, скакавшие бок о бок со Святозаром, выполняя ханский приказ, не дали ему ни малейшей возможности это сделать.
Погоня и впрямь отстала, устремившись следом за Бату и не обращая внимания на трех всадников, беспрепятственно добравшихся до становища, которое через минуту встревоженно загудело, словно пчелиный улей. Тут же почти тысяча воинов, во главе которых скакал Святозар, вихрем вылетела туда, куда ускакал хан с оставшимися в живых телохранителями.
Впрочем, скачка длилась недолго и закончилась радостной вестью, которую принесли всадники, высланные в передовой дозор. Оказывается, как рассказал все тот же Бурунчи, не уставая восхищаться своим ханом, Бату, даже в такой критический момент не потерявший самообладания, увел погоню именно в ту сторону, где предположительно должно было быть не меньше полусотни его воинов. Так оно и случилось.
Кроме того, высоко в воздух немедля взлетели три горящие стрелы, оставляя за собой отчетливый черный след дыма — знак тревоги и немедленного сбора. Повинуясь этому сигналу, хорошо различимому на расстоянии нескольких верст, со всех сторон к хану потянулись воины-загонщики, бросив облаву и выпуская зверье из смертоносного кольца.
Было их не так уж много — всего-то сотни три, но нападавшие, прекрасно сознавая, что совсем скоро из основного лагеря прибудет гораздо более существенная поддержка, после короткой жаркой схватки подались прочь, бесследно теряясь в степи.
Сам Бату оказался ранен в трех местах, но главное — жив. Лекарь успел наскоро перетянуть раны, и только пятна крови, выступившие на повязках, показывали, что они далеко не пустячные, хотя хан и утверждал обратное.
— Теперь ты сам видишь, как далеко у нас зашло, — морщась от боли и осторожно вытягивая левую раненую ногу поудобнее, заметил он князю.
Святозар понимающе кивнул, прикидывая, что именно, но главное — как именно сообщить отцу о сегодняшних событиях.
«Теперь государь непременно повелит мне не удаляться далеко от берега Яика и вообще наложит запрет на участие в любой охоте, — грустно думал князь. — А может, вообще ничего не сообщать? — пришла ему в голову спасительная мысль. — И то правда. Хан-то живехонек, я тоже, так к чему батюшку напрасно пугать?! Решено!»
— Ничего-ничего, — мрачно вздыхал тем временем Бату. — Скоро сюда придут тумены Чагатая, и тогда мы посмотрим, кто станет править. Вот только боюсь, что их сил не хватит. Как ты мыслишь, князь? — спросил он задумчиво. — Стоит ли мне дожидаться помощи, которую должен прислать великий каан Угедей? Конечно, тогда я их одолею наверняка, но Орду и Шейбани тоже будут уверены в том, что с малыми силами я побоюсь выступить навстречу их жалким туменам. Выходит, если я нападу только с теми, кого мне пришлет Чагатай, то для моих братьев это станет неожиданностью. Скажи, как поступил бы ты сам на моем месте?
Князь вздохнул, неторопливо пошевелил большой головней в костре, отчего пламя вспыхнуло еще ярче, и тихо произнес:
— Для начала я бы попытался замириться с братьями.
— Чтобы жить в постоянном ожидании отравы или стрел, которые осенней или зимней ночью пришьют меня прямо к кошме…
— А если они опасаются получить то же самое от тебя? — перебил его Святозар. — Не лучше ли поначалу встретиться с ними и попробовать решить все миром? Братья ведь.
Бату насмешливо крякнул и поучительно заметил:
— У чингизидов нет братьев. Есть только соперники. И кто думает иначе, тот долго не живет.
— Тогда думай сам, что окажется для тебя более выгодным — либо воспользоваться неожиданностью, либо бить, когда этого ждут, но все равно ничего не смогут поделать против твоих полков, — произнес Святозар. — Что из этого лучше, я не знаю.
— Ты уже ответил, сам того не подозревая, — хищно оскалился Бату. — Одолеть врага, пользуясь тем, что у тебя больше воинов, можно, но настоящий багатур поступит иначе. Он ударит малыми силами, но тогда, когда его не ждут, — смакуя каждое слово, произнес хан. — Хоп. Ты здорово мне помог. Вот только тумены Чагатая, — протянул он задумчиво и вновь нахмурился. — Здорово было бы, если бы половине или трети из них можно было перейти Яик, дабы их кони не передохли от голода.
— Если хочешь, я отпишу государю о твоей просьбе, — предложил Святозар.
— Нет, — решительно произнес Бату после недолгого раздумья. — Друг не должен досаждать другу своими просьбами. Степь довольно большая, хоть и с трудом, но мы в ней разместимся. И помни, князь, когда ты увидишь на берегах реки множество воинов, то это — мои люди, которые всегда придут на помощь лучшему другу своего хана. Не сразу, — тут же оговорился он. — Сперва я уведу их на восход солнца, чтобы разобраться со своими врагами. Зато потом ты можешь полностью рассчитывать на мои тумены.
— Они мне пока не нужны, но я все равно благодарен тебе за помощь, — учтиво ответил Святозар.
— Пока не нужны, — многозначительно подчеркнул Бату. — Только Вечному небу ведомо, что будет завтра и кому солнце осветит грядущий день. Я верю, что мы оба созданы для великих свершений.
Окровавленные повязки хан сорвал с себя, едва князь убыл обратно в крепость. Срывал он их небрежно, можно сказать, грубо, причем даже не морщился от боли, которую неминуемо должно было причинить такое неосторожное обращение со свежими ранами. Вот только ран… не было.
Подозвав к себе Бурунчи, Бату коротко распорядился:
— Всем, кто так красиво падал с коней, раздашь по золотой монете. Ну и тем, кто за нами гнался, — по серебряной. Остальное твое. — Он хмыкнул и несколько удивленно добавил: — А ты был прав, когда сказал, что монгол при всем старании не может промахнуться. Да и для конязя оно поубедительнее. Хорошо, что те, кто целился в уруса, били стрелами с тупыми наконечниками.
Бурунчи молча кивнул, на лету поймал туго набитый мешочек, брошенный ему ханом, взвесил его на руке и довольно осклабился, прислушиваясь к мелодичному позвякиванию монет.
Оставшись один, Бату задумался, рассеянно глядя, как яркие языки пламени жадно пожирают сухой хворост.
— Осталось последнее, — произнес он, размышляя. — И если проклятый шаман снова окажется прав, то к следующей весне у каждого моего воина будет по нескольку белых рабынь, они будут лежать в своих юртах не на драном войлоке, а на коврах и шелковых подушках. Каждый, — повторил он.
Предупреждение Бату относительно прибытия новых туменов, которые привели сын Чагатая Хайдар и внук Бури, оказалось кстати. Новоприбывшие заполонили всю бескрайнюю степь, разместившись повсюду, включая пространство непосредственно за Яиком. Их яркие костры особенно хорошо были заметны безлунными ночами. Однако монголы вели себя пристойно, пересечь реку никто из них даже не пытался.
Первую неделю Святозара напрягало такое соседство. Но через десять дней после их появления к нему помимо летучих конных отрядов башкир и половцев подоспели сразу двадцать пеших полков. Окончательно отлегло у него от сердца, когда Бату пригласил князя познакомиться поближе со своими союзниками и устроил по такому случаю большой той.
— Друзья моего брата Бату — мои друзья, — во всю глотку орал пьяный Бури, однако закончил свою речь непонятно: — Когда мы встретимся в бою, то я подарю тебе легкую смерть, потому что ты храбрый воин. А если ты согласишься служить мне, то я сразу дам тебе под начало сотню, а то и тысячу.
Святозар было насторожился, но Бату, оставшись с князем наедине, успокоил его:
— Он пьян. К тому же никто из них не знает, зачем на самом деле прислал их ко мне мой дядя Чагатай. Только тебе могу показать. — Нетвердо ступая, хан повел Святозара в другую юрту, которая пустовала, кряхтя, опустился на корточки перед красивым деревянным ларцом с хищным драконом на крышке и полез за пазуху.
— Только тебе, — повторил он важно, пьяно тыкая маленьким ключиком в замочное отверстие и постоянно промахиваясь.
Наконец очередная попытка увенчалась успехом, и хан, торжественно открыв ларец, достал из него лист пергамента, туго скрученный в трубку. Он небрежно освободил его из тугих объятий шелковых желтых шнуров, увенчанных тяжелыми висячими печатями, и протянул Святозару.
— Надо ли честь? — осторожно осведомился тот, не разворачивая свиток.
— Если у тебя есть тайна от друга, то либо ты сам — плохой человек, либо друг у тебя только по названию, — высокопарно произнес Бату. — Читай.
Князь пожал плечами, развернул пергамент, некоторое время вглядывался в него, затем с легким разочарованием вернул обратно.
— Прости, хан, эта грамота мне неведома, — несколько смущенно заметил он. — Да я же тебе сказывал, что иноземные письмена не разбираю.
— Правда? — изумился Бату. — Я и забыл.
Лгали оба. Святозар, правда, лишь самую малость, поскольку с первой строкой свитка сталкиваться ему уже доводилось. Была она стандартная. Князь впервые увидел ее лет пять назад и поинтересовался у отца, что это за чудные буквы. Константин охотно пояснил, что свиток доставлен ему очередным посольством, которое вернулось ни с чем из ставки великого хана Угедея.
— Пишет мне, будто даннику какому, — мрачно заявил тогда государь. — Видал, с чего начинает, — и отчетливо произнес, указывая пальцем на первую строку, которая была выведена красной киноварью гораздо крупнее, чем последующие строки: — Внимание и повиновение.
— А ты, батюшка? — робко переспросил Святозар.
— А что я — внимаю, как и сказано. Вот только повиновения он от меня навряд ли дождется, — и его мрачное лицо озарилось слабой улыбкой.
Он подмигнул сыну и продолжил:
— С этого великий хан все свои указы начинает. Важничает, собака. Ну-ну, пускай позабавится… пока, — загадочно закончил он.
Святозару почему-то запомнилось начертание этой строки. К тому же чуть позже он еще несколько раз видел подобные грамотки, начинавшиеся с точно таких же слов, так что узнал их сразу.
— Это от моего дяди, великого каана Угедея, да живет он вечно, — пояснил Бату. — Оно не мне, а этим глупцам, которые даже не умеют пить так, как подобает настоящим воинам, — много и не напиваясь. Когда придет время похода на Орду и Шейбани, я покажу им свиток, если кто-то из них заупрямится. Пока же они думают, что их тумены присланы для покорения стран, лежащих на закате солнца.
— А почему ты сразу не объяснишь им, для чего они сюда прибыли? — недоуменно спросил Святозар.
— Что знают трое, о том через три дня будет говорить даже байбак[40] в степи. Тогда я не смогу неожиданно напасть на братьев, — спокойно пояснил хан и тут же поправился: — Хотя нет. То, что я расскажу этим двоим, байбак будет знать уже на следующий день, даже не вылезая из своей норы, потому что их языки длинней, чем их плети.
На самом деле его презрительная усмешка была адресована не двоюродному брату Хайдару и не своему двоюродному племяннику Бури, а человеку, стоящему перед ним, потому что и свиток, и текст, красиво вписанный в него грамотеем-уйгуром, были ложью от начала до конца. Подлинными были лишь печати, которые Бату позаимствовал с другого свитка, присланного ему тремя годами ранее.
«Придет время, и ты поймешь, против кого будут направлены все эти тумены, только вот вряд ли тебе доставит удовольствие, потому что знание хорошо лишь тогда, когда приходит вовремя», — насмешливо подумал он.
Вслух же он произнес лишь заключительную часть своей мысли о том, когда хорошо знание.
— Как говорят твои мудрые шаманы, во многая мудрости есть многая печали, а многие познания лишь умножают скорбь, — добавил он и торжествующе улыбнулся, заметив, как удивленно вытянулось лицо собеседника. — Мне очень понравились эти слова, а потому и запомнились. Я ведь и сам склоняюсь к тому, чтобы принять вашу веру, а своего сына Сартака уже давно крестил. Сам понимаешь, от почитания чужих богов вреда быть не может, а потому я решил, чтобы каждый из моих сыновей обзавелся на небе покровителем, который при нужде может влить новые силы в его воинов и помочь ему убить всех своих врагов. Как мыслишь, твой Кристос прислушается к просьбе моего наследника, если он запалит в ваших священных юртах по сотне свечей?
Святозар уклончиво пожал плечами и заметил:
— Кто может знать, кому захотят помогать боги?
— Я могу, — безапелляционно заявил Бату. — Тому, кто сам сделал все, чтобы победить. Боги любят уверенных.
— А ты можешь сказать, что уверен в своих силах?
— Конечно, — хищно улыбнулся Бату и весело добавил: — Ты даже не представляешь, как неожиданно я нападу на своих врагов.
Святозар вспомнил его слова через несколько месяцев, когда Бату неожиданно появился под стенами Оренбурга. Вид у него был совсем не тот. От обветренного злыми степными морозами красноватого лица веяло унынием и печалью. Два десятка нукеров, сопровождавших его, выглядели не лучше.
— Они напали на меня, когда мы были еще в пути, — мрачно произнес он. — Мои люди оказались глупее трусливых зайцев, а про тумены, которые прислал мне Чагатай, я и вовсе не хочу ничего говорить, иначе боюсь захлебнуться злобой пены подобно бешеной собаке. — Он помолчал, затем вполголоса произнес: — Ты можешь отказать мне в гостеприимстве, чтобы гнев моих братьев не обрушился на тебя и твои крепости.
— Русь заключала договор с тобой, а не с твоими братьями, — возразил Святозар. — Плох тот, кто отворачивается от друга, когда ему тяжко. Ты сам всегда называл меня другом, так зачем же ныне обижаешь недоверием?
Бату удовлетворенно кивнул и замолчал. Князь не решался спросить о том, сколько воинов осталось у хана, но тот, не таясь, в тот же вечер откровенно рассказал Святозару, что даже после того, как ему удалось собрать остатки туменов воедино, у него в наличии не будет и десяти тысяч человек.
— У братьев же почти три тумена, — вздохнул Бату. — Не надо быть богом, чтобы предсказать исход следующей битвы. У меня остается лишь надежда на то, что они не станут гнаться за мной до самого Яика. Тогда я дождусь туменов Угедея и моего истинного брата Менгу, старшего сына дяди Тули.
— Даже если пойдут, у Оренбурга крепкие стены. К тому же, — решил не скрывать положение вещей Святозар, — всего в трех днях пути полки воеводы Вячеслава Михайловича.
— Их много? — оживился Бату. — Он сам их ведет? — И, заметив неуверенность князя, с горькой усмешкой успокоил его: — Я сегодня подобен месячному волчонку, которого даже трусливый джейран может убить копытом. Убить, растоптать и даже не заметить.
— У воеводы не меньше двадцати тысяч. Да и сами башкиры, саксины, половцы и прочие — тоже хорошие воины. Своими наскоками они не дадут спокойно осаждать Оренбург. Словом, можешь считать, что ты здесь в полной безопасности.
Бату упрямо мотнул головой:
— Только если сюда не придут тумены моих братьев. Неужели ты думаешь, что я брошу тех, кто даже после моего поражения не оставил поверженного хана? Если так, то я ошибался в тебе.
— Я мог бы разрешить твоим людям перейти реку, но зимой в степи голодно, а крепость сможет вместить от силы тысячу человек, — задумчиво произнес князь. — Чем же я тебе подсоблю?
— Чем? — усмехнулся Бату. — Если ты и вправду хочешь помочь мне, как своему другу, я могу сказать — чем, но проку от этого не будет. Ты все равно не согласишься, так что я лучше промолчу. Я пока надеюсь на лучшее. Как знать, может, твоя помощь и не понадобится.
Однако все надежды хана улетучились уже на пятый день пребывания Бату в Оренбурге. Очередной гонец из степи сообщил, что Орду и Шейбани уже в трех дневных переходах от Яика и твердо намерены до конца разбить своего ретивого братца.
Тогда-то хан и взмолился, чтобы Святозар дал ему свои тумены, без которых ему не отбиться.
— Мой отец и государь всея Руси Константин Владимирович строго-настрого воспретил мне соваться за реку. Да и в нашем с тобой мирном уговоре сказано то же самое.
— Но ты же не раз гостил в моей юрте, — возразил Бату.
— Это совсем иное дело, — ответил Святозар. — Я был без оружия и без воинов и шел с миром. Ты требуешь невозможного.
Долгие уговоры так ни к чему и не привели. Князь стойко стоял на своем, не собираясь отступать от царских повелений. Наконец Бату сдался и весь остаток вечера угрюмо молчал, вливая в себя одну чашу вина за другой.
Святозар тоже помалкивал, продолжая ломать голову над тем, как помочь хану и в то же время не нарушить сурового отцовского запрета. Он крутил и так и эдак, но ничего не получалось.
Князь продолжал размышлять и на следующий день, но идею высказал Бату, уже собравшийся уезжать к своему побитому войску.
— Я знаю, как ты можешь помочь и в то же время не нарушить запрета своего отца. В этом я вижу выгоду и для тебя самого, — многозначительно подчеркнул он.
— Если это и впрямь так, то я готов, — горячо заверил его Святозар, испытывая невольное чувство облегчения.
Наконец-то все разрешится ко всеобщему удовольствию и он перестанет терзаться подспудным чувством вины перед человеком, который однажды подарил ему жизнь, освободив из плена, а другой раз спас от смерти, уведя погоню за собой.
— Твой отец — хороший воин, — издалека начал Бату. — Я знаю, что вначале у него был маленький улус, много сильных врагов, но он одолел их всех и сумел встать во главе всей Руси. Потому я и заключил с ним мир. С сильным, если он еще и честный, лучше дружить, а не враждовать. Ты — достойный сын своего отца. Жаль, что он этого не знает. А не знает потому, что ты ни разу не показал себя в деле. Одолеть врагов в малой стычке может любой хороший воин, но в большой битве — лишь человек, который не только силен телом, но и умен. Я предлагаю тебе большую битву. Вместе с тобой мы одолеем моих братьев, отчего мир между нами упрочится, а твой отец поймет, что ошибался, ибо не всегда жеребенок, родившийся у кобылы первым, оказывается самым резвым. Мне кажется, он непременно задумается, тому ли сыну он завещал свой огромный улус.
— Ты уже говорил об этом вчера, — перебил его Святозар. — Но я все равно не могу повелеть полкам перейти Яик.
— А его и не надо переходить, — вкрадчиво произнес Бату. — Я начну битву, но скоро стану отступать, и мои воины сами перейдут к вам, будто спасаясь от гибели. Орду и Шейбани непременно ринутся следом. Они не подписывали с Русью мир, так что удержать их не сможет ничто. Дай им время прочно встать на вашем берегу, а потом встречай своими полками. Возбужденные азартом грядущей победы, они обязательно ринутся на тебя. Будет бой. Ты говорил, что твоих воинов никто не мог одолеть, даже когда они пеши, а враг на конях, не так ли?
— Говорил, и могу повторить, — утвердительно кивнул князь.
— У Орду и Шейбани хорошие воины. Стойкий враг их только возбуждает. Они не отступятся, а будут вгрызаться в твоих людей с отчаянием лисы, защищающей своих детенышей. Тебе надо выдержать всего один час. Пусть они как следует увязнут. А я тем временем незаметно обойду их и ударю в спину. Моих людей мало для битвы, но для этого удара их хватит. И тогда мы возьмем их в клещи. Ты одержишь победу, а я порву договор с Русью, но только для того, чтобы подписать новый. Уже не на три года и не на пять, а вечный, ибо благодарность за то, что русичи помогли вернуть мой улус, навсегда сохранится в моем сердце. А теперь подумай над моими словами.
Святозар задумался. Он чувствовал, что не имеет права принять такое серьезное решение, но ведь и впрямь получалось, что выгода от этого плана будет огромная, причем не одна, а сразу несколько.
Во-первых, он на деле покажет Бату мощь и несокрушимую силу русского войска. Во-вторых, после того как хан победит, он и впрямь станет испытывать благодарность за эту неоценимую помощь.
В-третьих, к хану перейдут все воины его братьев, и не лучше ли побить как можно большее их количество, пока они выступают в роли врагов. Тогда, даже если Бату захочет напасть на Русь, то все равно ему будет не с кем это сделать. Нужно выждать время, пока подрастет новое поколение, а отец сам говорил, что осталось выдержать каких-то три, от силы пять лет.
В-четвертых, Святозару вспомнилась бурная радость государя после подписания мирного договора и огромная благодарность, которую он испытывал к сыну. Если сейчас все получится так, как говорит хан, то отчего же еще раз не порадовать отца. И тогда, может, он и впрямь задумается…
«Стоп! А вот об этом думать не стоит. Никогда! — сам себя оборвал Святозар. — Я люблю своего брата, всех своих сыновцев[41], включая первенца Николая, я очень доволен своим отцом и всем прочим, включая свое нынешнее положение. К тому же совсем скоро, уже следующим летом, я вернусь на Русь, где меня ждет Милена, и тогда у нас будет не одна долгая ночь любви, а много. Она любит меня, и я хочу приехать к ней победителем. Здорово, когда любимая тобой гордится!»
И он согласился.
Остаток вечера ушел на разработку деталей.
Несколько тревожило князя лишь то, что он не имел никакого права объявлять войну, о чем откровенно поведал Бату, но хан и тут нашел нужные слова:
— Разве ты повелишь войску перейти рубежи? Нет, ты их будешь только защищать. А что до войны… — Хан тяжело вздохнул и мрачно произнес: — Они сами объявили войну Руси. Я не хотел пускать стрелу боли в твое храброе сердце, но людей, которых твой отец прислал в Сыгнак, больше нет. Когда братья захватили мой город, они учинили большую резню, в которой погибли все твои послы. Скорбная весть об этом долетела до моих ушей всего неделю назад.
— Но как же так? — растерянно спросил Святозар. — Разве у вас не принято даровать послам неприкосновенность?
— Возможно, они не знали, что это послы, — пожал плечами Бату. — Кто ведает, что было на самом деле. Прости, брат, что я не смог их увезти. Нападение было таким неожиданным, что я и сам еле успел уйти в степь с сотней нукеров.
— Ну что ж, тогда им придется ответить и за это, — твердо произнес князь.
Глава 6 Бой
Если прочь отступил пощадивший враг Или честно сражается грудь на грудь — Не смешите меня! Не бывало Чтобы враг отказался ножик в спину воткнуть. Мария СеменоваУ князя не было проблем с тем, чтобы убедить в правильности своего решения ростовчанина Лисуню, возглавлявшего всю эту двадцатитысячную армию. Дело в том, что силы, выдвинутые к границе на время учений, в случае внезапного нападения со стороны соседей немедленно поступали в распоряжение начальника пограничной охраны восточных рубежей, то есть его, Святозара. Именно ему, хорошо знающему всю обстановку, а также особенности местности, доверялось право ставить задачи старшему воеводе Лисуне.
Ростовчанин не полностью терял права главнокомандующего. Правильнее сказать, они лишь несколько урезались, то есть за Лисуней во всех случаях оставалось не только право совещательного голоса. Он мог прийти к выводу, что решать эту задачу лучше не так, как говорит князь, а иначе, но — выполнить ее все равно был обязан.
Однако на сей раз седой грузный воевода посчитал, что Святозар все рассчитал правильно. Более того, проехав по предстоящему полю боя, внимательно осмотрев овраги, охранявшие фланги, и даже не поленившись взобраться на холм, с которого предполагалось наблюдать за сражением, он удостоил князя похвалы.
— Думаю, что даже наш главный воевода Вячеслав Михайлович лучшего места не подобрал бы, — солидно заметил он, неспешно поглаживая свои пышные, наполовину седые усы.
Юный племянник Святозара Николай Святославич, присутствующий при этом разговоре, лишь завистливо покосился на своего дядьку. А завидовать и впрямь было чему. На сколько лет тот старше? Да всего-то на семь-восемь, а уже командует ратями, выбирает места для битвы.
Он же, Николай, дожив до цельных семнадцати годков, так ничем и не успел отличиться, а потягаться со своим стрыем[42] мог разве что по количеству собственных детей. Святозар только-только получил разрешение на брак в награду за подписанный с ханом мир, а вот самого Николая женили совсем юнцом, аж два года назад.
В невесты ему подобрали дочку польского князя Конрада I Мазовецкого. Девица была на три года старше самого Николая, и не прошло и года, как она подарила юному супругу сына, которого назвали Константином, а теперь, по слухам, вроде бы вновь ходила на сносях.
Однако творить подвиги в постели, стругая царских наследников, — дело нехитрое, а вот опробовать себя в жарких схватках и сечах — совсем иное. Тут Николаю похвастаться было нечем. Уж больно берегли его согласно царскому повелению. Как-никак, случись что со Святославом — ему садиться на великий трон в Рязани, ему править всей могучей державой, раскинувшейся с юга на север от моря до моря и с запада на восток от гор до гор.
Потому Николай и завидовал своему стрыю, потому так горячо и поддержал его с самых первых минут, едва услышав разговор о предстоящем сражении.
«Уж тут-то и мне не откажут, дадут возможность скрестить сабельку с басурманами», — мечтал он.
Однако все вышло несколько иначе.
Поначалу Святозар принял решение лично возглавить полки для отражения монгольского удара. С большим трудом Бату сумел уговорить князя не делать этого. Решающую роль сыграло то обстоятельство, что и его отец, царь и великий князь всея Руси Константин I никогда не принимал личного участия в крупных сражениях.
— Дело мудрого полководца — следить за всем издали, чтобы иметь возможность вовремя послать подкрепление туда, где твоим воинам приходится особенно тяжко, — убеждал хан. — Меня никто не отважится назвать трусом, однако я уже лет пять, а то и семь не бился в одном ряду со своими воинами.
Но Святозар и тут еще колебался. Главную роль в его отказе сыграл именно Николай. Получалось и в самом деле несправедливо, если он примет участие в битве, а его племянник — нет.
О том же, чтобы разрешить драться и Николаю, не могло быть и речи. В секретной грамотке от государя, которую имел при себе Лисуня, и вовсе говорилось, чтобы в случае каких-либо боевых действий, если таковые приключатся, старший внук был незамедлительно отправлен обратно в Рязань.
Если же возникнет опасность того, что княжича могут по пути перехватить враги, то надлежит его оставить в Оренбурге, но держать со всяческим бережением, не допуская ни к битвам, ни даже к легким стычкам.
Святозар и так уговорил Лисуню дать согласие на то, чтобы оставить Николая при войске. Как знать, вдруг не все силы Шейбани и Орду стоят впереди. А если одна или две тысячи бродят где-нибудь по степи — что тогда? Надежнее оставить парня подле себя. Опять же, почти рядом, всего в десятке верст — Оренбург, где можно будет укрыться.
На самом же деле ему просто стало жаль племянника. Сам ведь таким был всего семь-восемь лет назад. Да и берегли его хоть и не столь сурово, но близко к тому. Пусть не наследник престола, как Святослав, но ведь сын Константина. Случись что — такую вину, хоть всю руду пролей, государь не простит.
Прекрасно понимая весь этот нехитрый обман, старый Лисуня тем не менее дал согласие на то, чтобы оставить княжича. А чтобы у того не было ни единого довода в пользу своего непосредственного участия в битве, Святозар и сам скрепя сердце отказался от участия в битве, назидательно приведя в пример Николаю те доводы, которыми его накануне потчевал Бату.
И вот теперь они все трое стояли на вершине небольшого холма, наблюдая за тем, что творится внизу. Стояли не одни — рядом находилась сотня дружинников и тысяча ханских телохранителей вместе с самим Бату.
Основные снега еще не выпали, и белый покров, закрывавший подмерзшую землю, напоминал старое ветхое одеяло с дырами, сквозь которые чернели темные бугорки и кочки. Мороз был ощутимый, но тоже из разряда терпимых. Впрочем, его было вполне достаточно для того, чтобы лед на Яике оказался надежным мостом для копыт монгольских коней.
Орду и Шейбани во главе своих туменов форсировали реку еще два дня назад. Поначалу они выслали к Святозару послов и потребовали объяснений. Держались послы кичливо, можно сказать, нагло. Даже в разговоре с князем они так надменно цедили слова, будто каждый из них имел должность не ниже темника. Требования же их были просто абсурдны. Однако князь держался спокойно, выдать Бату со всеми его людьми он отказался наотрез, да и на все остальное так же решительно отвечал «нет».
— Я вижу, ты не хочешь мира с могущественными ханами, — напоследок заявил пожилой монгол с багровым шрамом, шедшим от низа правого уха до уголка рта. — Тогда готовься к тому, что завтра тебя бросят на землю перед конями великого Орду-хана и могучего Шейбани-хана, ибо их тумены непобедимы и не твоим светловолосым воинам дано удержать их сабли.
«Ишь, какой глазастый, — невольно восхитился Святозар. — И когда только успел углядеть цвет волос?»
Русские полки, присланные на всякий случай поближе к Яику, на самом деле было трудно назвать русскими в полном смысле этого слова. Двенадцать из двадцати прибыли в степь с западных окраин Руси. Леты, ливы, куроны, семигалы, эсты — кого только не было в тех рядах.
Одних только литвинов, ведомых Миндовгом, Житобудом и еще двумя вождями, насчитывалось три тысячи человек. Правда, чуть ли не половину из них воинами назвать можно было лишь с огромной натяжкой. Кто-то и вовсе чуть ли не впервые в жизни взял в руки копье и меч, а для кого-то такого рода учения были всего вторыми или третьими.
Разумеется, хватало и опытных бойцов, включая ветеранов, с которыми тот же Миндовг, ныне осуществлявший общее руководство всем трехтысячным корпусом, опрокинул рыцарей-крестоносцев в холодные воды Балтики.
В русских полках, пришедших преимущественно с бывшей Владимиро-Суздальской Руси, картина была примерно такая же. На каждого новичка приходилось по одному ветерану.
Разумеется, если бы великий воевода, как теперь официально звучал титул главнокомандующего, знал, что полкам предстоит сражение, то он заменил бы молодежь. Летом, когда тумены хана Бату густо усыпали междуречье между Яиком и Тоболом, Вячеслав Михайлович прислал сюда только бывалых воинов.
Не больно-то он верил монголам, да и самому Бату тоже. Однако все объяснения хана о том, что он собирает воинов вовсе не для битвы с Русью, и впрямь оказались правдивы. Именно это обстоятельство и утяжелило ту чашу весов, на которой лежало доверие Вячеслава к опасному соседу. Ненамного, поскольку полки зимой все равно прибыли в эти места, но достаточно, чтобы рассчитывать на продолжение мирных отношений.
Конницы было всего две тысячи — сплошная молодежь. Для учений, для имитации нападения всадников на пеший строй одной-двух тысяч башкирских всадников вполне хватало, а теперь было поздно собирать их со всех стойбищ, раскиданных там и сям по степи.
Впрочем, двадцать полков сами по себе представляли могучую силу. Степные просторы — раздолье для конницы, но князь хорошо изучил окрестности вблизи Оренбурга и потому безошибочно выбрал самое подходящее для предстоящего сражения место.
Участок, на котором выстроились полки, был ограничен с флангов глубокими оврагами, стены которых за сутки удалось сделать почти отвесными, так что внезапный удар сбоку исключался.
Тем не менее, памятуя мудрые слова воеводы Вячеслава Михайловича о том, что любая битва похожа на человеческую жизнь со всеми ее неожиданностями, Святозар решил оставить при себе две тысячи конных в качестве резерва. Поначалу хотел башкир, но Бату убедил князя, что это неразумно.
— Кому как не монголу лучше всего знать повадки такого же монгола? И потом лучше, если нас с тобой станут защищать мои воины, которые готовы драться за своего хана и его друга не щадя жизни, зная, что если убьют нас, то погибнут и они. К тому же им просто некуда бежать. Поверь, что воин от этого гораздо яростнее сражается. И еще одно. Я же вижу, как твои кыпчаки — Бату называл башкир, саскин, половцев и прочих только этим словом — жаждут скрестить сабли с туменами врагов. Поэтому там они будут гораздо полезнее.
Словом, убедил.
Так что всех башкир Святозар придал той части единственного тумена Бату, который двое суток назад ушел в глубокий охват, чтобы в нужный момент ударить в спину атакующим. Доверие князя к хану к этому времени уже настолько возросло, что он позволил еще двум тысячам его воинов войти в сам Оренбург, стены которого высились в десятке верст от места предстоящей битвы. Предполагалось, что из него тоже в свое время по условному сигналу — выстрелу из пушек — последует удар в спину туменов Орду и Шейбани.
Казалось, что удалось предусмотреть все, и начало сражения вроде бы лишь подтвердило надежду князя на то, что бой должен пройти так, как и планировалось.
Удар монгольской конницы был силен. Навряд ли нашлась бы в Европе ратная сила, которая сумела бы повернуть вспять этот неудержимый натиск. Разве что остановить, да и то на какие-то считанные часы, но уж никак не больше.
А вот войско царя Руси держалось крепко, даже не помышляя об отступлении. И это притом, что лишь половина имела боевой опыт. Впрочем, новичкам достались места в задних рядах. Однако сдержать напор атакующих вполне смогли и одни ветераны.
Монгольские копья и сабли никак не могли пробить русские щиты, и атакующий порыв постепенно начинал стихать, увязнув в непробиваемой стене. Пусть из нее время от времени и выпадали отдельные кирпичики-воины, но в целом на ее оборонительную мощь это никак не влияло. Заслон оставался крепким.
— Думаю, что уже пора, — произнес Бату и кивнул кому-то сзади.
Святозар машинально оглянулся и удивился. Рядом с ханом гарцевал на своем коне темник Бурунчи. Тот самый Бурунчи, который должен был вместе с остальными ханскими воинами идти в обход для нанесения удара с тыла.
«Наверное, Бату все-таки его оставил и послал кого-то другого», — предположил Святозар.
А больше он ничего додумать не успел, потому что в тот же момент кто-то ударил его по голове чем-то тяжелым, и дальнейшее князь увидеть уже не смог. Может, это было даже и хорошо, потому что дальше началось такое, что Святозару не приснилось бы даже в самых жутких ночных кошмарах.
Первым делом это коснулось той сотни, которая была рядом со своим князем. Не прошло и двух-трех минут, как вся она была вырезана. Одновременно с этим в воздух полетели горящие стрелы, черным дымом возвещающие, что пора бить в спину. Вот только это была спина русских ратников, а не монгольских воинов.
Шеститысячный отряд, посланный в обход, ночью на привале полностью вырезал башкир, что ему обошлось всего в сотню погибших, и скрытно повернул обратно. Утром накануне битвы они некоторое время выжидали в низинке, находясь в трех верстах от холма, с которого наблюдали за сражением Бату и Святозар, затем, получив тайный сигнал, стали неторопливо выдвигаться поближе, соединяясь с тысячами, остававшимися при хане.
Бурунчи, появившись подле, одним своим присутствием дал Бату понять, что все готово. Для того чтобы вырезать сотню Святозара, не ожидавшую нападения, хватило пятисот его воинов. Все прочие тут же метнулись дальше, нанося страшный удар по последним рядам пешего строя. Он был неотразимым не только из-за своей неожиданности. Даже если бы атака была в лоб, новобранцы все равно не сумели бы ее отбить. Просто в этом случае разгром задержался бы на какое-то время, хотя навряд ли — долгое.
Но черный дым сигнальных стрел предназначался в первую очередь даже не засадным тысячам, которые сейчас летели в атаку, и не туменам Орду и Шейбани, чтобы они усилили свой натиск, сколько тем, кто, стоя на крепостных стенах Оренбурга, напряженно вглядывался в степь сквозь щели узких бойниц, ожидая этого сигнала. Стояли вперемешку — тут русич и рядом трое монголов, там двое литвин и рядом с ними пятеро степняков, и так далее.
Черный дым сигнальных стрел означал: «Хватит улыбаться. Пришло время оскалиться».
Редко-редко можно было увидеть саблю, извлеченную из ножен. Хватало и ножей, которыми кочевники деловито, будто перехватывая горло очередного барана, предназначенного для праздничного пиршества, резали защитников крепости, казавшейся могучей и неприступной всего час назад.
Ожесточенное сопротивление русичи смогли оказать лишь в двух местах, но оно только продлило их агонию. Короткий зимний день еще не закончился, и сумерки даже не наступили, когда над Оренбургом взлетели три ответных сигнальных стрелы, возвещая, что теперь он стал монгольским бастионом.
Однако когда Бату доложили об этом, он лишь нетерпеливо отмахнулся, восхищенно наблюдая за тем, как отчаянно и умело дерутся остатки русских полков, заключенных в смертоносное кольцо. Они так и не выпустили из рук оружия и не склонили головы перед победителем в робкой трусливой надежде на пощаду.
— Смотри, Бурунчи, — указал он на поле боя. — Они огрызаются с яростью бешеных волков. Одолели бы мы этих людей, если бы не смогли ударить им в спину?
— Твои воины непобедимы, великий хан, — уклончиво заметил темник.
— Это не ответ, — Бату окинул Бурунчи холодным взглядом. — Что ты думаешь об урусах?
— Я бы покривил душой, великий хан, если бы умалил их храбрость, — тихо ответил тот. — Но если их ярость подобна бешеным волкам, то ты — могучий тигр. Волк может покусать тигра, но не победить его. — Он покачал головой и добавил: — Жалею только об одном. Было бы гораздо лучше, если бы тебе удалось присоединить уруситов к своим туменам.
Бату на мгновение задумался, но затем резко мотнул головой:
— Нет. Им слишком долго внушали мысль о том, что мы — враги. Не думаю, что они согласятся. Получится только хуже. Пока я буду предлагать русичам перейти ко мне, они сумеют сомкнуться еще плотнее, и тогда я потеряю намного больше своих воинов. Посмотри, как они дерутся, и ты поймешь, что я прав.
Бурунчи в ответ только вздохнул, безмолвно соглашаясь с ханом.
* * *
И побита воев русских безбожные Монголы, и лежаша они на земле пустой, на траве ковыле, снегом и льдом померзоша, и от зверей телеса их снедаемы, и от множества птиц растерзаемы. Все бо лежаша купно, умроша, единую чашу испиша смертную.
Из Владимирско-Пименовской летописи 1256 года Издание Российской академии наук. СПб., 1760* * *
Когда именно предал Святозар? Скорее всего, это произошло после того, как он узнал о том, что вовсе лишен наследства. Ранее такого на Руси практически не случалось — все делилось по старшинству, но и младшим сыновьям доставались уделы, хотя и меньшие по размеру.
Очевидно, Святозар, исходя из своего происхождения, с детства считал себя обиженным и, затаив недоброе, принялся искать союзников. Они тут же нашлись в лице монгольских ханов, с которыми князь сговаривался чуть ли не в открытую.
По всей видимости, Бату еще колебался — к чьей стороне примкнуть, о чем свидетельствует и мирный договор с царем Константином, заключенный им за год до начала боевых действий.
Однако ожидать от государя Руси каких-либо материальных уступок было глупо, и хан переметнулся к его сыну, который, надо думать, на посулы не скупился.
Неизвестно, предложил ли Святозар перейти на его сторону воеводам двадцатитысячного войска, присланного отцом. Скорее всего, да, но те, храня верность престолу, отказались это сделать, после чего и произошло так называемое Оренбургское побоище.
Албул О. А. Наиболее полная история российской государственности. Т. 3, с. 255. СПб., 1830Глава 7 «В гостях»
Из-за дальних гор, из-за древних гор Да серебряной плетью река рассекала степи скулу… Белый дрок в костер. Вперив взгляд в костер, Над обрывом стою… Боги, боги, как берег крут. Сергей ЛукьяненкоСвятозар очнулся лишь к ночи. Он лежал связанным на холодном каменном полу и поначалу даже не мог сообразить, куда его запихнули. Лишь мрачная темнота окружала его со всех сторон, и леденящий холод насквозь пробирал беспомощное тело. В затылке ритмично пульсировала боль, которая сразу усилилась, едва он попытался поднять голову.
Несмотря на это, князь несколько раз перекатился по полу, пока не уткнулся в промерзлый шершавый камень стены, от которого веяло холодом.
В это время скрипнула невидимая дверь, и в помещение вошли пятеро монголов. Двое держали в руках факелы, и князь поморщился от света, ослепившего его в первые мгновения. Проморгавшись, он увидел Бурунчи, стоящего прямо подле его ног. Темник был пьян и весело улыбался.
— Ты снова в плену, урус, — заявил он без обиняков. — Только на этот раз не у меня, а у великого, могучего и непобедимого хана Бату, который так добр, что решил пригласить тебя на пир по случаю великой победы над Русью.
Святозар презрительно усмехнулся:
— Рано радуешься, вражина. Тот, кто может выпить чашу воды, пусть не хвалится, что ему под силу проглотить и реку. А с предателями я не пирую. Так и передай своему хану иуде.
Бурунчи не знал, кто или что такое иуда. Однако из уст пленника это слово прозвучало столь красноречивым плевком, что о его значении он тут же догадался. Злобно оскалившись, темник замахнулся ногой, но затем сдержал себя.
Повернувшись к своим спутникам, он коротко приказал:
— Взять его. — И, обращаясь к пленнику, ласково продолжил: — Если хан зовет на пир, то гостю надлежит повиноваться.
Об этом же сказал Святозару и сам Бату, когда связанного князя усадили подле него:
— Поверь, этим приглашением я ничем не умалил твоего достоинства, ибо здесь присутствуют только мои братья и племянники-чингизиды, а также темники и мой верный мудрый Субудай, с которым когда-то почел за честь скрестить сабли даже твой отец. Думаю, и Субудаю тоже приятно видеть перед собой сына человека, чьи люди некогда убили его единственного сына Урянхатая[43]. А вот ты забыл закон гостеприимства, гласящий, что приглашение хозяина священно.
— О каком гостеприимстве можно говорить, когда ты сидишь в моем доме?
— А вот тут ты ошибаешься, — усмехнулся Бату, ничуть не смутившись от дерзости пленника. — Это просто жизнь, где все течет и все меняется. Вода, текущая в реке, принадлежит этой реке, но если ты черпаешь из нее чашу, то, держа ее перед собой, можешь сказать: «Это моя вода». И шкурка лисы тоже принадлежит лисе. Но когда ты убиваешь зверька и шьешь себе из него шапку, то это уже не его шкурка, а твоя. Так и тут. Когда-то, год назад или месяц, даже еще вчера эта крепость была твоей. Но я убил твоих воинов и захватил ее. Выходит, теперь она моя. Что скажешь?
Святозар до крови прикусил нижнюю губу, чтобы сдержаться, и спокойно ответил:
— Ты прав. Ныне она твоя. Но все в жизни меняется. Когда сюда придут воины моего отца, Оренбург снова станет русским.
Бату улыбнулся:
— Глупец. Ты же видел несокрушимую мощь моих туменов. Твои люди стояли так долго, потому что я не пустил в ход главную силу, которая прошла бы сквозь них, как нож сквозь масло.
— Ты победил обманом, но больше он тебе не удастся, — возразил Святозар. — Что проку во взятом Оренбурге? Тебе не покорятся даже остальные крепости на Яике, а что уж говорить о самой Руси.
— Мне крепости, может, и не покорятся, но перед сыном самого каана Руси они все равно откроют свои ворота, — заметил Бату.
— Неужто ты думаешь, что я стану помогать тебе хоть словом?! — усмехнулся Святозар. — Скорее солнце взойдет завтра с другой стороны, чем я это сделаю.
— Мне жаль, — деланно опечалился Бату. — А ведь я просто хотел помочь тебе сесть на отцовское место. Извини, но, зная, как ты его боишься, мне пришлось подтолкнуть тебя к этому. Зато теперь, после твоего предательства, о котором он все равно скоро узнает, я развязал тебе руки. Это ведь первый раз предавать страшно и стыдно, а потом… — он махнул рукой.
— По-моему, ты связал мне руки, а не развязал их, — произнес Святозар.
— Как?! Они у тебя до сих пор спутаны?! — деланно изумился Бату и кивнул стражникам, молчаливо стоящим за спиной князя.
Повинуясь негласному приказу, один из них вытащил нож и мгновенно освободил князя от веревок.
Святозар с наслаждением размял запястья и поинтересовался:
— А ноги?
— Разве узлы мешают тебе сидеть? — усмехнулся Бату. — Да и мясо ты будешь брать не ногами, а руками. — И сознался: — Я должен убедиться, что ты не сделаешь ничего такого, что омрачило бы мой сегодняшний праздник. А чтобы ты не мерз, мои люди хорошо тебя закутают.
И тут же, повинуясь ханскому повелению, монголы, стоящие позади князя, помогли Святозару надеть новый яркий халат поверх разодранной нижней рубахи и плотно закутали его ноги чем-то вроде верблюжьего одеяла. Быстро и сноровисто проделав все это, они вновь выпрямились, сохраняя невозмутимый вид.
Князь огляделся по сторонам. Просторный зал главного здания крепости предназначался для проведения военных советов. Сюда же приходили с докладами разведчики, возвратившиеся из рейдов. Всего год назад на этом высоком резном стуле-троне восседал сам государь Константин Владимирович.
Ныне этот трон был единственным сохранившимся предметом мебели. Все остальное — большой стол, лавки и прочее — полыхало в печке, дверка которой так и болталась нараспашку.
Свой развеселый дастархан монголы устроили прямо на деревянном полу, доски которого пока еще уцелели, застелив его войлочными кошмами и дорогими коврами, которые снесли сюда отовсюду. Рядом со Святозаром лежал его любимый ковер красного цвета с искусными желто-синими узорами.
— Узнаешь? — расплылся Бату в улыбке, заметив взгляд князя, устремленный на этот ковер.
— Как не узнать, — сдержанно откликнулся Святозар. — Помнится, ты его сам мне подарил полтора года назад.
— Я тебе подарю не только его, — заверил хан, склонившись поближе к князю и понизив голос до шепота. — Я подарю тебе всю Русь, потому что успел убедиться в том, что ты не только умен и храбр, но и умеешь держать свое слово.
— Ты лучше скажи, что ты сделал с моим старшим воеводой и с княжичем? — мрачно осведомился Святозар.
— Твой воевода оказался очень сильным воином, — уже без улыбки ответил Бату. — Поначалу я приказал взять его живым. Это обошлось мне в семь человек. Он так отчаянно дрался с моими людьми, прорываясь к внуку твоего отца, что пришлось его умертвить.
— Та-ак, — задумчиво протянул Святозар. — Ну а Николай?
— Он жив и здоров, — быстро ответил Бату и негромко хлопнул в ладоши.
Буквально через минуту в дверях показались два дюжих монгола, которые бережно внесли в зал княжича. Сам он идти не мог. Его голова беспомощно моталась из стороны в сторону, а грудь была грубо замотана тряпками, сквозь которые отчетливо проступало большое кровавое пятно. Такими же окровавленными повязками была перемотана его нога.
— Здоров, говоришь, — процедил сквозь зубы Святозар.
— Я имел в виду, что ни один из моих воинов даже не поцарапал его, — поправился Бату. — Когда я первый раз говорил с ним, он оставался целехонек. Но потом, после того как его повели обратно, чтобы он подумал как следует, твой племянник ухитрился выхватить у одного из моих людей нож и кинулся на меня. Нукеры испугались за мою жизнь, и один из них не выдержал. Спасая своего хана, он несколько раз ударил его саблей. Вот потому-то тебе и не развязывают ноги. Вдруг ты решишься поступить точно так же. Ты не думай, за свою дерзость и за то, что он осмелился нанести рану внуку твоего отца, нукер уже наказан. Что ты повелел сделать с ним, мой верный Субудай? — повернулся он к грузному одноглазому старику, сидящему справа от него, приказав конвоирам увести княжича.
Тот неспешно откашлялся и негромким хриплым голосом ответил:
— Он защищал твою жизнь, великий хан, но от усердия нарушил твое повеление. Поэтому я приказал предать его почетной смерти без пролития крови.
— Это справедливо, — заметил Бату. — Я доволен.
— Один приказывает убить верного монгола только за то, что он спасал ханскую жизнь, пусть и ранив при этом какого-то урусского князя, а другой называет это справедливым, — фыркнул какой-то пышно разодетый военачальник.
Судя по нарядным одеждам и по рукояти сабли, щедро украшенной драгоценными камнями, он явно принадлежал к знатному роду. Если же исходить из той смелости, с которой он позволял себе осуждать решения Субудая — правой руки Бату, то можно было сделать вывод, что этот род не просто знатный.
— Он казнен не за то, что ранил этого князя, Гуюк, — зло сощурился Бату. — Его покарали за нарушение моего повеления. Ты подобен глупой цапле, которая, даже не видя лягушек, все равно на всякий случай щелкает своим клювом.
— Ты назвал меня глупым пожирателем лягушек?! — возмущенно вскочил на ноги Гуюк. — А кто ты сам?! Ты такой же чингизид, как я, не более! Даже хуже, потому что мой отец — великий хан Угедей — подлинный сын великого воителя, который опять-таки мой дед, а не твой! — Он ухватился за эфес сабли, хотел шагнуть вперед, но зацепился носком красного сафьянового сапога за край ковра и, пошатнувшись, рухнул обратно на свое место, так и не сумев извлечь клинок из ножен.
— Насколько я помню, твоя почтенная мать Ту-ракина-хатун тоже меркитка, — отчеканил Бату.
— Зато мой отец — великий каан, а дед… — еле пролопотал заплетающимся языком Гуюк и, не договорив, захрапел.
— Наш брат пьян пятый раз за этот месяц, — негромко, но отчетливо произнес Бату в наступившей тишине. — Он уже совершил наказуемый поступок. По-моему, именно так говорится в Ясе[44] моего деда, — с особенным упором на слово «моего» отчеканил хан. — Я имею право наказать его и сам, но он — мой брат, и потому я просто отпишу об этом недостойном поведении его отцу. А сейчас унесите его, ибо он может вновь повторить свои слова, а мой колчан терпения давно опустел и я не поручусь, что не извлеку из ножен благоразумия саблю своего гнева.
Тут раздался хриплый голос Субудая:
— Твое имя воистину Саин-хан[45], ибо ты не торопишься судить, но всякий раз тщательно взвешиваешь вину каждого на весах своей мудрости.
— Ты так говоришь, потому что он защищал тебя, — вступился за Гуюка еще один знатный монгол. — Мой отец, великий Чагатай, назначенный дедом хранителем Ясы, рассудил бы иначе.
— Ты всегда подпевал Гуюку, Бури, хотя ему не доверяет даже его собственный отец[46], — сурово заметил Бату. — А кроме того, не дело, когда в разговор старших в роду влезают младшие[47].
С видимым усилием он заставил себя улыбнуться и, повернувшись к Субудаю, внимательно наблюдавшему за всем происходящим, произнес весело, насколько мог:
— Я думаю, что в этот радостный день нам лучше пить сладкие вина и наслаждаться победой, а не осыпать друг друга словами, за которые кое-кому потом станет стыдно перед своим джихангиром[48], назначенным великим кааном. — И с упреком заметил Святозару: — Вот видишь, князь, какие оскорбления мне приходится терпеть, защищая вас обоих.
— Отпусти мальчишку, хан, — вместо ответа произнес Святозар. — Зачем тебе этот сопляк?
— Чтобы ты оставался мне послушен, — спокойно пояснил Бату и развел руками. — Как видишь, я говорю правду и ничего не таю за душой. Я повелю, чтобы его хорошо лечили, но мне надо, чтобы ты изъявил покорность и согласился дать мне дань.
— Об этом тебе надо говорить с моим отцом, — заметил Святозар. — Он повелевает Русью, а не я.
— Твой отец слишком упрям и горд, — поморщился Бату.
Он внимательно посмотрел на пирующих, которые за вином вроде бы позабыли про тягостную перепалку, случившуюся между чингизидами, и, незаметно кивнув Бурунчи, подсел поближе к князю.
— Я не предлагаю тебе сразу дать мне ответ, — вкрадчиво уговаривал он Святозара, одной рукой приобняв его за плечи, а другой протягивая кубок с вином. — Я понимаю, что это дело нелегкое и требует долгого раздумья. Я не спешу. Мы пробудем здесь целых два дня и лишь на третий двинемся дальше. За два дня можно обдумать многое. Только помни, что, отказавшись, ты сделаешь только хуже. Намного лучше будет, если ты все-таки дашь согласие.
— Лучше для кого? — жестко уточнил Святозар. — Для меня одного?
— Не только, — возразил Бату. — Для всех. Смотри, что получается. Первое, это то, что твой родич будет спасен, — он загнул указательный палец на левой руке. — Второе, это то, что…
— Я понимаю, что пленный урус знатен, но в такой день можно было бы уделять побольше внимания и своим братьям, — перебил его кто-то.
Бату досадливо поморщился и поднял голову. Прямо перед ним стоял смуглый поджарый монгол, с вызовом глядевший на хана. Тут из-за его спины на мгновение вынырнул Бурунчи, еле заметно кивнул и вновь куда-то исчез. Недовольство незамедлительно исчезло с лица Бату, сменившись на добродушную улыбку.
— Я не сержусь на тебя, Менгу, хотя на будущее советую запомнить, что нехорошо перебивать своего джихангира. — Улыбка хана стала еще шире, а тон еще добродушнее. — Но ты — мой истинный брат, хотя твоего отца звали не Джучи, а Тули. Так что присядь лучше по другую сторону от князя и обними его, ибо он, пусть и сам того не желая, принес нам много пользы и скоро принесет еще больше.
Менгу продолжал стоять, удивленно глядя на Вату, но тот повторил свою просьбу, высказывая ее так же дружелюбно и спокойно, но вместе с тем очень настойчиво. Настолько, что сын Тули, недоуменно хмыкнув, уселся рядом и тоже положил руку на плечо Святозара.
— А сейчас ты услышишь, как я хорошо научился говорить на их языке, — заметил Бату и громко, на весь зал завопил по-русски:
— Урусский конязь — мой побратим. Он помог мне победить своих воинов, подарил этот город и обещает отдать все остальные крепости, стоящие на реке. Поэтому я помогу ему одолеть его отца и возьму с него самую малую дань. — И он тут же бросился обнимать ошарашенного таким заявлением Святозара, крепко прижимая его голову к своей груди и больно царапая лицо пуговицами своего синего шелкового чапана[49].
Князь хотел было отстраниться, вырваться из этих ненавистных объятий, что есть мочи уперся в плечи хана руками, но… В иное время он, без всякого сомнения, сумел бы это сделать, однако теперь проклятая слабость давала о себе знать. К тому же Бату как бы невзначай посильнее надавил именно на рану на затылке, что незамедлительно вызвало сильнейшую острую боль, которая стремительной молнией насквозь прошила все тело князя.
Словом, сколько бы он ни упирался, так ничего и не получилось. Вдобавок Святозар начал еще и задыхаться — уж очень крепко прижимал его к себе хан, продолжающий безостановочно говорить, но уже вновь на родном языке:
— Я ценю тех, кто готов лизать сапоги истинным правителям этих земель, и лишь потому он присутствует наравне с нами на этом пиру.
— Слышь, Гавран, — шепотом окликнул в это время своего соседа один из связанных раненых ратников, лежащий на небольшой галерейке, надстроенной сверху залы.
Тот не откликнулся, продолжая жадно вслушиваться в слова Бату. Лишь когда хан умолк, Гавран неохотно повернулся к товарищу:
— Чего тебе, Прок?
— Я спросить у тебя хотел. Послышалось мне, что этот нехристь нашего князя своим братом назвал, али как?
— Так оно и есть, — хмуро отозвался Гавран. — Видать, давно они с ним снюхались.
— Будя каркать, — сурово осудил Прок и попенял товарищу: — Не зря тебя так прозвали[50]. Вечно ты…
— Или ты сам не слыхал, как он перед всеми своими гостями похвалялся? — заметил Гавран. — А когда по-своему заговорил, то и вовсе сказал, что ценит тех, кто ему сапоги лизать готов. Не зря князь то и дело на встречи с ним ездил. Вот и докатался.
— Может, ты как-то не так понял? Ты же их язык плохо знаешь. Спутать не мог?
— Мог, — согласился Гавран. — Вот только то, что он на нашем лопотал, мы вместе слыхали. Или тоже спутали? А как они обнимались, ты видел? Ухо ослышаться может, а гляделки?
Прок в ответ лишь тоскливо вздохнул. Возразить было нечего.
— А чего делать-то теперь? — после недолгого молчания спросил он.
— Ясное дело, бежать надо.
— Как?! — простонал Прок.
— Пока не знаю, — сурово отозвался Гавран. — Но ежели не мы, то кто известит государя об измене?!. Стало быть, надо как-нибудь исхитриться, удобный случай искать. Или ты мыслишь, что он сам к тебе приплывет?
— А хотелось бы, — безнадежно откликнулся Прок.
Бывает, что желания человека вдруг сбываются. Такое происходит редко, судьба скупа на чудеса, но иногда, в кои веки… Вот и на этот раз удобный случай, словно услышав Прока, и впрямь приплыл к ним. Не сам, конечно, а направленный темником Бурунчи.
Врочем, если бы не более сообразительный товарищ, то сам Прок так и не дотумкал бы. Зато Гавран, едва темник ехидно осведомился, не надумали ли славные воины после всего увиденного перейти на службу к великому хану, который в своей неизбывной милости дарует им в этом случае прощение за то, что они осмелились сражаться против его доблестных багатуров, тут же нашелся:
— Обмыслить надо все, боярин, — неторопливо протянул он. — Князя-то государь и простить может — сын ведь. А нам пути назад будут отрезаны. Если мы к твоему хану перейдем, то нас только веревкой пеньковой благословят, не иначе.
— Хоп, — согласно кивнул Бурунчи. — До утра обожду. А пока думайте. Только хорошо думайте. А твой сосед чего молчит? — подозрительно покосился он на Прока, опешившего от такого поворота событий. — Ему что, не надо думать?
— Надо. И ему тоже надо, — торопливо ответил за товарища Гавран. — Вместях оно как-то сподручнее Русь предавать — одному тяжко на такое идти.
К счастью, дар речи вернулся к Проку гораздо позднее, когда темник, удовлетворенный исходом дела, вернулся вниз, а самих пленных его крепкие сноровистые люди быстро, но уже гораздо вежливее, отволокли обратно в подвал.
— Ты вовсе с ума сошел! — завопил Прок на товарища.
— Цыц ты, а то кудахчешь, как курица, когда яйцо снесет. Или невдомек тебе, для чего я время подумать просил?
— Для чего? — озадаченно спросил Прок, совсем сбитый с панталыку уверенным тоном Гаврана.
— Для побега, для чего же еще, — пояснил тот. — Нам теперь на все надо соглашаться, лишь бы к своим удрать поскорее.
— Мыслишь, что нам так сразу и поверят? — усомнился Прок.
— Надо, чтоб поверили, — наставительно заметил Гавран. — И чтоб оружие вернули, — добавил он, и Прок даже в кромешной тьме почувствовал, что его товарищ улыбается.
— А если его только перед самым боем вернут? — попробовал он остудить не в меру размечтавшегося приятеля, но тот бодро напомнил:
— Забыл, как верховный воевода нас бою учил, чтоб, ежели что, пускай даже голыми руками, но ворога одолеть? Мне-то без интересу было, потому и не усвоил толком, а ты, помнится, из лучших был.
— Поначалу от пут надо освободиться, — заметил Прок. — А с нехристями я могу потолковать. Пяток, может, и не одолею, а с парочкой управлюсь. Ну а если ты додавить их подсобишь, то и трех свалю, — уверенно пообещал он.
— Да, с тебя прок большой, — намекнул, в свою очередь, Гавран на имя[51] товарища. — Хотя думку ты мне знатную подкинул. Ежели ее обмыслить как следует, то и я не одного нехристя завалю, — протянул он, о чем-то напряженно размышляя. — Ладно. Спи покамест. Нам сил набираться надо. Вскорости они нам ох как понадобятся.
Бурунчи же, доложив Бату о том, что пленные стали колебаться, еще раз восхитился ханской мудростью.
Впрочем, он пришел бы в еще больший восторг, если бы знал о подлинных намерениях Бату, которые тот пока держал в секрете. Хан как раз рассчитывал именно на то, что, скорее всего, хотя бы один из них даст свое согласие лишь на словах, а на деле попытается воспользоваться первым же удобным случаем, чтобы бежать на Русь. Бежать для того, чтобы предупредить о случившемся под Оренбургом, а также — и это было самым главным — сообщить об измене Святозара. Вот тогда у князя и впрямь будут отрезаны все пути назад.
Хану оставалось лишь правильно выбрать время для побега русичей. Отпускать их слишком рано тоже было нельзя. При этом терялась бы неожиданность — такая замечательная помощница любого полководца. Ведь пока еще русичи не знают о случившемся. Пользуясь этим, можно взять оставшиеся шесть крепостей, грозно высившихся над полноводным Яиком. А помочь их взять, по хитроумному расчету Бату, окончательно уверившегося в безукоризненном плане старого шамана, должен был Святозар, пусть того вовсе и не желая.
Глава 8 Вначале было смешно
Над замком был приспущен флаг; Ни барабан, ни лай собак Не возвестил, что близко враг, В одежды друга облаченный… Вальтер СкоттКогда Бату во время их последней встречи в пещере, произошедшей всего полгода назад, пожаловался, что молодой русский князь подружился с ним, стал доверять, но о власти, следовательно, об измене отцу, вовсе не помышляет, Горесев лишь ненадолго задумался, после чего неожиданно ответил:
— Ну и пусть.
— То есть как это пусть?! — возмутился такой загадочной уступчивостью старика хан. — Ты же сам говорил мне…
— Я говорил, что он в любом случае поможет тебе, — бесцеремонно перебил его тот. — От этого я не отказываюсь и сейчас. Он и впрямь поможет, — и тут же поведал хану новый план: — Своих сотников и тысячников, которые пойдут за камнем, ты пришлешь мне завтра. Я надену на них волшебные обручи и магические цепи, которые помогут им быть смелыми и не успокаиваться, пока они не достигнут цели. Ты же возьми от меня вот это, — он протянул Бату небольшой узелок.
— Что это? — опасливо спросил хан, стараясь не касаться свертка.
— Не бойся, — усмехнулся старик и развязал узелок, показывая его содержимое. — Это всего лишь снадобье. Будешь давать его Святозару, когда он окажется в твоем плену и потребуется, чтобы он выполнил твою волю.
— Оно заколдовано тобой или духами? — поинтересовался Бату, принимая от старика сверток. — Я это к тому, что даже великий шаман может ошибиться. Кто знает, на кого тогда накинутся духи, которые сидят в этих шариках.
Старик устало вздохнул.
Ну как объяснить этому глупцу, что даже человеческая мысль имеет вес, хотя и разный? Как растолковать, что любое слово имеет силу, но не каждое, а строго определенное, произнесенное в нужное время в нужном месте, как еще в детстве учил его отец?
— Эти знания перешли ко мне от предков, которые с помощью простого слова могли творить такие чудеса, что нам с тобой и не снились, — будоражил он воображение сына. — Я знаю лишь крохотную частицу того, что было ведомо им. Но и она неизмеримо больше всего того, что известно этим глупцам, согласившимся заживо и добровольно замуровать себя в горных пещерах. Они утверждали, что это запретный источник, вода которого отравлена, потому мне и приходилось пить из него украдкой. На самом же деле они просто не могли его освоить, боясь зачерпнуть оттуда хоть пригоршню, а когда узнали о моих успехах, в их сердцах разгорелась черная зависть, поэтому мне пришлось бежать. Я стар, но успею научить тебя всему, что знаю сам, и ты вернешься туда, но вернешься победителем, чтобы отомстить за нас обоих. Пока же накрепко запомни главное. Нет ни колдовства, ни волшебников, ни магии, ни ворожбы. Нет и не было ни джиннов, ни мангутов, ни дэвов. Просто если люди не могут что-то объяснить, то они начинают бояться. Пусть. Не пытайся им ничего объяснить, ибо они все равно не поймут и никогда не поверят. К тому же именно в их страхе заключается твоя главная сила. Сам же запомни, что в этом мире есть только знание. Когда ты столкнешься с непонятным, не пугайся и не думай, что увидел колдовство. На самом деле ты увидел то, чего просто не можешь объяснить, потому что не знаешь.
— Но отчего от одного твоего слова происходит то или иное? Разве это не заклинание? — робко спросил тогда юноша, ставший ныне таким же стариком, и получил горький ответ отца:
— Мне жаль тебя разочаровывать, но я знаю только, каков будет результат, если я произнесу тот или иной набор слов. Причины же, по которым все происходит, мне неведомы. Это не значит, что их нет. На самом деле всему есть объяснение, только я его не знаю. Вот за это я еще больше ненавижу глупцов, которые, сидя у источника Древних, не желают пить сами и не хотят дать пригубить страждущим. Если бы я смог беспрепятственно погрузиться в него, то знал бы не только это.
— А что еще? — затаив дыхание, спросил сын.
— Постигнув причины, я сумел бы сам составлять новые слова и достичь таких высот, о которых теперь могу только грезить, да и то очень редко.
— Это когда ты глотаешь вот этот шарик? — вновь задал вопрос сын, вспомнив, что именно тогда у его отца во время сна лицо становится блаженно-счастливым. Происходило это редко, не чаще раза в месяц, но тем отчетливее помнилось.
— Да, это случается именно тогда, — подтвердил отец. — Но нельзя забывать об осторожности. Сам подумай, если даже наши слова и мысли имеют силу, подчас огромную, то какой мощью обладает все, что нас окружает. Мне, увы, не дано разбудить силу, таящуюся в этом камне, — он небрежно хлопнул рукой по граниту стены. — Или в том, или, вон, в другом. Само по себе оно достаточно просто, но только если ты знаешь, как это сделать.
— А они разные?
— Они очень разные. И далеко не все зависит от величины самого камня. Бывают не столь большие, но такие, по сравнению с которыми мощь, таящаяся во всех этих скалах, — ничто, — он вновь похлопал по граниту. — Все равно, что сравнить еле видимую букашку с пардусом[52], которого мы не раз видели, гуляя среди скал. Это не простые камни. Впрочем, они все не простые, как и остальное, что окружает тебя, но эти выделяются даже среди них. Уничтожь их — и к народу, который живет в том месте, одно за другим будут приходить беды и несчастья. Но это еще полбеды. Люди утратят волю и не смогут противиться ударам судьбы. Они станут похожи на перекати-поле на степной равнине. Куда подул ветер — туда послушно покатится и она. Не знаю, сколько таких камней на земле. Думаю, немного, но где находится один — мне ведомо доподлинно. Еще лет двадцать-тридцать назад я мечтал дойти до него, чтобы уничтожить, но сделать это надо чужими руками, а меня волхвы русичей сразу почувствуют, едва я отойду от этих гор.
— Я выполню твою мечту, отец, — горячо заверил юноша.
— Только чужими руками, — строго напомнил тот. — Тебя распознают так же быстро, как и меня, и помешают это сделать. Вот мы и вернулись к тому, с чего начали, — горько усмехнулся он. — Я знаю, где этот камень, мне ведомо, что он дает людям, и мне доподлинно известно, что будет, если его разрушить. Но мне не дано понять тех сил, которые кроются в его глуби. Никогда.
— А эти шарики, они что — твои обереги?
— Нет. Просто в них тоже кроется сила. Но это — страшная сила. Она обволакивает человека ласково и нежно, подобно первым лучам летнего солнца, когда оно только появляется в небе. Зато потом, стоит человеку разомлеть, как случается страшное, и он уже становится не властен над собой. Их добывают из растений и цветов, которых здесь не увидишь. Лишь далеко-далеко за горами, — он небрежно указал рукой на юг. — Его привозят мне купцы. И странное дело, одно из этих растений цветет и там, на Руси, но в нем нет такой страшной силы. Возможно, как раз камень-оберег и защищает людей от нее, обезвреживая ростки еще в зародыше. Я расскажу тебе, как использовать эти шарики, чтобы люди стали податливы, словно кусок влажной глины в руках гончара.
«Теперь пришла пора научить правильно пользоваться этим снадобьем неукротимого злобного монгола, который, при всей своей храбрости и отваге, побаивается и меня самого, но особенно тех духов, которых я могу вызвать. Пусть боится и дальше, — мысленно улыбнулся старик. — Тем охотнее он проглотит любую нелепицу, которую я ему скармливаю вперемешку с правдой. Например, о том, что наши с ним жизни неразрывно связаны между собой».
— Слушай внимательно и не вздумай ошибиться, — строго произнес он. — Духи, которые заключены в этих шариках, очень строги и не потерпят ни одной ошибки. К тому же они своенравны, так что будь очень осторожен. Ты должен…
Едва показалась следующая после Оренбурга крепость русичей, названная ими простенько — Яик, как Бурунчи протянул Святозару один из полученных шариков.
— У тебя болезненный вид, — озабоченно произнес он. — Съешь его и сразу почувствуешь себя гораздо лучше.
Князь искоса посмотрел на небольшой катышек, который протягивал ему темник. Почти сразу в нем вспыхнуло немедленное желание взять его и быстро проглотить. Вот только он почему-то чувствовал, что сегодня этого делать не стоит.
Однако легкая ломота в костях, которую он ощущал с самого утра, так и не проходила, а катышек и впрямь помогал, хотя только на время. После того как князь его проглатывал, боль почти сразу же отступала, куда-то далеко в сторону уходили тоска и печаль, начинало казаться, что не все еще потеряно, что все еще можно исправить, что ему непременно удастся убежать из плена, что отец все равно его простит, не может не простить, что… Впрочем, можно сказать и одним словом — ему становилось хорошо.
К тому же к нему приходило не только душевное и физическое облегчение. После того как на третий день он принял очередной катышек, князю приснился дивный сон, наполненный такими радужными красками, которых не бывает даже наяву.
Но главное заключалось даже не в сочных ярких красках, а в том, как проходила его встреча с отцом, который был весел, еще веселее, чем год назад, в то время, когда он заключал мирный договор с Бату. Он улыбался, шутил, понимающе кивал, когда сын винился в том, что проиграл битву, утешал его, говоря, что никто не сумел бы сделать больше, чем Святозар.
Затем отец величаво снимал со своей головы царскую корону, которую надевал лишь при приеме иноземных послов, — во всех остальных случаях он обходился тонким венцом, а то и совсем узеньким золотым обручем с маленьким гордым соколом спереди, — и торжественно надевал ее на сына. Этот сон приходил к князю особенно часто, хотя были и другие, не менее приятные. Вот только пробуждение после увиденного становилось еще более горьким и безотрадным.
Однако сейчас он чувствовал, что нужно отказаться — слишком настойчив был темник, слишком слащаво он разговаривал со Святозаром. Словом, все было слишком, даже — чересчур. К тому же, даже если он и проглотит этот горьковатый на вкус катышек зеленоватого цвета, поспать ему все равно не удастся. И князь, уже инстинктивно потянувшийся к маленькому комочку, пересилил себя и презрительно отвернулся в другую сторону.
— Боишься, что отравлю, — усмехнулся Бурунчи. — Но ведь ты уже принимал это снадобье и всегда чувствовал себя гораздо лучше. Мне гораздо проще убить тебя, приказав зарезать или удавить.
— Я лучше потом, — проглотив слюну, стойко ответил Святозар. — Ближе к вечеру. К тому же вас все равно в крепость не пустят, а ночевать в чистом поле — невелика радость, — и злорадно ухмыльнулся, заметив, как разочарованно вытянулось лицо Бурунчи.
— Почему же не пустят? — осторожно осведомился темник. — Испугаться они не должны, ведь нас не столь уж много. Я повелел остальным тысячам отстать на целых два дневных перехода. К тому же с нами еще и ты.
— Вот я и повелю, чтобы вас не пускали, а встретили калеными стрелами, — пояснил Святозар.
— Ну что ж — нет так нет, — равнодушно пожал плечами Бурунчи. — В поле, так в поле. Только где бы мы ни ночевали, но если ты сейчас его не съешь, то вечером все равно ничего не получишь.
— Это почему же? — забеспокоился князь.
— Потому что я его сейчас выброшу, — мстительно выпалил Бурунчи и злорадно ухмыльнулся — стрела его слов пришлась точно в цель. Чтобы понять это, достаточно было посмотреть на лицо Святозара.
— Не надо выбрасывать, — глухо попросил князь, сам стыдясь этого унижения, но не желая лишиться заветного катышка.
Успокаивала его лишь мысль о том, что, может, и впрямь хорошо его принять. Мгновенно уйдет ломота в костях, ощутимо прибавится сил во всем теле, а там как знать, авось удастся удрать от назойливого конвоя. Пришпорить скакуна и — поминай как звали. До стен рукой подать — версты две, не больше.
А не выйдет — ну что ж. Воин, да еще русич, должен понимать — раз не вышло, стало быть, не было суждено. Стрела, пущенная вдогон, это больно, он знает, даже когда она впивается в руку или в мякоть бока. Но выдержать боль он сумеет, не впервой. Правда, если под лопатку, то это гораздо больнее, зато недолго терпеть, да и лучше смерть, чем такая жизнь.
— Давай его сюда, — произнес он почти весело, окончательно успокоившись и твердо решив попытать счастья.
Все произошло как он и ожидал. Ломота и впрямь ушла, наступила какая-то легкость во всем теле, и даже глаза стали видеть зорче. Или это показалось? Да неважно. Гораздо хуже оказалось другое. Стоило ему только напрячься, чтобы с силой ударить коня в бока, как тот же Бурунчи справа и еще один — как его, Кайшу, вроде — слева, плотно стиснули Святозара с обеих сторон, а темник на всякий случай еще и перехватил поводья княжеского коня.
— Не балуй, — предупредил он чуточку насмешливо.
Да Святозар и сам видел, что «баловать» не стоит. Во всяком случае, не сейчас, потому что спереди, будто спинами почуяв что-то неладное в княжеском поведении, сгрудился добрый десяток всадников, а у него… у него даже сабли под рукой нет. С одной лишь легкостью в теле через этот десяток не пробиться, каким бы ты ни был богатырем.
— Ишь, какой норовистый, — с удивлением заметил Бурунчи. — Я хотел было дать тебе еще один, — он разжал кулак и показал другой катышек, который выглядел даже покрупнее первого. — Темнеет, — пояснил темник причину своей щедрости. — Вдруг и впрямь придется в степи ночевать. Не хочу, чтобы ты заболел. Теперь боюсь. Если у тебя добавилось столько сил от одного шарика, сколько же появится от двух? Пожалуй, нельзя его тебе давать.
«А если и впрямь прибавится? — мелькнуло в голове у Святозара. — Может, тогда получится вырваться? Как говорила мать великого воеводы, чем черт не шутит, пока бог спит, а когда он спит — никому не ведомо».
— Испугался, значит, — усмехнулся он, стараясь, чтобы это выглядело как можно презрительнее. — Не думал я, что у Бату служат такие трусливые темники. Одного безоружного русича целая тысяча стережет. — Он оглянулся назад. — Да что тысяча. Почитай, цельных две, и то боишься, что не удержишь.
Бурунчи помрачнел.
«Ага! Не понравилось!» — возликовал Святозар и с невинным видом добавил:
— Наверное, если бы я ехал вместе с еще одним из своих воев, так Бату все четыре отрядил бы нас сторожить.
Сотник заметно колебался. Его рука с катышком уже потянулась к князю, но в нерешительности застыла на полпути и стала понемногу двигаться обратно.
— А может, он тебе не доверяет, а? — быстро выпалил Святозар и тут же сам ответил: — Ну, точно, так и есть. Как это я сразу не догадался?!
— Ничего я не боюсь, — рявкнул Бурунчи и резко протянул катышек князю. — На, бери. Подумаешь, багатур сыскался. Да я, если хочешь, еще один тебе дам, и все равно ты никуда от меня не сбежишь. Видал я таких.
— Может, и не сбегу, — примирительно заметил Святозар, и осторожно, чтобы не уронить, взял зеленоватый шарик. Мешкать он не стал, а то еще передумает нехристь, и мигом кинул его себе в рот. Жуя горькую, вязковатую, как глина, массу, он с удовлетворением убедился, что глаза его не обманули — второй катышек и в самом деле был гораздо больше, чем первый. Теперь осталось не спешить, дождаться, когда пойдет прилив сил, а уж потом и действовать.
Но перед глазами князя все вдруг поплыло, ему стало неожиданно весело, да так, что он заливисто засмеялся. Чудные проплешины на снегу и впрямь были смешными, напоминая что-то забавное, но что именно — вспомнить никак не удавалось.
Святозар хотел было спросить об этом у своего спутника, едущего рядом, — может, тот припомнит, но, глянув на Бурунчи, засмеялся еще сильнее. Уж очень глупо выглядело его удивленное лицо, полуоткрытый щербатый рот, в котором не хватало зуба. Ха-ха, кто же его выбил-то? Кулаком, что ли? Вот бы посмотреть! Хотя зачем смотреть, если можно представить. Это же так легко. Вот Бурунчи, славный малый, а вот кто-то большой с огромным кулаком, ой, сейчас умру от смеха.
Святозар склонился к луке седла и задыхался от гомерического хохота, настолько ему было весело.
— Я не обиделся, — вкрадчиво прошептал ему на ухо темник. — Мы же друзья, да? А разве на друзей таят обиду, правда?
Князь, икая, только молча кивнул, полностью соглашаясь с этим чудным добродушным человеком. Действительно, как можно сердиться на друзей. Может, и он кому-то покажется смешным. Он же не видит себя со стороны. А интересно было бы посмотреть на себя. Святозар на секундочку представил, как бы оно выглядело, и впрямь сумел увидеть себя чуть сбоку. Зрелище показалось настолько забавным, что он вновь согнулся от очередного приступа хохота.
— А в крепости тоже сидят твои друзья, — вкрадчиво нашептывал сотник. — Сейчас мы въедем туда, и они тоже посмеются вместе с тобой. Крикни им, чтобы они открыли ворота.
— А и правда, — икнул очередной раз Святозар. — Вместе смеяться еще веселее, — и в перерыве между приступами весело и громко гаркнул:
— Открывай ворота! Кто-кто — я это! Сейчас… — Он хотел тут же, не дожидаясь, пока ворота откроются, поделиться своим хорошим настроением, но забавные фигурки на стенах так чудно засуетились, что он успел лишь приветственно махнуть им рукой и вновь в приступе хохота склонился к луке седла.
Тяжелые, щедро обшитые кованой медью, створки ворот Яика с протяжным похоронным скрипом стали открываться, впуская князя, необычайно веселого сегодня.
— С победой, Святозар Константиныч, — поздравил его препотешный ратник у ворот. — Никак…
А больше он ничего не успел сказать, потому что гости, едущие с князем, приступили к своему традиционному веселью, едва первые десять рядов втянулись в крепость. Впрочем, гадюке не обязательно вползать целиком в горницу. Она может кинуться кусать и с порога — была бы добыча. Здесь же добычи хватало.
А князь все смеялся и смеялся. Люди так чудно бегали друг за другом, так бестолково отбивались, забавно падали со стрелами в спинах, неуловимо напоминая ежиков, только старых, у которых осталось совсем мало иголок. Один уродливо растопырился посреди дороги, так забавно кричит, разевая рот. Жаль только, что среди всеобщего шума и гама не разобрать слов. Очень жаль. Они же, наверное, ужасно смешные. А если прислушаться?
Князь напряг слух, и вдруг прямо в его уши врезался последний выкрик:
— Будь ты проклят, Иуда!
И почти сразу же откуда-то сбоку, словно отголосок эха, еще один голос, звонкий, пронзительный и резкий, как удар сабли:
— Вовеки проклят!
«Это они кому? — опешил Святозар. — Не может быть, чтобы мне. Они просто не поняли, а я не успел им рассказать, как смешно на все это смотреть. Ну, к примеру, вон на того, который еще отмахивается от трех наседающих на него монголов… Они же все друзья. Это же все для смеха, как бы шутейно. Непонятно лишь, почему он сам не смеется, а кричит так, будто его князь совсем глухой. Нет, Святозар вовсе не глухой, он прекрасно слышал, что тот выкрикнул перед тем, как упасть: «Проклят!» А кто? За что? Ничего не сказал. Загадка? Для смеха?»
Святозар оглянулся по сторонам и вдруг как-то неожиданно осознал, что ничего смешного тут нет, да, пожалуй, и не было. И кровь, и стоны, и стрелы в спинах — это все настолько всерьез, что дальше некуда, что павшие не поднимутся с земли, как и раненые, потому что вот эти поганые вонючие басурмане сейчас обходят их и деловито добивают стонущих.
«Да кто же их впустил в крепость?! — возмутился он, побледнев от негодования. — Как эти жалкие человечишки сумели оказаться внутри?!»
И тут же вспомнил: «Ворота! Они сами открыли для них ворота! Господи, какие глупцы! Они, что — ослепли?! Они не видели, кто перед ними?! Кто повелел так сделать?!»
И в ту же секунду к нему пришел ясный четкий ответ: «Ты!»
Поначалу он даже отмахнулся от этой беспощадности, но внутренний голос не утихал, звеня и перекликаясь, то звонко-насмешливо, то грозно-негодующе: «Ты! Ты!! Ты!!!»
В ужасе князь заткнул уши, но ему стало еще хуже, потому что раздался выкрик, который он на самом деле слышал последним:
— Проклят! — И тут же с разных сторон, наперебой: — Вовеки проклят! Будь ты проклят, Иуда!
«Это я — Иуда?!» — возмутился он, но тут же обмяк, с ужасом осознав, что да, именно он и никто другой, и именно Иуда, и еще Каин, потому что сейчас на его глазах убивали его братьев по оружию, по тому истинному боевому братству, которое не сравнить и не спутать ни с каким другим, потому что оно выше любого. Выше, чище, красивее и горделивее. Их убивали, а он и пальцем не пошевелил в их защиту. Их убивали, а он в это время… смеялся.
«Господи! Да я ли это был! Мне ли виделось все таким забавным?!» — взвыл он.
Лицо его словно окаменело, цветом уже ничем не отличаясь от девственно чистого снега, который намела недавняя вьюга в крепостной ров с замерзшей водой.
Где-то глубоко внутри него уже клокотал дикий звериный крик, который все шел, но никак не мог вырваться наружу. Святозар знал, что когда он вырвется, то ему полегчает, пусть немного, самую капельку, но хоть сколько-то. Ведь нельзя же держать в себе такой огромный воз боли, такую дикую ярость, злобу и ненависть, направленные только против себя самого, потому что истинно виноватых, кроме него, нет.
Монголы? Бурунчи? Да, они враги, подлые и грязные. Они и действовали, как им надлежит, — подло и грязно. Тут как раз нечему возмущаться и не на что злиться. Они поступили согласно своей породе, потому что змея одинаково кусает и тех, кто наступит ей на хвост, и тех, кто отогревает ее на груди. Но вот он, Святозар, князь и сын царя всея Руси Константина Володимеровича…
«Стоп! А как же батюшка?! Его-то я за что опозорил?! Ему же теперь вовеки от клейма отца Иуды не отмыться! Господи! — взмолился он, устремив налитые слезами глаза в небо. — Услышь меня! Пускай потом муки адские! Так мне и надобно! Но сделай ты хоть что-то сейчас со мной! Нешто можно такое стерпеть!»
* * *
Святозар же иуда, корыстию влекомый, повелел пустить нечестивых в град Яик, и вошед в детинец поганые и избита воев Яика, а Святозар зрил оное и ликовал великыя радостию и смехом громким. Тако оному человеку и на роду бысть начертано, ибо сказано в Писании: «от греховьнаго бо корени злу плоду бысть».
Из жития самодержца Константина, писанного Софронием Рязанским Издание Российской академии наук. СПб., 1805Глава 9 Союз против союза
И бегут, заслышав о набеге, Половцы сквозь степи и яруги[53], И скрипят их старые телеги, Голосят, как лебеди в испуге. Н. ЗаболоцкийМультек — властолюбивый брат хана Волжской Булгарии, не угомонился и после того, как стало окончательно ясно, что на ханском престоле ему не бывать. Одно время он еще питал надежду на то, что является наследником брата, у которого нет сыновей.
Но вначале родила старшая дочь Абдуллы, вышедшая замуж за царевича Святослава. Потом, буквально на следующий год, две жены Абдуллы с разницей в пару месяцев осчастливили его сразу двумя сыновьями — Алимбеком и Алтынбеком. Это был полный крах.
Мультек затих, но успокаиваться не собирался. О том, чтобы совершить переворот самостоятельно, он даже не помышлял, ибо — глупо. Брат показал себя властным, но рачительным хозяином, да и не на кого Мультеку было опереться.
Купеческое сословие, которое всегда было весьма влиятельной силой в торговой Булгарии? Об этом не стоило и мечтать. Они-то как раз чуть ли не самыми первыми оценили все выгоды мирного соглашения с Русью и воцарившиеся на Волге порядок и спокойствие. Пусть за это надо отдельно платить русскому царю, но эти гривны себя полностью окупали.
Особенно их потрясло, когда за разграбление бул-гарского каравана люди Константина, не долго думая, вздернули на крепких пеньковых веревках лихих новгородских ушкуйников, пойманных на татьбе с поличным. Коли русичи вешают русичей за обиду, причиненную булгарину, это дорогого стоит. К тому же больше грабежей не было.
А взять волок между Волгоградом и Волгодонском, благодаря которому можно было неизмеримо быстрее попасть в тот же Константинополь и другие города Средиземноморья. За счет такого удобного пути времени экономилось чуть ли не втрое, а что такое скорость оборота — скажет всякий маломыслящий в торговом деле.
Помимо этого каждый булгарский купец имел немалые льготы. Все, кто получал от Абдуллы особую грамоту с внушительной ханской печатью, платили меньше пошлин. На самом деле скидка была не ахти какая — с двух десятков кун экономилась от силы одна, а то и того меньше, но зато какую гордость испытывали они, протягивая на переволоках эту грамоту. Мы — не кто-нибудь, а из Волжской Булгарии, за нашей спиной не только хан, но и русский царь.
В свое время Зворыка пытался урезонить Константина, говоря о том, что легота своим купцам — дело доброе, но зачем же давать ее булгарам, пусть и гораздо меньшую? Мол, не погорячился ли ты, царь-батюшка. Разговор был один на один, а потому старик получил достаточно откровенный ответ:
— Зверька, особенно если он тихий, лучше приручать лаской. И быстрее, и царапин меньше, — заговорщическим шепотом произнес Константин и хитро подмигнул.
Зворыка только крякнул от неожиданности — ишь как далеко глядит государь — и больше разговоров об этом никогда не заводил.
Словом, с купцами о таком лучше не заикаться, потому что если не этим вечером, так следующим наверняка о его неосторожных словах будет знать ненавистный Абдулла. Тогда что? Попытаться обратиться к духовенству? Мультек попробовал, осторожно давя на то, что его брат стал некрепок в вере, коли позволяет строительство храмов для иноверцев, да еще оплачивает его из собственной казны.
Но и тут его ждала неудача. Настоятели мечетей и прочие духовные лица, разумеется, морщились, когда в их городах стал раздаваться радостный звон колоколов, зовущих православных на службу в храм. Морщились, но натравливать прихожан на иноверцев не спешили.
Купцы немало понарассказывали об ужасах, которые творились в Бухаре, Самарканде, Ходженте, Мерве и в прочих местах, на которые вихрем налетела прожорливая монгольская саранча. Да, конечно, потом Чингисхан повелел не трогать мечети, ма-зары и другие святые для мусульман места, но поначалу его воины несли только кровь и смерть, огонь и разрушение, оставляя за собой горы трупов и огромные пепелища.
А для кого поставлены эти храмы? Разумеется, в них может помолиться любой человек, исповедующий православие. Но в первую очередь они выстроены для русских воинов-пушкарей, то есть защитников булгарских городов, и настраивать против них жителей не собирался ни один имам.
Тем более что в каждом городе три четверти населения так или иначе завязаны на торговле — либо изготавливали товары, как ремесленники, либо напрямую осуществляли торг ими. Если сегодня пушкарей изгнать из города, неизвестно, что сотворит в отместку царь Константин. Хотя, нет, это как раз известно. Нехорошее он сотворит, очень нехорошее. Такое, что мало никому не покажется.
Нет уж, пусть себе звонят колокола, и пусть в православных храмах молятся люди, закосневшие в своем невежестве, почитающие человека не за пророка, пусть и великого, равного самому Мохаммеду, но за бога[54]. Им же хуже, ибо на том свете, под тяжестью своих грехов, они непременно свалятся с Сираха[55] и никогда не смогут упиться благоуханным райским вином и насладиться пышногрудыми красавицами гуриями.
У Мультека оставалась только одна надежда. В каждом государстве, как бы оно ни процветало, как бы хорошо ни жили его граждане, всегда есть недовольные, причем не те, кто пребывает внизу, но те, кто вверху. Завистливые по своей натуре, они всегда будут возмущенно ворчать, считая, что их незаслуженно обошли, обделили, а другим дали гораздо больше.
К сожалению для Мультека, помимо злого языка, они не имели никакой реальной силы. Но зато кто-то из них в недобрый час сумел подсказать брату хана неплохую мысль — если Абдулла имеет сильного союзника, то и ему, Мультеку, неплохо обзавестись таким же. Тогда один союз нейтрализует другой. А еще лучше, если не только нейтрализует, но и перевесит силы прежнего.
Особого выбора Мультек не имел. Лишь одно государство было настолько мощным, что могло не просто на равных соперничать с Русью, но и одолеть ее. Во всяком случае, он, Мультек, не слыхал, чтобы эта держава хоть раз проигрывала, кто бы ни был ее врагом. Отдельные битвы — да, это случалось, но войну в целом — никогда.
Словом, не прошло и полугода, как эмир послал первого тайного посла к великому каану Угедею, затем второго, третьего… Наконец Бату, два года назад прибывший из далеких земель бывшей империи Цзинь, прислал с надежным арабским купцом ответную тайную грамотку. В ней говорилось о том, что правитель улуса, которому его великий дед подарил земли всех этих стран, включая Волжскую Булга-рию и Русь, готов милостиво склонить свое ухо к просьбам Мультека.
Более того, хан Бату готов выслать свои тумены, дабы скинуть непокорного Абдуллу, а заодно и Константина, которые забыли, что даже дышат лишь потому, что это дозволяет им его дядя — великий ка-ан Угедей. Но он, Бату, мириться с этим не желает. Однако и Мультек должен быть готов оказать ответную помощь. Разумеется, хан справится со своими врагами и без него, потому что никто и никогда не сможет устоять перед неустрашимыми монгольскими туменами, но в этом случае эмир не должен ни на что рассчитывать.
Переписка длилась вплоть до злополучной битвы близ Оренбурга, после чего очередной вестник на словах передал Мультеку краткое повеление Бату: «Я уже иду. Делай то, что обещал».
И Мультек начал делать. Сперва он уговорил брата Абдуллу остаться в Биляре, ссылаясь на то, что если тот покинет столицу, то в городе незамедлительно начнется паника.
— Но кто поведет наших воинов, если не я? — растерялся хан.
— А если Бату окажется хитрее и сумеет перехватить их на полпути к Сувару? — коварно осведомился Мультек. — Это же верная смерть. И на кого останется вся страна? Или ты предпочитаешь доверить двух сыновей мне, своему брату? — И проницательно посмотрел на Абдуллу, заранее зная, что тот ответит.
Угадать и впрямь было не трудно. Хан, да простит ему аллах такие греховные мысли, скорее согласился бы доверить сыновей иблису, чем своему единокровному брату Мультеку.
— Хорошо, полки поведешь ты, — кивнул Аб-дулла.
— Я сделаю все, чтобы задуманное осуществилось и победа была одержана, — торжественно поклялся Мультек, но Абдулла даже не понял, насколько двусмысленно прозвучали слова брата.
В полной мере хан осознал это, лишь когда до него дошла горестная весть о том, что Мультек намеренно подвел войско вплотную к туменам Бату и потребовал от воинов, чтобы они принесли присягу ему, Мультеку, который обещает защитить и их, и страну от монгольского разорения. Часть недовольных была быстро перебита, а остальные, видя плотное кольцо окружения, готовое вот-вот раздавить их, выбрали жизнь, хотя вместе с нею им пришлось принять еще и предательство.
Первая встреча с Бату не обрадовала булгарина. Хан вел себя с Мультеком надменно, как с обычным данником. Зато он привел с собой огромное войско, самодовольно похваставшись, что это лишь половина его воинов, а остальных Гуюк, Кулькан, Менгу и прочие чингизиды увели прямо на Рязань. — Но для твоего брата вполне хватит и моей половины, — усмехнулся Бату.
Увидев, сколь велика даже эта половина, эмир Волжской Булгарии понял, что не ошибся и сделал правильный выбор — такой силе противопоставить навряд что возможно.
Первое, что потребовал монгольский хан от Мультека, так это то, что Сувар должен дать дань и открыть ворота. На последнем Бату не настаивал бы, но Сувар имел на стенах пушки, а что такое «огненный бой» в умелых руках, Бату успел понять еще летом, когда русские полки, присланные на учебу к берегам Яика, устроили небольшую пристрелку.
— Грохоту много, и если человек труслив душой, то напугать его это может. Но испуг быстро проходит, а если у воина храброе сердце, то его не будет вовсе. Тогда зачем все это? — снисходительно усмехнулся Бату, уже сталкивавшийся с подобным в ходе войны с чжурчженями[56].
Те тоже бестолково суетились возле своих деревянных колод, туго стянутых веревками, что-то там поджигали внутри, после чего стволы иногда разрывались, а иногда оттуда вылетали мелкие камни и прочая дребедень, которую туда закладывали.
Летели они недалеко, да и причиняли в основном легкие ссадины и царапины. Лишь в очень редких случаях, ну, скажем, когда камень попадал в висок, следовала смерть человека. Бату впервые повстречался с ними при взятии одной из столиц империи Цзинь, то ли Кайфына, то ли Цайджоу, и вначале пришел в восхищение.
Однако оно быстро развеялось. Для этого хану хватило всего одной короткой беседы с даругачи[57] камнеметчиков Аньмухаем, который имел золотую пайцзу с головой тигра[58] от самого Чингисхана. Со-трясатель вселенной не раз советовался с ним, какие камнеметы лучше применить при взятии того или иного города.
— Они подобны глупому зверю, который, рассвирепев, может убить как своих, так и чужих, — презрительно отозвался об этих китайских колодах Ань-мухай. — Куда лучше огненные стрелы[59], которые ты запускаешь своей рукой и можешь поджечь ими дома в любом городе.
Его поддержал и Сили Цяньбу, пояснивший, что те же огневые кувшины[60] приносят гораздо больше пользы, а закинуть их в город может любой камнемет.
— А если надо пробить стену или взломать городские ворота, то тут тоже лучше хуйхуйпао[61] ничего не найти. Он мечет камни недалеко, но зато очень тяжелые, в пятьдесят — шестьдесят и более дин[62], а что может это ничтожество?
Бату вопросительно посмотрел на Аньмухая. Си-ли Цяньбу происходил из змеиного племени тангу-тов. Он добровольно перешел на службу к его деду, но юный хан тангутов не жаловал и, как следствие, не больно-то им доверял. Аньмухай же был чистокровным монголом из рода баргутов, и его словам можно верить, к тому же он даругачи всех камнеметчиков, а значит, стоит выше Сили Цяньбу. Но Аньмухай подтвердил истинность слов тангута, и Бату их запомнил.
Поэтому он сперва и отнесся к русским пушкам так насмешливо, сочтя всю эту пристрелку лишь жалкой попыткой произвести на него впечатление, но Святозар искренне обиделся и предложил Бату проверить орудия в деле:
— Поставь в то место овечью отару, если тебе ее не жалко.
Хан пожал плечами, но на следующий день через русского князя приобрел у местного племени — не везти же скотину через Яик — два десятка овец. Сразу после первого выстрела Бату смог убедиться в том, что картечь сделала свое дело, повалив больше половины отары.
«А если бы на том месте были кони, а на них — мои люди? — подумал хан. — И ведь с одного-единственного раза. Бр-р-р», — и передернулся.
Было с чего.
С таким грозным оружием каан Руси Константин и его люди и впрямь могли держать голову высоко и никого не бояться. До поры до времени.
Он тут же отправил гонца к Угедею с просьбой прислать ему вместе с обещанными туменами еще и мастеров камнеметного дела, которые, как пообещал хан, смогут не только помочь, но и сами кое-чему научатся.
Великий каан не поскупился, выслав ему Сили Цяньбу, Сюэ Талахая и многих других знатоков этого дела. Правда, Аньмухай не прибыл, но зато прислал вместо себя сына Тэмутара, которого Бату, не долго думая, назначил даругачи надо всеми остальными.
Они-то и должны были после взятия Оренбурга как следует разобраться в устройстве пушек и решить, как их дальше использовать. К сожалению, после одержанной победы в живых не осталось ни одного русского пушкаря.
Когда последовал стремительный удар в спину русского войска, то две сотни воинов, которые предназначались для защиты пушкарей, несмотря на внезапность, сумели на какие-то секунды сдержать натиск врага. Этих коротких секунд воеводе Богораду, началующему над всеми пушкарями, хватило на то, чтобы подбежать к запасам огненного зелья и ткнуть в него горящей головней, выхваченной из костра.
Его не смутило, что почти все пушкари находились поблизости от саней с припасами, а некоторые, чтобы лучше разглядеть творящееся впереди, даже забрались на них. К тому же у него имелся строгий приказ государя, который и без того мог быть выполнен лишь наполовину — пушки все равно попали к монголам. Но уж вторую половину Богумир выполнил — попасть-то они попали, но без огненного зелья и без единого умельца, способного на первых порах разъяснить мастерам-камнеметчикам, как с ними обращаться.
Про Оренбург же Бату и не давал никакой особой команды относительно пушкарей — кто ж знал, что их не удастся заполучить в том войске. Получалось, что надо разбираться самостоятельно, а это гораздо дольше.
Бату на всякий случай повелел опросить урусов, уцелевших после резни, учиненной в крепости. Повелел, даже не надеясь на что-то хорошее, но тут судьба преподнесла ему подарок. Знающий человек и впрямь нашелся. Назвавший себя Гайраном в обмен на жизнь и мешок золотых монет пообещал научить монголов «огненному бою».
О том, что случилось дальше, хан не хотел даже вспоминать. Страшное зрелище предстало перед глазами Бату, когда он, услышав чудовищный грохот, самолично поднялся на стену. Какую именно каверзу сотворил пушкарь, было неясно, а узнать не у кого — Гайран погиб вместе со всеми китайцами, чжурчженями и прочими знатоками камнеметного дела. Не нашли даже его тела. Да и немудрено. Он находился ближе всех к злополучному орудию, а потому ему и досталось побольше остальных. Впрочем, это было слабое утешение, поскольку прочим тоже перепало изрядно.
Кислый запах огненного зелья витал в морозном воздухе, смешиваясь с тошнотворной вонью человеческой крови и вырванных внутренностей. Не уцелело ни одного человека из числа тех, кто находился рядом с пушкарем, включая Тэмутара, который руководил всеми.
Гайран все рассчитал отменно. Он поминутно спрашивал у Тэмутара, не обманет ли его великий хан при расчете, сдержит ли свое обещание про мешок золота, да как велик этот мешок, вызвав к себе легкую брезгливость и окончательно притупив бдительность. К тому же знатоки не боялись страшного грохота, поскольку и раньше не раз сталкивались с порохом, а потому все, как один, пожелали присутствовать на испытаниях.
К тому же он так важно распинался о том, как хорошо он ведает в пушкарском деле, так деловито рассказывал о всех пропорциях, которые нужно закладывать, что не верить ему не имело смысла. Не утаил он и об особенностях стрельбы.
— Ежели надобно отбиться от воев, лезущих на стены, — тут послабже заряд, — вещал он уверенно. — А ежели огнь требуется вести тяжелыми чугунными ядрами, дабы пробить ворота али сотворить дыру в стене, — тут уж от души бухай, но тож с умом. Однако у нас в народе сказывают, что лучше разок узреть самолично, нежели сто раз про то услыхать. Вот я покажу, а вы и сами все поймете.
Проведав, что Тэмутар у монголов за главного, Гайран сделал все, чтобы тот погиб в первую очередь, поставив его рядом с собой. Да и остальных он разместил таким образом, чтобы шансов на спасение у них не осталось. Что уж он там им наплел — теперь не расскажет никто, но воины из числа часовых, стоящих неподалеку, видели, что храбрый Тэмутар даже нагнулся к орудию, когда пушкарь поджигал фитиль.
Это был уже второй выстрел — первый произвели картечью. Затем, чтобы показать наглядно, как ядро сносит ворота, Гайран попросил установить в степи их подобие, после чего заложил в пушку целых пять мешочков с порохом.
Он не допустил ошибки. Никто из монголов не мог и предположить, что в каждом из этих кульков уже содержится строго отмеренное количество пороха, достаточное для выстрела, что закладка даже двух мешков одновременно уже чревата, невзирая на имеющийся у пушек запас прочности, а пять — это чистой воды самоубийство, причем самоубийство, совершаемое наверняка…
Но всего этого Бату не знал и потому, справедливо рассудив, что где сыскался один Гайран, там непременно найдется и второй, решил поступить следующим образом. Оставив пять сотен в Оренбурге, он, не желая тратить время, забрал с собой все пушки и ядра, которые имелись в крепости, а Святозара вместе с княжичем Николаем направил в Яик. Их сопровождал тумен Бурунчи.
Темника он строго-настрого предупредил, чтобы тот не поступал так безрассудно, как тысячник Кар-ши, не вырезал всех огульно, а часть оставил бы в живых. Главное же, чтобы он как зеницу ока берег самого князя, которому теперь отводилась чуть ли не самая главная роль как в захвате Яика, так и в последующей работе с пленными пушкарями, которых надо заманить, улестить, соблазнить и прочее — лишь бы они согласились вступить в монгольское войско.
Срок хан отвел для Бурунчи на все про все самый малый — две недели. Учитывая, что расстояние до Яика составляло не меньше шести дневных переходов — и впрямь впритык. Бурунчи клятвенно заверил Бату в том, что управится, но что еще ему оставалось?!
Пока же они не прибыли, Бату мог только пугать противника этими пушками, которые он вез в своем обозе, а вот воспользоваться новым оружием — увы. Дожидаться же Бурунчи ему не хотелось, тем более представлялся удобный случай овладеть крепостью без боя.
Немного подумав, он смягчил требования для жителей Сувара:
— Ворота пусть откроют лишь для того, чтобы выдать мне русичей, вместе с их пушками и припасами. Сам же я заходить в город не собираюсь.
Обо всем этом Мультек и сказал старейшинам и имамам. Ну и от себя немного прибавил — не без того. Мол, не глупцы же вы — пропадать из-за каких-то русичей. Пользуйтесь, пока хан такой добрый.
По здравому размышлению жители так и поступили бы. В конце концов, своя рубаха к телу завсегда поближе. Коли чужой жизнью можно откупиться — цена невелика. Потом что угодно кричи, предатели, мол, клятвопреступники и прочее. Ответ на все это готов — зато мы живые.
И про предательство, если уж так разбираться, — напраслина. Они сами ничего никому не обещали и клятвы на верность не давали. Хан Абдулла с царем Константином уговор заключал — вот с него и спрашивай. А мы что ж — люди маленькие.
Да и кто сумеет отбиться от такой силищи? Вот и выходит, что этим пушкарям, когда город возьмут, все одно пропадать, только тогда уже вместе с ними самими. А не лучше ли, чтобы эти русичи, как оно в их святых книгах прописано, сами на себя мученический венец надели? Их пророк Христос, которого они по недомыслию считают богом, за такое на том свете непременно всем воздаст, да еще с лихвой. Стало быть, и им хорошо будет на небесах, и нам неплохо.
Но Мультек забыл одно. Дело-то происходило в Суваре. В любом другом городе, кроме разве что Саксина, именно так все и вышло бы, а тут…
Давняя это история. Когда-то булгары жили вроде и дружно, но каждое племя все равно на своей территории. Барсилы больше селились по правобережью Камы, они же основали и город Биляр. Эсегелы жили вниз по Итилю[63], их столица называлась Ислой или еще Ошелем.
Сувары же размещались чуть южнее барсил, но севернее эсегелов. Словом, посередке. Самый главный град у них так и назвался по имени племени — Сувар. Напротив них, на правом берегу Итиля, сидели бургасы, о прочих же говорить долго, да и ни к чему. Речь о другом.
В те же стародавние времена у племен шел негласный спор — какое из них главнее. А как его разрешить? Да проще простого. Из какого племени эмир или хан, как его в народе называли, у того и старшинство. И как-то так вышло, что ханы все больше из барсил были. Они и сами о том не забывали, именовали себя ханами булгар и барсил, то есть все прочие племена в кучку, а свое — наособицу. А потом для солидности и еще кое-что придумали — мы-де из рода серебряных булгар. А все прочие — медные, что ли?
Дольше всех этому возвышению барсил противились именно сувары. У вас Биляр, а у нас Сувар, вы в Булгаре, а мы в Саскине. Однако лет двести назад и они сдались, признав над собой верховенство властителя Булгара.
Но при правлении последнего хана в них вновь проснулась гордость, поскольку по отцу Ильгам ибн Салиху Абдулла был самым настоящим барсилом, зато по матери он доводился сродни жителям Сувара.
Если бы у Мультека мать тоже была суваркой, тогда еще куда ни шло. Но у них с Абдуллой родство имелось лишь по отцу, а потому очень уж обидно показалось горожанам. Пришел из степи какой-то неведомый чужак и начинает свой порядок устанавливать — ни за что одного хана скидывает, другого ставит, дань требует, да еще с Русью рассорить норовит.
А наш родной хан Абдулла, между прочим, старинную клятву дал князю Константину, который тогда еще в князьях хаживал, да не простую, а священную[64]. Ее нарушить нельзя, Аллах не простит.
Так что теперь получается — камень всплыл, или, может, хмель утонул? А если нет, тогда разве могут они с русичами так поступить? Или суварцы наособицу от хана? Да нет, наоборот как раз.
Начинались разговоры тихо, мирно, степенно, без излишней суеты, как и подобает торговым людям. Закончились же криком, шумом, гамом… как и подобает торговым людям. Словом, отправили горожане людей Мультека обратно несолоно хлебавши. Можно сказать, послали, и лишь Аллаху ведомо — куда именно. Ишь, нахватались от пушкарей.
К тому же хан Абдулла по совету и примеру русского друга успел за два десятка лет одеть стены самых крупных своих городов в каменные рубашки, хотя сделать это было задачей не из легких. Абдулла из-за этого вынужден был даже отказаться от строительства насыпных валов по рекам Черемшану, Кондурае, Ику и Шешме.
А куда деваться, если только периметр стен столицы Булгарии — Биляра составлял около шести километров, а у града Булгара и того больше. Но чего у местных жителей было не отнять, так это трудолюбия. Если уж даже лентяй, когда речь идет о сохранении собственной жизни, не задумываясь, закатает рукава и будет вкалывать до седьмого пота, то что уж говорить о булгарах.
У хана Абдуллы стимулов имелось целых два. Помимо того, что камень и впрямь прочнее дерева, царь обещал выделить на каждый из перестроенных городов не меньше десятка пушек, отливать которые булгарские ремесленники еще не умели, а Константин учить их этому не спешил.
Слово он свое сдержал с лихвой. Для Сувара государь дополнительно выделил еще двадцать малокалиберных орудий, специально приспособленных для ведения фланкирующего[65] огня картечью из башен, выступающих из стен.
На Биляр и Булгар он дал и вовсе по пятьдесят, отчего Вячеслав даже ворчал на друга, поскольку такого количества не имели даже его войска. Первую полусотню малокалиберных полевых пушек верховный воевода получил давно, еще лет семь назад, но после этого все орудия отправлялись только в города, да и то…
Санкт-Петербург, Динаминде с Ригой и Ревель на севере, Судак, Азов, Корчев и еще пяток городов в Крыму, а также Дербент на Кавказе, Ярославль, Червень, Ростиславль Красный на Пруте и Дунайск в устье Дуная их имели, а вот внутри страны пушками ощетинились лишь стены Рязани, Ряжска и Ожска, да еще Мурома — из-за близости с неспокойной мордвой, а также Нижнего Новгорода, который также считался рубежным городом.
Восточные форпосты на Волге и Яике, разумеется, тоже получили артиллерию, причем в первую очередь. Сразу после них Константин принялся снабжать орудиями своего союзника, но пушкарским делом в Булгарии заправляли исключительно присланные русичи.
Для их проживания в своих городах Абдулла выделил по целому кварталу. В них же разместились литейные мастерские, в которых десятки булгарских ремесленников трудились над изготовлением гранат и ядер, а также заготавливали порох. В подвалах башен были устроены склады, где все это хранилось.
А еще Абдулла, согласно договора, выстроил в каждом из этих кварталов прекрасную баню, уступающую Ак-пулату[66] разве что в роскоши внешней и внутренней отделки, да в размерах. Там же он поставил каменные храмы, высота куполов у которых была всего на пару-тройку метров поменьше, чем у главного минарета города.
Словом, пушкари жили под двойным благословением. К одному они приобщались в церкви, а другое призывали на них сами горожане, прекрасно понимая, что Аллах слишком далеко и чересчур высоко, так что когда придут монголы, то реальной помощи они гораздо быстрее дождутся от русичей, чем от своего небесного покровителя.
Как назло, именно в то время, когда суварцы решили показать кукиш великому джихангиру, в шатре у Мультека сидел сам Бату. Увидев расстроенные лица послов, он сразу понял, с чем они явились к своему господину и какой ответ с собой принесли. Разве что в словах ошибся, да и то не угадал самую малость.
Посмотрев на разгневанного чингизида, Мультек заторопился с просьбой дать ему еще одну попытку.
— В гордости, да сгоряча, чего только не скажешь, — убеждал он монгола, обиженно надувшего губы. — Вот завтра проснутся и непременно каяться начнут. Глядишь, сами на поклон прибегут.
— А не прибегут, тогда шесть моих и два твоих тумена живо научат их вежливости, — добавил Вату, но новую попытку разрешил.
Не из-за доброты — ею и не пахло. Во-первых, хан хотел соблазнить жителей всех прочих городов примером Сувара, а во-вторых — заполучить русских пушкарей. Очень уж он опасался, что во время штурма его рассвирепевшие воины снова забудут о предупреждении и вырежут всех, тем более что русичи, как пить дать, встретят монголов, держа в руках не хлеб-соль, а оружие.
Мультек выждал сутки — пусть горячие головы немного остынут — после чего вновь подослал к городу своих людей. Народ к тому времени и впрямь успокоился, но совсем не так, как надеялся новоявленный союзник монголов. На смену отчаянной решимости пришло хладнокровие и трезвое осознание того, что просто так враг не отступит, а значит — быть осаде.
Горожане трудились деловито и споро. Кто тащил на стены котлы и смолу, кто волок туда дрова, а кто уже примерял старую дедову кольчугу, сокрушаясь, что она маловата, и точил мечи да сабли. Словом, без дела никто не сидел.
Даже женщинам нашлась работенка — заготавливать чистые тряпки и драть на полосы льняные полотнища, дабы было чем перевязывать раненых. Тут же суетились и дети. И им дело нашлось. Одного снегу сколько перелопатили, собирая огромные кучи поблизости каждого дома. Было бы лето — бегали бы с ведрами за водой, заполняя здоровенные бочки, но зимой этим заниматься глупо — ударит мороз посильнее, и сразу ни бочек, ни воды, которая, смерзшись в лед, тут же их разорвет.
Хотя с водой тоже пришлось побегать. От колодца к стене, подняться наверх, выплеснуть ее наружу и бегом назад. Один раз легко, другой — не страшно, да и третий тоже, а если целый день напролет? К вечеру еле плелись, расходясь по домам, но на лицах — радость. А как же иначе. Теперь и их вклад в оборону имеется — не один враг, поскользнувшись на обледенелой земле, свалится обратно в ров.
Узнав о повторном отказе суварцев, Бату только скрипнул зубами и повелел изготавливать камнеметы. Не зря старый Субудай учил малолетнего хана, что настоящий полководец должен знать и уметь все. Лишь тогда ему ласково улыбнется с высокого Вечного Неба суровый, но справедливый Тенгри. Бату умел.
Да, да, изготавливать. Это ведь спустя века на картинках в книжках будут нарисованы бесконечные вереницы катапульт, таранов и прочих орудий, которые следуют в длинном монгольском обозе к очередной вражеской крепости.
На самом же деле все было гораздо проще. В поход монголы брали только то, что долго делать или чего могло не оказаться под рукой, например крепкие кунжутные веревки или какие-нибудь редкие ингредиенты горючих смесей. Все же остальное они быстро и споро добывали по прибытию на место, потому что дерево, камень, сыромятная кожа и прочее лежало, росло и паслось возле любого осажденного города.
Строительство велось споро и даже нагло, то есть в непосредственной близости от Сувара. Хан надеялся, что осажденные не выдержат и сделают вылазку, чтобы попытаться разрушить камнеметы, но воевода, который руководил горожанами, видимо, знал, как легко во время отступления принести врага в город на своих собственных плечах.
К тому же, как оказалось, у осажденных было и еще одно средство борьбы, гораздо более эффективное и безопасное. В этом Бату убедился на третьи сутки, когда его воины соорудили первый десяток камнеметов. Конечно, такого количества было явно мало[67], так что их изготовление продолжалось вовсю, но не простаивать же тем, которые уже готовы к стрельбе. Начать ее было решено еще в предрассветных сумерках, чтобы все жители города испуганно вздрогнули, пробуждаясь от каменного грохота, и пожалели, что оказались такими упрямыми и заносчивыми.
Но раннее пробуждение ждало в то утро самого Бату. Кошма, на которой он спал, ощутимо содрогнулась, передав недовольную дрожь потревоженной земли, и Бату вылетел наружу в чем был. Зрелище, которое предстало перед его глазами, порадовать не могло. Пять мощных пушек, выставленных в рядок, сделали свое черное дело — ядра, выпущенные залпом, изувечили сразу три катапульты. Еще одна была задета вскользь, пятый выстрел пришелся мимо цели.
Пока Бату остолбенело разглядывал разрушения, грянул второй залп. Он оказался не таким удачным, как первый, изувечив только две катапульты, включая задетую первым выстрелом.
Но больше всего хана взбесили даже не эти разрушения, а ликующие крики горожан. Казалось, на стены вышли все от мала до велика, ибо это был их час — час торжества и первой, пусть пока маленькой, победы над врагом.
— Скачи к Мультеку и передай, что я повелел немедля откатить камнеметы подальше, — повелел он одному из караульных, прекрасно понимая, что это далеко не лучший выход из положения.
Действительно, все катапульты стояли в каких-то двухстах метрах от городских стен, отчего пушки и накрыли их своим огнем. Чтобы их спасти, необходимо было немедленно удалить их хотя бы еще на столько же, не меньше, а то и вообще поставить рядом с двумя стрелометами. Вот только зачем? Что толку спасать хлам, который на такой дистанции просто бесполезен.
Тем не менее приказ свой он отменять не стал, с некоторым злорадством наблюдая, как Мультек бестолково суетится и истерично кричит на своих людей. Наконец беку удалось отправить к катапультам несколько десятков воинов, которые сразу после третьего залпа в паническом страхе тут же ринулись обратно.
Дальше смотреть Бату не стал. И без того понятно, что затея с катапультами обречена на провал. Подтянешь на дистанцию выстрела — разобьют в щепки, отодвинешь подальше — они станут непригодны для дела.
Рухнув обратно на кошму, он угрюмо задумался. Прошло только шесть дней из того срока, который он отвел Бурунчи. И что теперь делать? Сидеть в ожидании, сложа руки или…. Хотя зачем сидеть? И мстительная улыбка осветила его лицо.
Булгары не хотят открыть ворота своему хану, которого он, Бату, назначил на эту должность. Так чья это в первую очередь беда — монголов или Мультека? Наверное, все-таки его. Тогда пусть идет и сам берет этот город. В конце концов, у него два с половиной тумена, которые должны не сидеть сиднем, а сражаться. А если не захотят, ну что ж — придется заставить. Эта задача была как раз не из тяжелых.
* * *
По одной из версий, которая звучит достаточно убедительно, Бату принял окончательное решение выступить на стороне Святозара именно после того, как молодой князь нашел еще одного влиятельного союзника, и тоже из числа обиженных судьбой, в лице родителя.
Им оказался бек Волжской Булгарии Мультек — родной брат Абдуллы ибн-Ильгама. Такой тройственный союз в перспективе сулил немалую выгоду монголам, и потому Бату дал согласие, после чего тут же принялся добросовестно отрабатывать взятые на себя обязательства. Поэтому он и был вынужден действовать сразу в двух направлениях, бросив половину туменов на Рязань, а с оставшимися ринулся на булгар.
Албул О. А. Наиболее полная история российской государственности. Т. 3, с. 269. СПб., 1830Глава 10 Стояние
И вот по долам и холмам Расползся страх, как призрак серый. Крестьяне бросили дома, Ушли в болота и пещеры. В лес уведены стада, Мычат в тоске. Беда! Беда! Грустят невесты, плачут жены, Но стоек ратник непреклонный. Вальтер Скотт— Ты снова пришел ко мне, хотя не взял своего города! — взревел Бату, увидев перед собой Мультека на четвертый день безуспешных попыток взятия Сувара, и грозно предупредил булгарина: — Если такое продлится и далее, то ты и твои люди можете оказаться рядом с этими непокорными жителями.
Слово «рядом» из уст Бату звучало грозно, особенно если знать, что, согласно Ясе Чингисхана, как только враг, отклонив требование о сдаче, выпускал с крепостных стен хотя бы одну стрелу или в осаждающих летел хотя бы один камень, пущенный из катапульты, защитники города обрекались на смерть. Сабля монголов тут же заносилась над их головами, и даже если потом люди, видя безнадежность своих попыток отстоять крепость, шли к завоевателям с изъявлением покорности, значения это уже не имело. Все равно Чингисхан, а потом его дети и внуки уже не убирали оружие в ножны.
Рассчитывать на что-то могли лишь красивые женщины и ремесленники из числа самых искусных, да и то потом многие горько сожалели о том, что не погибли сразу, — для иного муки рабства зачастую горше смерти. Свирепый сотрясатель вселенной мог и пошутить, дав пленным призрачную надежду на спасение, но все равно они были обречены.
За три дня штурма Бату потерял почти полтысячи своих воинов из числа тех двух с половиной тысяч, которых он дал Мультеку в качестве десятников, сотников и тысячников, и пришел к выводу, что теперь он точно так же подшутит над пленными, как и его дед после взятия Ходжента. Только он не станет устраивать бои между женщинами[68] — ни к чему повторяться, а придумает что-то свое. Что именно — Бату не знал, но он с этим не спешил. Время у него было. Сувар стоял насмерть и сдаваться не собирался.
Да, он непременно что-то придумает, но пощады не даст никому, вырезав всех от мала до велика. Разве что оставит на время хашар[69], потому что воинов Мультека, безуспешно штурмующих каменные стены, для взятия всех крепостей Волжской Булгарии будет явно недостаточно. Не меньше половины, если не три четверти из них ляжет под Суваром, а ведь есть еще Саксин, Биляр, Булгар и прочие твердыни.
Нет, хан не жалел этих воинов. Они сами выбрали свою судьбу. Никто не мешал им в точности выполнять все распоряжения Мультека, полученные тем от Бату. Тогда они так и служили бы во вспомогательных туменах, имели бы право не только на жизнь, но и на законную добычу при взятии города или победы над вражеским войском. Таких в монгольском войске было предостаточно. К примеру, тот же уйгурский тумен, ведомый ныне Барчук-нойоном, или отдельные тысячи киданей, чжурчженей, ханьцев, да мало ли кого.
Булгары же, получив приказ штурмовать Сувар, вновь заупрямились, стали негодовать и даже выказывать свое недовольство вслух. Хорошо, что Бату изначально не испытывал к ним доверия и держал все время в окружении своих воинов. К концу дня попытка бунта оказалась подавленной, после чего Бату вызвал к себе в юрту Мультека и при всех братьях и темниках объявил, что он недоволен ханом Волжской Булгарии и его людьми.
— Настоящий воин обязан выполнять все, что ему повелит десятник. Тот повинуется сотнику, а они — тысячнику. Твои воины ослушались самого хана. За это они заслуживают смерти, но у тебя есть выбор, хан. Или я считаю их воинами и предаю смертной казни, или отныне они станут хашаром. Тогда я могу оставить им жизнь.
Бату не сомневался, что выберет Мультек, и угадал. Тот назвал жизнь. Но в качестве утешения Бату пообещал ему:
— Если они возьмут твой Сувар, сражаясь доблестно и храбро, я подумаю над тем, чтобы вернуть им свою милость.
Прошло три дня, а положение дел не менялось. Булгарские воины, подгоняемые сзади монгольскими копьями и осыпаемые защитниками города насмешками и проклятьями, обреченно шли на штурм и теряли сотню за сотней. Скорбный счет погибших приближался к десятку тысяч, а город все равно держался.
Особенно монголам досаждали пушки. Мало того, что они вносили существенный урон уже в число бегущих на штурм, так их фланкирующий огонь буквально сметал лезущих по лестницам воинов. Убийственная картечь с легкостью прогрызала дыры даже в теле, защищенном доспехами из сыромятной кожи.
Бату не думал, что пушек будет так много. Потом его осенило, что, скорее всего, осажденные сконцентрировали их на наиболее опасных участках. Но когда хан решил схитрить и зайти с другой стороны, то проворные пушкари успели перетащить орудия и туда, так что штурм вновь оказался провален.
Бату злобно покосился направо. В той стороне, у небольшого холма стоял его обоз, а в нем на десятках телег лежали точно такие же пушки, привезенные из Оренбурга и захваченные у войска Урусов в степи, — девять больших и семьдесят маленьких. Они ничем не отличались от суварских, но пока были бесполезным грузом и только. Привести их в действие не мог никто.
Хан изнывал в нетерпеливом ожидании своего темника. А как было бы хорошо направить сейчас жерла всех девяти тяжелых орудий на одну из стен и сделать в ней внушительный пролом. Не получится сразу, так бабахнуть еще раз и еще, а уж потом…
Но дальше фантазировать Бату не стал. Картина, возникшая в его воображении, была настолько сладостной, а возвращение в мир яви столь противным, что хан запретил себе предаваться подобного рода наслаждениям. Он не глупец, который, зажмурив глаза, видит, как он метко посылает стрелу в жирного джейрана. Либо стреляй наяву, либо вовсе об этом не думай.
Разумеется, Бату не бездействовал. Его тумены, пользуясь тем, что в Булгарии остались лишь одни городские гарнизоны, пусть и весьма многочисленные, безнаказанно разоряли страну, грабя все подчистую и сжигая непокорные селища, в которых, правда, мало кто остался из жителей. Заранее предупрежденные ханом Абдуллой, они давно ушли на север, укрываясь в дремучих закамских лесах, и искать их там не имело смысла.
Люди уходили в спешке, но успели забрать с собой всю железную утварь, одежду и прочий скарб, а также угнать домашний скот. Так что ни стоящей добычи, ни полона, предназначенного для пополнения хашара Мультека, редевшего с каждым днем, получить не удавалось.
Вестей от Гуюка и прочих чингизидов Бату тоже не получал, но их и не должно было быть — по расчетам джихангира, они еще находились в пути. Однако все равно нужно поторапливаться. До весны ему предстояло покорить всю Волжскую Булгарию, а он до сих пор копошился под Суваром, который неизвестно когда будет взят.
Братья Бату помалкивали, да и что они могли сказать. К тому же самых старших рядом с ним не было. Тумен Орду-ичена осаждал Булгар, а Шейбани с сыном Бахадуром топтался под Биляром, отстоящим чуть восточнее, в сторону Камы. Тангкут, что сидел подле джихангира, был горяч, но ждать от него мудрого совета все равно что пытаться подоить жеребца. Промучаешься долго, а пить выдоенное все равно не станешь. Берке же слишком молод и неопытен.
Впрочем, будь рядом с ним даже старшие — все едино. Орду, при всей своей могучей силе, с трудом справлялся и с собственным улусом — Ак-Ордой[70]. Хорошо, что его подданные, кочующие близ Иртыша, достаточно миролюбивы, дань платят беспрекословно, и особых забот у Орду не возникало.
Шейбани поумнее, но в таком деле, как взятие вражеской крепости, и он не мог посоветовать ничего путного. Да и где ему. Руководить в бою своим туменом, по мере необходимости перенося тяжесть атаки с одного крыла на другое, использовать обходные пути, чтобы ударить в спину, — это да. Тут он в силах потягаться даже с Бату.
Не зря именно своему пятому сыну их отец Джучи тоже выделил отдельный улус, да какой — от самого Хорезмского моря[71] и вплоть до Каменных гор[72] на северо-западе кочевали племена, подвластные ему[73]. Больше десятка сыновей[74] оставил после себя плодовитый Джучи, но улус поделил лишь между троими — первым, вторым и пятым, завещав не обижать остальных.
Говорили, что он хотел урезать в правах и Орду — чувствовал, что тот не годится для больших дел. На этом же настаивал и Субудай, которому Джучи поручил воспитание Бату.
«Как знать, если бы отец прожил подольше и не умер слишком неожиданно даже для самого себя, то он, может быть, и переиначил бы свое завещание, — иной раз думал хан. — А с другой стороны, он поступил мудро, даже очень мудро».
Ведь кому он завещал все земли, лежащие к западу от Хорезмского моря? Именно ему, Бату, и сделал это далеко не случайно, считая сына самым многообещающим, поскольку большую часть этих земель еще предстояло завоевать.
Образно говоря, Джучи щедрой рукой подарил Бату не одну юрту, а несколько. Но в них пока что жили люди, которых ему предстояло оттуда выгнать или заставить платить дань, а такое далеко не каждому под силу. Значит, в него отец верил больше, чем в других сыновей. В него и еще в мудрого наставника Субудая.
Да, именно так. Он не мог не учесть мнение одноглазого барса, когда решал, какими землями кого наделить. Видел, что изо всех его сыновей сам Субудай тоже больше всех тянулся сердцем именно к Бату по той простой причине, что юный хан с каждым годом все больше и больше напоминал ему сына Урянхатая[75], безвременно погибшего в сече с урусами.
Даже повадки и жесты у них были схожи, не говоря уж об увлечениях. Впрочем, последнее как раз не удивительно, поскольку каждый из них — и Урянхатай, и Бату — с малых лет брали в пример Субудая, старательно копируя повадки и саму манеру поведения «барса с отрубленной лапой», да и не только одни повадки.
С малых лет Бату полюбил то, что нравилось старому полководцу, и возненавидел то, к чему тот относился враждебно, например своевольную непокорную Русь и ее непомерно гордый народец, осмелившийся в своей глупой никчемной любви к свободе дать отпор воинам Субудая.
Точно так же, как и его наставник, а может, и сильнее он мечтал отомстить за кровную обиду, причиненную его учителю, чтобы русичи заплатили десятками тысяч собственных жизней за смерть его сына Урянхатая. Время от времени он даже торопил Субудая идти в их земли, чтобы мстить, мстить и мстить, но всякий раз умудренный опытом полководец остужал его пыл, говоря, что у него для этого пока недостаточно сил.
Это было действительно так, хотя Субудай все равно пытался что-то предпринять. Ему даже удалось раздвинуть западные пределы владений Джучи, когда тот был еще жив, и дойти до Яика, установив границу по реке, но дальше дело застопорилось.
Потери, которые нес его тумен, были огромны, поскольку упрямые башкирские племена, вопреки ожидаемому, оказали отчаянное сопротивление. Они ухитрялись выщипывать изрядные куски из тела монгольского кречета, проявляя такую сноровку, такие навыки и умение, что Субудаю в бессильной злобе оставалось только пить айран, сидя в своей юрте.
Он не удивлялся внезапно проявленному ратному мастерству противника. Умный полководец сразу догадался, откуда «растут ноги» у башкирских побед, — Русь. На такое была способна только Русь и ее князь Константин.
Именно потому он без особых сожалений почти сразу после внезапной смерти Джучи покинул его улус. Дать дополнительные силы мог только великий каан, но лишь после того, как будет покончено с империей чжурчженей. Значит, надо помочь ее завоевать.
С той же далеко идущей целью он прихватил с собой и юного Бату. А где же еще волчонку опробовать молодые клыки, ощутить сладостную горечь горящих вражеских городов и насладиться жалобными воплями беспомощных врагов, умоляющих о пощаде?
До недавнего времени старый Субудай мог только гордиться своим учеником. Его сотня, а потом и тысяча по праву считались одними из лучших во всем войске брата великого каана, смешливого и простого Тули. До недавнего времени…
Ныне же Субудай, сидящий на почетном месте по правую руку от своего джихангира, не знал, что и посоветовать. Все хитрости, которые ему были известны и которые он сам не раз применял ранее, воюя с войсками империи Цзинь, здесь не годились либо потому, что не позволяло время года, либо по иным причинам.
Отпадал подкоп — мерзлый грунт ленивый ха-шар, как его ни подстегивай и ни пугай, будет ковырять до самой весны. Не годилось затопление. Зима прочно сковала льдом реку, да даже если бы и нет, то все равно — плотин рядом не имелось, а изменить русло Итиля… При одном взгляде на эту полноводную реку становилось ясно, что такой затее подходит лишь одно название — безумная.
Зажечь стены своими огненными стрелами? Тоже не подойдет. Нет такого горючего состава, который был бы в состоянии подпалить камень. А применить в помощь живой силе свою осадную технику не получалось — мешали все те же пушки.
Была у Субудая мысль изготовить очередную партию камнеметов подальше от города, ночью перетащить их вплотную к Сувару и начать обстрел стен. Благо камнеметы не нуждаются в особой точности. В какое место стены ни попадет камень — то и хорошо.
Монголы попытались так и сделать, однако и здесь их поджидала неудача. Как осажденные заметили, что там надвигается на них в темноте — не ведомо, однако камнеметы даже не успели докатить до намеченных еще засветло мест, как тяжелые пушки дали пол ним первый убийственный залп, затем, чуть погодя, — второй, потом третий, а четвертого не потребовалось.
Ров перед стенами был давно засыпан при участии все того же хашара из воинов Мультека. Бату даже успел завершить строительство гигантской насыпи, представляющей из себя широкую дорогу с желобом посередине, ведущую под уклон к городским воротам. Затем на дальний высокий конец насыпи воины Мультека с огромным трудом взгромоздили гигантский каменный шар, который тут же покатился вниз.
Поначалу хан и его приближенные ликовали — затея удалась, и камень действительно снес ворота с петель. Но Константин и его воевода Вячеслав честно исполняли союзнический долг перед Абдуллой, порекомендовав для такого случая дополнительные меры предосторожности. Булгарские и армянские мастера при возведении арок над воротами неукоснительно следовали русским чертежам, и теперь, через минуту, а то и меньше, по специальным пазам внутри узкого прохода с громким лязгом рухнули вниз сразу три огромные массивные решетки, наглухо перекрывая вход в крепость. Рухнули и были тут же заблокированы сверху.
Можно было бы попытаться поднять их, хотя бы немного — лишь бы хватило места, чтоб подлезть, но помимо решеток горожане вделали в арку над проходом несколько металлических трубок. Через них-то на атакующих и полилась черная, дурно пахнущая маслянистая жидкость. Случилось это, когда монголы, не доверяя столь ответственное дело хаша-ру, попытались взломать или поднять решетки.
Воины поопытнее сразу сообразили, чем все закончится, а остальные самозабвенно и безуспешно продолжали бороться с железной преградой, отделявшей их от вожделенной добычи, не обращая внимания на черную массу, стекающую по их спинам и противно хлюпающую под ногами, а напрасно.
Когда жижи скопилось в достатке, защитники города, стоя на безопасном расстоянии, пустили в проход горящие стрелы. Огненная вспышка, последовавшая почти мгновенно, сразу ослепила атакующих, а жаркое пламя принялось за дело. Немногие сумели выскочить обратно наружу, очень немногие, да и то…
«Уж лучше бы они вообще остались там, внутри, — мрачно подумал Бату, вспоминая тот день, а главное, тот ужас, который охватил всех остальных воинов при виде заживо горящих товарищей, которые живыми факелами выскакивали навстречу второй волне атакующих.
После этого Бату даже отменил очередной штурм, намеченный на следующий день, чтобы дать воинам прийти в себя после пережитого ужаса. И вот теперь он, нахохлившись наподобие любимого рыжего петуха Субудая, которого тот всюду таскал с собой, сидел в своей юрте и мрачно молчал, абсолютно не представляя, что бы еще предпринять.
Внутри него все кипело от бешенства. Пушки! Проклятые пушки! Если бы он мог их использовать, то все было бы иначе. Но тут вбежал один из тур-хаудов, охранявший ханскую юрту, и произнес всего три слова, но таких желанных, что у Бату от радости даже перехватило дыхание.
— Прибыли гонцы от Бурунчи, — сказал кешик-тен.
Ликуя в душе, но стараясь не подавать виду, хан слегка нахмурился, выждал должную паузу, после чего нехотя произнес:
— Пусть они войдут.
Едва прибывшие переступили порог юрты, как Бату понял, что приятное предчувствие его не обмануло. Несмотря на усталость, обветренные от мороза лица всех трех вестников лучились от предвкушаемого наслаждения порадовать хана, ну и, чего уж тут таить, от надежды на награду.
— Я помню тебя, — благосклонно кивнул Бату воину, стоящему посередине, уже в годах, но выглядевшему, благодаря своей крепкой поджарой фигуре, достаточно молодцевато. — Помнится, ты отличился, когда первым ворвался в ту высокую юрту, про которую мы думали, что она сделана из чистого железа. Многие побоялись заходить вовнутрь, опасаясь, что ржавая труха[76] не выдержит и рухнет им на головы, а ты нет. Да и потом, кажется, именно ты был в числе первых, кто ворвался в тот город чжурчженей, где один каан наших врагов повесился, а другого они убили сами[77]. Ты храбро там дрался, Шингур.
Монгол, польщенный столь лестной характеристикой джихангира, радостно оскалился и выпалил, даже забыв о подобающем приветствии:
— Урусский князь согласился встать на нашу сторону и теперь помогает Бурунчи искать пушкарей. Темник повелел мне передать, что не успеет солнце четырежды уйти с неба, как он двинет к тебе весь свой тумен и тех из урусов-пушкарей, кто захочет вслед за князем перейти к тебе на службу.
Бату, не глядя, протянул руку назад, нащупал небольшой синий мешочек с приятно побрякивавшим содержимым, посмотрел на него, подумал и отбросил обратно, извлекая другой. В синем лежали серебряные дирхемы, а в этом, красном, — золотые динары.
«За столь радостную весть надо награждать щедро, тут скупиться нельзя», — решил он и небрежно швырнул его гонцу.
— Сколько дней ты скакал ко мне? — уточнил хан.
Шингур нахмурил брови, сосредоточенно закатил глаза кверху и долго шевелил пальцами, загибая один за другим. Затем он молча показал руки с семью оттопыренными пальцами.
— Ты быстро ехал, — довольно кивнул Бату. — Значит, Бурунчи в пути уже четыре дня. А как ты мыслишь, сколько дней ему понадобится?
— Я ехал с четырьмя запасными конями, как и каждый из моей полусотни, и у нас не было обоза. Думаю, что Бурунчи будет не раньше чем через… — и он выставил вперед пальцы всех рук.
— Медленно. Слишком медленно, — проворчал Бату. — Завтра мы позволяем твоим людям и твоим коням отдохнуть, но потом ты вернешься к нему и скажешь, чтобы он шел сюда как можно быстрее.
Хан недовольно посопел, представив, как Бурунчи хвастается боевым товарищам, что джихангир не может обойтись без него ни одного дня, нахмурился и уточнил:
— Если же пушки будут помехой в пути, то пусть он не торопится, но отправит налегке, без обоза, вперед себя только князя с его урусами, дав им охрану из тысячи воинов.
Теперь получалось, что Бату не может обойтись без урусов, что тоже выглядело не очень хорошо.
Хан еще больше нахмурился и добавил:
— Передай, что я хочу испытать Святозара и его урусов на этой крепости, но ждать его долго у меня нет времени. Если они промедлят, то я возьму ее сам, но останусь недоволен своим темником. А теперь иди отдыхать.
Спать Бату лег в прекрасном настроении, однако к вечеру следующего дня он уже не выглядел довольным и не напоминал снежного барса, нежащегося под горячими лучами горного солнца. Скорее уж озабоченным. Во всяком случае, брови его были вновь нахмурены, а голос — отрывист. Виной тому стало известие, что к нему следуют послы урусов.
* * *
Приде Батыи на земли булгар в силе тяжкой и окружи град Сувар. А грады Биляр и Булгар братья Бату Орда и Шебани окружи тако же. И бе их вои у градов, и не бе слышати гласа от скрипления телег его, ревения вельблудьего и ржания коней его, и бе исполнена земля Булгарскыя ратных.
И едино спасение бысть градам оным пушки русськи, ибо побивахом оны у Монголов пороки их и тараны и несть им никак подойти ко граду, еже и врата открытии, а войти в них не в силе.
Из Владимирско-Пименовской летописи 1256 года Издание Российской академии наук. СПб., 1760Глава 11 Русские послы
Обдумать мы должны всецело Весьма ответственное дело: Совета требует оно. Советников, опору трона, Я позову, и мы решим… Лопе де ВегаИх обнаружили передовые дозоры из тумена его брата Орду, который стоял ближе всех к устью Камы. А еще через два дня прибыли и сами послы.
Одетые в тяжелые волчьи и лисьи шубы, они выглядели представительно, да и вели себя соответственно. А вот подарки, которые они доставили, уместились всего на двух санях. Такая скудость наводила на размышления. Да и сами послы тоже мало напоминали униженных просителей — ни перед кем не заискивали, никого не пытались подкупить, чтобы их побыстрее приняли. Словом, вели себя так, будто они где-то в Сыгнаке.
Поначалу Бату хотел их немножечко потомить в неизвестности, но затем, рассудив, что ни к чему им видеть, как он безуспешно штурмует Сувар, изменил свое решение. Сыграло свою роль и любопытство — знает ли каан русичей о том, что к его столице сейчас тоже приближаются тумены непобедимых степных воинов?
Главой посольства, как это ни удивительно, оказался не седобородый старец, а чуть ли не самый молодой из пятерки вошедших, назвавшийся Пестерем. На вид ему было не больше тридцати лет.
Свое прозвище он получил, еще обучаясь в Рязанском университете, когда кто-то из товарищей, восхитившись его памятью, воскликнул: «Да у тебя не голова, а пестерь[78] бездонный! Сколько туда ни кладешь, а все место остается!»
К посольскому делу царь привлек его, памятуя об отце этого парня, старом боярине Хвоще, павшем от черниговских мечей двадцать с лишним лет назад. Сыграла роль и необычайная легкость, с которой Пестерю давались иноземные языки.
Выучку он проходил у самого Евпатия Коловрата, начинал с башкир и половцев, после чего, уже досконально освоив их говор, поехал толмачом в составе одного из русских посольств к Чагатаю. Потом было второе, где он уже занимал ранг повыше — ходил в помощниках, набираясь уму-разуму.
Нынешняя его поездка стала первой, в которой Пестеря, неожиданно для всех и даже для него самого, назначили начальным надо всеми.
Может, Константин и не рискнул бы его поставить, но молодой посол по зову государя первым прибыл из Рязани в Нижний Новгород, а затягивать с отправкой было нежелательно. Наоборот, с нею надлежало поторопиться, потому что разведка разведкой, но близко к основному войску ей не подойти — не подпустят сторожевые дозоры. А уж о том, чтобы пробраться в стан самого Бату, который, как предполагалось, расположился где-то в степях, и вовсе не могло быть речи.
Узнать же, что задумал вероломный хан, почему так резко нарушил перемирие, отправив своих людей под Переяславль-Залесский, сколько у него сил и какие строит планы — крайне необходимо, потому что без этого ничего нельзя предпринять. Посольство, представляя собой легальную разведку, имело гораздо больше таких возможностей. А сидеть в ожидании монгольских послов — тоже неразумно. Мало ли что они наговорят. Бату мог и вовсе их не прислать — и что тогда?
И все равно Константин медлил с отправкой. Уж больно горяч парень. И себя погубит, и порученное ему дело. Через день дипломатический корпус царя пополнился несколькими мужами посолиднев. Теперь выбор имелся, но как раз в это время Константин получил первую весточку из степи.
Прискакавшие башкиры уверяли, что весь двадцатитысячный корпус государя принял бой и полег под монгольскими саблями. Всем стало окончательно ясно — война началась. Поняв, что дальше затягивать с отправкой нельзя, Константин собрал всех посольских мужей, успевших прикатить следом за Пестерем, и устроил совет.
Но Пестерь и тут оказался на высоте, став единственным, кто думал в унисон с государем. Остальные же крутили-хитрили-юлили, уклоняясь от прямых ответов, — сказывалась выработанная привычка. Вот если бы царь произнес свое слово, то тогда они бы от него ни на шаг, а так…
Но даже из уклончивых ответов бывалых людей можно было понять, что все они склоняются к заключению повторного мира с монголами, пусть и временного. Уж больно силен ворог. А что до булгар, то союзниками придется пожертвовать, если Бату пойдет на них, — Русь дороже.
Один лишь Пестерь в самом начале обсуждения — младшим предоставляли слово первым, чтобы на них не давил авторитет мнения старших — громко заявил, что коли у царя есть уговор с Абдуллой ибн Ильгамом, то нарушать его — последнее дело.
— К тому же у степняков есть хорошая присказка, — заметил он в заключение. — Спасая стадо овец от волков, глупо бросать им ягненка. Этим их голод все равно не утишишь, а токмо раззадоришь, и стая еще злее будет гнаться за отарой, пока не перережет всех овец. Руда тех, кто полег в степи, жаждет отмщения! На все воля твоя, государь, но ежели ты и впрямь хочешь вести с ними речь о мире, то прошу меня не посылать. Боюсь, не возмогу я себя пересилить.
— Но те же степняки говорят и иное, — взял слово Ожиг Станятович, который был даже постарше самого Коловрата. — Не подтянув подпруги, зачем вдевать ногу в стремя? Ты сам сказывал, государь, что воев у тебя покамест мало. Тогда зачем горячиться, если нам с эдакой силищей не совладать?
— А еще степняки говорят, что нельзя спать в юрте, если в ней ползает ядовитая калюка[79], — не уступал Пестерь.
— А я о покорности и не говорю, — заявил старый боярин. — Тут иное потребно — время оттянуть. Улещать, уговаривать, жажду мира выказывать, а самим помалу сабельку востру из ножен вытягивать. Голыми руками с той калюкой не совладать. К тому же далече она еще. Из тех степей сколь ей до нас добираться? То-то.
— А теперь вычти те дни, за которые башкиры до нас добрались, — не удержался от замечания Константин. — Пусть монголы медленно идут, к тому же я надеюсь, что и мой Святозар их за пятки пощипывает, чтоб особо не разгонялись, но все равно. Боюсь, что не так уж они и далеко, как всем нам хотелось бы. Ну ладно, — он повернулся к другу, сидящему рядом. — Раз все высказались, то неплохо бы напоследок узнать, что Вячеслав Михалыч мыслит.
— Как говаривала… — начал было поднявшийся с места воевода, но, заметив укоризненный взгляд Константина, тут же осекся и сказал иначе: — Мы их и так сколько лет уговаривали. Конечно, можно сказать, что тем самым удалось мир до сих пор сохранить. Все так. А может, они потому и обнаглели, что нашу мягкость за слабость сочли. Думаю, что сейчас нужно как раз твердость выказать, чтобы их обмануть.
Пестерь заулыбался, но Вячеслав не закончил говорить, а продолжал:
— Конечно, готовности к встрече дорогих гостей у нас пока нет. Пока что под Нижний всего десять полков прибыло. Этого и впрямь мало. И даже если за ближайшую седмицу[80] от силы еще десять или пятнадцать полков прибавится — все равно мало. В степи у нас столько же имелось, но все они полегли. Значит, у Бату не меньше пятидесяти тысяч, а то и побольше. Это силища. Тем, что у нас есть и прибудет, такую не одолеть. То есть время потянуть, конечно, нужно, тут и спорить нечего.
Пришла очередь улыбаться Ожигу Станятовичу, но вскоре улыбка сползла и с его лица.
— Но просить Бату все равно нельзя. Почуяв нашу слабину, он еще больше обнаглеет. Так что уступать не годится, — закончил воевода.
Константин кивнул, но своего приговора так и не вынес, отложив решение. Лишь ближе к вечеру следующего дня он вновь собрал послов и заявил, что начальным станет Пестерь, а в помощь ему поедут еще шестеро. Почти все названные имена удивили присутствующих не меньше, чем назначение Пестеря.
Из ветеранов к монголам отправлялся лишь Ожиг Станятович, остальные же все из молодых. Двое из них вообще дипломатией не занимались. Дела, которые одному из них поручал верховный воевода, а другому — Любомир, они предпочитали делать ночью и без лишних свидетелей.
Однако царь, к которому подошел старый боярин, заподозрив неладное, заверил его, что оба посланы совсем для другого. Просто лучше опытного спецназовца никто не сумеет сосчитать количество воинов, идущих под бунчуками Бату, да и прочие вопросы, касающиеся ратных дел и развязывания языков у воинов хана, лучше доверить им.
Окончательно же Ожиг Станятович успокоился, когда Константин напомнил о судьбе боярина Вилюя:
— Может, он и уцелел бы, если бы не сам тайными делами занимался. Кто сейчас это скажет? А я хочу, чтобы вы все живыми и здоровыми вернулись. Поэтому все прочее надо возложить не на тебя с Пестерем, а на других.
Константин не кривил душой. Он на самом деле не помышлял дать им какое-то особое задание, связанное с убийством Бату. Да, монгольский хан — умный и коварный враг, но кто поручится за то, что другой чингизид, вставший на его место, не окажется еще умнее и изобретательнее?
К тому же бывший учитель истории прекрасно помнил, как уважительно монголы относятся к послам. И за своих голову оторвут, посчитав их убийство тягчайшим оскорблением, но и на чужих без очень веского повода не покусятся. По всему выходило, что шпионаж как раз и оказался таким поводом, который монголы сочли за веский. Потому в гибели Вилюя он и впрямь отчасти находил свою долю вины.
Ожиг Станятович не выказывал обиды за то, что начальным назначен не он, да и вопрос об этом задал не впрямую, лишь спросил, не прогневил ли он чем государя.
И тут тоже Константин ответил, не тая ничего за душой:
— При разговоре с ханом надо и саблю показать. Мол, мы ее не спешим из ножен извлекать, но ежели понадобится, то по головушке рубанем. У тебя же, боярин, все думки к миру склоняются, как бы дорого он ни встал. А нам нынче любой ценой заключать его нельзя. Время не то. И еще одно. Пока мы не ведаем, чего ворог хочет, на что око завидущее устремил, что требовать станет. О том, как ты царское слово блюсти умеешь и твердо стоишь на нем, не отступаясь, — я ведаю. Вот только нет его ныне, — Константин сокрушенно развел руками. — Совсем нет. Вопросить Бату о многом надо, а если он сам спросит, тогда как?
— Поведаю, что все изложу государю, ибо ему решать — не мне, — твердо ответил Ожиг Станятович.
— Хорошо, если он с этим согласится, — кивнул Константин. — А вдруг он сразу ответ потребует? Возьмет и поставит тебя перед выбором: или — или.
Боярин задумался. А и впрямь — как тут быть? Принять решение самому — совсем иное, нежели упрямо настаивать на указанном государем. Прежде он всегда знал, до какой черты можно отступить.
Это тоже обговаривалось заранее. Тут же — сплошная неизвестность.
Но Константин, видя мучительное раздумье боярина, вовсе и не ждал от него ответа. Главное было в том, чтобы тот понял сам, и не просто умом, но и сердцем. Только тогда, осознав правоту слов царя, он сможет и впрямь стать истинным помощником молодого Пестеря.
Затянувшееся молчание само свидетельствовало о правоте государя. Куда уж убедительнее. Этим молчанием Станятович, по сути сам все себе разъяснил. Однако, на всякий случай, Константин счел нужным добавить к сказанному:
— Иногда случается так, что любое решение, принятое сегодня, гораздо лучше того, которое надумается завтра. Даже если оно и не такое мудрое.
Поэтому речь перед ханом держал Пестерь. Говорил он, явно сдерживая себя, но достаточно горячо, и Бату еще больше уверился в том, что посол, стоящий перед ним, выбран кааном урусов только из-за спешки и паники, которая возникла при известии о том, что хан двинулся на его земли.
«Если бы Константин так не спешил, — рассуждал он, — то никогда бы не назначил такого человека, который кроме хорошего знания языков больше никакими достоинствами не обладает».
Ожиг Станятович, стоя по правую руку от Пестеря, тоже отметил про себя излишнюю горячность молодого посла, решив на досуге подсказать, чтоб тот вел себя посдержаннее. Но в целом старый боярин остался доволен тем, как тот держался перед ханом. Сам он до сих пор не мог прийти в себя от той удивительной скорости, с которой этот проклятый басурманин оказался под Суваром.
«Не иначе как дьявол у этого нехристя в пособниках», — думал он, успев еще на подходе к высокой юрте джихангира внимательно разглядеть монгольский стан.
По отдельным, цепко подмеченным деталям Ожиг уже понял, что степняки пришли сюда далеко не накануне. Об этом свидетельствовали и разломанные камнеметы, которые сперва надо было еще и изготовить, и относительная обжитость лагеря, и даже гигантский круглый камень, застрявший в арке под снесенными городскими воротами.
И теперь Ожиг Станятович не имел ни малейшего понятия о том, как вести себя с этим ханом, уверенным в себе и в своих непобедимых туменах. Оставалась только робость в ногах, помутнение в мыслях и уверенность только в одном — прав был государь, назначив начальным послом не его, а Пестеря. Будто в воду глядел Константин Владимирович.
Но в то же время он ощутил и гордость за Пестеря, который выглядел уверенным и спокойным. Казалось, русского посла ничто не могло смутить. Порою даже создавалось впечатление, будто это именно он глядит на Бату сверху вниз, хотя на самом деле хан, сидевший на своем высоком золотом троне, возвышался над Пестерем и его спутниками, стоящими в десяти шагах от него.
В шапке, украшенной большим алмазом, и в нарядной шелковой одежде, по которой ползли вверх желтые китайские драконы, Бату имел величественный и важный вид. Мешал ему только взгляд Пестеря, устремленный на хана. Он будто пронизывал Бату насквозь, и хан время от времени принимался ерзать на сиденье трона, стараясь занять положение поудобнее.
А главе русского посольства, казалось, не мешало ничто. Его не сбивали с мысли ни пышное убранство юрты, ни сам хан, всем своим видом демонстрирующий гнев на непокорного каана урусов и на его послов, ни даже молчаливые турхауды, застывшие совсем рядом, которым хватило бы одного лишь жеста Бату, чтобы снести головы неугодным.
«Не менее моего, поди, изумился, а речь держит твердо, глядит уверенно, как некогда и я сам. Молодца, да и только», — подумал Ожиг одобрительно, с самой малой завидкой.
Бату посчитал иначе.
— Дерзок ты! — прохрипел он злобно, и было непонятно — то ли хана и впрямь что-то возмутило в речах Пестеря, то ли он намеренно выказывает свое негодование, хотя сам его и не испытывает. Поди разберись тут.
— Не боишься, что я повелю срубить твою голову?! — прищурился хан.
«Ну прямо пардус, а не человек», — взяла старого боярина оторопь при взгляде на зрачки глаз Бату.
Своей яркой желтизной и хищным блеском они и впрямь удивительно напоминали тигриные в тот момент, когда зверь увидел свою будущую жертву и готовится к смертельному для нее прыжку.
Однако Пестерь и тут не испугался. Он лишь передернул плечами и все тем же учтивым, но твердым тоном заметил:
— Невелика честь, хан, убить безоружного посла. Ты и впрямь волен в нашей жизни. Тебе это не впервой. Смерти же не боится лишь глупый человек, но не зря в наших святых книгах сказано: «Род проходит, и род уходит, а земля пребудет навеки». Как бы худо мне ни учинилось, а долг свой перед Русью я должон сполнить, ну а потом как Господу угодно. Токмо не забудь — за меня не род встанет, но вся Русь исполчится и за погибель мою стократ отмстит.
— Ты грозиться ко мне приехал?! — пуще прежнего нахмурился Бату. — И не страшно тебе лаяться, сидючи у меня в гостях?!
— Собаки у ворот лаются, хан, а я речь веду. И не угрозы в ней, но вопросы. Ежели дашь на них ответы, то я свезу их своему государю, а нет — разведу руками. Мол, не восхотел хан Бату речи со мной вести. Прости, царь-батюшка, не вини неразумного, за то, что не сполнил я повеленья твово.
— Ты что же, его больше, чем меня, боишься? — осведомился несколько удивленный Бату.
— Боюсь я больше тебя, — ответил Пестерь. — Его же почитаю вместо отца.
— Каан Константин — твой отец?! — еще больше удивился хан.
— Родитель мой — боярин Хвощ, царствие ему небесное, — и Пестерь размашисто перекрестился, краем глаза подметив, как при этом жесте рука монгольского охранника, стоящего сбоку от него, нервно дернулась к рукоятке сабли. — А наш государь Константин Володимерович, всем людям, что на Руси живут, заместо второго отца. Пред ним провиниться так же грешно и стыдно, яко и пред родителем.
— Казнит, — удовлетворенно кивнул Бату.
— Гораздо хуже, — поправил его Пестерь. — Я сам себя стократ казню за то, что он мне доверился, а я исполнить не возмог. Потому сызнова вопрошаю, почто ты мир порушил? Почто слово свое ханское не сдержал? Почто чужие рубежи преступил? Опять же град сей на кой осадил?
— А вот последний спрос — лишний, — вновь озлился Бату. — Граду этому владыкой мой друг хан Мультек. Он сам попросил меня привести его к покорности. Неужто у каана Константина нет иных хлопот, кроме того, как за чужие города заступаться?
— Али неведомо тебе, что царь Константин и хан Абдулла ибн Ильгам на святых книгах друг дружке роту[81] в верности давали и обещались пособлять, ежели кто иной с мечом на их земли придет? — спросил Пестерь. — Мультек бека я ведаю. Есть такой. Но он, как я слыхал, молодший брат хана Абдуллы, и, покамест тот жив, нешто вправе ты на его земли нового хозяина ставить?
— Вправе, — мрачно ответил Бату. — Это право завещал мне мой великий дед, сотрясатель вселенной и покоритель тридцати государств и народов, — пояснил он, поневоле испытывая уважение к этому бесстрашному смельчаку, который, казалось бы, не чувствовал ни малейшей боязни оттого, что совсем рядом с ним стоит верный хану турхауд, и не один, а целый десяток.
«Неужто дерзкий не понимает, что стоит мне только кивнуть, и его голова тут же покатится с плеч?! Неужто он так убежден, что пока представляет своего каана, я не посмею этого сделать?! — спрашивал себя Бату и… не находил ответа. — А может, и впрямь кивнуть? Тогда и у остальных спеси поубавится».
Он уже хотел было это сделать, но потом передумал.
«Кто не знает, чем живут и о чем думают его враги, подобен слепцу, одиноко бредущему по степи. Отрубить ему голову я всегда успею, но вначале пусть он расскажет мне о своем повелителе и его замыслах, которых я пока не знаю. Слишком уж уверенно он себя держит. Значит, на то есть причина. Ладно. Пусть так».
Бату благосклонно кивнул в ответ на очередную дерзость посла и миролюбиво заметил:
— Ты говоришь о Руси, я же — об этих землях. Мой славный Субудай-багатур бился с урусами, и по его рассказам я знаю, что вы храбры и сильны. Я тоже убедился в истинности его слов. Эти же люди недостойны иной доли, ибо смирный конь одинаково везет и хозяина, и вора.
— Выходит, Мультек вор? — удивился Пестерь.
Бату осекся. И впрямь он ляпнул что-то не то.
Хоп. Зайдем не с головы, а с гривы.
— А почему ваш каан не приехал ко мне сам? — осведомился он. — Помнится, прошлой зимой я приезжал к нему, и он почтил меня своим гостеприимством. Мне бы хотелось отплатить ему тем же.
— Ты уже заплатил, зазвав к себе двадцать тысяч его воинов, которым никогда не вернуться из гостей, — скорбно ответил посол.
— Когда знаешь, что конь лягается, не стоит лезть к нему с хвоста, — невозмутимо пожал плечами Бату. — Я бы не стал их убивать, но они не захотели покорно склонить свои головы. Что же мне оставалось делать? — развел он руками.
— Склонить для того, чтобы твоим воинам было удобнее их рубить? — не удержался от издевки посол.
— Для того, чтобы остаться в живых! — И раздражение вновь охватило Бату.
«Нет, он все-таки слишком дерзок, чтобы дожить до сегодняшней ночи», — подумал хан и вопросительно посмотрел на ближайшего к Пестерю тур-хауда.
Воин впился в лицо Бату, силясь понять, что от него хотят.
«Ты готов?» — вопрошал ханский взгляд.
Повинуясь ему, охранник еле заметно, на вершок, не больше, вытянул саблю из ножен, но тут Вату вновь перевел взгляд на посла, желая кое о чем спросить его перед смертью, и рука турхауда вновь замедлила ход.
— Ты не ответил на мой вопрос, — упрекнул Вату. — Я опечален, что не вижу твоего каана в своей юрте. Он испугался приехать ко мне?
— Он слишком занят, — ответил Пестерь.
— Чем же? — полюбопытствовал хан.
— Сбирает своих слуг для пира в твою честь и готовит достойные яства для твоего угощения. Его воины уже повеселились за твоим столом, теперь пришел и его черед угостить твоих.
— А почему он так уверен в том, что я поеду к нему в такую даль? До его града даже отсюда столько же конных переходов, сколько пальцев у человека на руках и ногах. К тому же в ваших лесах моим воинам легко заблудиться.
— Напрасно ты думаешь, что он, узнав о дорогих гостях, не выехал к ним поближе, — заметил Пестерь.
— Стало быть, он рядом? — невинно спросил хан.
— Из Нижнего Новгорода путь сюда не столь уж и далек, — пояснил посол и сразу же, еще до увесистого тычка в бок, полученного от старого боярина, осекся, поняв, что сморозил лишнее, — ни к чему этой узкоглазой образине знать, где находится государь и чем он занимается.
От осознания собственной ошибки лицо его мгновенно заполыхало кумачом, и он, не зная, как исправить упущение, ляпнул:
— Я хотел сказать, что государь придет, когда сам изволит, то есть захочет прийти, то есть… — и смолк, поняв, что окончательно запутался.
Развеселившись, Бату бросил совсем иной взгляд на турхауда, до сих пор стоявшего в нерешительности, и для надежности чуточку, совсем легонько, мотнул головой в знак отрицания, после чего послушный охранник вновь утопил саблю в ножны и застыл в ожидании дальнейших повелений.
— Что ж, — развел руками хан. — Коли так, то мне надо поспешить с вашим угощением. Иначе получится, будто я намеренно задержал вас до самого прибытия каана, — и хлопнул в ладоши.
Честно признаться, не у одного Ожига Станятовича екнуло в сердце от этого хлопка, который мог означать что угодно — от вынесения смертного приговора до приглашения на честной пир. На деле же сигнал хана оказался совсем безобидным. Во всяком случае, мгновенной беды не приключилось.
Вошедшие слуги молча, но весьма красноречиво предложили гостям удалиться, хотя взашей их не толкали и более того — вежливо проводили до шатра, разбитого к тому времени русичами из числа охраны.
Шатров было пять. Один предназначался для посольства, а четыре — для охранников, хотя случись что — и навряд ли они сумели бы помочь. Не могут четыре десятка воинов противостоять многим туменам.
Бату же, незамедлительно вызвав гонцов, прибывших от Бурунчи, повелел им гнать коней во весь опор, чтобы как можно раньше отвезти темнику повеление о новом сроке явки в его стан. Потом он повернулся к Субудаю, дабы обсудить с ним то, что удалось узнать от болтливого посла урусов, который, сам того не подозревая, выдал очень многое.
Учитывая местонахождение Константина и его полков, хану становилось понятным не только то, что царь намеревается делать дальше, но и кое-что еще, причем не менее важное. Получалось, что Константин не знает о том, что сейчас силы монголов разделились надвое, и даже не подозревает, какая страшная угроза нависла над его стольным городом.
«Не иначе, после того как мои люди разрушили оберег урусов, их каан совсем потерял голову», — злорадно подумал Бату.
Это была приятная новость. Упоительнее открытой битвы, даже если она мудро задумана, может быть только погоня за отступающим врагом, особенно когда это отступление все больше и больше напоминает бегство. Но это означало и то, что каан оставил свою столицу незащищенной, со слабеньким гарнизоном.
Задача главного соперника Бату — Гуюк-хана — тем самым неизмеримо упрощается. Теперь городу Константина точно не устоять, значит, вся добыча, включая и казну, достанется самодовольному и чванливому сыну Угедея. Тут как раз радоваться было нечему. Опять же получалось несправедливо — его, Бату, ждет войско Константина, а Гуюка — казна.
«А если не спешить? — мелькнуло у хана в голове. — Зачем вообще торопиться выходить навстречу? Не проще ли подождать его, стоя близ Сувара, а когда тот изготовится для битвы, дать знать, кто сейчас сидит в его Рязани. Скорее всего, тот метнется обратно, и вот тут-то можно будет ударить ему в спину. Что там упоительнее битвы? Правильно. А гнаться конному за пешим — двойное удовольствие, потому что гораздо раньше устанет рука от постоянных взмахов саблей, чем верный конь от погони за беглецами».
Мало того, что это будет легкая победа, но Бату достанется еще и неплохой хашар, который ему пригодится для штурма Булгара, Биляра и злополучного Сувара. Да и неизвестно, как там с Гуюком.
Великий Тенгри, исходя из простой справедливости, может и отказать недостойному в победе. Если уж здешние жители оказывают яростное сопротивление, то урусы не в пример воинственнее. Они преспокойно выдержат все атаки Гуюка до подхода туменов Бату и его братьев.
Только джихангир не так глуп, как этот кичливый хвастун. Он привезет с собой пушки урусов, которые уже в пути, и Рязань непременно упадет к ногам Бату. По такому случаю можно и пожертвовать богатствами булгарских городов. Они все равно никуда не денутся, только их черед придет позже.
Все это Бату и высказал сейчас Субудаю и даже слегка смутился. Редко кого одноглазый барс жаловал своей скупой похвалой. Даже самого хана и то редко. Если считать за все время, то хватит пальцев на одной руке и еще трех на другой. И это за целых десять лет.
Гораздо чаще Субудай, не желая тратить слов попусту, удостаивал хана простым молчаливым кивком — если был согласен с его решением, или неодобрительным хмыканьем. Правда, последнего не случалось давно, года четыре, если не все пять.
Однако сполна насладиться триумфом Бату не пришлось. В юрту вновь вошел турхауд, который почтительно доложил о том, что прибыл еще один гонец, на сей раз от Шейбани. Брат сообщал, что дозоры, высланные, согласно повелению Бату, далеко на восток вдоль Камы, на обратном пути встретились со странным обозом, который сопровождала пешая тысяча урусов.
Странным, поскольку те везли на своих санях множество пушек, но стрелять из них почему-то не стали. Взять их лихим наскоком не получилось, потому что стрелы урусов, выпускаемые из их железных луков, летят гораздо дальше, чем монгольские, и перебить этих людей, находясь на безопасном расстоянии, не получается.
Однако тысячник, который командовал всеми дозорами, решил не упускать урусов, а сам тем временем послал гонца к Шейбани с вопросом, что ему делать дальше. Тот повелел удерживать их и дальше и тут же известил брата.
— Вечное небо сегодня решило до конца излить на меня свою благодатную синеву, — заметил Бату Субудаю, выяснив все подробности у гонца.
Мало того, что со стороны степи к нему движется Бурунчи, так вдобавок сами урусы попали в ловушку. Трудно сказать, откуда вообще взялись у них эти пушки, но в том, что они везли их к своему царю Константину, сомневаться не приходилось. Теперь же получалось следующее. Во-первых, это страшное оружие не получит каан урусов, потому что — это как раз во-вторых — их получит джи-хангир.
— Сколько в том обозе саней с пушками? — уточнил Бату у гонца.
— Они накрыты, поэтому трудно сказать, во всех ли санях там пушки, — ответил простуженным голосом монгол.
— Ну а самих саней, — нетерпеливо уточнил Бату.
— Если каждый палец в моей руке был бы рукой, я все равно показал бы все до одной, — ответил тот.
Хан даже присвистнул. Это было впятеро против того, сколько ему вез Бурунчи.
— Завтра на рассвете ты с двумя моими сотнями поедешь обратно к Шейбани. Передашь, что джихан-гир повелевает ему во что бы то ни стало забрать у урусов эти пушки и немедля везти их сюда, — медленно, чеканя каждое слово, произнес Бату. — Ты все понял? — И потребовал: — Повтори!
Выслушав собственное повеление из уст гонца, хан дополнил его:
— Если Шейбани не хватит той тысячи, пусть он бросит на урусов еще одну или даже две тысячи воинов, но не отступает, пока не добьется победы.
Оставшись один, Бату наконец-то с кряхтением кое-как сполз с золотого трона, несколько минут постоял в задумчивости, разминая затекшую спину, и тоже вышел. Все-таки в той бедной юрте ему было гораздо уютнее. Он даже и здесь неосознанно копировал своего деда.
Глава 12 У каждого свой жребий
Ты, правда, слишком груб и вздоришь с ним Без перерыва с самого приезда. Напрасно думать, будто резкий тон Есть признак прямодушия и силы. Уильям ШекспирТри дня провели послы в ставке монголов. Пестерь теперь был более сдержан в речах, стараясь не допустить никаких оплошностей, хотя хан всячески вызывал его на откровенность, заходя то с одной, то с другой стороны. Чтобы вывести посла урусов из себя, Бату на третий день даже выложил на стол переговоров, хотя правильнее было бы сказать — на дастархан[82], постеленный прямо на кошму, то, что он до поры до времени приберегал.
Хан сознательно выбрал для этого время трапезы, чтобы не мешало жесткое сиденье трона, порядком надоевшее степняку. По-прежнему за спиной у каждого из пирующих русичей стоял турхауд. Чашки с вареной бараниной поменяли уже в третий раз, и Бату решил, что пора настала.
— Я говорил, что пришел на эти земли вовсе не из жажды их завоевать, — благодушно произнес он, не глядя в сторону Пестеря, хотя было ясно, что ханская речь предназначена в первую очередь для него и остальных послов. — Мои люди не зря называют меня Саин-хан, что означает справедливый. Вот ради того, чтобы восстановить справедливость на этих землях, я и пришел. Разве справедливо, когда два сына одного отца получают совсем разное наследство — один все, а другой ничего?
— Может быть, и нет, — Пестерь сразу сообразил, в чей огород может полететь этот увесистый камень. — Но я думаю, что это дело только самих сыновей. Пусть они разберутся полюбовно и решат — по совести ли была проведена дележка.
— Они и решают. А меня хан Мультек как раз и пригласил в качестве судьи, — пояснил Бату. — Что же до Руси, то я и тут вижу, что каан Константин поступил неверно, отдав все свое добро сыну Святославу, в то время как у него есть еще один сын — Святозар. Чем он хуже? Думаю, что будет только справедливо, если он отдаст половину всех своих земель вместе с Рязанью младшему сыну.
— Ты хочешь сказать, хан, что князь Святозар тоже обратился к тебе с просьбой восстановить справедливость? — иронично усмехнулся Пестерь.
— Да, я хочу сказать именно это, — важно кивнул Бату.
— И он может повторить свои слова? — встрял в разговор Ожиг Станятович.
— Конечно, — широко развел руками Бату. — Святозар не из тех людей, кто сегодня дает свое слово, а наутро забирает его обратно. Он долго терзался в раздумьях, прежде чем обратился ко мне, но, зная, что слово отца твердо и переиначивать его тот не станет, пришел ко мне.
Послы недоверчиво переглянулись.
— Хотелось бы услышать это и от него, — неуверенно проговорил Пестерь.
— Сейчас его нет рядом. Он задержался, потому что помогает мне взять отцовские крепости, как часть его наследства. Взять и поставить в них моих воинов, потому что он доверяет им больше, чем людям отца. Опять же в степи моим камнеметчикам легче и проще обучаться огненному бою, который я успел оценить по достоинству еще летом. Учит их Святозар со своими пушкарями, вот он и задерживается. Но через два-три дня вы сами его увидите и сможете об этом спросить. — И лениво поинтересовался у Пестеря: — Как ты мыслишь, посол, долго ли продержатся те глупцы на стенах, если я наставлю на них все пушки, которые прибудут сюда вместе со Святозаром?
Еще один помощник Пестеря по имени Яромир, будучи не в силах сдержать себя, жалобно охнул. Сам Пестерь тоже не торопился с ответом, всячески оттягивая его. Он неспешно потянулся за чашей с кумысом, медленно поднес ее к губам и помаленьку, мелкими глотками, пил, пока она не опустела. Дальше время уже не оттянешь — надо что-то говорить, только вот что?!
— В наших святых книгах говорится: «Много замыслов в сердце у человека, но состоится только определенное Господом»[83]. Иными словами, сбудется все так, как угодно Небу.
— А если оно промолчит, не желая никому мешать? — улыбнулся Бату.
— Как я могу говорить, если промолчит даже Небо, — слукавил посол. — К тому же я не видел, сколько у тебя этих пушек.
— Считай сам, — равнодушно пожал плечами хан. — Твой каан поставил на Яике шесть крепостей. В каждой из них, как сказал мне Святозар, двадцать малых и десять больших. Сложи их вместе и получишь ответ.
На самом деле это была обычная догадка, и князь ничего ему не говорил. Разве что как-то раз с гордостью обмолвился, что у его отца все равны, и потому даже в Оренбурге установлено столько же пушек, сколько и во всех других крепостях. Далее вывод напрашивался сам собой. Если не больше, то уж, во всяком случае, не меньше, а значит — везде поровну.
Однако такая осведомленность хана произвела на русских послов удручающее впечатление. Неужто и впрямь Святозар Константинович стал израдником?[84]
— Опять же очень многое зависит от навыков и умения, а потому мне все равно трудно судить, — снова вывернулся Пестерь. — Ты сказываешь, что орудия еще в пути. Что ж, когда их привезут, тогда и поглядим.
— Привезут, непременно привезут, — кивнул Вату. — Вместе с княжичем привезут. Правда, Святозар отчего-то очень злобился на своего… как это по-вашему?..
— Братанича, — угрюмо отозвался Ожиг Станятович, давая передохнуть Пестерю.
— Вот-вот, на братанича. Уж не знаю, чем он так ему досадил. Только вы не подумайте чего плохого, — встрепенулся Вату. — Неужто я не понимаю и дал бы в обиду старшего внука каана.
— Ты хочешь сказать, хан, что княжич Николай Святославич жив и сейчас гостит у тебя? — медленно уточнил бледный Пестерь.
— Что я хочу сказать, то я и говорю, — строго заметил Бату. — Он и впрямь жив, и ему очень нравится гостить у меня. Конечно, если дед будет очень настойчиво просить его вернуться, то он, как послушный внук, не посмеет пренебречь такой просьбой. Погодите-ка, — встрепенулся джихангир. — Кажется, он — наследник Святослава? Ай-яй-яй! — вдруг горестно завопил он. — Получается, что если с княжичем что-то случится, то Святослав лишится своего наследника. Как же это я не подумал. Надо было окружить его не сотней, а тысячей своих людей, чтобы с его головы и пылинки не упало.
— Ты немного ошибся, хан, когда сказал, что в случае смерти княжича Николая Святослав лишится наследника, — прервал притворные причитания Бату посол и с радостью подметил, как лицо собеседника вытянулось от удивления.
— Разве он не наследник? — недоверчиво уточнил Бату. — А князь Святозар говорил мне совершенно иное.
— И он тебя не обманул, — вздохнул Пестерь. — Только у царевича Святослава много детей, так что в случае смерти княжича Николая он потеряет лишь одного из сынов.
— Не одного из, а старшего, — поправил его Бату, для наглядности подняв указательный палец правой руки. — Это очень важно, урус.
— Значит, все унаследует его следующий сын, — равнодушно пожал плечами Пестерь.
— И каану Константину будет совсем не жаль своего старшего внука?
Вот когда Ожиг Станятович не просто обрадовался — возликовал, что не его поставил Константин в начальные послы. Давать ответ на такой вопрос, да притом совершенно не имея времени на раздумье, — задачка еще та.
— Так ведь война, — выдохнул Пестерь побелевшими губами. — Вон сколь людишек полегло от рук твоих воев. В иной семье не одного, а сразу двоих оплакивают. Получится, что и нашего царя горе не минует. Что уж тут теперь. Да и грех живого человека оплакивать. Ты же сам сказал, что он жив.
— Я боюсь, что если мы не сможем договориться с кааном, то княжич от столь тяжких переживаний может скончаться, — заметил Бату.
— Отчего ж с хорошим человеком не сговориться. Ты сказывай, хан, сказывай, — поторопил Пестерь.
— Я ведь уже говорил, что мне самому ничего не нужно, — напомнил Бату. — Мое сердце жаждет только справедливости. Пусть твой каан не мешает мне устанавливать ее у булгар и сам займется тем же в собственных владениях. Святозар — воин. Ему больше по душе вольная кочевая жизнь. Поэтому он хочет немногого — все степи с крепостями, какие только есть у Константина. Ну и еще сам град Рязань. У кочевых народов принято родовой улус отдавать младшему из сыновей, чтобы он помог своим родителям сытно и спокойно жить в старости.
— Ты считаешь, что если мой государь не отдаст Рязань Святозару, то у него к старости не будет ни куска хлеба, ни глотка воды, ни крова над головой? А мне казалось, что кому бы он ни отдал свои земли, все равно от голода не умрет, — невозмутимо ответил посол.
Бату фыркнул и одобрительно посмотрел на Пестеря.
— Ты молодец, — похвалил он. — Хорошая шутка помогает даже в серьезной беседе. Но у нас в степи Яса едина для всех. Ее соблюдает и простой пастух, и великий каан Угедей, который не спорил со своим отцом, а моим дедом, когда тот завещал родной улус не ему, а младшему сыну Тули.
— И наш государь говорит, что Русская Правда едина для всех — от царя до смерда, — согласился Пестерь. — Но в ней прописано иное. И как нам тогда быть, великий хан, если весь русский народ от Галича и Киева до Рязани и Нижнего Новгорода будет жить по Русской Правде, а сам царь — по Ясе твоего деда? Хорошо ли это? Одобрит ли его народ?
— Хоп! Я сказал все, что хотел, — буркнул Вату, вновь не сумев найти нужного ответа. — Передашь мои слова своему царю и привезешь мне его ответ. Но ты должен поторопиться. Святозар — мой союзник. В благодарность за то, что он для меня уже сделал, — я имею в виду крепости на Яике и искусство огненного боя, — я обещал подарить ему жизнь княжича. Он свое слово уже сдержал. Я не знаю, что мне ему ответить, когда он приедет сюда и напомнит о моем слове, — и пытливо впился глазами в лицо посла, однако, не заметив на нем ни тени тревоги или волнения, разочарованно продолжил: — Если ты очень поспешишь, то я, пожалуй, немного обожду с ответом Святозару, а потом все будет зависеть от слов твоего каана, — и снова пристально посмотрел на Пестеря.
Однако проклятый урус будто издевался над ханом, держа свои чувства за семью замками.
— Иди, — почти сердито повелел Вату. — Я устал и хочу спать. И еще у меня много дел, — невпопад добавил он. — А ты иди и думай.
Однако невозмутимость Пестеря была лишь маской. Каждый, кто смог бы сейчас проникнуть в большой посольский шатер, на вершине которого реяло красное полотнище с гордым белым соколом, широко раскинувшим свои крылья и сжимающим в когтях меч, увидел бы совсем иное.
Посол метался из одного угла в другой, благо шатер, в отличие от круглой юрты, эти углы имел. Все остальные, сидя на лавке, лишь молча наблюдали за этим.
Иногда усилием воли Пестерь заставлял себя остановиться, а то и усесться на лавку, но ненадолго, после чего вновь продолжал блуждать из угла в угол.
— Что ищет — неведомо, — прокомментировал Яромир.
— Пятый угол, — пояснил Ожиг Станятович. — Вот только найдет ли, бог весть.
— Ну как я государю скажу, что его внук в полоне, а сын и вовсе иуда?! — завопил Пестерь, возмущенно глядя на сидящих товарищей. — А вы тут расселись как ни в чем не бывало, словно вам и дела до этого нету!
— Кто легко верит, тот легко и пропадает, — невозмутимо отозвался Ожиг Станятович. — Мало ли что там нехристь сбрехнет. Покамест у нас ни видо-ков, ни послухов[85], ни самого Святозара. Да и княжича Николая хан нам тоже не показал. Одни словеса голимые.
— Это ты к чему? — буркнул Пестерь.
— К тому, что есть близ Рязани селище, Березовкой прозывается. А в нем смерд проживает. Его за язык все Клюкой[86] величают. И вот этот Клюка иной раз такое загнет — на санях лжу не увезешь. На деле же — ни крупицы правды. Вот у кого хану поучиться бы.
— Так ты мыслишь… — растерялся Пестерь.
— А тут и мыслить неча, — хмыкнул старый боярин. — Лжа все это голимая. Так почто над ней голову ломати?
— А ежели нет? — вступил в разговор худой как жердь Копр — человек воеводы Вячеслава. — Что касаемо пушек, то тут он не сбрехал. Мои люди самолично их в стане у хана углядели. Малых орудий аж семь десятков да больших девять. Спрашивается, откель они у него?
— Так это он в степи отнял у тех, кого побил, — предположил Яромир.
— В степи полсотни орудий было и ни одного тяжелого. Выходит, остатние в Оренбурге взяты. А как поганые в крепость проникли? — спросил Копр.
— Разве устоишь, когда на тебя такая силища наваливается? — буркнул Ожиг Станятович.
— Отчего же не устоять. Вон Сувар-то, перед глазами. И силища не помогает. Выходит, что… — а договаривать не стал, толкнув в бок Церя. — Скажи им про Святозара.
Церь смущенно кашлянул в кулак и тоскливо покосился на Копра.
— А надо ли? — осведомился он тихо.
— Надо, — отрезал Копр. — Это начальные у нас разные. У них — боярин Коловрат, у меня — воевода Вячеслав Михалыч, у тебя — боярин Любомир. Но государь надо всеми ими единый, стало быть, и мы все одним делом занимается, разве что с разных сторон на него глядим. Чего уж нам таиться. Опять же неведомо как завтрашний день сложится, кто из нас живой останется, — безжалостно продолжал он. — Хорошо, если все семеро, а если один? Выходит, все про все и ведать должны, чтоб в случае чего государю от наших смертей урона не было.
— Перемигнулись тут мои людишки с охраной, коя нас от прочего стана отделяет, — нехотя начал Церь. — Они хушь и нехристи, а до хмельного меду большие любители. Ну а пьяный, как малый, — что на уме, то и на языке. Так вот, сказывали они, что видели Святослава в большой гриднице в Оренбурге, где басурмане пир устроили по случаю победы. Сидел Святозар на том пиру в обнимку с Бату да еще с кем-то из ханов. И княжича Николая они тоже видели, хошь и мельком. Раны у него тяжкие, так что сбрехал хан про здравие, но живой.
— И как я про все это государю сказывать стану?! — вновь простонал Пестерь.
— Как есть! — отрезал Церь. — А не хошь, так я, коль жив буду, сам ему поведаю. Мои людишки языки им развязывали, стало быть, мне и ответ держать.
— А мне про пушки, — невозмутимо добавил Копр и ободрил посла: — Выходит, тебе только про то говорить придется, что сам Бату нашему каа… тьфу ты, прости, господи, нашему царю предложил.
После этого послы долго судили и рядили, как быть дальше, то ли немедленно уезжать, то ли дожидаться прибытия Святозара с пушками, чтобы хоть в этом вопросе наступила окончательная ясность.
Голоса разделились поровну. Церю и Кропу хотелось побыстрее доложить обо всем государю. Пусть кое-что и не проверено до конца, но тут уж остается только вновь вспомнить о ложке, которая дорога к обеду. Вспомнив последнюю беседу с царем, на их сторону неожиданно встал и Ожиг Станятович. Трое послов во главе с Яромиром стояли за то, что надо дождаться Святозара.
— А то мы привезем невесть чего. Стыдобища, — громче всех возмущался Яромир.
Решающее слово оставалось за Пестерем. Как он скажет, так и будет. А как?
Наконец он решился:
— Если мы уедем, не дождавшись Святозара, то и впрямь одни слухи государю привезем. Да еще какие слухи-то! — Он обвел взглядом присутствующих. — Иной раз лучше и вовсе ничего не ведать, чем такое. А если это лжа?! Прав Яромир — стыдо-бищи не оберемся. Посему…
Но тут его перебил Церь. Поняв, что дело складывается не в его пользу и с отъездом, по всей видимости, придется повременить, он глухо произнес:
— Не хотел я этого говорить, чтоб не пугать. Тут дело-то еще хужее, — и вновь замолчал, вздыхая.
— Начал, дак изрекай — почто тянуть, — поторопил его Ожиг Станятович.
— Силища у хана могутная. Но мои люди донесли, что тут у него не все силы, а лишь половинка.
— Это верно, — вмешался Копр. — О том и мы знаем. Кто под Биляром, кто под Булгаром.
— Э-э-э, нет, — поправил Церь. — Оное все в ен-ту половинку входит. А остатняя не в Булгарии. Все прочие… на Рязань подались.
— Как на Рязань?! — чуть ли не в один голос воскликнули остальные.
— И ты таил такое! — попрекнул Ожиг Станятович.
— Уж мне-то мог бы сказать! — возмутился и Пестерь.
— Говорю же, что пугать вас попусту не хотел.
— А как давно они ушли? — деловито спросил Кроп, первым пришедший в себя.
— Еще из-под самого Оренбурга. Поначалу они на Яик двинулись, потом должны будут пройти чрез Саратов али Самару, кои государь недавно на Волге поставил, а уж оттель прямым ходом далее. Ежели монголы взять их попытаются, то постоят изрядно, а коли нет, то до Рязани быстро доберутся.
— В лесах у мордвы застрянут, — с надеждой произнес Яромир.
— Чай, не глупее нас, — строго заметил Церь. — В обход двинутся. Между Лесным и Польным Воро-нежцами хороший проход есть. По нему они выдут прямиком к Дикому полю, а опосля чрез Ряжск, по дороге, кою государь построил. От Ряжска до Рязани верст семьдесят, от силы восемьдесят[87], не больше.
— Тогда и думать неча! — подвел итог Пестерь. — Будем у хана в обратную дорогу проситься.
Как ни странно, но волнения главы посольства оказались напрасны. Встретив Константина и его полки уже на марше, послы подробно изложили государю все узнанное, но тот на удивление хладнокровно воспринял все их известия. Даже то, что монгольское войско разделилось и половина его сейчас ускоренным маршем рванула в сторону Волги для подлого удара в подбрюшье Руси, его не взволновало.
Чуточку разочарованный этим Пестерь зато смог спокойно, хотя все равно немного волнуясь, рассказать Константину о самом главном — про его сына и внука. Но и тут царь лишь слегка помрачнел лицом, но не более того. Не знал посол, что приключилось всего через пару дней после их отбытия в ставку к Бату…
Глава 13 Оглушительные новости
Как я предвидел! Как подозревал! Беду мы чуем с первого же взгляда И лишь боимся подтвержденья вслух. Уильям ШекспирНикогда еще стены Нижнего Новгорода, который за каких-то двадцать с небольшим лет неожиданно перерос и древний Муром, и светлый Ростов, и тихий Суздаль, не видели такого столпотворения. Обычно-то как раз наоборот, зимой жизнь утихала, будто суровые морозы сковывали не только воду на Волге, но и самих горожан. Теперь же в городе творилось такое, чего не увидеть и в разгар лета.
И дело было не в том, что государь всея Руси Константин Владимирович прибыл в сей град. Такое не раз случалось и прежде, но не потому, что когда-то в будущем, в далеком XX веке он добрый десяток лет проработал в одной из нижегородских школ учителем истории[88].
Отнюдь. Тянула его сюда не память о тех годах. Все было гораздо приземленнее. Город располагался на самой границе русских земель. Дальше лежала чужая территория, а рубежам необходимо уделять особое внимание. Пусть соседние земли принадлежали союзнице Руси Волжской Булгарии, от которой было нелепо ожидать чего-либо враждебного, и все же, и все же…
В этом же заключалась разгадка быстрого, чуть ли не мгновенного расцвета города. Купцы, плывшие с караванами по Волге, оказывались на территории Руси гораздо раньше, проплывая мимо не так давно поставленных Самары, Саратова, Волгограда и Астрахани, но все это было не то.
В тех городах, одним своим внешним видом, да и сутью являющихся прежде всего крепостями, царил совсем иной дух — настороженности, ежедневного ожидания нападения. И население в них проживало соответствующее, чуть ли не на две трети состоящее из служивых людей.
Поэтому, лишь причалив к городской пристани Нижнего Новгорода, купцы облегченно крестились, мол, «Слава тебе, господи, прибыли», и первым делом шествовали к храму, посвященному Николаю из Мир Ликийских, а по-простому — Николаю-угоднику, который вроде бы покровительствует всем путешественникам и странникам в их нелегких скитаниях по чужим землям. Там они долго молились, ставя перед образами огромные толстые свечи, щедро жертвовали на нужды храма и шли расплачиваться с таможней.
На постоялых дворах Нижнего с весны до поздней осени царил шум и гвалт, который уступал лишь гомону на пристани. Верно подмечено, что никогда человек не бывает так добр и не склонен с такой легкостью швыряться деньгами, как в первый день после своего прибытия из далеких краев. Даже самый отъявленный скупердяй позволит себе хоть слегка погулять. Разумеется, в его понимании этого слова.
Нижегородцы психологию не изучали, они даже и слова такого не знали, но это не мешало им пользоваться ею на практике, выжимая все преимущества из такого удачного расположения своего города.
Правда, в силу погодных условий, образ жизни им приходилось вести чуть ли не медвежий, то есть полгода они бегали, суетились, встречали, угождали и даже ублажали за соответствующую мзду дорогих торговых гостей, усиленно нагуливая жирок.
Вторые же полгода, они, можно сказать, отсыпались, давая себе передохнуть от неустанных трудов. И тогда город напоминал огромную сонную берлогу, в которой большинству обитателей только и остается, что… сосать лапу. Но в лапе к тому времени, когда в город, ломая хрупкий осенний ледок на реке, поспешно входили запоздалые караваны, имелось уже немало.
Теперь же ни о какой спячке и речи быть не могло. Шутка ли — их град объявлен главным местом сбора всех русских ратей. И богатый Нижний вновь встрепенулся, встречая полк за полком. Всех горожане ублажить не могли. Не до того. Лишь бы успеть удоволить в самом необходимом, дать корм для коней да еды для самих ратников, а уж о крыше над головой никто и не заикался — сами как-нибудь, милые, сами.
Прибывшие не ворчали, понимая, что об ином говорить глупо. Размещались сами за городом, на скорую руку сооружая для себя длинные деревянные бараки-прибежища, и тут же, едва поставив над головой крышу, принимались строить новый, для будущих соседей.
Как раз туда сейчас и направлялся Константин в сопровождении десятка дружинников. Он ехал по городским улицам, мимо добротных домов горожан, но воспоминания иного, далекого времени душу не бередили. Да и откуда им взяться, этим воспоминаниям, если Нижний XIII века ничем не походил на красавца из его родного времени.
Даже кремль, который по повелению государя стали строить из камня, существенно уступал могучим стенам, возвышавшимся над верхней частью города во время его учительства. Не сказать — жалкая пародия, чтоб не обидеть, просто сроки — во-первых, и деньги — во-вторых. Словом, и стены его были чуть ли не вдвое тоньше, и сам он выглядел не так внушительно.
— Ты же купаешься в миллионах, — как-то в сердцах бросил воевода. — А скупердяй, как твой Зворыка, хай ему!
— Министр финансов должен быть скупердяем, — возразил он тогда другу. — А что до меня, то мои миллионы как бурное море. Не успеет нахлынуть, как тут же начинается отлив. Кстати, не без твоей помощи. И уж кому-кому, а тебе грех жаловаться. У тебя все командиры, начиная с сотников, получают — будь здоров. Не то что генералы в той России, откуда мы прибыли и у которых, как ты рассказывал, паек чуть ли не втрое хуже собачьего[89].
— Ну, тут ты молодца, — примирительно заметил Вячеслав.
— Это не я молодца. Считай, что я это делаю за счет олигархов, которых нет. Если бы их не было в то время, в котором мы жили, то хватило бы и армии, и бабкам на молочишко и вообще, — улыбнулся Константин.
— А говоришь прямо как наш Михал Юрич, даже хлеще, — хмыкнул воевода. — Но он-то вроде давно угомонился, а вот ты нехорошие намеки отпускаешь.
— Никаких намеков. Это голые факты и только. Главные беды из-за очень резкого расслоения людей. А сейчас на Руси такого, чтоб один миллиарды получал, а сотни тысяч концы с концами еле-еле сводили, — нет. Сам посмотри. Конечно, у купцов — терема, а у крестьян лишь четвертая часть в хороших избах живет, да и землянки с полуземлянками не редкость, но я тут для себя статистику веду. Взял десяток деревень покрупнее под наблюдение и контролирую. Так вот только за последние десять лет изб там прибавилось втрое, а землянок… В одной деревне они вообще исчезли, еще в двух — и десяти штук нет, да и прочий народ гораздо веселее зажил. А главное — толпами чуть ли не под конские копыта кидаются и провожать бегут до самой околицы. Бабки крестят вслед, благословляют, а молодые просто стоят, рты разинув. Хотя что я тебе рассказываю — ты же сам со мной не раз ездил, так все девки больше на тебя глазели.
— Да ладно уж, — засмущался Вячеслав.
— А что до денег, то скажу, как на духу. Да, имею я заначку. Без нее, сам понимаешь, никуда. Там и золото отчеканенное, тысчонок на десять, да и серебра не меньше.
— А медь? — поинтересовался воевода. — Что, всю народу сбагрил? Кстати, я, честно говоря, так и не понял, почему он у тебя ее так мирно воспринял? Помню, в книжках читал, что даже бунты из-за денег были, когда правительство жульничало и свою медь на серебро меняло. Точно-точно, они так и назывались — медные. А у тебя тишь, гладь да божья благодать. Это как?
— Да ты сам и ответил. Бунты из-за чего были? Правительство действительно жульничало. Платило медью, а налоги требовало серебром. Я же без обмана поступаю. Наоборот, в первые годы, когда только вводил ее в обиход, чтоб разменной монеты побольше было, указ издал — не меньше десятой части налога платить мне в казну медью. Больше — пожалуйста, а меньше — ни-ни. А раз все по-честному, то и возмущаться нечем. И крутится она у меня с тех пор не хуже серебра. По той же причине ее даже иноземные купцы спокойно принимают, потому что знают, что при отъезде обменять ее на серебро или золото можно без проблем.
— А ведь говорила мне мамочка в детстве, чтобы я политэкономию капитализма учил, — начал было Вячеслав, но потом, засмеявшись, махнул рукой и полюбопытствовал:
— А заначка для чего?
— Как обычно, — пожал плечами его друг. — На черный день, которого очень не хотелось бы увидеть на Руси. Хорошо бы, чтобы эти деньги не понадобились, но в готовности их, как и армию, держать надо.
Сейчас, вспоминая тот разговор трехлетней давности, — да, точно, он состоялся аккурат перед Вторым крестовым походом, после которого «заначка» в царской казне увеличилась втрое, — Константин отчетливо сознавал, что пришел тот самый черный день, и, по всей видимости, не один.
Ему не было жаль денег, которые Зворыка по его повелению уже погрузил на несколько саней, чтобы отправить сюда, в Нижний, где предстояли главные расходы. Ему было жаль, что черный день все-таки наступил, причем именно тогда, когда, казалось бы, можно было чуточку расслабиться, провести побольше времени со старшей дочкой Настенькой, к которой по весне должны были прибыть послы из далекого Царьграда, чтобы увезти родное дитя далеко-далеко.
А ведь он так надеялся хоть чуточку побаловать ее своим вниманием. Пусть Настя, став византийской царевной, а впоследствии — императрицей, не забывает родной дом. Да не просто не забывает сама, но и постоянно напоминает о том мужу — Фео-дору Ласкарису.
Он, кстати, тоже должен был прибыть вместе со своей свитой, потому что свадебных пиров намечалось два, и один из них, причем первый, с торжественным венчанием и прочими обрядами, должен был пройти именно в Рязани.
Как ни удивительно, но Иоанн III, хотя и не сразу, а после долгих колебаний, согласился на такое беспрецедентное требование Константина. Правда, взамен этой уступчивости ему было обещано, что теперь количество русских дружинников в Царь-граде удвоится. Пусть будущий император и его юная — всего семнадцатый год идет — супруга имеют такую же надежную защиту, как и сам Ватацис.
Кроме того, Константин обещал выступить третейским судьей и «по-родственному»[90] утихомирить аппетиты болгарского властителя, который положил глаз на некоторые области Фракии[91], громогласно утверждая, что во времена Первого болгарского царства[92] все они входили именно в его состав.
«Ну и о какой свадьбе теперь можно вести речь? — уныло размышлял Константин, пораженный наповал страшной вестью о полном разгроме всех двадцати полков, среди которых были Муромский, Владимирский, Ростовский, Суздальский, Ярославский, Тверской, Переяславль-Залесский и Рязанский. Последний номинально возглавлял внук Константина, совсем юный Николай Святославич, который попал в плен, как утверждал все тот же беглец, невесть каким чудом улизнувший из Оренбурга, захваченного монголами.
Это известие заключало в себе сразу несколько трагедий, в совокупности образующих одну огромную катастрофу.
Во-первых, гибель двадцати тысяч воинов. Да, половина из них была малообучена либо вовсе не имела выучки. Но оставшиеся были ветеранами. Чтобы их заменить — новобранцев не меньше пяти лет гонять надо. Можно готовить людей и по ускоренной программе, за пару лет, но в настоящих боях. Кто выжил, тот и ветеран.
Ну, с ними ладно — найдется замена. Пусть это звучит цинично, но нет сейчас времени, чтоб предаваться скорби, с того света все равно никого не вытащить. Точно таких же ветеранов на Руси пока еще в достатке, а если присовокупить к ним тех, кто занимался военным делом хотя бы три года, то, даже считая грубо, на глазок, хорошей пехоты набиралось не меньше пятидесяти тысяч.
Зато с конницей ситуация выглядела значительно хуже. Это уже во-вторых. Уповая на мощь пешего строя и справедливо полагая, что воспитать хорошего конного воина быстро никак нельзя, Вячеслав не очень охотно увеличивал их контингент.
Пять тысяч Русь могла выставить сразу — дружина царя. Считая конные сотни, существовавшие в каждом пешем полку, можно было получить тысячу при наличии десяти пеших полков или две — при двадцати. И это все.
Десять дружин подручных князей, по три сотни в каждой, давали еще около трех, но их в расчет принимать нельзя — уж очень они далеко. Успеют сюда прибыть, нет ли — никто не знает. Да, гонцов Константин отправил давно. Да, все эти дружины находятся чуть выше заново отстроенной Шарукани, где тоже проходили учения в степи. Но пока гонец доберется под Шарукань, пока те прибудут — срок долгий, поэтому рассчитывать на них глупо.
В целом расчет верховного воеводы был оправдан. Действительно, зачем учить конному бою землепашцев, когда на русских землях живут и половцы, и союзные аланы вместе с башкирами, и саксины, словом, кочевников и впрямь хватает. При необходимости только молодой князь ясов[93] Качир-укуле, еще десять лет назад не без помощи русских сабель усевшийся на отцовское место, мог выставить до десяти тысяч всадников. Столько же людей насчитывалось и у Бачмана, хана всех половецких родов, старшего сына покойного Данилы Кобяковича.
Но и это была всего половина, даже меньше. В целом же, если добавить к ним воинов всех племен, кочующих по степным просторам между реками Волгой и Яиком, получалось порядка шестидесяти тысяч. Что и говорить — весомая цифра. Пускай гораздо меньше, чем у монголов в случае предполагаемого нашествия, но тоже о-го-го.
Константин до последнего дня не оставлял надежду вбить клин между детьми Чингисхана, которых к этому времени в живых оставалось всего трое — верховный каан Угедей, назначенный самим Чингизом, хранитель Ясы Чагатай и совсем юный Кулькан, последыш, который доводился остальным только единокровным братом[94], то есть по отцу.
Постепенно, полегоньку да потихоньку, что-то ему удалось, но, как оказалось, мало. Никто не осмелился нарушить повеление Угедея, и все чингизиды прибыли к западным границам улуса Бату. Прибыли не для того, чтобы помочь ему в войне со своими братьями Орду и Шейбани, а для выполнения завета их великого деда Чингисхана, то есть для похода на западные страны. И у каждого не меньше тумена, иначе монгольскому царевичу зазорно. Значит, получается как минимум сто тысяч всадников.
И теперь, после того как они разлились широкой волной в заволжских степных просторах, противопоставить им удастся даже не шестьдесят, как планировалось поначалу, а лишь половину — поди собери сейчас этих башкир с саксинами. Нет, драться они, конечно, будут, но их разрозненное сопротивление хан со своими братьями подавит в первый же месяц.
Теперь добавлялось еще и в-третьих — пал Оренбург. Дело даже не в том, что некому будет жалить монголов в спину. Это как раз мелочи. Но если верить беглецу, то получалось, что сейчас там уже работают китайские специалисты, изучая устройство пушек и как ими пользоваться. При их уме и смекалке много времени на это не понадобится. От силы — неделя, самое большее — две.
И теперь, какую удобную позицию ни избирай для пеших ратников, все равно в конечном итоге ситуация сулила поражение. Каких ветеранов ни ставь, а несколько артиллерийских залпов в упор, и все — не поможет никакая выучка. Коннице же останется только доделать дело.
Ко всему этому добавлялось еще и в-четвертых. Лето выдалось мерзкое, дождливое, и уже отлитые готовые пушки застряли на Урале. Было их без малого полсотни. Несостоявшуюся летнюю отправку перенесли на зиму. Константин озаботился этим в первую очередь, послав туда Слана с десятком воинов, чтобы они ускорили дело. А им вдогон ушел Ряжский полк вместе с воеводой Юрием Михайловичем.
Теперь оставалась надежда лишь на то, что монголы не перехватят их по дороге, потому что разведка — оружие обоюдоострое. Твоя на тебя работает, а вот вражеская — все больше в противоположном направлении.
И если брать нынешнее время, то самой лучшей после русской была именно монгольская. Конечно, ни сам Чингисхан, ни его ближайшие советники не знали многого из того, что было известно Константину и его другу Вячеславу. Они не видели «Мертвого сезона», не слышали о резидентуре и глубинном внедрении, не имели представления о том, что может сделать для победы в войне какой-нибудь Штирлиц.
Зато у них было дьявольское чутье, сатанинская интуиция и главное — возможность распоряжаться колоссальными резервами. Обилие людей позволяло им, например, отрядить в стратегический разведывательный рейд сразу два тумена конницы.
«Нет, даже три, — тут же мысленно поправил себя Константин. — Первоначально Чингисхан отправил в погоню за хорезмшахом Мухаммедом именно три тумена. Это мне просто повезло, что один из них, ведомый темником Тохучаром, был разбит еще в Иране, а его остатки Чингисхан забрал, чтобы задавить Инанджхана[95]. А если бы нет, то как знать, кто взял бы верх в тот Красный год. Если рассуждать объективно, то Субудаю не хватило для победы каких-то пары-тройки тысяч людей и десяти минут[96]. Сейчас он вновь идет на Русь со своим выкормышем[97], только теперь имея не меньше ста двадцати тысяч воинов. Мда-а, это солидно. Хотя, если память мне не изменяет, то в той официальной истории он шел тремя клиньями. Может быть, удастся воспользоваться хоть этим. Вот только пушки…»
Додумать он не успел. Дорога закончилась, и перед Константином будто из-под земли выросли одетые в мешковатые белые халаты молчаливые ратники одного из передовых дозоров, зорко охранявших все подступы к гигантскому военному лагерю, раскинувшемуся на несколько квадратных верст.
Впрочем, как они заслонили путь, так сразу же его и освободили, выстроившись со снятыми шапками вдоль узкой санной колеи и готовые тут же вновь уйти в столь же молчаливый, как и они сами, сосновый лес, раствориться в нем и зорко охранять дорогу от чужаков.
— Чьи будете? — не удержался от вопроса Константин.
— С Юрьева-Польского, — охотно отозвался старший, уже в годах, о чем свидетельствовали первые серебристые паутинки легкой седины в густых волосах, и сам, в свою очередь, осведомился: — А дозволь спросить, государь. Неужто верно люди говорят, что басурмане побили в степях наших воев? Я не из праздного любопытства спрашиваю, — тут же пояснил он. — Брательник у меня вместе с Владимирским полком ушел. И сына своего старшенького с собой прихватил.
Константин с упреком обернулся на потупившегося Прока, всем своим видом выражавшего глубокое раскаяние, и укоризненно вздохнул. Говорил же ему, чтоб помалкивал. А теперь что прикажешь делать? Да чего уж там. Все равно не сегодня, так завтра все бы обо всем узнали.
Он неторопливо откашлялся, пытаясь подобрать нужные слова, чтобы смягчить известие, но на ум ничего путного и не приходило.
— В первый раз братанич на учебу пошел? — уточнил, выгадывая время.
— Ага, — охотно пояснил старший.
Константин вздохнул. Придется говорить как есть, чего уж тут рассусоливать.
— Нет более тех полков, — сумрачно ответил он. — Верно тебе сказывали. Побили их.
— Стало быть, нехристи сильнее оказались? — с тревогой в голосе спросил сосед старшого.
— Силача приветь с радушием, да медом хмельным напои, а уж когда он осовеет, ему любой сумеет в спину нож воткнуть. Так и они, — тщательно подбирая слова, пояснил Константин. — Обманом да хитростью одолели. У нас на Руси такого не принято, вот и поверили душегубам, — и ободрил: — Ништо. Встретимся, так за все спросим. И за брательника твоего, и за братанича.
Он посмотрел на опечаленного ратника и вдруг неожиданно для самого себя пожаловался:
— Я ведь тоже туда внука отправил. И тоже… впервой, — а продолжать не стал — помешал вставший в горле комок.
Словом, в просторную штаб-квартиру, а если попросту, то избу в центре лагеря Константин вошел с настроением хуже не придумаешь. Уже после встречи с дозорными в его памяти всплыли кое-какие неприятные исторические ассоциации, которыми он и решил поделиться с Вячеславом.
Ведь точно так же зарылся в свое время в лесах и князь Владимиро-Суздальской Руси Юрий Всеволодович. Тоже ратников собирал, а в итоге что вышло? Расколошматили его монголы в пух и прах, и всего делов.
Да, у Константина, в отличие от Юрия, есть пушки, но они — не панацея. Сами по себе, что лишний раз убедительно доказали недавние события в степи, они никого не спасут, так что нужно немедленно переходить к решительным действиям, а не отсиживаться в пассивной обороне. К тому же, как теперь выяснилось, у Бату тоже появилась артиллерия.
Верховный воевода, стоя спиной к входной двери и не обратив на вошедшего друга ни малейшего внимания, продолжал сосредоточенно водить гусиным пером над огромной, во весь стол, картой, чертя в воздухе загадочные линии и круги. На левую ее половину Вячеслав не глядел, колдуя исключительно над правой, восточной стороной и что-то негромко напевая себе под нос.
Константин прислушался. Ну, точно, так и есть, очередная песня-переделка на злобу дня.
Вставай, страна огромная. Вставай на смертный бой, С монгольской силой темною, С проклятою ордой.«А ведь здорово получается, — подумал Константин, с удивлением отметив, что в песне почти ничего не надо менять, разве что «фашистскую» на «монгольскую». — Надо будет нашего патриарха известить. Пусть со священниками мотив разучит. Они-то к пению приучены, так что с них и начнем, а там и прочие подхватят».
Пусть ярость благородная Вскипает, как волна, Идет война народная, Священная война… —тем временем продолжал напевать Вячеслав, уже вообще ничего не меняя.
— Что характерно, — кашлянув в кулак и привлекая тем самым внимание тут же обернувшегося друга, произнес Константин. — Я думаю, сам Лебедев-Кумач одобрил бы твое бережное обращение с его произведением[98].
— Так это он ее написал? А я и не знал, — равнодушно заметил воевода, но тут же оживился. — Это хорошо, что у него такая фамилия. Чтоб плагиатом не заниматься, я, пожалуй, если кто спросит, так и скажу. Мол, услыхал ее от гусляра, который назвался Лебедем. А ты чего такой мрачный, царь-батюшка? — озабоченно спросил он, но тут же вновь уткнулся в карту, проводя над ней очередную невидимую линию, заканчивающуюся где-то возле устья Волги.
— А где вторая половина нашего квартета? — поинтересовался вместо ответа Константин, слегка обиженный таким невниманием друга.
— Патриарх, как ему и положено, ведет в массах усиленную партполитработу, вдохновляя личный состав на новые героические подвиги во славу Руси, — сообщил Вячеслав, по-прежнему не отрывая глаз от лежащей перед ним карты. — А Михал Юрьич еще из Ожска не прибыл. Как улетел туда еще из-под Переяславля-Залесского, так все технику боевую собирать продолжает. А это кто с тобой? — наконец обратил он внимание на Прока, который топтался у дверей, не решаясь пройти дальше и не зная, что ему делать.
— Это… новость, — мрачно ответил Константин и зловеще пообещал: — Боюсь, что Михал Юрьича мы не дождемся.
— Значит, новость плохая, — рассудительно заметил Вячеслав, по-прежнему улыбаясь.
Но едва беглец начал рассказывать о своих злоключениях, как улыбка тут же сползла с лица воеводы, уступив место мрачному раздумью.
— А я уж надеялся, что все рассчитал, — произнес он, с разочарованием глядя на карту. — Придется все переделывать. Так ты говоришь, басурмане все эти дни в Оренбурге только и делали, что крутились возле наших пушек? — уточнил он.
— Ага, — подтвердил Прок. — Почитай, вовсе от них не отходили. Только там разорвало одну, как я понял. Уж больно сильно бабахнуло.
— Как это? — удивился Вячеслав. — От неосторожного обращения, что ли?
— О том я не ведаю, — пожал плечами Прок. — Знаю лишь, что если бы не это, мне бы бежать не удалось, а как рвануло — такой переполох поднялся, что я и улизнул.
О Гайране Прок решил не рассказывать вовсе, хотя смутно подозревал, что если пушку на самом деле разорвало, то не просто так, а с его помощью. Да тот и сам, криво ухмыляясь, пообещал, что Прок о нем очень скоро услышит. Но одно дело — подозревать, а другое — утверждать. Уж лучше поведать только то, что видел собственными глазами. Так-то оно понадежнее будет.
— Вои, кои в степи в полон захвачены были, сказывали, что их пушкари ни разу и не стрельнули. Не успели. А потом сами себя взорвали, чтобы живыми не даться, — добавил он.
— Если мне память не изменяет, то у них было аж пять батарей, то есть пятьдесят стволов, — задумчиво произнес Вячеслав. — Да еще двадцать в Оренбурге. Всего, стало быть, семьдесят. И еще десять тяжелых, которые при осаде — милое дело. Получается, как любила говорить моя мамочка Клавдия Гавриловна, нашим же салом и нам по мусалам. А ты смышленый, — неожиданно похвалил он ратника. — Сумел удрать. Такая смекалка дорогого стоит. Тяжко пришлось?
— Думал, что не повидаю родимый дом, — сознался Прок.
Вячеслав налил до краев внушительный серебряный кубок и протянул его ратнику:
— А это тебе от меня, Прок. Пей, раз заслужил, — после чего, выглянув в дверь, велел страже проводить притомившегося воина и разместить его на ночлег.
— Он тебе еще кое-чего не рассказал, — вздохнул Константин, когда воевода вернулся обратно. — Николая, внука моего, в плен взяли, а Святозар на сторону монголов перешел.
Вячеслав от такой новости вытаращил глаза и брякнулся на лавку. Он что-то хотел сказать, но, открыв рот, тут же закрыл его.
Константин сам прервал тягостную затянувшуюся тишину.
— Может, Прок чего не понял? — осторожно произнес он. — Но пока что вот так.
— Да Святозар — классный парень. Не мог он предать! Никак не мог! — горячо поддержал друга воевода.
И тут же в дверь ввалился еще один гонец. Его пытались утянуть обратно ратники, стоявшие на охране входа, но вломившийся дядя был огромного роста и с такими необъятными плечами, что даже не обращал внимания на их жалкие потуги. Упрямо мотая головой, он упорно втискивался в избу.
Глава 14 Беда одна не ходит
Примерно должно покарать Виновного, дабы, явивши Пример суровой самой кары, Предупредить в других желанье Мятежною крамолой встать. Лопе де Вега— Беда, государь, — бросил он отрывисто. — Яик пал.
Хорошо, что позади Константина стояла лавка, на которую он тут же и брякнулся рядом со своим другом.
— Час от часу не легче, — вздохнул Вячеслав и набросился на воинов, державших гонца: — Да отпустите вы его! Неужто не видно, что свой, что скакал без отдыха, торопился!
Несколько обиженные часовые, раздосадованно ворча что-то вполголоса, отступили от детины и удалились.
— Давай-ка все по порядку, — обратился Константин к ратнику. — Присядь поудобнее, а потом излагай, — он махнул рукой в сторону пустой лавки, стоящей напротив.
Странное дело, но эта новость о падении Яика вовсе не добила его, даже наоборот. Утренняя апатия куда-то улетучилась, уступив место холодной рассудительности и невозмутимости. Ему даже показалось, что, появись тут еще один гонец и сообщи вовсе уж невероятное, типа того, что пала Рязань, он и тогда не утратит спокойствия, во всяком случае внешнего.
Верно в народе говорят — слезами горю не поможешь. Ох как верно. Помочь можно только размышлениями, расчетом, составленным на их основе, и действиями, исходящими из него. Причем расчет, от которого зависят действия, на сей раз должен быть безошибочным, потому что права на промах он уже не имеет. Оно было у него когда-то, давным-давно, но теперь осталось далеко-далеко отсюда, под Оренбургом, где-то там, в заснеженной степи.
— Вначале дай ему воды испить, — толкнул он в бок Вячеслава, заметив, как гонец жадно облизывает пересохшие губы, покрытые кровоточащими трещинами.
Хотя и лицо детины тоже было не лучше. Обветренные, кое-где белые — скакал, не замечая обморожения, — щеки с шелушащейся кожей, усталые воспаленные глаза, усеянные тоненькими красноватыми ниточками, — все это говорило о том, что скачка длилась не час-два, а много-много суток.
Пил детина жадно и долго, проливая воду на свою окладистую бороду, пока вместительный, не меньше чем литра на два, жбан, который ему подал Вячеслав, не опустел окончательно.
Перевернув опустевшую посудину вверх дном и убедившись, что в нем нет больше ни капли, гонец со вздохом сожаления поставил его близ себя и только после этого произнес:
— Благодарствую, государь. Я ведь…
— Остальное потом, — быстро перебил его Константин. — Теперь сказывай обо всем, что случилось. Но по порядку, чтоб я не переспрашивал.
Картина, которую обрисовал десятник крепости Яика Живич, была следующей. Оказывается, Святозар еще задолго до злополучной битвы, едва приняв решение помочь Бату, благоразумно рассудил, что глубокий охват могут с равным успехом сделать как его друг, так и братья хана. Они тоже чингизиды, а неожиданный удар в спину — безотказное, а потому самое любимое оружие их деда.
Словом, князь решил подстраховаться и послал гонцов в соседние Орск и Яик с повелением каждый день высылать в степь, в сторону Оренбурга полусотню для дальней — в полтораста верст — разведки. Дневной переход — полсотни верст, следовательно, на следующее утро за этой полусотней должна выходить другая. Бдеть в оба, а если что, не вступая в бой, немедленно упредить оренбуржцев, ну и своих тоже. И дежурить, пока он не пришлет гонца с отменой.
— Мы из последних были, — рассказывал Живич. — Обратно возвращались кружным путем. Там недалече стойбище, а у полусотника, вишь, зазноба в нем живет. Крюк не столь и велик, к тому ж в детинец засветло все равно не поспевали, а лишний раз ночевать в степи — радость невелика. Ты уж прости, государь, — повинился он.
— Бог простит, — отрывисто произнес Константин и поторопил: — Дальше, дальше говори.
— А дальше как во сне, — вздохнул помрачневший рассказчик. — Ту полусотню, что нам должна была встретиться, мы верстах в двадцати от Орска нашли. Коней, коих не убили, нехристи с собой взяли, а тела прямо близ вражка[99] лежали. На иных и места живого не сыскать. Видать, уже над покойниками чьи-то злые души потешились. Хотели мы было к Оренбургу скакать, чтоб упредить, как князь велел, ан глядь — путь-то вражий к нам ведет! Прямиком к Яику. След не сворачивает, не таится. Открыто они ехали, не боясь. Мы за ними.
— Сколько их было? — не удержался от вопроса Вячеслав.
— Нагнать-то мы не успели, а потом не до того, но ежели по следам судить, то чуть ли не два полка выходит.
— Два полка — это две тысячи, — сделал вывод Константин и нахмурился. — В крепости должно было оставаться не меньше четырех, пускай трех сотен. Как же случилось, что они ее взяли?
Живич нагнул голову, мрачно посопел и, не отрывая взгляда от пола, буркнул:
— Повели, государь, чтоб воевода из избы вышел. Тайное хочу поведать.
Константин с Вячеславом удивленно переглянулись. Успокоительно хлопнув друга по руке, мол, ерунда, потом сам мне расскажешь, воевода привстал со своего места, но был решительно остановлен.
— У меня от него секретов нет, — твердо произнес Константин.
— Не пожалеть бы, — зловеще пообещал Живич, намекнув: — О князе Святозаре Константиновиче слово хочу молвить.
Услышав это, Вячеслав сделал еще одну попытку встать, но рука царя вновь притормозила его движение.
— Говори при нем, — каким-то холодным, безжизненным тоном повелел Константин.
— Мы сбоку подъезжали к воротам. Те уже нараспашку были. Внутри крики, визги, ор до небес. Не иначе как бой. Въехали вовнутрь, и точно. Только не бой это был — резня.
— Дальше что? — нетерпеливо подхлестнул Константин.
— Ежели бы не полусотник наш, то я бы тут не сидел, — вздохнул Живич. — Он первым опомнился. Ко мне поворачивается и говорит: «Бери свой десяток и немедля скачи к Константину Володимерови-чу». А лик у самого белый, будто снегом кто облепил. Я спрашиваю: «А не спутал ты, Скорода? Не к Святозару Константиновичу?» А он мне: «Неужто сам не видишь? Протри зенки-то! Вон он, на коне сидит». Я глянул, и впрямь… князь. Довольный такой.
— Связанный? — уточнил Константин.
— Связанный так не веселился бы, — зло заметил Живич.
— Что?! — в один голос вскричали оба.
— А то! — огрызнулся десятник и тут же с упреком заметил: — Говорил же я тебе, государь, удали воеводу. Для того меня Скорода и послал, чтоб упредить тебя об израде.
— А он сам-то чего не поехал? — осведомился Вячеслав, то и дело сочувственно поглядывая на друга.
— Так в воротах остался вместях с остальными. Не ведаю, сколь долго он в них держался, но не менее часа, потому как погоню мы не видели. Ежели поганые ее и выслали, то припозднились. А к вечеру метель поднялась. Тут уж ищи — не ищи, все едино след бы утеряли.
— Еще чего есть сказать? — безжизненно спросил Константин, еле шевеля губами.
— Есть и еще кой-что, — кивнул Живич. — Бату в твою сторону идет, и хорошим ходом.
— А это ты откуда узнал? — насторожился воевода.
— Мы с его передовым дозором чуть не столкнулись лоб в лоб. Тут я не удержался и повелел приотстать. Думал, до ночи выжду, а там… Уж больно хотелось хоть малость за Яик отплатить, — повинился десятник. — А пока мы по их следам шли, они на стойбище кирьятов[100] налетели. Понятное дело, вырезали всех, а потом пировать сели, ну и перепились изрядно, даже сторожа уснула. Словом, подсобил Господь. Вот мы малость и поразмялись, сердце потешили. Их там немного было — трех десятков не наберется. А четверых удалось живыми взять. Помяли немного, а так целехоньки. Мы до ближайшего лесочка доскакали, там костерок развели, да и поговорили… по душам. Трое из рядовичей. И рады бы сказать, да нечего. А четвертый полусотником оказался. Вот он и поведал нам о хане Бату. Говорил, что тот воев своих поделил надвое. Одним повелел прямиком к Волге следовать, а уж оттуда вверх, через Дикое поле, на рязанские земли. Их малость помене. То ли четыре, то ли пять туменов туда ушло.
— А кто их ведет — он не говорил? — спросил Константин, начиная постепенно приходить в себя.
— Говорил и это, — кивнул Живич. — Напужался нехристь, когда мои ребятки на тех троих показали, что его ждет. Ты уж не серчай, княже, но тут я по памяти не скажу. Басурмане они, и кличут их, прости господи, так, что аж по пять разов переспрашивали.
— Может, хоть одно имечко запомнил? — уточнил Константин.
— Неа, — твердо ответил Живич. — У меня сызмальства память на имена дырявая. А зачесть — зачту.
С этими словами он невозмутимо залез к себе за пазуху, сосредоточенно покопался там, бережно достал какую-то грязную тряпицу, неспешно развернул ее, извлек еще одну тряпицу, правда, побелее цветом, зато в каких-то бурых разводах и полосах.
— Ты уж не серчай, княже, что я тут чумазым исподним похваляюсь, — виновато заметил десятник. — Но боле писать не на чем было. Пришлось на себе рубаху разодрать да кровью накарябать.
— Своей?!
— Зачем своей, — благодушно пожал плечами детина. — Чай у нас три ворога под рукой было. Им она уже все равно без надобности, а так в дело пошла. Читать, что ли ча? — и вопросительно посмотрел на Константина.
— Читай, — кивнул тот.
Живич откашлялся, нахмурился, потом осторожно, по складам, произнес первое имя:
— Ху… ху… юк.
Воевода, не удержавшись, фыркнул, царь крякнул, а детина, смущенно посмотрев на них, пояснил:
— Разов пять я его переспрашивал. А он все одно талдычит. Пришлось так и написать.
— Что-то я чингизидов с таким именем не припомню, — разочарованно протянул Константин. — Хотя, погоди-ка, — он наморщил лоб, прищурился и удовлетворенно кивнул. — Ну, точно — Гуюк. Так, с одним разобрались. Кто следующий?
— Хай… хай… дар, — тоже с запинкой произнес Живич и вновь робко покосился на государя — правильно он сказал или опять ошибся?
Ага, раз молчит, значит, все верно.
И уже более уверенно принялся читать дальше:
— Бури, Кадан, Менгу.
— А Кулькана там не было? — спросил Константин.
— Был и Кулькан, — уверенно кивнул Живич и тут же настороженно осведомился: — А откель тебе это имечко ведомо?
Вячеслав выразительно постучал себя согнутым пальцем по лбу:
— Ты думай, десятник, когда говоришь. А когда спрашиваешь — тем более. И кто перед тобой сидит — тоже не забывай.
Живич сокрушенно вздохнул и честно повинился в собственной глупости:
— После виденного я уж и в разум не возьму — кому верить, а кого стеречься надобно.
— Ладно, — махнул рукой Константин, прощая, и, после некоторой заминки, с видимым трудом уточнил: — Ты Святозара сам видел?
— Так он там один, почитай, и был из наших-то. Подле него пяток басурман, и все. Как тут не разглядеть?
— Может, веревок на руках не увидел? Далеко все-таки, — предположил Вячеслав.
— Так он рукой куда-то вдаль указывал. Нет, воля твоя, воевода, но связанным он не был.
— Довольно! — с болью в голосе выкрикнул Константин, пресекая дальнейшие расспросы. — Награду ты, сотник, честно заслужил. Но о ней говорить не время. Теперь мне…
— Десятник я, — опасливо — все ж таки царю перечит — тем не менее поправил Живич.
— Раз государь сказал сотник, значит — сотник, — заметил Вячеслав.
— Благодарствую, конечно, царь-батюшка, — поднялся во весь богатырский рост новоявленный сотник. — Но лучше бы ты бы меня иным одарил, что тоже в твоей воле. А уж я отслужил бы на славу.
— Чего же ты хочешь? — ровным голосом спросил Константин.
— Дозволь мне в твоем головном полку быть, когда сечу с басурманами учнешь. С их дозором у меня не сказка, а так — присказка получилась. Уж больно мне за Яик спрос учинить с них охота, — пробасил Живич. — А там хоть сотню поведу, хошь, как и прежде, — десяток. Тут мне все едино.
— Хорошо, — кивнул Константин. — Будешь ты в сече в первом ряду. Обещаю. А теперь иди. Да про Святозара там…
— Нешто я дите какое? — даже обиделся Живич. — Чай на плечах кака-никака глава имеется. Потому и просил тебя воеводу удалить. Я-то, знамо дело, промолчу, а за кого иного ручаться не стану, — и он с подозрением покосился на Вячеслава.
Тот неодобрительно засопел, но вслух выражать свое негодование не стал — уж очень нелепым было это обвинение в возможной болтливости. Вместо этого произнес:
— Как выйдешь, сверни налево и по тропке прямиком. Спросишь, где воеводу Пелея найти, — сумрачно добавив: — Рязанского полка больше нет, Ряжский ушел, значит, Ольговский первым встанет. В нем ты и будешь.
Живич давно ушел, но Константин продолжал сохранять мрачный вид и по-прежнему молчал, сосредоточенно размышляя о чем-то своем. Воевода прошелся по комнате раз, затем другой, но друг так и не разжал рта. Пришлось брать инициативу на себя.
— Я так думаю, — начал он размышлять вслух. — Про пушки я неправильно считал. Если Свято… Гм. Короче, если монголы возьмут все крепости, то получается, что у них будет не восемьдесят, а двести тридцать стволов. В Уфу мы, конечно, людей пошлем, чтобы предупредить, но, скорее всего, не успеем, потому что, как говаривала моя мамочка Клавдия Гавриловна, при наличии двух зол всегда произойдет большее, а из всех возможных вариантов развития событий сбывается самый плохой. Значит, пушек у Батыя будет как грязи, — и сам же присвистнул. — Однако, как говорили чукчи и незабвенный Киса Воробьяни-нов. Да плюс к ним еще и башковитые китайцы, которые, скорее всего, уже разобрались в принципе действия. Вот заразы! — Он не выдержал и выругался. — Им ведь даже не надо думать, сколько пороха под заряд отмерять, — мы сами все по мешочкам разложили. Берите, господа хорошие, и пользуйтесь. Так что Рязань не просто осада ждет, но еще и пушечный обстрел. Ты, кстати, не помнишь, государь, сколько там у нас на каждое орудие пороху и ядер заготовлено, а то я что-то запамятовал? — спросил он как бы между прочим и выжидающе покосился на Константина.
Разумеется, Вячеслав в подсказке не нуждался. Как-никак сам прикидывал и сам же составлял указ на подпись царю. Но должен же он как-то разговорить друга, а с чего начинать?
— Нет, — коротко ответил тот и пояснил: — Это я про Рязань. Не даст Бату Гуюку пушки. Себе возьмет. И сил у Гуюка поэтому меньше, чем у Бату. Не ладят они друг с другом. Еще с Китая у них неприязнь. Да и мои люди для этого тоже постарались. Короче говоря, Бату будет дожидаться, пока тот себе обломает все зубы о рязанские стены.
— Ты уверен? — усомнился Вячеслав.
— Ну, разумеется, не просто дожидаться, — пояснил свою мысль Константин. — Он пока займется булгарскими городами. И еще одно. Простой объезд всех крепостей для сбора пушек займет слишком много времени. Скорее всего, Бату пойдет прямиком на хана Абдуллу, повелев, чтобы пушки ему привезли сразу же, как только… если только Святозар поможет взять крепости. Значит, время у нас есть.
— А пока он будет безуспешно штурмовать бул-гарские города, мы двинем войска на Гуюка, — подхватил воевода. — Слушай, а мне нравится ход твоих мыслей.
— Нельзя, — вздохнул Константин. — У нас с Булгарией договор. Мы же тебе не англичане какие-нибудь, у которых нет друзей, а только интересы. И не американцы. Если Русь дает слово, то должна его держать, и никуда от этого не денешься. Поэтому дуй к Рязани, а по пути перехватывай все полки, которые спешат сейчас в Нижний, и направляй их туда. Только не торопись, и все согласуй с ясами и половцами. Нужно создать такое кольцо, чтобы обратно в степь ни один монгол не ушел.
— А зачем так сурово? — усмехнулся Вячеслав.
— Только так, — подтвердил Константин. — Пойми, Слава, что наши победы сами по себе исход этого противостояния не определят. Они лишь растянут его во времени. А решит его именно то, что я сказал, то есть беспощадность, возведенная в куб. Они пришли на нашу землю с оружием, значит, уйти не должен никто. Только такая звериная жестокость сломает монголам хребет. Пленных отдай всех полностью ясам и половцам. Пусть сделают с ними все что хотят, но к лету чтоб я ни одного монгольского рыла у них не видел. Рабов на Руси быть не должно, а свободными я их видеть на своей земле не желаю. Хотят — пусть перережут, нет — в Кор-чеве продадут. Причем всех поголовно. Хотя есть и исключение. Надо сохранить жизнь, во всяком случае постараться это сделать, царевичам-чингизидам. Особенно Гуюку и Кулькану.
— Они что — такие хорошие? Или такие умные, что могут пойти на мировую?
— Не думаю, что они хорошие, и навряд ли — умные. Но Гуюк очень властолюбив, так что, несмотря на отцовское завещание, он все равно будет лезть после его смерти в верховные правители, а мы ему поможем. И из плена вовремя освободим, и даже людей дадим. Пусть заваривает кашу. У него есть два важных преимущества по сравнению со всеми остальными. Во-первых, он христианин, хотя и несторианского толка[101].
— А это как?
— Долго объяснять, — отмахнулся Константин. — Короче, отличия от православия в нем есть, но, в конце концов, я же не патриарх и не священник, так что запросто могу посмотреть на все эти нюансы сквозь пальцы. Все равно, раз он христианин, то нам будет легче с ним договориться.
— А во-вторых?
— Об этом я уже говорил. Он жутко завидует Батыю и ненавидит его. Кстати, с ним идут сыновья Угедея и Чагатая, и все они — сторонники Гуюка. Поэтому и надо оставить их в живых, а в плену держать со всевозможными удобствами и почтением, чтобы подружиться.
— А не получится так, что от этого ты только проиграешь? — усомнился воевода. — Ведь если Вату узнает об этом, то остервенеет еще больше.
— Но у нас будет подписан мирный договор с Гуюком. Став верховным правителем, он повелит Бату оставить нас в покое.
— Уверен?
— На девяносто пять процентов, — кивнул Константин.
— Лучше бы на сто, — проворчал воевода, а его друг улыбнулся и спросил:
— А твоя мамочка Клавдия Гавриловна случайно не говорила тебе, что сто процентов гарантии дает только страховое агентство, да и то лишь при заключении договора, а не при его выполнении?
— И еще господь бог, — добавил Вячеслав, на что Константин лишь развел руками:
— Я ни то, ни другое. Пользуйся тем, что даю хоть столько. А уверен я в этом, потому что исхожу из психологии. Поступить надо так, чтобы досадить главному врагу.
— И ты считаешь, что из желания напакостить Бату Гуюк согласится оставить в покое такого опасного соседа, как Русь, которая когда-нибудь сама может напасть на него?
— Так ведь мы — не его соседи, — усмехнулся Константин. — В первую очередь мы сидим занозой в боку у его врага, и Гуюк будет только рад этому. И даже если Батый двинет на Русь все свои силы, то они будут очень невелики, потому что он получит помощь людьми только от родных братьев. Сыновья Угедея его терпеть не могут, а у Менгу, с которым он дружен, хватает своих проблем. К тому же пойти против своего верховного каана он ни за что не решится. Да и сам Бату не осмелится нарушить его приказ. Ты пойми, что Гуюк только и будет ждать ослушания. Любого, пускай самого маленького. Тогда у него появится повод двинуть против него не только свои войска, но и повелеть то же самое остальным чингизидам.
— А этот, как его, Кулькан. Он-то чей внук, что ты так упорно его в живых оставить хочешь?
— О-о-о, — протянул Константин. — Это вообще очень важная птица. Он — внук самого Есугея.
— А это еще что за орел?
— Скорее кречет. Между прочим, папа Чингисхана.
— Так твой Кулькан…
— Последний, пятый сын этого гада, — подхватил Константин. — Он нам нужен живым, чтобы мы могли, удерживая его в плену, шантажировать всех его племяшей — Бату, Гуюка, Менгу и прочую шелупонь.
— Навряд ли оно у тебя получится, — усомнился воевода. — Ты же сам говорил, что они косо глядят друг на дружку. Так что плевать они хотели на твоего Кулькана.
— Ты не понял, Слава. Мы будем их шантажировать не тем, что убьем его, а тем, что выпустим. Прикинь, какой это могучий конкурент в борьбе за верховную власть? Думаю, любой, кто бы там ни сел в Каракоруме, многим пожертвует, лишь бы мы продолжали держать его у себя.
— Голова, — уважительно протянул Вячеслав. — Ну, будем считать, что ты меня уговорил. — И вдруг встрепенулся. — Погоди-погоди. А как же ты сам? Здесь у тебя под рукой всего двадцать полков. Остальные в пути. Ты сам велел мне их перехватывать и забирать к себе.
— И еще конная дружина, — напомнил Константин.
— Пять тысяч и еще двадцать. Итого — двадцать пять. А против будет не меньше шестидесяти, причем сплошная конница. Да еще пускай не две с половиной сотни, но уж сотня пушек наверняка. И ты рассчитываешь продержаться, пока я не вернусь? Да тебя сомнут в первый же день.
— Есть еще булгары, — напомнил Константин. — Бату идет на них прямым ходом, значит, ему не до башкирских кочевий. Тех, кто окажется в стороне от его дороги, он не тронет. Выходит, есть кому спеть: «Вставай, страна огромная…»
— И все равно риск, причем огромный, — не согласился воевода. — А может, я здесь, а ты — туда? — неуверенно предложил он.
— Там нужен тонкий маневр и согласование. Для этого ты больше моего подходишь. К тому же у тебя за плечами военное училище. Как говорится, тебе и карты в руки, — ответил Константин. — А мне тут намного проще — стой да отбивайся. И еще одно. Если Батый узнает, что против него дерется сам русский царь со своим войском, он уверится, что стоит разбить меня и вся Русь падет к его ногам. Ему же и в голову не придет, что мы точно так же разделим свои полки. Совсем другое, если он узнает, что против него всего-навсего какой-то там воевода. Тогда он вполне может обойти тебя, прямиком ломанувшись на наши города, а я из них вывел все боеспособные полки. Вот они уж точно осады не выдержат — ни каменных стен, ни пушек. Так что иного выхода я не вижу. Кроме того, ты оставил мне половину своего спецназа. Работенку я для них сыщу, не сомневайся. Только вначале ты…
— Что? — быстро спросил Вячеслав, видя, как друг застыл в нерешительности, не отваживаясь произнести свою мысль вслух.
— Я… — протянул Константин и вновь умолк.
Воевода терпеливо ждал продолжения.
— Отбери вначале десяток самых лучших. Может быть, уже поздно, но попытаться помешать этому надо. И опять же… Святозар. Пусть они постараются отбить у монголов его и Николая.
— Одно дело — убить человека. При умении — а оно у них есть — это секундное дело, — медленно произнес Вячеслав, — И совсем другое — выкрасть. Это гораздо тяжелее. Особенно если этот человек сам не изъявляет особого желания уйти с ними, что не исключено. Значит, надо тащить его на себе. А второй изранен. Получается, что надо тащить двоих. Я, конечно, не страховое агентство, но могу дать гарантию, что провал обеспечен на все сто. В самом лучшем случае они все-таки украдут их, но убежать не сумеют, будут сразу настигнуты погоней. Что им тогда делать и как поступить?
— А ты сам что думаешь? — побледнел Константин.
— Тут случай особый. Один — твой сын, а другой — твой внук. Поэтому решать тебе и только тебе, — безжалостно отрезал воевода.
— Но вина Святозара еще не доказана! — отчаянно выкрикнул Константин. — Неизвестно, как он оказался в Яике и почему открылись ворота! Может, его как раз и хотели освободить! А Николай?! Он-то вообще безвинный! — И осекся, замолчал.
Когда через пару минут он заговорил вновь, перед Вячеславом стоял другой человек. Да и голос был совсем иной — сухой и ломкий, как опавшая листва, напрочь лишенный эмоций.
Он и речь свою больше адресовал не другу, а самому себе:
— Святозар не должен оставаться в плену, даже если этот плен добровольный. Мой сын — это знамя. Сейчас оно в чужих руках. Если враг придет сюда с моим знаменем, то народ может растеряться. На нем могут быть написаны заманчивые призывы, и у меня нет уверенности в том, что… Словом, дай людям команду вырвать это знамя из чужих рук. Любой ценой.
— А если они при этом сломают древко? — тихо переспросил воевода.
— Любой ценой, — стиснув зубы, еще раз повторил Константин. — Если оно сломается — значит, судьба.
— И Николай — судьба?
— С ним пусть зря не рискуют. Крупный отряд туда не прорвется, так что пусть едут к Эрторгулу и требуют всех людей в помощь.
— Не боишься, что будет поздно и они не успеют?
— Значит, и тут судьба, — обреченно посмотрел на воеводу Константин.
— Ну да, — вздохнул Вячеслав, молча кивнул и тут же вышел.
Медленно ступая по хрусткому упругому снегу в сторону барака, где разместились спецназовцы, он размышлял о том, что они с Костей уже больше двадцати лет вместе, столько прошли и пережили, что иному хватило бы на две, а то и на три жизни. Но, пожалуй, все это бледнело перед сегодняшним испытанием, которое уготовила Константину безжалостная судьба.
И еще одно пришло ему в голову. Он даже на секунду остановился, когда понял это. Каждый из них был готов друг для друга на многое, вплоть до того, что если бы для спасения Константина надо было отдать свою жизнь, то Вячеслав не колебался бы ни минуты.
Но встать сегодня на его место воевода не согласился бы.
Ни за что.
Ни за какие коврижки!
Уж очень оно…
Порой легче умереть самому, чем послать на смерть другого. А сегодня его друг умер бы и десять раз.
С радостью.
Потому что бывают решения, пусть и правильные, которые убивают душу, и это гораздо страшнее, да и больнее тоже.
Во сто крат.
Конечно, если бы Пестерь знал, что для государя все это уже не новость, то ему было бы понятно это загадочное хладнокровие. Удивленный и несколько раздосадованный, он приступил к изложению тех условий, которые выдвинул Бату в обмен на жизнь княжича.
Когда его рассказ закончился, Константин по-прежнему молчал, не говоря ни слова, устремившись взглядом в какую-то точку, видимую лишь ему одному. Казалось, он не видел и не слышал никого из присутствующих.
— И что теперь делать, государь? — еще раз тихонечко повторил свой вопрос Пестерь. — С каким ответом нам к нехристю ехать? Может, поторговаться получится, да он, глядишь, скостит цену? А бул-гарского хана и попросить можно. Пусть братцу сво-му уступит малость. Не больно-то обеднеет.
— Нешто хан Абдулла не человек, — поддержал его Ожиг Станятович. — Тоже, чай, отец, и сыны у него растут. Должон понимать, что надобно выручать Николая Святославича.
О Святозаре, будто сговорившись, никто и словом не обмолвился.
И тут царь, все так же сидя на походном кресле-троне с высокой резной спинкой, на подголовнике которой была искусно, один в один к настоящей, вырезана царская корона, произнес загадочную фразу, смысл которой так и остался темным для послов:
— Я не Сталин, но солдат на генералов тоже менять не стану.
«Заговаривается государь!» — перепугался Пестерь и переглянулся с насторожившимся Ожигом.
— Чего? — робко переспросил Яромир.
Константин поднял голову и внимательно обвел взглядом стоящую перед ним семерку.
— С дороги и сразу ко мне? — уточнил он. — Не обедали поди?
Вопрос был несколько неожиданным и далеко не по теме, поэтому мгновенного ответа не последовало.
— Не до обедов ныне, царь-батюшка, — первым подал голос Кроп, привыкший за долгие годы службы в спецназе обходиться самым малым, если оно вообще имелось.
— Голодный посол — злой посол, — несколько натужно улыбнулся Константин. — А злой посол — это уже не посол. Ни на улыбку ласковую, ни на слово доброе у него сил нет, а того, кто перед ним, он разглядывает только с одной стороны — вкусный или нет. Так что сейчас мы с вами потрапезничаем, денек передохнем — все равно в сторону хана едем — а уж потом, ближе к завтрашнему вечеру, и решим, какой ответ вы ему от меня повезете.
Глава 15 Вперед и только вперед
Следует выверить свою слабость до каждого шага, Прежде чем приступить к смертельной игре. А потом следует показать свою слабость врагу, Свою глупость, свою усталость, или ссору в своих рядах. Предложить ему легкую и вроде бы простую дорогу (Но не слишком — иначе тигр учует твой запах). Ольга ПогодинаНа этот раз Константин знал, что послы не одобрят его послания хану, а точнее, попросту не поверят в то, что оно фальшивое. Решат, будто царь на самом деле испугался за сына с внуком. Понять поймут — родная кровь и прочее, но не одобрят.
Достаточно на самих послов посмотреть, чтоб все ясно стало. Молчат они, не перечат, но то — на словах, а в глазах иное. Можно сказать — бунт настоящий. Позволь им говорить, так они бы сказали, да такое, что только держись!
Как можно давать безоговорочное согласие на все бессовестные, если не сказать нелепые, условия, которые выставил басурманин, ну как?! Пусть эти степи лишь недавно перешли под власть Руси, но сколь трудов и гривен уже вбухано в крепости, возведенные по берегам рек! Опять же люди, которые там живут, — их-то куда?! Там оставить, чтоб Святозар состряпал из них полки, влил в свое войско и двинулся дальше, чтобы окончательно лишать своего братца наследства?!
О Рязани же и вовсе говорить не приходится. Отдать стольный город за здорово живешь?! Каково?! Пусть не весь, а половину, да и то после смерти Константина, но ведь отдать! Или ее потом напополам стеной перегораживать?! А кому, к примеру, царские хоромы — они-то одни? По подклетям делить? Эта бретяница твоя, брат, а вот эта житница моя, так, что ли?!
А взять чудо из чудес — Софию златоглавую. Вон сколь народу съезжаются, чтоб на храм полюбоваться, пение ангельское послушать, красу неописуемую в сердце оставить, душу в звонкоголосых песнях колокольных омыть.
Туда зайди и сразу ясно — коли господь и спустится когда-нибудь с небес на землю, то первым делом не в Киев древний, не в Новгород важный, и даже не в Царьград — к ним в Рязань подастся, чтоб полюбоваться, какую красу люди для него воздвигли. Не руками — душой строили. Так что ж теперь — душу пополам?! А выдержит она глумление эдакое?!
Да и с Абдуллой тоже неладно выходит. Как ни крути, а по отношению к нему ныне русский царь не союзником становится, а… Нет, ищи — не ищи, а иного словца кроме иуды и не сыщешь.
Конечно, Константин и тут вроде как с оговорками предает, предлагая Бату вначале увести свои ту-мены с булгарской земли и настаивая на том, что он самолично помирит братьев, заставив булгарского хана выдать Мультеку его долю, а уж какую — можно обсудить заранее. Ну а далее.
Он же сразу обещает, что ежели Абдулла не согласится на такой дележ, то на него незамедлительно двинутся русские полки, после чего ему все равно придется делиться. Так что предательство и есть предательство, пускай и с оговорками. Они-то как раз сути дела не меняют.
Обо всем этом Пестерь и сказал. Все послы думали так же, как он, но лишь у него смелости хватило. Поначалу и он не хотел, губы кусал, чтоб сдержаться, щипал себя с вывертом через штаны. Но чем дальше говорил Константин, тем больше ему казалось, что все происходящее — какой-то дурной сон. Во сне же, как известно, происходят любые, самые невероятные события, так отчего бы не принять в них участия и не сказать непроизносимое наяву?
Государь же в ответ на дерзкую речь посла ничуть не обиделся — сон есть сон. Напротив, даже похвалил Пестеря и принялся пояснять. Константин не употреблял столь загадочных слов, как психология, менталитет, особенности психики, и прочие — говорил кратко, но просто и доходчиво.
— Не думайте, будто я продаю Русь и ее верного союзника, — заявил он. — Такого никогда не будет. А соглашаюсь с Бату лишь потому, что он сам никогда не согласится на предложенное мною.
Вон как завернул государь. Пестерь даже головой помотал, чтоб поместить в ней то, что сейчас услышал. Нет, бесполезно. Все равно не укладывалось это в рядок с другими кирпичиками. Получается, что хан заломил огромную цену, Константин готов ее выплатить, а басурманин в отказ пойдет — это как? Но с другой стороны, сон есть сон. Там ведь все так, как в жизни, и не бывает. Хотя сам царь как живой, будто он и впрямь тут наяву стоит.
Пестерь еще раз потряс головой — нет, не укладывалось — и… принялся слушать дальше.
— А не согласится потому, что ему не понравится моя оговорка. Ведь все это я обещаю сделать лишь после того, как он уведет свои тумены за Яик. И так она ему не понравится, что он откажется и будет требовать своего, к тому же решит, что я испугался.
Тут Константин насмешливо хмыкнул, губы его изогнулись в презрительной усмешке, и присутствующие наконец-то облегченно вздохнули. Коли царь на басурманина плюет, стало быть, он не просто верует в то, что Русь одолеет, — убежден в том.
Странное дело, вроде и убедительно говорил государь, но Пестерю все равно отчего-то не верилось. Умом — да, а вот сердцем… Зато одна эта усмешка мигом расставила по своим местам.
— А если согласится? — поинтересовался Пестерь.
Не мог он не задать такой вопрос. Посольское дело — оно въедливости требует, дотошности, в нем мелочей не бывает. Посольский человек к любому, даже самому неожиданному повороту должен быть готов. А чтобы иметь такую готовность, надо все обговорить заранее. Пусть оно и не пригодится. Это ничего. Зато — готов. Иной раз перед отъездом судить да рядить, о чем речи вести, по седмице приходится, а сам разговор в иноземном государстве не дни — час недолгий занимает.
— Нет! — отрезал Константин. — Я этого нехристя насквозь вижу, да и всю их породу тоже. Он без добычи только в одном случае может вернуться — если его в битве одолеть. К тому же он знает, что этого ухода с пустыми руками ему никто не простит.
— Отчего же с пустыми, — вступил в разговор Ожиг Станятович. — Он ведь и подарки затребует. Скажет, поистратился, дескать. А пока сбираешь их — пои и корми.
— Будут, — многозначительно пообещал Константин, и хищная недобрая улыбка осветила его усталое лицо. — Да и корма пообещать надо. Пусть ждет, пока я ему подарки собирать стану. Ну а коли не понравятся — пусть не обессудит. Народ у меня бедный, казна — скудная, опять же недород прошлый год был. Откуда же богатство взять? Сроду у меня его не было. Сам вон и то боле пяти портов не имею. Опять же и трон у меня, — он похлопал по спинке кресла. — Из дерева сработан, а не из золота, как у него самого. Посему поступим так. О том, что мы знаем, куда он половину своих туменов отправил, — молчок!
— А коль сам скажет? — кашлянул в кулак Ожиг Станятович.
— Коль сам — перепугаться надо будет. Ты, боярин, уж расстарайся тогда — очи вытаращи, руку напряги, чтоб тряслась, платом с лица пот утри, губами пошлепай, будто сказать что-то хочешь, да сил нет, потому как не то что говорить — дышать нечем, — пояснил Константин.
— Так это не мне, а Пестерю надобно, — заметил Ожиг.
— Нет — тебе! — твердо поправил его государь. — Именно тебе. Пестерь не поедет вовсе. А коли спросят про него, то скажешь, что за дерзкие речи против хана царь лишил его милости.
Пестерь не хотел, но так получилось, что после этих слов Константина посол — ах, да, бывший — изобразил все то, что государь только что рекомендовал боярину. Глаза его расширились, сказать что-то хотелось, и очень многое, да вот беда — дыхание перехватило. А для полного соответствия царским советам он трясущимися руками достал плат и вытер со лба выступившую испарину. Сон-то сон, но какой-то уж он… Проснуться бы побыстрее, да никак не получалось.
— Тебе же благодарствую, боярин, — между тем обратился к нему Константин. — Славно ты с ним речи вел. И честь царскую не уронил, и выведал многое.
«А почто тогда милости лишаешь?!» — хотел завопить экс-посол, но промычал совсем иное:
— Да я завсегда для тебя, надежа-государь… — а в глазах мучительный вопрос: «За что?!»
Однако Константин сумел прочесть его и тут же ответил:
— В посольских делах, которые сродни торговым, и обмануть не грех. Но теперь нам совсем иначе с ним говорить надо. Дерзить не след — просить токмо, требовать нельзя — поклоны угодливые бить требуется, грубость как должное принимать, да еще благодарить за нее. Мол, спасибо, что по правой щеке ударил, теперь на вот тебе левую, по ней пройдись, да осторожно — длань свою не зашиби. Щетиниться как еж негоже — стелиться ласково требуется. Ведаю, что оное противно душе твоей, Ожиг Станятович, ох, как ведаю. Но ты сумеешь себя превозмочь, а в Пестере, боюсь, гордыня взбрыкнет, да в самый неподходящий для того миг. Пусть не за себя — за Русь униженную да за государя своего, но делу общему от того поруха приключится. Уж больно прямая спина у него — сломаться может. Так что придется тебе, боярин, свою сгибать.
Пестерь насупился, помял плат в руке и неожиданно даже для самого себя понял, что и тут Константин Володимерович прав. Даже не понял, а скорее почуял. Он ведь и впрямь сможет терпеть лишь до поры до времени. А как пробьет час — не выдержит душа, взовьется на дыбки, аки конь необъезженный, да копытом, копытом.
И тут же в убаюканном кроткими, покорными и льстивыми речами хане немедленно проснется и подозрительность, и недоверчивость, и прочее. Они и без того в нем не спят — умен, басурманин, ох, как умен, но тут уж и дремать перестанут. Нет, все-таки даже если это и сон, то царь и в нем не сплоховал. Наяву — мудр, а во сне — тем паче.
— Справедливо рассудил, государь, — произнес он. — Твоя правда, не вытерпеть мне таких поношений.
— А ежели нехристь спросит, почто ты сам полки в его сторону ведешь? Али мыслишь, что он о том не сведает? — спросил Ожиг Станятович.
— Еще как сведает, — подтвердил Константин опасения боярина. — Бату в глупцы записывать — все дело на корню загубить. Но объяснить это легко. Мол, мы свое слово честно держали, а вот он — не всегда. Оттого и опаска у нас. Опять-таки не ведаем — согласится он или как. Новый уговор меж нами не то что не подписан, но даже и не составлен. А коли и согласится Бату, все едино — полки эти русскому царю в Булгарии понадобятся. С ними ему гораздо легче хана Абдуллу уговаривать. Известно, что человек гораздо податливее становится, если над его головой клинок занесен. Вот так ему и ответь.
— А про княжича юного? — напомнил Ожиг Станятович.
— И про него забывать не след. Напротив, раз уж я на такие уступки ради внука готов пойти, значит, все помыслы только о нем одном. Потому старайся разговор все время на него завернуть. Заботится, дескать, государь, как он там? Живой ли? Здоровый ли? Ну и всякое прочее. Проси, чтоб Бату сразу тебе его передал. Коли откажется — умоляй слезно, ну а уж нет, так нет. Тогда предложи на Яике обмен сделать.
— Может, потребовать, чтоб он его хоть показал? — предложил боярин. — Вдруг на самом-то деле и показывать… — и тут же испуганно осекся, заметив, как побледнел с лица государь. — Я к тому, что, может, хворает он, — поправился неловко.
— Хворает, — после недолгой паузы глухо подтвердил Константин, почти сразу справившись с секундной слабостью. — О том и я и вы ведаете — раны у него. Но требовать ничего нельзя — только просить. Откажет — ни в коем разе не настаивать. Мои люди уже выехали, но в стане у Бату им гораздо тяжелее придется, так что пускай княжич подальше от него будет.
— Что на словах передать — уразумел, — кивнул Ожиг Станятович. — Хотелось бы еще об одном узнать. Поверь, государь, — прижал он руку к сердцу. — Не из любопытства праздного вопрошаю — для дела знать надобно, ибо неведомо оно — в какую сторону все повернется. Тайное поведай. Сам-то ты что мыслишь о своих? Я к тому реку — цену каку за них готов уплатить?
— Жизнь отдать — могу, — вздохнул Константин. — Но — свою. — И отчеканил: — Русь же на родичей менять я не намерен. Нет у меня такого права, да и было бы — все одно — не стал бы!
Наступила неловкая пауза. Что говорить, коль все обговорено?
Но боярин нашелся, вспомнил:
— А… Святозар?
— И его тоже повидать попросите. Мол, пусть сам свои требования вслух произнесет, да расскажет, как он наследство при живом отце делить удумал, — почти зло произнес Константин, но вновь почти сразу взял себя в руки и спокойно продолжил: — Однако и тут настаивать не след. Нет так нет. Остальным же, кто с тобой будет, как и прежде, дела свои тайные вести. Особое внимание пушкам. Освоили их поганые или нет — вот что мне интересно.
Константин и впрямь угадал все верно. Хотя нет — угадывают ведуньи в селищах, когда девке на суженого ворожат. В державных делах — иное. Тут расчет надобен, да чтоб с учетом всех тонкостей, чтоб не просто сошлось, но кирпичик к кирпичику легло, без щелей и зазоров.
На сей раз вроде так оно и вышло.
Бату, которого второе русское посольство застало по-прежнему под Суваром, действительно отказался. Причем чем мягче становилась речь Ожига Станятовича, тем жестче следовал ответ. Чем больше уступал посол, тем сильнее давил хан, доходя до совсем невозможного.
— Пускай каан в знак доброй воли вовсе свои ту-мены распустит! — не предлагал — повелевал Бату. — Тогда я поверю, что он не держит на меня зла. Кто хочет мира, не должен извлекать свою саблю из ножен. А с Абдуллой мне его помощь не нужна — я сам управлюсь. Еще день-два, и этот град падет, а за ним придет очередь и Биляра с Булгаром. Но если к тому времени твой каан не распустит своих воинов, то я пойду дальше. Скажи ему, что я милую только тех, кто готов покорно следовать у стремени моего коня. Что же до его сынов и внуков, то негоже говорить о родичах с чужим человеком. Пусть он сам придет в мою юрту, и тогда мы будем вести речь о них. Коли его помыслы чисты, то ему не нужно опасаться моего гнева. Но я начинаю уставать в ожидании дорогого гостя, а это нехорошо.
Ожиг Станятович угодливо склонился и убыл, заверив, что передаст все в точности. А вот дальше…
Бату поначалу даже не поверил, когда прибыл очередной гонец от Орду-ичена с донесением о том, что каан урусов продолжает приближаться и до Камы ему осталось всего два дневных перехода. Уж очень поведение Константина противоречило словам его же послов. Получалось, с одной стороны, тот вроде боится Бату, да так, что готов кинуть под копыта монгольских коней половину Руси, а с другой… Словом — не получалось что-то. Ты уж или так, или эдак, а то мешанина какая-то несуразная выходит, все равно, что вареную баранину прямиком в кумыс накидать.
Бату задумался. Мыслил долго. Посоветоваться хотелось, но с кем? Разве что с Субудаем, но, в конце-то концов, хан он или нет! Не к лицу ему просить у кого бы то ни было разъяснений каждого непонятного явления. Наконец он понял и облегченно засмеялся. Да ведь об этом же самом и посол говорил. Мол, нет у Константина теперь веры твоим словам, хан. Потому и не распускает он свои ту-мены, опаску имея.
И все равно выходило, что следует идти к брату, оставляя за плечами — ох, какой позор! — так и не взятый Сувар. От двух туменов Мультека осталась треть, а то и четверть, потери монголов приближались к двум тысячам, а что толку?
Жители города обливались потом и кровью, каждый вечер оплакивали погибших, но утром, утерев слезы и стиснув зубы, вновь и вновь шли на крепостные стены, меняя ночную смену защитников и не собираясь сдаваться на милость победителя, да и не веря в нее.
Разумеется, полностью снимать осаду он не намеревался. Под городом он оставит тумен брата Тангку-та, но, как ни крути, сам-то Бату уходил несолоно хлебавши. Сознавать это было горько и обидно, но другого выхода, как идти на соединение с туменом Орду, не было.
Конечно, навряд ли перепуганный урус решится напасть, раз он соглашается на все, но соблазн для каана урусов будет велик и рисковать не стоило.
А проклятого Бурунчи все не было и не было. Бату еще раз посчитал дни, тщательно загибая пальцы. Нет, все правильно, хан нигде не ошибся. Темнику надлежало прибыть еще вчера, а уж Святоза-ру с его пушкарями-урусами — и вовсе три дня назад. Целых три дня! Выходит, что он успел бы взять город и еще дать своим воинам немного времени на забавы с булгарками, а вместо этого…. Не иначе как что-то случилось, но что?
Ответ на этот вопрос дал Субудай.
— Неспокойно в степи, — заметил он, когда они с Бату неспешно ехали по стану, прикидывая, кого именно оставить под Суваром. — Может, не следовало вырезать те тысячи степняков, которые были с урусами? Они ведь все равно находились в кольце.
— А как следовало? — угрюмо спросил Бату. — Конечно, лучше бы они были со мной, но стоило моим темникам только заговорить об этом, как они бы изготовились к бою, и я потерял бы намного больше людей, а так почти никто не вырвался из кольца. Во всяком случае, никто не смог упредить Святозара и его темников.
— Почти, — повторил Субудай. — Кое-кто все-таки ушел, пусть и не к урусам, а в степь, и рассказал остальным. Получилось, что ты напал на них подло, даже ничего не потребовав вначале. Как бы ты поступил на их месте после всего, что произошло?
— Понятно как, — хмыкнул Бату.
— Вот-вот, — подтвердил Субудай. — А они такие же, как мы.
— Мы лучше, — озлился Бату. — Если бы это было не так, то они сейчас стояли бы под Сыгнаком, а не мы в Булгарии. Да и что могут эти трусы, которые не знают, что для победы волкам надо держаться в одной стае и иметь одного вожака?
— Боюсь, что вожака им искать и не понадобится, — вздохнул Субудай. — Ты забыл про крепости урусов, стоящие на их земле. Когда волк режет отару, даже глупые овцы сбиваются в общую кучу, поближе к сторожевым собакам.
«Вот оно, — внезапно понял джихангир. — Скорее всего, сотника перехватили, он не смог передать мое повеление Бурунчи. Потому тот идет неспешно. Ведь пушки, которые стояли на стенах Оренбурга, очень тяжелые, и везти их быстро невозможно. Значит, и на стенах Яика точно такие же. Получается, что все в порядке, нужно лишь немного обождать. Сейчас на очереди переговоры с кааном урусов, а не взятие городов Булгарии, так что это ожидание мне не повредит».
Хан успокоился и, отогнав прочь глупые опасения, принялся распоряжаться далее. К вечеру все необходимые распоряжения были отданы, а к утру весь стан пришел в движение.
Монголы шли к Булгару налегке, ночуя прямо возле своих коней. Юрт ставили лишь три — для Вату, его брата Берке и Субудая. Нукеры выезжали с ними заранее, обгоняя всех, и когда знатные хозяева останавливались на ночлег, походные жилища уже ждали их. Услужливый баурши[102] зорко следил, чтобы все было в порядке, и радовался тому, что, вопреки обыкновению, хан не взял с собой в поход на Булгарию ни одной жены.
С бабами пришлось бы помучиться — то не так, и это не эдак, а с ханом все гораздо проще. Бату, утомленный за день уймой дел и забот, торопливо принимался за простую трапезу и ложился спать. Оставалось только заменить ему гутулы[103], поставив на кошму высушенную пару с сухим войлоком внутри, вот и все.
Добродушный толстяк Орду, как и всегда, был рад увидеться со своим братом. В его сердце не было зависти к более удачливому, смелому и честолюбивому Бату. У него не хватало ума, чтобы угнаться за ним, но доставало мудрости, чтобы не только понять, но и смириться с этим.
Толстяк ласково лизнул его щеку[104] и чуть виновато произнес:
— Я не хотел, чтобы ты получил эту весть в пути, где некогда над нею размышлять, а потому не стал посылать к тебе гонца.
Бату вопросительно посмотрел на брата.
— Каан урусов, дойдя до Камы, повернул и пошел вдоль по ней в сторону Каменного пояса[105], — пояснил Орду и с гордостью заметил: — Наверное, он узнал про то, что сюда идут твои тумены, и очень напугался.
Хан задумался. Если бы урус и впрямь испугался, то повернул бы своих воинов обратно. Понятным было бы и его поведение, если бы он просто остался стоять на месте — не доверяет и готов, в случае чего, к битве. А вот этот поворот истолкованию не поддавался. Получалось, что Константин оголяет проход, который ведет прямиком на Русь. Он что, выказывает тем самым покорность, подобно волку, который проиграл в поединке и теперь подставляет победителю свою шею?
Бату хмуро посмотрел на Субудая, но мудрый полководец, чье мнение джихангир ценил очень высоко, почти как свое, разве что чуть пониже, только недоуменно закряхтел и ничего не сказал.
— И куда нам теперь идти? — не выдержав, сердито спросил хан у своего наставника утром. — Зачем он пошел туда? Может, решил подойти к Биляру, чтобы упросить Абдуллу тоже выслать ко мне послов с согласием поделиться с Мультеком? Но для этого не обязательно идти туда самому. Тогда что он задумал?
Субудай закряхтел еще сильнее. Сознаваться в том, что он не понимает, — не хотелось, да и отвык он от этого, а что говорить, он и впрямь не знал. Но тут, на его удачу, прискакал гонец от Шейбани, и все сразу стало на свои места.
Тот сообщал, что в урусов, которых он, по повелению Бату, осадил у реки, вселились злобные духи, и они до сих пор не перестают сопротивляться его доблестным воинам. Сражаясь, словно страшные мангусы, они не хотят вложить свои сабли в ножны и покорно склонить голову перед братом великого джихангира. Более того, они уже соорудили себе укрепления, сидя за которыми беспрепятственно убивают его воинов.
Подойти же к ним пока не получается, хотя он, Шейбани, уже послал туда, как и было велено, одну, а затем еще одну тысячу воинов, которых как раз не хватило для решающего штурма города. Если Бату прикажет, то можно послать и еще, но с оставшимися не то что штурмовать, но и вести осаду Биляра будет невозможно.
Подтекст сообщения содержал в себе явный вопрос: «А может, ну ее, эту тысячу? Биляр-то поважнее будет. Там добыча, а с урусов-то что возьмешь?»
Бату было понятно, что теперь Шейбани запросто может оправдать свою неудачу неукоснительным выполнением повелений брата. Да что там, уже оправдывает. Он раздраженно посмотрел на гонца, собираясь сказать что-то резкое, но тут новая мысль схлестнулась с вопросом, на который он искал и не мог найти ответа, и мгновенная догадка тут же пришла в голову: «Так вот же объяснение. Именно к ним, попавшим в ловушку, и направляется каан, вознамерившись выручить из беды».
И тут же, следом за ней вторая: «Получается, что у Константина нет или почти нет пушек, иначе он не пошел бы на такое опасное дело. Ведь этим шагом он ставит под угрозу все свое войско. Если я запру моими туменами проход обратно, а я так и сделаю, то в капкане окажется все его войско».
А вдогон прилетела и третья мысль, самая радостная: «Да он просто не знает, что я снялся с места и теперь могу одним прыжком закрыть эту дорогу! Значит, следовало…»
— Передай Шейбани, чтобы он послал туда две или даже три тысячи своих воинов, но сломил непокорных урусов. Если и их окажется мало, пусть пошлет столько, сколько нужно. И скажи ему, что я прощаю неудачу под Биляром, но если он не одолеет урусов — не прощу!
Субудай, сидевший рядом, только одобрительно крякнул, но вслух не произнес ни слова. Лишь позже, когда гонец удалился, он спросил:
— Думаешь успеть разбить их до подхода каана?
— И не просто успеть, — отозвался Бату. — Мы посадим воинов Шейбани на их место, а я нападу на него со спины, когда он будет на подходе туда. Когда же он повернется ко мне лицом, чтобы огрызнуться в ответ, и примет бой, Шейбани вонзит саблю ему под лопатку.
— А что говорят твои люди, Орду-ичен? — осведомился Субудай у толстяка. — Сколько туменов у каана?
— У него две тысячи воинов посажены на коней, — ответил тот. — Пеших же, если считать по кострам, два тумена, — и попросил Бату: — Брат, позволь моим людям тоже принять участие в этой битве. Город не убежит со своего места. Я могу оставить близ него половину своих воинов, а вторую повести с тобой.
Джихангир хотел было ответить согласием, но верх взяла осторожность. Ни к чему рисковать, когда можно обойтись без этого.
— Тебе и впрямь придется снять две или три тысячи с осады Булгара. Но будет гораздо лучше, если ты отправишь их во все стороны, чтобы они стерегли проходы и не пропустили к каану урусов подкрепления, которые могут прийти ему на помощь. Я доверяю тебе свою спину, брат, ибо больше доверить ее мне некому, — проникновенно произнес Бату и лизнул Орду в щеку.
— Будь спокоен, брат! Я не пропущу ни одной урусской собаки, — пообещал Орду.
— А ты помнишь, что у Константина есть пушки? — осведомился Субудай, когда они уже были в пути. — Мы вместе с тобой глядели на ту отару овец, которую урусы забили за один раз.
— У нас тоже есть пушки, — напомнил хан.
Он и вправду распорядился взять с собой все легкие орудия, которые могли оказаться гораздо более полезными не при осаде Сувара — потому он и забрал их оттуда — а во время открытого сражения.
— Но у тебя нет тех, кто мог бы с ними управляться.
— Бурунчи еще ни разу меня не подвел. У него что-то случилось, иначе бы он не опаздывал. Но любое препятствие преодолимо, а если нет, то всегда есть обходной путь, который длиннее прямого, но тоже ведет к цели. К тому же пешие тумены Константина — это не Биляр, не Булгар и не Сувар. У них нет стен, у них со всех сторон ворота. Если мы с Шейбани одновременно войдем и в передние, и в задние — что он сможет изменить?
Через два дня Бату окончательно уверился в том, что Константин спешит выручить своих воинов и забрать у них пушки, столь нужные ему. Царь ни разу даже не попытался изменить направление своего движения, а теперь и не смог бы этого сделать — по противоположному берегу Камы шли тумены самого Бату, а лесистая местность не давала возможности свернуть подальше от реки. Узкая открытая полоса — где верста, где две, но никак не больше, позволяла идти только строго по берегу, никуда не сворачивая.
Более того, каан так спешил, что его передовые отряды все больше и больше удалялись от обозов. К сожалению, воспользоваться таким благоприятным случаем удалось только раз. Уж слишком велико пока было расстояние между урусами и туменами Бату.
Тем временем Константин прислал очередное посольство с новым предложением о заключении мира.
— Как я могу заключать мир с человеком, который оскорбляет меня, не веря в чистоту моих помыслов, и до сих пор не распустил свои тумены, хотя я давно повелел ему это сделать. Пусть покорится моей воле и придет ко мне со склоненной головой, тогда я стану с ним говорить! — надменно ответил хан.
Константин, разумеется, не послушался, да иного Бату и не ожидал. Плохо, конечно, то, что каана Урусов не столь сильно напугало известие о том, что хан Гуюк со всеми своими туменами преспокойно пирует в его Рязани и, устав тешится прелестями жены и дочерей Константина, теперь отдыхает, возложив свои сафьяновые сапоги на их мягкие белые животы.
— Я не спешу на Рязань, потому что знаю — добыча будет поделена по справедливости[106]. Зато мне достанется почет, когда я разобью его войско, — пояснил он послам, перепуганным таким известием, даже не слезая со своего саврасого жеребца — на иных Бату не ездил, стараясь и в этом подражать великому деду[107], — и немедленно отправил их обратно.
Сам же остановил свои тумены, в ожидании, когда Константин в панике метнется обратно, дабы спасти хоть что-то. Тут-то Бату и прыгнет, переправившись на его берег и перегородив ему путь.
Жаль. Не вышло. Не испугался. Не повернул. А может, и дрогнул, но обреченно идет вперед, хотя и не видит перед собой цели? Такое тоже случается. Но ничего. В конце концов каан урусов, лишенный оберег-камня, все равно неминуемо будет разбит.
По подсчетам Бату, уже перешедшего вслед за Константином на другой берег Камы, чтобы окончательно отрезать ему обратный путь, и сократившего расстояние до опасно близкого, уже завтра можно было попытаться сделать последний прыжок, уцепившись за вражеский обоз.
Разумеется, захватить его сразу навряд ли получится. Нельзя полагаться на слишком большую удачу. Но войско Константина, защищаясь, неминуемо остановится, оказавшись, само того не подозревая, в опасной близости от затаившихся тысяч Шейбани. При этом та тысяча, которая якобы осаждала горстку Урусов, демонстративно отхлынет на другой берег реки, испугавшись приближения основного войска врага.
Тем самым бдительность каана окончательно будет усыплена, и он обратит свой взор на Бату. Потом урус, конечно, обернется, но будет уже поздно. Волк Шейбани уже прыгнет, и спастись от этого прыжка будет невозможно.
Бату почему-то вдруг вспомнилась степь….
Нет на свете животного глупее верблюда. Когда волку хочется полакомиться свежим, пускай и жестковатым мясом, он просто подходит к пасущемуся «каравану пустыни» и прыгает, вцепившись зубами в мягкую длинную шерсть на шее. Тяжестью своего тела он увлекает животное вниз, и верблюд послушно ложится.
Тогда волк перепрыгивает через него, неспешно обходя вокруг, и затем начинает терзать покорную жертву, начиная свою трапезу обычно с крупа, жадно вгрызаясь в живое тело. Верблюд стонет от боли, но даже не делает попыток подняться, продолжая покорно лежать под степным хищником.
Теперь такой же покорной верблюдицей для Бату должна была стать Русь. Осталось только совершить точный прыжок, разбив два жалких тумена Константина, и она смиренно опустится и ляжет, распластавшись перед ханом во всей своей первозданной наготе. Он же неспешно приступит к сытной трапезе, терзая ее мягкое белое тело и кусок за куском вырывая из него окровавленное сочное мясо. Кусок за куском, кусок за куском…
Но тут Бату оторвали от сладостных размышлений. Он недовольно поморщился, но, услышав, что прибыл посланец Шейбани, довольно кивнул.
— Хан Шейбани повелел передать своему брату и великому джихангиру, что все идет успешно, — выпалил радостный гонец. — Еще день или два, и уру-сы не выдержат бешеного напора его доблестных батыров.
— Как… день? Как… два? — изумленно прошипел Бату и, переходя на истошный крик, злобно взревел: — Какой день?! Какие два?!
Спрыгнув с коня, он кинулся к гонцу и принялся нещадно пинать его острыми носками своих гутулов. — Он должен был вырезать их еще вчера! Вчера, а не сегодня и не завтра. Завтра там будут тумены урусов, и он ничего не сможет сделать!
Клубы морозного пара вырывались изо рта Бату таким густым облаком, что вконец перепуганному гонцу стало казаться, что разъяренный джихангир вот-вот превратится в страшного мангуса, который накинется на него и растерзает.
Однако, к счастью для воина, хан превращаться в чудовище не стал и, устало пнув напоследок вестника Шейбани, велел ему возвращаться обратно и передать… Тут хан задумался и понял, что, пока гонец кружным путем станет возвращаться к его брату, время все равно безвозвратно уйдет, так что план действий нуждался в изменениях, притом срочных.
— Скажешь Шейбани, что джихангир разгневан. Огонь его досады может притушить только одно. Он должен… — Не договорив, Бату рявкнул на подошедшего турхауда: — Тебе что нужно?!
Тот в ответ молча указал на трех всадников, которые, спешившись, уже стояли позади стражника в ожидании, когда на них обратят внимание.
— Они из тумена Бурунчи, который идет следом, — коротко доложил кешиктен.
Субудай, также спешившийся и стоящий рядом с Бату, недоуменно посмотрел своим единственным выпученным глазом на хана. Тот тоже удивился. Зачем нужны гонцы, если рядом весь тумен, следовательно, и сам Бурунчи? Или тот хочет, чтобы Бату излил свой гнев за опоздание темника на ни в чем не повинных воинов? Нет уж. Не зря его зовут Саин-ханом. Он не только могуч, но и справедлив, а потому не станет подвергать их наказанию. Довольно и гонца от Шейбани. Более того, он даже самого Бурунчи не будет карать, хотя и следовало бы. Он позволит ему в завтрашнем бою командовать пушкарями-урусами и искупить свою вину.
Но что это?! Едва прибывшая троица увидела, что хан обратил на них внимание, как тут же все они рухнули на колени, склонив головы до самой земли, и поползли к Бату. Хан насторожился. Гонцы так не кланяются, когда хотят обрадовать джихангира. Так пресмыкаются, когда…
— Вы привезли пушки? — сурово спросил Бату.
— Нет, — дружно ответили те.
— Понятно. Мне жаль, что Бурунчи оказался таким жалким трусом и не решился предстать передо мной сам. Ему нечего сказать в свое оправдание, вот он и прислал вас.
— Это не так, великий хан. Ему есть чем оправдаться перед тобой, — глухо произнес один из гонцов и на мгновение поднял голову, посмотрев на Бату. — И если бы он был жив, то никогда не послал бы нас к тебе, ибо недостойно сотнику говорить с ханом, когда жив его темник или хотя бы тысячник.
Теперь Бату узнал говорившего. Это был Кутух, который начинал рядовым воином еще при его деде, впервые отличившись при взятии столицы тангутов.
— Тогда скажи мне, Кутух, как вышло, что вы не привезли ничего кроме вести о том, что ваш темник погиб? Пушек нет, темника нет, — повернулся он к Субудаю, словно жалуясь на такое вопиющее непослушание. — А князь Святозар и пушкари Урусов? Они хоть с вами?
— Нет.
— Почему?! — взвизгнул потерявший терпение Бату, но тут же взял себя в руки и закончил фразу совершенно иначе, гораздо сдержаннее, хотя внутри все клокотало, будто в казане с кипящей шурпой. — Почему я должен вытягивать из тебя каждое слово? Скажи все, но по порядку!
Сотник послушно приступил к рассказу, который оказался краток, поскольку монгол знал немногое. Впрочем, если бы Бату ткнул пальцем в любого другого из этой троицы, рассказ от этого не стал бы длиннее, ибо никто из оставшихся в живых так толком и не понял, что именно произошло.
Их сотни находились в ту злополучную ночь не в крепости, а в степи. А где ночует сотня, там должен быть и ее сотник. Так говорит Яса. Тысячники тоже должны были находиться вместе со своими воинами, но Бурунчи позволил им отдыхать в крепости.
Тот же, кто знал не только все подробности, но и причины случившегося, сейчас находился слишком далеко от хана. Звали его князем Святозаром.
* * *
Трудно сказать, почему царь Константин избрал столь странный маршрут движения для своих войск. Вести все собранные к тому времени полки вдоль по Каме якобы на выручку Ряжского полка, как бы за это предположение ни ратовали многоуважаемые господа Мездрик и Потапов, не имело ни малейшего смысла.
Во-первых, тем самым Константин открывал дорогу на совершенно беззащитную Русь, и он этому уже никак не мог воспрепятствовать — пешим за конными не угнаться. Во-вторых, в тех диких местах невозможно было получить существенной поддержки со стороны местного населения.
В-третьих, я хоть и не стратег, но сами посудите — велика ли была Константину выгода с од-ной-единственной тысячи и стоило ли дело того, чтобы самому залезать в западню.
Говорят, что полки не имели пушек. Честно говоря, я сомневаюсь в этом. В городах были, а в полках нет? Что-то не клеится. Утверждают, что их вез Ряжский полк, воины которого делали все, чтобы не допустить их попадание в руки монголов. Но они уже были у степняков, и в немалом количестве.
Остается последнее и наиболее логичное — скорее всего, Константин получил сведения, что на Рязань идут еще пять или шесть туменов, и он потерял от страха голову. Подтверждает это предположение и то, что, несмотря на огромные требования, которые выдвинул Бату, царь согласился удовлетворить их в полном объеме, спасая жизнь внука. Как хотите, но это не делает ему чести.
Если бы аппетит монголов от такой уступчивости не возбудился бы еще больше — как знать. Не исключено, что Русь полностью лишилась бы всех степей в южном подбрюшье, из которого потом было бы так удобно ходить в набеги на оставшуюся территорию. Словом, Бату сам виноват, проиграв уже выигранную кампанию.
Албул О. А. Наиболее полная история российской государственности. Т. 3, с. 278. СПб., 1830Глава 16 Камо грядеши[108], княже?
Была бы Честь! Не дай, Господь, бесчестья! Мы за Россию примем смертный бой! Не станет нас — не оборвется песня — Нас примет Бог и воскресит Любовь! Марианна ЗахароваКогда князь очнулся, он даже не сразу вспомнил, где он и что с ним приключилось. А может, его мозг и не хотел это вспоминать, тем самым давая хозяину передышку. Но Святозар так старался, так упорно силился, что рассудку пришлось уступить своему неразумному хозяину и широким жестом бросить ему все: «На! Смотри! Только много ли тебе с этого будет радости?»
Ох как князь сокрушался, что он вновь связан. Был бы он без пут, да окажись рядом с ним коварный Бурунчи — голыми руками задушил бы хитрого темника и ничего бы тот не успел сделать.
«А теперь что выходит? Иуда я, получается?»
И Святозар с безысходной тоской осознал, что да, так и выходит. Именно так и никак иначе. Ну кто теперь подтвердит, что он не был самим собою, когда кричал тем, кто стоял на стенах? Бурунчи? Или сам Бату?
Да, тот тоже мог бы, поскольку впервые — Святозар с мучительной ясностью только сейчас вспомнил это — попробовать катышки ему предложил именно хан. Случилось это незадолго до той злополучной битвы, во время очередного пиршества.
— Я вижу, тебе немного нездоровится, — сказал Бату и протянул ему зелененький шарик. — Возьми, поможет, — ободрил он князя. — Не бойся. Если бы я хотел тебя убить, то мои воины могли бы это сделать уже десятки раз. И уж тем более я не хочу этого сейчас. Ты — мой друг, и я еще не утратил надежды на то, что ты поддашься на мои уговоры.
Святозар взял. Помнится, он еще удивился непривычному вкусу, но снадобья лекарей редко пахнут хорошо, да и сладких среди них — ну, разве что мед, вот, пожалуй, и все.
Зато ему чуть ли не сразу полегчало. Потом, кажется, они снова пили вино. Бату опять пытался убедить его вывести воинов в степь, за Яик, но Святозар отказался и старательно пытался сдержать совершенно неуместную улыбку, которая словно прилипла к его губам, упрямо пытаясь раздвинуть их еще шире.
А дальше Бату предложил ему еще один катышек. Ну, точно, и как это у него выскочило из головы. Едва князь его принял, как стал весело, до колик в животе смеяться над словами хана, но тот не обижался и даже улыбался в ответ.
О чем говорил тогда Бату, Святозар, хоть убей, вспомнить не мог, но теперь был уверен в том, что ничего смешного в его рассказе не было — всему виной колдовские катышки. «Да ведь он меня проверял! — только теперь дошло до него. — Потому и Бурунчи казался таким уверенным, что возьмет Яик. Он тоже все знал, собака!»
Да, но что же теперь делать?! На князя вновь навалилась безысходная тоска. Ведь для всех остальных он — предатель, и что бы князь теперь ни сказал в свое оправдание, это останется лишь словами. Одно мгновение его глупого бессмысленного смеха там, на площади, перевешивает все, что он ни произнесет.
Но зачем он нужен хану? Неужели тот замыслил с его помощью взять все крепости на Яике? Скорее всего, так и есть. Будут его возить с собой, как куклу, к которой умелец приделал подвижные ручки и ножки. А не станет кукла слушаться, у Бурунчи есть катышек. Мало одного — засунут в рот второй. Не захочет глотать — впихнут силой.
И что потом? Он опять будет глупо улыбаться, веселиться, кричать, чтобы открыли ворота, и заливаться бессмысленным смехом, сидя в седле и глядя на то, как монголы безжалостно вырезают его по-рубежников.
«Ну уж нет! Если нельзя одолеть коварного врага, так можно хотя бы умереть с честью, — скрипнул зубами князь. — Хотя какая уж тут честь, когда я не только себя, но и отца навеки опозорил. Люди скажут: «Вот, государь, какого ты сына вырастил. Израдца земли русской!»
Горькие размышления Святозара прервал приход Бурунчи.
Воины, вошедшие вместе с ним в темницу, молча воткнули в держатели на стенах ярко горящие факелы и тут же удалились.
Бурунчи, оставшись один на один с пленником, присел на корточки и заботливо спросил:
— Что князь, худо тебе?
Святозар промолчал.
— Вижу, что худо, — невозмутимо продолжал темник и неожиданно похвалил: — Однако ты и силен. Двоих людей у меня убил. И ведь голыми руками сумел это сделать. Пятеро на тебе висели, а ты их всех раскидал. Ох и силен, — и заговорщически подмигнул Святозару. — Но это ничего. Когда враг — настоящий багатур, самым умным будет не убить его, а сделать из него друга. Ведь после вчерашнего у тебя совсем не осталось друзей, а это плохо. Разве без них можно жить на свете? А Бату по-прежнему предлагает тебе свою дружбу.
— Я уже познал ее на деле. Больше что-то не хочется, — с горечью заметил Святозар.
— Напрасно ты так сказал, — всплеснул руками Бурунчи. — Хан хочет посадить тебя в Рязани, а как это сделать, если тумены твоего отца стоят на пути к цели? — И, подумав, добавил: — Вашей общей цели.
— Чего же ты от меня хочешь, тварь?!
— Ругаешь меня, — вздохнул темник. — Я к тебе с добром, а ты ругаешь. Зря. Лучше подумай о будущем, о том, что тебя ждет впереди.
— Мне страшно в него заглядывать, — отозвался Святозар. — Теперь для меня каждое «завтра» будет хуже, чем «сегодня». Даже если «сегодня» и без того тяжелое.
— Напрасно ты так говоришь, — упрекнул его темник. — Ты просто не знаешь того, что ждет тебя завтра. Но для этого ты должен помочь мне сегодня. Ведь ты знаешь всех своих воинов, которые умеют обращаться с огненным боем. Этим ты тоже не предашь — только укажешь их мне, и все. Даже наоборот — ты их спасешь от смерти. Совсем хорошо, если бы ты помог мне уговорить их, но об этом я пока не прошу. Пускай. Сам займусь. Главное — укажи. Пойми, что этим ты лишь поможешь справедливому делу. Разве честно будет, если против туменов Вату, которые не имеют пушек, выйдут тумены твоего отца, у которых они есть? И тогда Бату посадит тебя… — Склонившись поближе к пленнику, он радостно выпалил: — На царский трон!
Плевок князя оказался точен, а Бурунчи нерасторопен, слишком поздно отшатнувшись. Выкрикивая ругательства, темник вскочил на ноги, выхватил из ножен саблю, но в последний момент сумел себя сдержать, остановив руку на замахе.
Святозар разочарованно вздохнул. Долгожданная смерть вновь обошла его стороной. Значит, надо пытаться вновь.
— Я вижу, что ты пока еще не остыл после вчерашнего буйства, — зло заметил темник. — Это ничего. Время все лечит. Пока полежи. Потом я вновь приду за ответом. Моли Вечное Небо, чтобы этот ответ оказался правильным, потому что если ты продолжишь упрямиться, то хуже от него станет только тебе и никому больше. А то, что нам нужно от тебя, мы все равно получим, хочешь ты этого или нет.
С этими словами он вышел из темницы, оставив Святозара наедине с его думами.
Лишь через несколько часов князь понял, что именно он должен сделать, чтобы хоть как-то искупить вину за все, что случилось.
«Пушкари, говоришь, нужны, — мрачно размышлял он. — Что ж, будут тебе пушкари».
Однако вначале предстояло все как следует обдумать. Подозрительность врагов никоим образом нельзя сбрасывать со счетов, иначе ничего не получится. Даже соглашаться на предложение темника нужно не сразу, иначе тот вмиг почует неладное.
Хитрить Святозар был непривычен. Всегда и всюду по жизни он шагал ровной широкой поступью, поэтому размышления на тему: «Как обмануть половчее?» давались ему с трудом. Наконец к утру план был в общих чертах разработан, и князь, мстительно ухмыляясь, забылся в недолгом тяжком сне, который почти не принес ему облегчения.
Когда Бурунчи вновь зашел к Святозару и опять принялся уговаривать его помочь, то он с некоторым удивлением заметил, что князь на этот раз слушает его гораздо спокойнее, да и вопросы задает не те, что поначалу.
«Не иначе как и впрямь одумался, — порадовался темник. — А если он еще и поможет мне уговорить пушкарей перейти на службу к Бату, то будет совсем хорошо».
Правда, сомнения в истинности княжеских намерений продолжали оставаться, но Бурунчи разрешил их просто: «Приставлю к нему десяток воинов и велю им не спускать с князя глаз. Вот и все. Из их рук он не вырвется, а даже если и попытается, то тревогу поднять они все равно успеют. Лишь бы он помог мне с пушкарями».
Однако князь попросил отсрочку.
— Сегодня пред своими воями я предстать не смогу. Тяжко, — печально произнес он. — Надо грех отмолить. Завтра приступлю, а пока помолиться хочу да исповедаться. Или вы и попа зашибли?
— Жив он, — довольно заулыбался темник, радуясь, что хоть чем-то может угодить князю.
Не прошло и часа, как Святозар шел знакомой дорогой через площадь, где все еще валялись непри-бранные трупы, в небольшую церквушку, где как раз в это время служил обедню отец Анастасий.
Увидев князя, священник вздрогнул, костяшки пальцев на его руке, сжимавшей крест, мгновенно побелели. Да и взгляд его, устремленный на Святозара, был совсем не пастырский. Кротости да незлобивости в нем не было и в помине.
По церкви, о чем-то весело переговариваясь, бродили несколько монголов, с жадным видом разглядывающих ризы[109] икон, блистающие желтизной.
— Мы ничего не тронули, — похвастался Бурунчи. — Я поставил стражу у дверей.
— Не тронули, говоришь, — с тоской протянул князь. — А вон, а вон, и там тоже, — принялся указывать на разоренные ряды святых и угодников.
Часть икон и впрямь отсутствовала, а на их местах некрасивыми дырами зияли светлые пятна известковой побелки.
— Мне исповедоваться надо и грехи отпустить, — произнес чуть ли не шепотом Святозар — уж больно стыдно обращаться к врагу с просьбой, даже пустячной.
— А кто тебе не дает? — пожал плечами темник.
— Исповедуются наедине — я и священник, — терпеливо пояснил князь. — Исповедь должна быть тайной.
— Тайна не нужна, — энергично замотал головой Бурунчи. — Ишь чего захотел — только ты и твой шаман. Так нельзя. Хан велел глаз с тебя не спускать.
— Так я и не прошу церковь покинуть. Вон в сторонку отойди и все, — указал Святозар на противоположный угол.
Бурунчи немного подумал, затем важно кивнул, соглашаясь:
— Туда можно. Но гляди, князь! Мы и оттуда увидим, если что.
— Не боись, — слабо усмехнулся Святозар. — У тебя повсюду людишки расставлены.
— Это так. Отсюда никому выхода нет, — согласился темник и отошел в сторону, а Святозар направился к отцу Анастасию.
— Исповедоваться хочу, отче, — опустился он на колени перед молодым, тех же лет, что и сам князь, священником.
— Не может священнослужитель иудин грех отпустить, — сурово поджал губы отец Анастасий. — Оное токмо господу под силу.
— Невиновен я, батюшка, — вздохнул Святозар. — Сам поди ведаешь, любого человека можно так опоить, что он вовсе в безумие впадет. — И тут же попытался сменить тему: — Ты-то почему не ушел? Али нехристи про подземный ход проведали?
— Матушку свою пытался спасти, да не успел, — нехотя отозвался священник и вдруг встрепенулся: — А ты откуда про ход ведаешь?
— Так я же в Орске начальствовал, до того как меня в Оренбург государь поставил. Ходы же во всех крепостях в одном месте делались, да и сами они друг с дружкой как сестры-близняшки схожи, — грустно улыбнулся князь.
Крепости на Яике, да и на Волге тоже, и впрямь ставились на один манер. Подойди поближе и навряд ли сумеешь опознать — какая из них перед тобой. Отличия касались только строительного материала, из которого возводились стены. К примеру, Верхний Яик спутать нельзя было ни с какой иной — черный камень, которого в тех местах было в изобилии, сильно отличал эту крепость по своему виду от всех прочих.
Внутри и вовсе все сходилось. В центре каждой первым делом возводилась здоровенная башня, брать которую надо отдельным штурмом, даже если враг сумел овладеть всей цитаделью. В нее, хотя она и имела пристройки со всех сторон, причем тоже каменные, был всего один ход со стороны большой залы.
Каждый из пяти этажей башни соединялся с другими приставными лестницами, которые можно было в случае чего легко втащить за собой и наглухо захлопнуть люк. На этажах также имелись тяжелые металлические щиты, которыми эти люки закрывались сверху, после чего сами щиты придавливались камнями, заготовленными заранее. Проникнуть в башню через окна тоже было невозможно. Сквозь узкие бойницы не протиснулся бы и ребенок. Одним словом — твердыня. К сожалению, когда монголы въезжали в Яик, никого на башне не было, включая начальника крепости, вышедшего встречать князя.
Небольшой каменный храм располагался, как и положено, входом на запад, а алтарем на восток. О существовании подземного хода, который начинался под плитами левого притвора, где сейчас стояли монголы, терпеливо ожидавшие Святозара, знали немногие, в их числе и священник Анастасий.
Князь оглянулся на Бурунчи. Тот стоял как раз на том самом месте, где доски деревянного пола можно было легко поддеть, после чего поднять за железное кольцо каменную плиту и спуститься в небольшое квадратное отверстие, уходящее под крутым углом вниз. Далее же оставалось пройти по нему до деревянной дверцы, окованной железом. Снаружи дверца маскировалась дерном, плотно выложенным поверх нее.
«Вроде бы в этом месте пол еще не тронут», — отметил Святозар и вновь повернулся к священнику.
— Так знают поганые про ход или нет? — настойчиво спросил он.
— Нет, — ответил тот и с сарказмом добавил: — Если ты сам не успел их об этом известить.
— Не веришь, стало быть, — вздохнул князь и попрекнул: — А Христос разбойнику поверил и не токмо простил, но и в рай взял.
— Тот раскаялся, — неуступчиво заявил отец Анастасий.
— Не каялся он, — возразил Святозар. — Я помню, что в писании сказано. В евангелии от Луки говорится, что один из них унял злословие другого, да еще попросил Христа помянуть его, когда он вознесется к богу. О покаянии же и речи не было. Так ты что же, отец Анастасий, неуступчивее Христа решил быть?
— Он простил разбойника, — процедил священник и подчеркнул: — Разбойника, а не Иуду. Ты же не гостей торговых на дорогах обирал, а Русь продал, а это все равно, что спасителя.
— Стало быть, не желаешь мне поверить? — сделал вывод Святозар. — Как же мне убедить тебя в том, что я не повинен?
— Не знаю, — ответил отец Анастасий. — Если бы я не видел, как ты, княже, хохотал вчера на площади, или не слыхал, что по твоему велению врата у крепости открыли, то, может, и поверил бы.
— Ну, хорошо, — согласился Святозар. — Не хочешь, и не верь. Но уж выслушать ты меня обязан.
— У любого, пусть он даже по уши в мерзостях погряз, я обязан принять исповедь, — неохотно подтвердил священник.
— Не исповедь, — поправил его Святозар. — Тут дело поважнее. Коли мне веры нет — подсоби рубежникам, что в полон попали. Есть такие?
— Есть, — кивнул отец Анастасий. — С полсотни захвачено, не менее. Зрел я, яко их ныне поутру из подвала выводили, дабы они трупы прибрали.
— И пушкари среди них имеются? — в тон ему продолжил князь.
— А тебе на что такое знать надобно? — вновь насторожился священник, с прежней опаской взирая на Святозара.
— Мне ни на что, — пожал тот плечами. — А вот темнику Бурунчи они ой как надобны. В Оренбурге у них ничего не вышло — уж больно мало людишек в полон взяли. К тому же среди пушкарей Гайран оказался. Так вот он и себя взорвал, и всех тех, кои у Бату камнеметами ведали. Хан их к пушкарю огненному бою учиться приставил, а Гайран всех разом и порешил.
— Я помолюсь за него, — перекрестился священник. — Как его имечко-то?
— Так Гайран же, — опешил Святозар.
— То прозвище, — наставительно заметил отец Анастасий. — Вороном птицу кличут, а у человека христианское имя должно быть, при крещении ему даденое.
— А я и не знал его, — горько усмехнулся князь. — Гайран и Гайран.
— Ну и ладно, — махнул рукой священник. — Нешто господь и так не поймет, что пред ним праведная душа предстала.
— А как же самоубивство? — озадаченно спросил Святозар. — Разве то не тяжкий грех?
— Смотря во имя чего, — немного поразмыслив, откликнулся отец Анастасий. — Да и не было его. Он же не себя помышлял изничтожить, когда фитиль запаливал, а ворогов. Предложи ему кто, чтоб они погибли, а он живой остался, — нешто не согласился бы?
— Думаю, да.
— То-то. Значит, не убивал он себя сознательно. И потом, слыхал ли ты о жертве искупительной, коей все прошлые грехи смываются?
— Слыхал, но об этом после, отче, — торопливо произнес Святозар, косясь на противоположный угол, где темник понемногу начал выказывать нетерпение. — Допрежь того меня выслушай, отец Анастасий. Мыслю я бежать отсюда, но не один, а со всеми. Потому тебе надо сделать так. Когда нехристи уйдут, ты ход открой и залезь туда. Токмо лучину запали, а то нишу не сыщешь. Она слева должна быть, шагов через полета, не боле. В ней три ножа. Возьми тот, у коего из деревянной рукояти железо торчит. В одном из кирпичей отверстие имеется. Сунь туда эту рукоять, только чтобы лезвие назад, к церкви глядело. Сунь и поверни. Пред тобой должно потайное место открыться. Оно небольшое, но все, что нужно, там имеется — и арбалеты, и сабли, и луки. На десяток человек хватит. Но ты их не бери — все равно незаметно пронести не сумеешь. А вот ножи прихвати. Я с Бурунчи поговорю, и он тебя завтра пустит к нашим раненым. Ну, там, для отпущения грехов и всякого прочего. Ты переговори с ними, чтоб верили мне. Я тоже в это время постараюсь быть рядом, чтобы отвлечь монголов. Пусть темник больше на меня любуется, чем на тебя. Сумеешь ты с ними неприметно перемолвиться, не забоишься?
Озадаченный священник пристально смотрел на взволнованного князя и молчал, не говоря ни слова в ответ.
— Значит, сумеешь, — кивнул Святозар. — Потом я сам к тебе явлюсь — мне ножи и передашь. Да, кроме них захвати еще звездочек, токмо поостерегись, чтоб не порезаться. Они маленькие такие, вострые, ты их сразу признаешь. Все ли понял, отче? — вновь спросил Святозар.
Отец Анастасий вытер со лба неожиданно выступившую испарину и хрипло прошептал севшим голосом:
— Не пойму я тебя. То ли и впрямь душа твоя неповинна в тяжком грехе, то ли ты раскаялся и искупить его пытаешься, души христианские спасая, то ли, обуянный сатаною, и остатних погубить возжелал. Камо грядеши, княже?! В геенну огненну, али очиститься решил?
— Пусть они без меня не начинают, — не ответив, продолжал шептать Святозар, косясь на темника. — Я сам им скажу, как и что надо делать. Тут еще бра-танич мой должон быть, Николай Святославич. Им его тоже надо с собой взять.
— А выйдем когда — что далее?
— Отче, в святом писании сказано: «Довлеет дне-ви злоба его»[110]? Вам всем еще дожить до этого надо. Тогда и думать станете, что да как.
— Нам? — не понял священник. — А ты что же? Не пойдешь со всеми?
Святозар гордо вскинул голову и произнес:
— Я русич, отче. Когда выберетесь отсель, то, надеюсь, услышите обо мне.
— Кто же поведает нам о тебе в степи пустынной? — в страхе перекрестился священник, решив, что князь повредился рассудком.
Но лик Святозара ничем не напоминал лицо безумца, напротив, чуть ли не светился.
— Небо, — ответил он загадочно. — Небо и глас с него.
Глава 17 Смертию смерть поправ
Эта подлая жизнь не раз и не два Окунала меня в кровищу лицом. Потому я давно не верю в слова, И особенно — в сказки со счастливым концом. Если выжил герой всему вопреки И с победой пришел в родительский дом, Это — просто чтоб мы не сдохли с тоски, Это — светлая сказка со счастливым концом. Мария СеменоваОднако все пошло не совсем так, как задумал Святозар. Трудности начались с братанича. Бурунчи долго упирался, никак не желая допустить посещения князем своего племянника. Вконец озлившийся Святозар заявил, что пусть темник тоже не ждет от него помощи, если он не собирается уступить даже в эдакой малости. Пришлось Бурунчи сознаться, что Николай Святославич занедужил пуще прежнего и сейчас находится без сознания.
— Лекари от него который день не отходят, — пожал плечами темник. — Поделать же ничего не могут. Иди, если хочешь, но завтра…
Святозар видел всякое, но никогда ему не было так больно, как при посещении умирающего братанича. Бурунчи не солгал — возле постели, на которой лежал Николай, суетились сразу три лекаря, но запах омертвевшей плоти, ударивший князю в нос на самом входе, сразу сказал ему обо всем.
— Огневица[111], — прошептал Святозар, глядя на безжизненное лицо юноши и еле сдерживая рвотный позыв.
Трое китайцев о чем-то тихо переговаривались на своем загадочном языке, совершенно не обращая внимания на вошедшего человека.
— Он сможет выжить? — спросил Святозар.
Один из лекарей поднял голову и вопросительно уставился на князя. Тот повторил свой вопрос. Китаец наконец понял и вместо ответа откинул одеяло, обнажая тело Николая. Святозару хватило одного взгляда, чтобы понять — обречен. Страшная краснота на левой ноге племянника доползла чуть ли не до паха, а от колена и ниже и вовсе почернела.
В это время Николай открыл глаза и улыбнулся точно так же, как тогда, давным-давно, когда их ловили за какой-нибудь проказой и, невзирая на гордые титулы, наказывали, причем Святозару доставалось гораздо больше, как старшему. После наказания у Николая и появлялась на лице точно такая же виноватая улыбка, будто он извинялся за то, что ему досталось гораздо меньше, чем стрыю.
— Держись, братанич, — ободряюще подмигнул князь. — Авось вырвемся.
— Я не маленький, — почти беззвучно прошептал Николай. — Мне с такой огневицей и трех дней не вытянуть — высоко забралась поганая. Смердит поди от тела-то?
— Терпеть можно, — кивнул Святозар.
— Как тогда, — слабо улыбнулся больной, и оба поняли, что он имел в виду.
Точно так же стрый отвечал, когда маленький княжич после наказания спрашивал, больно ли ему.
— Ты вот что, — заторопился Николай, и его руки стали суетливо собирать что-то невидимое с одеяла, которым его вновь укрыли заботливые лекари.
«Обирается уже, — похолодел Святозар и взмолился: — Не при мне бы, господи!»
— Мне уже не помочь, а вот детишек моих не оставь, — как-то жалко попросил княжич.
Святозар кивнул, хотел было что-то произнести в ответ, но умирающий уже закрыл глаза, и князь молча вышел.
Слово, данное Бурунчи, он сдержал, но не так, как хотелось бы темнику, объяснив, что для начала надо вместе с подручными перебрать порох, потому что часть его отсырела.
Уговорить Бурунчи дать разрешение на то, чтобы священник посетил всех раненых, попавших в полон, и отпустил грехи умирающему княжичу, Святозару тоже удалось не сразу.
Темник то ли прикидывался, то ли и впрямь не понимал, что грехи христианин сам себе отпустить не может, а сделать это перед смертью надо. Скорее же всего, хитрый монгол какой-то дьявольской интуицией чувствовал — в этой просьбе таится нечто опасное. Но подозрения подозрениями, а князю до поры до времени он должен был уступать. Хан предупреждал темника, чтобы тот исполнял все желания Святозара, если князь не будет противиться и упираться в главном.
— Как ты не поймешь?! Если я зайду вместе со священником, то получится, будто это я его привел! Да и на меня самого так коситься не станут, — убеждал князь темника.
И убедил.
Дальше было хуже. Бурунчи неплохо понимал по-русски, поэтому в разговорах с пленными нельзя было ни словом, ни намеком выдать себя. Если бы это происходило в Орске или Оренбурге, где Святозар знал многих в лицо, — дело иное.
Здесь, после того как он смеялся, пока они бились в неравной схватке, хохотал, когда они умирали, и все это, будто свежая рана, горело у каждого в памяти, князю довелось услышать немало оскорблений в свой адрес, причем «Иуда» было самым деликатным из них. Хорошо хоть, что не плевали в лицо, — и на том спасибо.
Но людей для задуманного дела князь отбирал именно из таких — угрюмо набычившихся и смотревших на него с затаенной злостью в глазах. Эти не продадут и не подведут, а в бою будут стоять до последнего.
Он тыкал пальцем в одного, другого, третьего, и по знаку Бурунчи избранных сразу уводили в другое помещение.
Темник задал лишь один вопрос:
— Это все пушкари? — на что Святозар молча кивал.
Но главное состояло в том, что князю удалось отвлечь внимание Бурунчи от отца Анастасия, который виртуозно управлялся со своей молитвой. Даже сам Святозар, если бы он заранее не знал или не прислушивался, нипочем бы не догадался, что часть слов в ней явно… не из той былины.
— Отче наш, иже еси на небеси, слушай меня внимательно, болезный, да святится имя твое, да пребудет царствие твое, следующей ночью придет освобождать вас князь, да будет воля твоя, молчание храни да кивни, что услышал ты меня, хлеб наш насущный даждь нам днесь, он же и ножи вам даст, — частил он скороговоркой.
А когда наступило время для исповеди и отпущения грехов, Святозар заставил Бурунчи отойти в сторону, чтобы никто не слышал признания умирающего, кающегося в последний раз. Понемногу и сам темник стал успокаиваться. Интуиция то ли дала сбой, то ли ей просто надоело бестолково взывать к хозяину, который все равно оглох.
На следующий день дела у Святозара вроде бы снова пошли на лад. Несколько часов он провел в большой огневой, как именовали главный подвал, где находились ядра и мешочки с заранее расфасованной картечью. Там же были сложены и арбалетные стрелы, небольшие металлические болванки для хозяйственных работ и прочее.
Порох хранился в отдельном помещении, куда не просто воспрещалось вносить что-либо металлическое, но даже входить человеку, чьи сапоги были подбиты подковками. Одна шальная искра, знаете ли, порой может принести гораздо больше вреда, чем целый вражеский тумен.
Были, конечно, и так называемые малые огневые, расположенные в подвалах всех десяти башен, но Святозар, пройдясь по ним, безапелляционно заявил, что за то время, пока подвалы прекратили отапливать, все их содержимое безнадежно отсырело и пользы от него теперь никакой.
— А в большом не отсырело? — недоверчиво спросил Бурунчи.
— Отсырело, но не все, — ответил князь и пояснил: — Представь, что ты оставил кошму под дождем. К утру она непременно намокнет, даже если дождь был совсем небольшой.
— Верно, — согласился темник.
— А теперь представь, что ты положил их целый десяток одну на другую и тоже оставил под дождем. Тогда те, что в середине, останутся сухие. Так и тут.
То, что лежало сверху, отсырело, а внутри еще нет. Мы переберем порох и отделим пригодный.
— Долго перебирать? — деловито спросил темник.
— Три дня, — подумав, ответил Святозар. — Если очень хорошо потрудиться, то два.
— Один! — отрезал Бурунчи. — Если хочешь, возьми больше пленников, но успей все за день.
— Чтобы успеть к завтрашнему полудню, мне придется работать всю ночь до утра, — вздохнул Святозар.
Темник равнодушно пожал плечами. В переводе на русский язык начала XXI века его красноречивый жест явно звучал так: «Это твои проблемы». Князь не жил в этом далеком будущем, но темника понял и попросил его лишь об одном:
— Сам я останусь и пробуду здесь до полудня, а вот людей ближе к ночи надо поменять, иначе они от усталости начнут все путать.
— Можешь быть спокоен. Поменяю и пришлю столько, сколько нужно, — заверил Бурунчи.
Разговор Святозара с первой партией пленных поначалу шел с трудом. Те глядели на него с явной враждой и отвечали грубо и односложно. Однако после того как князь-предатель проявил загадочную осведомленность, поинтересовавшись, слышали ли они слова молитвы, которую читал им отец Анастасий, и правильно ли они ее поняли, вражды у людей поубавилось, хотя настороженность осталась.
— А тебе откель ведомо? — первым делом спросил суровый Коскарь, а приземистый Покляп, криво ухмыляясь, заявил:
— Лишь бы ты ее не слыхал, а то мигом до басурман дойдет.
— У тебя и речь как имечко[112] — вся с вывертами, — не удержался от ответной издевки Святозар.
Тот насупился, сжал кулаки, но его вовремя остановил Смага, еще один из пяти ратников, взятых князем в помощники. Краснолицый и широкоплечий, он как нельзя лучше соответствовал своему имени[113].
— Погоди, Покляп. Или ты впрямь запамятовал, что отец Анастасий в молитве сказывал?
— Да не до молитвы мне ныне, — отмахнулся тот.
— А ты вспомни, — посоветовал Смага. — И избави нас от лукавого, а от монгола вас князь избавит, коему поверить надобно. Правда, имени его священник не называл, но у нас в детинце других князей теперь и нет.
— Как же я могу ему верить, когда своими гляделками видал, как он… — возмутился Покляп, но Смага тут же перебил его:
— А я не видал. Да и на кой ляд нам в свару вступать, когда вот он, пред нами. Пусть сам скажет, яко оно было.
Рассказ Святозара был недолог, и восприняли его по-разному. Покляп откровенно не поверил — это было написано на его лице, Смага чесал в затылке, а вот молчаливый Кужель негромко произнес:
— Помнится, у нас в селище баба одна, чтоб мужика в соблазн ввести, настоем его опоила. Ведунья ей совет такой дала. Сказывала, влей ложку в чашку хмельного меда. Тогда он уснет, а наутро нипочем не вспомнит, что вечером творил. Ты же скажи, что он пред иконами клялся в женки тебя взять, ну и всякое прочее. Баба же решила для пущей надежности две ложки влить. Так мужик не уснул, а куролесить учал.
— Не зря говорят в народе — блажит, будто белены объелся, — заметил Коскарь.
— Во-во, — подтвердил Кужель. — Так-то он тихий — мухи не обидит, а тут такие чудеса вытворял, что опосля, когда проснулся поутру, пред всем селищем на коленях ползал. Бабке Разлате он крышу снес, а…
— Погоди, — остановил его Смага. — Ты толкуешь, что и князя… того…
— Ну да, — простодушно подтвердил Кужель. — Ежели можно опоить, то чего бы и не накормить. — И предположил, сам того не зная, угодив в точку: — Не иначе как колдун какой постарался. Нехристи с кем угодно дружбу сведут, лишь бы по-ихнему вышло. Да и то взять — бояться-то им нечего, все равно креста на груди нет, так что, как ни крути — гореть им всем в геенне огненной.
Смага задумчиво поглядел на Святозара:
— А ты что молчишь, княже? Нешто и впрямь не ведал, что творил?
— Не ведал, — сумрачно подтвердил тот.
— А и впрямь могет быть, — неожиданно пошел на попятную Покляп. — Ну, в сговор с басурманами вступить, из-за корысти там, али просто из страху — одно, но чтоб смеяться, глядя, как те крещеный народ изничтожают, — тут даже не душегубцем надо быть, а и вовсе разума лишиться. Да ведь он не просто смеялся — закатывался весь, ажио за живот хватался. Не-ет, тут без колдовского зелья и вправду не обошлось.
— К тому же сейчас-то мне на что пред вами хитрить? — ободрившись, заметил Святозар. — Чтоб на погибель привести? Так будь я и впрямь Иудой, подошел бы к тому же темнику да и попросил бы, чтоб он всех изрубить повелел.
— Тоже верно, — согласился Смага. — Тогда сказывай, чего удумал.
И князь принялся сказывать. План его был такой. Ближе к вечеру они меняются. Только пусть объяснят суть дела тем, кого присылают на смену, чтоб не надо было ничего им растолковывать. Святозар в это время сходит в церковь и заберет у отца Анастасия ножи и прочее, что тот ему даст. К середине ночи монголы-охранники непременно захотят спать.
И Святозар, и прочие, не сговариваясь, дружно обернулись и посмотрели на терпеливо стоящего вдали коридора басурманина, который безмятежно болтал со своим товарищем.
— Лечь — не лягут, но бдить будут не так, — продолжал князь. — Хотя они и сейчас вон никакого подвоха не ждут. После этого мы все незаметно поднимаемся наверх, к своим. Отпираем дверь, выпускаем народ и бегом к церкви.
— А раненых? — строго спросил Смага.
— Кто легко — сам пойдет, ну а о прочих озаботиться надо. Пускай самые крепкие им подсобят.
— Двое встать не смогут, — задумчиво протянул Кужель.
— Попробуем нести, — предложил Святозар. — Своих бросать негоже.
— А тебя ведь и впрямь опоили, — заметил Смага. — Иуда такого нипочем бы не сказал. Ладно, излагай далее.
— К княжичу Николаю не пойдем, — после легкой запинки произнес князь, пояснив: — Далече он, чуть ли не на другом конце детинца. Да и охраны там не меньше десятка.
— А может, пробьемся? Как же мы его бросим?! — возмутился Покляп.
— Попытаться можно было бы, если бы он здоров был, — вздохнул Святозар. — А он недвижим вовсе. К тому же раны у него худые — уже и огневица приключилась. Не жилец мой братанич. День-два, от силы — три, и все. Говорить бы мог — сам отказался бы. Хотя если тихо пройти не выйдет, то двоим можно будет туда податься, чтобы поганых от остальных отвлечь.
— Верная смерть, — произнес Смага.
— Зато остальные спасутся, — возразил Святозар. — Одного вы выбирайте, а я сам вторым пойду.
— Ты — князь. Тебе людей за собой вести, а не под стрелы кидаться, — возразил Смага.
— На мне — вина, — не согласился Святозар.
— Невольная вина, — поправил Кужель.
— Какая бы ни была, а все едино — вина, — упрямо заявил Святозар.
— О том не думай, — посоветовал Смага. — Ты об ином мысли — о тех, кого спасти надобно.
То же самое повторил князю и отец Анастасий, когда Святозара под охраной четырех монголов отвели в церковь.
Бурунчи поначалу хотел отказать ему в этом, но Святозар был непреклонен:
— Помолюсь, и работать легче будет. Да и люди мои все равно наверх ушли. — И посоветовал: — Ты сам проследи, чтоб их накормили как следует. С голодухи-то какая работа, а они и так больше половины сделали.
Услышав про это, темник сразу смягчился и отпустил князя.
Священник успел все продумать для передачи оружия. Покрыв голову князя платом, он незаметно сунул под него руку, и Святозар быстро извлек из широкого рукава ризы три ножа и сверток со звездочками, метать которые в свое время учил его сам Николка Торопыга. Давно, правда, это было, лет семь назад, но князь надеялся, что рука должна вспомнить старые уроки.
— Если шум услышишь — никого не дожидайся, — предупредил Святозар священника. — Значит, обнаружили нас. Уходи один.
— Негоже бросать-то, — возразил отец Анастасий.
— А кто память о нас до государя донесет? Кто мое имя пред отцом и Русью очистит, ежели мне погибнуть доведется? — строго спросил князь.
Тут-то священник и повторил слова Смаги. Слово в слово. На что князь сурово заметил:
— Я согласен. В первую голову надлежит думать о том, как людей спасти, но во вторую… Я, отче, вот чего умыслил. Когда мы наверх уйдем, в большой огневой фитиль зажженный оставим, а дверь подопрем. Ежели нам удастся пройти к храму — славно, а нет — тоже не беда. Там такая куча пороха, что от всего Яика ничего не останется. Потому я тебе и говорю — как почуешь, что прошло время нашей удачи, — уходи, а то боюсь, что и ход засыплет. Здесь все едино — никому уцелеть не удастся. Понял ли? А теперь отпусти мне, коли возможно, грехи мои, как вольные, так и невольные. Но последние особо, ибо они самые тяжкие, — слабо улыбнулся князь.
Вернувшись обратно в огневую, Святозар, к своему удивлению, обнаружил Смагу среди пятерки новой смены.
— Сна ни в одном глазу, — пожаловался тот. — Дай, думаю, потружусь и всем прочим растолкую, ежели сразу не поймут.
— А не поймут, так я подсоблю, — раздался знакомый голос, и из-за широченной спины Смаги, хитро улыбаясь, выглянул Кужель.
— А этого почто взяли? — указал Святозар на изрядно поседевшего пожилого мужика. — Я же просил кого поздоровей.
— Как узнал про тебя, так уперся, и все тут. Мол, с вами пойду. Хочу в остатний раз на княжича поглядеть, а то как знать — доведется, нет ли. Мы бы не взяли, да он божился, что матушку твою помнил.
Говорит, хочу поглядеть, каким вырос, потому как мальцом на руках пестал[114]. Брехал поди, но уж больно складно, — смущенно пояснил Смага.
— Собаки брешут, а Маркуха одну токмо правду сказывает, — огрызнулся мужик и обратился к Святозару: — Ты, княже, не гляди, что власы снежком припорошило. Я из тех, кто с твоим батюшкой Константином свет Володимеровичем под Коломной полки князя Ярослава бивал. И когда они с братцем Юрием пришли — сызнова бивал. И под Ростислав-лем в первом ряду щит крепко держал. Так что кашу, кою ты сварить решил, не испорчу, а то, глядишь, и сам маслица в нее подолью.
Святозар невольно улыбнулся.
— А матушку мою зачем помянул? — все-таки упрекнул он его.
— Купаву Занятишну-то? — изумился Маркуха. — Так она же в моей Березовке проживала, когда Гремислав на нее налетел. И тебя я тоже помню. Хотя на руках и не пестал, тут я малость и вправду того, но помню. Нас в ту пору из Березовки твой батюшка, рязанский князь…
— Царь, — поправил Смага.
— Цыть, пострел! — буркнул Маркуха — Не сбивай старшого. Ты-то поди без порток бегал, когда я у Михаил Юрьича в Ожске из первой пушки палил. Царем-то Константин Володимерович опосля уж стал, а когда я служить ему начинал, он окромя свово княжества ничего боле и не имел — все сам потом добыл. Орел, что и говорить. Ну а мы, знамо дело, подсобляли, — добавил он скромно. — Кто сколь мог. Иные, пока он к своей короне шел, и головы свои поклали за ради него. Из тех, кого он тогда в свою рать позвал, ныне, почитай, половина в живых осталась, не боле. Взять наших, из Березовки, что в десятке у Прокуды были. Глуздырь под Коломной лег, Вяхирь — под Ростиславлем, сам Прокуда с Гунеем — на Красных холмах, а Любим и вовсе под Царьградом. Ты, княже, о них помни, не забывай, — заметил он строго.
— Не забуду, — заверил Святозар.
— То-то, — удовлетворенно кивнул Маркуха. — Ну а теперь сказывай, чем торговать будем да за ка-ку цену. Уж больно не терпится басурманам должок отдать, да чтоб с резой. Ажио зуд в руках объявился, — пожаловался он.
Начало задумки прошло как по маслу. Со второй звездочкой Святозар, правда, подгадал, но шустрый Маркуха, невзирая на возраст, успел вовремя подскочить и, первым делом зажав монголу рот, резко полоснул охранника ножом по горлу.
— Старый конь борозды не портит, — подмигнул он Святозару, уважительно посмотревшему на него.
— Но и глубоко не вспашет, — заметил кто-то из новичков.
— Дай отсюда вырваться, так я и свою женку вспашу, и твою осилю, — пообещал Маркуха. — Давай, княже, дале глаголь.
— Теперь вервь давайте, — вздохнул Святозар. — Ночи ныне холодные, так что надобно дорогих гостей согреть, чтоб не зазябли.
Ратники поначалу даже не поняли, что князь имеет в виду. Маркуха и тут оказался проворнее остальных. Восхищенно поглядывая на Святозара, он живо извлек здоровенный моток специальной веревки, пропитанной сернистой смесью. Вдвоем они быстро размотали прадедушку бикфордова шнура и уложили так, чтобы один конец уходил в самую гущу пороха.
— Это у нас здесь сколь же саженей? — прищурился князь, быстро производя в уме нехитрые вычисления и бормоча еле слышно: — Так, вершок у нас сгорает за… ага… стало быть, одна сажень, а тут… ага.
— Сами-то успеем уйти? — усомнился Смага.
— Если без шума — тогда да, — ответил Святозар. — А ежели нарвемся на басурман, то едва ли.
— Ежели нарвемся, тогда нам все едино, — невозмутимо пожал плечами Маркуха. — А с вервью куда как красно[115] получится, — и похвалил: — Ай да молодца, княже. Ишь чего удумал! Ныне в Яике почитай сотни три-четыре басурман, не мене.
— А тысячу не хошь? — усмехнулся Святозар.
— Ишшо лучшее, — довольно улыбнулся Маркуха.
— Тогда за мной, — скомандовал князь, подпалив другой конец веревки, и они двинулись к подвалу, где сидели остальные пленники.
Путь выдался легкий. Хватило трех звездочек и двух бросков ножей, которые точно метал Маркуха, державшийся справа от князя. Смага подпирал Святозара с другого плеча. Еще трое шли во втором ряду.
Факелы мешали, но гасить их было нельзя. Человек, крадущийся в темноте, выглядит гораздо подозрительнее, чем идущий открыто.
Святозар поначалу успевал вовремя, но хватило и одного промаха. Досадуя на себя, он тут же метнул вторую звездочку, понимая, что поздно, слишком поздно.
Гортанный крик охранника уже летел, будил остальных, а монголам, чутко спящим прямо в одежде, для сбора хватило коротких мгновений.
Когда беглецы отодвинули засов, закрывавший тяжелую дубовую дверь, и из нее стали выбегать пленники, у князя на короткий миг мелькнула надежда, что им удастся прорваться. Мелькнула и тут же пропала — на место одного убитого врага тут же вставали двое или трое, на место русича, погибшего в неравной схватке, — никто.
Увести врага за собой, как предполагал Святозар ранее, тоже не получалось — о том, чтобы прорваться к разветвлению ходов, один из которых как раз и вел наверх, в покои, где сейчас лежал княжич Николай, нечего было и думать. Единственно свободным оставался другой конец коридора, но он был тупиковым, поскольку вел в большую огневую, из которой они пришли.
Дрались отчаянно. Один только Смага завалил с десяток, не меньше, узкоглазых корявых поганцев, которые, что-то злобно крича, все равно продолжали наседать на богатыря.
Облегчало дело то, что Бурунчи, прибежавший на шум, неистово орал во всю глотку, чтобы урусов брали живыми и только живыми, особенно князя.
— Стрелять по ногам, — распорядился он, но куда там.
Для стрельбы из лука нужно свободное пространство, пусть всего в несколько шагов, а где оно? И все-таки враги одолевали. Брали не умением — числом, но какая разница, коли верх их.
И оставалось идти назад, потому что иного выбора не было. Хотя нет, не так. Выбор есть всегда. Вот только не всегда он приемлем. Порой к нему настолько не лежит душа, что о нем и не думаешь. Вся разница лишь в том, что у каждого оно по-разному.
Трус и герой в одной и той же ситуации в один голос могут заявить: «У меня не было выбора». А вот дальше… «Иначе смерть», — промямлил бы трус. «Иначе предательство», — отчеканил бы герой.
В огневую добрались лишь двое, Маркуха, не утративший за долгие годы верткости, и Святозар, которого все остальные прикрывали своими телами.
Тяжелую дверь строители ставили на века, но разве устоит дерево под топором. Монголы уже хищно вгрызались в створку с той стороны, хотя благородный дуб держался стойко.
— Гаснет, — заметил Святозар, глядя на еле тлеющий факел, который Маркуха забыл выпустить из рук.
Он оглянулся назад, где высилась большая гора пороха, высыпанного из мешков, затем на факел, потом на пол, где бодрый огонек неспешно скользил по веревке.
— Эх, княже, а ведь не зря я тебя на руках пе-стал! — восхищенно заметил Маркуха.
Хрясь! — и первая щепка отскочила от дверного полотна ему в лицо.
— Вострая какая, — подивился он, вытаскивая ее из щеки, и поинтересовался у Святозара: — Мы тут долго еще стоять будем?
— Да нет, — усмехнулся князь, и беззаботная улыбка осветила его лицо. — Пройдем-ка вон туда, — указал он в сторону кучи пороха. — А уж когда поганые вломятся, тогда мы им и подсветим.
— Видел бы тебя сейчас наш государь! — восторженно крикнул Маркуха. — Ну и меня тоже, — добавил он, подумав. — Чай, мы с тобой оба березовские. — Старый вояка сокрушенно вздохнул и пожаловался: — Даже чарку опрокинуть за встречу не успели, а как хотелось! Я же с князем сроду медку не пивал!
— Зато тебе ныне с ним погибать довелось, — заметил Святозар, все так же радостно и беззаботно — почти как в детстве — улыбаясь от осознания того, что вот сейчас искупит он свой невольный грех, а вольных за собой князь попросту не помнил. Ну словно баньку принял да чарку медку испил — так хорошо ему теперь было.
— Это да, — согласился Маркуха. — Это уж честь так честь! Я ее и на бочку меда не променял бы. Даже вишневого. Да что бочка, — досадливо махнул он рукой. — Я бы… — и повернулся к двери, в проломе которой показалось радостно оскаленное скуластое лицо.
Поэтому и не успел договорить…
Почуяв неладное, отец Анастасий крадучись прошел к двери, слегка приоткрыл ее и долго-долго вслушивался, пытаясь понять, почему вышла такая большая задержка. Между тем на улице зимние сумерки, все в голубых искорках свежевыпавшего снега, обещали вот-вот уйти прочь, уступив место очередному новому дню, который сулил…
«Нет. Пожалуй, ничего хорошего он не сулит, — подумал священник и оглянулся на заблаговременно открытую им плиту. — Идти или подождать еще? Хотя чего уж тут — и так все ясно».
Он опустил голову и медленно, еще надеясь на какое-то чудо, побрел к плите. Спускаясь вниз, он вновь ненадолго задержался, размышляя, закрыть ее за собой или оставить так, давая тем, кто сумеет прорваться, еще несколько мгновений, которые могут оказаться спасительными.
«Оставлю», — решил священник и побрел дальше, углубляясь в подземную черноту.
Приглушенный грохот донесся до него, когда он был недалеко от выхода. Земля под его ногами задрожала, а в следующее мгновение часть свода рухнула, не выдержав мощного сотрясения. В кромешной тьме перепуганный отец Анастасий опрометью кинулся бежать вперед, и в этот миг сзади что-то с силой ударило его в плечо.
«Догнали, — подумал он, ускоряя бег. — И без отпущения грехов — вот что тяжко. А ведь для священника это, поди, вдвойне грешно — так-то помирать».
И тут же на него обрушился еще один удар. На этот раз он пришелся по затылку…
А когда через сутки или двое — как угадаешь? — он очнулся, то был уже совсем иным. Ушел в прошлое отец Анастасий, канул в забытье юный инок, потерялся в закоулках памяти младень Жива, и даже русич бесследно растворился где-то в темном омуте. Остался же просто человек — без имени, без судьбы, без роду и племени.
Единственное, что он знал, так это то, что должен выжить. Но зачем выжить, для чего, что именно осталось недоделанным — ничего этого он не помнил.
Какое-то время он бестолково разбирал завал из кирпичей, образовавшийся сзади (или спереди?) него, затем, махнув рукой, двинулся вперед. А может, назад? Да какая разница.
Нащупав дерево двери, он что есть силы толкнул его, рухнул лицом в снег и успел подумать, что на свету помирать гораздо приятнее, нежели в темноте.
Через некоторое время кто-то из всадников передового десятка племени кайы обнаружил странного человека — живого, но ничего не говорящего, а чуть позже выяснилось, что ничего и не помнящего. Никакие расспросы не приносили результата, и после недолгого колебания незнакомца — не выгонять же из юрты на мороз — оставили в племени.
Прежнюю одежду его — не годилась такая в степи— женщины раскроили на куски, из которых сшили иную, более практичную. Незнакомец оказался сообразительным. Не сразу, но довольно-таки быстро он научился и языку племени, и нехитрым премудростям простой жизни кочевников. А так как нашел его юный сын вождя, чем очень гордился, то и имя незнакомцу дали в честь него — Осман.
Потом, спустя годы, его стали и вовсе считать за своего, даже предложили в жены вдову храброго воина Юсуфа, погибшего в битве, но Осман почему-то отказался. Смущенно пожимая плечами, он на расспросы любопытных отвечал только одно:
— Нельзя мне.
— А почему нельзя? — приставали к нему.
— Не ведаю.
Он и правда этого не знал. Что нельзя — да, уверен был, а вот почему…
Любопытные степняки целый день после его отказа думали и гадали — почему, но так и не нашли никакого ответа.
Может, вера не велит? Но ведь у него на груди крест, а Кристос, которому велит кланяться старый добродушный мулла в каменной юрте, не запрещает жениться. Может, он сам из тех, кто ему служит? Непохоже. Одежду, которая была на нем, можно увидеть на любом урусе. Да если бы и так, все равно что-то не то, ведь мулла-то женат, и ничего.
В конце концов махнули рукой. Только вдова немного обижалась, однако потом все равно простила, став пятой женой самого Эрторгула.
Так человек и жил один. Пас овец, вместе с пастухами объезжал диких лошадей. Всегда и всем, кто ни попросит, охотно помогал.
Словом, прижился.
* * *
Господь, услыша мольбы тех, кои в полон попали, избавил их от тяжкыя доли, обрушил гнев свой на ворогов земли русския, и содрогнулась от оного гнева земля, руша башни и стены.
Из Владимирско-Пименовской летописи 1256 года Издание Российской академии наук. СПб., 1760* * *
От чего взорвался захваченный монголами Яик? Тут, на мой взгляд, даже не о чем говорить. Совершенно очевидно, что имела место простая неосторожность при обращении с так называемым «огненным зельем». Правда, есть и еще одна версия — возможно, что русским пушкарем Гайраном, взятым монголами в плен, была совершена диверсия.
Сразу отвечу на возможные возражения, поскольку летописи приписывают ему иной и гораздо более скромный подвиг — подрыв пушки в Оренбурге, в результате чего погибли несколько монгольских мастеров-камнеметчиков. Скорее всего, тут произошла путаница в названиях крепостей. К тому же, если предположить, что Яик — работа Гайрана, то получается, что Святозар, которого позже всеми силами старались обелить историки, к взрыву крепости не причастен вовсе, а этого допустить было никак нельзя.
К счастью, мы живем в свободном демократическом государстве, несмотря на то, что формой правления в нем является, как и шесть веков назад, конституционная монархия, а потому можем говорить правду и только правду, как бы ни была она горька и неприятна для нашего нынешнего императора Константина VIII.
Албул О. А. Наиболее полная история российской государственности. Т. 3, с. 285. СПб., 1830Глава 18 Битва под Ряжском
Там русский поражен врагами, Здесь пал растерзанный монгол, Тут слышен копий треск и звуки, Там сокрушился меч о меч. Летят отсеченные руки, И головы катятся с плеч.[116] «Задонщина»Нынче сказали бы, что глубокая депрессия монгольского хана стала неизбежным последствием каталептического припадка, который, в свою очередь, вызвали постоянные потрясения, связанные с нервной работой. Что до последнего, тут спору нет. Ходить грабить Русь — труд не из легких. А в остальном…
В те времена народ изъяснялся гораздо проще, и кешиктены, стоящие на страже ханской юрты, боязливым шепотом сообщали друг другу при смене постов, что джихангир все так же лютует.
Заглянуть вовнутрь не решался никто. Даже старый Субудай, подойдя к ханской юрте, всякий раз колебался и некоторое время прислушивался к звукам, доносившимся изнутри. Затем, услышав особо громкий вопль своего воспитанника, он вновь приходил к благоразумному выводу о том, что с визитом лучше повременить.
Лекарей он тоже не посылал. Из троицы самых лучших один уже валялся бездыханным после визита к хану, а второго — с тяжкими ранами — как раз лечил третий, которого следовало поберечь.
Лишь через сутки одноглазый барс все-таки отважился на решительный шаг, зашел к Бату и остолбенел. Такого погрома он не видел ни разу за всю свою долгую и полную событиями жизнь. Даже если предположить невероятное и допустить, что в ханскую юрту забрались грабители, то и они никогда не сумели бы учинить там такой беспорядок, каковой предстал перед его глазами.
Ну, унесли бы они всю ценную утварь, прихватили бы оружие, ухитрились бы вдобавок обмотать себя дорогими хорасанскими коврами, которые так нравились Бату за причудливые темно-багровые узоры. Пусть даже эти грабители что-то в спешке перевернули бы, кое-где задрали бы кошму, но они не стали бы так изгаляться над пуховыми подушками и одеялом, не топтали бы ногами медные кумганы[117], да и войлок, покрывавший пол, не стали бы грызть зубами и тыкать в него саблей.
Сам буян лежал навзничь с бледным, словно у покойника, лицом и дышал так тихо, что Субудай поначалу даже слегка испугался, не помер ли хан в одночасье. Прислушавшись, понял — жив. Дыхание было ровным и спокойным, как у младенца.
Немного подумав, Субудай решил не будить Вату, хотя сказать было что — вестей за пару дней набралось изрядно. Чего стоил только один каан русичей. Вон его люди стоят — отсюда можно разглядеть. Стоят и ждут.
Хорошее местечко выбрал каан для своих людей, ничего не скажешь. Одно поле чего стоит — узкое, так что для слабого пешего воина самое то. Да и с боков не подойти — лес да река. Разумеется, попытаться все равно нужно, тем более что урусы нападения оттуда и не ждут. С реки — нет, гиблое дело, а вот со стороны леска…
Но лучше всего нанести удар в спину, которую пока что прикрывает городок, наскоро срубленный той тысячей урусов, которую так и не смог побить Шейбани. Конечно, штурмовать его в лоб глупо. Пусть он и состряпан на скорую руку, но об него поломали себе зубы целых три тысячи воинов.
Однако тут была одна хитрость. Городок-то невелик, но по бокам — что влево, что вправо — пустота. Зачем его вообще брать? Пусть остается, как утес в море, которое поступает мудро и, разливаясь, не трогает скалу, а обходит ее со всех сторон, наступая на берег там, где он самый пологий.
Берег — это полки каана. Разгроми их, и все, а разобраться потом с утесом-городком — пара пустяков. Субудай, уверенный в том, что джихангир непременно одобрит его решение, когда, гм-гм, выздоровеет, уже отправил гонцов к Шейбани с повелением от имени Бату снимать осаду Биляра, продвигаться к устью Вятки и незаметно сосредоточиться на ее противоположном берегу.
Две или три тысячи воинов желательно направить в обход для удара со стороны леса, но этот вопрос не поздно будет решить и вечером, вместе с джихангиром. К этому времени он как раз должен очнуться.
Старый Субудай ошибался крайне редко. Вот и теперь Бату, ослабевший и бледный после своего буйства, но — хвала Тенгри — спокойный, одобрительно кивнул и заметил:
— Ты мудро сделал. Не зря я держу тебя у своего сердца. — Но тут же внес и поправку: — Мы ударим не только со стороны леса, но и с реки. От ту-мена Бурунчи осталось почти восемь тысяч людей, которые не уберегли своего темника и всех тысячников, — пусть искупят свою вину. Пять тысяч из них я поставлю на острие келя[118]. Они нанесут самый первый удар. Остальные три чуть позже, по сигналу, который мы им дадим, двинутся со стороны реки. Когда урусы вступят в бой с ними, тогда мы ударим всерьез сразу с двух сторон — с леса и со спины. Пушки, которые мы привезли с собой, поставим позади, в обозе.
— Но с ними никто не умеет обращаться, — напомнил Бату юный Берке, довольный тем, что сумел хоть в чем-то оказаться посмышленее своего старшего брата.
— Правильно, — кивнул нимало не смутившийся хан. — Но урусы об этом ничего не знают. Если у них кто-то и таится сзади наших туменов, то при виде их побоится нападать. А для пущего страха у каждой пушки надо поставить воина с огнем в руках, чтобы враг видел их еще издалека. Тогда те тысячи, которые стерегут наш товар[119], мы тоже сможем бросить на урусов.
— А их пушки? — спросил Субудай.
— Ты разве не понял, почему те злобные урусы, которые так доблестно отбивались от трусливых шакалов Шейбани, ни разу не выстрелили из них? — хмыкнул Бату. — Да потому, что у них нет огненного зелья.
— У них — нет, но что будет, если его привез с собой Константин? — усомнился Субудай, но Бату только отмахнулся от одноглазого полководца.
— Даже если и привез, то немного, — заметил он. — К тому же, когда мы сойдемся вплотную, они не смогут стрелять из них, опасаясь побить своих же. И еще одно, — добавил хан. — Нашим дозорам как-то удалось отбить у урусов несколько телег.
— Да, я помню, — кивнул Субудай.
— Тогда вспомни и то, что лежало на одной из них. Камнемет! — торжествующе выпалил Бату. — Зачем им камнемет, если у них есть много огненного зелья? Ни к чему. Значит, его мало. Да и изготавливали камнемет в спешке, поэтому он такой маленький и совсем не опасный для моих воинов. — И произнес твердым уверенным голосом: — Я понял свою ошибку. Мне вообще нужно было рассчитывать не на эти пушки, а только на доблесть и отвагу воинов. Когда мой великий дед воевал с ханьцами[120], он любил говорить, что одному монголу никогда не одолеть ста врагов, но один его тумен всегда победит десять туменов, потому что ханьцы — землепашцы, а меч в их руках появляется раз в год, да и то не в каждый. Урусы — такие же землепашцы. На два их тумена приходится три моих, а если считать людей Шейбани и остатки тумена Бурунчи, то и вовсе больше четырех. Стыдно надеяться на что-то еще при таком перевесе. Великий воитель, взирая на меня с высот Вечного Неба, не утерпел и поднял на дыбы урусскую крепость Яик, чтобы я даже не думал об огненном бое. Я понял его предупреждение и повинуюсь ему… А вот поле узковато, — заметил он со вздохом. — Будь оно чуть пошире, и было бы совсем хорошо. А еще лучше… — и он мечтательно прищурился, — чтобы к Константину прискакали гонцы и сообщили, что хан Гуюк взял Рязань.
— Да, я думаю, эта новость не понравилось бы каану урусов, — подтвердил Субудай.
Оба они не знали, как обстоят дела у сына Угедея и его братьев, и того, что всего четыре дня назад та часть монголов, что двинулась к столице урусов, еще на подходе к Рязани была вынуждена принять бой.
…Гуюк обожал лесть. Хан считал, что наследник великого каана лучше всех прочих людей во всех отношениях, исходя из одного только факта своего высокого рождения. Иначе просто не могло быть. Об этом, если уж на то пошло, наглядно свидетельствовало все окружающее. Кто рождается у тигра? Только тигренок. А у волка? Только волчонок. А кто может сравниться с его отцом Угэдэем, который одновременно был и могучим тигром, и мудрым змеем? Никто.
Если бы еще он не пил… Именно вино, как считал Гуюк, было главной причиной временного умственного помрачения отца, когда тот подписывал завещание и выбирал наследника. Вино да еще его подлые гнусные советники.
Но ничего. Он еще докажет отцу, что тот сильно ошибался в своем старшем сыне. Хитрец Бату поначалу предложил ему идти на Волжскую Булгарию. Правда, он честно заявил, что, скорее всего, сам ка-ан Руси Константин кинется на защиту своей столицы, но зато у булгар большие города. Стоит ли людям Гуюка менять богатую добычу на честь победы, которая то ли будет, то ли нет?
Ну, с Бату и без того все ясно. Его отец и сам был весьма сомнительного происхождения, вот он и ревнует к сыну каана. Гуюк еще по совместным боям с ханьцами помнил, насколько огромно честолюбие Бату и его жажда почестей и славы. Зря отец принял решение помочь сыновьям своего старшего брата. Нет, объявлять великий поход на западные страны, конечно же, нужно было, но почему он назначил джихангиром именно Бату?
В этом Гуюк тоже видел злобные происки отцовских советников, и единственная возможность доказать обратное заключалась в победе над кааном Руси Константином и во взятии его столицы. Его сердце не злобилось так сильно против этого народа, как у Бату, в котором с раннего детства растил и лелеял лютую ненависть одноглазый Субудай. Русичи были для Гуюка лишь средством для возвышения, но не в собственных глазах, в них он и так котировался выше некуда, а в глазах отца.
Хорошо, что он решил отказаться от штурма крепостей, воздвигнутых на берегах рек русским кааном, хотя Бату и советовал не оставлять за спиной врага. Ни к чему тратить драгоценное время. Они и так падут, когда кончатся съестные припасы. Может быть, имело смысл осадить только самые крупные, да и то небольшими силами, чтобы сковать действия воинов, засевших в них.
Строго говоря, это изменение в первоначальном плане не было его выдумкой. Так считал только сам Гуюк, которому на самом деле все эти мысли подкинул осторожный и дипломатичный хитрец Менгу[121], чуть ли не единственный чингизид, за исключением сыновей Чагатая, который мог поладить с надменным сыном великого каана.
Впоследствии, когда Гуюк со словами «Я думаю, что…», огласил его на совете, Менгу, посмеиваясь в душе над наивностью своего двоюродного братца, ни разу не попытался оспорить это мнимое авторство. Главное, чтоб все шло как надо, а остальное неважно.
Более того, и сам план глубокого рейда придумал Менгу, а не Бату, с которым старший сын Тули поделился кое-какими мыслями. Разговор состоялся наедине, но Бату поначалу ничего не ответил, сказав лишь, что подумает.
— Думай, — пожал плечами Менгу, все так же беззаботно улыбаясь. — Только я же вижу, как тебе нелегко приходится. То, что ты — джихангир, назначенный по великому ярлыку верховного каана, — одно. Но есть и другой его ярлык. А в нем сказано совсем иное. Да к тому же имеется еще и третий — нашего дяди Чагатая. И своей властью наши братья никогда не поделятся. Если двое правят одной повозкой, то она опрокидывается. А что с ней станет, если поводья в руках держат сразу трое?
Бату помрачнел. Про другой ярлык он хорошо знал. Про третий — тоже. Да и как не знать, коли тот же Гуюк и Бури прожужжали о них все уши, и не только одному джихангиру. В нем Угедей возлагал на своего сына Гуюка начальство над всеми войсками, выступившими из Центрального улуса. А Чагатай возложил руководство туменами, выделенными из его улуса, на внука Бури.
Вот и выходило, что Бату — джихангир лишь наполовину, а если разбираться, то над половиной туменов он не властен. Зато коли принять план Менгу и умно его подать, тогда войск у него будет меньше, но он останется их полным владыкой. Однако, зная строптивый нрав Гуюка, Бату вначале решил предложить все наоборот.
— Ты вместе с Бури, Менгу и Кульканом пойдешь на хана Волжской Булгарии, — сказал он на на совете, состоявшемся через пару дней после взятия Оренбурга. — Города там богатые, добычи много. Я же возьму на себя самое тяжелое — пойду голыми степями и лесами в обход, чтобы взять столицу русского каана. Конечно, придется вначале разбить его войско. Думаю, что мои тумены справятся, хотя это будет нелегко.
Менгу удивленно посмотрел на Бату, но не сказал ни слова, только еще ниже опустил голову, чтобы никто не заметил легкую усмешку, скользнувшую по его губам. Зато Гуюк раскипятился не на шутку.
— Твои справятся, а мои — нет?! — визгливо закричал он. — Ты говоришь про добычу. Да у Константина в одной его столице столько золота, сколько не наберется во всей Булгарии. Зачем хитришь, зачем всех обманываешь?! — И он погрозил пальцем — мол, все вижу, все понимаю.
Менгу закашлялся, но затем, после недолгого раздумья, решил подыграть Бату, нанизав, таким образом, на одну стрелу двух зайцев.
— И впрямь получается неладно, — заметил он с укоризной. — Отчего ты не доверяешь ни мне, ни своему брату Гуюку, ни другим братьям? Ты даже своему дяде Кулькану не доверяешь. Нехорошо. Конечно, ты — джихангир, а мы все воины, которые обязаны тебя слушаться, но вспомни, что, когда воля хана по душе воину, он бежит ее выполнять, как резвый конь, а если нет — плетется дохлой клячей. Не лучше ли поступить так, чтобы мы мчались, выполняя твое повеление, а не тащились еле-еле, с низко склоненными головами?
— Не натягивай лук сверх меры, а то он переломится, — не удержался Гуюк.
— Чего нет, о том всегда много разговоров, — огрызнулся Бату. — Не годится воинам делить добычу, если они еще не разбили врага. Ну ладно. Огонь маслом не залить, злом ссору не погасить. Я не буду говорить обидных слов. От них скисает даже кумыс.
— В гневе и прямое становится кривым, и гладкое — корявым, — поддакнул Менгу.
— Что ж, — вздохнул Бату. — Мне, как джихан-гиру, хочется, чтобы вы выполняли мои повеления с радостью. По счастью, лед всегда можно растопить, а слово — изменить, а потому я меняю свое решение. Я уступаю вам честь разбить войско русского каана и взять его стольный город, где он держит свою казну. Себе же оставляю хана Абдуллу с его городами. Надеюсь, что теперь все довольны?
Гуюк даже хрюкнул от удовлетворения, Бури улыбнулся, Кулькан самодовольно закряхтел, и только Менгу оказался сдержан, как и всегда. Он лишь склонил голову, и никто из чингизидов так и не понял, что на самом деле все произошло именно так, как нужно ему. Города Булгарии и впрямь богаты и многолюдны, но некоторые из них имеют даже не одно кольцо стен, а два, а то и три[122], так что потери при их штурме окажутся весьма немалыми.
Но если идти изгоном, не отвлекаясь на взятие городов, встречающихся на пути, то каан Константин либо вовсе не сумеет собрать войско, либо соберет только его часть. К тому же укрепления его столицы, как рассказывали все те же купцы, не такие мощные, как у булгарских городов. Конечно, и там придется положить несколько тысяч, но такова участь воина.
Поэтому Саратов, до которого монгольские тумены дошли всего за каких-то восемь дней, не пострадал. День Гуюк простоял под крепостью, пытаясь напугать защитников мощью своего войска, день истратил на безрезультатный штурм, в результате которого потерял около тысячи воинов.
Но пушки, установленные на крепостных башнях и стенах, били точно, и он окончательно уверился в правильности своей первоначальной тактики, подсказанной Менгу. Оставив тысячу для блокады, он ринулся дальше, но не по прямой, а в обход дремучих лесов, в которых засела мордва.
Гуюк вообще не любил лесов, подсознательно он их даже боялся. Да и народец там жил бедный, так что победа над ним не принесла бы ни славы — подумаешь, данников каана Константина примучил, — ни богатства.
Шел он быстро, так что на дорогу затратил всего пятнадцать дней[123]. Можно было бы двигаться и еще быстрее, если бы не обозы, которые приходилось зорко охранять от набегов местных племен, предпочитавших атаковать либо ночью, либо на рассвете.
Воины этих племен, как ни странно, имели хорошее вооружение и дрались умело. Однако они были малочисленны, и потому всякий раз монголам удавалось отбиться, хотя потерь хватало, особенно поначалу, когда после первого же неожиданного набега хан лишился чуть ли не трети всего обоза.
Правда, до самой Рязани он не дошел. Удачно миновав сплошные леса через единственный проход между реками Лесной и Польный Воронежец, близ крепости Ряжск Гуюк вынужден был остановиться. Такую преграду, как рязанское войско, сразу с дороги не сковырнешь. Впрочем, чингизид не расстроился. Скорее наоборот.
«Наконец-то», — возликовал Гуюк, радуясь, что воеводы урусов настолько глупы, что рассчитывают одолеть его непобедимые тумены, хотя их собственные силы не превышают сорока тысяч.
Хан расставил свое войско в строгом соответствии с заветами великого деда, о чем не преминул напомнить своим соратникам во время вечернего пира:
— Мы шли в боевом порядке харагана, теперь построились в боевом порядке наур и будем биться в боевом порядке шиучи. Так всегда поступал сотря-сатель вселенной и всегда одерживал верх над своими врагами. Выполняя его мудрые заветы, мы тоже победим урусов.
Единственное, что было плохо, так это само место будущей битвы. Почти ровное, можно сказать, даже плоское, оно идеально подходило для мощного удара конницы. Но из-за того, что поле с обеих сторон клещами стискивали леса, от удара во фланг урусов, а тем более от обходного маневра с последующим нападением с тыла монголам пришлось отказаться.
После донесений разведчиков, сумевших по количеству разведенных костров подсчитать численность врага, Гуюк самодовольно заявил, что они одолеют и простым ударом в лоб. Особенно его порадовало известие о том, что урусы почти не имеют конницы. Разведчикам удалось заметить всего два конских табуна, численностью не более чем в две сотни голов.
Оставалось одолеть противника, но получилось все именно так, как предлагал Бату Святозару. Правда, в тыл коннице царевичей-чингизидов, увязшей к тому времени в непробиваемом пешем строю, ударили не русские тысячи, но от этого им не стало легче.
Половецкие конники соединились с воинами князя ясов Качир-укулэ еще за неделю до сражения и ступали шаг в шаг за монгольской ордой. Даже на ночлег они оставались именно на тех местах, где буквально накануне горели костры, у которых грелись озябшие воины Гуюка, Менгу, Хайдара, Бури и Кулькана.
Пока монголы отдыхали перед решающей битвой, ясы и половцы скрытно прошли в те места, которые определил для концентрации засадных сил воевода Вячеслав Михайлович. Он же позаботился о высылке к союзной коннице своих проводников, чтобы все прошло строго по плану, который он разработал еще по пути к Рязани.
Единственное, чего он боялся, так это того, что не успеет собрать людей, которые находились на учениях южнее Воронежа. Однако гонцы, которых они с Константином отправили сразу после битвы за синь-камень, поспели вовремя, и все полки двинулись к Нижнему Новгороду.
Вячеслав Михайлович застал их уже на марше, почти под Рязанью. Пришлось поворачивать людей обратно и вести их к Ряжску. Именно там имелось место, подходящее для битвы. Дальше уже простирались широкие поля, которые дали бы несомненное преимущество монгольской коннице, предоставляя необходимое пространство для флангового охвата, а этого допустить было нельзя.
Но даже в таком уютном местечке, стиснутом с обеих сторон лесами, риск был достаточно велик. Русским полкам предстояло удерживать монгольскую лаву в течение нескольких часов, а это не шутка. Двадцатилетний мир, царивший на Руси, при всех своих плюсах таил в себе увесистый минус — боевую закалку имели далеко не все полки.
Однако войска выдержали тяжелое испытание. Был момент, когда дрогнули галичи, бившиеся на правом фланге. Но Вячеслав вовремя заметил попятившихся ратников и без раздумий бросил им в помощь свой единственный резерв — Новгородский полк.
Еще пятнадцать лет назад жители господина Великого Новгорода до хрипоты горланили на своих буйных вечевых сходках, требуя во что бы то ни стало вернуть северо-восточные земли, отобранные рязанским князем — царем всея Руси они его не признавали. Ради этого новгородцы готовы были объединиться хоть с чертом. Однако шли годы, и они присмирели, согнулись, придавленные тяжелой царской дланью, которая могла не только поощрять и миловать, но и карать за ослушание, причем карать жестоко.
А куда деваться, когда Константин в ответ на враждебные выкрики лишил их четырех пятых всех доходов, умело направив торговые пути через Западную Двину и процветающую Ригу. Да мало этого, он еще до предела урезал все таможенные пошлины за транзитные грузы, соблазняя иноземцев дешевизной проезда.
К тому же те, кто ехал по новой дороге, которая вела с южного берега Каспия к северному, затем, после передышки в Астрахани, водой до Волгограда, а там, через волок, растянувшийся на десятки верст, в Дон Иванович, успели оценить все ее преимущества.
Скольких при этом удавалось избежать трудностей, связанных с тяжелыми пешими переходами, сколько времени экономилось — так сразу и не сосчитаешь. Купцы выгадывали не дни, а месяцы.
А ведь каждый день — это расходы. Опять экономия, да какая. Словом, кто раз испробовал новый маршрут, тот уже не собирался менять его на другой. От добра добра не ищут.
Не имея сил переиначить сложившуюся ситуацию, новгородцы вначале притихли, а потом ударили челом царю, после чего Константин сменил гнев на милость, увеличил пошлины, и нескончаемый поток товаров, идущий через Ригу, сразу обмелел наполовину, вновь разделившись надвое.
Конечно, жизнь все равно не стала той, что прежде, но, по крайней мере, можно было не трястись над каждой куной. А вои из новгородцев испокон веков были добрые, что они доказали и на сей раз, выстояв и поддержав галичан.
Зато на левом фланге положение дел к тому времени, когда конные полки ясов и половцев ударили в незащищенную монгольскую спину, обстояло как нельзя лучше. Под началом Давьята и Товтивила там храбро дрался прибалтийский корпус, составленный из свирепых пруссов, косматых ятвягов, неукротимых мазовшан, злобных эстов, диких литвинов, яростных куронов, отважных семигалов, упрямых ли-вов и прочих прибалтийских племен.
Именно они приняли на себя основной удар монголов, чье правое крыло традиционно было ударным — крылом атаки. Благодаря ему великий Чингисхан неизменно добивался победы над любым врагом, ломая его сопротивление и заходя во фланг.
Прибалты уже знали, как подло монголы разделались с их соплеменниками в степи под Оренбургом, и пылали жаждой мести. Так что они не просто мужественно приняли этот могучий удар, не дрогнув и не попятившись, но противопоставили стремительному натиску степных дикарей могучую стойкость дикарей лесных.
Разумеется, если бы эта стойкость не была помножена на славную выучку под руководством воевод Константина, да еще на хорошее вооружение, пусть и уступающее по качеству экипировке русских полков, но ненамного, то как знать, как знать. Навряд ли они сумели бы устоять перед монгольскими туменами, скованными железной дисциплиной и закаленными в постоянных боях. Однако не зря их гоняли до седьмого пота, буквально вдалбливая азы элементарной дисциплины строя.
Именно их стойкость послужила причиной тому, что Гуюк, видя, что вражеский строй не подался назад хотя бы немного, совсем чуточку, вынужден был бросить в помощь правому крылу свой последний резерв — тяжеловооруженную гвардию, которую, вопреки обыкновению[124], повели за собой чингизиды — Хайдар и Бури.
Сын и внук Чагатая бились отважно, потеснили полк литвинов и опасно приблизились к белоснежному полотнищу с соколом посередине, гордо реявшему на невысоком холме. Кто знает, что случилось бы, промедли половцы и ясы со своим ударом хотя бы на полчаса. Но они пришли вовремя.
Монголы, попавшие в кольцо, попытались обернуться навстречу новому неведомому врагу. Не сразу, с огромным трудом, потеряв четверть состава, но они это сделали, норовя вырваться и сознавая, что путь в степь для них остался только один.
Если бы у половцев было наполовину меньше людей или они не успели бы соединиться с ясами, то им и впрямь пришлось бы худо. Даже заяц, загнанный в угол, бесстрашно кидается на охотника, а тут в загон попал волк, к тому же бешеный. И немало «загонщиков» навсегда осталось в той небольшой долине, где протекала маленькая речушка Хупта, а изрядное число вернулось в родные места с тяжкими ранами.
Волк не просто кусался. Исступленно рыча, он почти до самого вечера грыз и рвал когтями окруживших его охотников, пытаясь вырваться на волю. Но уж больно много их оказалось, к тому же у каждого — что у половцев, что у ясов, что у русичей — имелся к ним свой счет, где каждая буква была выписана ярким темно-красным цветом. Только это была не киноварь, а кровь.
Уже начинали сгущаться сумерки, когда сражение, переросшее в побоище, закончилось. Сыновьям Чагатая повезло — их взяли в плен целыми и невредимыми, Кулькана тоже. Родной брат Гуюка Кадан получил два ранения, но оба не опасные для жизни, хотя крови потерял много. Больше всех досталось Менгу, старшему сыну Толуя, и самому Гуюку. Они со своими воинами сумели прорваться, и если бы не двое князей-алдаров[125], то непременно ушли бы.
Однако не зря дружины Шапуха и Араслана гарцевали на длинноногих афсургах[126], из-за чего их и оставили в резерве. Поначалу они восприняли это как обиду, но посланники русского воеводы нашли нужные слова, чтобы пояснить обоим гордецам, что как раз им-то поручено самое тяжелое и ответственное дело.
— Бой — не самое трудное дело, — заметил им Евпатий Коловрат. — Когда ваши тысячи ударят по врагу, тот так напугается, что его останется только рубить без устали. Но царь повелел, дабы никто живым с этого поля не ушел, а царевичей-чингизидов непременно надо пленить. Такое гораздо тяжелее исполнить. Потому вам и надлежит держаться позади прочих, чтобы сберечь прыть коней. Если кто-то из ворогов сумеет прорваться, то тут ваш черед и придет.
— Ты хорошо сказал, боярин, и мы благодарны тебе и твоему царю за доверие, которое он нам оказал. Но кто из нас будет первым гнаться за беглецами? — встрял неугомонный Араслан.
— Это легче всего. С чьей стороны прорвутся, тому и скакать наперехват. А в середине шесты со знаменами[127] воткнем.
— А если они как раз посередине ринутся? — не унимался Араслан.
— Тогда, чтобы по справедливости решить, я предлагаю жребий кинуть. На кого выпадет, тому и быть, — и Евпатий показал князьям серебряную монету.
Более молодой и горячий Араслан выбрал лик царя. Шапух хладнокровно пожал плечами, мол, пусть так. Монета взлетела в воздух и упала на кошму, тускло поблескивая в свете костра. Склонившись над ней, Араслан первым увидел, как с аверса[128] на него глядит Константин, и радостно вспыхнул. Честь первой погони хоть отчасти скрасила то, что бой его воины пропустят. Шапух вновь пожал плечами и ничего не сказал.
Однако на следующий день, по ходу боя, Араслан напрочь забыл все наставления и пустился в погоню за монголами, прорвавшимися со стороны Шапуха, отчего их вторая группа ушла беспрепятственно. В ней-то и был хан Менгу вместе с Гуюком и Каданом.
Спохватились поздно, а потому уже и не чаяли догнать. Афсурги хороши на малом отрезке. Тут им равных нет. Случись долгая скачка, и горячий нерасчетливый конь неминуемо начнет выдыхаться пораньше невысокой мохноногой монгольской кобылки.
Потому и принялись бить стрелами, а им, известное дело, все едино, чья там спина впереди. В кого лучник ее пустит, у того она тело и прошьет. Хорошо, что вовремя подоспел Коловрат, а то и раненых добили бы. В темноте разве разглядишь, какой чапан надет на поверженном, то ли шелковый, то ли обычный, то ли нарядные разводы на нем, то ли сплошные разноцветные заплаты. Да и не до разбирательств, когда душа горит счеты свести. Словом, вовремя вмешался Евпатий.
Зато Вячеславу Михайловичу досталась в целости и сохранности вся походная канцелярия чингизидов вместе с двумя младшими писарями-уйгурами, которые, не растерявшись, мигом пали ниц, когда на них налетели с гортанными злобными криками неведомые всадники. Эти хитрецы головы-то склонили, а вот крест[129], напротив, держали над собой. Тем и спаслись. Да еще их счастье, что в этом месте ломились ясы, которые почитали этот самый крест за святыню.
Были бы половцы, и все сложилось бы иначе. Их хоть и окрестили лет десять-пятнадцать назад, и в походных юртах служили священники, присланные патриархом Мефодием, а в самом Шарукане стояла высоченная каменная церковь, но для усмирения буйного нрава истинных сынов степей нужны не десятилетия — века.
Кстати, именно по той же причине оказался недобитым и Гуюк — крест спас. Ясский воин уже занес было над тяжелораненым монголом кинжал, хотел добить, чтобы не мучился, но разглядел на его груди крест и потому трогать не стал, подозвав боярина Коловрата.
Вечером отпраздновали победу, на следующий день захоронили павших, а наутро уже выдвинулись обратно к Волге. Марш предстоял долгий, а время поджимало. Вестей из-за Волги не поступало, но Вячеслав и без того догадывался, что Константину приходится несладко.
Да, у него остались самые лучшие, самые испытанные полки, собранные преимущественно из рязанских, черниговских и новгород-северских земель. Но количество ратников было слишком мало, чтобы сдержать ту могучую силу, которую вел Бату и остальные чингизиды. Помочь же Константину было некому.
И теперь Вячеславу, устремившемуся ускоренным маршем по замерзшей Оке, оставалось только надеяться, что его друг продержится, несмотря на то что имеет в своем распоряжении всего двадцать русских полков.
Особенно ему не нравилось соотношение конницы. Пять тысяч дружинников хороши, когда надо пересчитать зубы кое-кому из наглецов на западе. Для тамошних рыцарей такого количества вполне хватит. А вот бросать их в открытый бой против пяти или шести туменов Бату — самоубийство.
К сожалению, половецкий хан Бачман тут как раз ничем помочь не мог. Не принимавший участия в битве под Ряжском, он в это время, согласно полученной от царя грамоте, оставив при себе только тысячу, прямиком ушел в заволжские степи. Его задачей было вобрать в свой отряд саксин и прочих кочевников, чьи стойбища и пастбища располагались между Саратовом и Волгоградом.
В низовьях Волги тем временем собирал людей под свои бунчуки вождь племени кайы храбрый Эрторгул. Перекочевавшие под Каспийск еще шесть-семь лет назад, честные кочевники намеревались добросовестно выполнить договор об охране рубежей, заключенный с царем Константином.
Верный присяге, Эрторгул и не подозревал, что принятие этого предложения поставило крест на великом будущем кайы, которое теперь уже никогда не будет гордо именовать себя турками-османами в честь его сына — ныне пока еще совсем юного Османа. И Западная Европа уже никогда не содрогнется от неумолимой поступи неустрашимых янычар великой Порты, лупивших благородное рыцарство в хвост и в гриву.
Узнав о том, чего лишил этих людей Константин, Вячеслав только присвистнул, уважительно покосившись на друга и заявив, что, по крайней мере, три памятника он себе обеспечил, причем один надлежит воздвигнуть в самой середине Косова поля, другой — болгарам, где-нибудь на центральной площади их нынешней столицы Трново, а третий в Константинополе, которому уже не бывать Стамбулом.
Потом до него дошло, что об этом благодеянии ни те, ни другие, ни третьи так ничего никогда и не узнают, и Славка долго распространялся о несправедливости истории, в обилии цитируя по этому поводу свою мамочку Клавдию Гавриловну. Он усомнился лишь в том, не выйдет ли еще хуже, не разгуляется ли эта орда на берегах Каспия, где их поселили.
— Во-первых, вокруг них будут преимущественно иноверцы, учитывая, что крещение кочевников идет полным ходом. Во-вторых, они в кольце наших крепостей, — рассудительно заметил Константин.
— Тоже мне кольцо! — насмешливо фыркнул Вячеслав. От Астрахани до Каспийска триста верст, а на севере над ними и вообще пусто.
— Пока пусто, — заметил Константин. — К тому же у них нет ни мулл, ни имамов, то есть ислам для этого поколения нечто привычное, а вот для следующего он уже начнет забываться. Без постоянной подпитки хиреет любая вера, особенно учитывая то, что она еще не пустила глубокие корни. Наглядный пример — Кавказ. Вспомни, сколько горцев на восточном Кавказе добровольно пришли креститься к твоим священникам?
— А с какой радостью я принимал участие в этом деле, — мечтательно закатил глаза воевода. — Особенно когда начали крестить тех, кто жил в горах близ Терека. Слушай, я так наслаждался этой процедурой, что отец Петр как-то откровенно признался, что, когда мы пришли на Кавказ, он подозревал, да даже уверен был, что я нестоек в вере, но теперь воочию убедился, как жестоко ошибался.
— А ведь большинство из них еще лет за двести до нашего прихода, а может, еще раньше, турки пинками загнали в ислам, — заметил Константин. — Теперь видишь, к чему привело отсутствие контроля?
— Точно, — согласился Вячеслав. — Только некоторые по привычке до сих пор орут в церквях «Аллах акбар», но я думаю, что их дети молиться будут правильно.
— Вот-вот, а что касается кайы, то я думаю, что мы еще и ускорим этот процесс, — многозначительно заметил Константин и слово сдержал.
За пару-тройку лет до того как Бату заключил договор с Русью, Евпатий Коловрат, якобы провожавший очередное посольство в Великий улус монголов[130], остановился погостить у радушного Эртор-гула. Уже прощаясь и благодаря за гостеприимство, он тонко намекнул ему, что в награду за те усилия, которые прилагаются племенем по охране рубежей, он мог бы обратиться к царю с ходатайством, чтобы кто-то из государевой семьи окрестил его младшего сынишку Османа.
— По высоким заслугам и честь высокая, — спокойно произнес боярин, наблюдая за реакцией вождя.
Эрторгул сдержанно поблагодарил Евпатия, но конкретных обещаний не дал, да и вообще не выказал особой радости. Об этом разочарованный Коловрат, вернувшись, доложил государю, добавив от себя, что вождь молод, но за веру держится крепко.
Константин пожал плечами и заметил боярину, что если бы Эрторгул был действительно крепок в вере, то он бы пусть вежливо, но отказался от этой чести сразу. А коли нет — значит, будет размышлять, как ему поступить с наибольшей выгодой.
Эрторгул надумал через полгода, и Константин, прихватив с собой Святозара, поехал к кайы принимать участие в крещении. Четырнадцатилетний Осман, не по годам серьезный и рассудительный юноша, смущался и краснел как девочка, залезая в купель. Однако желание отца было для него свято, и он послушно повторял на ломаном русском языке вслед за бородатым каспийским епископом владыкой Феогностом загадочные слова молитвы «Отче наш».
После того как Святозар собственноручно надел на крестника Ивана, как теперь стали звать Османа, золотую цепочку с крестиком, усеянным драгоценными камнями, а Константин одарил сына вождя мощным составным луком и саблей настоящего булата, Эрторгул, любуясь клинком, отливавшим благородной льдистой синевой, окончательно уверился в том, что он принял правильное решение.
Ну а раз сын вождя принял крещение, то последовать за ним — святое дело. В тот же день в купель залезли ровно два десятка человек и еще тридцать с лишним — на следующие сутки. А еще через два дня в промерзшей зимней степи с трудом вырыли небольшой ров — основание будущей каменной церкви, и епископ с государем торжественно заложили по большому камню в ее фундамент.
Так что теперь по степи, собирая воинов, мотался мусульманин Эрторгул, среди сынов которого был и христианин Иван.
Но Бачману и Эрторгулу нужно было время, чтобы собрать воинов из стойбищ, раскиданных по степи, и в ближайшее время помощи оттуда ждать не приходилось.
Конечно, благодаря разработанной системе оповещения, сбор происходил значительно быстрее, но существовала еще и такая постоянная величина, как расстояние, и сократить его — увы — не дано никому. Кони кочевников неприхотливы, но, чтобы их не загнать, больше пятидесяти верст за один дневной переход делать нельзя, ибо чревато.
Вот и считай, за сколько времени удастся одолеть без малого пятьсот верст от Каспийска до Уральска, а потом еще полстолько от Уральска до Самары. Да плюс немалый «хвост» в полтораста с лишним верст до Саксина и Сувара — самых южных городов Булгарии.
* * *
Воевода же великий и князь Вячеслав Михайлович собрата братию со всей Руси из тех, кои ратному делу училися близ града Воронежа, и ушед с ими под Ряжск. Тамо же сотвориша он с пришедшими погаными брань, тако сказав воям своим: «Велика Русь, а отступати некуда, ибо позади Резань». И зачали сечу удалцы и резвецы Руси Святой и ворога победита. Вси нехристи равно умроша и едину чашу смертную пиша. Ни един оттель не возвратися вспять, вси вкупе мертвии лежаша.
Из Владимирско-Пименовской летописи 1256 года Издание Российской академии наук. СПб., 1760Глава 19 Ножницы Норн[131]
Враги смешались — от кургана Промчалось: «Силен русский Бог!» — И побежала рать тирана, И сокрушен гордыни рог! Помчался хан в глухие степи, За ним шумящим враном страх… К. Ф. Рылеев— А что, стрый-батюшка, мы так и будем торчать здесь всю битву? — разочарованно осведомился худенький юноша у подошедшего к нему воеводы Золото.
— Нешто не навоевался еще? — буркнул тот, внимательно разглядывая проделанную работу. — Лучше глянь, какой труд закончили. Оное нам великим подспорьем станет, ежели что. Да ты и сам поди помнишь, яко досталось, когда без ничего бились.
— Помню, — посерьезнело лицо юноши.
Поначалу, когда они, следуя по замерзшей Каме, напоролись на передовой дозор степняков, им, уже свернувшим в сторону правого берега, и впрямь пришлось тяжко без укрытий.
Хорошо, что бой у арбалетов гораздо сильнее, чем у монгольских луков. Только потому и отбились от поганых, почитай, без потерь. И еще хорошо, что воевода проявил мудрость и повелел никуда далее не идти, а рубить городок прямо здесь, в устье Вятки. Место было и впрямь хорошее. С одной стороны — Кама, с другой — ее приток, правда, с двух других пусто, зато басурманам незаметно не подкрасться.
Слан, который с десятком своих людей сопровождал караван чуть ли не от самой Чусовой, тогда еще возмущался. Мол, поганых отогнали, теперь идти надо, время не ждет, каждый час на вес золота. Но с Юрко спорить — все равно что против ветра… плевать.
— Я сам Золото, — пробасил он. — Тута бой принимать станем.
— С кем?! — возмутился Слан. — Ты где басурман узрел?! — И широким жестом обвел безлюдную Каму. — А те, коим мы зубы пересчитали, бегут, поди, со всех ног куда подальше!
— Куда подальше, это точно, — подтвердил Юрко. — Но подальше-то их хан. Ежели Бату их обратно не воротит да людишек им не придаст, то, стало быть, он вовсе без головы. А мыслить, что у ворога головы на плечах нет, — своей вскорости лишиться. Помяни мое слово — к завтрему анчихристы сызнова сюда вернутся.
— А ежели нет?
— Тогда я… шапку свою воеводскую съем, — пообещал он твердо.
Юрко с радостью ее слопал бы, но не пришлось. «Анчихристы» и впрямь появились. На этот раз их было гораздо больше, а настрой куда решительнее. Теплилась, правда, в душе воеводы надежда на то, что этим, как и тем, первым, надоест их штурмовать, тем более что добычи с них, даже в случае успеха, никакой. А если ее нет, то зачем тогда вообще рисковать жизнью?
И впрямь, что с ратника возьмешь? Разве что зипун, да и тот к тому времени будет весь в крови. А лошадь такая им тоже не больно-то годна. Тягловая она, не боевая. Куда с ней кочевнику. Опять же и корм ей иной потребен — голимое сено круглый год не пойдет. Ей бы овсом да ячменем похрумкать, а откуда в степи овес, тем более что у ихних-то степных напротив — с зерна лишь брюхо пучит.
Ну, еще оружие. Оно, конечно, не одну гривну стоит. Но так ли уж оно нужно, чтоб за него упираться, да на верную смерть лезть? Неужто попроще добычи не сыщется?
Ан нет. День-деньской лезли поганые на верную смерть, да еще как отчаянно. Потом, правда, немного поутихли, но все равно не вырваться — плотно обложили, всерьез. А уж когда к ним подкрепление прибыло, и вовсе озверели. Хорошо, что помимо пушек, которые лежали в санях мертвым грузом (тут Бату угадал — не было у них с собой огненного зелья), у русичей имелись еще и арбалеты.
Однако зачастую не удавалось остановить монголов и стальными стрелами. Тогда в ход шли гранаты. Юрко повелел беречь их до последнего, но это последнее, как назло, все время приходило — то с одного боку подопрет, то с другого.
К тому же басурмане ухитрились сыскать от стрел защиту, соорудив здоровенные деревянные щиты и беспрепятственно продвигаясь под их прикрытием чуть ли не до самого частокола. Метко били ряжские ратники, всаживая стрелы в малейшие щелочки, но по-настоящему выручали только гранаты. А потом пришел день, когда кончились и они. Оставалось надеяться только на крепость собственных рук, чтобы выдержали безостановочное махание топором или саблей — кому что сподручнее.
Сколько у него ранено и сколько полегло навеки — воевода не считал. Уж больно это страшно. Знал одно — не просто много, а непомерно много, и то, что его воины еще держатся, — просто чудо какое-то, которое не иначе как боги ниспослали. Какие именно? Да Перун-воитель поди, кому же еще. А может, вместе с Христом. Оно еще лучше. И тот бог светлый, и второго темным не назвать, так что чем больше их, тем лучше. А уж Юрко потом расстарается — всем жертвы принесет. Кому — свечу в церкви, кому — рыжего петуха на капище. Лишь бы ныне не оплошали, не устали подсоблять.
Потому он и боялся считать, что опасался сглазить это самое чудо. Да и чего там считать, коли совсем целых и вовсе не имеется. Хоть царапина, да у каждого, и хорошо, если одна. Юрко, хотя нет, давно уже Юрий Михалыч, признаться, и сам толком не знал, сумеют ли они и сегодня простоять. Но они удерживались этот день, а затем еще один, и еще, и еще, хотя и на последнем издыхании — край подступал.
И вдруг в одно прекрасное утро пришло то самое чудо. Вместо костров, у которых грелись степняки, одни головешки. Кругом же — пустота. Ни единого всадника на безбрежной ледовой глади — одни только трупы на берегу лежат. А еще тишина. Звонкая, сладкая, словно холодная мазь на воспаленную рану.
Поначалу воевода решил, что это очередная хитрость врага. Мол, валяйте снова на лед и по реке к царю-батюшке, а там мы вас и встретим. Чичас! Разбежались! Чай, тоже не лаптем щи хлебаем. Есть кой-какой умишко.
Но подаренным отдыхом воевода воспользовался сполна, выжав из него все возможное, и немедленно погнал всех мало-мальски целых ратников в ближайший лесок. А как же иначе, коли надо крепить наскоро состряпанный деревянный тын, и неизвестно, сколько времени для этого отпустили нехристи.
К полудню же подоспело и еще одно чудо. Прискакали-таки всадники, но свои. Оказывается, не забыл государь про своих людишек и не то что подмогу прислал, но и сам явился, да еще с двадцатью полками.
Но радовались русичи недолго. Почти сразу выяснилось, что следом за русской подмогой и хан своих воев привел. Получалось чуть ли не хуже, чем раньше. Западня получалась. Идти вверх по берегу Вятки или Камы? Там леса дремучие. Степняк в них не сунется, но и самим пробираться муторно. По руслу рек продвигаться тоже нельзя — для конного они самое раздолье.
К тому же, пока они тут, степняку дорожка на Русь вроде бы как и отворена, а если подумать — то нет. Это как с висячим замком, который надо не только открыть, но еще и из дверной дужки вынуть, иначе он все равно пройти не даст. Стало быть, где мы стоим, тут и Русь, тут и биться надо, а уж там как кому на роду написано.
Почему ворог медлит — никто не знал. Скорее всего, отдых себе устроили перед битвой. Русичам же отдыхать было некогда. И в затишье, ежели умеючи, тоже можно будущей сече подсобить. Коли в степи — ров вырыть да вал насыпать. А коли близ леса, уж тут сам господь велел топорами помахать.
И помахали. Да так, что кое у кого, из тех, кто к такому делу не свычен, поутру еле-еле спина разгибалась. А тем, у кого топоров не было, тоже дело нашлось. Сучья у лесины обрубать саблей несподручно, зато кору шкурить — самое то. Опять же таскать их кому-то нужно, укладывать, да до поры до времени снежком присыпать. Словом, и днем трудились, и ночью — посменно.
Поначалу воеводе казалось невозможным выполнить все то, что затеял государь. Это сколь же труда надо положить, чтоб и спину, и бок, который к лесу, загородить наглухо?! Да разве успеем?! Теперь же, глядя на сплошную засеку, тянущуюся от их маленького тына до самого леса, да еще и вдоль него, Золото убедился — успели. Еще и передохнуть получилось.
А то, что царь людей воеводы в тыл поставил, на то Золото не обиделся. Раз он так решил, значит, ему виднее. Опять же и воевать-то ныне, почитай, что и не с кем. Во всем некогда грозном Ряжском полку, считай, сотни три и осталось, из коих у половины перевязи кровавые — невелика сила. Да и слова для своего воеводы государь знатные сыскал:
— Пока ты здесь, Золото, я за свою спину спокоен и оглядываться не стану. А спокойствие в сече — уже половинка от победы.
Разве ж можно после таких слов о недоверии речь вести! Да и неведомо было, с какой стороны жарче придется. Почти двадцать лет прошло, но помнил Юрий Михалыч битву на Красных холмах — чуть-чуть тогда не одолели поганые, ударив со спины.
Опять же и с людьми царь тоже подсобил, не обидел. Можно сказать, даже лишку дал. Конечно, в бою много ратников не бывает, но с учетом того, сколь их всего у государя осталось, считай, и впрямь дар царский. Целых два полка выделил. С ними сам бог велел с басурманами управиться. К тому же над головами воев воздушный шар будет, чтоб степняк незамеченным не подкрался.
Одно плохо. Не доводилось еще Юрко князьями повелевать. С Черниговским полком как нельзя лучше выходило. Там вместо одряхлевшего Груши воеводскую булаву Спех принял, а он, помимо того, что ровесник Юрию Михалычу, так еще и сам из простых смердов и повеление государя принял как должное, не чинясь.
Зато в Пронском полку молодой Ляксандра Изяславич головой ходил, а он не просто князь, но самому государю братанич. И не в том дело, захочет ли он выслушивать повеления воеводы, а в том, как бы соблюсти мальчишку, чтоб не пришлось потом краской перед царем заливаться — не уберегли, дескать.
Конечно, главное не здесь предстоит. Оно впереди и даже не там, где гордо реет над княжеским шатром сокол Рюриковичей, а еще дальше, где пока пустынно. Нет никого на поле, но уже гордо выдвигаются вперед несметные полчища поганых, ожидая атаку которых неподвижно застыло пятнадцатитысячное пешее войско.
Маловато, что и говорить, но иначе никак. И без того царь всего три полка в запасе оставил — по одному на крыльях и в середке. Ему бы побольше приберечь, кто спорит, но откуда взять?! Да еще у него в резерве имелось две тысячи конных, которых по сотне выдернули изо всех двадцати полков, то есть изначально в каждом — неполный состав.
А ведь тех, кто сейчас примет первый удар, и без того меньше, чем монголов. Слыханное ли дело — одному пешему супротив двух конных устоять?! Тут уж только выучка подсобить сможет, да еще арбалеты с пушками. Последние — вот и пригодилось сбереженное воеводой добро — выставили равномерно по всей ширине поля. Не зря за них так стойко бился Золото, ох не зря. Сколь ворога побьют пушкари, пока неведомо, но уже сейчас ясно, что подмога от них будет изрядная.
День выдался морозный, а у воеводы пот холодным ручейком от лопаток вниз по спине ринулся от волнения. Но что-то барабанов не слыхать. Неужто время для них не приспело? Странно, ведь уже давно угомонился сучить своими кривыми ногами дюжий басурманин-поединщик, вздетый на копье неувядаемым Кокорой, а…
Юрий Михалыч нахмурился. Нет, не почудилось ему. И впрямь песня. Вместо барабанов, что ли? Прислушался. И впрямь поют, да теперь уже не один-два, а тысячи. И как грозно выходит. Ага, вот и барабаны в дело вступили — каждую строку басовито отбивают.
Золото скинул шапку, потом вновь надел, горделиво выпятил грудь и застыл. А песня уже не только там, впереди, она и тут, совсем рядом, — это ее ратники полков подхватили, которых государь ряж-цам придал.
А над полем, вселяя еще пущую уверенность в сердца и ярость к врагу, уносясь к небесам и тут же возвращаясь многоголосным эхом-рефреном, неслось: «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! С монгольской силой темною! С проклятою ордой! Пусть ярость благородная вскипает как волна…»
Разных гусляров слыхал в своей жизни воевода. Разные песни они слагали, в том числе и о битвах. От иных таким величием Руси веяло, что грудь колесом, ибо и сам причастен. От других яростью к ворогу разило, да такой, что хоть саблю вынимай, да тут же в бой и иди. Третьи героев воспевали, четвертые…
Но такой призывной, чтобы в ней все вместе слепилось — и гордость, и гнев, и уверенность в победе, и ярость к врагу, да чтоб мощью разило неописуемой, чтоб силищи вдесятеро против прежнего, — слыхать не доводилось.
Знать бы, в чьей голове такие слова родились, так Золото не просто шапку бы перед ним скинул. Он бы еще и в ноги ему поклонился.
Низко-низко!
До самой земли!
Это ж как же душевно человек удумал, чтоб нужные слова сыскать и друг с дружкой их соединить!
Ох и голова!
Песня не смолкала, даже когда началась битва. Ее продолжали петь резервные тысячи, ее пели чер-ниговцы и новгород-северцы, и с каждым куплетом все увереннее и увереннее подхватывали ряжские ратники, вливаясь в общий гигантский хор.
И вот ведь странное дело получалось. Разве сравнишь рявканье пушек, пусть и полевых, малых, с голосом? Как ни горласт человек, но все едино слабоват он тягаться с железными махинами. А вот поди ж ты, не сумели бездумные чушки людей перемочь. Куда им против русской глотки, а что уж там говорить о гортанном уре[132] степняков. Тьфу на него, да и только.
«Да-а, не зря мы со Славой трудились над переделкой, — подумал Константин. — Да и я молодец, что уболтал патриарха подключить к этому делу всех священников, что при полках. Задать песне нужный ритм навряд ли сами ратники справились бы. Хотя что будет так здорово — все равно не ожидал, — и вздохнул, глядя вперед, на развертывавшуюся для атаки монгольскую лаву. — Жаль, что поле широковато. Малость поуже, и совсем бы хорошо было».
А события разворачивались так стремительно, что только успевай глядеть. Уже давно отзвенел дружный щелчок арбалетчиков, запустивших в воздух первых железных пчел, которые на сей раз не искрились на солнце своими остро заточенными жалами. Каждое из них вымочили в такой дряни, что и царапины хватит, а дальше только время нужно, и эта мерзость сама все доделает.
Отзвенел и второй щелчок, и третий. Летели в снег враги, бились с жалобным ржанием их кони, а стрелы арбалетчиков продолжали хладнокровно и точно выкашивать лаву, летящую на них. Пять залпов они сделали за то время, пока приближался враг. Да к ним прибавить еще два пушечных. Что вместе получается? Нет, не семь — чудесно получается.
Как знать, удалось бы вообще монголам доскакать до русской пехоты, если бы впереди шли воины какого-то другого тумена. Глядишь, и повернули бы. Но это были тысячи покойного темника Бурунчи. Эти люди знали, что говорит Яса — вина всегда искупается кровью. Знали они и другое — второй осечки Бату им не простит. Он уже предупредил, какой приказ получили те, кто пойдет следом за ними.
Поэтому выбирать им не приходилось — и тут и там ждала смерть, но если повернуть назад, то она становилась неминуемой, а коли удастся доскакать до урусов, одолеть их, смять и задавить, тогда смерть отодвинется. На сколько — неведомо, то ведают лишь Вечное Небо и грозный Тенгри, но отодвинется точно. А храбреца ждет честь, слава и добыча.
Какая? О-о-о, хан Бату еще в первый день погони за кааном по секрету шепнул нескольким ветеранам, что урус потому так и заметался, что не знает, где лучше спрятать казну, которую он везет с собой.
А чуть позже, неожиданно для самого хана, его слова и впрямь подтвердились. Это произошло в ту ночь, когда удальцам удалось отбить из-под самого носа урусов несколько саней. В одних лежал камнемет, на других были навалены меховые шубы, а вот в третьих — несколько мешков с серебряными монетами. Более того, те, кто хоть немного владел языком урусов, потом клятвенно уверяли своих товарищей, что собственными ушами слышали, как те кричали друг другу: «Злато! Злато стереги!»
Значит, джихангир был прав и казна действительно находилась среди прочих тюков с добром. Словом, нехитрый трюк Константина, давным-давно примененный им против половцев[133], опять удался. Ему, конечно, жаль было отдавать камнемет, однако, учитывая, что горючей смеси, привезенной Минькой, с собой имелось не так уж много, одним из десяти вполне можно пожертвовать.
Круглые глиняные горшки полетели в монголов в то время, когда они ценой огромных потерь достигли русского строя. Правда, достигли не для того, чтобы получить вожделенную добычу, а чтобы бесславно сдохнуть нанизанными на широкие острия копий, под ударами русских мечей и сабель, истекая кровью от рубленых ран огромных боевых топоров.
Второй и третьей волне атакующих пришлось полегче, но ненамного. Вслед за сосудами, которые либо раскалывались сами, либо их разбивали копыта степных коней, полетели и огненные стрелы. Некоторые падали впустую, впившись в снежную кашу, и гасли, но имелись и другие, попадавшие удачно. И это была не нефть, которую погасить можно, хотя и тяжко, но можно. Это был «греческий огонь», а говоря проще — самый настоящий средневековый напалм, которому хватало не огонька — малейшей искорки — и то тут, то там вновь слышалось жалобное конское ржание вперемешку с воплями врага.
Пушкари времени тоже не теряли. Половина по-груженых на сани пушек уже катила к лесу и к городку, где пока бездействовал Ряжский полк. Их применить теперь можно было лишь там, поскольку из-за необычно сплюснутого на самом конце дульного канала ствола предназначались они только под картечь[134].
Причина такого новшества понятна. Картечь глупа, и часть ее, даже при стрельбе прямой наводкой, вылетая из круглого пушечного ствола, летит вверх, поражая на излете и с гораздо меньшей силой. Другая часть и вовсе уходит вниз, в землю. Сплюснутые же стволы позволяли направить основной разброс картечи в стороны.
Возле орудий, остававшихся на прежнем месте, суетился сам неугомонный Михал Юрьич. Отстояв свое право стрелять возле Плещеева озера, он не собирался никому уступать его и теперь. Вести огонь по навесной траектории, чтобы ядра не задевали своих, и в то же время не слишком далеко, по возможности врываясь в самую гущу врагов, и впрямь сложно. Поэтому наиболее ответственную должность наводчика стрельбы он взял на себя, не доверяя ее никому другому.
Помогал ему корректировщик. Он восседал на специально высоком помосте, специально сооруженном для этого, и сквозь трубку с волшебными стеклами — подзорную трубу внимательно наблюдал за разрывами ядер, которые то и дело рвались в толпе атакующих монголов.
Помост с трех сторон был защищен деревянными щитами и даже имел крышу. Даже если бы врагу удалось всадить огненную стрелу в щит, то пламя все равно погасло бы. Стволы сосен, не раз окаченные водой, были сплошь покрыты ледяной коркой.
Для такой предосторожности имелись веские причины. Корректировщик был из самых лучших. Иного посади — сможет ли он на глазок определить расстояние, а также сколько чего убавить или прибавить в случае промаха? Тут ведь помимо опыта требуется еще и врожденный глазомер, так что учись не учись, но все равно так, как у Поземки, названого брата Слана, навряд ли получится.
Выросший за пятнадцать лет и превратившийся из худенького мальчишки в статного парня, Поземка почти мгновенно определял нужные поправки и передавал их горластому Гневашу: «Третья вправо два, вверх один, четвертая вверх половинку, пятая — точно…» В соответствии с его указаниями Минька руководил изменениями в наведении на цель.
Конечно, никакой сложной аппаратуры у пушкарей не было, но угломер и дальномер у них имелись. Пускай допотопные, как со вздохом говорил о них сам Михал Юрьич, но для этого времени весьма и весьма.
Дальномер изготавливался из деревянной планки, приставленной почти к самому стволу. На планке были отмечены риски, и каждая означала определенное расстояние. Поднял ствол до другой — и ядро улетит дальше, опустил — ближе.
То же самое и с угломером — такая же деревянная доска перед стволом с точно такой же разметкой. Сдвинулся ствол на одну черточку влево — значит, ядро приземлится левее саженей на десять.
Обе планки скреплялись друг с дружкой, а сама доска была намертво прижата к земле. После каждого выстрела пушка откатывалась назад, а потом вновь устанавливалась на прежнее место, но уже с учетом поправок корректировщика, а для этого требовалось держать в памяти прежние данные и не спутать пятую пушку с шестой или седьмой. Тоже задача не из легких. Но Минька справлялся, и ядра летели одно за другим, да как славно ложились-то… Ну просто душа пела.
Христос, конечно, славный малый и добряк, каких единицы, но со своей заповедью «Не убий» он явно поспешил, причем не на века, а на тысячелетия. Но если она преждевременна даже сейчас, как бы там ни голосили сторонники отмены смертной казни, то что уж там говорить о времени, отдаленном от нас на восемь веков.
Впрочем, если разбираться, то ратники Константина ее и не нарушали, ибо разве можно назвать человеком завоевателя, пришедшего к ним? Отнюдь. И не важно, как выглядит тот, кто пришел со злом. Какая разница — белокурый голубоглазый ариец, закованный в железо с головы до пят, или степняк-кочевник в овчинном тулупе? Суть их едина, и оба они — нелюди, которых без особой ненависти надо попросту уничтожить как крыс или давить как тараканов.
Конечно, работенка эта кровавая и грязная, но и ее кто-то должен выполнять, потому что надо. А в утешение себе можно вспомнить, что бывают на свете профессии куда как грязнее. Например, золотари или, скажем, политики.
Словом, можно утверждать, что русичи не убивали. Они уничтожали двуногих крыс, давили тараканов, умеющих разговаривать, и делали это весьма успешно. После первого часа боя стало ясно, что от полуторного превосходства монголов в силе не осталось и следа.
— Стоят! — радостно выдохнул Константин.
— Стоят, — зло прошептал Бату, кусая губы.
А мясорубка продолжалась, и хан, убедившись воочию, что с наскока одолеть не выйдет, повелел идти вперед главным силам — тяжеловооруженным ударным тысячам.
У них все иное, чем у рядового воина так называемой легкой кавалерии.
Иная защита — на каждом железный шлем и такой же доспех, а в руках крепкий щит.
Иное вооружение — гораздо тяжелее копье, увесистее сабля, напоминающая меч, только искривленный, а с правого боку еще и топор.
У них и кони иные, куда более выносливые, крепкогрудые, а спереди еще и защищенные толстой бычьей шкурой.
Даже враг у них особый, серьезный. Легкая кавалерия атакует любого, а они только стойкого, который уже выдержал ливень стрел, устоял под отчаянным, но легковесным наскоком и не согнулся, не побежал прочь. Раз не согнулся, значит, надо сломать.
А чтобы сломать, нужна иная тактика. Не подавить, не смять, но — прорвать. Достаточно это сделать в одном месте, реже — в двух, но всегда сбоку, на флангах. Поэтому сперва в ход идут копья, а затем, когда вражеский строй взломан, — кривые мечи и топоры.
Удержать таких можно лишь пока стоит нерушимая, как речная плотина, стена строя. Если она даст малюсенькую слабину — пиши пропало. Неукротимый напор воды, прорвавшись в одном месте, живо снесет всю плотину. Это вопрос времени, и только.
Они — мощь каждого тумена. Они — последние, потому что кешиктены в бой вообще не вступают, не считая тех случаев, когда хану-чингизиду угрожает опасность. А вот на опасность, угрожающую войску, турхаудам и кебтеулам наплевать — не их дело. Было когда-то ихнее, но уже закончилось.
Теперь это работа кандидатов в кешиктены, которых даже называют похоже — турхах-кешиктены. Вот они — идут ровной рысью на строй урусов, не переводя коней в быстрый галоп и держась плотно, стремя в стремя, потому что не понаслышке знают, что такое строй.
Прочие монголы боязливо шарахнулись в стороны, уступая дорогу, иначе — сметут, затопчут без малейшего сожаления. И этот момент сполна использовали русские арбалетчики. Как это ни парадоксально звучит, но на сей раз ровный строй монголов, для выдерживания которого необходимо соблюдать мерную неторопливую поступь коней, оказался их недостатком.
Арбалетчики сумели сделать даже на два залпа больше, причем вовремя сообразивший воевода Пе-лей вместе с сыновьями Афоньки-лучника — Владимиром и Вячеславом — отдали распоряжение бить только по коням.
Миньке время тоже позволило не только шарахнуть из того десятка пушек, стволы которых и так смотрели в сторону их фланга, но и перенацелил еще один десяток орудий, в результате чего второй — усиленный — залп настиг монгольских воинов всего в ста метрах от русского строя, ощетинившегося копьями.
Тяжеловооруженные воины непривычны к большим потерям до подхода к вражескому войску. Щит у них крепок, доспехи прочны, даже конь защищен. Разумеется, кто-то все равно погибает. Но обычные потери составляют одного, двух, трех, пускай десяток из тысячи. Два-три десятка — совсем много. Че-тыре-пять — чересчур. А когда жертв гораздо больше? Когда не получается идти стремя в стремя, потому что то и дело возникают дыры, заполнить которые уже не выходит?
Они не отступили — честь степного воина не позволила это сделать. В те времена, когда впереди для воина маячило лишь два пути, из которых один вел к потере жизни, а другой — к потере чести, настоящий воин даже не колебался, потому что выбор перед ним не стоял — только честь.
Эти были именно из таких — из настоящих, отборных. Выше их лишь кешиктены, да и то лишь по своему статусу. Честь же одинакова для всех. И они дошли.
Правда, это была уже не та мощь, а удар не столь неотразим, хотя все равно тяжел и грузен. Прорыва не получилось, но пехотный строй все равно дрогнул и стал подаваться назад.
Нет, русичи не отступали. У них была своя честь, тем более что они знали — на кону стоит не только их жизнь, но и жизнь всей Руси. Быть ей или не быть прежней — цветущей и великой, оставаться свободной или надевать ярмо рабства, ходить с высоко поднятой головой или с низко согнутой спиной. Они тоже не имели выбора и не помышляли об отходе. Просто теперь ратники не успевали заполнять дыры в стремительно редеющем строю так, чтобы удержать его на одном месте.
— Пошли, — облегченно выдохнул Бату.
— Пошли, — эхом откликнулся Субудай, остро пожалевший, что тогда, на Красных холмах, у него не имелось ни одной такой тысячи.
— Пошли, — прикусил губу Константин и повторил, но уже как приказ: — Пошли!
Он до последнего надеялся на то, что две тысячи резервной конницы не придется посылать во встречный бой, да еще такой, из которого маловато шансов вернуться обратно. Если они вообще имелись, потому что эти конные сотни, выдернутые из каждого пешего полка, все равно не дотягивали по своему мастерству до дружинников. Строй — одно, но с конем надо срастись с детства, как степняки. Поэтому Константин заранее представлял себе, во что обойдется этот лихой наскок.
Так и получилось. Удар в бок монгольским всадникам был отчаянным, но не очень умелым. Правда, цели своей он все равно достиг, оказавшись той последней соломинкой, уравновесившей незримые чаши весов.
— Встали! — завопил Бату, потеряв остатки своей невозмутимости. — Я держал их у своего сердца, а они встали! Почему вы стоите, грязные шакалы, недостойные моих милостей! — заорал он во всю глотку, словно воины и впрямь могли его услышать.
— Встали, — тихонечко прошептал Константин, словно боясь спугнуть это неустойчивое равновесие. — Ну же, миленькие. Ну же, родненькие. Совсем немножко осталось. Продержитесь, ребятки.
Наверное, тихий шепот прозвучал громче неистового рева, потому что оказалась выполненной просьба Константина, а не повеление Бату. Русичи держались.
Тоненькая струйка крови брызнула из прокушенной губы хана, глаза которого неотрывно следили за происходящим. Он смотрел на поле битвы и не мог поверить в происходящее. Этого не могло быть, но это было.
И тогда он молча взмахнул рукой, отдавая приказ.
Легкая тень улыбки скользнула по губам Константина при виде двух стрел, исторгающих в полете густой черный дым — условный сигнал, дающий команду трем тысячам всадников, скопившимся у противоположного берега реки.
— Резерв, — произнес он тихо.
Кричать не имело смысла. Трубок с волшебными стеклами в войске насчитывалось достаточно. Во всяком случае, у Ивора, воеводы резервного левофлангового полка, половину которого составляли арбалетчики, она имелась.
К тому же о скоплении всадников в лесочке на противоположном берегу Камы уже доложил наблюдатель, сидящий в корзине воздушного шара, закутанный сразу в два тулупа и внимательно разглядывавший в подзорную трубу все окрестности поля битвы. Причем доложил он не только о них, но и об остальных вражеских засадах.
Атака трех тысяч была самоубийственной. Для всадника преодолеть несколько сотен метров по замерзшей реке — раз плюнуть, но это по времени. А если тебя, едва твой конь только-только ступил на лед, встречает залп из арбалетов? А когда ты, чудом уцелевший, не успел даже дойти до середины реки, и тут следует второй?
Атакующие в лоб знали, что следом за ними пойдут те, которым велено сразу же беспощадно убивать скачущих впереди, если они только начнут разворачивать своих коней.
Тех, кто шел со стороны реки, об этом не предупреждали, поскольку иных там, кроме «штрафников» из бывшего тумена Бурунчи, не было, а потому сразу же после второго залпа кое-кто стал еще не поворачивать, но придерживать своего скакуна, норовя укрыться за спинами других.
Массовый поворот всадники совершили чуть позже — после третьего залпа, сделанного почти в упор. Цель к тому времени была уже близка, но неминуемая смерть еще ближе. Гораздо ближе. Последние смельчаки, которые не бежали и даже успели выйти на берег, все равно не сумели скрестить свои сабли с трусливыми урусами, предпочитающими убивать наверняка, — их встретил четвертый залп.
Но в это время уже упали и зашипели в снегу, как ядовитые змеи, три пущенные стрелы — сигнал для оставшихся засад, которые по плану должны были начать одновременную атаку.
Константин прищурился, кусая губу и о чем-то напряженно размышляя, после чего послал гонца к Ивору.
— Передай, что я доволен его людьми, а теперь ему нужно бросить семь сотен к Юрию Михайловичу. Из арбалетчиков пусть оставит при себе сотню, не больше.
Он вновь угадал. Атака на фланге со стороны леса захлебнулась буквально через полчаса. Мало того что, находясь между деревьями, невозможно придать коню должного ускорения, так сразу после опушки, где степнякам удалось взять относительный разгон, их поджидал весьма неприятный сюрприз.
Из экономии времени, которое поджимало, засеку ратники сделали не ахти, но зато по повелению царя соорудили иное. Стволы срубленных деревьев уложили в снег горизонтально, предварительно обрубив верхние и нижние ветви, чтоб не торчали. Уложили и… присыпали снежком. Ни к чему нехристям раньше времени знать о том, что их поджидает. Слово «сюрприз» веселые французы еще не занесли на Русь, но какая разница, как назвать этот неожиданный подарок. По-русски это будет звучать разве что немножечко длиннее, но эффект-то один и тот же.
На точно такую же «лежачую» засеку напоролись и передовые всадники из тумена Шейбани. В ней имелось только одно дополнение. Чтобы конские копыта лучше скользили на стволах, их ошкурили и вдобавок полили вятской водичкой, благо идти до реки здесь было гораздо ближе, всего-то несколько сотен метров.
Воеводе Золото и в самом деле пришлось гораздо жарче. Тумен Шейбани был уже далеко не полон, некоторые его воины погибли еще под Биляром, но гораздо большее их число полегло в схватках с пеш-цами Ряжского полка. К тому же Шейбани благоразумно оставил тысячу воинов при себе, справедливо полагая, что если остальные не справятся, то и еще одна ничего не решит. Однако все равно силища у монголов была преизрядная.
Если бы не все те же обрубки красавиц сосен, то как знать — остановил бы их залп арбалетчиков. Одно было плохо — запас мал. В тюках, которые вез Юрко, имелось не больше пятидесяти тысяч стрел. И это еще очень много, благодаря лишь тому, что все они были чуть ли не вдвое легче обычных.
Потому «худышки» — а мастера экономили на толщине, но не на длине — и поместились всего на пятидесяти возах, причем опять-таки благодаря русской матушке-зиме. Летом по любой дороге эту поклажу пришлось бы распределять на сотню телег, а то и больше.
Да и не было уже этих пятидесяти тысяч — Ряжский полк сам поистратил чуть ли не три четверти запаса, пока отбивался от поганых. Потом часть стрел воинам удалось собрать, но далеко не все.
До поры до времени их хорошо выручали пушки, те самые, со сплющенными стволами. Два десятка этих орудий из имеющихся трех передал Константин в распоряжение Юрия Михайловича. Выставленные на самых опасных направлениях — там, где берег поровнее и всадник мог легко на него подняться, — они тоже сделали свое дело, загасив первую, самую опасную попытку прорыва.
Но огненное зелье и картечь имеют обыкновение заканчиваться. Во время атаки второй волны монголов воеводе пришлось пускать в бой гранатометчиков. Была их всего сотня, но у каждого — по пятку гранат. В дороге это ноша не из легких, зато как же потом они нужны в бою, особенно в таком жестоком.
Шейбани даже сами монголы боялись гораздо больше, чем его брата. Причина проста — Бату очень заботился о своем прозвище Саин-хан, а потому по возможности и впрямь старался соблюдать справедливость. Правда, соблюдал он ее в своем понимании, но пусть хоть так. С паршивой овцы…
Шейбани было наплевать на то, как его называют простые кочевники, а потому о его жестокости и мстительной злобности ходили легенды, которые бедняки пересказывали в юртах по ночам, приберегая их напоследок, как самые страшные сказки.
Именно поэтому его воины слепо шли вперед, несмотря ни на какие жертвы. Гибнуть они начали еще на реке. У берега, где держали оборону урусы, потери стали значительными. Когда монголы доскакали до подлой «лежачей» засеки, невидимой до поры до времени, жертвы стали большими, среди преодолевших ее — огромными, и все-таки они добрались до урусов, трусливо прячущихся за бревнами, чтобы сойтись в честной рукопашной.
Русичам пришлось очень туго. К тому же чем больше клубков из сплетенных тел каталось по снегу, тем меньше людей могли встретить тех, кто летел в атаку следом. Семь сотен с правого фланга прибыли как нельзя кстати. Триста человек сразу принялась помогать тем, кто сдерживал неукротимый натиск атакующих монголов, а четыреста метнулись занимать места выбывших, чтобы дать еще один залп по степнякам, лезущим через бревна. Остановить их русичам удалось, но отбросить никак не удавалось. Получалось, как и спереди, — равновесие. Надолго ли?
И кто знает, куда дальше качнутся весы? Тенгри и Перун молчали, а Христос, видать, и вовсе отвернулся. Ну да, ну да, на такое массовое убийство ему и смотреть-то грех.
Но уже бежала на выручку последняя резервная тысяча центра — Коломенский полк. Риск был велик, но деваться некуда. Война вообще риск, от начала и до конца, притом немалый. К тому же хотя царь не имел теперь резерва, зато имел засадный полк, да какой! Вся его дружина входила в него. Крадучись и не высовывая носа из леса, следовали они по пятам за туменами Бату. Теперь пришло их время.
И четверо порядком замерзших ратников, стоящих у ворота, получив долгожданную команду Константина, уже крутили его тугие рукояти. Ухватившись за них попарно с двух сторон, они выжимали из себя все возможное, чтобы ускорить вращение барабана и спуск воздушного шара, который как раз и держался на веревке ворота.
Никаких стрел, никаких ракет в воздух, чтобы неприятель не догадался раньше времени. Спуск шара сам по себе был условным сигналом для конницы, затаившейся в густом хвойном лесу. И та, не просто повинуясь ему, но — радуясь, стала незамедлительно выбираться на опушку.
Первые всадники, появившиеся на ней, в ожидании остальных времени даром не теряли. Выехав на небольшой холм, они принялись рассматривать через подзорную трубу растянувшиеся далеко впереди монгольские обозы.
— А нас уже ждут, брат Эйрик, — хладнокровно заметил один из них, увидев близ обозов пушки, хищно устремившие жерла в их сторону.
Эйрик взял у брата трубку и после недолгого изучения обстановки указал чуть влево:
— Лучше идти там, брат Харальд. Тогда нас останется в живых не меньше половины.
— А в какой из половин окажемся мы? — поинтересовался Харальд.
— Как великий ясновидящий я могу и без рун угадать это, но только с двух раз, — улыбнулся Эйрик. — Но я не думаю, что наш отец, славный ярл Эйнар, занимался гаданием двадцать лет назад, под Ростиславлем, когда пришло время позвенеть секирами.
— А славный Викинг, сын Барнима, добавил бы, что норны уже приготовили свои ножницы, и коли они решат обрезать твою нить, то для этого хватит даже одного седобородого старика, опирающегося на палку, — подхватил мысль брата Харальд.
— Только увесистую, вроде оглобли, — уточнил Эйрик, и братья засмеялись.
Затем один из них обернулся и удовлетворенно кивнул, заметив, что вся дружина уже выстроилась в боевом порядке.
— Пора, Харальд, — сказал он, посерьезнев, легонько пришпорил своего коня и неспешно двинулся вперед.
Брат держался рядом, стремя в стремя. Вскоре их нагнали и остальные викинги. Эта атака как две капли воды напоминала монгольскую, вот только перед ними не было вражеского строя — одни только пушки.
— Будем надеяться, что эти узкоглазые пожиратели конины так и не успели научиться хорошо наводить их на цель, — выкрикнул на скаку Харальд, мчась прямиком на одну из них.
Каково же было его удивление пополам с облегчением, когда выставленные против них пушки так ни разу и не выстрелили, а сами монголы, заметив приближающегося врага, вместо того чтобы поднести горящие факелы к фитилям, бросились врассыпную.
— Сдается мне, что норнам сегодня лень щелкать ножницами! — крикнул он брату.
— Твой язык торопится со словами, Харальд. Есть еще валькирии[135], — в ответ на это заметил Эйрик. — А сын Барнима сказал бы, что мысли Одина[136] не дано угадать никому из живущих.
…Когда Субудай молча тронул за руку своего хана, тот, увлеченный битвой, поначалу даже не обратил на это внимания. Отреагировал он лишь на второе, более настойчивое прикосновение и раздраженно повернулся к одноглазому полководцу, а затем — нехотя — в ту сторону, куда тот указывал своим крючковатым пальцем. Повернулся, да так и остался смотреть, не в силах отвернуться от ужасающего зрелища — приближения собственной смерти.
Говорят, иногда человеку удается обмануть костлявую с косой. Такое бывает редко, очень редко, но случается. У Бату это получилось, наверное, из-за того, что старухе в саване было все равно, кого косить, лишь бы побольше. А может, свое слово произнес Один, пожалев Субудая, который так сильно похож на него[137], а заодно с ним и монгольского хана.
Но скорее всего, это произошло потому, что стрела, метко пущенная одним из кешиктенов, прикрывавших бегство хана, поразила Харальда, мчащегося во главе погони. Воины, которые были с ним, замешкались и дали хану и Субудаю столь необходимое время для ухода.
Наверное, сильно полюбился сын Эйнара валькирии Хильде, чье имя «Битва», или ее сестре — златокудрой Мист, или… хотя какая разница — какой именно. Да и где он там окажется — в раю или в Вальхалле — тоже не имело значения. Лишь бы ему там было хорошо.
Но как бы ни торопились девы-валькирии унести героя в чертог мертвых, они позволили ему досмотреть финал битвы, в которой копья, топоры и мечи землепашцев оказались гораздо крепче кривых сабель кочевников. До начала разгрома монгольских туменов оставалось немногим более минуты, и брат Харальда Эйрик, скачущий чуть впереди своих воинов, уже поднял свой булатный клинок, собираясь обрушить его на голову надменного степняка.
* * *
Царь же Руси Константин, собравши братию, пошед к хану Бату, дабы брань сотворити и не пустиши онаго в земли свои, а выидоша противу них в Медвежьем урочище близ устья реци Вятки. И бысть у царя полков мало супротив воев Бату и братии ево. Но сказаша царь Константин ратникам тако: «Не в силе бог, но в правде, и ежели господь за Русь, то кто супротив ее?»
И подивилися крепко вороги, яко хоробро и мужественно билися вои русськи, и бежали прочь, а ханы их рекли тако: «Во мнози страны ходиша мы, но нигде не угощаша нас, яко здесь, и не подносиша нам медов столь хмельных, от коих падоша вои наши смертию. Уйдем же от их, пока живы, и иных уведем, ибо несть нам тут поживы и добудем тут не добычу, но погибель свою.
Из Владимирско-Пименовской летописи 1256 года Издание Российской академии наук. СПб., 1760* * *
28 января — Ефремов день. В церкви поминают преподобного Ефрема Сирина, а в народе, из-за поверья, что в эту ночь глумится на дворах домовой, ставят для него на загнетке кашу.
Спустя пять дней — 2 февраля — в церкви отмечают двунадесятый праздник Сретения Господня. На Руси он больше известен под названием громниц[138], а знающие люди в народе в этот день определяли — какова будет погода летом, и даже виды на урожай.
28 января 1241 года домовые на Руси, вопреки обыкновению, притихли. Куда уж тут глумиться, когда на пороге встал сам хан Гуюк со своими братьями, дойдя до Ряжска и раскинув свой стан прямо у самого Радькова леса.
А 2 февраля того же года время гадать пришло иным людям. Вначале этим занялся царь Константин, размышляя, как одолеть хана Бату и опять-таки его братьев, а затем, ближе к вечеру, уже степняки гадали, удастся ли им уйти от русских сабель и мечей.
Громницы же горели во всех церквях еще задолго до этих дней. При первом известии о монгольском нашествии православный народ, можно сказать, не покидал храмы, в которых денно и нощно велось богослужение. Сотни тысяч людей молили отвести от них эту тяжкую беду, а протяжный звон колоколов нес на своих тягучих крыльях эту молитву прямиком к небу. И — сбылось.
28 января верховный воевода Руси Вячеслав Михайлович, удостоенный за свое свершение княжеского титула, поверг во прах миф о непобедимости монгольского войска. А через пять дней, почти в семистах верстах от Ряжска, близ устья реки Вятки, царь и великий князь всея Руси Константин I Владимирович переломил монголам хребет.
Не случайно в знаменитом Слове патриарха Мефодия I проводится блистательная аналогия знаменитого события в истории христианства, в честь чего, собственно говоря, и празднуется этот день. Владыка говорил народу:
«Хощу повторити слова мудрого праведника Симеона, кой узрел в оный день младеня Христа. И рек сей благочестивый старец тако: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыка, по слову Твоему с миром, ибо зрели очи мои спасение Твое, кое Ты уготовал пред лицем всех народов и славу народа Твоея».
Ныне же и я, подобно оному Симеону из писания святого апостола Луки, возмогу их повторити, ибо и мои очи зрели спасение Руси, кое послаша ей в неизбывной щедроте своея наш Господь, уготовиша державе онай славу превеликую. Царь же Константин, истинно реку вам, есмь ваша заступа пред престолом небесным».
Две даты… Разница всего в пять дней, но как же велико их значение. Если за день до первой из них русским людям оставалось лишь надеяться на то, что их стране удастся устоять, то, когда закончился второй из названных мною дней, стало понятно — гореть ее величию в веках. Ибо навряд ли сыскалась бы во всем мире та сила, которая с интервалом в пять суток сумела бы перемолоть не тысячу-две, и даже не десять тысяч, то есть тумен, а десять туменов отборного войска монголов. Войска, которое представляло собой непобедимую доселе силу самой великой державы той эпохи.
Еще 27 января 1241 года никто и ничто не могло с нею сравниться, но к вечеру 2 февраля стало ясно — таких великих держав уже две. Причем первой, основанной на грабеже соседей и насилии народов, уготовано скорое падение в бездну небытия, подобно яркой, но мимолетной комете. Второй же — яркой звезде, достигшей к вечеру второго февраля пика своего ослепительного сияния, суждено нескончаемо гореть на небосклоне мировой истории, затмевая своим блеском все прочие светила.
Отныне и навеки!
Албул О. А. Наиболее полная история российской государственности. Т. 3, с. 289. СПб., 1830Глава 20 Прощай, Сарай-бату
Есть сумерки души, несчастья след, Когда ни мрака в ней, ни света нет. Она сама собою стеснена, Жизнь ненавистна ей и смерть страшна… М. Ю. ЛермонтовБывают у человека сны приятные, случаются — так себе, а иногда — плохие. Дальнейшие события напоминали Бату страшный сон. Он был бы рад проснуться, смутно подозревая, что для этого нужно лишь ненадолго остановиться, попытаться осмыслить происходящее, но дикая круговерть событий не давала ему ни малейшей возможности для этого.
Битая собака и ребенка боится. Так и монголы. Две трети туменов, из числа тех, что имелись в его распоряжении, потерял в Медвежьем урочище Бату, но еще оставались люди Орду-ичена, стоявшие под Булгаром, цел был и тумен Тангкута, продолжавшего осаждать Сувар. Правда, ни он, ни Орду уже не имели тяжеловооруженных тысяч, которые полегли в урочище, но остальные-то были… Около двух тысяч сохранилось в тумене Шейбани, да и к кешик-тенам Бату присоединилось не менее двух тысяч беглецов.
В итоге получалось не так уж плохо. Два с лишним тумена — это силища. Но что-то надломилось в душе хана, хрустнула какая-то веточка веры в свою счастливую звезду и в несокрушимую мощь своих воинов. Неясное предчувствие томило ему грудь, нашептывая в особо тоскливые ночные часы, что отныне его неизменными спутниками станут сплошные неудачи.
Теплилась еще в сердце Бату крохотная надежда на то, что тумены, ведомые Гуюком, Менгу и прочими чингизидами, сумеют сделать то, что не сумел он сам. Весть об этом долетит до Константина, и тогда каан урусов обязательно повернет свое войско к Рязани. Неважно, успеет ли Гуюк взять столицу Руси или нет. Гораздо важнее иное — в любом случае он оттянет на себя главные силы урусов и даст передышку джихангиру.
Поэтому побитый хан и отошел еще чуть дальше, под Саксин, рассчитывая дать своим воинам небольшой отдых, а потом нахлынуть на Константина, когда тот станет возвращаться обратно. Под Саксином он и получил очередную черную весть, которую привезли счастливчики, невесть каким чудом ушедшие из-под Ряжска.
Было беглецов немного, в общей сложности не более двух-трех сотен, но вреда они причинили не меньше, чем все войско Константина. Рассказывая страшные ужасы о разгроме всех туменов Гуюка, они вселили в души остальных такую панику, что теперь любая стычка с урусами сулила деморализованному войску степняков неминуемое поражение. Даже записные смельчаки и сорвиголовы в эти дни выглядели непривычно задумчивыми.
А Константин надвигался на Бату, подобно черной туче. Его люди, в отличие от монголов, имели за плечами блистательную победу и бесперебойное снабжение. Хан Абдулла настежь распахнул двери всех своих кладовых и складов. В городах, освобожденных от осады, царь сумел изрядно пополнить запасы огненного зелья, гранат и стрел для арбалетов. Кроме того, в его войско влились тысячи добровольцев-булгар. Пусть они были плохо обучены, зато хорошо вооружены, а в глазах этих людей горела такая жажда мести, которая иногда способна удесятерить силы.
В таком положении Бату оставалось надеяться только на то, что ему удастся удержать за собой хотя бы степи, набрать там пополнение и увеличить численность своих туменов до шести, а лучше семи или восьми. Он уже ученый. Теперь он не стал бы распыляться на осады городов, а искал бы встречи с войском урусов.
Но это была не его степь. Он понял, чья она, не тогда, когда башкиры принялись отщипывать от его туменов кусок за куском, и не тогда, когда этим же самым занялись саксины со стороны Итиля. Хан уразумел это в тот день, когда из дозоров, прикрывающих его обозы, прибыли гонцы с вестью, что войско Константина за это время увеличилось не меньше чем на два тумена — на два, а не на один! — причем второй из них конный.
— Этот глупый здешний сброд мы разгоним одними плетьми, — гордо заявил тогда юнец Берке, но Бату знал, что между хвастливыми словами и их осуществлением зачастую лежит целая пропасть, которая далеко не всегда преодолима.
Конечно, жители здешних степей действительно не такие стойкие в бою, как монголы, у них нет такого железного порядка, но каан урусов пока не сделал ни одной ошибки, и глупо надеяться на то, что он допустит ее сейчас. Скорее всего, Константин поставит их туда, где не нужно, стиснув зубы, стоять насмерть. Для этого у него в достатке Урусов. Он поступит именно так, как когда-то сам Вату предлагал князю Святозару. Пока пешие воины урусов сковывают действия основных сил хана, подкравшаяся конница всаживает им в спину острый клинок.
Но окончательно его добили даже не эти глупцы, предпочитающие пасти свой жалкий скот и жить впроголодь, напевая долгими зимними вечерами глупые заунывные песни, вместо того чтобы идти в одном строю с его туменами и брать в горящем вражеском городе столько золота, сколько они и не видели за всю свою жизнь. Пусть их. Добил его тот твердый отказ, который привезли его смущенные послы, вернувшиеся из ставки каана урусов.
— Твои люди убили моего сына и моего внука, — заявил Константин. — Отныне между нами — кровь. Я не злопамятный человек — отомщу и забуду, но пока не отомстил, говорить о мире с ханом Бату не буду.
Хану оставалось лишь удивляться тому, как быстро каан узнал о гибели крепости Яика и о том, что его родичи находились там, а теперь надежно погребены под каменными обломками вместе с темником Бурунчи и его тысячниками.
«Да пес с ним, с этим Бурунчи! — размышлял Бату. — Эта шелудивая собака, так подло обманувшая мое доверие, не стоит того, чтобы кто-то позаботился о его достойном погребении на священном костре, но Святозара надо было отыскать. И его, и княжича Николая. Тогда я мог бы хоть немного смягчить гнев каана урусов, а так…» — и он горько усмехнулся.
Действительно, скажи ему кто-нибудь всего полгода назад, что он будет сожалеть об упущенной возможности умилостивить сердце Константина, так он долго хохотал бы над этой очень удачной, хотя и нелепой шуткой. Настолько нелепой, что он, пожалуй, даже не стал бы обижаться на того, чей язык ее произнес бы, потому что это язык безумца, а их обижать не велит сам Тенгри.
В довершение к сказанному, будто всего остального мало, Константин заявил послам и вовсе оскорбительное:
— Если хан еще раз покусится на оберег Руси, то я его сыщу, где бы он ни был, прикажу отрезать ему уши и язык и заставлю его их сожрать.
Разумеется, послы смягчили его слова, и в их изложении речь каана звучала гораздо мягче, но это было плохим утешением. Получалось, что оберег цел, а это означало, что проклятый колдун его обманул.
Выходит, Горесев не такой всемогущий?! А может, и его слова про то, что он связал их жизни в один узел, такая же ложь?! И Бату поклялся себе в том, что он непременно навестит старика и обязательно, чем бы это ни грозило ему самому, опробует на нем свою чудесную бухарскую саблю. Плевать на возможную смерть! Он уже утратил то, что любой воин ценит гораздо больше, чем жизнь, так зачем цепляться за ее жалкое подобие?
Вся дальнейшая дорога домой напоминала нескончаемое бегство. Нет, поначалу это выглядело и впрямь как отступление, но потом, особенно когда пришло известие, что беда грозит не только сзади, от наступающего на пятки войска урусов, но и сбоку, куда пришел из-под Рязани лучший воевода Константина Вячеслав, отход превратился именно в бегство.
Враг оказался хитер и использовал ту же тактику, которую совсем недавно пытался применить сам Бату под Суваром. Он не давал отступающим покоя ни днем, ни ночью. Воины Константина заходили то с одной, то с другой стороны. Откуда ожидать следующего нападения — не знал никто. Может, оно случится сзади, как в предыдущую ночь, когда враг пытался отбить обозы, может, спереди, как в позапрошлую, когда враги вырезали весь передовой дозор и даже атаковали ханскую ставку, а может быть, сбоку, как три дня назад, когда погибла чуть ли не тысяча воинов из тумена Мультека.
Хотя нет, какой там тумен. После первых же трех дневных переходов от него осталось не более трех тысяч воинов. Еще через две ночи их число и вовсе сократилось до тысячи. Невзирая на охрану, булгары как-то ухитрялись бежать — десяток за десятком, сотня за сотней… Пожалуй, тот неведомый урус, который во время очередного налета пустил в Мультека стрелу, угодившую ему точно в горло, сам того не подозревая, оказал несостоявшемуся хану Волжской Булгарии очень большую услугу.
Кому нужен хан без ханства и полководец без войска? Ведь это все равно, что батыр без подвигов, акын без песен или… Или шаман, который не умеет колдовать, а лишь корчит из себя эдакого всесильного полубога, засевшего в своей пещере.
Но ничего, дай только срок, и никакая дальность пути и неприступность гор не испугают хана. Он обязательно приедет к нему. Только слова благодарности станет произносить не язык Бату, а его сабля, и слова эти будут так остры и стремительны, что навряд ли Горесев сумеет найти для них достойный ответ.
Бату сдержал это обещание, которое он дал, ибо настоящий хан всегда должен отвечать за свои слова. Отвечать даже в том случае, если обещание адресовано самому себе. Хотя нет, не так. Особенно если оно дано самому себе. А уж мысленно или вслух — дело десятое.
Он сдержал клятву и… не сдержал ее. Поначалу, сразу после возвращения в Сыгнак, Бату некогда было заняться Горесевом — навалилось слишком много неотложных дел. Но хан все время помнил о нем и едва узнал про идущий в ту сторону караван, как немедленно отправил с ним десяток верных нукеров из числа особо доверенных кешиктенов, подробно разъяснив им, где искать старика.
Они не должны были убивать его — насладиться вкусом мести можно, лишь вкушая ее самолично. Им надлежало просто сказать ему несколько слов, но таких, которые еще до предстоящей неизбежной встречи с самим ханом принесут лживому шаману много бессонных ночей и тяжких раздумий.
Пусть старик помучается от страха все те дни, которые остались ему в этой жизни, потому что когда к нему приедет сам Бату, то у него не останется ни раздумий, ни дней, ни ночей. И еще нукеры должны были проследить, чтобы Горесев не попытался куда-нибудь улизнуть.
И вновь неудача. Когда хан наконец-то выехал в ту сторону, держа путь в Каракорум на курултай — скончался великий каан Угедей, и чингизидам предстояло избрать нового, — нукеры встретили его и виновато развели руками.
Оказывается, за все это время они даже не нашли пещеры шамана. Обозвав их глупцами, которые не в состоянии найти стрелу в собственном колчане, хан сам отправился в горы. Рассчитаться со стариком стало для него не просто вопросом чести. Бату загадал, что если он отомстит Горесеву, то и на курултае все пройдет успешно. Во всяком случае, ему удастся повлиять на родственников, чтобы они избрали кого-то другого, а не его двоюродного братца Гуюка.
Однако едва он добрался до хорошо знакомых мест, как понял, что напрасно обзывал своих верных слуг. Ему оставалось только изумленно присвистнуть, озираясь по сторонам. Сами горы как стояли, так и продолжали стоять на месте, но — великий Тенгри! — как же разительно изменились их очертания! Там, где вниз по камням раньше сбегал весело журчащий ручей, теперь высилось нагромождение хаотично наваленных валунов, там, где был проход в узкое ущелье, ощетинили острые копья гранитных выступов угрюмые серые скалы, там, где…
Да что тут перечислять! Разом изменилось вообще все. Куда теперь идти, в какую сторону держать путь, было совершенно непонятно. Бату почувствовал, что любые поиски окажутся бесполезными. Либо шаман окончательно отгородился от всего мира, испугавшись ханского гнева, либо его покарал кто-то еще.
В пользу последнего предположения говорило в первую очередь отсутствие той невидимой паутины, которая прежде всякий раз неприятно обволакивала лицо Бату, едва лишь он начинал приближаться к жилищу Горесева. А затем хан услышал рассказ самих нукеров, решивших после бесплодных поисков между скал поспрашивать о старике жителей Гаочана.
Они-то и поведали, как совсем недавно в их местах приключилась страшная буря, а землю трясло с такой неистовой силой, что многие подумали, будто настал их смертный час. В горах же творилось и вовсе невообразимое.
Решив, что чужие дрегпа пришли с войной в их места, все жители города принялись молиться своим далха. Повсюду вершились обряды в честь Гесера, синего кузнеца Бала и прочих могущественных защитников. Не остались позабытыми даже добрые богини Лхамо Бурдзи[139] и Тхеб Иумо[140]. Плача и стеная, жители Гаочана каялись в том, что незаслуженно забыли всех их, и молили о помощи.
Видать, и впрямь велико оказалось раскаяние людей, а их громкие стоны и в самом деле донеслись до ушей богов, потому что те сжалились и пришли на выручку. Их страшная битва с чужеземными богами продолжалась до самого утра, но в конце концов они победили.
Некоторые местные жители утверждали, что видели Гесера и синего кузнеца Бала, устало бредущих куда-то в сторону Луковых гор. Нукеры разыскали двоих счастливчиков, которые славились зоркостью глаз и даже уверяли, что сумели разглядеть чудесное оружие богов.
Бату, мрачно слушавший все это, только скрипнул зубами от бессильной злобы. Скорее всего, предсказания Горесева сбылись и его отыскали те, кого шаман называл Мертвыми волхвами, но какая теперь разница, кто именно рассчитался со стариком. Важнее другое — кто бы это ни был, он помешал хану сдержать свое слово. Следовательно, теперь его ждет неудача в Каракоруме.
Так оно и произошло. Свершилось самое худшее для Бату. Будь его воля, надменный хвастливый Гуюк никогда не был бы поднят на белой кошме, не стал бы новым владыкой Великого улуса монголов. Да, он старший сын каана Угедея, но всем известно, что его отец в завещании-ярлыке указал иного наследника. Но вдова Угедея и мать Гуюка Туракина-хатун, ставшая после смерти мужа всесильной госпожой, сумела все переиначить.
Ох, не зря Угедей так злился и в то же время изрядно побаивался своей старшей жены. Нелады у них начались уже давно. Только ими и ничем иным можно объяснить его загадочное поведение еще задолго до своей смерти. Очевидно, уже тогда задумав написать свое завещание и зная отношение к Ширамуну со стороны Туракины-хатун, он летом, в пятой луне года цзя-у[141], собрал вокруг себя приближенных.
Повод был вполне благопристойный — праздники по случаю окончания строительства нового дворца великого каана. Сам Угедей, правда, жить в нем не собирался, повелев поставить для себя роскошную юрту в дворцовом саду и вызвав очередное неудовольствие императрицы Лю, как уже тогда называла себя тщеславная и обожающая роскошь Туракина-хатун.
В этой-то юрте, в присутствии всех видных людей, включая чуть ли не три десятка одних тайджи[142], Угедей довел до всеобщего сведения дополнения к Ясе своего великого отца. Касались они преимущественно военных дел, но было среди них и еще кое-что, притом весьма любопытное.
— «Признаются виновными все женщины, которые: или притесняют своих внуков, или носят домашнюю одежду, не соответствующую законам; а также те, которые завистливые — их провозить верхом на неоседланных коровах по всему их обоку, после чего сразу же взимать с них приданое для отдачи в новое замужество»[143], — степенно зачитывал не кто-нибудь, а сам Шики-Кутуху, глава Гурдерейн-Дзаргу[144], которого еще Чингисхан объявил своим приемным сыном.
Бату тоже присутствовал там и сам видел, как полыхнули неприкрытой злобой глаза Туракины-хатун, сидевшей рядом со своим мужем — великим кааном Угедеем. Лицо императрицы Лю столь сильно зарделось, что нездоровый багровый румянец проступил даже сквозь густой слой белил, которыми размалевали ее щеки китайские служанки.
Меркитка ничем не выдала свой гнев, хотя далось ей это с огромным трудом, ибо все знали, в чью сторону направлена острая стрела повеления каана. Туракину-хатун, одетую в пышные китайские одеяния, хоть сейчас можно было сажать на неоседланную корову за ношение одежд, «не соответствующих законам», равно как и за зависть.
Это ведь она самовластно распоряжалась всем домашним хозяйством Угедея, а остальные пять жен и пикнуть не смели в ее присутствии. Да и между собой они тоже предпочитали не откровенничать, опасаясь вездесущих прислужниц, шпионивших за ними и тут же все доносивших Фатиме — бывшей рабыне-персиянке, а ныне верной и самой преданной наперснице Туракины-хатун.
Но Угедей был слаб и совершенно не разбирался в женщинах. Издав эти дополнения, ставшие дамокловым мечом, зависшим над Туракиной-хатун, он всерьез полагал, что вздорная баба теперь угомонится. Наивный…
Если бы Ширамун был сыном Гуюка, то есть ее родным внуком, то, скорее всего, Туракина-хатун не встала бы мужу поперек дороги. Пусть даже отцом Ширамуна был бы другой ее сын — Кадан. Она бы смирилась и с этим. Но семнадцатилетний юноша, который действительно производил на окружающих самое благоприятное впечатление внешностью, манерами и умом, был сыном Кучу, родившимся от принцессы-китаянки, и участь его была решена.
Когда Бату прибыл в Каракорум, Ширамуна уже оплакивали, похоронив со всеми положенными почестями рядом с его дедом Угедеем, о причинах внезапной смерти которого людям не особо толковым тоже оставалось лишь догадываться. Точнее не так — для умного человека картина происшедшего как раз была вполне отчетливой и ясно видимой.
Всего два года назад именно по настоянию Туракины-хатун Угедей впервые не послушался своего доброго гения Елюй-Чуцая, стоявшего во главе правительственной канцелярии — чжуншушэн, и передал на откуп ловкому Абд-ар-Рахману все налоги с Чжунъюань[145].
Дело в том, что из-за засухи и саранчи на полях Чжунъюаня в год у-сюй[146] Угедей, опять-таки по настоянию Елюй-Чуцая, освободил жителей не только от поземельного налога, но и от уплаты давних недоимок. Он перенес долги на урожайные годы. В связи с этим расходы на содержание дворца, слуг, новые наряды и прочую роскошь были урезаны, что больно ударило по интересам императрицы Лю.
Опасаясь, что и в следующем году ее добряк-муж учинит что-нибудь в этом же роде, тем более что урожай обещал быть так себе, Туракина и уговорила Угедея продать право сбора налогов Абд-ар-Рахману, который, не моргнув глазом, тут же уплатил за это звонким серебром. Еще бы! Выложить двадцать две тысячи серебряных слитков[147] за то, чтобы иметь возможность в течение нескольких месяцев удвоить эту сумму! Такое и вправду дорогого стоит.
Но всего за месяц до своей смерти Угедей сделал роковое распоряжение, указав ведать всеми делами ханьского народа столь же хитрому проныре Махмуду Ялавачу. То, что он такой же мусульманин, Абд-ар-Рахмана не вдохновило и не обнадежило. Он хорошо знал, что в торговых и финансовых делах единоверцев не бывает. Это вам не честный и бескорыстный Елюй-Чуцай. У него трюк с откупом не пройдет, а если налог не удастся собрать, то Яла-вач сам его откупит у Угедея.
И тогда произошло то, что и должно было произойти, — вполне здоровому каану, весело охотившемуся в горах, в день ген-инь[148] было поднесено вино, что зафиксировано в хрониках. Угодливые летописцы ссылаются на то, что вино так сильно ему понравилось, что он пил его всю ночь, намекая, что и смерть императора, наступившая в день синь-мао[149], произошла от чрезмерного возлияния. Но Бату знал, из чьих рук Угедей получил это вино. Его поднес ему Абд-ар-Рахман.
Оставалось только предполагать — то ли он подсыпал отраву в вино по прямому указанию императрицы Лю, то ли она просто намекнула на это, то ли он сам угадал ее тайное горячее желание свести счеты с мужем. А вот вариант, по которому она была бы совсем ни при чем, явно отпадает. Иначе Абд-ар-Рахман не получил бы от Туракины-хатун право заправлять финансами в правительственной канцелярии практически сразу после смерти великого каана.
Императрица Лю единовластно распоряжалась и всеми прочими делами. Вначале сама, а потом к ней подключился Гуюк, вернувшийся из урусского плена, да как вовремя вернувшийся. Можно подумать, что Константин действовал рука об руку с Тураки-ной-хатун. Кто знает, каких сладкоречивых слов наслушался первенец Угедея, пока пребывал у каана Руси, но то, что их было много и все они льстивые, — точно.
Казалось бы, какие могут быть заслуги у этого чванливого гордеца?! Он, Бату, потерпел случайное поражение, но оно не было разгромом. Да, он вынужден был отступить, но при этом сумел сохранить часть воинов, как своих собственных, так и родных братьев.
А чем в это время занимался сам Гуюк?! Слушал откровенную ложь о том, как его сознательно бросили на убой, подставив под железные стрелы лучшей части войска Константина?! Подставив, потому что джихангир оказался глуп, да вдобавок еще и завистлив к великому полководцу и будущему великому каану!
Так этих стрел в избытке отведали и воины, которые шли с Бату, причем ничуть не в меньшем, если не в большем количестве.
А теперь этот глупец с умным видом утверждает, что вся затея с великим походом на страны, лежащие на закате солнца, не имела смысла и была задумана лишь в угоду самому Бату. Дескать, его отец был мудр, но оказался слишком доверчивым, прислушавшись к словам сына Джучи. Имя отца Бату произносилось Гуюком с таким презрением, что под ним явственно читалось иное — «сына меркитского ублюдка».
На самом деле идти на западные страны нужно было южным путем, как и ходили в свое время непобедимые тумены его великого деда. Именно там лежат великие города, полные всяческих сокровищ. Именно там воинов ждет огромная казна багдадского халифа. К тому же он, Гуюк, христианин[150], поэтому должен оказать помощь своим единоверцам, угнетаемым в этих странах.
— Пора расширить пределы владений моего брата Менгу, который вместе со мной испытал томление и все тяготы плена у урусов, — вещал Гуюк.
«Сразу видно, что тяготы были немалые. Вон как рожа-то у тебя округлилась. Не иначе как с голоду опухла!» — очень хотелось выкрикнуть Бату, одиноко сидевшему с чашей кумыса в самом дальнем углу — спасибо братцу за такой великий почет! — но он сдержал себя.
Идти сегодня в открытую против Гуюка означало бы не просто неминуемое поражение — на сей раз окончательное. Скорее всего, Бату просто не дожил бы до завтрашнего утра. Достаточно посмотреть, какие взгляды Гуюк кидал в его сторону, чтобы понять — тот использует любой повод, чтобы вцепиться в загривок Бату. Намертво.
Тем более что на его стороне оказались не только все родные братья, но и большая часть двоюродных. Дети Чагатая за него, дети Тули — тоже, и даже Менгу, которого Бату считал своим другом, теперь смущенно отводит взгляд в сторону.
Конечно, как тут не отворачиваться, когда Гуюк играет на руку Менгу. Ведь большой поход на западные страны и впрямь раздвинет пределы его улуса, который пока что не столь велик, а если принять во внимание непомерное честолюбие двух его младших братьев — Хубилая и Хулагу — то и вовсе мал.
— Мы не выжили бы в этом плену, если бы христианский бог, которого у нас в степи некоторые по недомыслию иногда называют Тенгри, хотя на самом деле у него другое имя, не ниспослал нам неизбывную милость, вселив нужные мысли в мудрую голову каана урусов, — между тем продолжал разглагольствовать Гуюк. — Оказывается, нам нечего с ним делить.
«Как это нечего?! — очень хотелось завопить Вату. — А как же Кулькан, который якобы продолжает болеть и потому остался в плену до полного излечения, ибо долгая дорога в родные степи может его погубить? Если нам всем плевать на завещание каана Угедея, которое теперь и впрямь неосуществимо из-за смерти Ширамуна, то давайте изберем Кулькана, который сын — слышите! — сын нашего великого деда!»
Но хан знал, что это бесполезно.
«Как можно поднять на белой кошме человека, которого нет на великом курултае?» — с недоумением спросят его родичи и будут правы.
Потому-то Гуюк и нахваливает правителя урусов, что тот платит ему, удерживая у себя монгольского царевича. А если посоветовать отложить избрание до лучших времен и добиваться освобождения Кулькана, то чингизиды посмотрят на Бату уже не с недоумением, а с усмешкой, в которой он ясно прочтет: «Ты уже сходил в его земли, так что остуди свой пыл. У нас не так уж много туменов, чтобы кидаться ими».
Бату, правда, все равно попытался это сделать.
— Ты же сам сказал, что незажившие раны Кулькана — лишь повод, а на самом деле урус будет удерживать царевича как заложника. Разве это не унижение для всех нас, за которое надлежит немедленно отомстить? — спросил он.
Гуюк насмешливо посмотрел на Бату.
«Знаю, куда ты гнешь, — яснее ясного говорил его взгляд. — Но у меня есть слова, против которых тебе нечего будет возразить».
— Разве непонятно, что едва мы пойдем на Русь, как Константин сразу умертвит сына нашего великого деда? Ты этого хочешь?! — И, не дождавшись ответа, отчеканил: — Для меня священна жизнь моего дяди, как последнего сына великого воителя. К тому же если мы будем жить с Русью дружно, то получим великие богатства, ибо половина великого торгового пути, который идет отсюда к гнусным франкам, принадлежит нам, а другая половина — Константину. Достаточно сохранять мир, и серебро само потечет к нам. Не надо будет даже слезать со своей кошмы. Верно ли я говорю, славный Елюй-Чуцай? — обратился он к худенькому старенькому китайцу.
— Ты говоришь в высшей степени правдиво и справедливо, — немедленно откликнулся тот, всегда радевший о мире, и искренне добавил: — Я счастлив, что у мудрого отца оказался еще более мудрый сын.
«А наш дед предпочитал брать сам, и полностью, а не половину», — мысленно прокомментировал Бату, но больше не встревал.
Гуюк же, расцветший от искренней похвалы, продолжал:
— Конечно, кое-кому это завидно, и они очень хотели бы нас рассорить, но у них ничего не выйдет. — И, будто услышав мысли Бату, заметил: — А когда мы одолеем багдадского халифа и поставим пяту на его спину, то сможем весь этот путь взять в свои руки. И кто нам в этом воспрепятствует, хотел бы я знать? — Он гордо подбоченился и победоносно огляделся по сторонам.
Все молчали, включая и Бату. Не дождавшись возражений, Гуюк продолжил:
— Что до урусов, то надо простить их каана. Не подобает держать зло на человека, с которым собираешься заключить мир на вечные времена, ибо урусы — храбрые и сильные воины, умеющие держать свое слово и не испытывающие зависти к величию нашего могучего улуса. Пусть они сидят в своих лесах. Охрана торговых путей будет их данью, ибо больше от них получить нечего, разве что деревья, которые не годятся в пищу.
Все присутствующие угодливо засмеялись. Будущий каан шутит, значит, у него хорошее настроение. Это славно.
Дальше Бату не слушал. И без того понятно, что все пропало. Сказавшись нездоровым, он уехал с курултая, ибо надежды на то, что изберут кого-то иного, не оставалось.
Реальных кандидатов, помимо Гуюка, было только три. Но Ширамун мертв, Кулькан в плену у каана урусов, а третий — младший брат Чингисхана Темуге-отчигин, уже упустил возможность захватить власть. Если бы он оказался порасторопнее и поумнее, то как знать, но, когда Бату прибыл в Каракорум, все уже было кончено. Чего не отнять у Туракины-хатун, так это умения идти напролом и решительности добиваться своего, не останавливаясь ни перед какими жертвами.
Ее не смутило, что в заговоре оказались замешаны весьма высокопоставленные лица из числа тех, кто начинал служить и выдвинулся еще при сотря-сателе вселенной. Взяв в свои руки всю власть, она без колебаний раздавала нужным людям привилегии, пайцзы, наложила руку на суд и добилась у Шиги-Хутуху вынесения смертного приговора для всех своих противников, которых казнили в тот же день, включая и самого Темуге-отчигина.
А неудачи продолжали обрушиваться на голову Бату одна за другой. Вернувшись в свой родной улус, он попытался было предпринять какие-то самостоятельные шаги, веря, что, несмотря ни на что, спор между ним и урусами еще не окончен. Ему даже удалось собрать целых три тумена, усадив в седла всех от мала до велика. Дело оставалось за братьями, а они…
— Ведь каан Гуюк заключил с урусами мир, — развел руками добряк Орду. — Пойти против них — это пойти против Каракорума. Разве так можно, брат? Если каан прогневается, то нам всем придется плохо.
И ведь как в воду глядел его старший брат, потому что через несколько недель после их разговора в Сыгнак к Бату прискакал гонец с посланием от Гуюка. В нем великий каан любопытствовал, для чего и против кого тот собрал эдакую силу? А уж дальше в тексте и вовсе была издевка.
«Мы не верим, что Бату решился пойти против нашей воли и напасть на того, с кем мы решили жить в дружбе и согласии, — говорилось в нем. — Мы думаем, что хан по-прежнему покорен нашей воле и даже старается ее предугадать. Узнав о том, что мы собираемся в великий поход на багдадского халифа, он решил не упустить возможности дать своим нищим воинам немного разбогатеть. Что ж, мы одобряем его расторопность и разрешаем ему участвовать в нашем большом походе. А зная, что наш брат и сам выказал себя достойно в битвах с ханьцами, дважды заслужив одобрение нашего отца Угедея, мы дозволяем ему самому возглавить эти тумены, присоединив к ним воинов Орду-ичена и Шейбани-хана, которых поведут старшие сыновья.
Тем более что Бату всегда питал к брату Менгу особую любовь и будет рад помочь ему расширить его улус».
На этот раз приступа бешенства не последовало. Напротив, Бату впал в какую-то сонливую вялость и оцепенение, даже перестал принимать участие в излюбленном занятии кочевников — степной охоте. Все угольки надежды, которые и без того едва тлели в его душе, оказались плотно засыпанными холодным пеплом.
Последние искорки окончательно погасли после того, как он, уже через три года, на обратном пути домой, услышал от своих воинов одобрительные слова о великом каане. И если бы это было просто одобрение, а то оно еще замешивалось на сравнении с тем походом, которым командовал Бату.
Гуюк, затеявший эту военную кампанию, и в особенности Менгу, бывший великим джихангиром, и впрямь не обманули чаяний своих людей. Конечно, их возвращалось гораздо меньше, чем уходило, но такова судьба воина. Зато выжившие везли с собой немалую добычу. Поход, начавшийся, как записали китайские летописцы, летом в пятой луне года цзячень[151], когда скончался великий чжуншулин Елюй Чуцай, и закончившийся в девятой луне года динвэй[152], был действительно успешным.
Менгу начал его еще раньше, разбив войска Румийского султаната и захватив в плен Гийас ад-дина Кай-Хусрау II, тем самым обеспечив себе простор для последующего наступления на халифат, поскольку за его спиной оставались лишь союзники — царь Киликийской или Малой Армении Хетум I и византийский император Иоанн III.
После этого он вместе с князем Антиохии Боэмун-дом V незамедлительно обрушился на Халеб, именуемый европейцами Алеппо. Укрепления города действительно впечатляли. Чего стоил один только ров вокруг цитадели. Ширина его составляла метров тридцать, глубина — двадцать. Преодолеть такое без предварительной подготовки казалось невозможным. Но Менгу удалось выманить войско ан-Насира II из крепости. Имя, взятое султаном в честь знаменитого предшественника — Салах ад-дина, не помогло. В отличие от своего предка ан-Насир II был отважным воином, но никудышным полководцем.
Инженерное сооружение, именуемое Вратами двух змей, на самом деле включает в себя несколько ворот. На одних из них, воздвигнутых по приказу султана аз-Захира Гийас ад-дина в 1209 году, есть изображения двух львов — один смеется, символизируя победу, а другой плачет в знак поражения. Этот год оказался для жителей Халеба годом плачущего льва.
Выломав ворота, монголы хлынули в узкий сводчатый коридор, но надежды защитников сдержать их в этом удобном для обороны месте оказались напрасны, потому что одновременно с этим они ворвались в юго-западные ворота Киннесрин, а также в северные, которые назывались Баб Ан-Наср — Вратами Победы. Теперь получалось — победы туменов Менгу.
Последние защитники города погибли близ Тюрьмы крови, а пленных озверевшие монголы утопили в огромной подземной цистерне работы еще византийских мастеров.
Передохнув пару дней на развалинах, Менгу вихрем налетел на Ракку. И тут внушительные городские стены, протяженностью около пяти километров, не оказались для них препятствием. На четвертый день, ворвавшись через знаменитые Багдадские ворота, завоеватели уже весело пировали в мечети Джам Аль-Кабира и в знаменитом дворце Гаруна ар-Рашида, избравшего в свое время Ракку своей летней резиденцией. Жизнь мало похожа на знаменитые сказки «Тысячи и одной ночи», в чем жители города смогли убедиться в полной мере в эти злосчастные дни.
В это же время вторая лавина монгольских ту-менов вместе с вспомогательными грузинскими и армянскими войсками обрушилась на древний Мосул. Основанный в глубокой древности близ развалин столицы Ассирии — Ниневии и названный поначалу Машбалу[153], а затем переименованный парфянами Хусн-убрайа[154], он процветал, став главным городом Северной Месопотамии.
Чего здесь только не было, каких товаров сюда только не привозили. Жители Мосула и сами могли похвастаться тяжелой золототканой парчой, знаменитой тончайшей хлопчатобумажной тканью, которую и назвали по имени города— «муслим», а если в нее добавляли шелковую нить, то «мухарраратом», и многим другим.
Горожане молились разным богам. Христиане самых разных толков составляли свыше трети населения Мосула, мусульман было намного больше. Жили они не очень дружно — всякое бывало. Но в этот час суровых испытаний все вышли на городские стены и дрались отчаянно, но сила силу ломит. Необученные, они могли противопоставить монголам только ярость и отвагу, однако в сражении гораздо важнее выучка и боевой опыт.
Третья монгольская волна начала свое победоносное шествие из Хамадана. Первым был взят Кашан — крупный оазис, расположенный на самом краю Деште-Кевир — Большой Соляной пустыни. Правда, добыча оказалась скудна. Изразцовую плитку и глазурованную керамику жевать не будешь, а набрать ее побольше для продажи не получится — уж больно тяжелый это товар.
Озлобленные захватчики двинулись дальше, и на этот раз Кум, уцелевший во время предыдущего вторжения туменов Субудая и Джэбэ, уже так дешево не отделался. Виной тому стали отчаянные шиитские студенты, именуемые талибами. Именно они подняли зеленое знамя ислама над городом, поклявшись в самой древней мечети имама Хасана Асгари, что, пока они живы, ноги грязных нечестивцев никогда не опоганят их священную землю.
Они сдержали слово. Последние из них пали возле Рейских ворот, когда город уже пылал в огне многочисленных пожарищ. Рухнули мечеть и мавзолей святой Фатимы, более известной как Хазрат-и-Масуме (Безупречная), — сестры глубоко почитаемого восьмого шиитского имама Резы. Со страшным грохотом обрушился гигантский купол Большой мечети, в которой пытались укрыться седобородые священнослужители.
А гигантская волна, подобная гигантскому цунами, не обращая внимания на сотворенное ею зло, уже неслась дальше, стремясь успеть к столице ха-лифов-аббасидов чуточку раньше всех остальных. Но раньше не получилось — войска монголов обрушились на Багдад сразу с трех сторон, сойдясь в плотное кольцо вокруг великого города.
Багдад некогда был маленьким селением, известным только своими лошадиными ярмарками. В VIII веке, по повелению халифа Абу-Джафара аль-Мансура, могущественного основателя государства Аббасидов, оно всего за четыре года превратилось в столицу. Этот каприз обошелся ему в девять миллионов золотых динаров.
Жители Мадинат Ас-Саяма, то есть Города мира, как величественно нарек его поначалу все тот же аль-Мансур, не отличались особой стойкостью, но за свою жизнь дрались отчаянно. Тем не менее уже на четвертый день осаждающим, действующим одновременно в нескольких местах, удалось разбить Аджамскую башню, выломать ворота Баб Аль-Вастани и прорваться на стены. Бои пошли внутри города — за каждый дом, каждую мечеть, каждый дворец.
Еще через четыре дня над входом в крупнейшее в мире медресе Аль-Мустансырия рухнули диковинные для того времени часы, сделанные багдадским астрономом и изобретателем Нур-ад-дином по прозвищу ас-Саати-часовщик, символически возвестив миру, что древний город пал.
Халиф аль-Мустасим сдался, уповая на милость победителя. Однако священное родство с самим пророком[155] ему не помогло. Правда, хитрец Менгу, вроде бы не отдававший предпочтения ни одной из религий[156], не решился умертвить владыку всех шаманов этой страны, несмотря на брата Хубилая, который, как и каан Гуюк, был христианином несто-рианского толка.
К тому же он был ему благодарен за указание места, в котором хранились огромные сокровища. Сам Менгу ни за что бы не догадался поискать их под огромным гранитным фонтаном, расположенным в центре прямоугольного внутреннего двора дворца Аббасидов. Он отправил халифа в Каракорум вместе с пятой частью добычи, причитающейся Гуюку, тем самым все равно подписав аль-Мустасиму смертный приговор.
А вот астроному Нур-ад-дину повезло. Его, как и еще нескольких ученых из медресе, спас некий арабский купец Ибн-аль-Рашид, смело вставший у входа в медресе. В высоко поднятой руке — чтоб все видели — он держал золотую пайцзу с изображением кречета.
Правда, спасение было не безвозмездным. С разрешения Менгу, равнодушного к наукам, Ибн-аль-Рашид отобрал для своего повелителя половину огромной библиотеки. Он не трогал священных свитков. Но в медресе преподавались не только все четыре толка ислама — маликийский, ханифитский, ханбалийский и шафиитский. В нем обучали и светским наукам — арабскому языку, литературе, риторике, грамматике, логике, алгебре, геометрии, медицине и даже зоологии, так что для переноски книг до речной пристани все равно понадобилось восемь десятков носильщиков.
Шестеро из них были не простыми грузчиками, а учеными все того же медресе, включая самого Нур-ад-дина, который замыкал шествие, с тоской оглядываясь назад. Рядом с ним вышагивал довольный купец. Он думал о том, что император Руси — а Константин к тому времени вновь сменил свой титул — останется доволен.
Это была далеко не первая живая добыча, доставшаяся Ибн-аль-Рашиду. Всего он вывез на Русь почти два десятка арабских астрономов, математиков и лекарей.
Через год мастера, присланные царем Хетумом I из Киликийской Армении, уже отделывали для нового владельца дворец халифа, пострадавший во время штурма. Великий каан подарил роскошные апартаменты патриарху несториан Савришо V, который сразу после переезда из Селевкии-Ктесифона, что на Тигре, прибавил к своему имени сочное д'Багдад.
А наступление монголов продолжалось. Казалось, что их сможет одолеть войско египетского султана Надж ад-дина Аййуба, который незадолго до того вдребезги расколошматил при Газе армию своего сирийского родича Имад ад-дина и его союзников-крестоносцев, после чего взял Дамаск и захватил всю Сирию, но это только казалось.
Единственное, что сумел сделать египетский правитель, так это сумел остановить тумены Менгу и его братьев. Да и то для этого ему пришлось в трех кровопролитных сражениях положить чуть ли не всю ударную силу своей армии — мамлюков[157] — и бахритов, и бурджитов. Оба их лагеря, один из которых находился в дельте[158] Нила, а другой — в цитадели Каира, опустели. Но главное им совершить удалось. В трех кровопролитных битвах они остановили монголов.
Особенно тяжелым оказалось третье сражение, которое произошло в тридцати километрах к северу от Дамаска, близ монастыря Девы Марии, возвышавшегося на скале у деревушки Седнайя. Люди говорили, что женскую обитель сохраняет в целости главная ее святыня — икона Богородицы, написанная с натуры самим евангелистом Лукой.
Так это или нет, но на монастырь, построенный еще в VI веке императором Юстинианом, действительно никто не посягал. Сколько армий прошло через эти места за шесть столетий, а он оставался в неприкосновенности.
На этот раз ему не повезло. Воины египетского султана, засевшие в обители, упрямо не желали сдаваться на милость победителя. Менгу пришлось положить немало своих воинов, прежде чем монголы сумели туда ворваться, после чего полководец приказал разрушить каменные стены до самого основания.
Четвертого сражения Надж ад-дин Аййуб уже не выдержал бы, но потери монголов также оказались слишком значительны, чтобы вступать в него.
К тому же византийский император Иоанн III, честно помогавший Менгу в разгроме своих беспокойных соседей — сельджуков, остановил свою армию еще задолго до Сирии, посчитав, что идти дальше ни к чему. Он ведь уже отхватил изрядный кусок от Иконийского султаната.
Впрочем, сам император назвал все это более утонченно — «округлить владения». В «округлость» вошли старые византийские провинции Пафлагония, Галатия, Каппадокия, Кария, Писидия и даже Пи-кадия, в которой располагалась сама столица султаната — город Иконий.
Разумеется, почти все захваченные города — древняя Кесария и величавая Синапа, богатый Си-ноп и шумная Лаодикея, не говоря уж об Иконий, — достались императору либо наполовину, либо полностью разрушенными и целиком разграбленными, но хозяйственный Ватацис не унывал. В своих мечтах он уже видел все эти земли ухоженными и процветающими. Так что дальше помогать монголам он не собирался. Это бы переварить.
Армянский царь тоже остыл. Он в очередной раз напомнил Менгу о соблюдении договора, по которому хан вместе со всем народом должен был принять христианскую веру, но ответа так и не дождался. Зато в его руки попала чуть ли не вся Великая Армения вместе с Трапезундом, император которого Мануил I в недобрый для себя час решил поддержать иконийского султана.
Кроме того, Хетум I ухитрился занять и половину земель Евфратисии, вплоть до плодородных долин Евфрата, благодушно отдав оставшуюся часть князю Антиохии и своему зятю Боэмунду V. Отныне у Хетума хватало забот по хозяйству, и от дальнейшего похода он тоже отказался.
Менгу пошел бы дальше и без них, однако потерял слишком много времени, штурмуя вначале столицу крестоносцев Сен-Жан-д'Акр, а затем богатый Дамаск. У него еще хватило сил, чтобы овладеть легендарным городом, в окрестностях которого, согласно преданиям, Каин убил Авеля.
И вновь все повторилось. Дамаск, брошенный египетским султаном на произвол судьбы, держался целую неделю. Первыми рухнули ворота Баб Аш-Шарки, через которые монголы ворвались в город.
Дольше всех держались защитники юго-западной части Дамаска. Кто знает, может, им и впрямь помогало благословение апостола Павла, которого в свое время единоверцы, помогая бежать от преследования язычников, спустили на веревке в корзине через бойницу ворот Баб Аль-Кисан.
Цитадель, сооруженная в 1207 году по приказу султана аль-Адиля, продержалась еще несколько дней после взятия самого города, но конец ее был тоже предрешен.
И загорелись священные иконы, посвященные житию апостола Павла, размещенные в Доме Анания, названном так в честь первого епископа Дамаска и одного из семидесяти двух учеников Христа, который некогда помог Савлу избавиться от физической и духовной слепоты, а также самолично окрестил его.
Жарким огнем занялся благородный кедр в медресе Ан-Нурия, и, не выдержав, рухнул его купол, возведенный над усыпальницей султана Нур-ад-ди-на. Рядом с ними горело погребальным факелом медресе Адилия, чуть дальше полыхал маристан[159] Нур-ад-дина. Из всех легендарных мест уцелел лишь мавзолей легендарного египетского султана Салах-ад-дина — маленький кубик, увенчанный ребристым куполом.
Захватчики с горящими от вожделения глазами жадно выдирали мозаику, щедро отделанную золотом и жемчугом, которой была украшена одна из главных городских святынь Джамия аль-Умейи, или мечеть Омейядов, воздвигнутая на месте православного собора во имя Иоанна Крестителя.
До черепа самого предтечи Христа, замурованного в одном из подземных склепов, они не добрались, но для местных христиан это стало слабым утешением, потому что город лишился почти всех остальных святынь, которых там было даже не в достатке, но — в изобилии.
Однако взятие Дамаска стало последним успехом монголов. Их войску, все больше напоминавшему обожравшуюся змею, необходимо было время, чтобы переварить проглоченную добычу.
Как знать, что произошло бы потом, но когда три скользких ядовитых монгольских гадюки только-только ползли к владениям багдадского халифа, в далекой от них Рязани император Константин принял решение и отправил очередное посольство во главе с Ожигом Станятовичем в далекую южнокитайскую империю Сун.
И как-то так совпало, что еще за полгода до взятия Дамаска на юге владений великого каана опасно зашевелились его соседи. Русского посольства там уже не было. Оно следовало обратно на Русь, но китайские правители именно с этого времени отчего-то стали нагло нарушать установленные границы Великого улуса монголов. Старый, но еще энергичный император Ли-цзун почему-то решил переделить по новой южные провинции бывшей империи чжурчже-ней и рассчитаться со своими северными соседями за бессовестный обман.
Неизвестно, кто напел императору о том, что пришло самое удобное время сделать это, но китайская армия, выступив из приграничного Чэнду, относительно быстро оккупировала почти всю провинцию Сенъян, разбив несколько мелких отрядов, и дошла до города Синъюань, где их остановили монголы. Остановили, но обратить вспять не сумели — не хватило сил.
Тогда Гуюк, посчитав, что у него хватит войск для войны в двух направлениях, тем более что основная цель — взятие Багдада — была уже достигнута, принял решение отозвать часть своей могучей армии.
И теперь Бату, возвращаясь в Сыгнак, мог подводить радостные для многих, но только не для него самого, итоги очередной победоносной кампании. Во-первых, поход только укрепил положение Гуюка. Чего стоила одна лишь добыча, которую отвезли в Каракорум как священную долю великого каана. Да и отношение к нему простых кочевников тоже нельзя откидывать в сторону.
Во-вторых, этот поход ничего не дал самому Бату. Точнее, не просто не дал, но и забрал. Например, воинов. Сколько их было у хана? Три тумена. А сколько сейчас возвращалось в степь? Половина.
Около пяти тысяч полегло под стенами Багдада и Дамаска, а также в трех кровопролитных битвах с египтянами, а еще один тумен по повелению Гуюка был направлен против империи Сун, победа над которой самому Бату также не сулила никакой выгоды.
В-третьих, после того как сам Гуюк и повинующийся ему джихангир Менгу во время этого похода вступили в союз с христианскими правителями, не имело смысла надеяться на то, что Бату удастся каким-то образом все-таки столкнуть лбами интересы великого каана монголов и императора Руси.
Правда, князь Антиохии Боэмунд V скорее принадлежал к врагам православия, но его роль в монгольских завоеваниях была весьма невелика. Зато армянского царя Хетума I можно было смело зачислить если и не в друзья, то в очень хорошие приятели Руси. Точно такое же отношение к Константину было и среди грузинских правителей — дочери грузинской царицы Тамары Русудан, а также Давида Улу и Давида VI Нарина.
А ведь помимо всех этих «приятелей» Менгу — с ведома и по указке Гуюка — вступил в союз с настоящим другом императора урусов — византийским государем Иоанном III, которого и на престол-то в Константинополе подсадили русские дружины.
Получалась полная безысходность, которая еще больше усугубилась известием о смерти Субудая. Гуюк, ненавидевший его, и здесь поступил мудро, прислушавшись к советникам.
«Мертвый враг — бессильный враг. Он никогда не сможет навредить, а служил всегда верно, и потому было бы справедливо воздать ему почет, от которого у каана не убудет ни одного ляна серебра, но зато прибудет славы истинно справедливого владыки», — нашептывали они.
Слово «справедливо», которое звучало неоднократно, решило все. Втайне ревнуя к последнему отличию Бату, которого пока не имел сам Гуюк, получивший это прозвище лишь посмертно[160], каан дал согласие на то, чтобы старому полководцу воздали должное, исходя из его многочисленных заслуг.
Одноглазый барс был посмертно пожалован пышными званиями: «Сяо-чжун сюань-ли цзо-мин гун-чень»[161], назван «его превосходительство итун сань-сы»[162]. Кроме того, Субудая посмертно возвели в ранг Хэнаньского вана, присвоив ему почетное посмертное имя[163] «чисун-дин»[164].
Для Бату кончина Субудая стала последней соломинкой, ломающей хребет верблюда. Он не прожил и нескольких месяцев после смерти одноглазого барса, скончавшись в том же Сыгнаке, а не в городе, который он в своих радужных мечтах строил на Итиле, после того как захватил бы всю степь. Хан даже успел придумать для него название — Сарай-Бату. Но… не судьба.
А всего через год в Сыгнаке вновь сменился правитель. Яд — самое лучшее средство для тихого устранения конкурентов. Им и воспользовался Берке, убрав с молчаливого попустительства Гуюка всех сыновей Бату кроме Сартака, продолжавшего воевать с ханьцами на далеком юге.
Взор Берке был изначально устремлен не на северо-запад, а на своих родных братьев, да еще на богатые города улуса недружных сыновей Чагатая. Искусно стравливая их между собой, Берке ждал лишь подходящего момента, когда Кара-Хюгелю и Есю-Менке покрепче сцепятся в кровавой схватке.
Для Руси Берке не представлял ни малейшей опасности. Молодой хан умел мыслить трезво и прекрасно понимал, что держава Константина ему в одиночку все равно не по зубам. Вот если бы великий каан Гуюк изменил свое отношение или на его место пришел бы кто-либо другой, тогда стоило бы и попробовать.
Глава 21 Ты была права, княгиня!
Помоги же, Господь, милосердье твое Обрати на молитву мою. Пусть не кружит в надежде над ним воронье — Он всегда будет первым в строю! Марианна ЗахароваКонстантину, в отличие от Бату, грустить не приходилось, но и весело бездельничать времени тоже не было. Задача номер один, которую он поставил перед собой, — это работа с Гуюком и прочими царевичами-чингизидами, попавшими в плен.
Первым он отпустил домой сына и внука Чагатая — Хайдара и Бури. Взойдет ли кто-то из них на престол своего отца и деда, предсказать было невозможно, но овчинка стоила выделки. Конечно, хотелось бы с ними поработать еще немного, но Чагатай к лету умер, и следовало спешить, чтобы дать им шанс на успех.
С Гуюком пришлось попыхтеть. В ход шли посулы, лесть, обещание всевозможных выгод и даже угрозы. Константин не просто так упомянул о том, что Кулькан, последний из оставшихся в живых сыновей Чингисхана, уже почти выздоровел и просится домой.
— Наверное, он тоже хочет принять участие в великом курултае, — невинно предположил царь и удовлетворенно заметил, как испуганно сузились глаза собеседника.
— Кулькан даже не получил улус от своего отца, — мрачно заметил Гуюк.
— Зато у вас в степи есть хороший обычай, о котором мне недавно напомнил хан Бату. Согласно ему, младшему сыну всегда достается отцовская юрта, чтобы он мог позаботиться о стариках-родителях, дабы они провели остаток своих дней в сытости и покое.
— Его отец давно умер, так что Кулькану не о ком заботиться, — возразил царевич, кипевший от возмущения.
— Отец — да, — не спорил Константин. — А мать? Насколько я знаю, Хулан-хатун еще жива. Кстати, его и твоя мать, кажется, из одного рода?[165] Но его здоровье вызывает у меня опасения, — быстро добавил он, чтобы Гуюк не успел окончательно выйти из себя. — Мои лекари говорят, что царевич еще слаб для долгого и опасного путешествия, поэтому я пока не решил, отпустить его или оставить у себя для полного выздоровления, — и мысленно воскликнул: «Да догадайся же ты, в конце концов, дубина стоеросовая!»
«Дубина» не сразу, но догадалась, после чего пошла в лобовую атаку. Намеки Гуюка на то, что неплохо бы Кулькану взять и помереть, были по-дикарски примитивны, ну да ладно. Пришлось говорить прямолинейно, называя вещи своими именами:
— Я — не кат[166], — заявил Константин. — Убить человека по нашей вере — тяжкий грех. Да ты ведь тоже христианин, так что должен понимать.
— Но ты не сам его убьешь. Какой же это грех? — не согласился Гуюк.
— Приказать убить — двойной грех, — категорично заявил Константин. — Повеление все равно будет исходить от меня, к тому же, заставив сделать это другого человека, я сделаю великим грешником и его. Боюсь, господь не простит мне такого. Ты лучше подумай о себе.
— А что я? — удивился Гуюк.
— Все скажут, что я убил Кулькана, потому что меня об этом попросил ты, — пояснил Константин. — Пойдут разговоры. Люди скажут: «Если этот человек так ведет себя еще до избрания его великим кааном и не боится умертвить родного дядю, так как же он станет поступать с нами, после того как мы его поднимем на белой кошме? Надо ли выбирать этого жестокого?»
— Тогда как? — тупо уставился на своего собеседника Гуюк.
— Мы оставим его лечиться, и он пробудет на Руси столько, сколько нужно, — пояснил Константин. — Он будет иметь хорошую одежду и еду, хороших лекарей, хороший дом. Если Кулькан не захочет в нем жить, то я повелю разбить юрту. У него не будет недостатка в собеседниках. И тогда никто не посмеет упрекнуть тебя в его смерти. Напротив, ты всегда сможешь сказать, что подписал договор с Русью не только потому, что он выгоден самим монголам, но и желая сохранить жизнь чингизида, которого хитрый царь урусов решил оставить у себя в аманатах[167]. Ты справедлив и не хочешь, чтобы царевич погиб из-за нарушения договора.
Гуюк улыбнулся, но затем неожиданная мысль пришла ему в голову.
— А скажи мне, — неуверенно начал он, тщательно подбирая слова. — Если я нарушу договор, то ты и вправду его умертвишь? — и пытливо уставился на собеседника.
«Ах ты сволочь такая, — весело подумал Константин. — Вот уж не дождешься ты этой радости».
— Ну что ты! — возразил он вслух. — Как можно?! Я ведь говорил, что это грех. Да и за что его убивать? Получается, договор нарушишь ты, а страдать должен невинный. Это несправедливо.
— Несправедливо, — эхом откликнулся Гуюк, явно разочарованный в своих ожиданиях.
Судя по вытянувшемуся лицу последнего сына Чингисхана, можно было сделать вывод, что у него несколько иные понятия об этике вообще и о справедливости в частности.
— Правда, я горяч во гневе, — добавил Константин, чтобы добить его окончательно. — Могу и не сдержаться, а потом буду жалеть. — И, заметив, как радостно вспыхнули глаза у царевича, безжалостно подытожил: — Но я, скорее всего, сразу отпущу его в родные степи и даже дам провожатых, чтобы они довезли Кулькана домой в целости и сохранности.
— Зачем?!
— Чтобы удержаться от соблазна греха, — простодушно пояснил Константин.
Скорее всего, Гуюку хотелось сказать в ответ очень многое, но он вновь промолчал. Больше на эту тему они не разговаривали, зато о многом другом беседовали целыми вечерами. То Константин заводил разговор о той непредусмотрительности, с которой чингизиды направились в поход туда, где даже в случае победы ожидать богатой добычи не приходилось, то о других богатых странах, то о выгоде договора.
— Я знаю, что Бату просто воспользовался доверчивостью твоего отца, — как-то сказал Константин. — Будь на месте великого каана его старший сын, он пошел бы гораздо южнее. Там богатые города, там держит свою казну багдадский халиф. С меня нечего взять, кроме деревьев, а их есть не станешь. Зато у нас с тобой в руках великий торговый путь, а где купцы, там и серебро. Я буду поддерживать на нем порядок. Пусть это и будет данью, которую мне по силам платить тебе. Но из уважения к моим сединам я прошу не указывать в договоре слове «дань». Зачем? Разве хорошо унижать человека? Это ведь тоже грех.
Он говорил, а Гуюк кивал, и если кивок был не очень охотным, то Константин повторял сказанное, но уже другими словами, чтобы нерадивый ученик не заскучал. Если он считал нужным, то возвращался к сказанному через пару дней, вдалбливая в голову этому двоечнику, как он мысленно его окрестил, все то, что считал необходимым.
Из дальнейших событий Константин сделал вывод, что даже двадцать лет отсутствия практики не смогли до конца изничтожить его учительские навыки. «Мастерство не пропьешь!» — ликовал он в душе, когда русские послы, вернувшиеся из Каракорума, рассказывали своему государю о том радушии, с каким встретил их великий каан Гуюк.
Остальные дела шли своим чередом. Не все и не всегда получалось так гладко, как хотелось бы, но в целом вполне на уровне.
Особенно радовала Константина внешняя политика. Прочный союз Руси, Византии и Болгарии укреплялся с каждым годом, особенно после веселой свадебки, когда наследник византийского императора Феодор женился на Анастасии Константиновне.
Да у Константина и помимо них хватало союзников как на востоке, так и на западе, так что теперь за свои рубежи можно было быть спокойным. Кроме явных у Руси имелись и тайные союзники, например, император Священной римской империи Фридрих П.
Враги же умирали один за другим. Первыми в этом скорбном, а для Руси — чего греха таить — приятном списке оказались римский папа Григорий IX и датский король Вальдемар II Победитель. Старший сын последнего Эрик IV по прозвищу Плужный Грош для державы Константина не представлял ни малейшей опасности, равно как и король Швеции Эрик Шепелявый или Хромой. Люди с такими прозвищами навряд ли могли угрожать северным границам Руси.
Ратной силой Константин не помогал никому, если не считать двух дружин, направленных в столицу Византии, да и то не для войны, а для охраны императорской семьи, но странное дело — опасались его все. И не просто опасались, а — боялись. Хотя если вдуматься, то тут нет ничего странного. Пусть этот государь никого и не бьет, но кулак-то его виден всем, да какой увесистый.
Все шло успешно и внутри страны. Конечно, потери, понесенные в боях с монголами, явились тяжким ударом для Руси. Зато теперь люди могли спокойно рожать детей и растить хлеб. Любой смерд в глухом селище знал, что никто не придет на его землю с мечом и не оросит пашню его же собственной кровью. Одно это стоило дорогого.
А побоище? Да, царапинами это не назовешь — что уж тут. Но ведь на Руси как говорят: «Главное, что кости целы, а мясо — оно нарастет». К тому же вовсе без потерь жизнь не бывает. Что тут поделаешь.
Те, кто потерял кормильцев, тоже находили себе утешение. Мол, не мы одни такие. По всем беда прошлась, никого не минула. Вон и у государя нашего внук пал на поле брани, а какой молодой был — жить да жить. И… сын… тоже… погиб…
Но о Святозаре старались не вспоминать. Поди узнай, как разлетелась в народе весть о том, что он сдал крепость Яик и весело смеялся, когда монголы убивали ее защитников. Да так ли это уж важно — кто именно проболтался. Теперь-то поздно, а всем рты не заткнешь. А вспоминали редко потому, что… жалели государя. Ему-то каково такое слышать, бедолаге.
Сам Константин тоже старался не думать о нем. Но старания — одно, а в памяти нет-нет да и всплывало заветное имечко. И тогда в левой стороне груди появлялась боль, тупая и тянущая. Будто ампутировали у него что-то важное, а оно все равно болит, напоминая о себе.
А через несколько лет Святозар… напомнил о себе сам. Случилось это, когда государь в очередной раз, собрав всех младших внуков и правнуков, выехал отдохнуть в свою загородную резиденцию, чтобы, как он выразился, половить рыбки в Хупте.
В тот день рыбалка выдалась неудачная — клева практически не было. Константин уже вознамерился собрать удочки да потихоньку податься в свой терем, горделиво высившийся за каменными стенами Ряжска, но тут его внимание привлек спор одного из правнуков и какого-то босоногого деревенского мальчишки.
— Я — князь! — наскакивал маленький Константин Николаевич, или попросту Костя — какие там в шесть лет Николаевичи.
— Я тоже князь! — не сдавался босоногий.
— Какой ты князь? Мой дед ими… ипи… — Но, поняв, что выговорить это слово он не сможет, Костя махнул рукой и выпалил по-старому: — Почти царь он! Вот!
— А у меня отец — князь, стало быть, и я князь! — рассудительно отвечал мальчишка.
— А чего же он даже на обувку тебе гривенок пожалел? — насмешливо ткнул пальцем Костя на босые ноги.
— Потому как он погиб, — грустно ответил мальчик.
Константин прислушался повнимательнее.
— И мой погиб, — заявил Костя. — А ты бы своему деду сказал. Он бы враз тебе купил. — И похвастался: — Мой дед мне все покупает. Знаешь, кто он? Царевич! — выпалил и замер, но мальчишка спокойно заметил в ответ:
— А мой дед зато — государь всея Руси. Он ныне вовсе императором речется, — трудное слово выговорилось им легко, без запинки, в отличие от Кости, который вечно с ним путался.
Последнее юному княжичу показалось обиднее всего.
— Лжа это, — заявил он безапелляционно. — Бона, дед-то мой стоит, он сейчас тебе сам скажет, — указал он на Константина, которого называл дедом, как и Святослава.
Трудно сказать, чем бы закончилось дело, потому что никто из спорщиков не собирался уступать, но тут в разговор вмешался Константин:
— А ну-ка давай домой, а то простынешь. Холодом несет с речки, — строго заметил он правнуку и, дождавшись его ухода, поинтересовался у босоногого мальца:
— А звать-то тебя как, княжич?
— Истислав я, — мальчишка гордо вскинул голову.
— А отца как кликали?
— Святозаром Константиновичем, — отчеканил тот.
— А мать?
— Миленой. В крещении-то Пелагеей нарекли, но в селе как-то уж привыкли Миленой звать, — рассудительно ответил мальчишка и похвастался: — Она у меня рукодельница знатная. Такие узоры на рубахах вышить может — впору императору носить.
— Вон как, — протянул Константин.
Значит, не утерпела девка. Даже свадьбы не дождалась.
«А может, оно и к лучшему, что без свадьбы? — мелькнула мыслишка. — Ну что вот ему с ним делать, когда у отца такая слава? Хотя все равно родной внук, как ни крути. Хоть чем-то, да надо помочь. Пусть не самому, а через людей. Вот только Милену придется предупредить, чтоб много мальцу не рассказывала, а это уже придется сделать лично».
Он вздохнул и с тоской посмотрел на удочку — рыбалка явно срывалась, хотя все равно клева нет, так что…
— Далеко живешь-то? — спросил задумчиво.
— Сельцо отсель в десяти верстах, — ответил малец.
— Чего ж ты так далеко забрел? — полюбопытствовал Константин.
— Люди сказывали, что ныне здесь сам государь остановился, — заметил тот. — Вот я и не утерпел. Уж больно глянуть хотелось… Чай дед родной. Мне бы одним глазком. А тут окромя этого княжича, ну и тебя еще, и нет никого. — И полюбопытствовал: — Так ежели тебя ентот княжич дедом называл, выходит, ты и есть царевич?
— Ну что ты, — улыбнулся Константин. — Сам посуди — ну какой из меня царевич?
Истислав критически оглядел императора и кивнул, соглашаясь:
— И правда. Царевичи такую одежку не нашивают, — разочарованно заметил он.
О том, кто стоит пред ним, вряд ли догадался бы и взрослый человек. Признать в просто одетом пожилом мужчине государя всея Руси и впрямь было затруднительно. Просторные штаны, заправленные в сапоги мягкой булгарской юфти, обычная синяя рубаха, нехитрая снедь, разложенная неподалеку и заботливо укрытая белой тряпицей. Ну как тут опознаешь императора?
Ни короны на челе, ни серебра, ни жемчугов. Один лишь золотой перстень на мизинце правой руки да обручальное кольцо на безымянном пальце левой, как память о безвременно усопшей княгине Ростиславе, — вот и все украшения. Был, правда, еще золотой нательный крест, богато украшенный драгоценными камнями, но он потому и называется нательным, что скрывается от посторонних глаз под рубахой.
«Нет, точно надо заглянуть к этой Милене», — окончательно решил Константин. Он потрепал мальчишке вихры и улыбнулся:
— Видел я государя, и не раз. Я тебе о нем по дороге расскажу. Мне как раз хорошая рубаха нужна, а тут ты с матерью-рукодельницей. Выходит — судьба. Ты меня проводи к себе домой. Хочу твоей Милене заказать. Только пешими мы до вечера топать будем, так что давай-ка вон у тех ратников попросим — глядишь, и дадут по лошадке.
Мальчик посмотрел на двух нарядных телохранителей, стоящих в двадцати шагах от них, после чего вновь окинул скептическим взглядом одеяние мужика.
— Попросить-то можно, — протянул он с сомнением. — Дадут ли? Вон какие они баские[168].
— А мы хорошо попросим, с вежеством, — улыбнулся Константин, направляясь к телохранителям. — Я им про узоры на рубахах расскажу, так они и подобреют. Глядишь, и себе такие же закажут.
По дороге разговор продолжался. Мальчишка, довольный тем, что нашел для матери заказ, да не один, а сразу три, поскольку нарядных ратников этот просто одетый мужичок тоже сумел соблазнить поехать за рубахами с дивными узорами, болтал без умолку. Лишь когда вдали показалась околица села, он посерьезнел и попросил Константина:
— Ты вот что, человек хороший, не проболтайся маманьке-то о том, что я тебе про отца наговорил. Она ведь мне про него и вовсе ничего не сказывала. Это я сам слыхал, как она с дедом о нем разговаривала. И о батюшке, и о государе. А после, как прознала, что я все это слыхал, строго-настрого повелела помалкивать, чтоб ни одна жива душа о том не дозналась. Я, вишь, даже своим-то ребятам в селе о том не сказывал, это уж с княжичем не сдержался… И то — ежели бы он похваляться не удумал, то и я бы слова не проронил.
— Отлупит мать-то, если узнает? — заметил Константин.
— Она?! Да меня маманя пальцем никогда не трогала! — возмутился Истислав. — Она у меня знаешь какая добрая?! Ой, да вон и она!
Милена в это время, стоя у крыльца какой-то лачужки, снимала с коромысла две деревянные бадейки с водой. Неприязненное чувство к простой бабе, ухитрившейся соблазнить его сына, у Константина к тому времени прошло, так что смотрел он на нее без какой бы то ни было вражды.
К тому же женщина ему понравилась. Спокойное округлое лицо, добрые глаза, волосы, аккуратно спрятанные под кику, — все в ней дышало каким-то спокойствием и умиротворением.
А вот жила она бедновато. Ветхая избушка выглядела не просто убого — дышала на ладан. Казалось, обопрись о бревенчатый угол плечом, и она тут же рухнет, рассыпавшись на трухлявые бревна.
«Гривенки-то у нее были — батюшка пред отъездом оставил, — вспомнились ему слова Истислава, сказанные по пути. — Только дед сильно хворал, вот они все и ушли на знахарок. Опять же тетка у меня малая вовсе, и уй[169] тож годами не вышел, а старший брательник маманин воротился из-под Медвежьего урочища и вовсе плохой. Нынче-то оклемался, да все едино — не работник он покамест. Вот и выходит, что ей одной за всех горб гнуть надобно. Такой вот жеребий выпал».
По одежде Милены было ясно, что судьба действительно не баловала женщину. Все чистенькое, опрятное, но латаное-перелатаное. На одном сарафане можно было насчитать не меньше десятка разноцветных заплаток.
По-прежнему осторожно присматриваясь и не торопясь выдавать себя, Константин завел речь о заказе. Ми лена охотно согласилась, но, узнав, что у заказчика нет даже самой рубахи, которую надо расшить, замялась.
— Ежели покупать надобно, то мне бы вперед немного, — несмело попросила она.
За работу женщина затребовала недорого, можно даже сказать — дешево. Немного подумав, Константин попросил ее управиться побыстрее, денька за три. И опять Милена удивила его, увеличив цену совсем чуть-чуть, строго на стоимость свечей, которые ей придется жечь ночью, чтобы управиться ко времени.
— Так не пойдет, — заметил Константин. — Глаза устанут, опять же дорога ложка к обеду, а за дорогую ложку и платить надо иначе. Словом, вдвое отдам, коли управишься.
Уезжая, он заговорщически подмигнул Истиславу, мол, помню и молчу, на что тот, прижавшись к матери, благодарно улыбнулся в ответ.
Через три дня Константин вновь стоял возле убогой лачуги. Телохранителей он взял прежних, чтобы Милена чего не заподозрила, хотя была не их очередь. Он еще не знал, что будет делать дальше и о чем говорить с ней, но все разрешилось само собой, едва государь взглянул на свой заказ.
На красной рубахе спереди жарким пламенем горело желтое солнце, а на его фоне гордо вздымал крылья белый сокол Рюриковичей, цепко сжимая в когтях прямой русский меч. Словом, вышивка как две капли воды напоминала изображение на государевых стягах. А вот на рубахах синего цвета для телохранителей сокола не имелось, хотя сама вышивка тоже была знатная, с выдумкой и несомненным вкусом.
— Не по чину твоим людям будет, — пояснила Милена причину различий, не дожидаясь вопроса. — Такое токмо тебе нашивать, государь-батюшка.
— Как же ты разглядела, глазастая? — подивился польщенный Константин.
— Да понять нетрудно, — лукаво улыбнулась Милена. — За кем же еще на Руси ратники следовать могут? Опять же брат мой тебя в оконце узрел. Правда, лишь перед самым твоим отъездом, так что даже поздоровкаться не успел, но меня известил.
А вот гривны за этот труд она брать отказалась. Наотрез. За две рубахи для дружинников взяла, а за эту — нет.
— Коли ты и впрямь желаешь уплатить, государь, то заставь прикусить языки тех поганцев, кои о Святозаре — твоем сыне и моем венчанном супруге, лжу погану распускают. Тогда и в расчете со мной будешь.
— Сама ведаешь, что тут я не в силах, — сконфуженно развел руками Константин. — К тому же нет дыма без огня. Есть люди, которые собственными глазами видели, как он на пиру с басурманами гулял и как врата у Яика открыть повелел, а когда поганые народ христианский резать принялись, смеялся весело.
— Да брешут они, как мерины сивые! — воскликнула женщина.
— Знала бы ты этих видоков, так тоже поверила бы, — угрюмо произнес Константин. — А теперь что сделаешь. Добрая слава на вратах весит, а дурная — по белу свету бежит. Думаешь, у меня сердце кровью не обливается, когда мои люди доносят о том, как его в народе величают?! — И горько усмехнулся. — Это раньше он в Святозарах ходил, а ныне его и Иудой, и Каином, и Святополком Окаянным прозывают. Гусляры уже такое наплели — хоть за голову хватайся. Не слыхала?
— Вот еще! И слушать не желаю! — строго поджала губы женщина.
— А что ты там про венчание-то говорила? — уточнил Константин. — Насколько я помню, Святозар, после того как благословение у меня испросил, из Оренбурга никуда не уезжал. Когда это вы успели?
— Да в Угличе, — просто ответила Милена. — Приезжал он с тех рубежей как-то, вот и утянул под венец.
— Утянул, — усмехнулся Константин. — Будто бы ты сама не хотела.
— Без благословения — нет! — резко мотнула головой Милена, и Константин почему-то поверил ей. — Да уж больно горячо он уверял, что не устоит государь супротив сыновней просьбишки. А чтоб никто тебе до поры до времени не донес, мы с родней сразу после венчания сюда перебрались. Святозар-то, касатик мой, всю дорогу уверял, что батюшка-де век гневаться не станет, сменит его на милость, да, видать, не успел, — вздохнула она.
«То-то он, приехав на побывку, сразу в Углич подался, — припомнил Константин. — Теперь понятно зачем».
— Успел Святозар, — нехотя откликнулся он. — И разрешил я ему. А где венчались-то хоть? — уточнил, меняя тему.
— В церкви Всех святителей. Святозар еще шут-ковал, мол, не один отец Никодим, а все святители нас благословляют. Так что быть нам вместе до старости, пока всех внуков и правнуков не поженим, а помрем — так в один день, чтоб никто погоревать не успел. Да не вышло по его-то, — и глаза Милены наполнились слезами.
«Ну прямо Александр Грин! — возмущался Константин на обратном пути. — И умерли они в один день… Тьфу! И что теперь делать?! Гривны брать отказалась, помощь тоже не приняла. Скажите, пожалуйста, какие мы гордые! Пока длинные языки не отрежу — ничего ей от меня не надо. Вот же дурная баба! Ее послушать, так у меня вся Русь немой должна стать. Ну и пусть живет как знает! Подумаешь, цаца выискалась!»
Однако, вернувшись в Рязань, он первым делом вызвал к себе Любомира и насовал ему кучу тайных поручений. Сюда входило и строительство нового просторного дома — нечего семье в хибаре ютиться, и отправка в селище лучших лекарей. Пусть посмотрят ее отца Мудролюба, в крещении нареченного Петром, и брата Первака.
— Максимом его поп назвал, — хмурясь и не глядя на внимательно слушавшего Любомира, зачем-то пояснил он. — Только пусть они поосторожнее с нею будут.
— С кем? — не понял тот.
— С этой, с Пелагеей Петровной или, как там ее — Миленой Мудролюбовной. А переезжать не захочет — о сыне напомни да о маленьких сестре с братом. Поди до сих пор вповалку на одной лавке спят. Да и о Перваке тоже. Ладно сестренка ее, Маша. Она хоть и в невестах бегает, но если что — жить в женихов дом пойдет, а Максиму с Иваном куда деваться? Об этом пусть подумает. Гривен она от меня не берет, так что ты уж как-нибудь в обход зайди — заказов ей подороже напихай, что ли. Ну, тут не мне тебя учить. Помню я, какие коленца ты выкидывал, когда я с матерью Святозара встречался.
Отпустив его, он направился к патриарху, и тоже с просьбой. На сей раз она касалась учебы маленького Истислава.
— Ты уж расстарайся. Священника на тот приход поставь из числа самых лучших учителей.
— Давно пора, — откликнулся владыка Мефодий. — Сам сказывал, когда сыновей беглых князей на службу брал — что, мол, сын за отца не в ответе.
— А ты теперь это с амвона скажи! — неожиданно для самого себя озлился Константин. — И не мне, а народу. Вон прямо в храме Святой Софии! Заставь народ заткнуться, а я посмотрю, как оно у тебя получится!
— Злопыхателей и я не уйму, — строго ответил патриарх. — Одначе, сын мой, кручиниться о том тоже не след. Гоже ли с оглядкой на эти разговоры жить?
— Был бы я купец какой-нибудь или еще кто — это одно. А так получается, что не на мне пятно, а на всем роду. Получается, что в сына плюют, а утираться мне приходится. А главное, справедливо ли — вот в чем вопрос?! Там же до сих пор многое неясно, — и тут же уточнил: — Мне, во всяком случае. Я, ну хоть убей, все равно не могу поверить, что он предал! Не укладывается у меня в голове, и все тут! Не такой это был человек! — Он уже не говорил — почти кричал, сам того не сознавая.
— Ты чего раскипятился-то? — добродушным тоном спросил патриарх.
— Да оттого, что не верю, еще больше обидно становится, — тоскливо, но уже тихо произнес Константин. — Не столько за себя, сколько за него. Знаешь, владыка, я ведь как о нем подумаю, аж сердце щемит, будто кто-то там мечом орудует.
— Раны душевные завсегда самые тяжкие, — вздохнул Мефодий. — А ты думал, тебя жизнь все время пряниками медовыми кормить станет?
— Пряники не пряники, но и полыни я тоже вроде как не заслужил. А уж он тем паче. Может, на самом деле он…
— Ты людям веришь, кои о нем сказывали? — перебил патриарх.
— В том-то и беда, что верю. Не болтуны пустопорожние. После того как все закончилось, я с ними не раз говорил, все уточнял, как и что было. Тут сомнений нет — и впрямь видели они это. Но верю… головой, душой же — нет.
Помощь, которую упрямая Милена отвергала, все равно удавалось всучить ей обходными путями. Любомир старался на совесть. Правда, отца ее вылечить не удалось — слишком запущенной оказалась болезнь. Зато красавец Максим выздоровел, был призван на службу в царскую дружину и через десяток лет мог похвастаться знатным потомством — дочками Надеждой, Риммой, Татьяной, Евгенией, да еще сыном Александром. Маша вышла замуж, да не за смерда, а за сына именитого боярина Козлика, и тоже в скором времени обзавелась детишками. Одного из них — Сергея — крестил сам Константин, а другого — Андрея — царевич Святослав. Подросшего Ивана после учебы Константин тоже определил к посольскому делу.
Словом, все жили счастливо, вот только Милена — сколько бы ни сватались за нее — отвечала на все предложения решительным отказом. А женихов и впрямь хоть отбавляй — каждому лестно было взять в жены бывшую невестку императора. Однако та держалась стойко, а на откровенный вопрос Константина, который он ей как-то задал, ответила столь же откровенно:
— Мне после Святозара весь свет постыл. Если бы он живую памятку по себе не оставил, то как знать — была ли бы я жива. — И, улыбнувшись лукаво, не утерпела, чтобы не съязвить: — Опять же честь берегу. Негоже жене князя и сына императора вдугорядь за кого-нибудь саном пониже замуж выходить.
Истислав же оказался настолько смышленым мальчишкой, что Константин даже колебался — куда его приткнуть. Разве что посольское дело отпадало — уж больно он иноземными языками тяготился, а в остальном на лету хватал. К тому же был он не просто смышленым, но и сдержанным. О том, что его отец — князь, и не заикался никогда.
Да с другой стороны, и хвалиться-то было нечем.
«Если князь, так назови имя», — заметят ему. А что они скажут, когда услышат это имя, угадать несложно. Хотя мальчишка пошел в мать — такой же упрямый и не верящий в предательство отца.
А годы шли, да что там — бежали. Римский первосвященник больше не созывал святое воинство на русских схизматиков, посчитав, что лучше иметь живых сторонников, чем мертвых. К тому же новому папе Иннокентию IV, пришедшему к власти в 1243 году, хватало иных забот.
После того как папское войско под водительством кардинала Райнера из Витербо безжалостно вырезало все германские отряды, находившиеся в Центральной Италии, Иннокентий IV, опасаясь мести со стороны императора Священной Римской империи Фридриха II, укрылся во Франции. Там он и созвал XIII Вселенский собор, он же I Лионский, на котором в очередной раз предал императора анафеме, объявил его низложенным и призвал подданных не подчиняться ему.
Словом, крестовый поход был объявлен, но против Фридриха, хотя даже с этим у папы ничего не получилось. Тогда он накинулся на еретиков, одобрив применение к ним пыток и смертной казни, а в своем декрете потребовал даже от детей доносить на своих родителей.
Кроме того, пытаясь упрочить свои позиции, он направил в Каракорум посольство во главе с опытным дипломатом Плано Карпини, но и там его поджидала неудача. Константин не зря столько времени работал с Гуюком, формируя его отношение к разным ветвям христианства.
К тому же католики из разных рыцарских орденов почти поголовно поддерживали египетского султана, на что не раз жаловался великому каану джи-хангир Менгу, руководивший походом на Ближний Восток. Это обстоятельство тоже не могло вызвать симпатий, и более того — оно на практике подтверждало слова Константина о том, что правители франкских государств лживы и монголов не любят.
Последнюю попытку натравить саму Русь на монголов сделал следующий папа — Александр IV, но напоролся на дикое непонимание своих проблем со стороны окаянных схизматиков, искренне недоумевавших, с какого перепуга они должны проливать кровь из-за интересов какой-то там Европы и какого-то папы римского.
Вторая просьба папы — помочь богоугодному делу войны с монголами хотя бы деньгами — тоже не дала положительного результата. Константин в очередной раз развел руками и заявил, что готов дать им не десять тысяч гривен, что они просят, а гораздо больше, но… только после удовлетворения последнего из интересов жителей самой Руси.
На свою беду, Александр не угомонился и решил немножечко пошантажировать императора тем обстоятельством, что этот титул римский первосвященник ему не присваивал. Так что он получался вроде бы как не совсем законный, а вот если царь русичей поможет своим единоверцам, то глава католической церкви незамедлительно пришлет своего легата, и тот проведет должный обряд по возведению государя Руси в императорское достоинство. Об этом заявили новые послы римского первосвященника.
В ответ Константин немедленно напомнил им, что испокон веков на византийских императоров корону возлагали патриархи Константинополя, а не какие-то там захудалые епископы, уныло сидящие на развалинах Рима. Учитывая, что духовный владыка Константинополя давным-давно возвел в точно такой же сан митрополита всея Руси Мефодия, который и венчал Константина императорской короной, титул его самый что ни на есть законный.
И вообще, император всея Руси считает кощунством и ересью, когда человек провозглашает себя даже не преемником апостола Петра, а наместником Христа[170]. Он, государь, может сквозь пальцы смотреть на заблуждающихся в вере, но с такими страшными еретиками, как римские папы, ему знаться отвратно.
Взашей послов не гнали, но они сами поняли, что еще немного, и их пребывание закончится именно этим, и благополучно ретировались.
Получив такие неутешительные сведения, папа на всякий случай еще раз проклял неуступчивого схизматика, как пособника монголов, служивших дьяволу, и тут же махнул на него рукой, устремив свой взор на Сицилию, бесхозную после смерти императора.
На восточных рубежах Руси теперь тоже царила тишина. После того как Шейбани своими силами учинил бесславный набег на заводы, стоящие на Урале, Константин велел воеводе собирать войско.
Ответный поход оказался успешным во всех отношениях. Константин получил огромные ханские табуны и спокойную — потому что обескровленную — степь от Тобола до Аральского моря. Отпор, который попытался дать хан, закончился не поражением и даже не разгромом, а настоящим побоищем. У Вячеслава Михайловича теперь уже хватало конницы, и он устроил монголам полное окружение.
Изо всего войска Шейбани уцелело не больше нескольких тысяч, которые попали в плен и были по дешевке проданы в Корчеве, благо египетский султан усиленно искал замену погибшим мамлюкам. Сам Шейбани уцелел лишь благодаря инициативе нукеров личной охраны, которые, не долго думая, чуть ли не насильно уволокли хана с поля боя.
Шейбани попытался пожаловаться в Каракорум, но там давно было не до Руси. Вспыхнуло там не сразу после смерти Гуюка. Поначалу чингизиды пытались мирно договориться между собой, но эмиссары Константина не зря совершали неустанные поездки к потомкам сыновей Чингисхана, которые и без того не испытывали друг к дружке особого доверия.
Если бы не русские послы, которые вовремя подкинули детям и внукам Чагатая идею объединения с потомством Угедея, то Менгу и его братья Хулагу и Хубилай взяли бы верх достаточно легко. Но после объединения остальных улусов силы сторон практически уравнялись, и теперь не проходило и двух-трех лет, как огромные полчища, насчитывающие по пять, шесть, а то и десять туменов каждое, сходились в ожесточенной сече и старательно рубили друг друга.
Воистину, самая жестокая вражда всегда бывает именно между родичами. Но что интересно, каждый из противников при этом считал Русь своей союзницей, пусть и пассивной.
Словом, на Шейбани грозно цыкнули, заявив, что он сам виноват, и ткнули пальцем в Орду-ичена, мирно кочующего по Иртышу и его притокам. Мол, бери пример с брата. Он Русь не трогает, и она его тоже. Хочешь — поучись, не хочешь — воюй дальше, но мы тебе не помощники.
А время все так же неслось вскачь, тонко намекая, что век любого человека не беспределен. У Константина эти намеки были связаны с участившимся сердцебиением, тупой болью в правом боку и… Впрочем, перечислять все старческие болячки — дело муторное, да оно нам ни к чему.
Но он еще бодрился и хорохорился, хотя уже пришлось отказаться и от утреннего кофе, и от копченого сала, употребляя вместо них горькие настои и противно пахнущие снадобья. Неравноценная замена, что и говорить, но, когда прижмет, деваться некуда.
«Мне помирать никак нельзя, пока я Русь в надежные руки не передам, — все чаще говорил он своим ближайшим сподвижникам из числа тех, с кем начинал и кого еще не унесло в неизведанные края безжалостное время.
Те согласно кивали, но Константина ни о чем не спрашивали. А зачем, коль все равно не ответит — на распутье государь после внезапной смерти старшего сына Святослава, происшедшей пять лет назад. Так пока и не определился — то ли кого-то из Святославичей властью наделить, то есть внука выбрать, то ли из Николаевичей — старшего правнука.
Первые вроде в самой силе — по тридцати с лишним годков, но характер смущал. И напористые, да излиха, и решительные, но с перебором, а главное — власть не в меру любят. Для хорошего правителя, как Константин считал, она в какой-то степени бременем быть должна, тяготить, а для них, особенно для самого старшего — Вячеслава, она сладостью сплошной виделась.
Константин же, старший покойного внука Николая, вроде бы получше будет, но уж больно молод — и двадцати трех лет нет. Вот и думай, государь, да не промахнись, чтоб потом за твою ошибку людям платить не пришлось.
Тот день выдался обычным, будничным. Таким он и был до самого полудня, а потом государю доложили, что прибыл отец Евлампий, причем не один, а вместе с Иваном, сыном вождя племени кайы.
— Это какой же Иван? — нахмурился Константин.
Велимир, исполнявший обязанности императорского секретаря, помянул про себя недобрым словом рассеянность государя, усилившуюся за последние годы, и тут же уточнил, что имеется в виду Осман, первенец Эрторгула.
— Ого, какой путь проделали, — присвистнул Константин и распорядился: — Зови.
Гости были не на шутку озабочены, оттого рассказ их получился несколько сбивчивым, так что Константину приходилось несколько раз переспрашивать и уточнять.
Наконец он выжал из них все возможное и откинулся назад, прижимая голову к высокой резной спинке своего любимого кресла и вспоминая, как два года назад Истислав засобирался в дальние края, в сторону крепости Яика.
— Меня имя обязывает, государь, — твердо произнес он, поясняя причину отъезда.
— Ищущий истину, — слабо улыбнулся Константин. — Ну что ж, ищи, авось и вправду что-нибудь получится.
Не получилось. Что-либо нового о Святозаре его сын так и не узнал. Но это так думал тогда сам Истислав, а оказывается….
— Стало быть, этот священник засвидетельствовать свои слова не сможет, — произнес он задумчиво.
— Опосля того яко узрел он Истислава, Иоанн, который отец Анастасий, не вмиг все вспомнил. Силился, да не выходило у него никак. Учал он задумываться часто, оттого и тяжкие боли в голове приключились, от коих он и слег. В себя же пришел и вспомнил все лишь в краткий час перед кончиной. Успел лишь позвать Османа Эрторгуловича да меня, опосля чего отец Анастасий покинул земную юдоль, — в очередной раз повторил отец Евлампий. — И окромя нас на оную речь послухов нет. Может, мы…
В голове у Константина тоненько звенел какой-то назойливый комар, перед глазами все плыло в неспешном танце-хороводе, но он нашел в себе силы, чтобы отменить предложение священника.
— Погоди, отче. Вначале огласить о невиновности Святозара, равно как и о его славной кончине, должен я сам, и не с амвона Святой Софии — это как раз сделает патриарх — но на государевом совете. Мне, родному отцу, не поверившему, но смирившемуся с тем, что Святозар — изменник, надлежит сделать это первым. Ну а уж потом… дойдет… черед и… до тебя, а пока… — и Константин закрыл глаза.
Гости поначалу даже не поняли, что с ним, терпеливо дожидаясь продолжения речи. Лишь через несколько минут им стало ясно, что дело неладно.
Уже к вечеру о тяжкой болезни государя судачили все жители стольной Рязани. Заволновались и иноземные послы — им-то что делать? Но дипломатов успокоил Велимир. К вечеру следующего дня он объявил им, что император уже пришел в себя и причин для тревоги нет, а то, что Константин Владимирович и впрямь пошел на поправку, подтверждает его запрет на отмену или перенос государева совета, который пройдет даже ранее назначенного срока. Словом, ждите, гости дорогие, и ни о чем не печальтесь.
— Ныне он даже с бумагами работал и грамотку мне надиктовал, — прибавил секретарь для вящей убедительности.
Тут, правда, Велимир немного загнул. Единственное предложение, надиктованное ему императором, было коротким, хотя выговаривал он его непослушным языком битых полчаса. Заключалось оно всего в пяти словах: «Ты была права! Прости, княгиня».
А куда везти грамотку, государь вымолвить уже не мог. Хорошо, что рядом оказался верховный воевода. Он-то и подсказал. В тот же день нарочный немедля ускакал с посланием в селище под Ряжском. Константин же после того лежал чуть ли не полдня недвижимым, потому что даже этот простой труд, судя по всему, выжал из него все силы до донышка.
Но дни шли, и здоровье императора вроде бы стало налаживаться, а уж надолго ли — бог весть.
* * *
Представился Иоанн, прозванием Осман, старец добрый, в старости мастите; жив по закону божью, не хужий бе первых праведник, от него же и аз иные словеса о князи Святозаре слыша и вписах в летописании сем.
Из Владимирско-Пименовской летописи 1256 года Издание Российской академии наук. СПб., 1760* * *
Разумеется, любому человеку, мало-мальски разбирающемуся в истории, понятно, что весь этот рассказ о героическом поступке князя Святозара шит белыми нитками. Какой-то священник, уцелевший после взрыва крепости, но потерявший память, внезапно смотрит на сына Святозара и якобы все вспоминает, но тут же умирает, едва успев рассказать о героизме младшего сына императора.
Здесь столько несуразностей и натянутостей, что только легковерный человек вроде моих белгородских и санкт-петербургских коллег слепо поверит в эту придумку, больше напоминающую плохонький исторический романчик.
Впрочем, отмечу, что с задачей обелить Святозара послушные царю летописцы справились достаточно успешно, а вот высшее духовенство, по всей видимости, воспротивилось этой заведомой лжи, в которую для достоверности попытались включить одного из священников. Не потому ли и слег император, что встретил упорное сопротивление своему замыслу?
Не берусь утверждать это наверняка, однако все подтверждает мой вывод. Даже в своей семье Константин нашел поддержку далеко не у всех. Причем противодействие было столь упорным, что стало причиной затяжного конфликта, если не сказать больше, который в дальнейшем в изрядной степени ослабил Русь.
Албул О. А. Наиболее полная история российской государственности. Т. 3, с. 304. СПб., 1830Глава 22 Право на «приговор»
Спи, родной, сомкни ресницы, Кончен грозный счет. Перевернуты страницы, Дальше жизнь течет. Что-то мы с тобой свершили, Что-то — не смогли… Спи, родной, раскинув крылья, На груди земли. Мария СеменоваВ главной зале императорского дворца, где за огромным вытянутым столом, размещенным строго по центру, должно было состояться очередное заседание государева совета, постепенно скапливалось напряжение — Константин Владимирович запаздывал.
«Уж не случилось ли чего, — полз по залу опасливый шепот. — Раньше за ним такого никогда не водилось», — и все тревожно поглядывали на часы — последнюю новинку, созданную Михал Юрьичем и неким арапом, прибывшим из далекого Багдада.
Звали арапа Нур-ад-дином, но русичи живенько переиначили это сложное и неудобопроизносимое прозвище. Был Нур-ад-дин, а стал Нуда Дивович. А что? Подходит как нельзя лучше. Нуда ведь неволю означает, а диво тоже в строку. Больно уж ловок чужеземец до всякой чудной невидальщины. Глянешь и подивишься.
Взять хоть те же часы. Вон они, стоят в углу. Огромные, один циферблат в два аршина, с арапской же цифирью по кругу. Хотя какая она там арапская — давно уже русская. А на самом верху небольшая дырка. Каждое утро особый человек, специально обученный и приставленный к ним, вставляет в эту дыру большой ключ и делает ровно двенадцать оборотов — заводит, стало быть.
Диво еще и в том, что и стрелки и цифирь у этих часов светятся. И сам свет какой-то холодный, зеленоватый, бр-р-р. Злые языки поначалу поговаривали, что здесь не обошлось без нечистой силы, что басурманин, кой их сотворил, наверняка с бесами дружбу водит. Свечение же колдовское исходит из глаз черта, который в них вселился, а ныне, после того, как их освятил патриарх Мефодий, не имеет силы вырваться, потому и злобствует, бельмами своими зыркая.
Но ближайшие сподвижники императора, да и весь народ, были твердо уверены в том, что свечение исходит от той святости, кою пролил на них владыка во время свершения обряда. Поэтому часы за все пять лет еще ни разу не останавливались, за исключением одного раза о прошлом годе, когда Мефодий I покинул сей бренный мир. Да и то разбиравшийся с ними Нуда Дивович так и не сыскал поломки, а после того, как качнул маятник, они пошли опять как ни в чем не бывало.
Вот и сейчас, представляя собой разительную противоположность тревожному настроению собравшихся в зале, они невозмутимо и хладнокровно отсчитывали минуту за минутой, неопровержимо свидетельствуя, что опоздание императора затянулось уже на полчаса. Опасения между тем нарастали.
К тому же многие члены совета знали, что вчера у постели государя собрались, почитай, все лучшие лекари. Был там и Арни из Вильно, и Михайло Большой из Галича, и его младший брат Петро Малый из Ростова, словом, все именитые выученики Добро-гневы Будиславовны и Мойши Абрамовича. После осмотра императора лекари уединились в комнате, смежной с опочивальней, где провели часа два — все судили да рядили. Что уж там они после поведали государю — никто из слуг не услыхал, но выходили они из дворца озабоченные и невеселые.
Тревогу усугубляла и непривычная угрюмость левой руки императора Николая Валериановича Панина, который, невзирая на свое прозвище Торопыга, ныне никуда не поспешал, а молча сидел на своем почетном месте и, ни на кого не глядючи, думку думал. Какую? А ты поди да сам спроси. Не желаешь? То-то. Да он все одно не скажет.
На первый взгляд Торопыга вроде был спокоен, но если присмотреться повнимательнее к нервно подрагивающим пальцам, безостановочно скользившим по краю именного серебряного кубка, о-о-о, тут многое можно предположить, в том числе и самое страшное. Нет, о том говорить не будем — известно ведь, стоит вслух о беде сказать, как она мигом на зов заявится.
Ни с кем не заговаривал и его брат Алексий. Если кто к нему и обращался, то он отвечал односложно и таким тоном, что у вопрошавшего мигом отпадала охота продолжать разговор.
К тому же отсутствовал и верховный воевода князь Вячеслав Михайлович — правая рука императора, который поутру был в тереме, как некоторые ревнители старины величали императорский дворец, но потом где-то затерялся.
И ведь не было не только единственного человека, которого властитель Руси — неслыханное раньше дело — за величайшие заслуги одарил княжеским титулом. Отсутствовал в просторной зале и еще один, которого за глаза, а придворные льстецы подчас и в глаза, говоря между собой в его присутствии, да так, чтобы он слышал, называли Константином Вторым. И тут неясно. Было доподлинно известно, что старший правнук императора и наследник его престола находится во дворце, но почему его до сих пор здесь нет — неведомо.
Зато меж собравшимися сидел редкий гость — Осман Эрторгулович, который две недели назад зачем-то прибыл из своих степей, да так и остался гостить у Константина Владимировича. Он не был членом совета, но присутствовал. Очевидно, был приглашен.
Рядом с ним тихо сидел еще один человек, ликом почти мальчишка. О нем и вовсе разговор особый. Хоть он и был внуком императора, но — как бы это повежливее сказать? — с родителями у парня оказия, а ежели впрямую молвить — вовсе худо.
Мать из какого-то селища родом, дочка смерда простого. Но это еще куда ни шло. Таких в зале и без него немало, почитай, поболе половины. Но вот батюшка его хоть и князь, да такой, что… Словом, Святозаров отпрыск это. Да-да, того самого Святозара, о котором и вспоминать-то негоже.
Конечно, сын за отца не в ответе. Об этом и сам государь не раз говорил. Но народная молва по-своему судит. «Яблочко от яблоньки…» — шептали люди. Святозар-то князь тоже и ликом был пригож, и удал, и умишком господь одарил, не обидел, ан вон что учудил. Потому, когда на Истислава указывали, то на вопрос: «А чей сынок-то?» — чаще отвечали, поминая не отца, а мать — Миленин он.
Почто его ныне сам государь сюда призвал — неведомо, а Истислава спросить — так, может, он и сам того не знает. По виду же его и вовсе ничего не поймешь — сидит скромно, глаза долу потуплены, в смущении, стало быть, пребывает. Чай редко ему доводится в тереме у деда бывать. Хотя нет, совсем недавно, когда государь занедужил, встречали его в нем, но одно дело — болезного Константина Воло-димеровича навестить, яко родича своего, и совсем иное — в зале этой очутиться.
Так это что ж получается? Никак снял остуду со своего сердца на непутевого сына наш государь? К чему бы оно? Говорят, что человек перед своим смертным часом… Неужто и впрямь все так худо?! Ох, не дай господь!
Ну да хватит о том, потому как наконец-то появился престолонаследник Константин Николич, да не один, а вместе с патриархом. Вот только вышли они не из тех дверей, через которые обычно сюда проходят, а из других, что с верхних покоев императора в залу ведет. Хорошо, если духовный владыка всея Руси причастил Константина Владимировича, а ну как соборовал?[171] И как тут не тревожиться, скажите на милость?!
Да и ступает патриарх тяжело, точь-в-точь как почивший в бозе владыка Мефодий. Но тому восемь десятков было — годы, а этот молодой еще. Не зря в народе говорят, что иная беда тяжелее прожитых лет к земле давит. Беда же у него ныне только одна может быть. Вот и думай тут, терзайся в догадках.
Да мало того. Вопреки обыкновению, Иоанн занял не свое скромное кресло в середине всех прочих, кое облюбовал себе еще три десятка лет назад владыка Мефодий, а прошел гораздо далее, к тронному. Чуть постояв близ него в нерешительности, он властно поднял руку, призывая всех присутствующих к вниманию. Такого тоже никогда не бывало ранее. Да и жестом этим пользовался только сам император.
В наступившей тишине Иоанн I негромко произнес:
— Государь ныне занемог, однако обещал сойти позднее, повелев начинать без него. Пока же его нет, править делами заповедал своему наследнику Константину Николаичу, — и патриарх указал царевичу на пустующее кресло императора.
Тот несколько помедлил, но затем, словно решившись, как-то неловко, боком, протиснулся и даже не уселся, а скорее плюхнулся в него. В иное время это вызвало бы сдержанные улыбки недоброжелателей, искусно прячущиеся в усах и бороде, но только не теперь. Какая разница, как он сел, гораздо важнее — куда.
И до этого дня в последние годы бывало, что в случаях, когда государь отсутствовал, его правнук, а иногда внук Вячеслав вели совет, но никогда еще они не занимали императорского кресла с высоким подголовником, украшенным причудливой резьбой. Кресло стояло на небольшом возвышении, и сверкающий золотом герб на подголовнике указывал, что сесть на него вправе только сам властитель всея Руси.
Значит, не просто занемог император. Значит — пришло его время. Да и то взять — сколь лет уже он сидит на престоле — как бы не четыре десятка. Хотя точно. Ежели подсчитать, то так оно и выходит — с зимы одна тысяча двести двадцать второго года и по нынешнюю, что уже миновала. Эх, годы, годы. Когда вы успели пролететь белокрылыми птицами и куда?
И чуть ли не все сидящие за длинным дубовым столом посмотрели на царевича совсем другими глазами. Если раньше, когда он вел совет, несогласные в чем-либо успокаивали себя мыслью, что вот вернется государь, выслушает, поймет и переиначит, то теперь надо думать о том, как жить именно с этим, который сейчас так неловко уселся на престол, потому что другого уже не будет.
Страшно-то как, господи…
«С другой стороны взять, — размышляли многие из сидящих, — ежели самим выбирать, так изо всех наследников, пожалуй, лучшего и не сыскать. Возрастом разве что не вышел. Двадцать три годка для правителя такой державы — маловато будет… Не погорячился ли Константин Володимерович со своим выбором? Все-таки в этом царевич своему стрыю Вячеславу уступает, и сильно уступает. Да и не только ему одному, но и прочим Святославичам.
В ином же брать — тут все без изъяна. И ликом пригож, и телом статен, невысок, но кряжист, а что смуглый — не иначе как порода булгарская дала себя знать — так и то не беда. Зато нравом господь не обидел, наделив и вежеством и рассудительностью, коей он еще с младых лет отличался.
Да и отец его не кто иной, как Николай Святославич, погибший двадцать два года назад мученической смертью. То есть и здесь все у него ладно. По матери же он — внук самого хана Абдуллы, верного союзника Руси.
Некоторые пальцем тыкали, мол, неспешен Константин Николаевич на решения. Это и впрямь за ним водится. Но и тут как поглядеть. Такой великой державой править — не семь раз все отмерить надобно, как в народе говорят, а семижды семь. Нет уж, пусть взвешивает да перевешивает по десять раз, нежели наобум поступать, как вожжа под хвост попадет. Чай, за каждым указом живые люди стоят.
Еще говорят, что скуповат правнук. Тут он, пожалуй, и государя переплюнет. Хотя и тут как посмотреть. Эта палка тоже о двух концах. Для державного дела он и своего добра не жалеет. Когда три года назад у степняков падеж скота начался, так он им изрядно подсобил. Вон, того же Османа Эрторгу-ловича спросить, так он расскажет, как Константин целые табуны у соседних кочевых народцев скупал, серебра не жалея.
Понятное дело, что на монастыри да храмы столь щедро, как это его дед Святослав делал, внучок жертвовать не станет. Но от того убыток лишь патриарху да церкви. Так что, может, оно и хорошо, что скуповат, — не пустит добро по ветру.
Опять же до купцов всегда интерес имеет — как, да что, да где, да почем. Вон, даже отдельных писцов завел, дабы они за каждым, кто из дальних стран прибыл, все их байки старательно записывали. И труд их втуне не пропадает — читает царевич эти записи, а иные и не по разу.
Скуповат же он не только на казну, но и на доверие. Сам, всегда и всюду только сам. Совета ни у кого не спросит. Разве что у князя Вячеслава Михайловича, но тут сам бог велел, да еще у Торопыги, Любомира и Евпатия Коловрата, самых ближних из дедова окружения, кои его еще князем Рязанским помнят.
Опять же ровен Николаич к людям, любимчиков у сердца не держит, да и со льстецами суров. Поначалу иные мыслили, что удастся к нему с помощью медоточивых слов в доверие втереться. Слушал-то он их внимательно, не перебивал, не обрывал, пусть не улыбался, но щеки-то розовели. А те и рады стараться — заливались, как соловьи в мае.
Потом же, через полгода-год, раз — и нет их в стольной Рязани. По государеву указу один в глухую крепостцу на западный рубеж подался, второй на север, поближе к вековечным снегам, а третий — то ли в Димитров, то ли в Москву, то ли в Зарайск, но тоже радости мало. Из этакой глухомани навряд когда-нибудь удастся вырваться, если ты не семи пядей во лбу.
Но и тут люди подмечали, что уезжали этаким манером лишь те, кто кроме сладких речей ничего иного и не умел. Тех же, что посмышленее, царевич этой отправкой предупредил — дело делай, а со словесами пустыми не лезь.
Словом, если выбирать из всех прочих, то он, пожалуй, и впрямь получше прочих будет. Если бы не возраст. К тому же у Николаича родных дядьев из-лиха, и все они гораздо постарше. О них тоже забывать не след. Святославичи сызмальства к власти тянутся, и не к малой, которой их дед понемногу наделил. Им большую подавай.
К тому же у них за спиной Болгария. Названия-то созвучны, а места разные. Булгары на Волге, а болгары — на Дунае. Волжане аллаху молятся, а дунайские — православные. И второй корень всех Святославичей, не считая покойного Николая, родителя Константина, именно там. Они ведь тоже, как и покойный болгарский царь Михаил I, на одну половинку Рюриковичи, а на другую — Асени и внуками сразу двум государям доводятся.
Так что есть кому их поддержать. Не войной пойти — где такой безумец сыщется, который длань на Русь поднять осмелится. А вот каверзой какой подсобить или, скажем, серебром — это да.
Опять же прямой резон у болгар имеется. Если Святославичи на великий престол в Рязани не сядут — тогда их собственный непременно в опасности окажется, потому как чтобы дядьев удоволить, сам Константин примется подсоблять им, тем более что и основания к тому есть. Если Святославичи — прямые внуки Иоанна, то Константин Тих, который ныне в Болгарии правит, лишь величает себя Асенем, а разобраться — у него прав-то на престол гораздо меньше, чем у того же Вячеслава.
У самого же Константина таких сильных союзников нет. Его родичи в Волжской Булгарии, ныне сами меж собой перегрызлись. Им самим бы кто помог. Кстати, по слухам, вроде как самый старший из Святославичей — тридцатитрехлетний Вячеслав — год назад и заварил у булгар ту кашу, коя доселе кровавыми пузырями исходит.
Для чего? Да тут и дите разберется. На кого, если что, постарается опереться Константин Николаич? Да на своих братанов[172] по матери. Вот и упредил это старший Святославич. Пусть, мол, они свою силушку промеж себя растратят, чтоб подсобить Константину нечем было. А если сами себе глотки порвут — еще лучше. Тогда можно было бы императору предложить воспользоваться случаем и подсадить на ханское кресло Константина, избавившись таким образом от самого опасного претендента.
Кто знает, может, оно и впрямь лучше стало бы для Руси, если бы Булгария в нее влилась. Но уж больно нехороший способ для этого избрал Вячеслав Святославич. Тот же Константин гораздо умнее бы действовал. Медленнее — это да, но зато продуманнее и расчетливее. Да и крови такой он тоже не допустил бы. Не потому, что родичи там у него, а просто не по нему такие способы. Ему иные любы. Завет прадеда, что люди — не сорная трава в поле, он хорошо усвоил, а вот Вячеслав, видать, его запамятовал.
Но господь с ней, с Булгарией. Невелика птица. Да и Русь опять-таки не дозволит, чтоб раздрай в ней в ужас превратился. Авось подсобит по-суседски. Гораздо хуже, что Вячеслав свой завидущий глаз на дедов престол положил. Ведь что удумал стервец — слух пустил, что если по здравому разумению судить да по божьей правде, то трон за ним должен быть.
Дескать, сам дед Константин не раз повторял — от отца к сыну, и точка. Тогда и впрямь получается, что от сына Святослава к внуку Николаю, а ежели он погиб безвременно, сложив голову за святую Русь, то не к его старшему сынишке, а ко второму Святославичу. Отсюда среди набольших людей и сомнения. Может, и в самом деле так вернее?
Опять-таки ежели лествицу древнюю взять, то они в своем праве — негоже братаничу поперед своих стрыев лезть. Вон, в иных селищах стрыю почет аки отцу родному, а тут. Как-то оно негоже выходит, ведь он для Святославичей сыновец лишь.
Вслух такое, конечно, никто не скажет, но шепоток ходит. Неведомо, кто его распускает — то ли сам Вячеслав, то ли его женушка, не в меру бойкая на язык. Привыкла бабенка у себя на Угорщине ко всяким вольностям, вот и настраивает муженька. Да и не важно, кто именно. Тут за другое опаска. Кто бы ни распускал, а все одно — нехорошо это. В той же Булгарии поначалу люди тоже лишь шептались, а уж потом, когда вовремя не пресекли, за сабли схватились.
Да и у других соседей Руси не все слава богу. У ляхов вообще творится не пойми что, да и в Византии тоже тревожно. Не к добру Палеологи кучкуются близ престола Ласкарисов. Горят от близости к императорскому трону глаза у главы рода — Михаила. Недобро горят, по-волчьи. А на престоле сидит даже не юнец, а вовсе дите. Одно название, что император Византии.
Титул пышный, что и говорить, только если бы не было у него за спиной матушки-регентши Анастасии Константиновны — старшей дочки государя Руси, да не подпирала ее трон двухтысячная уже русская дружина, давно нашлись бы люди, которые спихнули бы с престола внучка славного Иоанна III Ватациса. Ей-ей, спихнули бы.
Опять же и в Великой Орде неладно, а ведь и она рядышком. Вот тоже наделил господь соседями! Видать, сильно осерчал он в тот день на православную державу. Таких, как они, на Руси испокон веков, не мудрствуя лукаво, татями шатучими величали. Да, да, именно так. А как иначе, когда их правители все время норовят собрать урожай там, где не сеяли? Диво еще, что они вообще друг дружку с голодухи не сожрали, после того как подъели награбленное ранее.
Правда, Гуюк вежество к Руси соблюдал. Тать, он ведь как — кто ему с носа кровавую юшку пустил, к тому и он со всем своим почтением, а Гуюку русичи такую трепку учинили, что до конца дней должна помниться. Он и помнил. Жаль только, что конец этот скоро пришел.
Впрочем, его сынам и братьям все едино не до северных соседей — который год наследство делят. Что ни лето, то один осильнеет, то другой, и все лупцуют друг дружку почем зря, а в замирье сойтись не выходит. За это им государя Руси «благодарить» надобно. Его трудами руда там как вода льется.
Может, конечно, он и не по-христиански поступает, но Константин Володимерович не священник, не монах, а в жизни мыслит не о святости, а о том, дабы своему прозвищу соответствовать. Уж больно оно высокое, вот и налагает. Раз тебя народ окрестил Божьим Заступником, стало быть, ты при нужде и согрешить должен, а Русь от раззора уберечь.
И кому тут больше чести и почета? Тому, кто молится в тихой келье, приобщаясь к святости, или тому, кто за родную землю тяжкий грех смертоубийства принять на себя готов? Ведь то, что там творится, — его рук дело.
А не разжигал бы он среди них злобу друг на дружку, и что получилось бы? Вон всего два лета назад потомство Угедея и Чагатая сошлось в схватке с детьми Тули. До десятка туменов с каждой стороны саблями лупцевались, если не поболе. А теперь спроси, на кого бы они эти востры сабельки устремили, если бы не государь? Вот-вот, любому понятно, что на Русь.
Словом, правильно он делает, что стравливает их, как бешеных псов. Может, оно и не по-божески, а все равно правильно. Пока волчья стая своих рвет, овцы целы будут. Авось и Константин Николаич согрешить не побоится, не побрезгует свои длани в басурманской крови изгваздать.
Ага, а вот и подтверждение тому.
— Я так мыслю, что надобно нам два посольства учинить. Того, кто одолел, с победой поздравить, а того, кто раны зализывает, — в печали успокоить. Ни к чему нам от побитого лик воротить, ибо завтрашний день никому не ведом. Лишь господь знает, что он сулит, — неторопливо произнес царевич. — Что же до императрицы Анастасии Константиновны, коей и впрямь несладко приходится, то три тысячи воев, что она просит, мы ей не дадим. И одной хватить должно, да и то на ближайший год, не более. Ромеев, жадных до власти, русскими мечами да копьями все равно долго не сдержать — их отодвигать от престола надобно, чтоб как ни тужились, а все равно не допрыгнули. Посему лучше заместо недостающих тысяч пошлем ей десятка два-три иных. Они хошь и без оружия будут, но пользы ей принесут поболе. У Зворыки много учеников, так что Русь не обеднеет. Ну и бояре Коловрат с Николаем Валериановичем озаботятся. Их люди дочери нашего государя тож сгодятся. И мешкать с этим негоже. Чрез седмицу надо бы всех и отправить.
Тут царевич повернулся к вышеупомянутым, которые немедленно привстали и вежливо склонили головы в знак того, что все поняли.
— Теперь о Волжской Булгарии. Туда тоже надобно посольство снарядить. Негоже, чтоб самая ближняя суседка Руси в межусобьях захлебывалась. К тому же неспокойно ныне в нашем порубежье, так что сопроводить оное посольство надобно достойно, чтоб обидеть его никто и помыслить не мог. Потому придать им не обычную полусотню воев, а пять сотен. Главой же посольства надлежит быть моему стрыю Михаqле Святославичу.
После этих слов некоторые не сдержались — загудели, зашептались одобрительно:
— Истинно решил.
— Мудро, мудро.
— А ведь Вячеславу и крыть нечем, ежели что — чай, брат родной, — донеслось до ушей Константина, и легкая, почти неприметная улыбка скользнула по его губам.
Вот только была она с неприметной горчинкой. Да и как ей не быть, когда это решение лишь наполовину принадлежало ему, а на другую — про главу посольства — государю. Именно с ним он советовался буквально за полчаса до того, как выйти к остальным и сесть в это громоздкое золоченое кресло.
Тут-то и кроется закавыка с той самой горчинкой. Сам царевич решил поначалу все иначе — как с Византией, так и с булгарами, лишь в ходе беседы поменяв свою точку зрения на ту, к которой его подвел государь. Надо отдать ему должное — подводил не спеша и весьма деликатно, хотя и настойчиво.
Более того, даже выходя из императорских покоев, наследник не был до конца уверен в том, что именно так и надо поступить. Если бы не дозволение решать все по-своему, то как знать, что бы он произнес сейчас — свое или… не совсем свое. Но дед этим дозволением не освободил, а напротив — связал ему руки. Когда тебе уступают и в ответ хочется сотворить то же самое. Вот и…
И только теперь, слыша одобрительный шепоток, царевич понял, что государь и тут оказался прав.
Ну а теперь должен выйти и он сам, чтобы сказать о главном, о том, что не иуда его сын Святозар, но — истинный богатырь. Что пал он, положив несметное количество ворогов, смертию смерть поправ.
Не из-за кого-нибудь, а из-за Святозара молчали пушки, кои Бату для острастки позади своих туменов выставил. Благодаря ему не разметали они в клочья дружинников, шедших на решающий удар, отчего он и получился столь могучим. Так что Истислав может только гордиться таким отцом.
Но где же государь?!
Тут поднялся со своего места и Вячеслав Святославич. Хитер стрый. О том, что его брата — опору и подмогу посылают в Булгарию, не сказал ни слова. Об ином речь повел.
— Почто сын израдца за одним столом со мной сидит?! — грянул он. — Кто ты такой, царевич, чтоб собственной волей — ибо гласа государя я не слыхал — Истислава Иудовича вместях с самыми лучшими и именитыми мужами Руси равняти?! Кто как, а я того терпеть не желаю!
Взглядом же, горящим ненавистью к удачливому сопернику и устремленным прямо на своего братанича, он произнес: «А в первую очередь я тебя зрить не могу, да еще в этом кресле!»
Теперь получалось, что и откладывать нельзя, и дождаться государя не получится. Ах, дед, дед! Ну что ж ты занемог так некстати?!
Тут поднялся Осман Эрторгулович. Его рука явно искала саблю на боку, которой, слава богу, у него не было — не дозволено сюда с оружием заходить.
— Святозар Константинович — мой крестный отец, — негромко, чтобы не сорваться в крик, процедил Осман сквозь зубы. — Стало быть, его сын — мой брат от бога. У нас в роду не принято прощать оскорбления, наносимые братьям.
— Даже если у них такие отцы?! — насмешливо выкрикнул Вячеслав.
Трудно сказать, что, а главное, как ответил бы Осман. Может, сумел бы себя сдержать, а может, и нет.
Но Константин Николаич успел.
— Оба сядьте! Негоже за этим столом свары устраивать! — рявкнул он грозно.
В голосе металл прозвенел, да какой — куда там пушкам. Покрепче будет. Чистая сталь. Такой глас ослушаться — себе дороже. Но Вячеслав ослушался, оставаясь на ногах. Николаич же будто и не увидел, что его повеление не выполнено. Знал — начнет настаивать, так оно еще хуже выйдет. Лучше не обращать внимания.
— Что же до гостя, кой здесь сидит, то поведаю по твоей просьбе, Вячеслав Святославич, про отца его. Сразу скажу — горжусь тем, что у меня такой богатырь в родичах был!
Тут же косой взгляд в сторону бросил и заметил, как вздрогнул Истислав и вспыхнул румянец на его щеках.
«Вот и еще один союзник у меня появился, — подумал Константин и похвалил себя. — Вот мне и награда за то, что я за дедову спину хорониться не стал. Сам-то Истислав никто, но за его спиной Осман маячит, а это без малого четыре тысячи сабель, да каких звонких — заслушаешься».
Вслух же продолжил:
— Много сказывать не стану — о том более приличествует государю говорить — как да что было. Я лишь об одном упомяну — никто столь великое число ворогов Руси в геенну огненну не отправил, сколь Святозар Константинович.
— А Русь продал! — хлестнул, как булатным клинком, Вячеслав.
— За Русь он живота своего не пожалел, — отбил удар Константин. — И ты, братан мой, князь Истислав, можешь гордиться своим батюшкой.
В наступившей тишине неестественно громко прозвучал удар Вячеслава Николаевича кулаком по столу. Хорошо, что тот оказался крепок и выдержал. Из доброго дуба столяры мастерили столешницу, словно чуяли, что кое-кто, срывая злость, будет испытывать ее на прочность.
— Негоже тебе тут кулаками сучить. Не место, — с укоризной и явной иронией в голосе произнес Константин, вовремя вспомнив мудрые слова государя: «Кто первый из себя выйдет — тот и проиграл. А уколоть врага лучше всего насмешкой. От нее глупый человек обязательно взбесится».
И точно. Получилось. Да как славно-то. Не улыбки — смешок среди сидящих пронесся. Негромким он был, но Вячеславу и такого хватило.
— На все твоя воля, покамест государь болен, — процедил он, уже поворачиваясь к выходу.
«Остановить? — подумал Константин. — А вдруг не послушается? Тогда урон нешуточный. Нет уж, пусть идет. Но и совсем смолчать нельзя. Государев совет — не посиделки в селище. Тут спуску давать нельзя. Пусть идет, только… не по своему желанию, а по моему».
— Иди, иди! — подтолкнул он Вячеслава, который и без того был уже возле двери. — Я дозволяю. Остынь малость. Оно тебе на пользу, — и довольно улыбнулся.
Кажись, хоть тут управился. Пускай на время, ну да ладно. И Рязань не сразу строилась. Хотел было сесть, но подспудное чувство чего-то недоделанного мешало.
«Ах, да! — вспомнилось ему. — Я же еще не приговорил. Уж больно оно непривычно, вот и позабыл. Что ж…»
Он еще раз обвел внимательным взглядом всех присутствующих и произнес:
— На сем… приговариваю.
В гриднице и без того было тихо — пусть не государь, но его наследник слово держит, но тут и вовсе все замерли. Не было такого раньше. Никогда не было. Решение — да, царевич принимал, когда император отсутствовал, но оно никогда не являлось окончательным и вступало в силу только после одобрения государя.
Как правило, это было формальностью. Суть дела всегда оставалась без изменений, хотя случалось, что кое-какие детали это решение либо дополняли, либо наоборот — исчезали.
Но тут гораздо важнее иное. Какое бы мудрое решение наследник ни принял, все равно окончательный «приговор» всегда не за ним — за императором. Ныне же…
— А по какому праву он так вот?!
— Это что же он себе позволяет?!
— Как у него язык-то повернулся?!
— Да как он осмелился?!
— Это ему не в императорском креслице сиживать?!
Перешептывания становились все громче и громче. Услышит их царевич или нет, недовольным членам совета было все равно.
Константин растерялся. И что теперь ему делать? А дед, который твердо обещал сойти с постели и выйти к своему совету сразу после того, как правнук произнесет сакральное слово, все медлил и медлил с появлением.
Владыка Иоанн тоже забеспокоился. Напряглись руки, сжатые в кулаки, у главы тайной службы его императорского величества, хотя и он не торопился принимать радикальные меры. Да и против кого? В зале-то — тут ушедший Вячеслав правильно сказал — лучшие из лучших сидят, такие же верные соратники государя, как и он сам.
А гул все ширился, пока не прорвался вопросом, что называется, в лоб. Задал его один, но кому непонятно, что от лица всех присутствующих:
— Решил ты мудро, Константин Николаич. Тут из нас, пожалуй, мало кто до такого додумался бы. Мыслю я, что и сам государь император одобрил бы твои слова, если бы здесь сидел. Но сдается мне, что приговаривать покамест токмо в его воле, а не в твоей.
Царевич хорошо знал говорившего. Было их два брата Афониных, и оба они у прадеда в чести. Старшего, Вячеслава, крестил по просьбе их отца, знаменитого лучника, сам великий воевода, не долго думая назвав, как и себя, Вячеславом. К тому времени многие славянские имена уже присутствовали в святцах, так что с этим вопросов не возникло. Младшего же, того, который сейчас говорил, сам государь нарек Владимиром в честь своего отца.
В совет братья вошли не за отцовские заслуги. Таких в зале вообще не было. Ни одного. Просто так уж вышло, что оба оказались башковитыми, имели не только меткий глаз, твердую руку и верное сердце, но и кое-что в головах, а потому вылезли наверх честно, начав с самых низов.
И это еще очень хорошо, что слово взял именно один из них. Во-первых, оба не любили пустых речей, а если уж брались высказываться, то загодя обдумывали каждое словцо, дабы кого-то невзначай не обидеть. Оно и правильно. Императорский совет — не бранное поле, ворогов на нем нет. Все об общем благе радеют, разве что по-разному о нем мыслят. Так что тут рубить с плеча негоже. Тут каждое словцо-стрела должно точно в цель уходить, как на стрельбах из лука. Словом, своей взвешенностью и неторопливостью в чем-то они на наследника престола походили.
Вячеслава Константин знал хуже, а вот Владимира — куда как хорошо. Азы ратной науки — и это во-вторых — Константин Николаич проходил именно под началом младшего из сыновей — ныне изрядно поседевшего, да и вообще выглядевшего гораздо старше своих лет, Владимира, который как раз и держал сейчас речь.
— Ты — мой крестник. Тебе и доверие особое, — сказал тогда государь. — Верю, что в надежные руки своего правнука отдаю.
Тогда в первый раз на глазах Владимира выступили слезы — уж больно велико доверие, что оказал император. Клятвенно заверив, что не подведет, он и впрямь сделал из Константина воина с большой буквы. И если правнук мог кому-то уступить в поединке на мечах или саблях, хотя таких по пальцам перечесть, да еще незагнутые останутся, то во всем прочем, особенно стрельбе, равных юному Рюриковичу не находилось.
И как ни хмурился государь, пряча довольную улыбку подальше в бороду, но на одном из ежегодных игрищ два года назад пришлось ему вручить «Золотую стрелу» как самому лучшему, именно Константину Николаичу, а тот, после недолгих колебаний — жалко же — отнес ее Владимиру. Правда, учитель наотрез отказался ее брать.
— Но ты же из-за меня участия в игрищах не принимал, — веско заметил ученик. — А принял бы, тогда…
— А что тогда? — резко перебил его Владимир. — Одному богу ведомо, что тогда. Может, одолел бы я тебя, а может — наоборот. Так что неча тут о пустом. Твоя она по праву.
— Но ты же мой учитель, — не сдавался Константин.
— Ну так и что, — насмешливо хмыкнул тот. — Запомни, что как бы ни был хорош учитель, но если плох ученик, то толку все равно не будет. И еще одно — хорошего учителя найти и впрямь нелегко, но хорошего ученика — еще тяжельше. И нет пущей радости для наставника, когда он видит, что его выученик стал первым. Так ты что же, вознамерился лишить меня этой радости, — и улыбнулся, видя обескураженное лицо царевича. — Мне и так государь великую честь оказал, когда тебя доверил. За такое не то что золотую стрелу — голову положить не жалко. Ныне же зрю я, что доверие оправдал сполна, а оно — сама по себе награда не из малых. И уж поболе весом, нежели твоя стрела.
Да и ни к чему она мне — лежат цельных три в тереме, а господь он что? — И сам же ответил: — Правильно, троицу любит. Так что четвертая вроде бы лишняя выходит.
Он и сейчас говорил по-доброму, не кричал возмущенно: «Как так?! Да по какому праву ты осмелился?!»
Он просто спрашивал, да и тон его был весьма дружелюбным. Мол, понимаю я, что не просто так ты это словцо бухнул. Не водится этого за тобой. Тогда растолкуй нам, расскажи то, чего мы еще не знаем, поведай, когда император окончательно бразды правления тебе передал. Оно даже не столько мне знать надобно или брату Вячеславу — мы и так тебе верим — сколь всем прочим.
И все бы хорошо, только что ответить ему — Константин не знал. Да и не готов он был к такому вопросу. Знал, что зададут, но отвечать на него не он должен был.
«Где же ты, дедуня милый?!» — мысленно взвыл он, внезапно ощутив себя, как тогда, чуть ли не двадцать лет назад, когда его впервые усадили на лошадь. Да, да, в точности таким же маленьким и беспомощным, отчаянно цепляющимся за надежные дедовы руки, чтоб не свалиться, а оно непременно должно было произойти, если эти руки его отпустят.
На самом деле кобылка была самая что ни на есть смирнехонькая, да и шла она так медленно, что и старец за ней угнался бы, но все равно страшно.
Лишь когда дед, нахмурив брови, еще раз повторил: «Отпусти сейчас же. На тебя люди смотрят. Вспомни, что ты — князь!» — он все-таки разжал пальцы.
Сам.
Добровольно.
Вот только ныне ни требовательного шепота, ни самого деда рядом, и что делать — неведомо.
А рядом тоже молчат — и Торопыга, и владыка Иоанн. Молчат и ждут. Им не до царевича. Они тоже знают — Константин Володимерович обещался выйти после сказанного молодым Константином, и теперь не могли понять, отчего же не вышел. Не водилось такого ранее за государем. Скуп был император на посулы, но если уж давал слово — считай, только смерть от него освободит. Неужто и впрямь… освободила?!
И вдруг долгожданная дверь распахнулась. Наконец-то! Вот только стоял за ней не государь, а верховный воевода Вячеслав Михайлович, бледный, как льняное полотно. Все оглянулись на него.
Воевода, по-прежнему не говоря ни слова, медленно прошел через всю залу, поднялся на помост, на котором возвышалось кресло властителя всея Руси, и застыл.
— А потому Константин Николаевич ныне приговорил, что кроме него этого на Руси сделать некому, — медленно произнес он, с натугой выговаривая тяжкие горькие слова, будто они и впрямь неподъемные, как те дубовые сваи, с которыми прошлый год так намучились строители, возводя новый мост через Проню. — Ушел государь император. Покинул нас, грешных.
Произнес и неловко стащил с себя шапку, а по щекам его уже катились мутные слезинки, теряясь в глубине седой бороды.
Тяжко слышать, как рыдает дитя, больно смотреть, как захлебывается в безутешном горе вдова. Но видеть, как молча плачет мужчина, и не простой смерд, а верховный воевода всея Руси, который в самые тяжкие минуты жизни не проронил ни слезинки, это… страшно.
Значит — край. Значит, уже нет сил, чтобы сдержаться. Все в жизни поправимо, кроме этой, которая с косой. Один лишь ее взмах, и… осиротела Русь.
И только тут люди, присутствующие в зале, поняли, отчего же стало так непривычно тихо. Да потому что остановились огромные часы. Остановились, как и тогда, когда ушел из жизни патриарх Мефодий. Поник острым носиком маятник, беспомощно застыли на циферблате стрелки, растопыренные в разные стороны, зафиксировав без четверти три. Ну, в точности, будто человек развел руками, беспомощно восклицая: «А я что могу сделать?!» Так и они. Мол, мы даже время остановили, а вот вспять его поворотить, чтоб жизнь вернуть, — увы. Не дано нам этого.
А слезы на глазах уже не у одного воеводы. Вон, хотевший вскочить со своего кресла, да так и не нашедший для этого сил Торопыга кусает губы, чтобы не взвыть в голос, а предательские слезинки текут себе вовсю. Стыдно, но кто сейчас о стыде думает? Да и чего тут стыдиться?
Это Николаю Валериановичу может быть неловко, это ему не по чину, а плачет-то малец Торопыга, которому император, а тогда еще рязанский князь своим заговором жизнь спас. А ведь чародейство да ворожба — грех тяжкий, после него невесть сколько поклонов отбить перед иконами надобно, да еще поститься потом два лета, а он за ради простого парня Николки на себя этот грех взял, от стрел и мечей вражеских оберегая.
А ныне кто на себя, если что, первым беду встретит, кто убережет, кто совет мудрый даст, кто, в конце концов, просто по плечу хлопнет и скажет одобряюще: «Не робей, Торопыга. Не боги горшки обжигали. Мы — рязанские. Мы — прорвемся».
И из широкой груди сдавленно вырвалось:
— Осиротели!!
То не крик был — душа простонала, истекая кровью, потому как это известие не по телу — по ней вострым лезвием полоснуло, а это гораздо больнее, если кто знает. А кто не знает еще — ну и слава богу. Ни к чему оно, ибо нет в том знании ничего, кроме дикой непереносимой боли, от которой не в силах избавить ни один самый ученый лекарь.
Только время, год за годом, потихоньку да полегоньку, глядишь, и срастит ту рану. Но когда это еще будет — уж больно оно неторопливо. Да и то рубец все равно останется. Хотя с ним полегче. Он как телесная рана в дождь, о себе лишь изредка дает знать. Мол, помни, человече, что было.
Было и… прошло.
Навсегда.
Страшное это слово, коль вдуматься. Страшнее многих, потому что оно — безысходное. Может, потому именно к старости человек и обращается к богу. Уж очень ему не хочется вот так вот… навсегда.
Страшно, когда плачет мужчина, так что уж тут говорить, когда спустя минуту после его сообщения текли слезы из глаз доброй половины собравшихся, которые ничуть их не стыдились.
И тут в первый раз уже не царевич, но пока еще и не венчанный император Константин II Николаевич поступил не просто умно, а — мудро, ибо плакал вместе со всеми. Мудро, хотя над этим не задумывался. Просто у него не было сил выбежать из зала или попытаться сдержать себя.
А ведь всем хорошо ведомо, что даже общая радость так сильно не сближает людей, как общее горе. Не случайно же люди говорят: «горем поделиться». Особенно когда оно такое вот, как это — одно на всех.
И как бы там дальше ни распихивала жизнь людей, присутствующих в зале, по разным берегам, как бы ни сталкивала их лбами, не бывать уже меж ними ни слепой вражде, ни бешеной ярости, ни звериной ненависти, ибо в их сердцах навечно останется этот миг — миг всеобщей скорби и единения.
А Вячеслава Святославича не было среди прочих. И это стало последней услугой, которую оказал детям своего братанича князь Святозар. Как обещал. Он ведь тоже к своему слову относился бережно, беря пример с батюшки государя. Коли дал его, так уж держи. Только в отличие от отца он пошел еще дальше, не освободив себя от обещания даже после смерти…
…Конечно, мне хотелось бы поведать читателям еще о многом, ибо история Руси, колесо которой так лихо крутанул мой герой, да и не только ее одной, с уходом Константина не закончилась, а продолжилась далее. Но это уже иное время, в котором живут иные герои. Так что пусть кто-то другой напишет про них и про царствование потомков Константина.
И дай бог, чтобы когда-нибудь перо искусного мастера слова смогло широкими сочными мазками нарисовать суровые годы междоусобицы времен Константина II Николаевича, прозванного злопыхателями Скородумом, загадочное исчезновение Михаила I Морского, трагедию Константина III Святого и триумф Вячеслава II Освободителя.
Не важно, как именно будет звучать фамилия автора, лишь бы он сумел вновь возродить славные времена приключений неугомонного Святослава III Воителя, поведать о душе Константина IV Философа, мятущейся в поисках истинной веры, с любовью и гордостью за свою державу рассказать, как шел от победы к победе Константин V Эллин, с ироничной усмешкой на устах поведать, как дрожал над каждой куной Вячеслав III Купец, восхищенно воспеть царственную молодую вдову Николая III Сурового Елену I Мудрую, которая всеми правдами и неправдами удерживала власть для своего малолетнего сына, будущего Михаила IV Доброго.
Много их впереди — потомков Константина, и все они разные: счастливцы и неудачники, везунчики и не очень, герои и антигерои, взошедшие на трон по праву и прокравшиеся к нему подлостью.
А мне лишь остается вместе с тобой, читатель, смахнуть непрошеную слезу. Мой герой ушел в свой последний путь, а потому и мне больше нечего здесь делать. Во всяком случае, в этом дворце, опустевшем без хозяина, да и вообще в этом времени.
Хотя… Думается, было бы в высшей степени несправедливо оставлять самого Константина, да и его друзей, во владениях костлявой старухи с косой. Люди, которые сделали столько добра для Руси, заслуживают гораздо лучшей участи. А потому…
Эпилог Нас утро встречает прохладой
Миг вернется в бесконечность, нам определяя срок. Где же всадник мчится вечный, по которой из дорог? Лариса СимоноваЛетняя жара чуть ли не плавила городской асфальт. Пожухлая листва тополей кое-где и вовсе стала сворачиваться в трубочку. Желающих в знойный полдень поджариваться под безжалостным солнцем среди жителей Ряжска оказалось немного, так что улица была почти безлюдна.
Только один прохожий беспомощно топтался на месте, обливаясь потом и явно не зная, что предпринять. Он то и дело вскидывал голову, поглядывая то направо, то налево, но затем махнул рукой и пошел в сторону средневекового кремля, возвышающегося на крутом холме и окруженного могучими стенами из красного кирпича.
Табличка, прикрепленная на широких воротах, щедро разукрашенных выпуклыми фигурками людей и животных, гласила: «Крепость-музей. Мемориальный комплекс зданий времен императора Константина I».
Прохожий долго и внимательно читал табличку, затем пробормотал себе под нос:
— И правда, что ли, в свой бывший терем податься?
— А что тут думать! — выглянула из своей будочки нарядная пышногрудая кассирша. — Даже если вы там уже были, еще раз пройдитесь — память освежите. К тому же прохладно там. — И вздохнула с сожалением. — Умели же люди строить. Не то что нынче. Без освежителя — зарез.
— И то правда, — согласился прохожий. — А платить вам?
— Конечно, мне, — обольстительно улыбнулась кассирша, оценивающе оглядывая будущего экскурсанта. — А вы издалека, что ли, будете?
— Издалека, — вздохнул прохожий, извлекая дорогой бумажник тисненой кожи и неуверенно копаясь в нем. — Вот этого хватит? — неуверенно протянул купюру.
— Да вы что? — округлились глаза кассирши. — У меня вся дневная выручка половины не стоит. Да и то в выходные. Где я вам сдачу сыщу?
— И что делать? — уныло уставился на нее прохожий. — Понимаете, у меня в городе никого знакомых нет. Ну, вечером я гостиницу сниму….
— Размечтались, — насмешливо фыркнула женщина. — Это только светлейшим князьям под силу да еще самому императору. У нас, когда ассамблея, — завсегда так. Простые люди за месяц номера заказывают, а умные — за два.
— Вот тебе и на, — опешил прохожий. — И что — так все серьезно?
— Так это ведь вам Ряжск, а не какая-нибудь деревня захудалая. Понимать надо, — с гордостью заметила женщина. — Даже столица опустела. Из Рязани все сюда подались. Хотя нет, сегодня еще пусто. А вот завтра начнется столпотворение. Погодите-ка, а вы сами, стало быть, не на торжества приехали? — удивилась она.
— Ну-у, отчасти, — неуверенно промямлил прохожий. — Я, видите ли, путешественник, — и добавил мысленно: «Во времени».
— Ну и правильно вы путешествуете. Нынче во всем мире ничего важнее ассамблеи нету, — наставительно заметила женщина, и ее внушительный бюст еще раз призывно колыхнулся, будто подтверждая правоту слов своей хозяйки. — Ладно, уж, — смягчилась она. — Ряжск — град гостеприимный. — И многообещающе посулила: — Так и быть, найду я для вас местечко для ночлега. Вы — господин солидный, бедную женщину обижать не станете, так что сдам я вам одну из комнат. Все равно пустуют. Одинокая я, — в голосе кассирши явно пробивался вполне очевидный намек.
— Не обижу, — кивнул прохожий и столь же многообещающе подчеркнул: — Ни в чем.
— Ну, а раз так, тогда идите, — махнула женщина рукой. — После рассчитаетесь, когда разменяете. — И посоветовала напоследок: — Ежели есть желание специалиста послушать, так там как раз экскурсия ходит. Кажется, из Индии. Только не из той, что наша, а из Южной. Ну да это без разницы. Все равно им на русском языке объясняют, так что поймете.
— А что, русский тоже международный? — уточнил прохожий.
— Как это тоже? — искренне удивилась кассирша. — Я о других и не слыхала. Нет, есть, конечно, но они так, для родного захолустья, да и межсвязь опять же вся на русском.
— Любопытно, — пробормотал себе под нос прохожий, уже удаляясь в глубь прохода, ведущего к зданиям мемориального комплекса. — Очень любопытно. И как тут все перестроили, — вздохнул он через несколько минут, уже во второй раз возвращаясь из какого-то темного тупика.
Словно отвечая на его критическое замечание, за углом раздался вкрадчивый голос экскурсовода:
— Уникальность этого комплекса еще и в том, что со времен Константина Первого здесь практически ничего не перестраивалось. Все здания остались прежними и дошли до двадцать первого века практически без изменений.
— Это как же без изменений, когда вот здесь зал был, где Константин свой совет созывал, а теперь вместо него клетушка какая-то? — перебил ее чей-то недовольный голос.
— Молодой человек, а вы знаете, что в состав его совета входило весьма ограниченное количество людей? К тому же истории неизвестны случаи, когда император собирал свой совет в Ряжске, — мягко поправила сотрудница музея новоявленного знатока средневековой Руси, но тот не сдавался, и прохожему послышалось что-то знакомое.
Нет, голос был определенно чужой, но вот интонации…
Он насторожился и, по-прежнему не выходя из-за кирпичного угла, надежно закрывающего его от посторонних глаз, еще внимательнее вслушался в разговор. Знаток все больше повышал голос, пока наконец экскурсовод не попыталась урезонить его:
— Пожалуйста, потише. В конце концов, я допускаю, что могу в чем-то ошибаться, но не надо так шуметь. Вы только представьте себе, как семь с половиной веков назад эти стены видели самого императора Константина Первого, первого русского патриарха Мефодия Первого, верных помощников государя — храброго полководца Вячеслава Михайловича, воевод Юрко Золото, Лисуню, Добрыню, изобретателей Михаила Юрьевича и Сергея Вячеславовича. Кстати, последний вроде бы является старшим сыном полководца.
— Чего?! — слились в один истошный вопль сразу два голоса, но тут же разделились.
Один утверждал, что Сергей всего на год младше Вячеслава, поэтому никак не мог быть его сыном, а второй, совсем звонкий и молодой, поддакивал, добавляя, что в то время, когда Вячеслав брал Крым и Кавказ, Сергей уже вовсю вкалывал на Урале. А если еще раньше, то…
— Вы так убежденно говорите, как будто сами жили в то время, — чуточку иронично заметила экскурсовод.
— Может, и жили, — выпалил один из знатоков Средневековья.
Прохожий выглянул из своего укрытия и услышал, как совсем молодой юноша лихорадочно шепчет своему спутнику:
— Славка, ты сдурел совсем! В психушку захотел?
— А чего они тут гонят? Всю историю переврали, — уже остывая, недовольно проворчал тот. — Как говаривала моя мамочка Клавдия Гавриловна…
— Подождите, я, кажется, начинаю что-то понимать, — вмешалась в их разговор гид. — Вы, случайно, не Вячеслав будете? — обратилась она к тому, кто был повыше ростом.
Тот подозрительно посмотрел на нее, почесал нос с небольшой горбинкой и нехотя буркнул:
— Ну, Вячеслав. А в чем дело?
— Нет-нет. Все в порядке. А отчество ваше случайно не Михайлович? — заторопилась экскурсовод, юная худенькая девушка в нарядном сарафане и узконосых сафьяновых сапожках.
— Ну, допустим, Михайлович, — последовал ответ.
— А вы, конечно же, Михаил Юрьевич, — повернулась она к его спутнику.
— Положим, так, — столь же недовольно ответил он. — Да в чем дело?
— Все в порядке. Вы не волнуйтесь. А знаете, почему я вас сразу определила? — почти радостно заметила она и взмахнула рукой. — Потому что вы очень похожи на своих знаменитых предшественников. Вы им не родственники?
— Мы — это они и есть, — брякнул тот, что повыше, но тут же осекся.
— Я так и подумала почему-то, — кивнула девушка. — А теперь перейдем в ложницу императора, — как ни в чем не бывало продолжила она, увлекая за собой туристов.
Во время своих пояснений она несколько раз нервно оглядывалась и переспрашивала:
— Я все верно сказала? Ничего не перепутала?
— Да все в порядке, — успокаивал ее Вячеслав.
Минут через десять он уже до такой степени расслабился, что смущенно признался:
— Вы знаете, я ведь и сам только общие контуры помню. Не так уж часто я тут бывал.
— В основном, в своих каменных палатах в Рязани проживали, наверное, — понимающе кивнула девушка.
— В каких каменных? — нахмурился Вячеслав. — А-а, понял, о чем вы. Нет, я в них, можно сказать, и не жил. К тому же я их и строить-то начал только после того, как мой деревянный терем сгорел. Это уже где-то лет за пять до смерти было, — говорил он, не обращая внимания на то, как его дергает за рукав спутник. — Так что там дочка моя жила, Иринка.
— До чьей смерти? — уточнила девушка.
— Моей, — ляпнул Вячеслав.
— Понятно, — обреченно вздохнула девушка, еще раз оглянулась и, очевидно, не найдя того, что искала, заискивающе улыбаясь, попросила: — А вы не могли побыть немного одни. Я… одним словом, отлучиться мне надо. Это недолго, всего пара минут. Вы никуда не уйдете?
— Подождем, конечно, — хмыкнул Вячеслав. — Да, Миня?
Человек, подслушивающий все это, резко отпрянул и затаился в глубокой нише. Взволнованная девушка пропорхнула мимо, даже не заметив спрятавшегося, который, держась на расстоянии одного поворота, неторопливо следовал следом за ней.
Вскоре впереди раздался радостный голос девушки:
— Ой, Маша, как хорошо, что ты мне попалась. Представляешь, у меня в группе опять психи, причем сразу два.
— Везет тебе на них, — посочувствовал более низкий женский голос. — За последнюю неделю третий случай, и все твои. Привораживаешь ты их, не иначе.
— Тебе шуточки, а я прямо вся дрожу, — чуть обиженно заметила девушка. — Надо позвонить дежурным лекарям, чтоб приехали. Может, ты пока задержишь их, чтоб никуда не убежали? Я скоренько.
— Думаешь, я их не боюсь? Нет, уж, подруга, пошли вместе звонить, а потом, так и быть, я тебе составлю компанию.
— Ну, пойдем, — вздохнула девушка, и они направились куда-то вперед, очевидно к телефону.
Человек удовлетворенно кивнул, развернулся и почти бегом бросился обратно. Дойдя до двух безумных экскурсантов, он несколько секунд внимательно разглядывал их, после чего негромко произнес:
— Вот уж не чаял встретиться. Ну, здравствуйте, что ли, соратники Константина, — и тут же добавил с улыбкой: — То бишь мои.
Оба, как по команде, резко обернулись и недоверчиво уставились на появившегося мужчину.
— Значит, так, времени у нас почти нет, Миня, — тут же скороговоркой зачастил он. — Потому как экскурсовод в психушку звонить побежала. Поэтому все вопросы зададите на ходу, если не верите, что это я и есть. Хотя то, что я тебя, дорогой Эдисон Кулибиныч, подобрал в тринадцатилетнем возрасте, после чего ты тут же принялся лепить арбалеты и гранаты, кроме меня и Славки знать никто не может.
— А про меня что скажешь? — медленно произнес Вячеслав.
— Горжусь тем, что довел бравого спецназовца от капитана внутренних войск до министра обороны, — последовал ответ.
— Костя!..
С трудом высвободившись из крепких дружеских объятий, Константин вновь поторопил обоих:
— Время не ждет, — и напомнил: — Не знаю, как вы, а я со своими двойниками в палате номер шесть встречаться не хочу. Кстати, могли бы и сами догадаться, куда девочка отлучилась, когда соврала вам про схожесть. Вы же себя прежних ни-чуточки не напоминаете. Что, в зеркало поглядеть времени не было?
— Да и ты, величество, тоже не больно-то на императора смахиваешь, — огрызнулся Минька и весело улыбнулся. — Зато мы молодые и веселые, а это поважнее. Знаешь, сколько у меня болячек к семидесяти годам набралось? О-го-го! А морда лица — так к ней и привыкнуть можно, авось не впервой.
— Погоди, Эдисон, — остановил друга Славка. — Ты лучше скажи, Костя, куда бежать-то? — деловито уточнил он. — Она же к выходу пошла. Не успеем мы мимо проскочить.
— Есть подземный ход, о котором даже ты не знаешь, — усмехнулся Константин. — Он в дворцовой церкви.
— Точно, — хлопнул себя по лбу Минька. — Как это я про него забыл! Если только его за семьсот лет не нашли — действовать должен.
— И если механизм не поломался, — скептически проворчал Вячеслав, следующий за друзьями.
— Обижаешь, воевода. Я на века лепил. Да и не знал о нем никто, кроме меня и Кости, — самодовольно ухмыльнулся Минька.
— И даже мне слова не сказали, — попрекнул Славка.
— А чего говорить, когда я его, по сути, не для себя, а для потомков делал, — откликнулся Константин. — Знаешь, на всякий случай. Вдруг понадобится.
— И куда он идет?
— За город. Прямо к Хупте. Кстати, ребята, надо бы как-то и нашего патриарха отыскать. Без нас ему несладко придется, — озаботился Константин.
— Спокуха, княже. Патриарх нас прямо возле твоего подземного хода ждет.
— То есть как? — даже остановился Константин, опешивший от такого неожиданного сообщения.
— Да очень просто. Ты же сам сказал, что ход в церкви.
— Ну?
— А владыка Мефодий как раз там и ждет меня и Миньку. Молится, — пояснил Славка.
— И ругается, — добавил Минька.
— Ругается? — удивился Константин.
— На чем свет стоит, — подтвердил слова друга Славка. — Очень уж ему не по душе, что его этим, как его, равноапостольным обозвали.
— Круто, — восхитился Константин.
— Еще бы. Мы с тобой и то лишь до святых доросли.
— Чего?!
— До святых, — безмятежно повторил Славка, забавляясь несказанным удивлением Кости. — Тебя в них записали чуть ли не сразу, лет через двадцать после того как ты, гм, помер, а меня намного позже — века через три. Вот так вот, Миня, — хлопнул он по плечу друга. — Гордись. Сразу с двумя святыми рядом идешь. Хоть бы поклонился разок.
— А ты мне, — не остался тот в долгу. — Вместе же в энциклопедию смотрели. Основоположник русской науки, глава первого университета, гениальный изобретатель. Между прочим, святых на Руси завались, а я один такой. И в любом вузе на самом видном месте не ваши портреты, а мой. Ну, еще Костин иногда, — тут же отдал он должное. — А вот твоего, воевода, ни одного.
— А вот тебе фигушки, — развеселился Славка. — Меня во всех военных академиях повесили. Да и в любое военное училище загляни. На самом видном месте кто — я, а не ты.
— А чьим именем артиллерийская академия названа?! Твоим, что ли?! — возмутился Минька, не желая уступать другу.
— А вы откуда все это успели выкопать? — удивился Константин.
— Да мы третий день уже здесь и все тебя дожидаемся, — простодушно пояснил Минька. — Думали, что ты уже сбежал куда-нибудь, нас не дождавшись.
— То есть как сбежал? — снова не понял Константин. — А почему вы вообще решили, что я тоже ожить должен?
— Простая логика, — пожал плечами изобретатель. — Мы-то ожили. Значит, и ты тоже должен.
Ты умер самым первым, значит, и воскреснуть должен был самым первым из нас.
— Первым был не я, — поправил Константин.
— Правильно, — поддержал друга Славка. — Владыка Мефодий. Вот его-то мы и встретили первым же вечером. Кстати, возле музея. Он туда собирался зайти. Короче, после того как встретились, нам не до экспонатов стало, сам понимаешь. На второй день мы кое-как оклемались и все дружно в библиотеку подались. Хотели в музей, но потом решили международную обстановку разведать, да и вообще, — Славка неопределенно помахал в воздухе рукой. — Но, ты знаешь, было чему порадоваться. Одно то, что Россию владычицей четырех океанов называют, — уже круто. Читал и прямо гордость за державу разбирала.
— Как четырех? — удивился Константин. — Что, Атлантический тоже наш?
— Ну, раз Исландия с Гренландией наши, то получается, что и океан не чужой. Опять же Америка.
— Ты США имеешь в виду?
— Да нет теперь никаких США, — улыбнулся Минька. — Россия сплошная.
— Правда, выходцев из Европы твои потомки, вспомнив опыт пращура, изрядно набрали, — добавил Славка. — Даже с перебором. И восстание свое они подняли. Тоже независимости захотелось.
— И что? — насторожился Константин.
— Да ничего, — пожал плечами Славка. — Когда это торгашам русичей удавалось одолеть? Рылом не вышли. Морду им начистили, и всего делов.
— А…. Индийский океан?
— Ну, со стороны Азии мы туда лишь самым краешком вышли — через Индию, — притворно сокрушаясь, вздохнул Славка и сделал многозначительную паузу, но эффект сообщения испортил неугомонный Минька.
— Зато Австралия — русское генерал-губернаторство, — выпалил он. — Да ладно вам о политике. Ты, Костя, про нас обязательно почитай. Хотя наврали, они, конечно, с три короба — обхохочешься, но все равно интересно. Меня почему-то смердом какого-то боярина назвали, а Славку вообще… — он весело хихикнул.
— Ну вот и пришли, — Константин остановился перед тяжелыми дверями, окованными серебром, и медленно потянул деревянную ручку, отполированную за многие века.
Створка двери медленно подалась, открывая главное помещение церкви. Было оно практически пустым. Только в левом углу, стоя на коленях, молился человек в строгом сероватом костюме, отливающем синевой.
— Если мне память не изменяет, то наш владыка Мефодий молится как раз на твой подземный ход, Костя, — не удержался от ироничного замечания Минька.
— Наверное, чтобы открылся, — без тени улыбки прокомментировал Славка.
— Вот мы и опять вместе, — задумчиво глядя на молившегося, произнес Константин.
Человек в костюме услышал его, оглянулся, несколько секунд недоверчиво вглядывался в троицу, застывшую в дверях, и лицо его осветила улыбка, поначалу робкая, но с каждым мгновением безудержно расползающаяся вширь.
— Вот мы и опять вместе, — много позже повторил фразу Константина Славка.
К этому времени они уже сидели на берегу реки, успев разложить костер и даже пропустить за встречу энное количество стопок водки.
— Собрались, стало быть. А дальше что делать будем? Нет, я, конечно, еще месячишко отдохну с радостью, но, положа руку на сердце, — уже сейчас чертовски скучно, братцы. По всей стране тишь, гладь да божья благодать. Ни морду врагу набить, ни о государевых делах с императором побалакать. И куда бедному воеводе податься? — философствовал он, вальяжно развалившись у самого костерка, — с реки ощутимо несло совсем не летней прохладой.
— Неужто ты недоволен тем, что страна в величии пребывает, что люди в ней счастливо живут? — попрекнул его Мефодий. — Ты ж сам ради этого до скончания своих дней трудился. И каждый из нас так же. Вот и будем радоваться, что сбылась наша мечта. Мы же счастливые люди — можем ею воочию полюбоваться.
— Помнится, был такой Лев Давидович Троцкий, — задумчиво начал Константин. — Так он говорил, что цель — ничто, движение — все. Исходя из его слов, получается…
— Получается, что мы были всем, ибо творили все, — тут же подхватил Славка. — А теперь перед нами уже достигнутая цель, зато мы никто и звать нас никак, — подытожил он. — Кстати, Костя, а в этой реальности твоего Давидовича нет и, по-моему, даже и не было. Ни его, ни дедушки Ленина, ни вождя всех народов товарища Сталина. Может, они, конечно, и родились, но в связи с отсутствием революции шибко не засветились. Энциклопедия, которую мы с Минькой листали, их не зафиксировала, потому как все они — мелочь, не заслуживающая внимания.
— Значит, революций не было? — довольно улыбнулся Константин.
— За вторым цветным теликом, или, как его здесь называют, визором, переться на баррикаду желающих не нашлось, — усмехнулся Минька.
— Помнится, раньше ты к другому призывал, — поддел Славка.
— А к чему призывал, то и произошло. Земля и так у крестьян, фабрики и заводы владельцев имеют, но я зато поглядел по этому визору, как тут рабочие живут… Наверное, правильно ты, Костя, говорил, что у каждой вещи должен быть свой хозяин. Ну и мир, конечно. Он хоть и не во всем мире, но наша Русь за последние сто лет вообще ни разу в войне не участвовала. Чего же лучше?
— Ни разу? — недоверчиво переспросил Константин.
— Это только в Библии Давид Голиафа одолел, а в жизни все эти карлики на гиганта напасть опасаются — себе дороже, — скупо улыбнулся Мефодий.
— Только вот скучно нам здесь будет, — добавил Славка. — Мы ведь к другому привыкли, так что не знаю, как вы, а я от этой размеренной жизни через пару-тройку недель точно потихоньку с ума сходить стану. Ты знаешь, Костя, что у всех нас даже заботу о поиске хлеба насущного отняли, потому как стакан газировки из автомата три копейки стоит, буханка черного хлеба — десять… Знаешь, во что мне обошелся сегодняшний банкет? Сейчас скажу точно, — он извлек из кармана штанов смятые бумажные купюры и горсть монет, сосредоточенно нахмурился, подсчитывая сдачу, оставшуюся после покупок, и наконец выпалил: — В двадцать пять рублей и десять копеек. Это считая черную и красную икру, водку, балычок, шашлычок и прочее. А на этой пластмассовой дуре у меня, да и у всех вас, наверное, тоже — по десять миллионов. Каково, а?
— Радоваться надо, — встрял Мефодий.
— Да чему?! — взвыл Славка. — Мы же все здесь бывшие — бывший изобретатель, бывший воевода, бывший император и даже, прости, владыка, бывший священнослужитель.
— Священнослужитель, если только он настоящий, бывшим не бывает, как и офицер, — не согласился Мефодий. — Вот что касаемо сана патриарха — это да. Тут я с тобой согласен. А так у меня и здесь есть чем заняться. Как бы ни была благополучна страна, в ней всегда найдутся страждущие утешения, алчущие…
— Ну, хорошо, хорошо, — перебил его Славка. — Тебе легче. А меня здесь ни одно военное училище не возьмет — старый я. А Миньке что здесь изобретать? А Косте кем повелевать? Слугами? Можно, конечно, только тоже скоро наскучит. Ни тебе войну объявить, ни даже на кол посадить.
— На кол я не сажал, — поправил Константин.
— Зато вешал. Что в лоб, что по лбу. А здесь, представляешь, последний раз преступника приговорили к смерти три года назад.
— А потом что? Мораторий объявили? — заинтересовался Константин.
— Ты, величество, своих потомков не оскорбляй, — ответил Славка. — Они хоть и императоры, но к своему народу повнимательнее президентов прислушиваются. Если люди не согласны — против них не идут. Что значит мораторий? Чтоб убийцы и маньяки жили, а их неотмщенные жертвы в земле гнили? Дудки. Просто не было с того времени таких преступлений. До чего докатилась нация! — патетически закатил кверху глаза Славка и тут же угрожающе наставил палец на Мефодия: — А все из-за тебя, владыка. Из-за твоих плодов воспитания и просвещения. — И тут же окрысился на улыбающегося Константина: — И нечего тут ржать. Ты, величество, тоже руку приложил.
— Судя по тем скелетам, которые мы видели в подземном ходе, не так уж все гладко было, — коротко поправил тот друга.
— Всякое случалось. Сейчас просто не хочу рассказывать — обстановка не та. Лучше ты потом прочитаешь, а если чего непонятно — меня спросишь, — сразу помрачнел Славка и уже более серьезно добавил: — Конечно, чего там говорить, хорошо, когда всем весело и все смеются. Да и сознавать, что мы с вами этому начало положили, тоже приятно. Не знаю, как вы, а я собой прямо-таки гордюсь. Это ж как лихо тогда мы всем гадам зубы пересчитали! — И тут же скучным голосом произнес: — Вот только теперь это дело прошлое, причем весьма отдаленное. От нас оно сейчас, если считать от года твоей смерти, на расстоянии ровно семи веков.
— Да-а, если вдуматься, то и впрямь получается парадоксальная ситуация, — усмехнулся Константин. — Всю жизнь мы с вами вбухали, чтобы построить это самое светлое будущее, теперь, оказавшись в нем, воочию можем убедиться, что наши труды не пропали даром, и что?
— А что? — осведомился Минька, молчавший до сих пор.
— Так ведь опять недовольны, — подвел итог Костя. — И сами не понимаем, какого рожна нам надо.
— Ну, какого — это, положим, ясно, — заметил Славка. — Ты же сам говорил, что цель — ничто, движение — все. Вот движения нам и надо. Мы ж как рыбы, которые на берегу оказались. Нам это движение как воздух нужно, иначе хана.
— А мне помнится, что такое у нас уже было, — задумчиво произнес Мефодий.
— Ты имеешь в виду отсутствие движения? — удивился Славка.
— Я имею в виду такие вот посиделки, — поправил его бывший патриарх.
— Ну, положим, было, и не раз, — недоуменно пожал плечами Славка. — А ты это к чему, владыка?
— А это он к тому, что поскучать нам могут и не дать, — подхватил Константин, догадавшись, к чему клонит Мефодий. — Так сказать, идя навстречу пожеланиям трудящихся. Особенно когда эти пожелания весьма настойчивы и высказывают их не совсем обычные трудящиеся.
— То есть?
— А ты вспомни, как мы тихо сидели и подвывали возле Оки, желая вернуться обратно. Ну, когда банда Гремислава Рязань спалила, а я вас отвлечь решил и выход на природу устроил. Вспомнили?
— Так, так, так, — вскочил на ноги Минька. — Он же утро имеет в виду. То самое, когда мы впервые кокон увидели, который за нами прислали[173].
— Точно, — подтвердил Константин. — И все тогда именно как сейчас было — квартет славных ряж-ских хлопцев, тихая река…
— Только тогда это была Ока, а на дворе стояла осень, — критически заметил Славка.
— Я так полагаю, что название реки и время года особой роли не играют. Зато место здесь весьма уединенное, да и подвываем мы точно так же, — заметил Константин.
— Погоди, погоди. Но тогда мы хотели вернуться обратно, то есть представляли, куда именно, — возразил Минька. — А сейчас что? Мы ведь и сами не знаем, куда хотим.
— Ну и что, — философски отозвался Мефодий. — Коли это посланец божий, то ему виднее — куда нас отправить.
— Куда и в качестве кого, — добавил Константин.
— Вообще-то, параллельных миров много, — задумчиво произнес Минька. — Так что на наш век работенки хватит.
— И еще останется, — покладисто согласился Славка. — Когда, говоришь, ты его увидел, Миня? — деловито уточнил он.
— Перед рассветом. Светать только начало, — припомнил изобретатель. — Думаешь, и сейчас оно точно так же будет?
— А чего тут думать, — пожал плечами Славка, у которого не осталось и следа былого уныния. — По ночам только привидения шляются и эти, как их, злые бесы. А наша фигня, как ее оценил владыка, как раз наоборот — к светлым принадлежит. Значит, ее на рассвете ждать надо.
— И не жалко, тебе, Слава, нерастраченных миллионов? — поинтересовался Константин.
— Так я и у тебя, величество, в гривнах нужды не испытывал, — равнодушно пожал тот плечами. — Если бы мне их дали, когда я в нищих капитанах российской армии хаживал, — другое дело. — И процитировал, явно подражая кому-то: — «Из года в год растет благосостояние российских военных, о чем красноречиво свидетельствует очередная ежегодная прибавка к их пенсии на целых десять процентов». Тьфу, заразы, — сплюнул он, но тут же повеселел и подмигнул другу. — А у тебя я к хорошим деньгам уже привык, потому что почти полвека в порядочной армии прослужил. Слушай, а если оно не появится? — озабоченно спросил он.
— Есть у меня еще одно местечко на примете. Так сказать, резерв главного командования, — вздохнул Константин и передернулся, вспомнив свою прогулку по Веселому лесу[174]. Если бы его тогда не держал за руку Маньяк, то как знать, чем бы она закончилась. — Но это уж через недельку или две. Очень уж охота почитать, как там мои наследники рулили.
А к чему ты про время спросил? Интересуешься, сколько ждать осталось? — уточнил он.
— Не-е-е, — протянул Славка, оценивающе взвешивая в руке большую литровую бутыль, водки в которой осталось меньше трети. — Я думаю, какой я молодец, что догадался две взять. Как раз хватит. Но если это белохвостое чудо без перьев запоздает, — тут же предупредил он, — то самому молодому придется опять в магазин бежать. — И подмигнул Миньке: — Да ты не боись, Эдисон Кулибиныч. Мы в это такси все равно без тебя не сядем, — и принялся неспешно разливать водку в стаканчики.
Торопиться и впрямь было некуда. До рассвета оставалось еще изрядно времени, и его надлежало использовать с чувством, с толком и с расстановкой. А то когда оно еще появится-то, это самое свободное время? Да и появится ли вообще? Тем более что где-то там, вдали, за речным поворотом, метрах в пятидесяти от них, уже промелькнуло что-то светлое. То ли крупная рыба сверкнула своей серебристой чешуей, то ли…
* * *
Инок Валерий написахом книги си летописець, наделся от бога милость прияти, при государе Константине, самодержце во всея Руси.
Иже чтет книгы сия, то буди мя в молитвах…
АвторПримечания
1
Мавераннагр — местность между Амударьей и Сырдарьей.
(обратно)2
Имеется в виду река Тарим, прорезающая пустыню Такла-Макан.
(обратно)3
Речь идет об озере Лобнор.
(обратно)4
Гесер — герой многочисленных сказаний тибетских народов и уйгур. По одним преданиям, он был сыном горного духа, по другим, монгольским, отождествлялся с богом войны Дайчин-тенгри. Выступал как покровитель воинов, защитник стад, победитель чудовищ (мангусов) и податель счастливой судьбы, в том числе охотничьей удачи.
(обратно)5
Далха (боги-хранители) — защищали от врагов и покровительствовали человеку.
(обратно)6
Дрегпа (боги Тибета) — делились на шесть групп. В первую входили так называемые чужие, то есть относящиеся к чужим верам, преимущественно из индийского пантеона. Местные дрегпа относились к пятой, так называемой магической группе.
(обратно)7
Лу (те, кто ползает по земле и плавает в воде) — божества из разряда дрегпа. Относились к шестой группе — видимых богов.
(обратно)8
Синий кузнец Бал — один из наиболее известных дрегпа, бог кузнечного дела.
(обратно)9
Тхеуранг — божества в облике одноруких, одноногих и одноглазых существ, которые родились из жира космической черепахи. Олицетворяли собой различные атмосферные явления, вызывая снежные бури, штормы, град и ссоры между людьми.
(обратно)10
Пехар — владыка тхеурангов.
(обратно)11
Архаг — в ортодоксальном буддизме хинаянского толка (хинаяна — малая переправа или малая колесница) целеустремленный человек, не зависящий ни от божеств милосердия, ни от посторонней помощи, который может по примеру Будды самостоятельно достичь нирваны, состояния абсолютного покоя.
(обратно)12
Знаменитая фраза буддистов хинаянского толка, поскольку они отрицали бога вообще, ставя на его место нравственный закон кармы (причинной наследственности).
(обратно)13
Уйгурское индикутство образовалось в IX в., после того как основатель династии Баку Чин отнял у слабеющего Тибета города Турфан, Бэйтин, Карашар и Бугур. Соответственно индикут — что-то вроде княжеского титула у уйгуров. Образованное Баку Чином государство не было сильным в военном отношении, но сама местность, окруженная со всех сторон Тянь-Шанем, Тибетом и пустыней Такла-Макан, создавала почти непреодолимое препятствие для ведения захватнических войн.
(обратно)14
Пятым, потому что это было еще до рождения Кулькана, который появился на свет буквально за несколько лет до смерти Чингисхана.
(обратно)15
Битекчи (в переводе с тюркского писарь) — так называлась должность первых чиновников в империи Чингисхана. Кстати, самый первый из них, появившийся после разгрома найманов в 1204 г., по имени Тататунга, был именно из уйгуров.
(обратно)16
Имеется в виду Великий шелковый путь, как его стали называть через несколько веков.
(обратно)17
Сейхун — Сырдарья.
(обратно)18
Имя Чингисхана после его смерти стало настолько священным, что даже его дети и внуки перестали его употреблять, копируя мусульман, употребляющих слово «Аллах» преимущественно во время молитв.
(обратно)19
Серый кречет, держащий в когтях черного ворона, был изображен на знамени Чингисхана. Выбор птицы не случаен. По преданию, кречет был покровителем всего рода Чингисхана, так как его бедный предок Бадуенчар жил исключительно благодаря охоте своего прирученного кречета (прим. В. Яна).
(обратно)20
Сокол русичей — на гербе Рюрика и всех его потомков был изображен сокол.
(обратно)21
О том, как он попал из XX века в XIII, подробнее см. «Княжья доля».
(обратно)22
Об этом подробнее см. «Око Марены».
(обратно)23
Айюбиды — династия, происходящая из курдского племени хазбани, которые начинали со службы сельджукским правителям Алеппо и Мосула, а затем султанам Египта из династии Фатимидов. В 1171 г. Салах ад-дин (Саладин в европейском произношении) произвел переворот и был признан багдадским халифом в качестве нового султана Египта, а позднее Сирии и всего Ближнего Востока, включая Йемен.
(обратно)24
Сыгнак — в XIII в. богатый торговый город на Сырдарье, первоначальная столица улуса Джучи. Ныне там нет даже населения — только развалины.
(обратно)25
Рота — клятва (ст-слав.).
(обратно)26
Здесь и далее Горесев читает книгу араба Абдула аль-Хазреда, которая позднее получила название «Книга мертвых». Рукопись найдена в Дамаске и датируется 730 г. н. э.
(обратно)27
По монгольским преданиям, все монголы произошли от Бортэчино (Сивого волка) и Гоамарал (Прекрасной лани), которые, переплыв Тенгис (внутреннее море), поселились в долине Онона.
(обратно)28
Подразделение отборных воинов кешиктенов, предназначенное для охраны ханской ставки, было учреждено еще Чингисханом в 1206 г. в составе 150 человек. Оно делилось на турхаудов, несших дневную стражу, и кебтеулов, стоявших на посту ночью. Подчинялись они непосредственно самому Чингисхану, и даже рядовой ке-шиктен имел те же права, что и тысячник.
(обратно)29
Слиток, или дин серебра — мера веса в средневековом Китае. В одном дине — 1,865 кг, или 50 лян (37,3 г). То есть Бату пообещал почти две тонны серебра.
(обратно)30
27 ноября — 26 декабря 1239 г.
(обратно)31
Ожиг — пламя (ст-слав.).
(обратно)32
Об этой девушке подробнее см. «Око Марены».
(обратно)33
Гургандж — так назывался современный Ургенч.
(обратно)34
Джейхун — так называлась Амударья.
(обратно)35
Веревка на шее — знак безусловной покорности, говорящий о том, что пришедший целиком передается на милость того, к кому он явился, сознает свою безмерную вину и со смирением готов принять за нее любую кару вплоть до смертной казни.
(обратно)36
Синяя печать ставилась на документы, отправляемые к правителям независимых государств, а красная — на все прочие, включая правителей тех народов и стран, которых монголы считали за своих слуг, пускай и будущих.
(обратно)37
Об этом подробнее см. книгу «Око Марены».
(обратно)38
В Ясе по этому поводу указано, чтобы «не резали барана, а рассекали им по обычаю монголов грудь, и всякого, кто зарежет барана… убивать таким же способом, а его жену, детей, дом и имущество отдавать доносчику» (об этом говорится у Рашид ад-Дина).
(обратно)39
Рамаяна — древнеиндийская эпическая поэма на санскрите. Приписывается легендарному поэту Вальмики.
(обратно)40
Байбак — суслик (монг.).
(обратно)41
Сыновец — племянник (ст-слав.). Иногда для конкретизации говорили братанич (сын брата) или сестринич (сын сестры).
(обратно)42
Стрый — так у славян того времени именовался брат отца. Брат матери для племянников был уй.
(обратно)43
Об этом подробнее см. «Красный год».
(обратно)44
В Ясе говорится: «Если уж нет средств против питья, то человеку нужно напиться три раза в месяц. Как только он перейдет за три раза — совершает наказуемый проступок».
(обратно)45
Саин-хан — справедливый хан (монг.).
(обратно)46
Бату имеет в виду ярлык-приказ (завещание) Угедея, по которому великим кааном должен был стать его внук Ширамун, сын Кучу.
(обратно)47
Бури был двоюродным племянником Бату. Он — первенец Му-тугена, самого любимого сына Чагатая, которого также высоко ценил и Чингисхан. Мутуген погиб совсем юным, пораженный стрелой, выпущенной в него во время осады одного из городов тангутов в 1223 г.
(обратно)48
Джихангир — главный предводитель всего войска (монг.).
(обратно)49
Чапан — халат (монг.).
(обратно)50
Гавран — ворон (ст-слав.).
(обратно)51
Прок — в то время на Руси это слово означало остаток. Отсюда и дошедшие до наших дней выражения: «а будет ли прок», «прок небольшой», «хоть какой-то прок», которые, правда, трактуют это слово больше как «толк», «смысл», «польза».
(обратно)52
Пардус — барс (ст-слав.). Здесь, очевидно, имелся в виду снежный барс.
(обратно)53
Яруги — овраги (ст-слав.).
(обратно)54
В мусульманстве Христос почитается в качестве пророка Исы, наравне с Магометом и Моисеем.
(обратно)55
Сирах — мост, перекинутый над адом, который должен пройти каждый мусульманин после смерти. Он тонок, как волос, острый, как лезвие меча, и горячий, как пламя. Если правоверный преодолевал его, то оказывался в раю.
(обратно)56
Имеется в виду северокитайская империя Цзинь, которая существовала с 1113 г. и была разгромлена монголами.
(обратно)57
Даругачи — что-то вроде верховного надсмотрщика в какой-либо области.
(обратно)58
Высшая степень пайцзы.
(обратно)59
Огненные стрелы — род зажигательных стрел, на древке которых монтировалась трубка, начиненная порохом. Они выбрасывались из обычного лука, а зажженный порох придавал стреле дополнительное ускорение. Использовались для поджога строений в осажденном городе.
(обратно)60
Огневые кувшины — что-то вроде «первобытных» бомб, имевших вид шарообразных глиняных сосудов, начиненных порохом или горючей смесью. Взрывались над целью с сильным грохотом, за что получили название «исторгающие гром», и распространяли пламя на 50 с лишним метров.
(обратно)61
Хуйхуйпао (кит.) — камнемет с противовесом. Монголы завезли его в Китай из Средней Азии, отсюда и это название, которое ему дали китайцы. Еще они называли его сиюй ноа — орудие западного края. Арабы именовали его манжаник. На мусульманском Востоке он появился в XII в.
(обратно)62
93—112 кг.
(обратно)63
Автор намеренно приводит булгарское наименование Волги.
(обратно)64
Речь идет о торжественной клятве булгар, которая заканчивается словами: «разве тогда нарушим договор свой, когда камень начнет плавать, а хмель тонуть». Именно так, заключая союзный договор, поклялся Абдулла князю Константину.
(обратно)65
Фланкирующий — боковой.
(обратно)66
Ак-пулат — самая знаменитая и роскошная баня Булгара. Ее длина составляла тридцать метров, высота — шесть. Она имела не только пол с подогревом, но и специальный бассейн для омовения.
(обратно)67
Для сравнения — при взятии Нишапура (города в государстве хорезмшахов) войска Чингисхана подогнали к его стенам 200 катапульт.
(обратно)68
Летописцы рассказывают, что, когда Ходжент, сопротивлявшийся четыре месяца, был взят, монголы вывели в степь уцелевших жителей. Там они отделили женщин от мужчин, удержав тех, кто им понравился, а остальных раздели догола, разделили на два отряда, окружив их плотным кольцом вооруженных воинов, и сказали: «В вашем городе хорошо дерутся на кулаках. Хотим посмотреть, как это умеете делать вы». Поначалу неохотно, а затем все больше и больше входя в раж, женщины долгое время избивали друг друга, пока монголам не наскучило это зрелище и они не истребили всех.
(обратно)69
Хашар (букв, толпа) — бесправное население завоеванной области, используемое монголами на тяжелых вспомогательных работах, включая осадные, и при непосредственном штурме. Это было придумано на Востоке задолго до Чингисхана, но до совершенства доведено именно им. Хашар был четко организован — во главе каждого десятка стоял монгол, который контролировал выполнение приказов.
(обратно)70
Ак-Орда— Белая Орда. Названа так, поскольку считалось, что она старшая.
(обратно)71
Хорезмское море — так тогда именовали Аральское море. Империя хорезмшахов рухнула под копытами монголов, но название еще долго оставалось неизменным.
(обратно)72
Каменные горы — Урал.
(обратно)73
Его улус был назван Ок-Орда — Синяя орда.
(обратно)74
«Словом, у государя, покорителя мира Джучи — хана из сокрытий небытия на стоянку существования вступило четырнадцать сыновей…» (Из летописи Шараф-Нама-йи Шахи)
(обратно)75
О его гибели подробнее см. в книге «Красный год».
(обратно)76
Бату имеет в виду знаменитую Железную пагоду — Тэту, расположенную в городе Кайфыне, которая сохранилась до наших дней. Свое название она получила из-за цвета облицовки, узорных глазурованных керамических плит рыже-бурого оттенка, напоминающего цвет ржавчины.
(обратно)77
Скорее всего, Бату вспоминает Цайчжоу, последнюю столицу империи Цзинь. Именно в ней покончил самоубийством отрекшийся от престола император Нинъясу, а последнего императора — Чинлиня — убили взбунтовавшиеся воины.
(обратно)78
Пестерь — корзина (ст-слав.).
(обратно)79
Калюка — змея (ст-слав.).
(обратно)80
Седмица — неделя (ст-слав.).
(обратно)81
Рота — клятва (ст-слав.).
(обратно)82
Дастархан в то время означал не только угощение, но и покрывало или скатерть для этого угощения.
(обратно)83
Притч. 19: 21.
(обратно)84
Израдник — изменник. От старославянского израда — измена.
(обратно)85
Видоки и послухи — свидетели на Руси того времени, которые что-то слышали (послухи), либо что-то видели (видоки).
(обратно)86
Клюка — хитрость, приманка, обман (ст-слав.).
(обратно)87
Напоминаю, что речь идет о старой Рязани, а не Переяславле-Рязанском, до которого расстояние больше.
(обратно)88
Об этом и о том, как Константин попал в XIII в., подробно см. в книге «Княжья доля».
(обратно)89
В конце XX — начале XXI в. вплоть до окончания написания этой книги (октябрь 2007 г.) денежная компенсация за продовольственный паек выплачивалась всем контрактникам (от рядового до генерала) в размере 20 рублей в сутки, в то время как на питание служебных собак в тех же внутренних войсках выделялось почти втрое больше, так что Вячеслав не преувеличивал, воздав должное российскому правительству. Отсюда и заявления офицеров в суды, суть которых заключалась в одной фразе «Хотим, чтобы нас кормили как собак».
(обратно)90
Вторым браком Святослав Константинович обвенчался с Марией, дочерью болгарского царя Иоанна-Асеня III (царь Болгарии в 1218–1241 гг.).
(обратно)91
Фракия — историческая область между Болгарией и Македонией.
(обратно)92
Первое болгарское царство существовало с VII в. В 1018 г. оно было покорено войсками Византийской империи во главе с императором Василием II Болгаробойцей (960/976—1025). Возродилось в результате восстания, вспыхнувшего в 1186 году под руководством Иоанна-Асеня I и его брата Петра. Сыном первого из них и был Ио-анн-Асень II.
(обратно)93
Ясы — так на Руси именовали в то время предков осетин — аланов.
(обратно)94
Четверых старших сыновей, включая уже умерших Джучи и Толуя, родила Чингисхану его старшая и любимая жена Борте-Фуджин, дочь Дай-нойона, правителя монгольского племени кунгират. Пятого сына Кулькана родила другая жена — Калан-хутан, дочь Тайр-Усуна, правителя племени ухар-меркит. Все остальные сыновья его пяти главных жен умерли еще в детстве.
(обратно)95
Инанджхан — один из самых талантливых полководцев хорезм-шаха Мухаммеда. В сражении с монголами при Наджуване одержал над ними победу.
(обратно)96
О битве полков Константина с монголами у Красных холмов рассказывается в книге «Красный год».
(обратно)97
Имеется в виду Бату, которого натаскивал в ратной науке именно Субудай.
(обратно)98
Поэт Василий Иванович Лебедев-Кумач (1898–1949) был автором слов песни «Священная война».
(обратно)99
Вражек — овраг (ст-слав.).
(обратно)100
Кирьяты — название одного из башкирских племен.
(обратно)101
Христиане несторианского толка так назывались по имени своего духовного учителя архиепископа Константинопольского (в то время еще не было патриархов и митрополитов) Нестория, утверждавшего, что следует разделять сущности бога-сына на человеческое и божественное. Нельзя говорить, что бог родился, страдал и был распят, ибо это был человек. Потому и мать его является не бого-, а хри-стородицей. Был осужден на III Вселенском соборе в Эфесе в 431 г. Позже его ученики перебрались в Персию, создали там свою школу и начали распространять свое учение дальше на восток. Они назывались также халдейскими христианами, а в Индии — христианами-фомитами, по имени своего учителя Фомы.
(обратно)102
Баурши — заведующий хозяйством у монгольских ханов и начальствующий над всеми слугами.
(обратно)103
Гутулы — монгольские сапоги без каблуков, выложенные изнутри войлоком.
(обратно)104
Монголы не знали поцелуев. Они заменяли их именно этим ритуальным жестом.
(обратно)105
Каменный пояс — так монголы называли Уральские горы.
(обратно)106
Под справедливостью хан подразумевает то, что помимо обязательной пятой части общей добычи, которая уходила в Каракорум для великого каана Угедея, самому Бату, как джихангиру всего войска, тоже полагалась пятая часть.
(обратно)107
Летописи рассказывают, что Чингисхан ездил только на саврасых жеребцах, и даже среди этой масти предпочитал огненно-рыжих.
(обратно)108
Камо грядеши — куда идешь (ст-слав.). — по одному из христианских сказаний, так обратился бежавший из Рима апостол Петр к Христу, когда встретил его призрак, направляющийся в Рим.
(обратно)109
Ризы — здесь подразумевается металлическая окантовка по углам икон. Она была очень искусной, с красивыми узорами, зачастую из драгоценных металлов.
(обратно)110
Святозар цитирует церковнославянский текст евангелия от Матфея (6:34). В современном тексте эта фраза звучит так: «довольно для каждого дня своей заботы».
(обратно)111
Огневица (она же позже называлась Антонов огонь) — название гангрены у славян. Происходит от ярко-багрового цвета, который приобретают пораженные ткани.
(обратно)112
Покляп — согнутый, искривленный (ст-слав.).
(обратно)113
Смага — могущий (ст-слав.).
(обратно)114
Пестал — качал, игрался, баюкал (ст-слав.).
(обратно)115
Красно — красиво (ст-слав.).
(обратно)116
Стихотворное переложение Бориса Примерова.
(обратно)117
Кумган — металлический кувшин с длинным изогнутым носиком.
(обратно)118
Кель — так у монголов назывался центр войска.
(обратно)119
Товар — в те времена так часто называли обозы, даже те, что следовали с войском.
(обратно)120
Ханьцы — китайцы. Бату имеет в виду империю Цзинь.
(обратно)121
Подтверждением этому может служить именно та стратегия, которую он применял позже в отношении южнокитайской империи Сун. Она заключалась в отсечении городов по окраинам империи дальними рейдами. Что-то вроде глубоких прорывов Гудериана, только вместо танков — конница. Воистину, ничто не ново под луной.
(обратно)122
Имеются в виду Булгар и Биляр.
(обратно)123
От Саратова до старой Рязани, если измерять расстояние линейкой, примерно полтысячи километров. Учитывая, что Гуюк шел по дуге, можно смело прибавить еще половину. 50 км в день — более чем приличный показатель для движения средневекового войска.
(обратно)124
В монгольском войске даже темники крайне редко принимали участие в сражении.
(обратно)125
Алдар — правитель области в средневековой Алании.
(обратно)126
Афсург — конская порода, отличавшаяся необычайной быстротой бега. По внешнему виду, особенно из-за длинных ног, похожа на современных ахалтекинцев.
(обратно)127
Знамена — в то время это слово означало не флаг, а скорее особый знак.
(обратно)128
Аверс — лицевая сторона монеты.
(обратно)129
Уйгуры к тому времени поголовно приняли христианство несто-рианского толка и среди всех кочевников Центральной Азии представляли собой наиболее образованное племя, отчего, наряду с китайцами, занимали почти все канцелярские должности у чингизидов, особенно в первой половине XIII в., во времена Чингисхана и Угэдэя.
(обратно)130
Великий улус монголов — так официально именовалась империя уже во времена Угедея. Это название стояло на печати великого каана. При Чингисхане ее первоначальное название звучало как «Хамач монгол улус» (Всенародное государство монголов).
(обратно)131
Норны — скандинавские богини, которые помогают при родах и прядут нити судеб людей. Из них наиболее известные: Урд («Судьба»), Верданди («Становление») и Скульд («Долг»). Когда заканчивается срок жизни человека, одна из них перерезает своими острыми ножницами нить его жизни.
(обратно)132
Ур или уран — клич у воинов-монголов, да и у прочих кочевых народов. Каждый род имел особый уран, помогающий в бою созывать и подбадривать друг друга.
(обратно)133
Об этом подробнее см. «От грозы к буре».
(обратно)134
Если кто-то решит, что автор явно перемудрил, рекомендую для прочтения первый том «Русского оружия», выпущенный в 1953 г. Госкультпросветиздатом. Там говорится, что такие «секретные гаубицы» были сконструированы и после соответствующего испытания переданы на вооружение русской армии еще в XVIII в. (стр. 77).
(обратно)135
Валькирии — девы войны, подчиненные богу Одину. Считаются богинями воинской судьбы. Они появляются над полем сражения как вестницы неизбежных смертей. Слово «валькирия» означает — «выбирающая убитых». Из павших в бою воинов они отбирают храбрых, погибших смертью героев, и уносят их души в небесную Валь-халлу, чертог убитых.
(обратно)136
Один — верховный бог, в скандинавской мифологии царь Асов и покровитель воинов. Имя его в переводе означает «одаренный», «одержимый», ибо власть его основана не только или даже не столько на силе, сколько на великой мудрости, магических способностях. Кроме того, он был отцом многих Асов, а также первым царем и великим завоевателем.
(обратно)137
Здесь имеется в виду то, что Один, как и Субудай, тоже был одноглазым. Он подарил свой правый глаз великану Мимиру за право напиться из источника мудрости.
(обратно)138
Громницы — так называли свечи, которые носили для освящения в церковь.
(обратно)139
Лхамо Бурдзи — богиня материнства, чадохранительница у тибетских народов. Появляется в облике золотой женщины с веретеном и клубком ниток.
(обратно)140
Тхеб Иумо — богиня домашнего очага. Представала перед людьми в белых одеждах, бирюзовых украшениях и с золотым ковшом в руках.
(обратно)141
30 мая — 27 июня 1234 г.
(обратно)142
Тайджи — титул монгольских царевичей.
(обратно)143
Цитируется по официальной китайской хронике «Юань ши» (Основные записи. Цзюань 1).
(обратно)144
Гурдерейн-Дзаргу — верховный общегосударственный суд.
(обратно)145
Чжунъюань — так назывался Китай.
(обратно)146
Исторический факт. О засухе и нашествии саранчи в год у-сюй (1238) написано в китайских хрониках.
(обратно)147
Один слиток или дин составлял 1865 граммов серебра. То есть Абд-ар-Рахман выложил более 41 тонны, чтобы получить 82 тонны.
(обратно)148
День ген-инь — 30 декабря 1241 г.
(обратно)149
День синь-мао — 31 декабря 1241 г.
(обратно)150
Доподлинно известно, что каан Гуюк был окрещен по настоянию своей матери Туракины-хатун, которая и сама была христианкой несторианского толка.
(обратно)151
Пятая луна года цзя-чень — время с 7 июня по 6 июля 1244 г.
(обратно)152
Девятая луна года дин-вэй — время с 1 по 29 октября 1247 г.
(обратно)153
Машбалу — Низкое место (арам.).
(обратно)154
Хусн-убрайа — Крепость на переправе.
(обратно)155
По преданию, аббасидские халифы вели свое происхождение от дяди пророка Мухаммеда ал-Аббаса, откуда и пошло наименование их династии.
(обратно)156
Одно из любимых выражений Менгу гласило, что все пять религий (имеются в виду христианство, ислам, конфуцианство, даосизм и буддизм) для него как пять пальцев на одной руке. Все ему нужны и равно дороги.
(обратно)157
Мамлюки — привилегированное конное войско, формируемое из подростков-рабов, купленных на невольничьих рынках. Формирование корпуса мамлюков берет свое начало со времен султана Салах ад-дина. Они подразделялись на бахридов, которые были тюркского происхождения (в основном кипчаки), и бурджидов — преимущественно горцы с Северного Кавказа (черкесы).
(обратно)158
Бахр по-египетски означало море. Отсюда и их название — бахриды.
(обратно)159
Маристан — госпиталь (араб.).
(обратно)160
Придворные льстецы присвоили ему посмертное имя Цзянь-пинь-хуанди, что означало «Справедливо судивший император».
(обратно)161
«Заслуженный сановник, верно и старательно отдававший все силы в помощь царствующим императорам».
(обратно)162
Это звание — очень высокий ранг чиновника в Китае. Буквально означает «равен саньсы», где саньсы, или три чуна, означают трех высших министров императора — сыма, сыку и сыту.
(обратно)163
Китайские чиновники, обожавшие пышные титулы, постарались приучить к тому же самому и монгольских ханов. Так Темучжина, помимо обычного имени Тай-цзу, что означало «Великий предок» (стандартное имя родоначальника династии), посмертно окрестили Фа-тянь ци-юнь (Сообразующийся с Небом и открывающий судьбу), а также Шен-у хуанди (Священно-Воинственный император). Угедей, кроме стандартного Тай-цзун (Великий предок, второй император династии) был посмертно назван Инвень-хуанди (Гениально-Культурный император). Цитируется по официальной хронике династии Юань (Основные записи. Цзюань 1).
(обратно)164
«Твердый в крепости».
(обратно)165
Хулан-хатун была дочерью Тамр-Усуну, правителя племени ухар-меркит.
(обратно)166
Кат — палач (ст-слав.).
(обратно)167
Аманат — заложник (араб.).
(обратно)168
Баские — нарядные, красивые (ст-слав.).
(обратно)169
Уй — дядя со стороны матери (ст-слав.).
(обратно)170
Впервые присвоил себе этот пышный титул римский папа Иннокентий III (1198–1216).
(обратно)171
Соборование, иначе называемое елеосвящением, — одно из семи христианских таинств, которое совершается над тяжело больным человеком в последней надежде, что господь смилостивится и пошлет выздоровление.
(обратно)172
Слово «братан» в те времена на Руси означало двоюродного брата.
(обратно)173
Об этом подробнее см. в эпилоге книги «Око Марены».
(обратно)174
Об этой прогулке подробнее см. в книге «От грозы к буре».
(обратно)
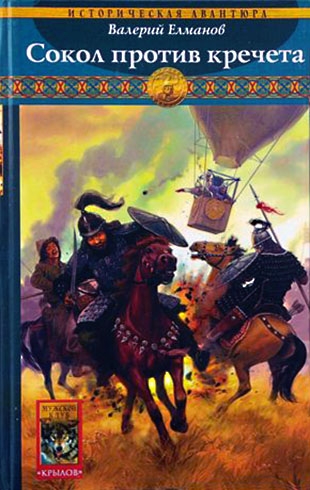








Комментарии к книге «Сокол против кречета», Валерий Иванович Елманов
Всего 0 комментариев