Дмитрий Заваров Эхо войны
В оформлении фона обложки использована иллюстрация: alexaldo / Shutterstock.com
Используется по лицензии от Shutterstock.com
На обложке фрагмент работы художника Игоря Варавина
В оформлении использован рисунок художника И. Варавина из проекта «СМЕРШ идет по следу. Спасти Сталина!» серия «ВОЙНА. ШТРАФБАТ. ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ! 2015 год»
Глава 1
4 октября 1943 года. Позиции 1078-го стрелкового полка 322-й стрелковой дивизии
Дверь «Студебеккера» распахнулась с каким-то театральным скрипом. В прокуренную кабину, словно поджидал этот момент, сразу же ворвался пахнущий осенней сыростью ветер, ударил в лицо, сорвал с самокрутки несколько крупных оранжевых искр.
Я нащупал ногой невидимую в темноте подножку, встал на нее, машинально похлопал себя по карманам – все ли на месте, подтянул планшет.
Темень стояла хоть глаз выколи. Только за еле различимой гребенкой леса облака подсвечивались холодными, мерцающими отблесками – видимо, от осветительных ракет.
– А это точно 78-й?
– Вторую неделю тут мотаюсь!
Тень шофера качнулась в полумраке кабины, и вдруг перед капотом вспыхнули два синеватых световых конуса, стала видна разъезженная, усыпанная кляксами жирной грязи дорога, от которой в сторону леса отпочковывался совсем уж убитый проселок с глубокими, залитыми водой колеями. Перед поворотом стояла струганая слега с раскисшим фанерным указателем: «Хозяйство Казначеева». Фары так же резко погасли, и ночь снова залепила глаза.
– Тут с полкилометра, не больше, – обнадежил водитель.
– Ну ладно тогда. Бывай, что ли?
– Табачку бы отсыпали, товарищ лейтенант. – На силуэте головы блеснула полоска зубов.
– Держи.
Я кинул на сиденье почти полную пачку госпитальной махорки – все равно не могу ее, проклятую, курить. Подцепив вещмешок, спрыгнул на землю, хлопнул дверью. Водитель рванул с места – подпрыгивая в ночи, замигали светлячки стоп-сигналов и, метнувшись влево, исчезли. Едко-ароматное облачко бензиновой гари растеклось над невидимой дорогой. В наступившей тишине явственно проступили осторожные, вкрадчивые звуки: шум ветра в траве, шелест листвы, далекие удары артиллерии. Я в две затяжки добил вонючую самокрутку и посмотрел на часы: светящиеся стрелки показывали ровно полвторого.
Дождь закончился, когда выезжали со станции, однако воздух все еще был густо пропитан влагой. Из-за горизонта, совсем у края, показалась яркая звезда – ракета, – будто выглянула из озорства. И тут же нырнула обратно, оставив после себя бледное пятно зарева.
Километра два – прикинул я расстояние до передовой. Включил фонарик и, обходя заполненные водой выбоины, двинулся в сторону леса. Как только дорога нырнула в березняк, наполненный шорохом падающих капель, путь перегородили две комковатые тени: бойцы в плащ-палатках, за их спинами, на обочине, виднелось что-то типа грубо сколоченного навеса с лавочкой и столиком. По глазам полоснул луч, заставив зажмуриться.
Предвосхищая вопрос, я было полез за документами, но, заметив, как один нервно дернул стволом ППШ, замер. «Бдительность!» – прозвучал в голове свирепый голос майора Кузуба. Пристрелят еще, стражи рубежей…
– Предъявите документы! – обратился тот, что постарше, с вислыми усами.
Вот теперь можно. Который помоложе, совсем салага еще, все так же грозно выставив ствол, внимательно следил за моей рукой. И под этим взглядом я плавно извлек из кармана гимнастерки удостоверение. Луч фонаря переместился на документ, и я с облегчением проморгался.
– Аптамат поправь, служивый, – посоветовал молодому.
Шмыгнув носом, парень сделал вид, что это к нему не относится. Усатый старшина скрупулезно рассматривал удостоверение. Впрочем, в движениях его уже появились нотки почтения. Ну да: лейтенант Зуев Алексей Семенович, Смерш.
– Убери, – буркнул усатый напарнику.
Автоматный ствол нырнул в темноту. Паренек снова шмыгнул носом.
– Где особый отдел, ребята? – поинтересовался я, принимая удостоверение от козырнувшего старшины.
– Так что сейчас до полянки и направо, вдоль опушки. Там спросите. Только фонарь выключите, запрещено в ночное время.
Сообщив это, усатый устало козырнул и пошагал к навесу. Чуть поколебавшись, молодой автоматчик двинулся следом. Я услышал, как он с плеском оступился в колею и неумело выругался. «Бдительность!» – мысленно рявкнул я в сутулую спину героя. Можно было бы и вслух, но существовала вероятность, что этот «бывалый» фронтовик непроизвольно начнет стрелять. Отойдя метров на пятьдесят, я снова включил фонарь: по такой темноте пусть сами ходят на ощупь.
Искать ничего не понадобилось. Первым, кто встретился мне на наполненной еле видной ночной жизнью поляне, был сам шеф, полковник Мощин: его долговязую сгорбленную фигуру нельзя было не узнать даже в вязкой осенней темноте.
То, что у Мощина чутье – о том знали в отделе все. Серега Фрязин на полном серьезе рассказывал, что шеф умеет читать мысли, причем даже по-немецки. Я в эти антинаучные заявления, конечно, не верил, но факт был налицо: в который раз уже полковник умудряется оказываться в нужном месте в нужное время.
– Здравия желаю, вашество! – язвительно произнес шеф.
– Рад стараться! – Я пожал плечами.
Пауза затягивалась. Откуда-то тянуло сладковатым березовым дымом, но костра нигде не было видно. Я не выдержал первый:
– А как еще я мог добраться, Федор Степаныч? На такси денег не выделили.
– Ладно, путешественник, пошли, – смилостивился Мощин. – Фонарь гаси, у нас тут с маскировкой строго. Бомбят. Как плечо? – поинтересовался он, уже развернувшись.
– Нормально.
– А вещмешок почему слева?
Я только хмыкнул и поспешил следом. Сейчас было сложно прикинуть размеры поляны, но, судя по всему, места хватало. В темноте чувствовалось присутствие большого количества деятельного народа: чавкали шаги, слышались обрывки разговоров, то тут, то там ночь протыкали багровые точки сигарет. Полковник споро шагал по тропинке вдоль опушки – под сенью деревьев виднелись угловатые силуэты, срывающиеся капли выбивали неритмичную дробь на жести автомобильных крыш, глухо шлепали по дереву. Однажды на нас пахнуло ароматом гречневой каши с мясом, пустой желудок отозвался надеждой, но полевую кухню разглядеть не удалось, хотя звон посуды раздавался совсем рядом, за густой порослью орешника.
Размечтавшись об ужине, я еле углядел, как сутулая тень Мощина нырнула в темнеющий проход меж деревьев. Метнулся следом и чуть не наскочил на шефа: полковник остановился у невысокого ограждения из березовых слег. В земле невнятно просматривалась широкая щель входа в землянку.
Шеф схватился за поручень, но тут же замер, прислушиваясь. Впереди, за лесом, несколько раз ухнули зенитки, истерично протарахтел пулемет. И все затихло. А спустя пару секунд заострившийся слух вычленил в шуме шелестящей листвы нарастающий тугой гул. Фигура полковника выпрямилась и застыла с задранной головой. Самолеты шли достаточно высоко, судя по всему – несколько звеньев.
– «Хенкели», – уверенно заявил Мощин.
Я не стал спорить. К тому же, откровенно говоря, по звуку различать немецкие самолеты не научился. Было у меня подозрение, что и товарищ полковник в этом не силен…
Попав на фронт, шеф как-то быстро вошел в роль бывалого вояки: с удовольствием носил форму, усиленно обрастал привычками и манерами кадрового военного. Получалось у него это не всегда аутентично, но пусть уж – как говорится, чем бы дитя ни тешилось.
А землянка вопреки ожиданию оказалась довольно-таки уютной. Бревенчатый потолок был достаточно высок даже для долговязого полковника, аккуратно подогнанные доски прикрывали стены, делая помещение похожим на баню. Впечатление портил только утоптанный глиняный пол. У дальней стены торцом стоял импровизированный стол, собранный из снарядных ящиков, за отгороженным плащ-палаткой углом виднелся край походной кровати. Слева от входа, возле заставленного посудой ящика, сидел, нет, точнее – возвышался Сема… а если совсем точно: ординарец и водитель полковника Мощина сержант Тимохин Семен Федорович. При свете «летучей мыши» подшивал воротник гимнастерки. Его широкое конопатое лицо расплылось в радостной улыбке, отчего стало еще шире. Хороший человек Сема, отзывчивый, метра под два ростом, косая сажень в плечах, ну а мозгов много ординарцу не надо, чай, не следователь по особо важным делам.
– Леха! – радостно выкрикнул Сема.
Он вскочил и даже будто бы сделал попытку обнять меня, отчего я невольно отшатнулся: попасть в лапы этого медведя… Плечо еще болело, как правильно догадался товарищ шеф.
– Семен! – одернул его Мощин. – Сходи на кухню… полевую кухню. Сгоноши поесть. И кипятка там организуй. Быстро.
– Есть, – щелкнул каблуками Тимохин.
Сема ухватил со стола два котелка, мимоходом с хрустом пожал своей лопатой мою бедную руку и выскочил наружу.
– Будто не в армии, а на завалинке, – проворчал полковник. – Стыдно перед офицерами.
Он прибавил фитиль в лампе и перенес ее на свой стол. Я огляделся, скинул в угол вещмешок, повесил на стену сырой плащ и уселся напротив Мощина, осторожно сдвинув в сторону папку с документами.
– Шикарная землянка. – Я решил подбодрить шефа.
– В наследство досталась, от местного особиста. Твой друг майор Краснов приютил по-братски, а сам счел целесообразным перебраться поближе к штабу дивизии.
Мощин закурил. Я демонстративно достал запечатанную пачку махорки и, положив на стол, попытался оторвать полоску бумаги от газеты.
– Ну на, на, кури! – Полковник бросил на стол пачку «Казбека». – Бедный родственник!
– Кто мы, и кто вы. – Я хищно завладел папиросой.
– Не прибедняйся, – попросил Мощин.
Щурясь от ароматного дыма, он внимательно, оценивающе осматривал меня. Я вытянул вперед правую руку, продемонстрировал ее работоспособность. Полковник покивал. С ответной бесцеремонностью я оглядел шефа. Все без изменений: глубоко посаженные колючие глаза, шишковатый бритый череп, огромный мясистый нос, остро выступающий подбородок. К фигуре Мощина больше всего подходило определение «несуразная»: мосластые руки, длинные худые ноги, чрезвычайно сутулая спина.
– Сойдет? – спросил Мощин, дождавшись окончания осмотра.
– А есть варианты?
– Вот именно! – скупо улыбнулся полковник, но тут же сменил тон: – К делу. Сегодня… точнее, уже вчера, около шести часов утра примерно в тридцати метрах от наших позиций был обнаружен труп немецкого солдата, фельдфебеля в форме артиллериста. Сквозное ранение спины чуть ниже левой лопатки: идеально круглое отверстие диаметром около пяти сантиметров. Поражающий элемент не найден. Оружие идентифицировать не удалось. Есть мнение, что этот случай по нашей части.
Деловая манера полковника, хорошо знакомая по работе в МУРе, перечень фактов, четкие формулировки – я невольно почувствовал азарт. Может быть, действительно по нашей части? У него, шефа, отменное чутье.
– Тело? – спросил я быстро.
– В Ельск отвезли, в морг.
– Место осмотрено?
– С этим затруднение, Леша, – вздохнул полковник и поскреб ногтем край лежащей перед ним тетрадки. – Берег реки, у самой воды. Склон простреливается противником – до его позиций на том берегу не больше двухсот метров. Осмотр возможен только ночью…
– Ну так осмотрели? – нетерпеливо перебил я.
– Осмотрели, куда деваться-то. Но так, по мере возможности. – Мощин пожал плечами совершенно по-штатски. – Лично лазил. Ничего не нашли.
– С чего вы взяли, что неизвестное оружие? Вдарили чем-то типа трубы…
– Поедешь завтра в морг, сам посмотришь. Аккуратное отверстие на кителе, майке, ровные края раны, явный полукруг на лопатке, ребрах… И никаких деформаций. Как дыроколом пробили.
– Кто еще этим занимается?
– Пока никто, – лукаво улыбнулся полковник.
– Как это? А пятый отдел? Чудо-оружие все-таки.
– Я не докладывал. Возможно, это наш шпион. Если так, им сразу займутся другие, а нас отодвинут.
– Почему сразу шпион? – отметил я, вытягивая из командирской пачки еще одну папиросу.
– Почему?… – переспросил полковник, окинув меня каким-то странным взглядом, будто примеряясь, как половчее ударить.
– Чего? – Я сразу же насторожился.
Знаем этот взгляд, встречали уже. Сейчас будет интересно! Мощин закурил, посидел какое-то время, выпуская дым в потолок. Гремя котелками, вернулся Сема. Без слов разложил добытую провизию на ящике и так же без слов, покосившись на нас, молча выпускающих дым, вышел.
– На правом бедре трупа фельдфебеля была обнаружена русская надпись, предположительно кровью: «ле Андре». Расшифровано мной как «лейтенант Андреев».
– Не слишком ли самоуверенно?
– Отнюдь. В нашем стрелковом полку как раз имеется лейтенант Андреев, командует разведротой.
– Резонно, – согласился я. – Но зачем было писать его имя на трупе?
– Интересно другое: прозектор клянется, что при первичном осмотре, когда срезали одежду, надписи этой не было. Появилась она потом.
– Ну это понятно. Вряд ли немец перед тем, как перейти на сторону врага, писал кровью на бедре имя советского командира.
– А между тем писал именно он, – спокойно, даже как-то равнодушно заявил полковник.
И снова мы уставились друг на друга. В наступившей тишине было слышно, как потрескивает фитиль в керосинке и шуршит что-то за обшивкой стены. Я глубоко, до рези в горле, затянулся и растер окурок по стенке гильзы-пепельницы.
– Откуда такая уверенность? – поинтересовался лениво.
– На-ка вот, посмотри.
Пока шеф рылся в бумагах, я незаметно стянул из пачки пару папирос – от него не убудет, а у меня от ихней махорки глаза вываливаются. Только успел припрятать добычу, как Мощин бросил передо мной небольшую книжицу в потрепанной кожаной обложке, перетянутую бечевкой.
– Что это?
– Что-то вроде дневника нашего русско-немецкого трупа. Рекомендую ознакомиться. Весьма занимательно.
Глава 2
20 августа 2016 года. Киев
Когда город теряет свое имя? Сталинград во время Второй мировой разнесли в пыль, но он все равно остался Сталинградом. А вот этот, хоть и разрушились преимущественно только высотки, Киевом больше не назовешь, язык не поворачивается. Город похож на высосанную пауком бабочку – оболочка сохранилась, а внутри пусто.
Мы идем по широкой улице, асфальта не видно под толстым слоем серой пыли. Пыль ленива и тяжела, она не взвивается в воздух, не липнет к ногам. А может быть, это пепел. Ведь куда-то же делись все люди? За напарником, Буром, тянется вереница следов: серый налет с филигранной точностью повторяет рисунок подошв. Пыль недвижима, но я знаю, что спустя пару дней эти отпечатки исчезнут. Жуткое место Город.
Бур держится ровно по центру, голова его равномерно поворачивается из стороны в сторону – он следит за окнами. Точнее, за оконными проемами, – окна разбиты, покорежены, вырваны с мясом. Я иду следом, чуть левее, чтобы иметь свой сектор обстрела.
Все дома кажутся одинаковыми, потому что однообразно облеплены пылью. Брошенные вдоль улицы машины тоже присыпаны, да так густо, что иной раз и модель не разберешь. Даже солнце, периодически выглядывающее из-за облаков, не в силах разбавить эту серость. Иногда луч высекает искру из осколка стекла или какой-нибудь металлической детали, но от этого еще тоскливее.
Улица, прямая как стрела, вдалеке упирается в небо. Этого неба здесь очень много. В Городе оно доминирует, выступает из всех щелей, лезет между домами и даже сквозь них.
– Говорят, тут собаки появились, – обернувшись на секунду, сообщает Бур.
Ну да, собаки. Друзья человека. По старой памяти поселились там, где раньше обитали их хозяева. Только чем им тут питаться? Тенями и пеплом? Маловероятно. Да дело даже не в пище – просто никто тут долго находиться не может. То ли атмосфера такая, то ли еще что. Говорят, раньше легче было. Не знаю, не пробовал. Сейчас мы только полчаса в Городе – и уже начинаются слуховые галлюцинации: кажется, что где-то вдалеке кричат люди. Трясу головой – проходит. И снова идем в тишине.
Отмечая еле видные под слоем пыли контуры тротуаров, вдаль уходят шеренги фонарных столбов. Провода на них отсутствуют, закопченные плафоны грустно нависают над дорогой.
Мы поворачиваем за угол и упираемся в пустоту. Перед нами широкая площадь, которую пересекает проспект. Здесь почти нет пепла: видимо, не успевает накапливаться – уносит ветер. В центре блестит чаша фонтана, до краев заполненная отражением неба. Бур долго стоит в тени дома, разглядывает просторы. Вокруг фонтана торчат пеньки, среди которых неуместно затесался лохматый, чуть тронутый желтизной клен.
– В прошлый раз, когда со Штопором ходили, тут к нам шатуны прицепились, – сообщает напарник.
Шатуны – это не ходячие мертвецы. Это живые люди. Так, во всяком случае, утверждает Хирург. А Хирург в этом вопросе разбирается. Правда, он всегда добавляет: «в биологическом смысле». Ну да, когда их подстрелишь – кровь брызгает. Только где это видано, чтобы живые люди после сквозного ранения в голову могли двигаться?
Пусть и не агрессивные они, не опасные, но все равно… Не зря этих шатунов даже твари стороной обходят. Помню свою первую встречу с таким. Вылез из подвала, с виду – человек человеком, пожилой, лысый, и даже галстук на шее. Я из-за галстука и не выстрелил – неловко стрелять в человека, одетого в костюм, пусть и чрезвычайно грязный. А он подошел почти впритык, остановился – смотрит. И жутко это: глаза вроде есть, а взгляда нет. И воняет от него… нет, не гнилью, а примерно как от дождевых червей, что я на рыбалку копал, – вот такой же запах, только на порядок сильнее. Я потом от этого шатуна еле избавился, весь Ельск он следом за мной тащился, молча и грустно, чуть пошатываясь. Уж совсем решился его пристрелить, но передумал – попробовал убежать. Какое-то время шатун неуклюже рысил следом, пока на повороте не зацепился ногой за бордюр. Со всего размаху шлепнулся на асфальт. И заплакал. Я даже вначале не понял, что это за звук. Отвык давно от таких звуков… В общем – лучше с тварью какой встретиться, они хоть душу не рвут.
Бур заканчивает присматриваться-прислушиваться, выходит из-за стены, но тут же юркает обратно, предостерегающе подняв руку. Я тоже замечаю движение: когда вокруг все так неподвижно, любое шевеление – как крик в тишине. На доме, с другой стороны площади. По краю крыши через равные промежутки расставлены какие-то обелиски – любили сталинские архитекторы такие приколы. И вот у второго от угла обелиска мелькнула какая-то тень.
Осторожно высунувшись, Бур разглядывает крышу через оптику. Я беру под контроль улицу. Солнце выходит из-за облаков, и площадь преображается: взрывается бликами чаша фонтана, одинокий клен загорается желтым, и даже по гранитной брусчатке начинают бегать еле заметные искорки.
Но вся эта красота проходит мимо сознания. Дом на той стороне. И на крыше кто-то есть. Основательный дом, крепкий. Первый этаж выложен выпуклыми коричневыми блоками. Там до Взрыва располагался какой-то магазин – чернеют арки витрин, в двух даже стекла сохранились. А выше – четыре жилых этажа. Светлый кирпич с декоративными элементами. Похожие дома у нас в Москве на Тверской стояли. Тишина. И снова начинает мерещиться перекличка человеческих голосов.
– Кто там? – не выдерживаю я.
– Хрен его знает, – цедит, не отрываясь от прицела, Бур.
– Давай, от греха, обойдем.
– Обойдем… Куда ж тут обойдешь? Видишь, там внизу магазин – это «Радиолюбитель» и есть.
Да уж… Тут я пожалел, что взял «калаш». Надо было «винторез» брать. Хотя кто ж знал? Город с самого Взрыва пустой стоит, если не считать шатунов. Нравится им тут почему-то. Видимо, инстинкты влекут к человеческому жилью. Ну еще наши сюда за продуктами захаживают. А больше тут никого и нет, даже аномалий. Твари – и те в Городе не селятся, тоже чувствуют что-то, от чего и людям иной раз завыть хочется. Рассказывали, что в воинской части, на городской окраине, уцелело после Взрыва сколько-то бойцов, так они, как очухались, погрузились на «КамАЗы» и помчались в сторону Москвы.
– Может, показалось… – бормочет Бур.
– Второй шпиль слева?
– Тоже заметил? Хреново.
Понятно, что хреново. Шатуны на крышу не полезут. Из наших никто в Город не собирался. А мы, если через площадь пойдем, как мишени в тире будем. Даже если не через площадь – разницы мало, все равно проспект пересекать, а он достаточно широкий, чтобы нас раз десять можно было пристрелить, было бы желание. В дальнем углу площади замечаю гранитный парапет подземного перехода. Можно подобраться к нему с той стороны дома… Толку, правда, не очень много будет. Так и так на отрытую улицу выходить. С другой стороны, кому мы на хрен нужны? Что с нас взять-то? Мой «калаш»? Или буров «винторез»? Так на складах за рекой этого добра на дивизию хватит. Примерно в этом ключе я и высказываюсь.
– А с чего ты решил, что это человек? – возражает Бур.
– Ну а кто тут еще может быть?
– Чапай с Чекистом как-то в Городе заночевали. Не рассказывали они тебе?
Да, было такое. Полгода где-то назад, как раз после Взрыва более-менее в себя пришли, мужики подались в Город мародерствовать. Пока туда-сюда, склады разведали, нагрузились – ночь подошла. В темноте обратно ехать стремно, решили остаться. Выбрали дом на окраине, забрались в квартиру на втором этаже, чтобы поспокойнее… И вот за полночь уже Чекист чего-то проснулся, а в окне силуэт черный, голова в капюшоне. Он дернулся за стволом, повернулся – уже никого. Метнулся, выглянул: как этот плащ к ним заглядывал – непонятно, до земли метров пять. Но про это Чекист мельком подумал, потому что внизу на дороге, ровно напротив окна, горел аккуратный костер. А вдоль по улице, и из переулка тоже, медленно подтягивались на свет какие-то слабо светящиеся синим пятна. В общем, мужики тогда по-быстрому ноги сделали, разбираться – кто к ним пожаловал – не стали.
– Но так то ночью! – говорю я Буру. – Хотя мы, если тормозить будем, как раз до темноты досидим.
– Ладно, прикрывай, – соглашается Бур.
– Не, это ты прикрывай, – возражаю я. – Твоя прикрывалка удобнее.
Медленно выхожу из-за угла, и солнце, как по команде, прячется в облака. Площадь тут же тускнеет, будто выключатель повернули. Я человек не мнительный, но как-то зловеще это получилось. Оборачиваюсь на Бура, но он занят: держит крышу.
Площадь чистая, только далеко справа у обочины дороги торчит каркас автобуса и перед домом, к которому мы идем, на стоянке в два ряда закопченные кузова машин.
Без проблем перейдя проспект, я поднимаюсь на тротуар. Перед фонтаном тремя рядами тянутся грядки… точнее, газоны. Между газонами – пешеходные дорожки с лавочками. Перешагиваю через низкие оградки, мельком любуюсь своим отражением в воде. Вот уже и нужный нам дом. Даю отмашку. Успеваю заметить, как Бур выскакивает из-за угла. Беру на прицел крышу. Но отсюда ничего толком не видно – только шпили да решетка по краю.
– Ну чего? – шумно дыша, подбегает Бур.
– Всех положил! – заявляю я.
– Пошли тогда.
Откуда-то из-за домов, со стороны Днепра, доносится протяжный металлический скрежет, словно стон. Синхронно приседаем, водим туда-сюда стволами. Мне становится не по себе: со всех сторон на нас пялятся серые дома с черными провалами окон.
– Там, в порту, пристань постепенно обваливается, – тихо сообщает Бур. – Может, кран какой в воду упал.
– Двинули потихоньку, чего стоять на виду?
Проходим мимо выгоревшей автостоянки. Проплешины жженого металла на кузовах густо покрыты рыжей ржавчиной, но кое-где сохранились следы краски. Среди остовов узнаю благородный силуэт «Порше». Как там у древних: «Sic transit gloria mundi».
За стеклом уцелевшей витрины плакат. Сквозь налет пыли еле видны картинки с какими-то приборами, надписи практически нечитаемы. Внутри магазина темно. Странно, учитывая, что витрины тут во всю стену.
Бур делает мне знак, подходит к двери. Я встаю напротив с «калашом» на изготовку. Напарник дергает одну из створок. Истерично взвизгивают петли, я невольно вжимаю голову в плечи…
Внутри чисто. Включив фонарь, Бур заглядывает в проем. Круг света выхватывает из полумрака стойку перед высоким стендом. На стенде висят то ли паяльники, то ли фены – никогда не понимал всего этого «радиолюбительства». Бур заходит, я вижу, как луч быстро мечется справа налево, потом замирает на стене.
– Заходи.
Вхожу. Еле уловимо пахнет гарью. И почему-то тухлятиной. Тварь какая, может быть, где-то тут сдохла.
– От станции «любовь» до станции «разлука»… – тихо напевает Бур.
Зная эту его привычку, спрашиваю:
– Что не так?
– Да вон, смотри…
Фонарь Бура упирается в пол перед уходящим в темноту прилавком. На полу, среди припорошенных пылью битых стекол, расчищен круг, в центре которого высится горка головешек. Включаю свой фонарь, подсвечиваю.
– Костер кто-то жег.
– Во-во. Кто бы? – Голос напарника звучит напряженно.
– Да мало ли… – пытаюсь беспечным тоном разрядить напряжение.
– Не «мало ли»! Никого тут нет. На тыщу верст вокруг – никого, кто способен разжечь костер. Да и кому он может тут понадобиться? Чуешь?
– Может, наши…
Но сам понимаю, что сморозил глупость. Кострище свежее. А из наших никто в Город с месяц, наверное, не ходил. И прав Бур – на много километров вокруг людей нет… Живых людей. Ближайшие – где-то под Минском. Но это из тех, кто на связь вышел. Хотя почему мы так уверены, что все, кто выжил в округе, к нам прибились? Вполне могли остаться какие-то одиночки… И за жратвой в Город они точно так же, как и мы, могут набеги устраивать.
– Не знаю, не знаю… – Бур немного успокаивается, опускает ствол. – За год могли бы уже либо с нами связаться, либо куда уйти. Это если одиночки. А группу мы бы сами давно обнаружили.
– Ну и чего теперь, будем дедукцию разводить? Или, может, домой пойдем?
– Не, Бабай расстроится. Давай по-быстрому – и валим.
Бур вчера пообещал реанимировать армейскую рацию, что у нас на базе без дела пылится. Он в молодости радиоделом увлекался. К тому же сам отсюда, из Города. Знает, где-что-почем. Вот и пошли в магазин за запчастями. Так что теперь Буру отступать западло – тем более из-за какого-то потухшего костра.
Хрустя осколками разбитых стендов, Бур идет к прилавку. Возле кострища останавливается, подхватывает головешку, нюхает. Следопыт! – Я качаю головой, встаю вполоборота к входу. За арками витрин опять вовсю светит солнце, но лучи сюда никак не достают, полумрак стоит – будто на дворе поздний вечер. Я, смахнув пыль, усаживаюсь на край прилавка. Напарник уже с головой погрузился в свой мир: что-то бормочет под нос, наклонившись к шкафам, со скрипом выдвигает ящики, шуршит пакетами… Судя по скорости наполнения его рюкзака, Бур поймал что-то типа «транзисторной лихорадки», или как там это у радиолюбителей называется…
– Ща во второй зал пойду! – радостно шепчет Бур. – Там блоки в сборе должны быть.
Он указывает лучом на поворот, за которым, видимо, находится вход в соседнее помещение. В руке его я вижу связку паяльников и, по-моему, небольшой осциллограф.
– Может, хватит? Не унесешь.
– Что значит «не унесешь»? А ты на что?
Сопровождаемый треском осколков, напарник движется вдоль прилавка, все еще шаря лучом по выдвинутым ящикам. Он не видит, что происходит впереди. А я вижу, но поначалу не могу понять. Мой фонарь светит в спину удаляющемуся Буру: на дальней стене в круге света качается его увеличенный силуэт. Внезапно откуда-то сбоку в свет вплывает еще одна тень, бледная и расплывчатая. Вначале мне кажется, что это облако потревоженной пыли, но когда тень резко густеет и начинает увеличиваться…
– Острожно! – ору я, все еще не понимая, что происходит.
Бур тоже не понимает, он замирает, судорожно крутит головой – луч его фонаря мечется из стороны в сторону, но вокруг него никого нет!
– На стену смотри! – и, вскинув ствол, командую: – Пригнись!
Но уже поздно. Тень, оформившаяся в что-то наподобие большого гриба, только не с одной, а с множеством тонких ножек, молниеносно выбрасывает один из этих отростков в направлении Бура, ровно к шее. Напарник визгливо вскрикивает, начинает дергаться, по телу его расползаются еле видные фиолетовые молнии… И тут, наконец, я вижу это вживую: многоногий гриб, наливаясь призрачной синевой, начинает проступать в воздухе почти впритык к Буру.
– Беги, Глок! – голос у напарника сиплый, клокочущий, полный боли.
Я пытаюсь прицелиться в колышущийся фантом, и в это время в круг света выплывает еще одна туманная тень…
Глава 3
5 октября 1943 года. Ельск
Грязь на главной улице Ельска была такая, что некоторые автомобильные колеи вполне сошли бы за окопы неполного профиля. Сема сбавил ход и принялся выбирать наиболее безопасный фарватер. Видимо, не выбрал, потому что остановил машину и, почесав затылок через пилотку, выжидательно посмотрел на меня. Я пожал плечами.
– Вытаскивать вместе будем, – пригрозил он.
– Ладно, жди здесь. Вон в переулок встань, чтобы проезд не загораживать.
– Проезд! – фыркнул Сема. – Тут танки, наверное, и те не рискнут…
Я вылез из «Виллиса», с брезгливой аккуратностью прошествовал на обочину, где к гнилому плетню жалась относительно проходимая тропинка. Сема с пробуксовкой сдал назад и нырнул за угол.
Город Ельск представлял собой унылое зрелище. Особенно сейчас, когда над застывшей грязевой рекой угрожающе низко зависли тяжелые бугристые тучи. И городом его я бы назвать постеснялся, он на поселок-то еле тянул. Война прошлась по Ельску самым краем – разрушенных построек было относительно мало. Но здесь какое-то время стоял наш полк самоходной артиллерии. С тех пор дорог в Ельске не стало. И людей, судя по всему, не стало – во всяком случае, создавалось такое впечатление.
Центральная улица делила город ровно пополам. С двух сторон тянулись однотипные одноэтажные здания – приземистые, основательные, с черепичными крышами, густо присыпанными листвой. Дома были старые и, казалось, насквозь пропитанные дождем: блеклые желтые стены темнели пятнами сырости, штукатурка местами отвалилась, обнажив кирпичную кладку – будто раны краснели на теле. Окна, заклеенные изнутри или закрытые фанерой, слепо пялились на улицу из-под массивных выпуклых арок. Перед каждым домом имелся палисадник – деревья своей веселой осенней раскраской хоть как-то притупляли ощущение безысходности, нависшее над улицей.
Судя по всему, мне нужен был вон тот дом, третий с правой стороны. Перед входом нависал массивный козырек, опирающийся на две толстые кирпичные колонны. Именно по этому опознавательному знаку я должен был узнать Ельскую городскую больницу.
Шагая с максимальной осторожностью – и все-таки нещадно пачкая сапоги в жирной грязи, – двинулся вдоль палисадников к цели. В очередной раз подняв голову, заметил, что под козырьком, внимательно наблюдая за мной, стоит и курит какой-то человек в широком покрытом разводами плаще. Когда я подошел поближе, выяснилось, что это вовсе не разводы, а маскировочный рисунок, я о таком слыхал, но видеть вживую еще не приходилось. Надо сказать, камуфляж прекрасно смотрелся на фоне припорошенного листьями крыльца. А означало это только одно – человек в защитном плаще и есть тот самый лейтенант Андреев, которому было предписано встретиться со мной у Ельской больницы в десять утра.
Я подошел и смог рассмотреть Андреева подробнее. Невысокого роста, широкоплечий, с прямой щеткой черных усов, фуражка чуть сдвинута набок, из-под козырька лезет казацкий чуб, смотрит цепко, внимательно, но в то же время как-то озорно. Хорошее было лицо у лейтенанта Андреева – открытое, светлое, и морщинки в углах глаз свидетельствовали о наличии чувства юмора. А вот совершенно чистые хромовые сапоги могли означать, что он, в отличие от меня, пришел к больнице не пешком.
– Ну и кто это такой смелый, что сюда доехал? – спросил я. – Или вы на лодке приплыли?
– С обратной стороны вполне сносная улица. – Лейтенант Андреев ткнул пальцем за спину. Плащ распахнулся, и на поясе разведчика блеснула лаком рыжая немецкая кобура. «Я дам вам «парабеллум» – всплыла в уме фраза.
Поздоровались, представились. Я предложил Андрееву папиросу, он предложил перейти на «ты». Звали его Владимир, что, собственно, мне и так было известно. Рукопожатие у Андреева было крепкое, при этом какое-то стремительное. А сама рука – широкая, как весло, с далеко отставленным большим пальцем, с жесткими бурами мозолей – свидетельствовала о недюжинной силе. Знавал я такие руки и видел, на что способны их владельцы.
– Зачем я комендатуре понадобился? – с ходу спросил Андреев, взглянув на меня поверх дымящейся папиросы.
Вопрос был задан легким тоном, но взгляд серьезный, колкий.
– Надо одного человека опознать.
– Он в больнице? – Лейтенант мотнул головой в сторону двери.
– Почти, – ответил я уклончиво, но, спохватившись, пояснил: – В морге.
– Понял, – кивнул Андреев. – А почему я?
– Твое имя было в его записной книжке. Других документов нет.
– Откуда тело?
– Нашли у речки. В списках не значится.
– Ну пойдем посмотрим на неучтенный труп, – согласился Андреев.
Была в его словах какая-то ирония, и неоткуда бы ей вроде взяться, ничего такого я ему не сказал…
Вчера с шефом долго думали, как представить всю ситуацию Андрееву, какую легенду запустить. Но так ничего и не придумали: мои мысли постоянно скатывались к неизвестно как появившейся надписи на бедре, а шеф явно был не в ударе. В результате порешили просто показать лейтенанту труп, а дальше мне предстояло действовать по обстоятельствам. В конце концов, может быть, это не тот лейтенант Андреев, а возможно даже, нам нужен вовсе не Андреев, а Андрейченко или какой-нибудь Андрекидзе. А если это имя – тогда вообще дохлый номер.
Я сделал шаг к двери, но лейтенант дернул меня за рукав.
– Тут закрыто. Вход с обратной стороны.
И, махнув рукой, спрыгнул с крыльца. Я двинулся следом, рассматривая затянутую в камуфляж спину. Внизу на плаще имелись свежие капли грязи. А сапоги чистые. Не его плащ? Или зачем-то переодел сапоги? Шеф часто повторял, что хороший следователь умеет балансировать на грани между подозрительностью и паранойей. Научиться бы только определять, где находится эта грань.
За домом открылся обширный сад, хотя, наверное, правильнее было назвать его небольшим парком. Имелась даже обсаженная пестрыми кленами аллейка, ведущая от заднего выхода в глубину заросшего участка. Возле крыльца, под развесистым дубом, располагалась почерневшая от времени деревянная лавочка, чуть дальше, у дальнего угла дома, торчала разбитая Flak 30, немецкая зенитная пушка – гнутый ствол понуро обвисал к земле. Между деревьями, в ворохах палой листвы, просматривались длинные прямоугольные холмики – видимо, грядки. Тихо тут было и совсем по-мирному спокойно: захотелось посидеть на лавочке и покурить, рассматривая осень. Но Андреев уже подходил к обшарпанной двухстворчатой двери.
Почти на ощупь пробравшись через темный тамбур, поднялись по короткой лестнице и оказались в просторном холле. До половины закрашенные белой краской окна давали специфический свет – какой-то болезненный, чахлый. Дальняя дверь, обтянутая мешковиной, по-видимому, вела как раз на парадное крыльцо. В левой стене тоже имелось несколько дверей. Справа в пропахшую карболкой темноту уводил узкий коридор.
– Доктор! – крикнул Андреев.
Голос его гулко разлетелся по пустому помещению, эхом отразился от покрытого трещинами потолка и затих.
– Вообще тут кто-то есть? – подал я реплику.
– Был дед какой-то, когда я заходил.
Открылась одна из дверей, высунулась бородатая старческая физиономия в очках без оправы, потом показался перетянутый крест-накрест пуховым платком торс.
– Нашел своего, что ли? – спросил старик Андреева.
– Как видите, – согласился тот, кивнув на меня.
– А вам чего нужно, молодой человек? – переключился на меня старик.
– В морг мне нужно.
– Не торопитесь.
– Дед, не остри. Я от полковника Мощина. Где Степанов?
Степанов оказался высоким худым мужиком лет тридцати, зябко кутающимся в морской бушлат. У него была очень странная форма черепа – затылок как будто приплюснут или вмят от удара чем-то плоским, отчего голова выглядела как обточенный с одной стороны брусок. Вообще персонаж был колоритный, про такого «особых примет нет» не скажешь: тут и хрящеватый, выпирающий клювом нос, и широкий рот с тонкими, капризно изогнутыми губами, и остро торчащий кадык. Можно, конечно, бороду отрастить – есть такие лица, которые борода меняет до неузнаваемости… Но да ладно, пока я об этом размышлял, мы уже спустились по затхлой лестнице в подвал, и Степанов, подсвечивая себе зажигалкой, подвел нас к низкой, обитой серой жестью двери.
– В морге-то хоть свет есть? – пробурчал сбоку Андреев.
– Откуда бы ему взяться? – ехидно поинтересовался доктор. – Думаете, немцы нам генератор пожертвовали?
Голос у него был сиплый, но при этом тонкий, почти мальчишеский. Как выяснилось, был этот Степанов вовсе не прозектором, а вполне себе главврачом Ельской больницы. Но, учитывая, что помимо него, в заведении из персонала имелся только сторож, приходилось доктору работать по принципу «один за всех».
Из темноты открывшейся двери пахнуло холодом и смрадом разложения. Степанов не колеблясь шагнул в темный проем, а вот я, признаюсь, помедлил.
– В темной, темной комнате… – прошипел сзади лейтенант Андреев.
Отсветы степановской зажигалки еле-еле разгоняли вонючий мрак, поэтому я вытащил спички. Сзади вспыхнул еще один источник света – лейтенант тоже зажег огонь.
Посреди комнаты стоял массивный стол, на нем белело накрытое простыней тело – вот и все, что я смог разглядеть в этом адовом освещении. А между тем мне нужно будет смотреть за реакцией Андреева: узнал или не узнал? Ну и как тут смотреть? Степанов между тем пошарился в полумраке и запалил какую-то хитрую лампу над столом, от которой вдруг стало вполне светло: лампа оказалась с большим, похожим на китайскую шляпу отражателем и аж с тремя фитилями. Потом доктор откинул простыню с лица трупа и выжидательно повернулся к нам.
Морг был маленький, примерно четыре на четыре метра. В углу стоял белый медицинский шкаф. Что-то типа нар возле дальней стены. И стул. По углам было совсем темно, но главное – тело было видно очень хорошо. Плотный мужчина, лет, примерно… молодой совсем, вряд ли больше двадцати пяти, короткий ежик русых волос, прямой нос, маленький рот. Я метнулся взглядом к Андрееву, но он равнодушно рассматривал труп, хотя, возможно, уже успел справиться с эмоциями. Никаких условий для работы! К тому же воняет просто невыносимо.
Я подошел ближе, отдернул простыню дальше. Круглая сквозная дыра возле правого соска. Видно было, что края срезаны идеально ровно, даже непонятно: входное или выходное отверстие. Андреев обошел стол, чтобы рассмотреть лицо трупа в привычном ракурсе. Грустно вздохнул. Или просто вздохнул? Лампа светила таким образом, что выше груди лейтенант попадал в тень отражателя.
– Любишь украшения, доктор? – внезапно произнес Андреев.
– Не понял? – удивился Степанов.
Я, если честно, тоже не понял. Пригнул голову, пытаясь заглянуть под лампу. Но разведчик молниеносно подскочил к доктору. Именно что молниеносно: я заметил только смазанное движение – и вот он уже одной рукой ухватил Степанова за волосы на плоском затылке, а другой тычет ему в глаз лезвием весело поблескивающей финки. Нож, зажатый в его огромном кулаке, выглядел изящной игрушкой.
– Вы… вы чего? – испуганно прошипел Степанов.
– Э-э… – протянул я, не сообразив еще, как реагировать.
– Стой и молчи! – одернул меня Андреев.
И я замер на месте, хотя происходящее вызывало массу вопросов.
– Где амулет, что был у него на шее? – жестко спросил Андреев.
– Как-кой амулет? – Степанов вяло пытался вырваться, все его внимание было сосредоточено на острие ножа в сантиметре от зрачка.
– Амулет, камень, медальон, – пояснил Андреев. – Кристалл на цепочке, одна сторона прозрачная, другая черная. Был у него на шее. Если сейчас не вспомнишь, выколю глаз. Потом будет вторая попытка. Когда глаза закончатся, перейдем к яйцам. Понял?
– Что вам надо? – В голосе Степанова послышались слезы.
– Амулет, – терпеливо повторил Андреев.
– Он у меня тут, в кармане.
– Во-от, молодец, – похвалил лейтенант. – Доставай, чего стесняешься!
Андреев отпустил доктора, и тот быстро отскочил от опасного разведчика. Полез под бушлат, достал что-то искристое, на серебристой цепочке, переложил в протянутую горсть.
– Свободен! – скомандовал лейтенант.
Степанов быстро выскочил за дверь, а Андреев вернулся к трупу. Приподнял его голову, надел цепочку на шею, выровнял на груди поблескивающий гранями черно-белый кристалл.
– Леша, блокнот, карандаш есть?
– Так точно, – встрепенулся я.
– Давай.
Дальнейшее выглядело странно. Приняв затребованные предметы, Андреев сдернул простыню еще ниже, кое-как вложил в пальцы правой руки трупа карандаш и, перелистнув на чистую страницу, подложил под этот карандаш блокнот. И тут я заметил на бедре, как раз возле восковой, белой до синевы руки, коричневые мазки засохшей крови – ту самую надпись, с которой все началось. Надо отметить: почерк был действительно похож на тот, что имелся в дневнике непонятного фельдфебеля.
– Глок! – громко позвал Андреев, наклонившись к лицу мертвеца. – Глок, слышишь меня?
Хоть это было и глупо, я вслед за лейтенантом внимательно уставился на труп, будто бы и впрямь ожидая, что сейчас эти синие губы дрогнут… Поэтому не сразу сообразил, откуда донесся тихий шорох. А донесся он от блокнота, на котором мертвая рука, уже не безвольно, а довольно-таки уверенно державшая карандаш, успела вывести слово «Да».
Твою мать! Я это то ли подумал, то ли выкрикнул. Страх судорогой прошелся по телу. Это был бы ужас, но сознание уцепилось за спасительную мысль: происходящее – просто фокус. Сейчас Андреев ухмыльнется и продемонстрирует какое-то хитрое приспособление… Я готов был его об этом умолять.
– Спокойно! – коротко взглянув в мою сторону, приказал лейтенант.
И как-то сразу отпустило. То ли уверенный тон Андреева так подействовал, то ли в мозгу перегорел какой-то предохранитель… Откровенно говоря, если отбросить страх, все происходящее было чертовски интересно.
– Глок, они здесь? – спросил Андреев труп.
Рука дернулась и снова вывела «Да».
– Глок, знаешь, сколько?
«Нет», – со скрипом медленно вывел грифель.
– Глок, где ты их нашел?
«Черноб» – надпись появлялась медленно: мизинец цеплялся за край блокнота и мешал мертвецу писать, отчего буквы выходили сильно наклоненными влево.
– Ага, – невесело хмыкнул Андреев, – кто бы сомневался. Глок, ориентиры?
Карандаш не двигался.
– Давай, друг, напрягись! Глок, как их найти? – прошептал Андреев, склонившись к самому лицу трупа.
Было в этом что-то противоестественное: живое человеческое лицо, переполненное эмоциями, и почти впритык – гладкая, бесстрастная маска смерти. И когда труп распахнул глаза, я чуть не вскрикнул. Но снова сдержался, только шумно выдохнул. Раздался стук – это карандаш скатился на пол. Мертвая рука неподвижно лежала на блокноте, странно растопырив пальцы.
– Ну вот и все, – медленно разогнувшись, сказал Андреев. – Доброй дороги, Глок. Извини, что так… Пошли, Леха.
Он провел ладонью по глазам трупа, снял с него цепочку с кристаллом, накрыл тело простыней и, забрав блокнот, вышел. Нужно было, наверное, погасить лампу над столом, но приказа такого не поступало. Я поспешил следом за Андреевым.
На улице уселись на лавочку под сенью дуба. Стояла тишина, только медленно сыпались листья по всему парку. Выяснилось, что в расстановке деревьев просматривалась определенная логика: кленовая аллейка уводила влево и дальше шла симметрично забору, точно такой же забор справа был оформлен шеренгой рябин. По центру участка, меж грядок, в шахматном порядке высились разлапистые яблони.
Тучи поредели, свет поменял тональность, стал более теплым. Да и вообще – потеплело. Хотя, быть может, это так казалось после стылой атмосферы морга. Андреев закурил, я последовал его примеру.
– Сука этот Виталий Александрович, – сказал лейтенант зло.
– Кто?
– Да доктор этот, Степанов. Хотя что с него взять…
– А что это за амулет?
– Это тебе знать не надо, – ответил Андреев.
Не надо так не надо – я пожал плечами. Даже и неинтересно, это я просто для поддержания разговора спросил, если уж на то пошло. А лейтенант продолжал молча курить, и дым застревал в его широких густых усах. На рукав камуфляжного плаща опустился дубовый лист, и я в очередной раз отметил, как удачно подобран маскировочный рисунок.
– Слушай, Владимир, где ты этот плащ урвал?
– Тоже хочешь? – хмуро спросил Андреев.
– Факт!
– Нет ничего проще. У фрицев на той стороне реки таких много. Спроси, может, поделятся.
– А ты чего так увял-то? – поинтересовался я, чтобы скрыть обиду.
Андреев покосился на меня, а потом какое-то время молча курил, глядя поверх деревьев – туда, где, плавно забирая влево, уходила за горизонт большая стая ворон. Я заметил, как на его щеке, под кожей, отливающей синевой проступившей щетины, пульсирует, перекатываясь, желвак мышцы. Думал, не ответит, но нет:
– Глок, который там на столе лежит…. ему лет, наверное, меньше, чем тебе. А мы, Леша, с ним в такой жопе успели побывать, что вам, несмотря на всю эту «Великую Отечественную», и не снилось. И если бы не он… А теперь он в вонючем подвале со сквозной дыркой. А я здесь. И даже попрощаться по-человечески не получится. Потому что не умеем. Понял?
– Понял.
– Да ни хрена ты не понял! – Андреев в сердцах выбросил окурок. – Ладно, свернули тему. Давай-ка лучше о тебе. Кто такой?
– Лейтенант Зуев Алексей Семенович, спецгруппа Отдела контрразведки Смерш Наркомата внутренних дел, – отрапортовал я.
Кольнула неловкость – ведь при знакомстве представился совсем по-другому. Но Андреев, к счастью, не стал заострять внимание на моей нечестности.
– Почему меня дернули?
– За что дернули? – не понял я.
– Ну как меня нашли? Как узнали, что я связан с Глоком?
– Дык это… у него же на бедре твоя фамилия написана.
– А… – Андреев снова поиграл желваками. – Ну да, дело прежде всего. Учись, контрразведка!
– Есть.
– Да отставить уже! – сморщился лейтенант. – Почему Смерш этим делом заинтересовался? Вообще – какая у тебя задача?
– Мы ловим сектантов, – похвалился я.
– Чего? – Андреев удивленно расширил глаза. – Смерш ловит сектантов? А кражи вы не расследуете?
– Расследуем, – покивал я. – Мы из оперативного отдела МУРа, переведены в Смерш буквально месяц назад, когда выяснилось, что мясники опять взялись за свое.
– Мясники? – Андреев вопросительно поднял бровь.
– Так у нас зовется банда, что еще до войны в этом районе орудовала.
– Докладывай по порядку.
– Слушаюсь, – козырнул я и приступил к рапорту: – Весной сорок первого года в районе Чернобыля началась прокладка ветки Чернигов – Овруч Юго-Западной железной дороги. Во время строительства станции «Янов» бригада рабочих в количестве 12 человек подверглась нападению неустановленных лиц. Численность нападавших тоже установить не удалось. И, это…
Тут я сбился, потому что рассказать официальным слогом, что собой представляли трупы железнодорожных рабочих, было довольно сложно. Как там было в протоколе осмотра – «множественные укушенные раны»… Но тут Андреев неожиданно мне помог:
– Представляю, как вы были озадачены. Тела обглоданы, и, судя по слепкам зубов, обглоданы людьми, так?
– Экспертиза установила, что следы укусов – от человеческих челюстей.
– Не от человеческих, – покачал головой Андреев. – Они не люди совсем. А высосанных досуха не было?
– Никак нет!
Про себя отметил: что-то старший оперуполномоченный Зуев совсем «осолдафонился», явно стал злоупотреблять уставными оборотами. Шеф, услышь он меня сейчас, порадовался бы – как нас в армию перевели, он только этого и требует. Но мне лично никогда уставная «казенщина» не нравилась. Видимо, сейчас все дело в том, что я чувствую себя обязанным четко отвечать на вопросы лейтенанта Андреева. Пусть информация и секретная – но я не имею права ничего от него скрывать.
– И как, поймали вы этих «сектантов»? – с явным интересом спросил Андреев.
– Нет. Установили только, что их было не менее пяти человек. Убийства, вероятно, носили ритуальный характер. Странная обувь… Один был босиком. Судя по следам, почти двухметрового роста. Ну и вообще… Но толком поработать не успели – война началась.
– А как фронт досюда дошел, продолжили как ни в чем не бывало? Молодцы! – Андреев мотнул головой. – Хорошо работает уголовный розыск при товарище Сталине!
– За двадцать семь дней, что 1078-й полк держит позиции вдоль реки Припять без вести пропало шестеро бойцов. Недавно было найдено тело седьмого – ефрейтора Святошина. Труп обглодан до костей. Значит, эти нелюди снова здесь.
И я уставился на Андреева, приготовившись наслаждаться произведенным эффектом. Но эффекта не было. Лейтенант смотрел на меня вроде бы даже жалостливо. Потом достал еще одну папиросу, прикурил.
– Нелюди – это ты правильно сказал, – согласился он.
И снова задумался, поглаживая пальцем усы. Я тоже достал папиросу, последнюю, между прочим, закурил. Если надо – посидим, помолчим, покурим. Это у меня папиросы закончились, а у Андреева, как я заметил, еще больше чем полпачки в наличии. С таким запасом полдня молчать можно.
– С весны сорок первого, значит? – задумчиво протянул Андреев, разглядывая сад. – Мы-то думали, что это только фрицы ее расшевелили. А оно вишь как… А что ваши рабочие на Янове делали?
Я спохватился не сразу – думал, что очередной риторический вопрос. Но Андреев пристально смотрел на меня – значит, адресован мне.
– Что делали? – Я наморщил лоб. – Да ничего… Строили.
– Пути клали?
– Не только. Там планировался крупный железнодорожный узел, поселок городского типа.
– Растревожили, значит, – покивал Андреев. – Сектанты… Фашисты вон тоже про демонов что-то лепечут. Только они совсем идиоты, чесноком пытаются упырей отпугнуть.
– Кого?
– Сектантов твоих!
Андреев внезапно поднялся. Я вскочил следом, ожидая дальнейших указаний. Лейтенант одернул свой камуфляжный плащ, поправил фуражку, огляделся.
– В общем, так, – быстро сказал он. – Наш разговор ты забыл, понял?
– Есть!
– Не перебивай. А дело было так: встретились, ты показал мне труп, я его не узнал. И разошлись. Понял?
– Есть! – сам себе удивляясь, снова выкрикнул я.
– И вот этот момент ты тоже забудешь.
С этими словами Андреев сунул руку в карман моего плаща и вытащил крупный зеленоватый камень или кусок стекла, формой похожий на пробку от водочного графина. Подбросил стекляшку на своей широченной мозолистой ладони, поймал и, развернувшись, пошагал в глубину сада.
Глава 4
7 сентября 2016 года. Чернобыль
Я не сплю, просто лежу, разглядывая подвешенные в сетках под потолком артефакты: шары испускают мягкий желтоватый свет, создавая ощущение покоя и домашнего уюта. Прекрасно осознаю, что это всего лишь наведенный эффект: ну какой «уют» может быть в бетонной комнате без окон, с рядами двухэтажных нар, жестяными коробами воздуховодов под потолком и кафельным полом? А с другой стороны, какая разница – по-настоящему или нет: артефакты для этого сюда и повесили, чтобы успокаивали и дарили ощущение уюта. Так что mundus vult decipi, ergo decipiatur[1].
Вообще-то говоря – странно. Три года по Зоне лазил до Взрыва. И ни разу по дому не скучал. Плевать как-то было, даже нравилось вот так кочевать от схрона к схрону. А теперь, как лишился этого ненужного, – вдруг тоска…
Когда сквозь сопения и даже откровенный храп по казарме пролетает металлический звон – я вздрагиваю, привстаю на локте.
С моего «второго этажа» прекрасно видно его фигуру. Он методично нагибается и разгибается, будто делает зарядку. Я догадываюсь – это он одевается. Мимолетом удивляюсь: куда собрался? До туалета бежать недалеко, одеваться ни к чему. Дежурные меняются только утром… Но – мало ли кому куда надо? У нас свободное подземелье, как говорит Чапай.
И вот свободный человек свободного подземелья выходит в проход. Я узнаю его по чудной прическе: бритые виски, плоский ежик волос, голова выглядит квадратной. Тихон, из приблудных.
Их, приблудных, за год, прошедший с момента Взрыва, набралось уже человек тридцать. Кто сам пришел, кого подцепили ребята в рейдах. И мужчины, и женщины. Как выжили на Большой земле – непонятно. Если уж в Зоне не все уцелели – а наши-то, предчувствуя выброс, попрятались со всей основательностью, – что говорить о тех, кто за периметром? Но выжили.
Он выходит в проход и надолго застывает. Кафель на полу – самое светлое пятно во всей казарме, не считая горящих артефактов, и на фоне этого кафеля его фигура напоминает силуэт, вырезанный из бумаги и помещенный в рамку.
Не знаю почему, но чувствую беспокойство. Он стоит прямо, не двигаясь. Это странно. Минута, две. Может быть, прислушивается? Казарма спит, ворочаясь, поскрипывая пружинами. К чему тут прислушиваться? Но вот Тихон отчетливо кивает, видимо, своим мыслям и, повернувшись, медленно идет по проходу, монотонно переводя взгляд слева направо.
Он равняется с моей «этажеркой», замечает, что я за ним наблюдаю, улыбается с вежливым равнодушием. А через три кровати внезапно останавливается, и я слышу что-то типа обрадованного «о!». Быстро нырнув в проход между нарами, Тихон наклоняется над спящим и, выхватив пистолет, стреляет ему в лицо…
Мы сидим в столовой. Эта двухэтажная коробка – единственное здание на поверхности бывшей военной базы, не считая полуразрушенного металлического ангара. Вместо стекол в окнах – листы оргстекла, кое-как скрепленные, заходящие одно на другое. Свет мутный, как будто в воздухе туман.
За стойкой, отгораживающей кухню от обеденного зала, расположилось руководство. Бабай, командир, хмуро перебирает окладистую бороду. Обух курит, разглядывая что-то под ногами. Тракторист изучает «зрительный зал».
Я только что рассказал, чему был свидетелем. Ответил на вопросы. Чувствую себя немного смущенным – выступать перед большой аудиторией (а в столовой собралось под сотню человек) непривычно. Кашляю, оборачиваюсь на Бабая.
– Спасибо, Глок, садись. Хирург, что скажешь?
Хирург выходит к стойке, недовольно оглядывает зал. Немолодой худой мужик с глубокими залысинами на лбу, с сухим, морщинистым лицом. Я не люблю Хирурга, потому что он лишен чувства юмора и представления об элементарной вежливости. Но специалист классный, этого не отнять.
– Он не человек, – не глядя ни на кого, отрывисто заявляет Хирург. – Это тварь. Пристрелить.
Собрание вскипает, все пытаются высказаться. Бабай с трудом добивается тишины.
– Поясни, Хирург, – предлагает он раздраженно.
– Что пояснять? – Доктор кривит тонкие губы. – Тварь не обладает ни человеческим интеллектом, ни человеческими эмоциями.
– А куда ж у него интеллект делся? – орет из глубины зала Захар Петрович.
Этот толстый старик жил с Тихоном в одной деревне. Он выступал как раз передо мной, рассказывал «факты биографии» обвиняемого: родился, учился, работал машинистом в пригородном депо… Давил на то, что у Тихона к убитому Бармалею имелись личные счеты. Не убедил. Бармалей был уважаемым бродягой, никаких косяков за ним ни разу не водилось. Я сам прекрасно его знал, пару раз в рейды ходили – мировой мужик.
– Куда интеллект делся? – переспрашивает Хирург. – Не знаю. Иди поищи. Может, под кровать закатился.
– Погоди. – Бабай снова теребит бороду. – Давай-ка озвучь диагноз.
– Нет диагноза. Я не психиатр. Есть факты.
– Давай факты.
– Извольте. Не говорит, не реагирует на раздражители, боли не чувствует. Биологические показатели в норме. Сидит спокойно. Показал ему пистолет. Быстро схватил и попытался куда-то пойти. Можем провести эксперимент – выяснить куда. Точнее, к кому.
Собрание снова шумит, среди общего гвалта слышатся нелестные эпитеты и пожелания в адрес Хирурга…
Все это происходило неделю назад. Спустя два дня был убит Элвис. Молодой парень, окрещенный за характерную прическу и пристрастие к игре на гитаре. Именно благодаря гитаре, ну еще и довольно приятному баритону, он, сам приблудный, очень быстро заарканил себе одну из таких же приблудных девушек. «Девушками», понятное дело, они назывались больше в силу традиций. Но, как говорится, «за неимением горничной барин пользовал дворника».
«Семейные» у нас живут отдельно. Ввиду того, что военная база не располагает большим количеством двухместных номеров, молодожены сами устраивают себе любовные гнездышки из подручных стройматериалов.
Когда в закутке Элвиса грохнул выстрел, поначалу никто ничего не понял. Потом, разобравшись, столпились возле перегородки. Кричали-стучали. Выбили засов. Элвис валялся на полу с дыркой во лбу. Женщина сидела рядом на железном стуле. Посмотрела на нас весьма приветливо, но вдруг, заметив в толпе кого-то, оживилась…
По ночам теперь очень тихо. Никто не храпит, не поворачивается. Я это точно знаю, потому что с некоторых пор сплю очень чутко. Замечаю, что почти все наши держат оружие под рукой. Негласный договор: ночью с кровати не вставать – могут пристрелить. Хирург, сволочь, подлил масла в огонь: никаких симптомов, говорит, никаких видимых проявлений, что-то вроде одержимости; и скорее всего это будет продолжаться.
Вчера ночью тоже было тихо. А утром со стороны женского зала прилетел визг…
Она сидела на кровати, сложив руки на коленях. Имени не знаю – в силу возраста мужиков она не интересует. Знаю, что работает в столовой посудомойкой. С удивлением отметил: одета она в настоящую ночную рубашку, белую в синий цветочек. Ее жертва накрыта с головой казенным солдатским одеялом, под кроватью уже натекла большая черная лужа. Нож, тщательно вытертый, аккуратно лежит на тумбочке.
И снова зал столовой. На улице погожий день, это заметно даже сквозь мутную грязь стекол. Народ молчит. Ждут решения: совет заседал около часа, только что вернулись снизу.
Бабай суров. Таким я его давненько не видел. Пожалуй, с тех пор, как тварей из подвалов базы выкуривали. Он встает перед стойкой, и я чувствую, что сейчас будет нехорошо.
– Все приблудные теперь ночуют отдельно, – говорит Бабай и проводит по бороде широкой ладонью.
И что в этом такого? Потом понимаю: это они их изолировать хотят. Скорее всего, на втором подземном, где бывший склад. Бабай тут же подтверждает мою мысль: да, именно там. Мы сами раньше на складе ночевали, пока по-человечески казарму не обустроили. А сейчас склад выбран потому, что дверь крепкая и запирается снаружи.
Наши молчат. Приблудные поначалу тоже. Но вот и до них доходит. Разгорается протест. На поддержку Бабаю выскакивает Обух: несогласные могут идти на все четыре стороны, никто их здесь не держит. Мы больше не хотим рисковать – а статистика показывает, что одержимостью страдают только пришлые. Пока, во всяком случае.
Я слушаю пререкания Обуха с народом вполуха – наблюдаю за Бабаем. Он отошел назад, присел на стойку, смотрит. Я знаю, на кого он смотрит. Ее зовут Шапокляк, очень она похожа на ту самую тетку из мультика: длинный нос, тонкие ручки-ножки. Но «ножки-ручки» были полгода назад, когда она только у нас появилась. Сейчас худоба вполне в пределах нормы, и уже заметно выпирает живот – Шапокляк на пятом месяце беременности. На самом деле ее зовут Света, и она жена Бабая.
Я выискиваю ее в бунтующем зале. Это несложно, Шапокляк сидит в первом ряду. Молчит, замерла – таким же долгим взглядом смотрит на мужа. Шапокляк всем нравится, потому что веселая и добрая. И Бабай всем нравится, потому что суровый, но справедливый. Повезло нам с командиром. И я знаю, что командир не сделает исключения даже для своей жены. Гвалт постепенно затихает, кое-кто из приблудных все еще не может успокоиться, но большинство признало справедливость меры.
– Можете взять оружие, – говорит тем временем Обух. – Но, сами понимаете… Есть другое предложение. Каждую ночь с вами будет дежурить пара наших бойцов.
Бабай смотрит на жену. Шапокляк смотрит на мужа. Тяжелый взгляд у Бабая, тоскливый, но при этом спокойный. Я смотрю то на него, то на нее и понимаю, что ни за что и никогда не пойду на это дежурство…
Точно таким же спокойным взглядом смотрит Бабай на труп Шапокляк, вынесенный в коридор. Из темноты открытой двери склада тянет застоявшимся теплым воздухом. В коридоре светло от набежавших фонарей. Она лежит у стены, пижамная куртка в трех местах пробита, мокрая от крови материя плотно прилипла к телу, рельефно выделив все округлости. Лицо спокойное, в открытых глазах масляно играют отблески. Все молчат.
– Обух! – говорит Бабай.
– Да, командир.
Бабай стоит напротив тела, задумчиво наклонив голову. Он полностью одет – это значит, что ночью так и не ложился. Чего-то ждал? Или подозревал?
– Нужно закончить с фильтрами для воды. Это сейчас самое главное. Понял?
– Понял. – В голосе Обуха слышится удивление.
Бабай кивает, потом достает свой знаменитый наградной наган и сует дуло в рот. Я еле успеваю зажмуриться.
Глава 5
7 октября 1943 года. Штаб 1078-го стрелкового полка
В землянке воняло прогоревшей соляркой, которую нам нагло выдавали под видом керосина. Лампа от нее нещадно коптила, и стекло, хоть Сема и чистил его только утром, уже опять покрылось черными разводами. По этой причине светила «летучая мышь» весьма вяло, читать при таком свете было решительно невозможно. Зато очень хорошо получалось лежать на раскладушке, закинув руки за голову, и рассматривать бревенчатый, поблескивающий смоляными каплями потолок.
Был тот спокойный период, когда горячо любимый товарищ полковник, он же шеф, переставал фонтанировать заданиями и распоряжениями. Даже деятельный мозг светила сыскной науки требовал передышки – и передышка эта наступала, как правило, к ночи. Поэтому полчаса-час перед отбоем в нашей землянке были самым благословенным временем.
К слову сказать, землянка на поверку оказалась не такой уж просторной, как показалось вначале. Когда я расположил свое койко-место в «общем зале», по соседству с ординарцем Семой, выяснилось, что пространство заметно сократилось. А как прибыл еще один дармоед, сержант Минаев, и угнездился по правую руку от меня – в подземелье стало буквально не протолкнуться, будто в утреннем трамвае. Понятное дело, высший комсостав, совершенно по-жлобски квартирующий в углу за перегородкой, этих неудобств не ощутил. С другой стороны, если вспомнить, какой подвал нам выделили, когда группа только прибыла под Ельск, землянка начинала казаться дворцом.
– Товарищ лейтенант, – не глядя на меня, спросил Минаев. – А вы точно видели, что его рука двигалась?
Сержант, сидя на раскладушке в майке и кальсонах, с присущей ему медлительной обстоятельностью пришивал новый подворотничок. Маленький, плотненький, с круглым лицом, аккуратно зачесанной набок короткой русой челкой – и внешностью, и чрезмерной аккуратностью напоминал он мне пионера со школьных плакатов.
– Нет, Сан Саныч, – серьезно ответил я. – Просто перед визитом в морг я для храбрости выпил полную фляжку боевых «сто граммов». Так что у трупа не только рука двигалась, он еще со мной хором «Синий платочек» пел.
– Я, если б увидел, как мертвяк зашевелился, сразу бы в штаны наложил! – честно сообщил Сема от своей «кухонной стойки».
Шеф, работающий за столом с бумагами, недовольно крякнул. У него там стояла еще одна лампа, и она почему-то не коптила. Наверное, полковникам все-таки выдают настоящий керосин. Он, понятное дело, в этом не признается. От тех, кто спит, отгораживаясь от коллектива перегородкой, всего можно ожидать, даже сокрытия от подчиненных чистого керосина.
– Странная история, – со значением сказал Сан Саныч.
Да что ты говоришь! А сам-то много тут чего раскопал, пока я в госпитале валялся? Элементарную задачу поставили: притащить к нам кого-нибудь с той стороны, желательно из тех, кто возле Янова живет. Неделю у разведчиков проторчал – так никого и не добыли. Понятно, почему шеф так ждал моего возвращения. С этим аккуратным недоумком дела не сделаешь. Минаев положил гимнастерку на тумбочку и повернулся ко мне.
Роль прикроватных тумбочек у нас выполняли ящики из-под ленд-лизовской тушенки. Это Сема подсуетился, урвал у поваров. Борта ящиков щедро покрыты надписями. Из-за этих надписей у нас с Сан Санычем давеча разгорелся спор: как правильно пишется слово «тушенка». Американцы написали через «о». Минаев утверждает, что должно быть через «е». Я долго втолковывал болвану, чем отличается неграмотный пень от здравомыслящего человека, но безрезультатно. Потом Минаев приволок с кухни пустую банку из-под «свинины тушЕной». Пришлось как-то выкручиваться, объяснять, что это совсем разные случаи. Спорили, кстати, на щелобан. Ладно, авось забудется.
– Я считаю, что товарищ полковник прав, – спокойно и веско заявил Минаев. – Скорее всего, товарищ Зуев подвергся гипнотическому внушению.
– Жаль, ты этого лейтенанта Андреева не поймал, – притворно вздохнул я. – Он бы тебе подтвердил мои слова. Ну и вообще… пригодился бы.
Минаев насупился и снова занялся гимнастеркой. После того как я вернулся из Ельска, шеф по-быстрому выслал за Андреевым группу во главе с Сан Санычем. И Минаев умудрился упустить командира разведроты: прямо у них на глазах Андреев рванул в лес и был таков. Так что – у кого-то трупы рукой шевелят, а у кого живые ногами так перебирают, что угнаться невозможно.
Отшив Минаева, я снова принялся разглядывать потолок. О чем-то я таком интересном размышлял… А, точно! Дневник этот. Судя по всему, тот мертвый, которого Андреев называл «Глок», хотел стать писателем. В дневнике содержалась фантастическая повесть, причем весьма интересная: начав читать по необходимости, я невольно заинтересовался. Но дело сейчас не в этом. Дело совсем в другом: в дневнике Глока был выдран последний лист. Неаккуратно так выдран, будто бы в спешке, или от нервов рука дрогнула. И вроде не было у меня особых резонов так считать, но почему-то казалось, что этот лист очень важен. Опять же, вопрос: кто его выдрал? Владелец дневника? Или кто-то из тех, кто его нашел? Шеф говорит, что, когда он увидел труп, рюкзак бойцы уже распотрошили: вещи были разложены на траве рядом с фельдфебелем. Мог кто-то из солдат незаметно вырвать лист? Мог. А если этот клочок бумаги остался в рюкзаке? Рюкзак я потом осмотрел: стандартный маршевый ранец вермахта, с меховым верхом (дыра от выстрела располагалась у самого края). И не было в этом ранце никаких складок, где бы этот лист затерялся.
– Минаев! – воскликнул шеф.
Все вздрогнули. Была у товарища полковника такая привычка: сидит-сидит себе молча, размышляет – а потом, придя к какому-то решению, тут же без предупреждения начинает доводить его до подчиненных.
– Я! – Сан Саныч вскочил.
– Завтра выяснишь и начнешь прорабатывать всех бойцов, что были в секторе обороны, на который выходил этот самый Глок. Понятно?
– Так точно!
Ишь, подхалим. Скоро будет перед шефом на караул брать.
– Тимохин!
– Я! – вскинулся Сема.
А ведь заразно это, таким макаром скоро начнем строем ходить. Видимо, всему виной появившаяся у Федора, нашего, Степаныча манера обращаться к опергруппе по фамилиям. А подцепил он эту манеру в штабе полка, потому что больше вроде бы негде. Боевой офицер, туды его…
Чего я так прицепился к вырванному листу? А вот чего. Если надо что-то важное записать, а времени нет: хватаешь ты, допустим, дневник, откидываешь обложку – первая страница исписана, негде писать на первой странице; тогда быстро переворачиваешь на другую сторону, потому что последний лист всегда чистый…
Допускаем, что это был наш шпион. Точнее – шпион человека, известного нам как лейтенант Андреев. Он перешел через линию фронта, чтобы донести до Андреева какую-то информацию. Важную, судя по всему, информацию. Настолько важную, что помчался быстрее ветра. И даже перед позициями одежду не скинул (а она вся мокрая после речки). Не идиот же он, в самом деле, чтобы ночью выходить к нам в немецкой форме. Бежал, бежал сломя голову! Значит, времени все подробно записать не было. А вот по-быстрому черкнуть, перестраховаться, так сказать – информация-то важная, из-за нее Глок жизнью рисковал – вполне логично. На случай, если подстрелят.
Подстрелят… Мне представилась картина: сидит, значит, такой холеный фашистский генерал с чудо-ружьем на коленях; сидит на бруствере окопа, в мягком кресле, ножки которого глубоко погрузились в размокшую от дождей глину; слева от кресла столик, на столике чашка кофе; генерал весь из себя надменный, маленькие изогнутые усики под носом блестят от бриолина; генерал, оттопырив мизинчик, курит через длинный мундштук; потом кладет его на стол, отпивает кофе, перехватывает чудо-ружье и командует: «Выпускайте русского шпиона!» Бред? Бред!..
– Товарищ полковник, – снова возник Минаев. – Я вот о чем тут подумал. Если предположить, что человек, известный нам как лейтенант Андреев…
Я тяжело вздохнул, поднялся с удобной раскладушки и, захватив ватник, вышел на улицу. Никто, к счастью, в спину не окликнул.
На небе сияла полная луна – было светло, почти как днем, только выглядело все как на не слишком контрастной фотографии.
Петляя меж молодых березок, прошел сквозь перелесок, взобрался на вершину холма. И на некоторое время замер, любуясь пейзажем. Поле, заросшее осокой, полого спускалось к реке. По полю катились еле заметные волны – ветер задумчиво перебирал траву. Река застыла расплавленным серебром, острые пучки камышей четко ограничивали берега. За рекой, на гребне тянущегося параллельно руслу холма, стоял ряд кряжистых приземистых дубов. Равное расстояние между деревьями свидетельствовало о том, что посажены они были людьми, а размер – что произошло это не меньше ста лет назад. За дубами просматривалась широкая равнина и совсем-совсем далеко, уже на границе видимости, чернели какие-то постройки, и в одной из них вроде бы даже светилась желтая точка окна.
Наши позиции находились внизу слева, где речка делала изгиб. Отсюда не больше километра. Там ни огонька – блюдут маскировку. На противоположной стороне, у немцев, тоже темно, но если наш берег скрыт в тени холма, то фашисты в свете луны просматривались намного лучше: можно даже разглядеть крутые наросты дзотов и черную паутину ходов сообщения.
Спрятавшись в густой траве у подножия дуба (с нашей стороны на берегу тоже была высажена шеренга деревьев – для симметрии), я прикурил и снова приступил к «дедукции». Только теперь принялся отталкиваться от фактов.
Первый факт: Глок был одет в немецкую форму. Варианты объяснения:
1. Являлся кадровым военным вермахта.
2. Был нашим шпионом, внедренным в вермахт.
3. Надел форму, когда пошел на задание за линию фронта, или добыл ее в процессе выполнения задания в целях маскировки.
Все три варианта в принципе жизнеспособны. Нужно учесть, что, судя по записям в дневнике, Глок – чистокровный русский. С другой стороны – не стоит забывать, что форма была подходящей по размеру, а в ранце имелись личные вещи, которые на краткосрочное задание никто брать не будет. Но продолжительная работа на территории врага подразумевает наличие радиосвязи – чтобы каждый раз с донесениями не бегать.
Второй факт: вышел к нашим позициям в этой самой форме.
1. Убегал от опасности.
2. Двигался на условленное место встречи, где его должен был принять человек с нашей стороны.
3. Уходил от нас на ту сторону.
Третий вариант сразу отметаем. Второй – тоже слабовато выглядит. По одной и той же причине: никто из бойцов на этом участке ни о каком переходе на ту сторону и тем более ни о какой встрече разведчиков предупрежден не был. Так что, заметив копошение перед окопом, лупанули бы от души со всех стволов – и амба. Значит, Глок бежал к нам, потому что на той стороне его прижали. Кто прижал? В ту ночь немцы не стреляли. Получается, уходил Глок тихо. Но если тихо – логично было бы ему переодеться, а лучше вообще отойти подальше от позиций и перейти на нашу сторону спокойно и с достоинством. Значит, все-таки прижали…
Третий факт: Глок был убит из неизвестного оружия.
1. Случайное совпадение. Каким-то образом чудо-оружие оказалось на этом участке фронта, а Глоку просто не повезло.
2. Не случайное совпадение. Этим оружием убили именно Глока – потому что так и было задумано.
3. Глока убили не с той стороны, а с нашей. Направление выстрела по ране установить не удалось.
С нашей стороны – маловероятно. Опросили всех, кто был на позициях. Скорее всего – фельдфебелю прилетело от немцев. И тут самое странное, что это оружие нигде еще не всплыло. Иметь такую штуку и не использовать ее во время войны – глупость, как ни крути. Значит, держат в тайне даже от своих. Прототип, в единственном экземпляре? Нелогично, потому что тащить на фронт прототип для испытаний в «боевых условиях» нет никакой необходимости. Эти твари спокойно на военнопленных могут потренироваться…
А ведь еще нужно учитывать и странного Андреева, и мертвую руку, вопреки законам природы царапающую «Да» на вопрос: «Они здесь?»…
В общем, так! Я снова, прикрывшись рукавом, закурил и некоторое время сгонял мысли в кучу. Что у нас получается, дорогой товарищ шеф? А получается, воля ваша, вот такая картина. Неизвестный труп, известный нам под именем Глок, являлся представителем тайной организации, противостоящей такой же тайной организации со стороны немцев. Он «работал» за линией фронта, выслеживал своих врагов и, судя по всему, выследил. Но каким-то образом засветился, попытался прорваться обратно к нам и был убит на самом финише. Схлестнувшиеся на данном участке фронта загадочные организации – как с нашей стороны, так и с немецкой – действуют втайне от властей и к советско-немецкому противостоянию непосредственного отношения не имеют. Если в ближайшее время вышеозначенное чудо-оружие проявит себя на фронте, готов отказаться от изложенных выводов, признать себя болваном и начать разработку дела с нуля.
«Родив» эту теорию буквально на пределе мозговой деятельности, я с чувством выполненного долга позволил извилинам расслабиться: курил, ни о чем не думая, смотрел на луну, наслаждался тишиной и покоем. Но недолго. Очень живо представился возможный диалог с шефом.
– Тайная организация?
Мощин цыкает зубом, что всегда свидетельствует у него об особом раздражении.
– Две тайные организации, – робко поправляю я.
– Две…
Краснея лицом, шеф посылает Сему за чаем и зловеще медленно усаживается напротив.
– Леша, я тебя зачем к этому делу привлек? – постепенно повышая голос, спрашивает он. – Чтобы ты мне тут опять жидомасонов ловил?
– Что значит – опять? – оскорбляюсь я.
– То и значит! Напомнить? – Шеф срывается на крик и бьет ладонью по столу.
Хлипкий ящик проламывается, керосинка опрокидывается, землянка погружается в темноту. Я пытаюсь нащупать упавшую лампу, но вначале нащупываю руку шефа, за что получаю от нее увесистый шлепок. Потом все-таки обнаруживаю керосинку, обжигаюсь о стекло, нецензурно выражаюсь (что при Мощине делать нельзя) и оставляю все как есть. Пусть сам исправляет. Спустя минуту боевой полковник справляется с задачей. Керосинка снова горит, но в центре стола зияет узкая прямоугольная щель. Так тебе и надо, старый пень, злорадно думаю я. Но тут же себя одергиваю: шефу явно стыдно собственной несдержанности, он сконфуженно косится на дыру в столе.
– Давай держаться в рамках реализма? – предлагает он мировую.
– Давайте, – соглашаюсь я. – Но тогда придется считать, что пишущий мертвец мне привиделся.
– Я уже обосновал это. И в рапорте указал. Называющий себя лейтенантом Андреевым – сильный гипнотизер. И все эта свистопляска в морге была нужна ему, чтобы войти с тобой в контакт, подготовить, так сказать. Согласно исследованиям, не все люди одинаково восприимчивы к гипнозу. Есть такие, на которых он вообще не действует. Вот и с тобой он вначале устроил подготовительный этап, некую пробу сил, а потом, когда наладил контакт, приступил к допросу.
– Он приказал забыть, а я не забыл! – гордо напомнил я. – Значит, я тоже не очень восприимчив.
– Был бы ты не очень восприимчив, не разболтал бы секретную информацию, – не преминул уколоть Мощин.
Ну да, чего уж… если говорите: «сильный гипнотизер». Сам, небось, в той ситуации разболтал бы в разы больше. Еще бы и забыл все, согласно приказу супостата. А я хоть…
Тут внизу, по-над рекой, в сторону наших позиций протянулась ярко-оранжевая пунктирная черта, потом целый сноп чуть изгибающихся линий ударил в берег. Запоздало долетела трескотня пулеметов. Ночь сразу перестала быть лениво-прекрасной. С нашей стороны вывесили осветительную ракету, немцы, будто соревнуясь, тут же запустили над рекой два «фонаря». Размеренно забухала артиллерия. Из-за дубовой полосы поднялись три красные кометы, потом еще три – это подключился фашистский миномет, который наши бойцы почему-то ласково окрестили «Ванюша».
Я посмотрел на часы: семь минут второго. Опаздывают что-то фрицы. Будет вам, собаки, нагоняй от фюрера. Я был почти уверен, что обстрел им приказали начать ровно в час ночи.
Глава 6
20 сентября 2016 года. Чернобыль
Странное чувство: я вдруг понял, что в тот раз стоял точно на этом месте. Прошлым летом. Вот расщепленный пень, вот знакомое кострище – здесь довольно часто разводили огонь, и земля выгорела глубоко, даже несколько головешек сохранилось. Тут все осталось без изменений. Изменился остальной мир. Его больше нет.
– Глок! – зовет снизу Чапай.
– Сейчас!
Напарник копошится в орешнике у подножия холма – собирает дрова. Его невысокая крепкая фигура мелькает среди кустов, камуфляжная расцветка периодически сливается с листвой, и тогда Чапая можно проследить только по шевелению веток. Пусть копошится. Я остаюсь на месте. Почему-то кажется, что вот-вот смогу что-то понять…
Холмистая равнина, поросшая сухим ковылем, тянется вдаль. Белые метелки напоминают пену на гребнях волн. Кое-где монотонность травы нарушают заросли кустов, похожие на застывшие взрывы. Кляксой чернеет проплешина аномалии. Машинально отмечаю, что надо бы сходить, проверить на предмет артефактов.
И тут же снова накатывает: весь мир перестал существовать, в пыль растерто столько людей, а здесь, в Зоне, по сути-то ничего и не поменялось. Колышется трава под выцветшим небом, носятся листья над разбитым асфальтом… Только там, вдалеке, где раньше торчала такая привычная полосатая труба, теперь блестит на осеннем солнце большое озеро.
Может быть, именно поэтому обитатели Зоны так легко пережили катастрофу? Не в буквальном смысле – тут-то все понятно: проверенные убежища, сотни раз спасавшие от выбросов, спасли и на этот раз. Имеется в виду другое. Изгои, отщепенцы – мы заметили, что мира больше нет, только потому, что периметр Зоны перестал охраняться. А в остальном для нас ничего не изменилось. Или все-таки изменилось?
– Глок!
В голосе Чапая сквозит раздражение. Я спускаюсь вниз – нужно помогать. Вместе быстро разводим костер, процеживаем воду, вешаем над огнем котелок. Можно покурить.
– Чего ты там высматривал? – интересуется Чапай.
Как объяснить? И стоит ли вообще объяснять? Я гляжу на напарника: глаза лукаво поблескивают, из-под густых усов проглядывает усмешка. Поймет? На самом-то деле веселье это ненатуральное. Помню, точно так же лукаво щурился Чапай, передавая мне последний магазин, когда нас зажали у бетонного завода.
– Да видишь ли… – все-таки решаюсь поделиться сокровенным. – Вот с этого самого холма я осматривал окрестности год назад. Дня за три, по-моему, перед Взрывом.
Ничего не отвечает Чапай, наклоняется над котелком, помешивает макароны. Понял, значит, о чем я. Это хорошо. Радует, что я не один такой, с «зубной болью в сердце».
Со стороны леса прилетают две вороны, кружатся над костром с мерзким карканьем. Небо совсем чистое, по-осеннему блеклое, солнце поднялось уже высоко, пригревает.
– Накаркают сейчас. – Чапай недовольно поглядывает на птиц.
Макароны готовы. Вырезаю крышку, вываливаю тушенку в котелок. Воронам, видимо, надоедает нас дразнить – улетают. А может быть, они просто по людям соскучились? Мало их, людей, осталось. На уровне статистической погрешности. Едим молча, так же молча прикладываемся к фляжкам. Закуриваем. Чапай подкладывает куртку под голову, ложится.
– Мы с Чекистом весной в рейд ходили, – говорит он в небо. – Бабай выделил две бочки солярки. Просил не говорить никому… Но теперь уже неважно. В сторону Москвы поехали. Мало, конечно, горючки, но по пути еще планировали достать.
Чапай вещает монотонно, как будто сто раз рассказывал эту историю, и надоело ему уже, оскомину набило… А я замер с кружкой в руке, смотрю на его равнодушное лицо и вижу, что веселые морщинки вокруг глаз куда-то исчезли.
– Зверья много, – продолжает Чапай. – В основном мутанты, с Зоны. На джип, конечно, в лоб бросаться опасались, но пару раз нас чуть не зажали. Карта была. Ночевали в воинских частях. Там и горючку брали. На АЗС соляра, та, что с присадками, – она давно протухла. А у вояк законсервированная – самое то.
Он надолго замолкает. Здесь, под холмом, очень тихо, только ветерок чуть проходится по верхам орешника. Костер почти прогорел, угли начинают подергиваться пеплом. Я беру котелок, начинаю обтирать сорванными листьями.
– Ни одного человека. Понимаешь, Глок? – Чапай поворачивается ко мне. – Это очень страшно. Когда города, поселки, дома – и никого. До Хомутовки доехали, это уже на территории России, и там развернулись.
– Почему?
– В аномалию угодили. «Разрядник» всю проводку пожег. Кое-как залатались – и обратно.
Чапай быстро поднимается, начинает собираться.
– Знаешь, – сообщает он рюкзаку, – и очень хорошо, что не доехали. Мне Москву в таком состоянии, как Киев, видеть совсем не хочется.
Прежде чем пойти дальше, прошу Чапая подстраховать – хочу проверить аномалию. Коммерческого веса артефакты больше не имеют, но их полезные свойства никуда не делись.
Проходим через кусты, останавливаемся возле черной проплешины. Аномалия спит – просто пятно выжженной травы, даже воздух не струится над золой. Между тем в момент активизации температура в эпицентре может достигать нескольких тысяч градусов.
– Большая, – с намеком говорит Чапай.
– Спокойно, папаша!
В этом деле главное – стратегия. Достаю детектор, включаю: прибор радостно пищит. Хорошо. Аномалия метров десять в диаметре, черные протуберанцы тянутся во все стороны, как лепестки цветка. Выбираю тот, что потолще, достаю мешок с гайками.
– Отойди, – командую напарнику.
Первую гайку бросаю в траву, у закругленного края «лепестка» – ничего. Следующая гайка падает уже в золу, вверх взлетает черный фонтанчик пыли. Ага! Доносится еле слышный хруст, как будто ломается тонкий лед. Главное, вызвать огонь на максимально возможном от центра расстоянии. Тогда она быстрее выдохнется. Еще одна гайка, сантиметров в десяти от предыдущей. Земля снова хрустит, но уже настолько угрожающе, что Чапай, выматерившись, отпрыгивает подальше. Я швыряю третью. И вот оно: от центра пятна по золе проносится огненная полоса, и там, куда упала гайка, вверх выстреливает острый огненный факел. Пламя, еле видное на солнце, гудит, лицо обдает жаром. Не теряя времени, укладываю гайку в другой протуберанец, слева. Снова огненная дорожка, снова гул, огненный столб метра на два. Перебегаю дальше, зажигаю еще один факел. Потом еще…. Шестая гайка уже не вызывает никакой реакции. Подскакиваю ближе, на всякий случай кидаю еще одну – тишина. Первый факел уже увядает, клонится на сторону. Времени секунд тридцать. Набрав в грудь воздуха, влетаю внутрь выжженного контура. Вожу детектором. Светящаяся точка на экране чуть левее центра. Корректирую направление. Первый факел опустился почти до самой земли. Огненный гул меняет тональность. Время вышло. И тут я вижу его: зыбкий, еле заметный сгусток на уровне колена. Подхватываю горстью и в два прыжка вылетаю наружу. Вовремя: огненная дорожка устремляется вслед, выходит за пределы черной кляксы, фонтан пламени поднимается прямо из травы, огонь быстро выедает в траве еще один черный «лепесток».
– Покажь! – подбегает Чапай.
Я разжимаю пальцы: на ладони алеет полупрозрачный шар размером с куриное яйцо.
– Ух ты!
– А ты лезть не хотел! – Я смотрю сквозь красный шарик на гудящее пламя.
Артефакт греет пальцы, спокойное, доброе тепло растекается от ладони по всему телу. Теперь никогда не буду мерзнуть, хоть в сугробе заночую. Насколько помню, таких артефактов при мне находили не более пяти штук. И главное, он практически не фонит, что для порождения аномалии большая редкость.
Мы продолжаем путь. Пересекаем поле, выбираемся на разбитое шоссе. Трещины в асфальте густо проросли травой, кое-где покрытие вздыбили молодые деревца.
Дорожная насыпь пересекает поле по прямой и упирается в далекий лес. На опушке виднеется бревенчатая изба метеостанции – наша цель. Отряхиваемся, снимаем друг с друга колючки. Идем дальше.
– Глок, ты ведь журналистом был? – спрашивает Чапай.
– Формально.
– Про Зону писал?
– Случалось.
– Как думаешь, откуда она взялась?
Чапаю перевалило за сорок. Из них лет десять по Зоне бегает. Один из старожилов. Версий возникновения Зоны за свою сталкерскую жизнь небось наслушался выше крыши. Но я его понимаю – молча идти тоже скучно.
– Хрен ее знает, откуда взялась Зона. – Пытаюсь почесать затылок, но упираюсь в пластик шлема. – Говорят, какой-то эксперимент на АЭС проводили.
– Кто позволит на аварийной станции работать?
– Один блок не работал, а три остальных вполне себе. Я читал товарища одного, так он доказывал, что станцию вообще построили только для того, чтобы питать секретные эксперименты. Сам же знаешь, сколько тут под землей лабораторий понатыкано.
– А Большой Взрыв тоже в результате эксперимента?
По сторонам шоссе – поля. Справа равнина идет до самой станции, точнее – до озера, образовавшегося на ее месте. Оттуда тянутся ржавые, покосившиеся опоры ЛЭП, пересекают дорогу и упираются в густой сосновый лес. От просеки не осталось и намека. В лесу, по слухам, водятся такие медведи, что от одного их вида может стать дурно.
– Что ж за эксперимент такой, чтобы весь мир сжечь? – привожу я аргумент. – Нереалистично это.
– Ну да, – иронично кивает Чапай. – А все эти аномалии-артефакты, они очень реалистичны.
Тоже верно. Но соглашаться не хочется. Собираюсь с мыслями, чтобы возразить. И тут вижу, как от леса по направлению к нам устремляются какие-то полускрытые травой звери. Один, два… пять серых спин. Голов не видно, будто специально пригибаются к траве, чтобы не заметили. Над стаей кружит пара ворон – видимо, те же самые, что мешали нам обедать.
– Говорил, накаркают! – шипит Чапай, сдергивая дробовик. – Встречай волков!
Прикидываем расстояние до метеостанции: полкилометра, не больше. Может, успеем?
– Попробуем! – Чапай закидывает ствол обратно за спину и срывается с места.
Звери, заметив наш маневр, меняют направление, бегут наперерез. Теперь я вижу их морды: похожие на собачьи, но длиннее и уже. Вороны молча скользят над стаей. Волки тоже не издают ни звука – кажется, что они плывут по колыхающемуся морю травы. Сверху весело светит солнце.
Рюкзак Чапая маячит в метре передо мной, ствол его дробовика ходит ходуном, с лязгом бьется о шлем. Не успеем. Твари совсем близко, я уже вижу, как светят голубизной глубоко посаженные глаза ближайшего зверя. Где это видано, чтобы пять волков осмелились напасть на двух людей? Но факт, как говорится, налицо. С ходу, наверное, не набросятся, начнут кружить, уворачиваться от выстрелов, пытаться напрыгнуть со спины, повалить…
– Граната! – предупреждаю Чапая.
Кидаю лимонку на ход стаи, напарник непроизвольно виляет к дальней обочине, я следом. Грохот, всплеск огня вперемешку с землей. Одного волка достал, он с визгом падает, катится в сторону, приминая траву. Четверка оставшихся шарахается, сбивает темп. Чапай лупит картечью, еще один зверь, споткнувшись, ныряет вниз. Троица выскакивает на дорогу позади нас. Теперь я могу разглядеть тварей: оскаленные пасти, маленькие уши, серая свалявшаяся шерсть. Невысокие, но очень коренастые. Мощные передние лапы, поджарые зады – они напоминают гиен-переростков.
Бью короткой очередью, но мимо – волки проскакивают на ту строну. Снова хлопает дробовик Чапая. Справа мелькает тень – успеваю повернуться и выстрелить: окровавленная морда пролетает в сантиметре от плеча, падает на дорогу. Сажаю пулю за пулей в бешеный ярко-голубой глаз. Задняя лапа монстра подрубает меня под колени. Удар настолько силен, что ноги взлетают выше головы, я всей массой валюсь на спину, рюкзак амортизирует. Где-то сверху витиевато матерится Чапай – он уже садит в тварей из пистолета. Выворачиваюсь из лямок, перекатываюсь на живот. Чуть не утыкаюсь лицом в расквашенную голову твари – ужасный смрад. Перед Чапаем валяется еще один волк, сучит лапами, когти крошат ветхий асфальт.
– Перезаряжай! – Я вскакиваю, встаю рядом.
Два волка носятся под насыпью. Прицелиться мешают кусты. Краем глаза вижу: Чапай опустился на колено, торопливо загоняет патроны в магазин. Над зарослями взвивается серое тело, встречаю его длинной очередью, но почти все мимо. Волк летит прямо на меня. Отпрыгиваю, ухожу с линии огня. Чапай засаживает почти в упор – голова монстра разлетается кровавыми ошметками. Подскакиваю к напарнику, быстро меняю магазин. Но оставшийся в живых мутант уже далеко: серая спина, удаляясь, то выныривает, то исчезает в траве.
– Волки позорные, – цедит Чапай.
И, вскинув дробовик, стреляет в небо. Мимо: пара ворон, истерично покаркивая, уносится обратно к лесу. Прикидываю расстояние – нет, с «калаша» тоже не достану. И тут впереди трещит выстрел: правая ворона сбивается с ритма и, дернув крыльями, валится на землю. Еще хлопок – и вторая птица осыпается вниз ворохом перьев. Это подоспел на подмогу Паутиныч.
Он потешно машет нам руками: маленький, бородатый. Похож одновременно на Льва Толстого и Ленина, только неухоженный. Всю жизнь проработал на метеостанции, не ушел оттуда, даже когда возникла Зона. А после Взрыва, как он заявил, уже и уходить некуда.
– Ко мне? – кричит Паутиныч на подходе.
– А то к кому? – откликается Чапай. – Здорово, отец!
Паутиныч подходит, жмет руки. Одет он в старый брезентовый плащ, камуфляжные штаны заправлены в кирзачи, на голове – потертая кожаная кепка. С собой прихватил СВД – вот чем объясняются меткие выстрелы. Хотя, по слухам, Паутиныч и без снайперки мастер по стрельбе.
– Вы от Хирурга?
– От него.
– Пошли, я все приготовил.
От шоссе к метеостанции когда-то шла выложенная плитами дорога. Сейчас эти плиты практически исчезли, утонули в земле, только кое-где из-под дерна торчат раскрошенные бетонные углы. Метеостанция представляет собой одноэтажный бревенчатый домик посреди огороженной сетчатым забором территории. Забор практически сгнил, остатки сетки ржавыми лоскутами висят на металлическом каркасе. До сих пор не понимаю, как Паутиныч может жить один в Зоне. Почему его не трогают твари – тоже загадка.
Мы идем вслед за хозяином. У покосившегося деревянного крыльца стоит бочка, доверху наполненная водой. Поднимаемся по ступенькам, заходим в дом.
Комната с низким потолком. Посреди – массивный стол с блестящим медным самоваром. В доме пахнет яблоками и дымом. Не сговариваясь, начинаем разуваться.
– Чай будете? – предлагает Паутиныч.
И тут я замираю с расшнурованным берцем в руке. Напротив входа – дверь в другую комнату. Она открыта. Видна железная кровать с хромированной дугой спинки. И на этой кровати сидит женщина. Она одета в какой-то пестрый сарафан, длинные чуть вьющиеся волосы падают на плечи.
– Это кто? – От неожиданности я забываю о приличиях.
– Внучка, – буднично поясняет Паутиныч. – С Ельска пришла.
Женщина медленно поворачивает голову на звук голосов. На молодом, очень бледном и очень красивом лице зияют бессмысленно-пустые глаза шатуна.
Глава 7
11 октября 1943 года. Позиции 1078-го стрелкового полка
Было очень тихо и очень темно. Ночь выдалась облачная, что в тактическом плане не могло не радовать, но чисто по-человечески – луна бы не помешала. Мы спускались к реке, передо мной черной тенью плыла спина сержанта Коваля.
Вдалеке справа, над позициями, с равными промежутками вспыхивали одиночные осветительные ракеты, и от этого темень вокруг нас казалась еще гуще.
Высокая, по колено, трава оказывала активное сопротивление – я двигался, как в воде, жесткие стебли путались в ногах, невидимый в темноте репейник с хрустом цеплялся за одежду, рассыпался, оставляя на штанах и рукавах гимнастерки раздражающие заусенцы.
Первым шел еще один мой боец, ефрейтор Мамажан Нурбаев, но о его существовании в этой тьме египетской свидетельствовал только тихий шорох. Как этот «друг степей» ориентировался – оставалось только предполагать. А может, и не ориентировался он вовсе? Вдруг сейчас мы скатимся в какой-нибудь овраг, переломаем шеи, и на этом моя карьера командира разведроты скоропостижно закончится? Да, тогда шефу все-таки придется признать мою правоту…
Упустив момент, когда шорох впереди стих, я налетел на Коваля, больно приложившись носом о ствол. Сержант только тяжело вздохнул. Чего встали? Я прислушался: где-то недалеко шелестели на ветру листья. В сыроватом воздухе явственно проступил запах тины. Я понял, что река совсем рядом – и тут же тихий плеск подтвердил мою догадку.
– Вон той тропинк к лодк выходит, – глотая окончания, прошипел Нурбаев над самым ухом.
Какая тропинка? Я проморгался, потер глаза… Он издевается? Неровный контур противоположного берега чернел на фоне более светлой черноты неба. Вот и все, что я смог разглядеть. Ну да, впереди, метрах в трех, не столько виделась, сколько ощущалась стена прибрежных кустов. В который раз с начала ночного путешествия кольнула мысль: зря я все это затеял!
– Пошли, – выдохнула темнота голосом Коваля.
Ориентируясь на шум, двинулся следом. Спуск стал круче, я невольно ускорил шаги. И получил по лицу веткой, потом еще раз, довольно ощутимо. Поводил в темноте руками, но никаких веток не нащупал. Шуршание шагов сменилось легким чавканьем, я почувствовал, что земля под подошвами начала мягко проминаться, а вскоре появилась и открытая вода. Зацепился за корень, чуть не упал, расставил руки для равновесия и тут же снова схлопотал по лицу – на этот раз, судя по ощущениям, небольшим бревном.
– Штоб вас всех! – прошипел я, пытаясь на ощупь определить, разбит ли нос.
– Плохо слышь, что командир приказал? – забеспокоился справа Нурбаев.
– Командир чихнул, – пояснил слева Коваль.
Издеваются, сволочи. И ветками по морде небось тоже они меня хлещут. Поднявшийся из глубины души комок злости внезапно рассыпался смехом. Вслед за мной тихо захохотало и справа, и слева.
– Как вы тут хоть что-то видите, сволочи? – прошипел я, давясь и всхлипывая.
– А чего ж ты поперся-то, если не видишь? – пофыркивая, отозвался Коваль.
– Авторитет надо зарабатывать, – признался я.
– Хорош дел! – согласился Нурбаев.
– Ладно, командир, держись за меня. Мамай, подгоняй лодку.
Невидимые пальцы ухватили мою руку и положили на ремень автомата. Темнота впереди наполнилась тихим плеском. Коваль тронулся вперед, я покорно пошел следом, но почти сразу же стукнулся коленом о деревянный борт.
– Залазь! – скомандовал Коваль.
Держась за край борта, прошел до уключины, оперся на плечо Нурбаева и перекинул ногу. Сложнее всего было удержать равновесие. Под сапогом крутанулась какая-то деревяшка, видимо, весло, я почти опрокинулся навзничь, но нечеловеческим усилием выровнялся, шлепнулся на скамейку, плеснув на брюки водой со дна. В нос шибанул запах тухлятины и смолы. Лодка, тихо ударяясь о стволы, заскользила вперед, сильно качнулась, чье-то жаркое, пахнущее луком дыхание мазануло по щеке… А потом мрак рассеялся до такой степени, что я увидел и сидящего рядом со мной Нурбаева, и Коваля, замершего на носу, и спокойную гладь реки.
Мы вышли на открытую воду из низкого тоннеля, образованного склонившимися ивами. Сержант не дал лодке проплыть дальше, уцепился за ветку, и наша посудина стала носом против течения. Вдалеке вспыхнул, налился светом и медленно поплыл в нашу сторону белый до синевы шар осветительной ракеты.
– Командир, ходи назад, грести буду, – проговорил Нурбаев.
Я кое-как перебрался на корму. Коваль привстал, вглядываясь в темноту дальнего берега. Нурбаев вытащил из-под сиденья весла, вставил в уключины.
– Давай. – Сержант махнул рукой.
Солдат, развернув лодку, сноровисто заработал веслами. На переход через реку ушло не больше двух минут – и вот Коваль уже цепляется за такую же густую, нависшую над водой поросль ивняка.
Заросли тянулись вдоль берега почти до самых немецких позиций. И как раз в эти кусты уходило ответвление хода сообщения, что мы высмотрели вчера днем с Ковалем. Скорее всего, там фрицы спускаются за водой. Задача у нас простая: подкараулить какого-нибудь бедолагу, по ночному времени вышедшему к реке, и аккуратно спеленать. Во всяком случае, таков был план, составленный еще прежним командиром, внезапно покинувшим нас лейтенантом Андреевым. И, как убедил меня сержант, решение это наиболее приемлемое: немцы на своем берегу заняли круговую оборону, словно ожидая атаки со всех сторон – так что с тылу тоже просто так не подступишься.
– Пошли! – прошипел Коваль с носа.
Осторожно перебирая ветки, мы повели лодку вдоль берега. Двигались совсем тихо, только еле слышно шептала вода вдоль бортов да шелестели деревья. В лицо и за шиворот сыпались листва и сухой древесный мусор.
Постепенно до нас стали доставать отблески ракет – свет усиливался, и мы все сильнее прижимались к берегу, затаскивая лодку под шелестящий, пахнущий илом свод. В какой-то момент посудина попала под тень высокого утеса, выступающего в реку на повороте. Тут деревьев не было, и пришлось снова грести.
Но вот мы перевалили за изгиб берега – и сразу оказались на освещенном пространстве. У меня екнуло сердце – так это получилось неожиданно. Нурбаев дернул правым веслом, лодка нырнула в спасительную тень деревьев. Какое-то время стояли на месте. Мои спутники, как хищные звери, подались всем телом вперед, изучая обстановку. Потом Коваль махнул рукой, и мы снова потянули лодку вперед.
Я успокаивал себя мыслью, что фрицам никак нас не углядеть: изгиб реки скрывал их позиции, а сверху нависали кусты. Наши могли заметить, как крадется лодка под берегом, но наши предупреждены… И все равно было не по себе: мерно взлетали в небо ракеты, сочно хлопали, и мертвенный синеватый свет настырно заглядывал под склоненные ветви, и были мы как на ладони: огромная фигура Коваля на носу, маленький, щуплый Нурбаев посередине и я на корме. Черная лужа воды на дне лодки слегка колыхалась, плавали в этой воде отсветы вперемешку с похожими на рыбок листьями, и казалось почему-то, что лодка наполнена кровью.
Во всех движениях, в самих спинах моих спутников чувствовалось напряжение, беззвучно звенели натянутые нервы, и я, стараясь не дышать, хватал ветки, перебирал их, как струны арфы, тянул на себя, мягко отпускал, снова тянул. Они нависали все ниже и ниже, и мы клонились, клонились, опустились уже вровень с бортами, и невыносимо воняла застоявшаяся вода…
Вдруг лодка резко поменяла направление. Ветки над головой исчезли – мы завернули в узкий проход. Здесь было спасительно темно, свет практически не проникал сквозь переплетения кустов. Мягкий удар – нос уткнулся в берег.
– Прикрывай! – прошептал Коваль, протягивая мне свой «МП38».
Они с Нурбаевым почти бесшумно соскочили в воду и исчезли в зарослях на берегу. Напряжение постепенно спадало, и я внезапно обнаружил, что очень сильно вспотел, майка прилипла к телу, подмышки были хоть выжимай. И смертельно хотелось курить – настолько сильно, что я почти решился: согнусь к самому дну, и никто не заметит, буквально пару затяжек, даже одну…. И в этот момент с берега донеслись тихие голоса.
Говорили по-немецки. Двое. Молодой голос то ли жаловался, то ли злился. Тот, что постарше, вроде как шутил, пару раз даже засмеялся – мелким таким, издевательским смехом. Молодой вспылил, тон его стал угрожающим. И вдруг он будто бы захлебнулся, и тут же пролаяла короткая пулеметная очередь.
Пару долгих секунд стояла полная тишина. Но я уже знал, что это последние секунды. Взметнулась целая гроздь ракет, и кусты не устояли, протекли болезненным синеватым светом. А потом на берегу затрещало, захекало – к лодке выскочила большая черная тень. Была она какая-то скособоченная: один край слишком большой, другой совсем маленький. А потом тень разделилась на Коваля с Нурбаевым – между ними, обвиснув на заломленных руках, болтался фриц. Они швырнули пленного прямо на меня и одновременно прыгнули следом.
Бедная лодка вздыбилась кормой, зачерпнула воды и уперлась в какой-то ствол. Нурбаев, пройдясь прямо по мне, перелетел в воду, с треском вырвал лодку из кустов, оттолкнул…
И тут по зарослям ударили в несколько стволов. Но мы уже выскочили на реку, и Коваль уже сидел на веслах, а Нурбаев, непонятно когда завладевший моим автоматом, лупил от пояса по вспышкам на берегу.
Целая гирлянда ракет гналась следом, обгоняла, выжигая глаза ядовитым светом. Ожил наш берег, засверкал звездочками выстрелов. Ударили минометы. Коваль греб, матерясь во весь голос. До меня вдруг дошло, что за фонтанчики поднимаются вокруг лодки. Но в этот момент сержант лихо завернул за утес, прогреб еще несколько метров, а потом так же стремительно повернул к нашему берегу.
Вершина утеса наполнилась острыми огоньками, и в неверном, мерцающем свете я смог разглядеть черные фигуры фашистов. Автомат Нурбаева протрещал над самым ухом, одна из фигур, оступившись, полетела вниз. А Коваль уже не матерился, он только хрипел, весла летали над бортами, поднимая снопы ледяных брызг.
Я обернулся – вот он наш берег, стремительно несется навстречу лодке. И в этот момент что-то огромное, тяжелое упало совсем рядом и, будто срикошетив от воды, со всего размаху врезалось в меня и выбило из лодки навстречу черноте.
«Вот, шеф, – подумал я напоследок с полным спокойствием, – говорил же вам, что плохая это затея…»
– Это, лейтенант, не затея, а приказ! – ответил Мощин раздраженно. – Не забыл, что означает слово «приказ»?
– Никак нет!
– Ну вот и молодец.
– Разрешите выполнять?
Полковник окинул меня долгим взглядом и со вздохом опустился на стул.
– Садись, – сказал он устало.
Я насупленно уселся напротив, прикурил от лампы и замер в ожидании. Шеф молчал. И я молчал. Пару раз незаметно посматривал на него и тут же отводил взгляд: сидит, старый черт, разглядывает в упор. И ведь, если поразмыслить – хорошую идею предложил шеф. А если не просто поразмыслить, но и отбросить эмоции, а попросту говоря, прекратить поджимать хвост, то придется признать: идея, предложенная Федором нашим Степанычем, – отличная идея.
Я должен возглавить разведроту 1078-го полка. Вместо сбежавшего Андреева. Это позволит нам работать «изнутри», а кроме того – решать оперативные задачи на территории врага. Не стоит также забывать, что нужно проработать связи лейтенанта Андреева…
Я не боялся войны, не боялся фашистов. Я боялся командования ротой бойцов. Работа в сыскной бригаде МУРа – это, ребята, совсем не то, что война. Там отвечаешь только за себя, а здесь от твоих решений может зависеть жизнь и смерть других людей, которые обязаны выполнять приказы, какими бы бестолковыми они ни были.
Примерно в таком ключе я и обрисовал ситуацию товарищу Мощину. Товарищ Мощин с пониманием отнесся к моим опасениям, и совсем уж было завязался у нас конструктивный разговор, но тут вмешался Сан Саныч. Многоумный сержант счел своим долгом пояснить, что разведрота нашего полка – она только по названию «рота». На самом же деле личного состава там всего семь человек, не считая сбежавшего командира. А все потому, что этот участок фронта вообще не был бы участком фронта, когда б на ту сторону реки в середине прошлого месяца зачем-то не пришел батальон СС. Согласно сведениям, имеющимся у штаба, никаких активных действий фрицы здесь не планировали. И, главное – Сан Саныч с такими выводами был полностью согласен. Даже более того, тщательно проанализировав ситуацию на фронте, он, Сан Саныч, склонялся к мысли, что это направление вообще трудно считать подходящим для удара. В штабе, несомненно, пришли к такому же выводу, поэтому и послали сюда, на северный берег Припяти, недоукомплектованный, кое-как сбитый из резервов полк, единственной целью которого было не пустить фашистскую гадину на наш берег. А учитывая, что фашистская гадина не очень-то и стремилась лезть на наш берег…
Я попросил Сан Саныча заткнуться. В кои-то веки шеф не одернул меня за грубость. На душе было муторно.
– Они там прекрасно понимают, что я не кадровый офицер.
– Вопрос твоего назначения уже согласован, – сказал полковник сочувственно. – Завтра можешь принимать командование.
Я снова прикурил от лампы. Глубоко затянулся. Представил, как буду принимать командование ротой, вздохнул… Что ж это ты, лейтенант Зуев? Сдрейфил? Лучшие специалисты МУРа ушли воевать – чтобы раздавить гадину, прогнать с нашей земли нелюдей. И мы сейчас здесь именно за этим. Чем быстрее задушим фашиста, тем быстрее вернемся к выполнению своих прямых обязанностей. Сам же просился на фронт – не пустили. А теперь что? Стыдно, лейтенант Зуев!
Вспомнилась маленькая комнатка в коммуналке, седая старушка у окна… Когда мы пришли проведать мать Васьки Басаргина, из второго отдела. Васька – едкий, язвительный юморист, про такого никогда бы не подумалось, что он может броситься под танк со связкой гранат… Стыдно, Зуев.
А ведь есть еще семеро пропавших бойцов. И если про шестерых ничего утверждать нельзя, седьмой, ефрейтор Святошин, точно по нашей части – я видел его разорванный труп. И тот фельдфебель… хотя, конечно, никакой он не фельдфебель, а русский… Глок – он тоже по нашей части. И лейтенант Андреев, несомненно.
Так что наутро, после построения, я твердым шагом спустился вслед за сержантом Ковалем по сбитым бревенчатым ступенькам. Бойцы уже были там, расселись по лежанкам с котелками. Блиндаж был заполнен многоголосым скрипом ложек.
Первая ошибка – отметил я безжалостно: надо было назначить сбор перед блиндажом, а не внутри, в темноте и духоте. Учтем.
Сержант по-быстрому представил личный состав, тыкая в повернутые на меня лица пальцем. Клименко, Попов, Багдасарян, Стельмах, ефрейтор Нурбаев, Федотов… Я запоминал. В полутьме, освещенной двумя коптилками, вглядывался в лица, отмечал приметы.
Душно было в блиндаже. Пахло мокрым деревом и плесенью. Стены выложены тонкими березовыми стволами, поставленными вертикально. А потолок был плохой – низкий, черный, и между бревен кое-где свешивались белые, похожие на червей корни.
– Пошли покурим, – предложил я сержанту Ковалю.
И с ходу, еще и спичку не успел потушить, поставил перед ним задачу: достать языка. Это была вторая моя ошибка. Думал продемонстрировать деловой подход, активность вперемешку с инициативностью. Но, поймав чуть насмешливый прищур сержанта, внезапно понял, как это видится ему: прибежал какой-то штымп и тут же шашку наголо! Оно и понятно, перед начальством надо выслужиться, под пули-то лезть не ему…
Здоровый мужик был этот сержант Коваль. Мне приходилось задирать голову, чтобы видеть его румяное лицо с массивным раздвоенным подбородком. Может быть, из-за этой позы – снизу вверх – показалось мне, что смотрел он на меня с каким-то презрительным любопытством. И тогда, повинуясь внезапно возникшему импульсу, я заявил:
– Пойдем вместе. Я, ты… Еще кого-нибудь третьего подбери. Понял?
И вот сейчас, когда, выброшенный из лодки, со всего размаху ударился о жесткую черную поверхность реки – я со всей отчетливостью понял, что это решение было третьей моей ошибкой, самой серьезной. Ледяные волны сомкнулись где-то высоко вверху, и сразу же наступила тишина.
Глава 8
30 сентября 2016 года. Чернобыль
Паутиныч наполняет чашку из самовара, ставит на блюдце и протягивает мне. Я снова бросаю короткий взгляд в сторону комнаты.
– Ее зовут Ольга, – говорит Паутиныч.
– Чего? – Я поначалу не понимаю.
– Ольга ее имя, – повторяет дед. – Хотя это и неважно теперь.
Его внучку зовут Ольга. Но это действительно неважно. Для нее. А для меня? Она худа, у нее длинные волосы, расчесанные на прямой пробор и чистые. И вся она тоже чистая. Видимо, дед отмыл ее, когда нашел. «Отмыл» – так можно сказать только о вещи. Но, если разобраться, она и есть вещь. Очень красивая вещь, но от этого только хуже…
Мы сидим у стола, накрытого блеклой клеенчатой скатертью, протертой на сгибах до ворсистой подложки. Самовар только что вскипел, в его медном нутре еще что-то шипит и побулькивает. Комната наполнена сладковатым ароматом березовых углей.
К чаю у нас мед. Паутиныч держит пчел. У него здесь целое хозяйство с фруктовым садом и огородом – он заведует этой метеостанцией еще с советских времен. Самое интересное, что его деятельности не помешал ни развал Союза, ни авария на АЭС, когда образовалась Зона. Паутиныч продолжал фиксировать погоду. Нужно было разрушить весь мир, чтобы он остался без работы. Но это еще не факт – возможно, старик по инерции продолжает снимать показания. Когда цивилизация восстановится, этим записям цены не будет. Если восстановится…
– Могу картошкой угостить, – предлагает старик.
– Спасибо. С медом как-то не сочетается.
На Паутиныче ветхая полосатая рубаха, бывшая когда-то зеленого цвета. Седые волосы подстрижены под горшок, борода свисает длинным клином – он похож на старообрядца. Рядом с тарелкой меда на столе плетеная ваза с яблоками.
Комната наполнена светом – на улице ясное утро. Желтый силуэт окна с перекрестьем рамы отпечатался на стене, внутри солнечного квадрата шевелятся тени веток.
– Паутиныч, а почему тебя твари не трогают? – спрашиваю я для поддержания беседы.
– Не знаю. – Он усмехается в бороду. – Я тут давно… За своего, наверное, держат.
Я снова смотрю в ее сторону. Как сидела, так и сидит. Разглядываю профиль: элегантно изогнутая бровь, прямой тонкий нос, плотно сомкнутые губы. Если не видеть глаз – можно просто любоваться красивой девушкой. Но иногда она поворачивает голову, и тогда я стараюсь не смотреть. Среди наших бытует версия, что Взрыв выжег их души. Версия эта популярна у тех, кто смотрел в глаза шатуну.
– Она сама к тебе пришла? – спрашиваю я.
– Сама. Они с матерью, моей дочкой, в Ельске жили. В больнице обе работали.
Я представляю: Паутиныч сидит в этой самой комнате и вдруг видит, как в окно заглядывает она. А если это было ночью? Да… Еще неизвестно, что лучше – горевать по погибшим родичам или получить их в таком виде. Но из поведения Паутиныча непонятно, как он к ней относится. Он как-то вообще к ней не относится, во всяком случае – в моем присутствии. Но при этом в прошлый раз она была в другой одежде, а сегодня снова в том сарафане, в котором я увидел ее первый раз. Она чуть шевелит лежащей на колене рукой, и я замечаю, что на безымянном пальце у нее отсутствует фаланга. И запаха от нее никакого нет. Не то что от других шатунов. Они же не мертвые, они даже могут как-то добывать себе пищу. Поэтому и обитают в бывших населенных пунктах – там непортящиеся продукты найти можно.
На крыльце раздаются шаги, металлический звон – в двери появляется Чекист. Рожа румяная, шлем набекрень, пластины знаменитого бронекомбенизона густо измазаны глиной.
– Поймал? – с издевкой спрашиваю я.
– Поймал, – весело кивает он. – Только лучше бы не ловил.
– А я предупреждал! – говорит Паутиныч и разражается тихим, похожим на кашель смехом.
– Я его за домом бросил, у беседки. Разделай, пока не протух на жаре.
– Спасибо, сынок. – Паутиныч кивает, все еще усмехаясь в бороду.
Чекист разводит бронированными руками и тоже улыбается во весь рот. Здоровый бугай, под два метра ростом, да еще и в такой экипировке – отчего бы не попробовать на спор догнать раненого кабана? У левой ноздри напарника имеется смазанное пятно крови, а правая скула как-то слишком красна для румянца.
– Садись, охотник, чайку попей, – предлагает хозяин.
Чекист вопросительно смотрит на меня, будто советуется. Я бы тоже не отказался от еще одной чашки, но тут вижу, что она снова поворачивает голову к нам.
– Лучше пойдем. – Я поднимаюсь. – Уже начало второго, а еще сколько топать.
Чекист легко соглашается. Чай чаем – но разоблачаться, а потом снова цеплять на себя все агрегаты и приспособления тактического комплекса «Голиаф» ему явно не хочется. Он выходит на улицу, я начинаю собираться.
– Отдай напарнику, в благодарность. – Паутиныч протягивает мне пластиковое ведерко. Сквозь мутно-прозрачные стенки видно, что оно до краев наполнено густым рыжим медом.
– Спасибо.
Кладу мед в рюкзак, подтягиваю снарягу, жму широкую морщинистую руку.
– Передай Хирургу, что через неделю, надеюсь, будет ответ, – говорит Паутиныч.
– Какой ответ?
– Просто передай, хорошо?
Интонация у Паутиныча странная, вроде бы даже угрожающая. Я понимаю, что спросил лишнее. Киваю, набрасываю рюкзак. Она по-прежнему сидит без движения. Отсюда видно, что там, куда повернута ее голова, ничего нет, только белая стена.
– Вы с ней хоть разговариваете? – вырывается у меня еще один ненужный вопрос.
– Разговариваем, – отвечает старик все с той же интонацией.
– О чем?
– Ты правда хочешь это знать?
Я вижу совсем другого Паутиныча: комичный старик с мультяшной внешностью исчез – меня внимательно рассматривает человек, чей дом обходят стороной даже мутанты.
– Я хочу, чтобы ничего этого не было! – вырывается само.
– Надо было разрушить мир, чтобы понять его цену.
– Я ничего не разрушал.
– А артефакты барыгам я таскал? На Станцию я лез? Самое смешное, что все деньги, что ты заработал, теперь не сгодятся даже на то, чтобы подтереться, потому что бумага жесткая.
Старик смотрит строго, даже враждебно. Неуютно под его взглядом, хочется сказать что-то в свое оправдание. Я чувствую себя виноватым, пускай и не понимаю – в чем.
– Знаешь, Паутиныч, я бы многое отдал, чтобы вернуть все обратно.
– Беда в том, что у тебя ничего нет, – говорит он.
Равнодушно вроде говорит, но чувствуется в его голосе какое-то усталое сожаление. И я понимаю: он прав – чего с меня взять? Чего со всех нас – сколько там оставшихся в живых по норам прячется – чего с нас взять? Выжили, приспособились. Как тараканы. И цена нам как тараканам. А она – вон она, сидит. Смотрит в стену пустыми глазами. На что можно выменять ей человеческий взгляд? За какую валюту купить?
– Так что делать, Паутиныч?
Глупо как-то звучит вопрос, жалобно.
– Это каждый сам для себя решает. Ваш брат сталкер вроде верил в Исполнитель желаний. Не хочешь попробовать дойти и загадать?
Совет похож на издевку. Но Паутиныч серьезен. Даже излишне серьезен: смотрит, будто дырки во мне сверлит. Я отворачиваюсь и выхожу на улицу.
– Идем?
Чекист грызет яблоко, которое сорвал только что – ветка над ним еще качается. Солнце насквозь пробивает осенний сад, блики кувыркаются в непросохших лужах на тропинке. Пахнет сыростью и жухлой травой. За домом тянутся ряды грядок и упираются в частокол соснового леса. Паутиныч выходит на крыльцо.
– Доброй дороги. – Он растопыривает пятерню в принятом у сталкеров жесте.
С ним снова все нормально: добродушный, немного комичный старик. Мы уходим.
Чапай, конечно, бродяга авторитетный, но как проводник Чекист на порядок круче. Взять хоть дорогу, которой он меня повел сегодня. Сэкономили почти час, да еще и ни одной твари не встретилось. Аномалий, правда, многовато, но, как говорится, аномалий бояться – в Зону не ходить.
Идем по железнодорожной насыпи. Рельсы совсем чистые, ни намека на ржавчину. От разогретых шпал несет креозотом, сухо шуршат под ногами камни. Слева подбирается стена леса, но на достаточном расстоянии: метров пятьдесят до первых густых кустов, если что – успеем среагировать. А справа тянется болотистая низина, поросшая чахлым ивняком. Вокруг черных клякс открытой воды торчат пики камышей, далеко в зарослях копошится какая-то живность, судя по повадкам, травоядная.
– Паутиныч был связан со Стражами, – внезапно говорит Чекист.
– С чего ты взял? – От неожиданности я даже останавливаюсь.
– Мы с Чапаем однажды пытались добраться до Исполнителя.
– Ты слышал, что ли, о чем мы с ним говорили? – интересуюсь смущенно.
– Дошли до самого пруда-охладителя, – будто не услышав меня, продолжает Чекист.
Сегодня просто какой-то день метаморфоз! Смотрю: а вместо Чекиста, веселого безбашенного балагура, вышагивает рядом со мной суровый мужик, и лицо у него такое, что представить на нем улыбку почти невозможно.
– Вы верили в Исполнитель желаний? – спрашиваю, чтобы хоть что-то спросить.
– Нет. Хотя учитывали и такую возможность. Но дальше охладителя пройти не смогли. Как будто упираешься в стену… Но не физическую… Как бы просто не можешь идти, шаг вперед сделать не можешь. Обратно – пожалуйста, а вперед – ноги просто не слушаются. Понимаешь?
– Нет, – честно признаюсь я.
– Ну да. Это сложно объяснить. Представь, что тебе сейчас нужно мысленно управлять моими ногами. Справишься?
– Дикая мысль.
– Вот там было примерно так же: ты имеешь желание пойти вперед, но это желание не имеет к твоему телу никакого отношения. Какой-то паралич сознания… Лежим мы в кустах перед самой бетонкой, что вокруг пруда идет, и то я, то Чапай пытаемся хотя бы проползти вперед. Ни в какую. И, знаешь, такая злость берет… Давай покурим.
Чекист относится к тому типу людей, что не могут курить на ходу. Мы присаживаемся прямо на рельсы, закуриваем. Я поглядываю в сторону болот, Чекист контролирует лес. Курим, молчим.
– А чего Паутиныч-то? – напоминаю.
– Паутиныч, – кивает напарник. – Мы там до вечера пролежали. Ты карту видел, нет? Пруд – он такой большой овал, параллельно забору Станции тянется. Слева дорога идет прямо к воротам. И вот лежим мы, значит, корячимся по очереди. Вдруг из ворот выходит человек. Я в прицел глянул – наш Паутиныч. Вышел и двинул себе в сторону Градирни.
– Может, галлюцинация?
– Может быть, – соглашается Чекист. – Но тогда у обоих. Чапай его тоже видел.
– А почему вы решили, что он связан со Стражами? Мне кажется, они такой же миф, как и Исполнитель.
– Миф не миф, а кому-то рукой он на прощанье помахал.
Весь оставшийся путь двигаемся молча. И только возле самых ворот базы Чекист ловит меня за плечо.
– В общем, поосторожнее с ним, Глок, – говорит он.
И, махнув ребятам на вышке, идет ко входу в гараж. Я остаюсь. Скидываю рюкзак у навеса, плюхаюсь на лавку, закуриваю. Благодаря Чекисту обернулись практически до обеда. Сейчас начало третьего. Можно сказать, целый день в моем полном распоряжении.
Солнце шпарит вовсю. Над серым бортом БМП струится разогретый воздух. Широкий бетонный въезд в подземелье манит прохладой тени. Натруженные ноги приятно гудят, хочется снять берцы и пройтись босиком по сухой пыльной траве вдоль забора. Прокручиваю в голове рассказ Чекиста… надо будет проанализировать. Но потом.
Территория базы весьма невелика: квадрат пятьдесят на пятьдесят метров. Смотровая вышка у ворот, здание АХЧ (на втором этаже наша столовая), полукруглый металлический ангар с проломленной крышей. И все. Прямо напротив ворот – широкий, похожий на воронку спуск в подземный гараж. Собственно, сама база как раз под землей и находится: на трех этажах расположились и военные, и хозяйственные, и жилые помещения. Странная какая-то была воинская часть, что-то среднее между бункером ПВО и секретной лабораторией. Но для наших целей – лучше не придумаешь, особенно радуют мощные гермоворота на входе в подземный комплекс.
Единственная проблема: очень тоскливо под землей. Сухо, чисто, прекрасная вентиляция – с этим проблем нет. Но без дневного света, без открытого пространства… Поэтому решаю еще посидеть на солнышке, покурить. Подождет Хирург, от него не убудет. А мне на него смотреть – никакого желания, лучше тут погреться.
Сам Хирург никогда без необходимости не выходит на улицу. Безвылазно сидит в своей лаборатории. Человек он очень неприятный, но все недостатки компенсируются профессиональными качествами. Хирург действительно хирург, специалист высочайшего уровня. Наши ребята имели возможность не раз в этом убедиться. Он прибился к нам после Взрыва – и это стало для всей группировки большой удачей. Странно, конечно, что до Катастрофы в Зоне о нем ничего не было слышно. Но Хирург – он местный, это факт: Зону знает получше иных ветеранов…
Сигарета дотлевает почти до самого фильтра. С сожалением бросаю окурок – уходить с улицы не хочется… Возникает идея: взять из заначки бутылку вискаря, позвать Чекиста с Чапаем, посидеть вон там, за ангаром, выпить-поговорить. Тем более что муторно как-то на душе. Не пойму только, с чего…
Я спускаюсь по наклонному въезду. Здесь, в полумраке между колоннами, расставлен наш автопарк. В основном джипы, но есть и пара «КамАЗов» с КУНГами. Одно время ребята отовсюду собирали, даже из города несколько машин пригнали. Исключительно дизели, по понятным причинам.
Массивная створка ворот приоткрыта, из щели пробивается луч света. С чем в Зоне нет и, видимо, никогда не будет проблем – это с электричеством. Одного артефакта с незамысловатым названием «аккумулятор» хватает, чтобы снабжать энергией все наше подземелье в течение месяца. А потом закинул в аномалию, забрал через день – и еще месяц.
Спускаюсь по гулкой металлической лестнице на минус третий. Широкий бетонный коридор, крашенный в синий цвет. По стене, у самого потолка, тянется вереница тусклых лампочек. В глубоких нишах – выпуклые щиты металлических дверей с кодовыми замками. Насколько я знаю, некоторые все еще не взломаны. Но это скорее от ненадобности – за вскрытыми дверями оказались однотипные комнаты-лаборатории с непонятными приборами или склады медикаментов. Медикаментов у нас достаточно, а химические опыты проводить желающих нет.
Хирург квартирует в самом конце коридора, рядом с операционной. Подхожу к двери, стучу по металлу прикладом. Эхо подхватывает звон, уносит в глубину полутемного коридора. Лязгают замки, дверь приоткрывается – из щели выглядывает узкое, покрытое щетиной лицо Хирурга.
– Принес? – В голосе его звучит привычная брезгливость.
– Принес.
– Давай.
– Полай.
Какое-то время Хирург разглядывает меня. Глаза у него запрятаны глубоко, и сейчас, когда он стоит против света, я вижу только темные провалы под выпуклыми надбровьями. Но взгляд его ощущаю почти физически – тяжелый, злобный. Хирург явно хочет сказать что-то грубое. Но прекрасно понимает: существует опасность, что я его просто пошлю и не отдам то, что принес.
– Заходи, – решает наконец он.
Так бы сразу. Перешагиваю через высокий порог, щурюсь от яркого света – по потолку идут два ряда люминесцентных ламп. Это одна из стандартных лабораторий минус третьего этажа. Небольшая комнатка с выложенными белым кафелем стенами. Здесь пахнет больницей и какой-то подгоревшей пищей. Слева во всю стену узкая стойка с приборами, двумя раковинами и вытяжками, посередине длинный высокий стол, на нем среди колб и этажерок с пробирками раскиданы консервы и грязные тарелки. Справа «жилая зона»: армейская кровать, тумбочка, стул, полускрытый под ворохом одежды, и белый лабораторный шкаф, выполняющий, видимо, роль гардероба.
Хирург наклоняется куда-то под стол: я вижу, что там у него сейф. Поворачивает вертушку замка, достает большой контейнер, с грохотом водружает на стол. Внутри – разделенные перегородками ячейки. В ячейках артефакты. Достает две «бусины», пускает по столу в мою сторону. Ловлю, прячу в карман.
– Давай, – брезгливо говорит Хирург.
Паутиныч передал ему небольшой плоский ящик. Металлический. Как он открывается и открывается ли вообще – я так и не понял. По виду просто брусок алюминия, формой и размерами напоминающий небольшую коробку из-под обуви. Ни щелей, ни ручек. Но внутри что-то елозит. Кладу ящик на стол и толкаю в сторону Хирурга. Все это напоминает сцену из какого-то американского фильма.
– Свободен, – бросает Хирург, взвесив коробку на ладони.
Знал бы ты, Хирург, как хочется съездить по твоей недовольной харе. Но приходится сдерживаться. Homo Sapiens non urinat in ventum[2].
– Еще к Паутинычу надо будет?
– А тебе-то что?
– Я готов сходить.
– Понадобишься, позову.
Хирург встает, двигается на меня, недвусмысленно оттесняя к двери. Подхватываю рюкзак, начинаю отступать. Но все-таки решаюсь спросить:
– Скажи, Хирург, а шатуны – они совсем безнадежны? Или чисто теоретически есть шанс, что сознание к ним вернется?
– А, вот оно что! – Сухой рот растягивает едкая улыбка.
Он понял. Во всяком случае, решил, что понял. И взгляд стал такой мерзостный, под стать улыбочке.
– Она – живой человек. Это я тебе как врач заявляю. Все системы функционируют. В том числе и репродуктивная. Можешь попробовать, Паутиныч частенько отлучается. С точки зрения науки это будет весьма интересный эксперимент. И очень смелый…
Я вначале не врубаюсь, потом мгновенно доходит, о чем это он. Хирург что-то еще говорит, но я его уже не слышу. И даже не вижу. Я вижу пустые, будто нарисованные глаза на ее лице, цветастый сарафан, безымянный палец с оторванной фалангой… И неожиданно для себя бью Хирурга по лицу.
Он перекатывается через стол, увлекая за собой и тарелки, и колбы, и даже металлический ящик Паутиныча. Грохот и звон заполняют комнату. Я смотрю на происходящее как бы со стороны, и – как постороннему – мне интересно, что будет, когда Хирург поднимется. Злости на него нет, она исчезла сразу после удара. Есть легкое сожаление: больше не будет повода ходить к Паутинычу. Но я ведь могу и без повода. Поверхность стола теперь практически пуста, только на дальнем углу чудом удержался какой-то пузырек с длинной формулой на этикетке.
Хирург поднимается. Его свитер густо обсыпан блестками битого стекла. Из левой ноздри неспешно сочится кровь. Мельком взглянув на меня, он идет к тумбочке, достает бинт, с хрустом отрывает полосу, смачивает из какой-то пробирки и, запрокинув голову, прикладывает к носу.
– Спирт будешь? – спрашивает Хирург гнусаво.
Глава 9
11 октября 1943 года. Позиции 1078-го стрелкового полка
Высказав все, что у него накипело (а судя по выражениям, процесс кипения происходил долго и со свистом), полковник Мощин велел мне собираться и вышел из палатки. Я быстро покидал свои немногочисленные пожитки в мешок, еще раз на всякий случай проглядел тумбочку…
– Фуражка на стойке! – донеслось снаружи.
Точно! Чуть не забыл. Забрал фуражку и лихо выскочил на улицу. Слишком лихо, надо признать, – перед глазами поплыли белые пятна, земля чуть завалилась на сторону и нехотя выровнялась. Я отвернулся – вроде как прикуриваю, а сам незаметно стер выступивший на лбу пот. Поосторожнее надо.
– Пошли, контуженый, – буркнул шеф.
И, не дожидаясь, решительно двинулся в проход между палатками. Я огляделся – к сожалению, товарища военфельдшера, а попросту Леночки, нигде не было видно. Ладно, потом забегу – это знакомство я твердо решил развить. Сейчас надо нагонять грозное начальство. А оно взяло такой резвый темп, что нагнать получилось только на лесной тропинке.
Некоторое время шли молча. Я наслаждался погожим деньком: солнце било сквозь поредевшую листву березняка, вкрадчиво щебетали птицы, поскрипывали полковничьи сапоги…
И все-таки куда это он так навострился? Сутулая, наискось перечеркнутая ремнем портупеи спина казалась сейчас еще более сутулой и какой-то беззащитно-жалкой. Я поднажал, заглянул в лицо: красные от бессонницы глаза, папиросу сжевал почти до половины гильзы, идет, по сторонам не смотрит, спешит… Явно спешит. Что-то случилось.
– Случилось! – Федор Степаныч выплюнул окурок. – Но тебе, как я понимаю, и без нас есть чем заняться? Вчера на лодках катался, сегодня с медсестрами кокетничаешь…
– Какие медсестры, шеф? – фыркнул я.
– Какие? Фигуристые! С косой до пояса.
Сука Минаев! И надо было ему заявиться, когда она рядом была…
– Сан Саныч наябедничал? – поинтересовался я.
– Ябедничают в детском саду. А мне докладывают. И не только об этом. Сегодня ночью произошло очередное нападение. Да, именно очередное. Пока ты штурмовал позиции врага, эта тварь угробила еще одного советского человека. Понял?
– Тварь? Она была одна? Ее видели?
Я нагнал шефа, пошел рядом, цепляя боком кусты. Вроде бы и не за что, но стало стыдно. Можно подумать, что, если бы я не пошел за языком, смог бы предотвратить…
Тропинка вывела нас на штабную поляну, до краев заполненную солнцем. Здесь было тихо, в серой пыли безлюдного плаца рылись какие-то визгливые пернатые козявки, у противоположной опушки вокруг двух полуторок лениво копошились чумазые механики.
Но все это я углядел лишь мельком – шеф снова свернул в лес, и я понял, что мы, судя по всему, идем на позиции. Эта тропинка была пошире, тут даже явственно проступали колесные колеи. Я снова нагнал командира.
– Подробности будут?
– Может быть, тебе лучше в разведроте остаться? – с наигранной озабоченностью спросил Мощин. – Будете по ночам воровать у фюрера немцев. По одному. Или даже по два. На том берегу их человек шестьсот. Если каждую ночь плавать, меньше чем за год всех перетаскаете. А?
– Шеф, я же серьезно.
– И я серьезно! – сорвался на крик полковник. – Я очень серьезно!
Он внезапно остановился и полез за папиросами. Когда шеф влетел в госпитальную палатку и с порога принялся крыть меня матом, я понял, что он очень зол. Но сейчас, глядя, как он нервно ломает спички, пытаясь прикурить… Он испуган, понял я. Серьезно испуган. Пару лет назад к нам в Управление пришли с Лубянки. И Федор Степаныч, тогда еще никакой не шеф, а один из руководителей отделов, сидел у себя в кабинете и точно так же, ломая спички одну за одной, пытался прикурить. И точно так же, как тогда, я заботливо забрал у него коробок.
– Что случилось, батя? – спросил вполголоса, протягивая прикрытый ладонями огонь.
– Пошли, сам увидишь, – так же негромко ответил он, наклоняясь к спичке.
И мы опять зашагали по лесу. Перед самыми позициями, когда уже показался первый бревенчатый блиндаж, Мощин повернул на малохоженую тропку, игриво петляющую меж деревьев.
Тропинка спускалась к реке параллельно правому флангу. Здесь росли сосны, высокие и стройные, ветви начинались высоко над землей, мы двигались как сквозь колоннаду. Солнечные лучи, будто подчиняясь геометрии этого леса, ложились наискось меж стволов ровными желтыми полосами. Под ногами мягко пружинил ковер из многолетней слежавшейся хвои. Пахло смолой с легким привкусом дыма. Монотонно и размеренно куковала кукушка.
Лес закончился метрах в десяти от заросшего ивняком берега. Вид этих зарослей вызвал болезненные воспоминания о ночной авантюре, но особо мучиться раскаянием мне не дали – от ствола отделился приземистый солдат, в котором я с неудовольствием распознал сержанта Минаева.
– Здравия желаю, товарищ лейтенант, – поздоровался он.
Но хамский его тон прошел по краю сознания. Потому что метрах в пяти от опушки, на солнцепеке, я увидел тело. Оно лежало рядом с тропинкой, в густой траве, сама же тропинка целеустремленно ныряла в прибрежные кусты. И снова меня кольнула неприятная ассоциация: сюда явно ходят за водой.
Я замер на месте. Внимательно осмотрел тропинку. Их тут было даже две, по одной мы пришли, другая выныривала к опушке со стороны позиций, примерно возле мертвеца они соединялись в одну. Следов не было: земля твердая как камень.
Труп лежал на животе, головой по направлению к реке. Гимнастерка на спине разорвана почти на две части. Поза была не то чтобы неестественная, но какая-то странная – руки-ноги растопырены в разные стороны, будто он прыгнул в эту траву, как на мягкую перину.
Медленно, глядя под ноги, приблизился к трупу. И вначале даже не понял – показалось, что внутри одежды находится высушенная мумия: иссиня-белая кожа натянута так сильно, что отчетливо видны кости, переплетенные веревками сухожилий. Чрезвычайно тощая шея – по сути, один позвоночник. И дистрофичные пальцы с набухшими шарами суставов. Нет, кожа все-таки не натянута – видно, как она свисает по бокам складками, кое-где даже подперта снизу стеблями травы. Это больше похоже на скелет, накрытый мягкой материей.
И на спине, между лопаток, заметно смещенный вправо, какой-то странный узор из сероватых точек… точнее – мелких дырочек. Рисунок чем-то напоминает морскую звезду, только с четырьмя лучами: два щупальца идут вниз, параллельно изгибу ребер, а два наверх, с заходом на шею…
Трава возле тела примята только в одном месте – от тропинки тянется прямая линия к голове. Я обернулся на стоящих поодаль коллег.
– Это я подходил, осматривал, – правильно понял невысказанный вопрос шеф.
– И я тоже, – встрял Сан Саныч.
– Куда ж без тебя, – проворчал я под нос.
Подошел, склонился над трупом. Нигде ни капли крови, пятна на одежде тоже отсутствуют. И никаких запахов, не считая въевшейся в гимнастерку кислой костровой вони.
Лицо мертвеца было уткнуто в землю, я видел только заросший черным волосом затылок и острый край ушного хряща. Смотреть на лицо не хотелось – за пять лет работы в МУРе я, конечно, повидал трупов, но чутье подсказывало, что вид этой мумии мне запомнится надолго.
– Рядовой Кузьмин, – сказал мне в спину Мощин. – Примерно в половине пятого отправился за водой. Через десять минут хватились, пошли искать. Не нашли. Сам знаешь, ночь была темная. Как рассвело – обнаружили. Согласно инструкции, ничего не трогали.
Странно выглядел труп рядового Кузьмина. Странно и страшно. Создавалось полное ощущение, что из него выкачали всю жидкость. Преодолевая брезгливость, коснулся кожи на спине, провел пальцем: сухая, как нагретая на солнце тряпка, даже еле слышно шуршит. Человек на семьдесят процентов состоит из воды…
Я резко поднялся и чуть не упал – перед глазами опять все поплыло. Выдохнул, выровнялся. Неспешно вернулся на тропинку. Шеф с Сан Санычем подошли ближе.
– Знаешь, Леша, как делают оливковое масло? – спросил Мощин.
– Из оливок, – уверенно заявил Минаев.
– Из оливок, – согласился полковник. – Ягоды прокатывают по поверхности, утыканной шипами, и из них вытекает сок.
– Я думал, их выжимают, – сказал Минаев.
– Потом выжимают. Но это уже второй сорт. Лучшее масло вытекает само.
– Допустим, задеты яремная вена и сонная артерия, – сказал я. – Допустим, вытекла кровь. Но тут вытянута вся жидкость. Даже если катком по нему проехаться, так не выжмешь.
– Какой-то прибор подключили, – подал мысль Сан Саныч. – Вон как раз следы на спине от игл.
– Зачем? – Я свирепо посмотрел на него. – Кому придет в голову ночью пробраться с этим прибором на наши позиции и напасть на солдата?
– Откуда я знаю? – Сан Саныч пожал плечами и сместился за полковника.
– Саша, сходи-ка, посмотри, где там санитарная команда заблудилась, – попросил шеф.
И, дождавшись, когда фигура Минаева скрылась за деревьями, поманил меня пальцем, как ребенка, которому обещают показать что-то интересное. Вслед за полковником я спустился к реке, пригнувшись, пролез под навес из веток. Здесь знакомо воняло тиной и древесной гнилью. В переплетение подмытых рекой корней вдавался небольшой заливчик.
Мощин подошел к самой воде, шагнул в сторону и снова поманил пальцем. И когда я подошел, тем же пальцем ткнул вертикально вниз. На сырой земле среди отпечатков солдатских ботинок выделялся глубокий след босой ноги. Или, вернее сказать, лапы: огромный, сантиметров сорок, узкий, с длинными узловатыми пальцами, заканчивающимися толстыми когтями.
– Видел? – спросил шеф.
– Видел, – поколебавшись, ответил я.
– Молодец.
Полковник несколькими энергичными ударами втоптал страшный след в землю, потом заботливо забрал из моих рук коробок и помог прикурить.
Мы выбрались из зарослей на солнышко, но озноб, прихвативший у реки, все никак не отпускал – видимо, сказывались последствия контузии. А шеф негромко рассказывал, и от звуков его тихой речи меня вроде бы знобило еще сильнее.
– Заметил, как фрицы по ночам осветительные ракеты пускают, нет? Я давно обратил внимание. Они их вешают не над рекой, а четко над своими позициями, чтобы себя освещать. По сведениям аэросъемки, у них там круговая оборона. Ну это и разведчики неоднократно докладывали. Я твоего «языка» сегодня поспрашивал. Сволочь вы, конечно, отпетую приволокли… юлит, егозит, а у самого шеврон «старого бойца» на рукаве. Говорит, что прикрывают тут брод. А оборона по кругу, чтобы от партизан защищаться. Нет тут никаких партизан. Воткнул ему шило в мягкое место… да. Пришлось. Пошел чесать что-то о демонах, что возле позиций бродят. И о поселке Чернобыль, он там рядом, в паре километров левее. Вот там у фрицев что-то происходит. Там работают какие-то «инженеры» из самого Берлина. Что делают, он, понятное дело, не знает. Но ночевать эта компания, человек десять, возвращается к ним в полк. Хотя в Чернобыле много домов, в том числе и каменных – поселок довольно крупный. Но совершенно пустой. Ни людей, ни зверей. И никому не велено туда соваться. Понял?
– А где этот язык? Забрали?
– Забрали. Но с возвратом. Можешь, когда они закончат, сам с ним поработать.
Пока мы стояли возле тела, ожидая санитаров, я все думал о том, что же тут произошло. Точнее, не думал, просто прокручивал в голове увиденное – думать мешал когтистый след, отпечатавшийся на илистом берегу. Мистификация? На кой черт и кому она нужна? Может ли это быть правдой? А если может, то что это, черт возьми, за правда? Ее только не хватало на мою бедную контуженую голову. Понятно, почему Мощин так нервничает. Ничего, пусть понервничает. У меня, видите ли, когда труп в морге шевелится – гипноз, а у него, когда какой-то вурдалак на солдат нападает – это необъяснимый, но факт. Впрочем, злорадство быстро улеглось, осталось только искреннее сочувствие к шефу, которому предстоит как-то оформлять все в рапорт.
Пришедшие бойцы медслужбы были проинструктированы в том плане, что об увиденном никому ни слова: полковник и корочкой помахал, и трибуналом постращал… Не знаю, может, и сработает. Все равно слухи поползут, не эти, так те, кто нашел, растреплют, если уже не растрепали. Солдаты подняли тело, чтобы положить на носилки, и я увидел, как длинно провисла снизу кожа, будто киль у лодки. Когда стали переворачивать труп, я отвернулся – интуиция по-прежнему подсказывала, что лица мне видеть не нужно. И я перевел взгляд на сержанта Минаева, у которого интуиции, судя по всему, не было, поэтому он вдруг шумно икнул, постоял в коротком раздумье, и побежал к ближайшей сосне опорожнять желудок. Так тебе и надо, канцелярская крыса.
– В Ельск, в морг, – приказал Мощин. – Главврача предупредить о полнейшей секретности.
Санитары резво бросились вверх по тропинке, мы неспешно тронулись следом. Минаев принялся строить теории, объясняющие состояние обнаруженного тела с научной точки зрения, но я не слушал. Я вспоминал свой «доклад» лейтенанту Андрееву об убийствах на станции «Янов» и его вопрос «Высосанных досуха не было?». Я тогда не понял, принял за какую-то изощренную шутку, армейский фольклор. Эх, Андреев, Андреев, как бы я хотел еще раз с тобой поговорить, только теперь уж без этой стекляшки в моем кармане…
– Так тебе твой «язык» нужен? – спросил шеф, когда мы вышли к расположению.
– Да, есть к нему пара вопросов.
– Саша, приведи, – попросил Федор Степаныч.
Минаев убежал, а мы пошли в землянку попить кофе. Сема встретил меня, как будто год не виделись, даже приподнял, обнимая. А я смутно чувствовал, что и довоенные убийства на Янове, и труп фельдфебеля, и сегодняшний «обезвоженный» солдат – связаны между собой. Прежде всего, конечно, местом действия. И странностями повреждений на телах. Но не только этим. Это – на поверхности. А было тут еще что-то в глубине, что-то такое, чего нащупать пока не получалось.
На Янове рабочие были растерзаны будто бы дикими зверями, но при этом челюсти у зверей были человечьи. Сила только была нечеловеческая: вагон-теплушка, где жила бригада, буквально разнесли на щепки, и конечности у жертв вырвали, что называется, с мясом.
Глок был убит из неизвестного оружия, оставляющего в теле идеально ровные отверстия диаметром пять сантиметров.
И этот наш сегодняшний солдат. Действительно, по меткому выражению Андреева, высосан досуха. Еще след этот когтистый. Я уверен, что Мощин снял с него слепок. И слепок этот подошьет к рапорту. Пусть в Москве разбираются, что за зверь. Да и вообще…
В землянку с шумом ворвался высокий худой фашист и встал посреди помещения с надменно заложенными за спину руками. Был он немолод, плешив, с густыми рыжими бакенбардами и крючковатым носом, серая полевая форма СС порядком потрепана и местами даже порвана, сбоку на ляжке темнело пятно, в котором я распознал засохшую кровь.
Вслед за фрицем зашел Сан Саныч, демонстративно протирая руки.
– Прошу любить и жаловать, – сказал он. – Карл Нойман, унтершарфюрер СС.
Услышав свое звание, Нойман вытянулся и сделал попытку щелкнуть каблуками. Нижняя часть лица его была покрыта, как налетом, рыжей щетиной, в глубоких складках по бокам носа виднелась грязь, а в светлых до белизны глазах застыло знакомое выражение пойманного с поличным вора.
Я отставил кофе, к которому даже не притронулся, и поднялся навстречу немцу.
– Товарищ лейтенант, если вам нужен переводчик, то я готов помочь, – сказал Сан Саныч.
– Товарищ сержант, – ответил я в тон. – Я не нуждаюсь в ваших услугах, потому что владею немецким в совершенстве.
Соврал, конечно, но моих знаний немецкого вполне хватит, чтобы расспросить фашиста об интересующих вещах.
– Пошли! Комм, комм! – Я развернул немца к двери и толкнул в спину.
– Возьмите, пожалуйста.
Минаев протянул мне ключи от наручников. Наручники скорее всего были его – кому из нас пришло бы в голову тащить что-то подобное на войну? Надо будет эти кандалы ненароком потерять. Пусть не выделяется из коллектива, пользуется веревкой.
Немец, поднявшись из землянки, хмуро поинтересовался, куда его ведут. Я указал направление и толкнул фашиста. Он удрученно двинулся вперед, и я машинально отметил схожесть его фигуры с фигурой шефа.
А ведь не могли окопные фрицы не интересоваться, что там происходит в Чернобыле. Сидят на позициях, со скуки маются. Обстрелы по расписанию вряд ли можно назвать войной. Наверняка какие-то догадки есть. А может быть, нашелся кто-то, кто не смог пересилить любопытства и сбегал посмотреть… Лучше всего захватить кого-нибудь из тех чернобыльских «инженеров», но эта задача вряд ли выполнима.
– Здравия желаю, командир! Молодец, что целый!
Сержант Коваль сидел перед входом в блиндаж на бревнышке и точил нож. Лезвие было необычной, очень хищной формы и даже с мелкой пилкой на обухе – ни разу не видел такого, хотя за время работы в МУРе собрал целую коллекцию.
– Никак нашего фрица привел?
Коваль поднялся навстречу, пожал мне руку.
– Ну да, весь день просился к нам. Говорит, хочу к тем милым людям, что ночью катали на лодке и дали пострелять из настоящего автомата.
– Вот! – поднял палец Коваль. – Зверь, он тоже доброту чувствует.
На звук голосов из блиндажа вылез еще один герой победоносного рейда, Мамажан Нурбаев, и тоже с ножом в руке. У него нож был обычный – среднестатистическая финка. Судя по всему, солдат только что проснулся: вся его щуплая фигурка была как-то скособочена, гимнастерка расстегнута, а черные короткие волосы торчали в разные стороны.
– Шешен амы! – Узкие глазки Нурбаева удивленно распахнулись. – Собак фашистский! Зачем живой, а?
– Мамай, ты иди, ладно? – поморщившись, попросил Коваль.
Нурбаев обиженно насупился и скрылся в блиндаже.
– А действительно, зачем ты его привел?
– Надо кое-какие сведения узнать. Думаю, от них будет зависеть наше следующее задание.
Я угостил сержанта папиросой и уселся на бревнышко, жестом пригласив его сесть рядом. Карл Нойман стоял напротив нас, как двоечник перед строгими учителями.
– Спасибо тебе, кстати, что из речки вытащил, – сказал немного смущенно.
– Спасибо не булькает, – отмахнулся Коваль. – Так что ты от фрица-то хотел? Думаешь, он знает что-то такое, что мои бойцы еще не разведали?
Говорил сержант вроде бы шутливо, но я почувствовал в его словах нечто наподобие ревности. И решил на этом сыграть:
– А ты знаешь о Чернобыле?
– Чего? – вытаращился на меня Коваль.
– Чернобыль. Поселок. На той стороне реки.
– Ничего там нету! – уверенно заявил Коваль. – Пустой он.
– А вот и есть! – заявил я. – Там работают какие-то берлинские немцы непонятной принадлежности. Что-то то ли роют, то ли строят. И нам нужно узнать, кто они и что делают.
– А откуда такие сведения? – Сержант озабоченно почесал массивный подбородок.
– Да вот он и рассказал. – Я кивнул на немца. – Говорит, лазают там какие-то, а что за люди и зачем – он вроде как представления не имеет. Начальство считает, что наш фашист скромничает. Посему имею приказ разговорить и, если понадобится, через членовредительство.
Немец уныло рассматривал окрестности, но я видел, что он внимательно прислушивается к нашему разговору, хотя по-русски наверняка не понимает.
– Слушай, давай-ка небольшой спектакль разыграем, – понизил голос Коваль. – Ты же ему не сказал, зачем сюда повел? Ну вот. Сделаем вид, будто нам приказали его повесить. Сейчас Мамая позову, он веревку возьмет, и вы его вон к тому дубу отведете… Пока Мамай петельку прилаживает, ты ему расскажи, что за отказ сотрудничать приказано его в расход. Думаю, сразу придете к взаимопониманию.
Мне, признаться, идея сержанта очень понравилась. Я уж переживать начал, что придется применять к пленному «меры физического воздействия». Хоть и фашист он, и сволочь, и вон на рукаве нашивка «старого бойца», но все-таки… Пристрелить – это пожалуйста, а пытать – мы же не они, чтобы таким паскудством заниматься.
– Зови Мамая, – велел я и, поднявшись, заявил немцу официальным немецким языком: – Карл Нойман! Ваша вина не требует доказательств, ваши сведения ничтожны, я имею приказание вас повесить за шею за ненадобностью.
Ну, может быть, не так стройно изложил, может быть, даже с падежами там не очень сошлось… Но главное – смысл он понял. Побледнел, отчего контрастно выступила щетина, залопотал что-то про конвенцию о военнопленных.
– Как?
Я подскочил к немцу и оперся о него, потому что снова накатил приступ головокружения. Фриц испуганно сжался.
– Чего ты сказал? Военнопленный? – прокричал я ему в лицо. – А как вы с нашими поступаете, а? Вы, дерьмо, пришли на чужую землю. Грабить и убивать. Вас каждый советский человек имеет право расстреливать, как собак. – Я схватил его за грудки и притянул к себе. – Как собак, Карл!
– Э, командира, зачем кричишь-объясняшь. Пошли фашист вешат.
Нурбаев стоял уже собранный: на шее у него висел моток веревки, в одной руке хлипкий дощатый ящик, в другой – финка. Косоглазая рожа лучилась от предвкушения удовольствия.
– А ящик зачем?
– Как зачем, э? Без ящик тольк дурак вешает!
Я не нашелся, что на это ответить, поэтому схватил фрица за локоть и толкнул к рощице. Он поначалу упирался, продолжая что-то лепетать про конвенцию, но потом зашагал резвее, даже будто бы заторопился, повизгивая от нетерпения. Случайно обернувшись, я понял, в чем дело: Нурбаев сноровисто покалывал немца ножом пониже спины.
Мы поднялись на холм, остановились у молодого, но уже кряжистого дуба. Фашист запричитал и плюхнулся на землю, Нурбаев стал готовить виселицу, а я подошел к краю холма.
Солнце клонилось к горизонту, окрашивая все вокруг в золотистые тона. Холм волнами спускался к реке, горел осенним разноцветьем перелесок над нашими позициями, река, своим изгибом напоминающая казацкую шашку, дремала в кружевных ножнах кустистых берегов…
– Твар фашист, пашли на веревк висеть, – нарушил гармонию голос Нурбаева.
Я печально вздохнул и вернулся к трудовым будням. Мамай, угрожая финкой, тащил немца к месту казни. Петля уже свешивалась с ветки, под ней стоял ящик, другой конец веревки был привязан к стволу.
– Вспоминайте, Нойман, что вам известно про группу, работающую в поселке Чернобыль.
– Я не знаю… я только… – Немец тянулся ко мне, перегибаясь через низкорослого киргиза.
Я только сейчас заметил, что у Нурбаева сзади за ремень заткнут холщовый мешок. Действительно, хорошо подготовился – чувствовался опыт.
– Я вам не верю, – холодно сообщил я немцу.
И, усевшись на землю, равнодушно достал папиросу, прикурил. Нурбаев энергичными пинками загнал фашиста на ящик, нацепил ему на голову мешок и накинул петлю.
– Хорошо, я скажу! – закричал немец приглушенно.
– Ну вот, уже лучше, – равнодушно похвалил я. – Слушаю вас.
Нурбаев лихо выбил ящик из-под фашиста. Веревка спружинила, шея громко хрустнула. Я подавился дымом.
– Ты чего?! – Горло перехватило, слова еле проталкивались. – А поговорить?
– Чего фашистск морд сказат может, э? Пуст висит, так хот на человек похож!
Немец перестал дергать ногой и теперь тихо качался, чуть поскрипывая веревкой.
Глава 10
30 сентября 2016 года. Чернобыль
Дрова уютно постреливают, отсветы бегают по ржавым гофрированным листам. Мы сидим на бревнах, выложенных квадратом вокруг огня, дым, плавно загибаясь, уносится в рваную дыру, идущую вдоль клепаного шва потолка. Это место называется «Ресторан». С тех пор как вся выжившая сталкерская братия собралась на брошенной военной базе, ночевки у костра ушли в прошлое. Но привычка никуда не делась. В ностальгических целях, а также чтобы расслабиться и полечить нервы, внутри разрушенного ангара было устроено это «место для пикника». С молчаливого согласия руководства, которое, откровенно говоря, и само сиживало здесь. Бабай, бывало…
Но на мысли о Бабае мне становится очень-очень грустно, я закуриваю и пытаюсь сосредоточиться на беседе. Начало я пропустил, поэтому не сразу улавливаю смысл.
– …во всяком случае, для этого было достаточно времени, – внушает Чапай Чекисту. – Год… Даже больше уже! И ни одного самолета. Керосин давно выдохся. Так что не надейся.
Чапай сидит на бревне напротив меня, его фигура немного «плавает» в волнах горячего воздуха. Чекист расположился справа, лицо краснее помидора, лоб блестит от пота. Между ними на земле тумбочка, на тумбочке узкая бутылка грузинского коньяка, несколько банок консервов. Коньяк принес Чекист, после того как закончились мой виски и чапаевский ром.
– А чего ты взял, что они должны летать над нашей Зоной? – возбужденно возражает Чекист. – Тут до Взрыва много летали? Над Зоной вообще летать нельзя, понял?
– Послушай. – Чапай устало вздыхает, разглаживает усы. – Вот если бы ты был пилотом. И, допустим, имел бы в распоряжении самолет. Ну, хрен с ним, давай еще допустим, что вместе с тобой выжил и техперсонал аэродрома. Ты бы, я думаю, первым делом принялся искать выживших. Мониторил бы все частоты, совершал рейды по окрестностям. Искал, короче. А у нас в круглосуточном режиме передатчик включен. И прожектор вон, видишь?
Чапай указал на прореху в крыше, и мы с Чекистом машинально посмотрели туда, где с крыши столовой в черноту неба бил мощный столб света.
– Нас сложно не найти, – уверенно заявил Чапай.
– У нас тут даже и приземлиться негде, – привел аргумент Чекист.
– Ты, главное, наливать не забывай. А приземляться не надо. Достаточно обнаружить и дать о себе знать. Но даже если так: в Минске есть где сесть? Есть! Что-то белорусы ни о каких гостях не сообщали.
– Н-да…
Чекист хмурит лицо и раздает нам наполненные стаканы. Чокаемся, выпиваем. Вытаскиваю из банки пару маслин, жую, потом снова закуриваю. Вкусно. Чапай ворошит дрова, вверх поднимается стайка суетливых искр. В голове мягко шумит, сознание будто плывет по волнам. Я чувствую, что уже основательно пьян – но это даже хорошо. И вообще хорошо: вот так сидеть возле костра с друзьями, употреблять коньяк и ни чем не думать. Только что-то беспокоит. Я роюсь в памяти… Вот оно: разговор с Хирургом.
Да, когда пили спирт. Нормально, кстати, выпили. Хирург заметно «поплыл». С непривычки, видимо. И вроде бы все ровно, говорили о том о сем, а он возьми да и заяви: Катастрофа, говорит, закономерный финал развития человечества. Мне, говорит, больше нет до вас дела. Вы получили именно то, чего добивались на протяжении всей своей истории. Главное, это – «вы». А вы? Вы не «человечество»? И что значит – ему нет дела? А кому ты нужен-то еще, кроме нас? Не знаю, ответил я ему, чего там добивалось человечество, а я лично сейчас готов все отдать, даже свою жизнь, чтобы предотвратить Катастрофу. Немного высокопарно получилось, пафосно, но я в тот момент видел перед собой не Хирурга, а ее, как сидит она, уставившись в стену, а по лицу бегает солнечный зайчик, но она даже не жмурится, потому что ей все равно. Хирург обидно засмеялся, и тогда я торжественно поклялся ему, что найду способ вернуть все назад.
Опрометчивая, конечно, клятва. И, наверное, невыполнимая. Но Хирург смеяться перестал – и то ладно. Странный он все-таки человек, мутный. Куда как проще вон с ребятами. И безопаснее, если уж на то пошло. Во всяком случае, скальпелем от тоски не полоснут.
– Скажи, Чапай, – невпопад встреваю я в беседу друзей. – А как ты угадал, что в Минске будут выжившие?
– С чего ты взял, что это я угадал? – хитро щурится сталкер.
Есть у него такая привычка: глядеть на собеседника, многозначительно прищурившись. И так смотрит, будто что-то про тебя знает, или весело ему наблюдать за твоими потугами выглядеть умным.
– Бабай… доброй дороги ему… сказал, что это ты велел ловить минские частоты.
– Давай помянем, – предлагает Чапай.
Чекист уже протягивает готовые стаканы. Пьем не чокаясь. Молчим. Но меня с мысли не собьешь, я хоть и пьяный, но тему держу уверенно. Так что придется Чапаю, как бы он там ни щурился, колоться.
– Ну так что про Минск? – напоминаю я.
– Это долгая история, – говорит он.
– Я не спешу.
– Ну хорошо… Легенду про Армаду знаешь?
– Про кристалл, стоящий на Станции, который желания исполняет?
Чекист фыркает, но я на него внимания не обращаю. Я вообще понял, что у этой неразлучной парочки Чекист отвечает за силовое воздействие. Все, что касается умственной работы, – это к Чапаю. Так что пусть фыркает, я даже не обижаюсь.
– Это детский вариант легенды, – усмехается в усы Чапай. – А есть еще взрослая. Согласно ей, именно в Зоне находится некий информационно-энергетический центр Земли. Точнее, Зона образовалась на месте этого центра. Зона – это то ли защитная реакция, то ли результат сбоя в программе, ошибка, возникшая из-за неумелой попытки воздействовать на этот центр.
С этой теорией я тоже знаком. Непонятно, правда, при чем тут Минск… Чекист с кряхтением встает, уходит за пределы светового круга, возвращается с охапкой хвороста, подбрасывает в огонь. Пламя набрасывается на свежую пищу, поднимается вверх: из темноты ангара проступает пучеглазая, покрытая коростой облупившейся краски кабина вертолета. Становится жарко, я пробую отодвинуться подальше, но чуть не падаю – с координацией движения определенные нелады.
– Какой-то мрази очень хотелось добраться до этого центра, – говорит Чапай. – В первый раз рвануло «предупредительным». И образовалась Зона. Но мразь не успокоилась. Мразь – она всегда считает себя умнее всех. И тогда рвануло по-серьезному. В результате мы имеем то, что имеем.
– Сталкеры тоже пытались добраться до твоей Армады, – напоминаю я.
– А, фигня все это! – отмахивается Чапай. – Даже если бы добрались. Мы Армаде так же опасны, как комар танку. Ты, кстати, верил в Исполнитель желаний?
– Не то чтобы прям уж в Исполнитель…
– Ну вот. Мы с Чекистом тоже. Больше из любопытства лезли. Но тем не менее в этой легенде есть логика. Если предположить, что Армада – некий пульт управления информационным полем Земли, то она в определенном смысле действительно может исполнять желания. Во всяком случае, те, кто устроил тут Зону, тоже предполагали нечто подобное, но подход у них был очень серьезный.
– Про подземные лаборатории слыхал? – спрашивает Чекист.
– Приходилось.
– А вот мы там были.
– И чего там?
Я смотрю на Чекиста и вижу, что он тоже начинает колыхаться в потоках горячего воздуха. Если учесть, что смотрю я на него не через костер, то на жар пламени эффект списать не получится, все дело в парах алкоголя. Ну и пусть, зато хорошо сидим. И беседа интересная. Под такую беседу можно еще пару банок уговорить. С пьяной щедростью решаю угостить ребят односолодовым, двадцатилетним. Но пусть сначала кончится коньяк, чего раньше времени бегать.
– Ничего толкового в лабораториях нету, – морщится Чапай. – Не дураки они. Что смогли, вывезли. А что не смогли… до того и сталкерам не дотянуться. Но дело не в этом. Как фольклор представляет Армаду?
– Ну, это…
Вопрос застает врасплох. Я как раз вспомнил свою ходку с покойным Буром в одну из таких подземных лабораторий. Еле ноги унесли, до того жуткое место. А вот Чекист с Чапаем, вишь ты, не в одну такую лазили. Упертые товарищи.
– Поплыл парень, – радостно заявляет Чекист.
– Не-не, нормально все!
Машу рукой, при этом понимаю, что сейчас выгляжу еще пьянее, чем есть. А так всегда: как только тебя назначают пьяным, все, что ни сделаешь, работает в пользу этой версии.
– Просто вспомнил тут… про лабораторию одну, – поясняю я. – А Армада – это такой кристалл, в форме двойной пирамиды, он под Станцией находится, в подвале.
– Во-от! – Чапай тычет в меня пальцем сквозь костер. – Пирамида. У меня сейчас карты с собой нет… Короче говоря, в Зоне было много лабораторий. Но существовало четыре основных. Если посмотреть на карту, расположены они ровно по сторонам квадрата с центром на Станции. Понимаешь?
– Чего понимаешь? – не понимаю я.
– Пирамида, она тоже квадратная, – веско вставляет Чекист.
– И квадрат квадратный, – возражаю я. – А треугольник треугольный. А круг…
– Знаешь, как я угадал, что в Минске будут выжившие? – перебивает Чапай.
Я сразу затыкаюсь, и он, удовлетворенно кивнув, продолжает:
– Лаборатории стоят симметрично. По граням пирамиды. Эпицентр Взрыва располагался на месте Станции, где теперь озеро. Так?
– Так.
– А ты знаешь, что последствия Взрыва разные в зависимости от направления? Если смотреть в сторону Киева, то там никаких разрушений, дома стоят практически не поврежденные, но все живое исчезло, превратилось в пепел. В сторону Москвы – наоборот: максимальные разрушения, но и тела никуда не делись – горы трупов, как после атомного взрыва. Если возьмем направление на Воронеж…
– Давай не будем про ту сторону ночью, – прошу я.
– Пожалуй, – соглашается Чапай. – Но мысль уловил, да? Есть четыре направления с разными видами последствий. Они четко соответствуют граням пирамиды, если сориентировать ее по лабораториям. Выходит, что пирамида чуть смещена относительно сторон света… Но это сейчас к делу не относится. Есть еще одна закономерность. Я специально выяснял у всех, кто прибился к нам с Большой земли, где их застал Взрыв… Короче говоря. Если разместить нашу предполагаемую пирамиду на карте и провести от ее ребер линии – мы увидим, что все наши приблудные в момент Катастрофы находились ровно по этим линиям. То есть они выжили, потому что попали на стык граней – в «мертвую зону», где не было излучения Взрыва. На местности это получаются полосы шириной не больше километра. Понял? И одна такая полоса пересекает пригород Минска. Так что, друг мой, я не угадывал, что белорусы выйдут на связь. Я знал это.
– Голова! – определяет Чекист и снова разливает по стаканам.
А я, что называется, «зависаю». Информации много. И она настолько глобальная, что без подготовки, да еще и на пьяную голову, обработать ее не представляется возможным. Я машинально беру протянутый мне стакан, так же машинально выпиваю и, по-моему, забываю закусить. Я буквально слышу скрип извилин в голове. И, главное, ведь действительно все сходится: и пепел в совершенно целом Киеве, и тот ужас, что носится на восточной стороне Днепра… И теперь понятно, почему некоторые уцелели.
– Погодите, погодите, – бормочу жалобно. – Что значит уцелели? А одержимые?
– Одержимые все с северо-восточного луча, – заявляет Чапай.
– И что, мы зря всех приблудных выгнали?
– Почему зря? – Чекист не согласен, он возмущенно фыркает. – Между прочим, неизвестно еще, что будет с другими, как они себя проявят. И мы их не выгнали. Они все тут рядом, в километре. Если надо, всегда поможем. Пусть пока в карантине посидят, а там поглядим…
Я смотрю на Чапая: он, развалившись на бревне, курит. И вовсе не весело ему – даже намека на смех нету в прищуренных на меня глазах.
– Значит, Армада действительно существует?
– Во всяком случае, существовала, – отвечает Чапай. – Но у меня есть очень серьезные подозрения, что именно она и рванула. Это я про Взрыв.
– Не, – мотает головой Чекист.
– Чего «не»?
– Если бы она взорвалась, Зона бы исчезла.
Логично. Я жду, что ответит Чапай. Но Чапай молчит. Чекист тоже ждет, потом разливает по стаканам остатки коньяка. Почему-то снова пьем, не чокаясь.
– Ну чего, расходимся? – Чапай оглядывает компанию.
Чекист пожимает плечами, я молчу. Желание продолжать пьянку куда-то испарилось. Есть о чем подумать. Пытаюсь увязать воедино все, что услышал от друзей. Краем сознания фиксирую, что ребята собираются, сгребают со стола посуду, мусор…
– Ты идешь, Глок?
– Посижу еще.
– Ну бывай.
Легенда про Армаду – Кристалл, исполняющий желания, – возникла, наверное, вместе с Зоной. Во всяком случае, когда я сюда пришел собирать материал для серии статей, уже сложился целый пласт фольклора об Исполнителе желаний и сталкерах, которым посчастливилось до него добраться. Но прав Чапай – неспроста тут куда ни плюнь секретные лаборатории. Дыма без огня не бывает.
– Эй, ты кто?
Я, оказывается, как-то незаметно для себя добрался до ворот. Окликнули со смотровой вышки. Успокоительно машу рукой.
Пост на вышке круглосуточный. Скорее дань традиции, чем необходимость: база была неплохо оборудована защитой еще при прошлых хозяевах, вояках, а потом мы довели это дело до ума. Датчики-детекторы, минные поля, турели – к нам просто так не подступишься. Автоматика покрошит в капусту любого супостата. Но с живыми наблюдателями оно как-то надежнее.
– Это ты, Кочан? – кричу, всматриваясь в темный грибок вышки.
– Глок? Чего ты там шляешься?
– Воздухом дышу.
Небо чистое, но звезды еле видны – всю красоту засвечивает мощный прожектор, бьющий в зенит с крыши. Чтобы нормально полюбоваться звездными россыпями, нужно отойти подальше.
– Кочан, друг, открой ворота. Хочу прогуляться.
Шея затекает, я опускаю голову. Кочан – хороший парень, не откажет в просьбе старому товарищу. И точно: звонко щелкают засовы, ребристая створка отъезжает в сторону, совсем чуть-чуть, но мне достаточно.
– Стой! – крик сверху. – Дай хоть пушки отключу!
Жду с полминуты.
– Все?
– Гуляй!
Очень тепло. Темнота такая густая, что, кажется, ее можно потрогать рукой. Иду почти что на ощупь. В лицо дует пахучий, пропитанный запахами осеннего леса ветер. Глаза привыкают к ночи, становится видна бледная линия асфальтовой дороги. Кое-где во мраке чуть тлеют, переливаются пятна аномалий. Далеко-далеко, на пределе слышимости, кричит какая-то птица: жалобно, монотонно. Совсем рядом потрескивает, играя синими искрами, «разрядник». Обочины шелестят кустами. Я иду, и звук шагов гармонично вписывается в звуковое оформление. Невидимый камешек вылетает из-под подошвы, сухо пощелкивая, скачет во мрак. И чем дальше от базы, тем ярче разгораются звезды. А у самого горизонта плывет на месте тонкий багровый коготь месяца.
Снова посещает странное чувство: вдруг я единственный человек на этой планете, который сейчас любуется звездным небом? Наверное, так оно и есть. Мысль о том, что на всей Земле не осталось практически никого живого, почему-то уже не вызывает никаких эмоций. Вообще мы, сталкеры, наверное, оказались наиболее подготовленными к Катастрофе. Я имею в виду – психологически. Мы изначально были поставлены вне закона и прекрасно научились обходиться без внешнего мира. И когда этот мир исчез, для нас, по сути, ничего не поменялось. Единственная проблема – питание. Но запасов консервированной пищи хватит надолго, а сельскохозяйственные опыты внушают здоровый оптимизм. Осталось только живность приручить. Но и тут, думаю, проблем не будет: свинья останется свиньей, и никакие мутации не смогут этого изменить…
Спереди доносится легкий хруст веток, я всматриваюсь во мрак: полосу асфальта пересекает какой-то большой сгусток темноты. Замирает на секунду, обжигает меня невидимым взглядом, потом бесшумно исчезает. Крупный зверь, и, судя по плавным движениям – не травоядный. Странно как-то, что я решился выйти в Зону ночью без оружия. Мой верный «Глок» не в счет: при всем уважении к машинке, она вряд ли сдюжит против чего-нибудь такого, что сейчас перешло дорогу… Но возвращаться тоже не хочется: база осталась далеко позади, луч прожектора отсюда выглядит как тонкий белый клин, воткнутый вертикально в землю.
Где-то далеко слева из земли поднимается острый язык пламени, покачавшись из стороны в сторону, опадает, но от него занимается трава – полукруг багрового огня, разрастаясь, медленно ползет в мою сторону. Он очень напоминает месяц, зависший над горизонтом, даже цвета совпадают…
Я перевожу взгляд на дорогу и замираю на месте: напротив меня стоит человек. Высокий, худой, в плаще с накинутым капюшоном. Лица, разумеется, не видно. И рук не видно. Возможно, на нем армейская плащ-накидка.
Переливаются на небе звезды. Шумит ветер. Больше никаких звуков: мы стоим молча. Пусть я не вижу его лица, но очень четко ощущаю, как он меня разглядывает: цепко, оценивающе. Я невольно распрямляю плечи.
А потом он разворачивается и уходит в темноту. Я остаюсь на месте. И только спустя какое-то время осознаю, что это не ветер ударил по ушам – это тот, в плаще, еле слышно прошелестел: «Доброй дороги». И тебе доброй дороги, черный человек, куда бы ты ни шел на этой вымершей планете. Появляется мысль окликнуть, пригласить к нам хотя бы переночевать…
Но тут на меня накатывает. Как-то разом осознаю, что происходит: я стою посреди Зоны ночью, а из оружия – только пистолет. И далеко позади луч прожектора, отмечающий местоположение базы. До него не меньше километра. Ночь! Зона! Пистолет!
Бьется сердце, гремят в такт подошвы по разбитому асфальту. Я выдаю себя топотом. Но это неважно. Бежать, бежать как можно быстрей! Единственный шанс выжить. Всего километр. Я несусь, и шумит кровь в ушах, смешиваясь со свистом ветра. Скачет, дергается прожектор, но при этом становится все ближе и ближе. Воздуха уже не хватает, обожженное дыханием горло перехватывает острой резью. Вот уже проступили из черноты контуры высокого забора. Осталось совсем чуть-чуть!
Справа доносится резкий визг сервопривода, и я, не успев ничего подумать, инстинктивно падаю на землю. Реакция спасает жизнь: ночь наполняется грохотом, над головой мелькают огненные полосы. Откатываюсь в канаву, выхватывая на лету рацию. На вышке вспыхивает прожектор, луч начинает судорожно мельтешить по дороге. Там, где я только что лежал, асфальт рвет крупнокалиберная очередь.
– Кочан! – ору, до хруста вдавив кнопку. – Кочан, сука! Вырубай турели!
Резко наступает тишина. И в этой тишине испуганно хрипит рация:
– Кто это?
Витиевато выругавшись, поднимаюсь из канавы, встаю на свет. Глазам больно даже через закрытые веки.
– Глок, ты? – снова хрип динамика. – Откуда взялся?
– Ты что ж, гад, делаешь? – ору без всякой рации.
– А хрен ли ты там лазишь? – летит в ответ сверху. – Крыша поехала?
Тело бьет дрожь. Левую руку холодит, что-то стекает меж пальцев. Ранило? Разжимаю кулак. На окровавленной ладони блестит маленький кристаллик в форме октаэдра: с одной стороны прозрачный, с другой черный.
Глава 11
13 октября 1943 года. Позиции 1078-го стрелкового полка
Я был здесь два года назад. Этот аргумент, насколько я понял, стал решающим: Мощин одобрил мероприятие. Но сейчас, оглядывая залитые мутным лунным светом постройки железнодорожного узла «Янов», я честно спрашивал себя: а хрен ли толку? За два года тут все изменилось.
Станцию, не достроенную до войны, достроили немцы. Из знакомых ориентиров остались только рельсы.
За одноэтажным, приплюснутым к земле зданием вокзала серел жестяной скат крыши пакгауза. К пакгаузу жалась вереница цистерн, возглавляемая паровозом. На заднем плане высился смазанный туманом частокол пирамидальных тополей.
Луна плыла сквозь облачную пелену, вокруг почти полного диска явственно проступали дифракционные кольца. Спектральные оттенки были единственным цветным пятном, весь остальной пейзаж напоминал нечеткое изображение в газете. В воздухе растекалась серебристая дымка, скрадывающая детали.
Я лежал за стволом огромной сосны. Рядом притулился сержант Коваль. Клименко растянулся под кустом орешника. Прямо перед нами была невысокая, в полметра, железнодорожная насыпь. От свежих шпал остро тянуло смолой.
– Верста! – почти беззвучно прошипел Коваль. – Уйди в тень!
За час, прошедший с начала рейда, рядовой Клименко по кличке Верста успел сорваться в реку с опоры разрушенного моста и рассечь бровь, споткнувшись о рельсу. Глядя, как его долговязая фигура в стиле гусеницы убралась за куст, я почувствовал себя матерым разведчиком. Но кольнула мысль: может быть, Коваль специально взял это недоразумение, чтобы повысить мою самооценку? Мамай отрабатывает наказание, это ладно – но, кроме Мамая, у нас в роте что, нет профессионалов? Вряд ли в разведчики по комсомольской путевке набирают…
– Ну чего? – прошептал Коваль над ухом. – Идем?
– Ты правда считаешь, что они не выставили здесь пост? Вон же вагоны, склады какие-то…
– Я тебе отвечаю, нет тут никого. И в Чернобыле тоже нет. Туда двигать – только ноги зря собьем.
Одноколейка, минуя станцию, уходила в лес и тянулась по прямой до самого Чернобыля. Почти три километра. Вполне можно обернуться до рассвета… Но вид пустой станции свидетельствовал в пользу утверждения разведчиков: все фашисты сидят на пятачке возле реки, в округе больше никого нет. Почти никого, – поправил я себя, вспомнив про длинный когтистый след на нашем берегу.
От этого воспоминания по спине пробежал холодок. Покинутый Янов в туманной пелене прекрасно подходил на роль обиталища когтистого вурдалака. Но идти надо, ничего не поделаешь…
– Если на станции никого, – твердо заявил я, – двигаемся дальше.
Коваль вздохнул, приподнялся на локтях, оглядел местность.
– Давай так. Вы тут оставайтесь, а я по-быстрому осмотрю постройки.
– Хорошо, – подумав, кивнул я.
Сержант осторожно стянул ватник, скинул подсумок, перехватил автомат…
– Погоди!
Я вцепился в его плечо, почувствовав, как вздрогнули готовые к рывку мышцы.
– Ты чего? – Коваль упал обратно на землю.
– Слушай, Серега. – Я покосился на Клименко и понизил голос: – Тут такое дело…
Шеф запретил раскрывать информацию про обнаруженный на месте убийства солдата когтистый след. Но и я не мог отправить человека на дело, не рассказав про непонятную тварь, которая, возможно, бродит поблизости. Пока шли вместе – достаточно было того, что я в курсе дела. А теперь… Предупрежден – значит, вооружен, и та секунда, которую сэкономит Ковалю мое предупреждение, возможно спасет ему жизнь.
Но, приняв решение, я внезапно испытал неловкость: чего доброго сержант решит, что командир тронулся умом.
– Не думай, что я с катушек съехал, ладно? – Я пожевал губами, собираясь с мыслями. – В общем… Честно говоря… Короче. Тут, возможно, лазает какой-то непонятный зверь вроде орангутанга. Здоровая такая дура, если судить по размеру следов. Метра под три, наверное. Имей в виду, в общем.
Коваль внимательно смотрел на меня. Его лицо, подсвеченное луной, было совсем рядом: спокойные, какие-то даже равнодушные глаза. Ну точно – решил, что у меня не все дома. Я поскрипел мозгами, прикидывая, как бы половчее доказать, что здоров, при этом не сказав ничего лишнего про наше расследование…
– Молодец! – вдруг разлепил губы Коваль.
Он вытащил из подсумка длинный черный брусок и протянул мне. Сегодня, собираясь на дело, я получил от бойцов отряда шикарный подарок – немецкий автомат «МП38». Оружие было довольно-таки редким, считалось завидным трофеем, и то, что многие мои разведчики были вооружены такими, не могло не внушать уважения. И зависти. Поэтому я был растроган почти до слез, когда Коваль от имени «братвы», как он выразился, преподнес мне вожделенную машинку. И вот теперь протягивал к ней еще один магазин.
– Зачем? У меня два полных.
– Об экспансивных пулях слыхал?
– Чего?
– Дум-дум еще называются.
– А… – сообразил я. – Разумеется.
– Ну вот это они. Возьми. Против орангутангов самое то, понял?
Коваль бесшумно скользнул в тень железнодорожной насыпи. Я выдавил на ладонь патрон, осмотрел: на конце пули имелось углубление, от которого к основанию медной головки тянулись надрезы. Попадая в тело, такая пуля раскрывается, как лепестки цветка. На занятиях нам показывали фотографии ранений пулей дум-дум. Зрелище впечатляющее. Я покачал головой: запасливый народ – разведчики.
А Коваль тем временем перемахнул через невысокую насыпь, и все – тишина. Только потревоженная завеса тумана колышется над путями, да остро сверкает лунный блик на головке рельса. И тут я запоздало сообразил: мы же не условились с Ковалем, когда он вернется? А если что случится? Сколько ждать и где искать – он ведь даже не сказал, как планирует двигаться. Взгляд упал на ватник, оставленный сержантом возле дерева, – и я сразу почувствовал, как здесь зябко и сыро. Студеный, с креозотной кислинкой воздух по капле выцеживал тепло из тела. Я невольно передернулся.
– Товарищ лейтенант!..
Клименко зашевелился у себя под кустом, судя по всему, перемещался поближе ко мне.
– Чего тебе?
– А правда, что фашисты против нас психов тут держат?
– Как?
– Ну этих… умалишенных. Они их по ночам выпускают, значит. А те к нам через речку плавают и на солдат набрасываются.
Сквозь ветки нельзя было разглядеть лицо солдата, но, судя по тону, говорил Клименко серьезно.
– Откуда ты это взял?
– Ребята рассказывали. Говорят, уже троих с начала месяца, значит, загрызли.
– Прям загрызли?
– Ну… мужики говорят.
Клименко хоть и шептал, но даже шепот у него был гнусавый и дрожащий. Я вспомнил, как боец окунулся с головой в реку, попытался представить, что он сейчас чувствует, лежа в мокрой одежде на холодной земле… и поплотнее запахнулся в ватник.
– Чушь твои мужики говорят. Лучше скажи: замерз?
– Есть маленько, – признался солдат.
– Выпить тебе надо.
– Товарищ сержант в рейде не велит.
– Где?
– В рейде. Когда за линию фронта ходим, значит.
– Я тебе разрешаю.
– Благодарствуем.
Клименко зашуршал палой листвой, и вот уже его голова вынырнула из куста прямо передо мной. Маленький вздернутый нос, выпученные глаза, оттопыренные уши – было в его лице что-то наивно-детское.
– Чего? – Я невольно отстранился от этого ищущего взгляда.
– Дык, значит, согреться бы…
– Чего? А… Откуда ж я возьму-то?
– Чего ж тогда предлагаете? – с обидой прогнусавил Клименко, уползая обратно в заросли.
Краем глаза я заметил, как рельсы перемахнула какая-то стремительная тень, дернулся за автоматом, но тут же узнал силуэт Коваля.
– Ну?
– В паровозе кто-то есть! – выдохнул сержант.
Он скинул на землю автомат и быстро нацепил ватник.
– А станция?
– Пусто. Везде пусто. Ящики какие-то. Тяжеленные. То ли приборы, то ли запчасти к чему-то. В цистернах бензин. Хороший фейерверк можно забабахать гансам. Взять веревку…
– Погоди ты! – оборвал я сержанта. – Кто там в паровозе?
– А я знаю? Видел, как огонь мелькнул, как будто прикуривали. Давай-ка, кстати, твоих командирских. Закурим, а то продрог, пока бегал там.
Коваль выхватил у меня папиросу и нырнул в тень деревьев. А я, наоборот, подполз к насыпи и осторожно выглянул из-за рельса. Все по-прежнему: темные постройки, холодный блеск железа, туман. И паровоз не подавал никаких признаков жизни. Но внутри, значит, кто-то есть…
Машина стояла носом от нас, обзор почти полностью загораживал тендер, виден был лишь верх кабины с застывшим лунным бликом на стекле. Машинально построил маршрут: через насыпь, вдоль деревьев, потом в тень вагонов… Клименко с лунной, освещенной стороны страхует, мы с сержантом заходим справа… Интересно, как открывается дверь у паровоза? Вот ведь, сотни раз видел, мимо проходил, а так и не поинтересовался.
– Ну чего? – Коваль подполз и лег рядом.
– Надо брать, – решительно заявил я. – Машинист – это просто отлично. Он может знать очень много.
– Он? А может – они? Откуда ты знаешь, сколько там народу?
– Скорее всего, немного. Сколько в кабине поместится? Пошли.
– Верста! – прошипел Коваль, обернувшись назад.
Немилосердно хрустя гравием, Клименко подтянулся к нам.
– Видишь состав? – сказал Коваль. – Сейчас все вместе пойдем вдоль цистерн до паровоза. С той, темной стороны. Потом мы с командиром останемся там, а ты перелезешь на эту сторону и спрячешься под кабиной. Кто выскочит, того сразу глуши. Понял?
– Понял! – прошипел солдат трясущимися губами.
– Так? – повернулся ко мне Коваль.
Но я только махнул рукой. Пусть командует. И, видя, как плавно, скользя над самой землей, двинулся Коваль через пути, мне очень захотелось не ударить перед ним в грязь лицом. Сзади звякнул железом о рельс Клименко, я развернулся и молча влепил ему подзатыльник, сбив с головы пилотку.
На этой стороне насыпи под деревьями тени практически не было – луна била наискось, освещая даже подлесок. Почти ползком мы добрались до здания вокзала.
Низкая постройка, несмотря на явно свежую кирпичную кладку, выглядела заброшенной. Видимо, все дело было в том, что и окна, и широкая дверь были закрыты глухими железными листами. Дверной лист диагонально перечеркивала внушительная металлическая полоса, замкнутая на огромный амбарный замок.
– Не знаю, что внутри, – прошептал Коваль. – Уходить будем, бензином с цистерн можно облить и запалить к чертям собачьим.
– Посмотрим.
Мне очень не хотелось привлекать внимание немцев. Чутье подсказывало, что на эту сторону придется ходить еще не раз… Мы бегом – насколько получилось бежать почти лежа – пересекли заасфальтированную площадку перед вокзалом и наконец-то нырнули в тень вагонов.
Здесь сильно пахло бензином. И даже в темноте было видно, что покатые бока цистерн густо покрыты потеками нефтепродуктов. Перед паровозом сержант указал Клименко вниз. Тот, подобрав автомат за пазуху, нырнул под сцепку. Мы прокрались вдоль покрытого вмятинами борта тендера и замерли под выпуклостью кабины.
Тут Коваль замер, предостерегающе выставив ладонь. Я прислушался: с запада приближался нарастающий гул. Самолеты. Гудело все сильнее, и вскоре гул разделился на множество эпицентров – над нами шло целое звено. На Киев потащились, гады. Дождавшись, когда гудение стихнет, я снова переключился на Коваля. Он внимательно изучал металлическую дверь.
– Как она открывается-то? – одними губами выдохнул мне в ухо сержант.
– Откуда мне знать!
На поверхности двери не было никаких ручек, скоб или еще чего-то, что можно было бы принять за механизм открывания. Просто клепаный лист железа, а сверху обзорный стеклянный фонарь. Причем изнутри стекла были наглухо прикрыты черными занавесками.
Накатил приступ злости, но я тут же его унял. Просто привык полагаться на Коваля. А он, между прочим, и не должен всего знать. В конце концов – руковожу операцией я. И приказ брать машиниста тоже мой. И вот теперь, вместо того чтобы злиться, нужно что-то придумать… Сержант продолжал рассматривать дверь, в темноте был виден только его профиль с массивным подбородком. А, какого черта!
– Оffen für mich![3] – Я решительно ударил по гулкому металлу кулаком.
Сержант сделал движение, будто хотел меня остановить, но тут же дернулся обратно, поднырнув под борт возле лесенки. Сверху донесся звонкий грохот, вялая немецкая брань – и дверь распахнулась, выпустив наружу теплый красноватый полумрак. Подпрыгнув, я ухватил фрица за воротник и дернул вниз, а Коваль молниеносно влетел внутрь. Снова загрохотало. Я прижал фашиста коленом к земле, кое-как нащупал горло в зарослях густой бороды и крепко сжал.
– Пусто! – выдохнул сверху Коваль. – Давай этого сюда!
– Пикнешь – убью! – пригрозил я немцу.
Рывком поднял на удивление легкое тело врага, впихнул в крепкие объятья товарища и, пригнувшись к рельсам, позвал Клименко.
– Стой здесь, мы скоро, – скомандовал я и, взобравшись в кабину, захлопнул дверь.
Внутри было очень тепло. Всю переднюю стену переплетали какие-то трубки с вентилями и манометрами. Из полураскрытых задвижек топки вырывался отсвет тлеющих углей. В этом неверном свете я наконец разглядел того, кого мы поймали. В объятьях Коваля утопал маленький дедок в замызганном овчинном тулупе, борода его заполошно топорщилась в разные стороны, а совершенно лысая голова лучилась отблесками огня. Глаза на морщинистом, с въевшейся в складки копотью лице смотрели не столько испуганно, сколько любопытно.
– Дед, ты разве немец? – спросил я первое, что пришло в голову.
– Немец! – ответил дед.
Говорил он совершенно без акцента и с какими-то совершенно русскими, распевными интонациями.
– Какой же ты немец? – усомнился Коваль. – С такой-то бородой и в зипуне.
– У меня аусвайс! Могу предъявить. Только вначале дверь запрем.
– С нами сейчас пойдешь! – заявил я. – Расскажешь все, что знаешь.
– Не советую, хлопцы. Порвут вас, и всего делов.
– Чегой-то? – насторожился Коваль.
– Есть кто еще с вами?
– Тебе какое дело?
– Всех в кабину зови. Нашумели.
Коваль, пару секунд поизучав старика, распахнул дверь и помог Клименко забраться внутрь. Долговязый боец сразу же ударился головой о какой-то вентиль над входом и замер, пригнувшись. Дед тем временем подсуетился и лязгнул у него за спиной засовом.
– Нельзя тут ночью, молодежь! – убежденно заявил он. – Жить если не надоело.
– Так! – Я решительно перехватил инициативу. – Давай-ка, ребята, заканчивать. Сейчас пеленаем вот этого облезлого и быстренько к лодке. На нашем берегу разберемся.
– Погоди, командир! – Коваль с сомнением смотрел на старика. – Ты кем нас пугаешь-то?
– А вон, как раз пожаловали. Посмотри. – Дед ткнул пальцем наискось кабины в угловое окошко, единственное не занавешенное тряпкой.
Коваль метнулся к окну, я поспешил следом, махнув Клименко, чтобы стерег старика.
Усыпанный, как бородавками, рядами клепок бок паровоза искрился каплями инея. Из трубы вилась легкая, практически бесцветная струйка дыма. Серебряная полоса рельсов, слегка загибая вправо, уходила в глубину просеки. По ходу движения слева открывалась небольшая поляна с грудой битого кирпича посередине. В контурах кучи просматривался круг. Заметив его, я тут же сориентировался в воспоминаниях двухлетней давности: да, правильно – когда я приезжал сюда в прошлый раз, на этом месте стояла почти достроенная водонапорная башня. И тогда выходит, что вагончик бригады строителей располагался ровно на месте нашего паровоза. А напротив башни, с этой стороны, должны быть…
Но тут мысль моя замерла. Потому что на поляну, полную спустившегося к самой земле тумана, на свет луны осторожно вышли два серовато-коричневых человека. Точнее, человекоподобных существа. Шли они на четвереньках, причем ноги… задние конечности, заметно длиннее передних, несмотря на очевидное неудобство, опирались на ступни, отчего существам приходилось растопыривать колени в стороны, как лягушкам.
Головы у них были удлиненные, вытянутые вперед, мне даже показалось, что существа носят респираторы. Они сильно пригибались к земле и, словно принюхиваясь, водили головами по сторонам. Движения их были медленные, крадущиеся, но создавалось стойкое ощущение, что скрытничают они не ради осторожности, а исключительно чтобы не вспугнуть жертву. Было в облике существ, несмотря на субтильность, что-то откровенно хищное.
Они медленно приблизились к кирпичной россыпи. Первый аккуратно поднялся наверх и замер, повернув голову в сторону паровоза. Сложно было сказать наверняка – луна светила ему в спину, – но было похоже, что на лице существа надеты большие круглые очки. А то, что я поначалу принял за одежду, теперь показалось мне просто бурыми разводами, нарисованными прямо на голой, цвета вылинявшего брезента, коже.
– Выбрались, суки! – с непонятной ненавистью прошептал Коваль.
– У них на паровоз условный рефлекс, – раздался сзади старческий голос. – После того как я одного такого чахлого метельником раскатал. Теперь они меня уважают.
Глава 12
2 октября 2016 года. Чернобыль
– Они тоже хотят сходить к Исполнителю и загадать желание, – говорю я вместо приветствия.
Паутиныч стоит на крыльце и оглядывает нас: меня, Чапая и Чекиста. Это продолжается довольно долго. Он молчит, и мы молчим. Ветер напористо подталкивает нас сзади, цепляется за деревья, гонит рябь по лужам. Мимо проносится стайка листьев. За спиной Паутиныча, в горнице, что-то со звоном опрокидывается. Дед манит нас рукой и заходит внутрь.
Ее ноги виднеются в дверном проеме. Сегодня она в потертых голубых джинсах. Ступни в высоких кедах стоят на ворсистом коврике. Левая рука на колене. Я делаю шаг от двери, чтобы разглядеть ее полностью.
Тем временем Паутиныч суетится у стола, расставляет чашки. Чапай уже рядом с ним, а Чекист гремит сзади своими сочленениями, разоблачается. Хозяин распахивает окно, выглядывает в небо, потешно изогнув шею.
– Вроде должны успеть до грозы! – объявляет он, всунувшись обратно. – Бери-ка, парень, по-быстрому самовар, тащи во двор.
Потом мы пьем душистый липовый отвар с медом. Настолько вкусно, что только ради этого можно было бы бегать к Паутинычу по нескольку раз в неделю.
Ветер налегает на домик, поскрипывает оконная рама. Бьет гром, и, как по команде, жестяной дробью взрывается подоконник. Вид за окном тут же расплывается, по стеклам струятся целые потоки. Паутиныч поднимается и задергивает занавески.
– В детстве очень любил пить горячий чай в непогоду, – говорит Чапай.
– Сам-то откуда? – интересуется Паутиныч.
– Из Зоны, дед. – Чапай фыркает в усы. – Мы все давно из Зоны.
– Это верно. Так, значит, хотите к Исполнителю сходить?
– Кто в петлю, кто в Питер… – гудит над чашкой Чекист.
– Дык там теперь вроде как озеро, – напоминает старик, словно подзадоривает.
– Сплаваем, – говорю я.
– Как рыбы?
– Зачем? – возражает Чекист. – Как люди.
– Это каким же макаром? – весело удивляется Паутиныч.
– Подводную одиссею команды Кусто смотрел?
– Однако, хлопцы, боюсь, как бы вам оттуда с пустыми руками не всплыть.
– Паутиныч. – Я отставляю чашку. – Где вход в Армаду?
И вижу: вздрогнул старик, распахнулись блеклые глаза, и совсем по-детски захлопали красноватые веки. Вот так вот, хватит дурачка валять. Чапай с Чекистом тоже поворачиваются к нему. Паутиныч переводит взгляд с одного на другого. Мы ждем.
– Вы не сможете подойти к ней, – сообщает наконец он.
– А ты научи, – просит Чапай.
– Я не умею.
– Не ври! – Чекист бьет по столу ладонью, чашки звякают.
И снова Паутиныч молча елозит по нам глазами. Долго. Жует губами совершенно по-стариковски, борода то топорщится, то опадает. Хотя он и есть старик. Сколько ему? За семьдесят, поди… Дождь терзает окно, карниз уже не гремит, а гудит не переставая. Непогода разыгралась не на шутку. Такие ливни обрушивались на Зону после выбросов. Выбросов больше нет, а ураганы, по старой памяти, бушуют регулярно.
– Мы видели, как ты выходил со станции, – поясняет резкость товарища Чапай.
– Это совсем не то, – тихо говорит Паутиныч. – Это всего лишь… Это как аномалия, понимаете? Артефакт особый – и нет проблем. А над Армадой защитное поле. К ней не подойдешь. Нужен амулет.
– Вот такой? – Я небрежно кидаю на стол заранее приготовленный кристалл.
Тут Паутиныч не удерживается, подскакивает. Черно-белый амулет, звякнув о блюдце, замирает на протертой клеенке, в самом центре нарисованного апельсина. И тут я замечаю, что она смотрит на меня. Первый раз за все время. Мне становится не по себе, я хватаю кристалл и прячу в карман. Она медленно поворачивает голову обратно. Значит, этот кристаллик – это действительно то самое! Значит, прав Чапай, утверждавший, что у стражей были особые артефакты, позволявшие проходить внутрь Армады.
– Тебе Хирург дал? – К Паутинычу возвращается дар речи.
– Так! – удовлетворенно произносит Чапай. – Давай-ка, дед, расскажи нам немного про Хирурга.
– Погоди! – отмахивается тот. – Хирург?
– Нет, – признаюсь я.
– А кто?
Хороший вопрос… Ребята на базе получили официальную версию: пошел спьяну погулять, забыл вернуться до темноты. Болваном себя, конечно, выставил. Но лучше болваном, чем умалишенным. Чапаю с Чекистом рассказал правду – и то поначалу не поверили. И даже эта пирамидка не убедила. Пока мы не выяснили, что она гасит эффект любого артефакта.
– Мужик в плаще дал, – сообщаю я Паутинычу честно. – Гулял, понимаешь, ночью по Зоне…
– Услышал, – бормочет непонятное Паутиныч. – Услышал…
Мы с Чапаем переглядываемся.
– Ну, значит, так тому и быть! – с нездоровым весельем заявляет дед.
Он вскакивает, убегает в кухонный закуток, возвращается с бутылкой водки. Мы, пусть и не понимаем, чего это он так раздухарился, синхронно заглатываем чай и сводим чашки в кучку. Выпиваем, закусываем медом. Глаза Паутиныча сразу начинают блестеть.
– А ведь это надолго, хлопцы. – Он кивает на окно, забитое непогодой. – Как бы вам не пришлось ночевать у меня.
– А у тебя еще есть? – Чекист имеет в виду бутылку.
– Найдем.
– Отчего ж не переночевать, – соглашается Чапай и плавным жестом разглаживает усы.
Снова раздается удар грома, и тяжелые отзвуки еще долго перекатываются прямо над головой. Как только грохот затихает, мы поднимаемся на улицу покурить.
– Погодите! – кричит от стола Паутиныч. – Давай по второй.
На улице вовсю резвится ливень. Тугие струи треплют пригнувшиеся деревья, гремят по крыше. Бочка у крыльца давно переполнилась, поверхность воды напоминает крупную терку. Буровато-серое небо висит низко-низко. Темно, как после захода солнца. Видимость заканчивается примерно у забора – дальше колышется сплошной полог воды. Где-то сверкает молния, но до нас добивают только тусклые зарева.
Дождь бьет со стороны фасада, поэтому под навесом крыльца относительно сухо. Кое-как прикуриваем, Паутиныч дымит трубкой.
– Их было трое, Стражей, – говорит он без предисловия. – Хирург, Болт и Стратег.
– Они вечные, что ли? – косится на него Чекист.
– Нет. Армада не нуждалась ни в какой охране, пока тут не появилась эта сволота со своей АЭС.
– Угораздило Станцию прямо над Армадой поставить! – вставляю я.
– Это была вовсе не случайность. Про Армаду откуда-то узнали и строили АЭС специально с целью пробраться к ней.
– Кому-то всегда неймется, – кивает Чапай.
– Видимо, там, – Паутиныч тычет пальцем в козырек крыльца, – тоже считали, что она исполняет желания. Наверное, захотели загадать коммунизм во всем мире… И устроили конец света.
– Козлы! – выносит вердикт Чекист.
– А знаете, – Чапай глубоко затягивается, – желание-то исполнилось. Можно сказать, что коммунизм действительно наступил. Все бесплатно.
Мы молчим, курим, выпускаем дым в дождь. Гром гуляет по небу, как будто скатывается что-то от зенита к горизонту.
– Паутиныч, а ты видел Армаду? – спрашиваю я.
– Нет. Откуда? Она под землей глубоко. Да я и не прошел бы через защиту.
– А со стражами как познакомился? – спрашивает Чапай.
– Дык Вовка, Болт, мы же с ним еще до Зоны дружбу водили. Он ведь тоже из Ельска.
– А как Армада их назначила?
– Само собой, говорит, получилось. Выбрала из сталкеров. Из тех, кто понравился. Позвала. Он говорил, что они с ней как-то общаются. Мысленно. Она им передает не словами, а образами, что ли…
– Что-то она мне ничего не передает. – Я снова достаю кристалл, верчу в пальцах.
– Об том и речь! – тычет в пирамидку Паутиныч. – И Хирург жаловался, что больше не слышит ее. Говорит, выкинул свой амулет.
– Так уж и выкинул, – недоверчиво качаю головой.
– Он сказал, что Армада умерла.
Мы возвращаемся в дом. Снова пьем, разговариваем про Армаду, про Зону. На столе появляется вареная картошка. Чапай достает две банки тушенки. И опять говорим. Про прошлое и будущее. Про заветные желания. Опьянение мягко шумит в ушах. Паутиныч зажигает свет. Она остается сидеть в темной комнате, и мне кажется, что это плохо. Я незаметно достаю амулет, сжимаю в кулаке – и вижу, как медленно поворачивается ее голова. Не выдерживаю – быстро убираю кристалл обратно в контейнер. И еще раз выходим курить.
Дождь уже закончился, только невидимый в ночи сад все никак не может успокоиться – шуршит каплями. Воздух наполнен послегрозовой свежестью. Гром еще погромыхивает где-то на востоке, а над нами уже мерцают звезды и висит тонкий серп луны.
– Как будто мир еще цел… – говорю, ни к кому не обращаясь.
– А? – Чапай оборачивается.
Мы сидим на лавочке напротив входа. На крыльце Чекист с Паутинычем спорят о свойствах Армады. Я чувствую себя очень спокойно. Где-то там, в далекой глубине груди, что-то остывает, расслабляется, и от этого по телу разливается уютная усталость.
– Это тебе не золотая рыбка, – втолковывает Чекисту Паутиныч. – Это тебе не Хоттабыч!
Трубка его где-то потерялась, он теперь курит толстую сигару, непонятно откуда взявшуюся.
– При чем тут золотая рыбка! – отмахивается Чекист. – При чем тут Хоттабыч!
Они топчутся на крыльце, то вступая в пятно света от распахнутой двери, то ныряя в ночь.
– Что ты думаешь, я ребенок? – Чекист размашисто жестикулирует. – Ты сам говорил, что эта Армада – она что-то вроде мозга планеты. Значит, она может управлять своим телом, Землей то есть.
– Так в том-то и дело! Я тебе про то и толкую битый час, пень ты развесистый!
Паутиныч тоже горячится, он наседает на Чекиста, тычет его в грудь. Выглядит это комично: маленький бородатый старичок против здорового молодого бугая. Однако дед берет не силой, а настырностью. Он умудряется вытолкнуть Чекиста в темноту и единолично располагается в полосе света.
– У тебя тоже есть мозг! – Паутиныч тычет узловатым пальцем во мрак. – Я хочу в это верить. Вот прикажи своему телу взлететь! Что? А, не можешь! Вот так! И Армада не может того, чего не может.
– А откуда ты знаешь, чего она может, а чего не может? – Чекист снова вырывается на свет.
– А ты знаешь? – кричит отторгнутый в ночь Паутиныч.
Жирный уголек его сигары описывает в темноте какие-то неприличные восьмерки.
– Я не знаю! Я не такой самоуверенный, как некоторые пьяные старики.
– А желание ему исполни! – ехидничает темнота.
– Да вот, исполни! И исполнит!
– Она тебе исполнит! Не боишься?
– Чего мне бояться?
Паутиныч снова спихивает Чекиста со сцены и трагически выдает:
– Если Армада – мозг, то этот мозг, судя по всему, сошел с ума!
– Сам ты сошел с ума! Старый пень, – огрызается под покровом ночи Чекист.
– А ты не выражайся! Давай рассуждать логически…
Месяц поднялся уже высоко, он висит над самым коньком крыши. Мокрая жесть чуть видно серебрится на фоне черного провала неба. За спиной шуршит сад. А больше вокруг ничего нет: только этот дом, эти деревья и это звездное небо. Даже Зоны нет, ее не видно и не слышно.
– Мы пойдем с тобой, – чуть слышно говорит Чапай.
– Спасибо.
– Где взять еще амулеты?
– У Хирурга должен быть один.
– Надо два.
Паутиныч с Чекистом уже перешли к обсуждению проблем восстановления цивилизации на принципах гуманизма и взаимного уважения.
– Паутиныч! – властно вторгается в их беседу Чапай. – Что стало со Стражами?
И спор сразу обрывается. Чекист отходит в сторону, шумно отдувается, прикуривает, на миг осветив подпорку крыльца. Паутиныч подходит к перилам, чмокая, дымит огрызком сигары.
– Хирург у вас, значит, – выдает он, поразмыслив.
– Это мы поняли, – напоминаю я. – Остальные двое.
– Понятия не имею, – невозмутимо заявляет старик.
– Нам нужно их найти.
– Его, – поправляет Паутиныч. – Второй сам тебя нашел.
– Кто второй?
– Болт, видать.
– Почему так решил?
– Он в плаще ходил. Похож по описанию.
– Надо у него спросить, где его товарищ.
– Спроси, спроси. – Паутиныч невесело хмыкает и выпускает из бороды целое облако дыма.
– Чего такое?
– Болт погиб при Взрыве, парень. Во всяком случае, он находился в то время в том месте, где выжить просто не мог. Так говорит Хирург, а ему врать незачем.
– Значит, я встретил третьего, как его… – возражаю я.
– Нет, Глок. Ты встретил Болта. Потому что Стратега встретил я. Через неделю после Взрыва. На берегу озера.
– И? – Чапай подается вперед.
– Стратег стал шатуном, хлопцы. Вряд ли кто знает, где он теперь. И жив ли он вообще.
Плывет месяц, оставаясь на месте. Шумят деревья. Холодно. Паутиныч курит, глядя в сторону.
– Сожрали его давно, – подает голос из темноты Чекист.
– Твари не нападают на Стражей, – говорит Паутиныч. – Наверное, из-за амулетов.
– Ну сам помер. Жрать-то там нечего.
– Хирург рассказывал, что эти амулеты даже мертвых оживлять могут.
– Ну вот, значит, и Болт твой… – с облегчением заключаю я.
– Пепел нельзя оживить, – говорит Паутиныч. – Пошли в дом, холодно.
– Будем искать этого Стратега, – заявляет Чапай, поднимаясь.
И снова сидим у стола, заваленного картофельной шелухой и полупустыми консервными банками. Опять какой-то невнятный, перескакивающий с одного на другое разговор. Заканчивается четвертая бутылка, это даже для нас, молодых мужиков, немало, но Паутиныч еще держится. Крепок старик. Она все так же сидит на своей кровати, не реагируя ни на что, и я замечаю, что мои товарищи уже даже перестали коситься в ее сторону, привыкли. Как к самовару на столе или вон буфету у стенки. Встаю, выхожу на улицу, усаживаюсь, просунув ноги между балясинами перил. Курю. Смотрю в темноту.
Небо абсолютно черно – настолько, что кажется, будто его нет. И висят на невидимых нитках, покачиваясь от ветерка, острые, как иголки, звезды. Я всю жизнь прожил в городе, всегда вокруг были источники света, марающие ночь. А теперь, когда города потухли, – небо раскрылось во всей красе. Ни малейшей засветки, только очень далеко на северо-востоке торчит чуть наклоненный в сторону луч прожектора с нашей базы.
Подходит Чекист, с кряхтением присаживается рядом. Нюхает воздух.
– Найдем, думаешь, этого Стража? – спрашивает, слегка пихнув локтем.
– А ты точно хочешь идти?
– Я за любой кипеш, лишь бы польза была.
– Как ты там Паутинычу втолковывал: новый Золотой век человечества?
– Ну я это образно, – смущается товарищ. – Они и без меня обойдутся.
– Ну-ну…
– Ладно. – Окурок Чекиста оставляет на темноте оранжевую царапину. – Давай спать. Хозяин нам у окна телогреек накидал. Царское ложе, Чапай уже храпит. Присоединяйся.
Он уходит, машинально прикрывает за собой дверь. Наступает полная тьма. Тихо и холодно – и голова проясняется не столько от холода, сколько от этой тишины. А я ведь безумно тоскую по цивилизации, признаюсь себе. По городам, полным людей, по бестолковой суете, по вони моторов и тупой рекламе… Три года ничего этого не нужно было. Три года ходил по Зоне, наслаждался свободой от общепринятых законов и норм. Но стоило это отнять…
Я нащупываю в пачке последнюю сигарету, закуриваю. Сижу, вдыхаю осенние запахи. И то ли звезды разгораются ярче, то ли глаза все больше привыкают к темноте: небосвод теперь буквально усеян яркими точками.
На память приходит позавчерашняя ночь… Болт – так, значит, его зовут. Точнее, звали. Мысль о том, что я повстречался с мертвым человеком, оставляет равнодушным. В Зоне насмотрелся и не такого. Тут дело в другом. Как он выманил меня? И выманил ли? Что я еще готов вытерпеть ради любви к цивилизации? Да нет, конечно, цивилизация тут совершенно ни при чем. Просто у меня теперь есть мечта…
Я осторожно, чтобы не скрипнули доски, встаю, тихо приоткрываю дверь.
В горнице витает густой спиртовой дух и гремит храп. Я почему-то уверен, что это старается Чекист. Чапай – человек на порядок воспитаннее.
Я вижу их. Паутиныч повыключал везде свет, но глазам, привыкшим к ночи, хватает отсветов звездного неба из окна. Два бугра возвышаются над полом у стены.
Иду, медленно перенося вес со ступни на ступню. Обхожу стол. Дверь в комнату Паутиныча закрыта. У нее тоже. Хватаюсь за ручку, толкаю, постепенно усиливая нажим. Створка с еле слышным скрипом подается.
Она сидит, не изменив позы. Силуэт на фоне окна выглядит произведением искусства. Нога наступает на мягкое – коврик перед кроватью. Сажусь на пол, прямо напротив нее. Пару секунд набираюсь смелости, потом поддеваю крышку контейнера на ремне – и зажимаю амулет в ладони.
Ее голова медленно поворачивается ко мне. Страшно – я не вижу ее глаз, слишком темно – но все равно страшно. Она все ближе. Вот уже и туловище приходит в движение, как будто заваливается на меня. От нее пахнет то ли свежим дождем, то ли слезами. Я держусь из последних сил. Она полностью заслонила окно, и теперь не видно ничего, я даже не знаю, на каком она расстоянии. Может быть, вот прямо сейчас она коснется меня! Тихий скрип матраса прекращается. Она впритык ко мне – я чувствую на лбу ее медленное дыхание.
– Ты слышишь меня? – говорю тихо, стараясь, чтобы голос не дрожал. – Слышишь? Мне нужен сталкер по имени Стратег. У него есть такой же амулет, что и у меня. Амулет. В моей правой ладони. Мне нужен еще один такой. Где он?
Дуновение воздуха. Пытаюсь сообразить, что происходит, но пружины матраса однозначно скрипят: она встает! Я снова различаю ее контур. Вскакиваю, как подброшенный, забыв про осторожность, отступаю с дороги. Она проходит мимо. Идет к выходу. Двигаюсь следом.
– Глок! – шепот от окна.
Узнаю голос Чапая. Как некстати!
– Глок! Ты охренел? – По голосу понятно, что он сомневается в моей вменяемости.
Значит, все слышал.
– Совсем с катушек съехал? – шипит Чапай. – Не мог ее днем спросить?
– Да как-то само собой вышло.
– Само собой… Пойдешь за ней?
От мысли, что сейчас придется опять идти по ночной Зоне, бросает в холод. А что, если остановить ее? Но в следующий раз может не получиться. Да и как ее остановишь…
Чапай возится на полу, спешно цепляет снарягу. А она уже у выхода, слепо водит ладонью по двери, ищет ручку. Высокая, стройная, в висящей до бедер вязаной кофте. Белые подошвы кедов как будто светятся на фоне пола.
Чекист рвет глотку в раскатистом храпе. Со стороны Паутиныча тишина.
– А на что ты готов ради мечты? – спрашиваю подошедшего Чапая.
– Для начала надо бы вспомнить, как это – мечтать.
Она нащупывает ручку, нажимает – вместе с ночными шорохами в дом врывается сырой ветер. Она замирает на пороге, вроде как прислушивается. Машинально нащупываю кобуру на поясе. Что толку от пистолета? А что толку даже от гранатомета? Ночью. В Зоне.
– Оставайся, – шепчу Чапаю.
– Паутиныч сказал, что амулет отпугивает тварей.
– Паутиныч сегодня много чего говорил.
Она переступает через порог, мы бросаемся к двери. У самого выхода замираем. Чувствую, как, огибая меня со всех сторон, в дом просачивается студеное, полное тихих шорохов дыхание Зоны.
– Ну? – шепчет Чапай.
– Hectorem quis nosset, felix si Troja fuisset?[4]
И мы ныряем в черноту дверного проема.
Глава 13
14 октября 1943 года. Позиции 1078-го стрелкового полка
У товарища замполита, толстого, гладковыбритого майора с лицом сонного хомяка, при каждом шаге подпрыгивала кобура на покатом боку. Это почему-то раздражало. Так же как и его голос – писклявый, почти женский.
– Возможно, я недостаточно информирован, чтобы в должной мере оценить действия лейтенанта Зуева? Тогда сделайте одолжение, просветите! – На этих словах, произнесенных несколько пафосно, майор Дерюгин остановился ровно напротив сидящего за столом шефа.
Сука ты, полковой комиссар, думал я, разглядывая этого толстого низенького человечка. Он был совсем круглый – что спереди, что сбоку – и ремень портупеи, перекинутый через плечо, казался не столько элементом формы, сколько предохранителем, ограничивающим дальнейший рост этого тела. Бритая шарообразная, под стать туловищу, голова делала майора Дерюгина похожим на снеговика.
Мощин, кряхтя, поднялся. Тоскливо оглядел землянку. Взгляд пробежал по заваленному бумагами столу, переполненной пепельнице, спрыгнул на чисто выметенный земляной пол, на секунду замер на корешке книги, оставленной Сан Санычем поверх лежанки, и вернулся к выжидательно замершему замполиту.
– Действия лейтенанта Зуева обусловлены моими распоряжениями, – ровно сказал шеф и, отодвинув ногой табуретку, вышел из-за стола.
– Действия лейтенанта Зуева тянут на трибунал, – так же ровно ответил майор.
На груди его горело масляными эмалевыми отблесками «Красное знамя». Именно горело, несмотря на то что дохлое пламя керосинки еле-еле справлялось с полумраком по углам комнатушки. Наверное, товарищ замполит ежедневно начищал орден щеточкой.
– Что вы такое говорите? – брезгливо поморщился шеф.
– Говорю, что есть. Командир разведроты лейтенант Зуев притащил из-за линии фронта немца, провел его на наши позиции, а потом приказал своим бойцам перевезти его обратно за реку.
– Это наш немец, советский, – внес коррективу полковник.
– Вам известен приказ, касающийся советских немцев в прифронтовой полосе? – поинтересовался замполит.
– Вы пришли меня экзаменовать? – Полковник снова посмотрел на майора, но теперь уже спокойно и строго.
Помнится, под таким его взглядам даже матерые урки теряли спесь и начинали ерзать. И пузатый замполит не выдержал, пробормотал что-то, а у самого уши зарделись, хоть прикуривай.
Интересно, за какие такие заслуги он получил это «знамя»? Неужто своим писклявым голоском смог поднять полк в атаку? С такой комплекцией он и через бруствер не перелезет…
– И тем не менее, – упрямо сказал майор. – Я хотел бы разобраться в происходящем. Комполка Казначеев отказался прояснять ситуацию, отослал к вам, товарищ полковник. Я прошу вас дать мне необходимые разъяснения… ежели таковые у вас имеются.
– Имеются, куда ж без них, – согласился шеф и, подойдя вплотную к замполиту, доверительным полутоном сообщил: – И полковнику Казначееву я уже все разъяснил, это уж будьте спокойны. Впрочем, вас это и не должно волновать. Ведь вопросы военного характера, если не ошибаюсь, выведены из компетенции политработников? Думаю, это сделано для того, чтобы ничто не отвлекало вас от партийно-просветительской работы. Предлагаю впредь на ней и сосредоточиться.
Удар попал в цель: краска от ушей растеклась во всему мясистому лицу майора. Даже нос покраснел до самого округлого кончика. Что, морда, тоскуешь по прежней власти? – злорадно оскалился я.
– Я оставляю за собой право поставить этот вопрос в рапорте на имя члена военного совета армии генерал-лейтенанта Завьялова, – визгливо заявил Дерюгин.
– Это правильно, – поддержал Мощин. – В штабе армии необходимо знать о переживаниях каждого замполита.
– Разрешите идти?
– Не смею задерживать.
Майор круто развернулся и оказался лицом к лицу со мной. Не удержавшись, я издевательски козырнул старшему по званию. На малиновом лице толстяка бешено сверкнули глаза, он шагнул прямо на меня – я еле успел отскочить с дороги.
– Рассказывай, – устало приказал шеф, когда шаги комиссара стихли за дверью.
А чего рассказывать-то? С рейда вернулись только под утро, уже и светать начало. Все благодаря дополнительным предосторожностям, предпринятым из-за тех непонятных тварей, что вылезли на опушку. Старика взяли с собой – как выяснилось, он оказался ценным фруктом: на своем паровозе обслуживал группировку, засевшую на том берегу, и в том числе пару раз доставлял грузы в Чернобыль. А кому там в Чернобыле эти грузы могли предназначаться? Вот то-то и оно!
Деда, кстати, звали Адольф Генрихович Шмальгаузен, не больше и не меньше. «Майн гот!» – так отреагировал на его представление сержант Коваль. А Клименко со смешком заметил, что наш машинист – тезка фюрера.
– Это не я его тезка, а он мой! – поправил дед. – Потому как я старше.
В общем, взяли нашего старшего фюрера за шкирку и в добровольно-принудительном порядке потащили к себе. Он не очень хотел идти: почему-то опасался, что его расстреляют. Ну а прибыв в расположение, мы все сразу завалились спать.
Когда я проснулся, было уже около полудня. Солнце, врываясь через открытую дверь, насквозь освещало блиндаж. В широких лучах света плавали крупные блестки пыли. Рядом на койке сидел Коваль и вдохновенно соскребал ложкой со стенок котелка что-то мясное.
– Так вы, товарищ сержант, заботитесь о командире? – пробурчал я, жадно принюхиваясь.
– Как можно просыпаться с такими нехорошими мыслями! – подскочил сбоку рядовой Попов.
Низенький, щуплый, чернявый – настоящий одессит и по виду, и по характеру, – он как-то сразу взял на себя роль моего ординарца. Вот и сейчас, имитируя повадки официанта, Попов элегантно поставил на ящик передо мной котелок, полный макарон по-флотски.
– Фюрер где? – спросил я, радостно скидывая шинель.
Вопрос отпал сам: старик сидел на соседней лежанке и тоже был занят едой. Зипун он снял и был теперь в старом сером френче с пришитыми на локтях кожаными заплатами. В углу, за Ковалем, виднелся бритый затылок рядового Клименко, накрытый ворсистым шинельным воротником.
Потом мы с Ковалем переместились на улицу и вызвали к себе деда, имея намерение устроить ему перекрестный допрос. Старик уселся напротив, на бревнышко, подставил лысину под солнышко, распушил бороду и с большим аппетитом засмолил козью ножку. Выглядел он очень комично – эдакий карликовый Лев Толстой, – и поэтому с допросом как-то сразу не заладилось.
– Родных нет у тебя? – спросил я совсем по-бытовому.
– Сына в первый месяц войны арестовали. А невестка с внуками в Германию подалась.
– Угнали?
– Не. – Старик грустно покачал головой. – Сами.
– Как фольксдойчи? – со знанием дела уточнил Коваль.
– Jawohl[5].
– А ты чего с ними не уехал?
– Да куда мне. – Дед по-козлиному тряхнул бородой, в которой застряло несколько макаронин. – Я тут всю жизнь прожил. Да и не хочу к ним. Пока не перебесятся со своим Гитлером.
– А что ж тогда на гитлеровцев батрачить пошел?
– Я на себя работаю. Чтобы с голоду не помереть. И потом, с философской точки зрения, большого значения не имеет: немцы, русские.
– Это что же у тебя за философия такая, – нахмурился я, – что между нами и фашистами знак равенства ставит?
– Возраст называется. – Дед хмыкнул в бороду. – Доживешь до моих лет, повидаешь, что я видел, тоже многое по-другому оценивать начнешь. Если вообще будешь внимание обращать.
– Дедушка старый, ему все равно, – процитировал Коваль то ли частушку, то ли поговорку.
– Факт! – подхватил шутку старик.
– Не может быть все равно! – не принял я их юмора. – На фашистов работать ни одна философия не позволяет.
– А что прикажешь? – обиделся старик. – Как жить-то? Я, окромя паровоза, ничего в жизни не умею.
– К нам перебираться надо было!
– Во, точно! – Дед выпустил тугую струю дыма. – Тут бы меня сразу в расход, чтоб не мучился. Не, ты не думай, мне не жалко. Но это же чистое самоубийство.
– С чего это – в расход?
– А с того! Немец? – спросят. С оккупированных территорий? Молодец, скажут, иди до стенки, не оборачивайся. И всего делов.
Коваль посмотрел на меня. Я отвел взгляд. Во время войны некогда разбираться: свой-чужой. Чуть Москву не отдали, столько народу положили… Заслужили полное право поступать с такими вот перебежчиками по всей строгости. «К стенке» – это он, конечно, загнул, но и просто так разгуливать по воюющей стране ему никто не позволит. Собрался я уже объяснить все это не столько Фюреру, сколько Ковалю, но старик не дал.
– С вашим подходом, – проворчал он, – получается, что всех немцев надо перестрелять!
– Всех! – разозлился я. – Мне вас сортировать, что ли? Вон твои земляки на том берегу, они с нами цацкаются?
– Они служат зверю, – строго заявил дед. – С них другой спрос. Да и не все служат по доброй воле. Много кто, я так разумею, понимает, что к чему. Нельзя весь народ под одну гребенку.
– Да ты что! – Я хлопнул себя по коленке. – Фашистов, значит, надо выборочно отстреливать? Чтобы, не дай бог, кого-нибудь, кто не по собственной воле советских людей убивает, не задеть! Так, что ли, по-твоему выходит?
Старик не выдержал моего взгляда, закопошился в кисете, начал сворачивать новую вонючую самокрутку. Но я не дал ему отмолчаться:
– Отвечай, философ! Чего язык проглотил?
– Надо разделять немцев и фашистов, – сказал он. – Иначе как? Иначе никак. Или бери свой револьвер и стреляй меня сразу. Логично, товарищ командир?
Тут уж настала моя очередь полезть за папиросами… Понятно, что он защищает своих соплеменников. Да и не видел этот старик, не знает всего того, что творят на нашей земле гитлеровские гады. Но ведь и правда – всех немцев, что ли, в расход пускать?
Но тут, на счастье, из блиндажа выскочил рядовой Попов и принялся сноровисто мастерить костерок под висящим на металлической треноге чайником. Мы со стариком обменялись быстрыми взглядами – и по молчаливой договоренности отложили спор. Коваль, выполнявший при нас роль статиста, облегченно выдохнул.
– Чаек сейчас сварганим, – сообщил нам Попов. – С шиповником.
– Откуда шиповник? – спросил Коваль.
– Намного интереснее, откуда заварка!
Смуглое, будто закопченное лицо рядового расплылось в хитрой улыбке. Плутовато заблестевшие глаза намекали, что заварка появилась не очень законным путем. Но, так и не дождавшись вопросов, Попов снял чайник и убежал за водой.
– Чай – это хорошо! – сказал дед, поправляя потухшую козью ножку.
– Ты, философ, лучше расскажи, что в Чернобыль возил? – вернул я беседу в деловое русло.
– А кто ж его знает? – беспечно ответил старик. – До Коростеня смотался, там загрузили, здесь выгрузили. Какой с меня спрос?
Он, кряхтя, наклонился и вытащил веточку из начинающего разгораться костра.
– Мы, немцы, порядок уважаем, – сообщил он, окутавшись облаком белого дыма. – Потому лишних вопросов не задаем.
– Хоть куда возил-то? Показать на карте сможешь?
– Показать смогу, – согласился старик. – Но только карта у тебя небось старая. Эту ветку только прошлой весной построили.
– И куда она ведет? – спросил Коваль. – К подземному ангару?
– Откуда знаешь?
Дед уставился на сержанта подозрительно, даже затянуться забыл.
– Так, предположил, – равнодушно пожал плечами Коваль.
Слишком равнодушно, как мне показалось.
– К ангару, – подтвердил дед. – Там у них что-то наподобие тоннеля.
– И что внутри? – Коваль снова подался вперед.
– Кто знает? Я только до дебаркадера доезжал. Там все выгружали. А вход в тоннель воротами перекрыт.
Вот оно! Я не удержался и азартно хлопнул в ладоши.
– Молодец, дед! – Коваль толкнул старика в бок так, что тот чуть не опрокинулся.
А меня эта его реакция слегка озадачила. Отчего товарищ сержант так воодушевился-то? То есть мне-то положен повод для веселья: я сейчас, покуривая на завалинке, мимоходом вычислил секретную базу, которую до этого мы с шефом предполагали исключительно в теории. Такое везение только в сказке бывает. Но вряд ли Коваль в курсе наших дел. Однако пожалуйста – сидит весь из себя довольный, как будто медаль за эту базу ему обещали.
– Кто там груз твой встречал? – спросил я у деда.
– Солдаты.
– СС?
– Они.
– А руководил ими кто?
– Если тебя интересует, кто главный в лаборатории, так и спроси! – приосанился дед.
– В лаборатории? – Я не смог сдержать удивления.
– Там у них подземная лаборатория, – важно заявил старик. – Они геологию изучают. А главный у них оберштурмбаннфюрер СС Ганс Кламмер.
– Как? – синхронно выкрикнули мы с Ковалем.
Старик недоуменно уставился на нас.
– Оберштурмбаннфюрер Кламмер, – повторил он осторожно. – Весьма образованный и воспитанный человек. Нестарый еще. Очень ему мой говор нравится: вот, говорит, настоящий хохдойч! Я когда к ним на позиции приезжаю, он меня всегда кофеем угощает.
– Куда приезжаешь? – переспросил я.
– На позиции. Там от Янова, за рощицей, еще одна новая ветка идет. Аккурат к расположению войск.
– Ну это, положим, и без тебя известно! – заявил Коваль, бросив на меня косой взгляд.
– А зато ты не знаешь, где блиндаж кламмеровский стоит! – Старик запальчиво ткнул кривоватым пальцем в сторону разведчика.
– А на кой мне это? – Коваль пожал плечами.
– То-то я и смотрю, вы совсем ихней лабораторией не интересуетесь, – язвительно проговорил дед. – Прям нисколько не интересно!
– Ладно! – Теперь уж я толкнул старика в плечо. – Сейчас схему принесу, покажешь, где твой культурный шарфюрер засел.
– Оберштурмбаннфюрер! – поправил дед. – Полковник. Не шантрапа голозадая. С Железным крестом. Я тебе могу отсюда показать. У него там есть наблюдательный пункт, отдельная комната, прямо на ваши позиции смотрит.
Покоробило меня это его «ваши позиции». Но что взять с полоумного философа?
– Он что, на этой стороне холма живет? – удивился Коваль.
– Да уж, жди! – пренебрежительно усмехнулся Фюрер. – Они там просто весь берег перерыли. Насквозь.
– Пошли, покажешь! – предложил я.
– А чай как же? – забеспокоился дед.
– Пойдем, пойдем. Минут десять потеряешь. Вернемся – он как раз заварится.
– Хлопцы, однако я не понимаю, к чему…
Коваль пресек дискуссию самым действенным методом: просто подхватил старика под мышки и поставил на ноги.
– Пошли, штурмбаннфюрер, дальше говорить будем.
И мы двинулись по тропинке. Я шел замыкающим, периодически погружаясь в едкие облака махорочного дыма, испускаемые стариком. Он семенил прямо передо мной, и его коричневые плисовые штаны, заправленные в стоптанные сапоги, будили ассоциации с крестьянами-ходоками из картины «Ленин в 1918 году».
Мы вышли к крутому склону над рекой и, не сговариваясь, остановились, разглядывая укрепленный берег. Позиции просматривались отсюда как на ладони: дуги окопов, хорды путей сообщения, симметричные наросты дотов и блиндажей – во всем этом ощущалась некая геометрическая красота, присущая, наверное, любой грамотно спланированной фортификационной системе.
Вереница солдат, похожих на трудолюбивых муравьев, тянулась от перелеска к линии окопов. Было время обеда, и в руках каждого бойца виднелся котелок. Там, откуда они возвращались, за деревьями просматривался пузатый серый бок полевой кухни. Я посмотрел на тот берег: в немецких окопах вроде бы происходила какая-то суета, но ничего конкретного разглядеть не получилось. Тоже, наверное, обедают… И я снова удивился этому странному противостоянию: когда и война, и затишье по расписанию.
По узкой тропке, ручейком вьющейся через густую осоку, мы спустились вниз, до крайнего ряда окопов, и спрыгнули в траншею. Ход был довольно-таки глубок, метра полтора, песчаные стенки подкрепляли березовые слеги, дно хранило следы множества сапог.
Изгиб окопа вывел к перекрестку. Здесь с котелком на коленях сидел румяный веснушчатый солдат. Увидев нас, вскинулся, отдал честь.
– А, Серега! – Узнав Коваля, он оживился. – Табачком богат? Разрешите, товарищ лейтенант?
– Извини, весь вышел, – развел руками Коваль.
– На-ка вот, – остановился напротив солдата дед.
Он достал кисет, отсыпал на подставленную бойцом газетку махорки, заодно скрутил еще одну устрашающую козью ножку для себя.
– Фюрер, ты ж только что курил! – напомнил я.
– Подымить – оно завсегда в удовольствие, – заметил дед.
– Вот это верно отмечено, – согласился солдат.
Они прикурили от одной спички, и дальше я двигался в таком дыму, что иногда терял из виду тощую спину нашего Фюрера, вышагивающего впереди. Представил, как это видят с того берега, и улыбнулся – будет у немецкого наблюдателя задачка: решит, наверное, что русские запустили по траншеям паровоз.
Все чаще стали попадаться солдаты, занятые своими нехитрыми делами: обедали, штопали одежду, писали письма. Пару раз при нашем появлении бойцы прятали карты. Из блиндажа выглянул капитан, мы молча обменялись приветствиями. Нас провожали вопросительными взглядами, но в разговоры не вступали.
Наконец показался первый окоп: глубокий, обложенный стругаными бревнами, с высоким, четко оформленным бруствером. Бойцы обедали прямо здесь, поставив котелки на земляной выступ. В углублениях передней стенки через равные промежутки были разложены цинки с патронами и гранаты. Я осторожно выглянул из-за насыпи.
Река текла совсем близко, метрах в пятидесяти. Берег здесь был достаточно крут – голый песчаный склон, усыпанный мелкими воронками. У самой воды, повторяя изгибы камышовых зарослей, тянулось порванное в нескольких местах заграждение – спираль Бруно. На том берегу виднелась такая же проволочная колбаса, а дальше вверх амфитеатром взбегали фашистские укрепления. На позициях немцев росло несколько разлапистых сосен с многочисленными отметинами от попаданий, поблескивающими на солнце свежей смолой. Среди них выделялось одно дерево: могучий рыжий ствол, лишенный кроны, торчал вверх расщепленным обрубком – казалось, что его сжевал какой-то огромный зверь.
– Идем! – окликнул Коваль.
Они уже успели уйти по окопу вправо. Стараясь не наступить на ноги козыряющих солдат, я догнал своих и снова пристроился за Фюрером.
– До ячейки боевого охранения, – ответил Коваль на мой вопросительный взгляд. – Самая ближняя точка. Там и оптика есть.
И он указал вперед, где в стене окопа имелась узкая щель. Мы втиснулись в проход, который буквально через пару метров нырнул под присыпанный землей бревенчатый накат.
Внутри кургузой, тесной ямины пахло речной тухлятиной и прокисшим табаком. Потолок нависал над самой головой, высокому Ковалю приходилось стоять, согнув голову к плечу. В противоположной стене, выложенной все теми же березовыми слегами, располагалась небольшая амбразура. У щели на ящике сидел еле видный в полутьме солдат.
При виде нас он подскочил, сухо стукнувшись затылком о потолок – с тихим шуршанием через щели потек песок.
– Сиди, – бросил я недовольно и подошел к щели.
– Привет, Сергей, – шепотом поздоровался солдат. – Курить есть?
– Нету, Лелик, нету, – равнодушно отозвался Коваль.
– Фюрер, иди сюда! – поторопился выкрикнуть я.
Старик, сопя, пристроился слева.
– Ну?
– Щас, щас, не гони коней, – проворчал дед, всматриваясь в противоположный берег. – Где-кось, значит, оно у нас… Дерево вон, холмик… А!
Обрадовавшись, он дернул меня к себе, и я еле успел отстраниться от душистой бороды.
– Вон видишь, елка растет, с двумя стволами, как рогатка?
– Ну?
– А там дальше, где окоп вверх взбирается? Вон, гляди, в стенке дыра под корнями. Видишь? Вот это оно и есть!
Я сразу же увидел, что имел в виду дед. Фашистский берег поднимался вверх более полого, чем наш, и заканчивался почти вертикальной стеной – как будто целый пласт земли разом просел вниз на несколько метров. Песчаный обрыв, испещренный промоинами и оползнями, топорщился корнями и жесткими пучками травы. Кроме того, в нем зияло несколько широких отверстий, похожих на звериные норы. На одну из таких нор, возле изгиба окопного вала, и указал старик.
– Бинокль есть? – обернулся я.
Из темноты мне прямо в руку всунули тяжелый полевой бинокль. Но большого проку это не принесло: я во всех подробностях разглядел узловатые корни, торчащие из песка, рыхлые отвалы земли у подножия склона… Внутри норы было черно. Зато несколько раз удалось засечь продвигающихся по траншее немцев в серой форме. Заинтересовавшись этим вопросом, я более внимательно оглядел вражеские позиции и пришел к выводу, что взвод снайперов мог бы нанести расслабленно обедающим фашистам сокрушительный урон. Впрочем – напомнил я себе – это не мое дело…
Не успел опустить бинокль, как его тут же выдернули из руки – Коваль, сгорбившись у смотровой щели, прильнул к окулярам.
– А вход у него где? – спросил он.
– С той стороны, – ответил фюрер. – Там у них много понарыто. А сюда он ход вывел, и что-то типа смотровой комнаты у него там. По утрам кофей пьет и позиции осматривает.
– Он главный у них?
– Не, по военной части там другой сидит. Кламмер – он ученый.
– За что же твой ученый Железный крест получил, а? – спросил я.
– Открыл чего-нить важное, – предположил старик.
– Это военная награда, дед.
– Ну не знаю тогда…
– А не мешало бы узнать, прежде чем с фашистом кофе распивать. За те подвиги, за которые их награждают, мы, как в Берлин войдем, каждого второго перевешаем.
– Несправедливо, товарищ лейтенант! – подал из темноты голос солдат.
– Чего несправедливо?
– Что мы, веревки для них пожалеем? Я, если надо, свои портянки на лоскуты изорву, домой босиком пойду, лишь бы ни один ганс без галстука не остался.
– Ты, солдат, на эту тему с товарищем сержантом поговори, – посоветовал я. – У него под началом твой идейный единомышленник служит, ефрейтор Нурбаев называется.
Коваль хохотнул и повернулся к нам. В этот момент старик чиркнул спичкой, прикуривая очередную самокрутку. Вспышка выхватила убогий антураж землянки: рыхлый песчаный пол, узкую лежанку у стены, широкий пенек-сидушку и обитателя этой норы – бледного худого солдата с серым лицом и большими вытаращенными глазами.
– Ты тут бессменно, что ли? – спросил я в шутку.
– С утра заступил, – ответил солдат.
Спичка погасла, и из темноты потек ядреный махорочный дух.
– Пошли отсюда! – скомандовал я, поперхнувшись.
Свет и свежий воздух показались в сто раз прекраснее после пребывания в вонючем схроне. Мимолетом я даже пожалел оставшегося под землей солдата. Но оказалось, что он вылез за нами и уже подставлял под стариковский кисет свернутую кульком бумажку. При нормальном освещении боец вовсе не выглядел обитателем подземелья, да и не бледный он был, просто чуть засыпанный песком. Впрочем, после пребывания под землей мы все оказались припорошены мелкой рыжеватой пылью.
– Ну бывай, – кивнул Коваль солдату. – Мы пошли.
– А на спектакль разве не останетесь? – спросил тот.
– Какой спектакль?
– Да вон же. – Солдат ткнул нам за спины.
Я обернулся и вздрогнул. Невдалеке, чуть покачиваясь, неспешно плыло над землей зловещее чучело: набитый соломой немецкий китель, увенчанный мятым жестяным ведром с лихо заломленной эсэсовской фуражкой. Судя по черной челке, выбивающейся из-под козырька, и штрихам-усикам, намалеванным над пробоиной в ведре, изображающей рот, чучело претендовало на роль Гитлера. Косвенно об этом свидетельствовала и табличка, надетая на его шею: «Hitler Kaput».
– Наш спектакль весь полк ходит смотреть! – с гордостью заявил солдат.
Не сговариваясь, мы двинулись поближе к чучелу и вскоре увидели обслуживающий персонал: один солдат нес длинную палку с Гитлером, следом шел второй боец с красным рупором, на котором белели трафаретные цифры «03». За их спинами в ходе сообщения толпились солдаты, множество радостно улыбающихся голов высовывалось из верхних окопов, и даже на холме виднелись зрители, причем, как мне показалось, в офицерской форме.
Гитлеровод тем временем воткнул палку в дно окопа и принялся плавно раскачивать чучело из стороны в сторону. Второй боец выставил рупор над бруствером и набрал в грудь побольше воздуха.
– Faschistischen Schweine! Alles kaput! Sie wird sterben![6] – покатился к немцам отдающий металлом истеричный вопль.
Я посмотрел в сторону немецких позиций – и снова вздрогнул. Над их передним краем медленно поднялось в воздух ответное чучело: серый френч, голова из мешковины и фуражка с красным околышем. Под палкой, изображающей нос, торчали пышные усы. На случай, если усов окажется мало для узнавания, в правой руке чучела имелась большая дымящаяся трубка.
– Рюсськи свин! В сибир! Расстеляйт накуи! – долетел до нас грозный бас.
– Третий год воюют, а русский выучить не могут! – посетовал за моей спиной дед. – Культурная ж нация была, куда все подевалось? Стыдно!
Он решительно протиснулся между мной и стенкой окопа, подошел к солдату с рупором, дернул его за рукав гимнастерки и что-то сказал. Солдат недоуменно уставился не невесть откуда взявшегося старика, потом покосился в мою сторону и, поколебавшись, отдал ему рупор.
– Russisch lernen, die Dummkopf, in der Hölle alle Inschrift auf ihm![7] – проорал дед в сторону немцев.
Фашистское чучело заметно дернулось и медленно завалилось на спину. Несколько секунд над рекой стояла тишина. Потом над водой разнесся тоскливый вопль:
– Es ist nicht wahr![8]
С немецкого берега ударил одинокий выстрел. Кто-то из наших ответил. И понеслось. Пули засвистели над окопами, песчаные фонтанчики вздыбились на бруствере. Перестрелку энергично подхватили пулеметы. Сверху несколько раз грохнуло, и на том берегу расцвели песчаные разрывы. Над нашей головой раздался противный вой, и вдруг земля ушла из-под ног – я повалился на старика, а сверху нас накрыл тяжелый вал песка.
– Ну а зачем ты его на позиции-то потащил? – проворчал шеф, снова усаживаясь за стол.
– Как зачем? Чтобы он мне показал, где там этот Кламмер сидит.
– И что? Ты его прямо оттуда выкрасть планируешь?
Да… Я поморщился. Действительно, зачем мы туда потащились-то?
– Ну вдруг будет наступление! – привел я не очень убедительный аргумент.
– Не будет тут никакого наступления, – помотал головой шеф. – В ближайший месяц точно. Тем более, как я понял, у тебя другой план?
– Ну да, я же докладывал. Фюрер… то есть старик этот, машинист. Я его обратно переправил. Он нам поможет этого Кламмера схватить.
– Нам поможет или им? С чего ты взял, что он будет на нас работать? Он же немец.
– Он русский немец. И зверье это не меньше нашего ненавидит.
– А в чем его роль? Ты без него не выяснишь, где эта ихняя лаборатория?
– Есть у меня насчет него еще одна мыслишка. И вообще…
– Вот именно! Вообще! Обсудить со мной не посчитал нужным?
– Если бы я его не отправил, его бы у нас забрал этот Дерюгин.
Полковник вздохнул и, бросив на стол фуражку, устало провел ладонью по бугристому черепу. Я тоже вздохнул и уселся напротив. Посмотрел на часы – начало седьмого вечера. А казалось, что сейчас глубокая ночь: прежде всего, наверное, из-за тусклого освещения в землянке. Ну и событий за день произошло предостаточно.
– Про этого лейтенанта Андреева что-то выяснили? – спросил я, чтобы разбавить унылую тишину.
– Весьма мало. – Мощин дернул щекой. – Полк наскребали по сусекам, сам знаешь, так что в плане личного состава тут у нас сборная солянка. Твоего Андреева зацепили в Киеве на распредпункте. Только из госпиталя явился.
– А до этого где служил?
– Вот тут у меня полный послужной список.
Шеф, покопавшись в одной из папок, протянул мне несколько листов. Я убрал в планшет, поблагодарил. И снова замолчали.
– В госпитале он лежал вместе с твоим сержантом Ковалем, – сказал вдруг шеф.
И пристально уставился на меня. Я почесал нос, чтобы закрыться от этого взгляда. Нет у меня никакого желания трясти Коваля… Ни желания, ни возможностей. Но вот как объяснить шефу, что нельзя подозревать товарища, вместе с которым воюешь?
– Тут, наверное, половина личного состава из киевских госпиталей, – пробормотал я недовольно.
– Это точно! – внезапно согласился Мощин. – Но Коваль вместе с Андреевым ехал в эшелоне, что разбомбили под Прилуками. В мае месяце. Тоже совпадение?
– Не знаю. Спрошу.
– Спроси, спроси, – покивал Мощин, все еще разглядывая меня в упор. – Боевые соратники должны быть друг с другом откровенны, правильно?
За спиной скрипнула дверь. Я обернулся и в первый миг испытал облегчение: неприятный разговор придется прервать. Но тут же осознал: предстоящий разговор, пожалуй, будет еще неприятней.
В землянку вошел полковник Казначеев, командир нашего 1078-го полка. Я вытянулся по стойке «смирно», вскинув руку к фуражке. Краем глаза увидел, как медленно и печально поднялся над столом Мощин.
Полковник Казначеев принадлежал к тому типажу, который в агитках именуют «орлами-командирами». Во всем его облике чувствовалась армейская закваска: невысокий, поджарый, со строгой выправкой, худое скуластое лицо украшено аккуратными рыжеватыми усами. Было ему под пятьдесят, но возраст выдавал только взгляд – умный и усталый.
Полковник молча прошел к столу и осторожно, будто опасаясь, что может упасть, опустился на мой стул. Шеф тоже сел. Я остался стоять.
– Чего вы тут с комиссаром не поделили? – спросил комполка.
Манера речи у него соответствовала внешности: тихий, спокойный голос, в котором нет-нет да и проскакивал басовитый командный «потенциал».
– Да вот, – иронично хмыкнул шеф. – Грозился на нас члену военного совета нажаловаться.
– Федор Степаныч, я же просил вас… – упрекнул Казначеев.
– Прощенья просим, Сергей Аристархович, – развел руками Мощин. – По-мирному не получилось. Сам понимаешь, не в моих интересах заострять, но хамства терпеть я не буду.
– Хамства? – Полковник удивленно вскинул бровь.
– Именно! – кивнул шеф.
– А я думал, по хамству у нас тут уже есть специалист. – Казначеев со злой усмешкой кивнул в мою сторону. – Но оказывается, что и комиссар не подарок, да?
– Сука он, – буркнул я себе под нос.
Но Казначеев, видимо, услышал. Нахмурился, покрутил ус. Достал папиросу, размял в пальцах.
– Мы с Дерюгиным из-под Киева в 41-м выходили… – прикуривая, сквозь зубы сказал Казначеев. – Я ротой командовал. А он тогда тоже комиссарил. В 45-м пехотном. Так получилось, что выходили вместе. Человек двести нас прибилось под его командование. Вы знаете, что было под Киевом?
Мощин коротко кивнул.
– Ну вот, – протянул Казначеев. – Решили прорываться к нашим. Почти все раненые. Но зато два полковых знамени сохранили. Четыре дня шли. Несколько раз бой принимали. В последний момент, когда через линию фронта прорывались, Дерюгин с добровольцами, человек двадцать, остался прикрывать. Долгое время думал, что погиб он тогда. Но оказалось, вытащили. Четыре ранения, одно, можно сказать, смертельное. Поэтому его так и раздуло, раньше-то посуше меня был…
Полковник замолчал, посасывая папиросу. Глаза его потухли, затуманились: видно, вспоминал ту осень сорок первого года, которая для страны чуть не закончилась катастрофой…
– В Киеве у Дерюгина семья осталась. Не смог вывезти. Жена – еврейка. Трое детей. Без вести пропали. А его после госпиталя комиссовали подчистую. Долго бился с эскулапами, просился на фронт. Как раз, когда вот этот мой полк сколачивали, я его встретил. Объединенными усилиями дожали медкомиссию – и вот снова служим вместе. Чем я очень горжусь.
Полковник затянулся, впечатал окурок в пепельницу и первый раз с момента появления в землянке взглянул прямо на меня:
– Так кто из вас сука, лейтенант?
Он поднялся, кивнул нам и двинулся к выходу. Возле самой двери обернулся:
– Рапорт комиссар писать не будет. Я соврал ему, что у лейтенанта Зуева было очень важное и очень секретное задание.
Полковник вышел, а мы с шефом стыдливо переглянулись, как нашкодившие школьники. Я уселся на место Казначеева, достал папиросу. Мощин, рассматривая стол, тоже прикурил. На скулах его расплывались малиновые пятна. И тут я понял, что надо делать.
– Шеф, я сейчас вернусь!
Мощин уставился на меня и сразу догадался – в плане угадывания по лицу у него был талант.
– Давай! – облегченно улыбнулся он.
Выскочив из землянки, я быстро пошагал к штабу. Вечерело, солдаты гасили разведенные по краю поляны костры. Перекликались поздние птицы, за перелеском, над позициями, в темнеющем небе уже висела одинокая осветительная ракета.
У комплекса командных землянок я замер, но быстро сориентировался, сбежал по ступенькам и толкнул дверь. Обиталище комиссара состояло из двух комнат – в передней посредине стоял низкий стол, окруженный дубовыми чурбачками, а дальше, за перегородкой, располагались личные покои.
Сейчас в землянке был только один Дерюгин. Он стоял у стола, склонившись над картой. Увидев меня, удивленно выпрямился.
– Товарищ майор, разрешите обратиться? – решительно, пока не угас порыв, выпалил я с порога.
Глава 14
3 октября 2016 года. Чернобыль
Мы подходим к железной двери. Маленький иллюминатор, прикрытый занавеской, освещен – Хирург у себя. Я оглядываюсь на товарищей, они кивают. Колочу по металлу кулаком. Спустя полминуты щелчок – дверь открывается.
– Что надо? – Хмурое лицо Хирурга выглядывает в коридор.
– Амулет Армады и кое-какая информация, – заявляю я.
Да, вырвалось… Думали-думали, целую стратегию беседы разработали, роли распределили. Но как-то вот само получилось. Возможно, так даже лучше: Хирург не дурак, с Хирургом хитрить тяжело.
– Ты, Глок, умом тронулся? – интересуется он, вскользь оглядывая моих друзей.
Да, умом тронулся – иначе не скажешь. Сунуться ночью в Зону. И причем второй раз! Я еле различаю в темноте ее силуэт. Идем по тропинке примерно в направлении Припяти. Рядом сопит Чапай. У него ПНВ, и он, надеюсь, различает обстановку намного лучше. Мы отпустили ее вперед шагов на пять – чтобы не мешать и не отвлекать. Не знаю, впрочем, насколько применимы эти понятия к шатунам.
– Видимо, она на шоссе выйти хочет, – шепчет Чапай.
Шелестят невидимые деревья. В небе острый, по-зимнему холодный месяц. Ветерок подтаскивает с болот запахи гнили и еще чего-то неуловимо знакомого. Подошвы ее кедов размеренно мелькают впереди. Совсем недалеко в траве возится кто-то крупный.
– Глок, а ты уверен, что она ведет нас куда надо?
– Я вообще не уверен, что она нас ведет.
Тропинка забирает в гору. На вершине холма располагается шоссе, про которое говорил Чапай. «Дорога желаний» – так его называют. Потому что это шоссе ведет прямиком к АЭС. Точнее, вело. Если пойдем по нему – хорошо. Асфальт там не в лучшем состоянии, но это все же намного легче, чем идти по пересеченной местности.
Тропка становится все круче. Начинает петлять зигзагами. Из-под ног осыпается земля, невидимые камни с сухим шипением скатываются в траву. Она идет легко и бесшумно. Мы порывисто дышим – подъем дается нелегко.
И вот наконец ржавая полоса отбойника. Помогаю Чапаю перелезть через заграждение. Здесь значительно светлее, чем в низине. Оглядевшись, замираю, буквально завороженный зрелищем.
Мы стоим на вершине высокого холма. Перед нами расстилается темная долина. Над землей течет туман, скапливаясь у черных пятен перелесков. То там, то здесь в черноте мерцают багровые точки, как угольки забытых костров. Еле заметно пульсируя, дрожит в низине бледно-зеленое марево. Зона живет своей ночной жизнью.
Тот, кто не видел Зону, кто не дышал ее воздухом, – тому не понять этой жуткой красоты, пропитанной страхом и абсолютной свободой. Свободой от всего – от логики, от времени, от законов физики. Сюда приезжали за наживой, но оставались именно из-за этой атмосферы. Не все – далеко не все – могли ее почувствовать. Мало кто оказывался способен увидеть красоту в залежах ржавого железа, в заброшенных поселках и разбитых дорогах… Но те, кому удавалось разглядеть настоящий лик Зоны за ядовитой грязью болот, за смрадом гниющей плоти, разбросанной вокруг аномалий, за уродливым оскалом мутанта, выскочившего из кустов, – те оставались тут навсегда…
За нашей спиной, на склоне, сухо хлопает – сбитый подошвой ком земли угодил в «разрядник», синяя вспышка на миг выхватывает из темноты рваный, увитый трещинами асфальт и пучки придорожных кустов. Я вздрагиваю, Чапай шепотом матерится. В воздухе растекается запах озона.
Спохватываюсь, испуганно озираюсь по сторонам. Но нет – вон она, идет по самой середине дороги. Шоссе уникально тем, что почти из любой его точки видна труба четвертого энергоблока. Точнее, была видна. Трубы давно нет. Но сейчас вместо нее – тонкий женский силуэт с распущенными по ветру волосами. Переглянувшись с Чапаем, мы бросаемся вдогонку.
– Плевал я на вашу Армаду, – говорит Хирург. – Мне нет до нее дела.
– То есть ты отрицаешь, что был Стражем? – спрашиваю я.
Мы сидим за столом напротив Хирурга. И в три пары глаз пристально смотрим на него. Хирурга это нисколько не смущает – он держится равнодушно, разглядывая нас в ответ с легкой брезгливостью. Стол традиционно заставлен банками, колбами и ретортами. В углу, внутри вытяжного шкафа, дымит какой-то прибор, монотонно помаргивает огоньками: два раза зеленым, один раз красным. В паузах разговора слышно, как сверху нудно гудят лампы дневного света.
– Я прежде всего не обязан тебе ничего ни отрицать, ни утверждать, – говорит Хирург с мерзкой улыбкой. – Так что, ребята, разговор этот лишен смысла.
– Отдай амулет, мужик! – просит Чекист.
Хирург отвечает коротко и грубо. Чапай придерживает рукой друга, начавшего было подниматься. А меня это нисколько не злит. Почему-то я совершенно спокоен за исход разговора. Вот черт его знает – почему, но уверен: сейчас Хирург немного поломается и отдаст кристалл. Я даже знаю, где он его хранит – вот в том сейфе, на нижней полке. Непонятная такая уверенность, иррациональная, и я проверяю свои ощущения, сообщая о местоположении амулета Хирургу. Он на секунду меняется в лице. Ну вот, значит, я прав.
– Предположим, у меня есть то, о чем вы говорите, – все еще разглядывая меня, произносит Хирург. – Но с чего вы решили, что я вам его отдам?
– А на хрена он тебе? – спрашивает Чекист. – Сам же говоришь, что тебе плевать на Армаду.
– Начнем с того, горячий ты мой, что Армада тут совершенно ни при чем. Если вы знаете о существовании артефакта, который называете «амулетом», то, наверное, знаете и про свойства, которыми он обладает. Отпугивание мутантов, ускоренная регенерация тканей и, судя по всему, замедление процессов старения организма. Каким надо быть дураком, чтобы отдать такое сокровище трем безмозглым амбалам?
– «Амбалов» пропускаем, – говорит Чапай. – А если мы у тебя его купим?
– Что сделаем? – Хирург издевательски подносит ладонь к уху. – Купим? Это как? За те зеленые бумажки, ради которых вы всю жизнь друг другу глотки грызли? А на хрена они мне теперь?
– Никто тебе деньги не предлагает, – отвечает Чапай. – У нас есть другие артефакты. Давай меняться.
– Поверь мне, сталкер, во всей Зоне нет ничего ценней этого амулета. Да что в Зоне – во всем мире. Хотя от него вашими стараниями мало что осталось. Так что не надейтесь на Армаду и лучше идите копаться в том дерьме, которое заслужили.
– О чем это ты? – непонимающе хмурится Чапай.
– О новом прекрасном мире. Чего добивались – то и получили.
– Все виноваты, а ты не виноват, – вставляю я.
– А я-то тут при чем? – пожимает плечами Хирург.
– Тебя поставили защищать, а ты лоханулся, – сказал я.
– Что могут сделать три человека против бесконечного стада придурков, рвущихся напролом? У вас же были неистощимые ресурсы подонков. Я не про сталкеров. Сталкеры – мелочь. Я про других, за которыми стояли целые государства. Они тоже дохли пачками, сходили с ума, калечились, загибались от излучения. Но на их место приходили новые. Итог был предопределен.
– Если ты был так уверен в бесполезности борьбы, зачем же согласился охранять Армаду?
– Я не соглашался. Все было совсем по-другому.
– А это неважно. Важно, что у тебя были обязанности. И ты мог бы от них отказаться, уйти. Но ты предпочел остаться. Видимо, потому что «во всей Зоне нет ничего ценней амулета». И чем ты лучше нас?
Тут настает очередь Хирурга с ненавистью во взгляде приподниматься со стула. Но у него нет друга под боком, поэтому ему приходится сдерживаться самостоятельно. Совладав с эмоциями, он усаживается обратно.
– Я честно служил Армаде, Глок, – сообщает он холодным тоном. – Я делал все, чтобы отсрочить закономерный финал. Но в том, что рано или поздно он наступит, не сомневался.
– Почему? – спрашивает Чапай.
– Еще у древних было представление об истории как о движении от лучших времен к худшим, от Золотого века к полной жопе. В детстве я удивлялся: откуда у предков такой пессимизм? Повзрослев, понял – все логично. Чем больше народу, тем больше зла в мире. Вся история человечества – это история разрушения.
– Ну не гони, пессимист! – говорит Чекист. – Ты же не будешь отрицать прогресс?
– Параллельно с прогрессом всегда шла работа над оружием, способным этот прогресс уничтожить. Если бы не активизировали Армаду – поверь, вскоре мы бы раздолбали друг друга атомными бомбами. Вариант с Армадой значительно лучше, потому что гуманнее: раз – и все. Почти все. К сожалению, сейчас есть серьезный шанс на то, что человечество опять восстановится.
– Выжившие-то в чем виноваты, за что их ненавидеть? Что мы лично тебе сделали?
– Вы себе сделали, не мне. Знаешь, когда я понял, что действительно ненавижу вас? В прошлый Новый год. Да, когда тут устроили праздник. С елкой, увешанной артефактами, с подарками, с песнями из мультиков, что вы спьяну горланили. Не понимаете, да? Вы выжгли весь мир! Сами остались только по недоразумению. Потому что в свое время приспособились к Зоне, потому что научились выживать в самом лютом дерьме. И снова выжили. Вылезли из своих нор. Огляделись. И потихонечку начали обживаться. Как ни в чем не бывало. Семь миллиардов человек за одну секунду превратились в грязь. А те, кто остался, празднуют Новый год.
– А что надо делать? – интересуется Чапай. – Застрелиться?
– Застрелиться, – кивает Хирург. – Или утопиться. Или еще как. Вы уже попробовали поиграть в цивилизацию – хватит. Дайте шанс другим. Возможно, через миллион лет те мутанты, которых вы отстреливаете, смогут создать свою цивилизацию.
– Или шатуны, – подаю я реплику.
– Или шатуны, – соглашается Хирург, подмигнув. – Ты тоже заметил, да?
– Заметил. Твой особый к ним интерес.
– У тебя не меньше, как я погляжу, – пристально глядит на меня Хирург. – Или тебя интересует только один экземпляр? Я не могу сказать, что они разумны. В нашем, человеческом, понимании. Но у них, безусловно, есть какое-то самосознание и взаимодействие с внешним миром. И они больше не люди – это самое обнадеживающее. Вот я и думаю: вдруг Армада создала новый тип живых существ? Чтобы при их помощи начать все сначала?
– Ну так вот, дорогой человеконенавистник, – говорит Чапай, поднимаясь. – Твой друг Стратег просил передать тебе от имени всех шатунов Зоны и ее окрестностей, что они не хотят ничего начинать сначала. Они очень хотят вернуть все обратно.
– Мой друг Стратег не может никому ничего передать, сталкер, – брезгливо морщится Хирург.
Тогда Чапай достает амулет и кладет на стол перед ним. Хирург долго, очень долго смотрит на кристалл. В тишине гудят лампы под потолком. Шипит прибор, подмигивая огоньками. Проходит не меньше минуты. Мы уже начинаем беспокойно переглядываться. Наконец бывший Страж поднимает голову. Чапай только этого и ждет.
– Это ты виноват в том, что произошло, – говорит он, подавшись вперед всем телом. – Ты не смог защитить Армаду. Отдай нам амулет. Мы попытаемся все исправить, а ты останешься здесь и будешь спокойно исходить желчью.
– Вы не сможете ничего исправить. – Голос Хирурга звучит сипло.
– А мы попробуем.
– Вы не сможете ничего исправить.
– Послушай, мужик, – встревает Чекист. – Вот ты тут сидишь, обиды через губу сплевываешь. И сиди себе на здоровье. Мы тебе не мешаем. Ты нам тоже не мешай. Отдай кристалл, и все. Что ты как собака на сене? Ну не подохли все разом, что ж теперь? В конце концов, мы сейчас к Армаде сунемся, и, может быть, на трех разрушителей мира меньше станет.
– Откуда у вас амулет?
Я замечаю, что лицо Хирурга изменилось, сейчас у него какой-то больной вид: на щеках красный румянец, глаза горят лихорадочным блеском. И он избегает смотреть на нас.
– Я же тебе сказал, Стратег дал, – отвечает Чапай.
– Не мог он ничего вам дать. – Хирург быстро поднимает и тут же отводит глаза.
– А это вот подарок от Болта, – говорю я, кладя рядом с амулетом Чапая свой.
– Где Болт? – Хирург вскакивает.
– В Зоне.
В Зоне тихо. Я осознаю это внезапно. Нет, разумеется, это не тишина в привычном смысле: шумит ветер, хлопают и трещат далекие аномалии – все это есть, но всего этого мало. Каждый знает, как звучит ночная Зона. И вот сейчас недостает одной существенной детали: признаков жизни. Мутанты, твари – охотники и жертвы – их противостоянием наполнены все ночи. Они рычат, воют, визжат. Конечно, не как в джунглях… Но мы уже полчаса идем по дороге и еще ни разу не слышали крика ни одной твари. Словно они все вымерли. С одной стороны – это хорошо. Но с другой стороны – хреново. Есть такая сталкерская мудрость: если вокруг что-то не так, значит, где-то притаилась жопа.
– Чапай, – говорю тихо. – А где все?
Напарник шагает по левую руку, чуть сзади. А впереди – идет она. Все так же посередине дороги, все такая же размеренная и легкая походка. И все так же сверкают белые подошвы.
– Чего? – вполголоса переспрашивает Чапай.
По голосу я понимаю, что сталкеру очень и очень не по себе. Мы как раз начинаем спускаться в низину, к мосту через речку. Мост выглядит в ночи белой заплаткой на черной ленте дороги. В левом полосатом отбойнике чернеет разрыв. Потому что в этом месте ограда разрушена. Сейчас невозможно разглядеть, но я знаю, что внизу в реке валяются груды искореженного металла: несколько «КамАЗов», БМП и еще какая-то техника. Воинская колонна, проходя через мост, внезапно поменяла направление, не сбавляя скорости, пробила отбойник и слетела вниз. Я был в числе тех, кто бросился к месту событий за оружием и прочим хабаром. И я видел лица погибших: спокойные и странно безмятежные, на многих даже застыли улыбки. Но главное – мертвы были все, в том числе те, у кого на теле отсутствовали серьезные повреждения.
Чапай тоже помнит о воинской колонне. Поэтому у него такой напряженный голос. Плохое это место. На самом-то деле без особой необходимости мы здесь не ходим, стараемся выбирать другие пути. Но она ведет нас именно к мосту. А за мостом будет завод «Сатурн». И разрушенная сталкерская база. Та самая. Не очень удачное время, чтобы делиться своими опасениями, но лучше все же предупредить.
– Ни одна тварь в ночи не орет, – сообщаю товарищу.
– Точно! – после небольшой паузы признает Чапай.
Мост совсем рядом. Мы попадаем в область холодного воздуха. И уже слышно, как журчит вода, обтекая опоры. На той стороне темнеет рощица – дорога разрезает ее пополам. Шоссе на мосту сужается, протискиваясь между отбойниками. Мы с напарником тоже неосознанно сдвигаемся друг к другу.
Чапай оборачивается и тут же, вякнув что-то панически-нечленораздельное, вскидывает дробовик. Я автоматически встаю спиной к его спине и навожу ствол на темноту. Сероватая полоса шоссе теряется в ночи. Там ничего не видно.
– Ты чего? – бросаю, не глядя.
– Они здесь! – шепчет Чапай.
У него ПНВ, и он что-то видит.
– Кто они?
– Твари.
До боли в глазах буравлю темноту. На самой грани восприятия удается разглядеть какие-то двигающиеся тени. Странно, но я не испытываю почти никакого страха. Намного сильнее меня сейчас беспокоит, что пока мы стоим – она уходит все дальше.
– Сколько их?
– Все! – сдавленно заявляет Чапай.
Мы стоим, замерев перед мостом. А она все дальше и дальше. Что будет, если она сейчас свернет с дороги куда-нибудь в сторону?
– Что делаем? – спрашиваю напарника. – Чего не шмаляешь?
– Тут и пулемет не поможет.
– У меня амулет! – напоминаю Чапаю. – Они нас не тронут.
– Уверен?
– Во всяком случае, пока не тронули. Пошли.
Но Чапай не может сдвинуться с места. Все его сталкерские инстинкты противятся этому. Я его прекрасно понимаю. На самом деле, я сейчас понимаю его намного лучше, чем себя. Потому что от себя такого пренебрежения к опасности я никак не ожидал. Может быть, потому что я не вижу, кто там в темноте? Как будто просто отключили часть эмоций. Зато другую часть усилили: чем дальше она уходит, тем больше меня охватывает паника.
– Пошли!
Я хватаю Чапая за разгрузку и волоку за собой. Первое время он пятится задом, продолжая целиться в ночь. Спотыкается через шаг, пару раз чуть не падает, но все еще грозит темноте стволом.
– Быстрее! Быстрее! Не нужен ты им.
– Да как не нужен! Хрен ли они за нами тащатся тогда?
Я перехожу на бег, и ему волей-неволей приходится развернуться, чтобы не упасть.
Асфальт заканчивается, под ногами хрустит раскрошившийся бетон. В ночи он кажется совсем белым. Из-под слоя каменной крошки торчат черные жилы арматуры, как вены сквозь кожу утопленника. Чапай постоянно оборачивается, матерясь сквозь зубы, зачерпывает берцами щебень.
– Хватит! – Мне надоело тащить его почти что волоком.
– Какой хватит! Там, по ходу, вся Зона. Некоторых уродов я и не видел ни разу!
Я останавливаюсь, поворачиваю его к себе, встряхиваю за плечи.
– Не нападут! Сто раз бы уже напали!
Шумит внизу река, сухо трещат шаги. Пахнет тиной и сырой ржавчиной. Внизу раздается всплеск – то ли камень сорвался, то ли рыба прыгнула. Любой шум здесь звучит как-то очень четко, резко, не растекается в стороны, а будто бы зависает над дорогой. На той стороне шипит под ветром рощица. Колко светят звезды, мерцают над головой. Месяц, зацепившись рогом за край горизонта, из последних сил держится на небе.
Чапая наконец-то отпускает. Он подхватывает ритм, мы бегом преодолеваем последние метры моста. Испытываю облегчение, что под ногами больше ничего не шуршит и не трескается. Но это продолжается недолго: сзади поднимается еще больший хруст – Зона следует по пятам. Чапай снова разворачивается.
– Отставить! – дергаю его за ствол обратно.
Ее нет, дорога пуста. Пока мы там крутились – упустили! Но тут же я понимаю, где ее искать. Не то чтобы понимаю… скорее подходит сказать – осознаю.
– Знаешь, куда нам?
– Куда?
– На «Сатурн».
Чапай сразу забывает о преследователях.
Хирург молча встает и уходит.
– Куда это он? – спрашивает Чекист.
– За водкой! – уверенно отвечаю я.
И точно. Порывшись в шкафу, Хирург возвращается, неся в двух руках объемную бутыль зеленого стекла с плоской притертой пробкой.
– Что это? – подозрительно щурится Чекист.
– Конский жопораздиратель. – Хирург веско ставит бутыль на стол. – Одна капля на табун.
Порывшись в залежах химической посуды, выбирает более-менее однокалиберные мензурки. На двух сбоку имеется мерная шкала. Вынув пробку, разливает. Напиток прозрачен, что немного успокаивает.
– Как про Армаду разговор заходит, так все время пьянка, – отмечает Чекист одобрительно.
– Видимо, Армада тоже русская, – предполагает Чапай, нюхая мензурку.
– Русская, точно, – подтверждает Хирург.
– Ну, давайте тогда за Армаду, – предлагаю я тост.
Выпиваем. Нет, не водка, крепче. Видимо, разведенный спирт. Морщусь, занюхиваю рукавом. Врачи и спирт – привычная комбинация, своего рода традиционный союз. Даже апокалипсис не смог отнять у докторов спирт. Хирург достает из-под стола упаковку сухпая, бросает на стол.
– Так отдашь амулет? – Голос у Чекиста после спирта сиплый, как у алкаша.
– Отдам, – кивает Хирург.
И наливает по второй. Я в это время вскрываю пакеты. Пьем, закусываем, закуриваем.
– А что вы, собственно, хотите от Армады? – спрашивает Хирург.
Вопрос застает нас врасплох. Мы переглядываемся. А действительно, чего хотим-то? Что мы, собственно говоря, знаем об Армаде? Кроме того, что она есть? Что она якобы выполняет желание? Посмотрит Хирург на нас, покрутит пальцем у виска и не отдаст амулет…
– Мы не знаем, – признаюсь честно. – Мы не знаем, что такое Армада и на что она способна… Но если она способна разрушить мир, возможно, она сможет вернуть все обратно.
Хирург вскидывает голову и буквально втыкается в меня взглядом. Не то сказал? – первая мысль. Но тут же понимаю, что каким-то образом мне удалось сказать именно то, что надо. Я буквально чувствую эмоции Хирурга: понимаю, что сейчас мне удалось его поразить.
– А ведь я идиот! – с чувством заявляет Хирург.
– Согласен! – с готовностью поддерживает Чекист.
– Я идиот. Ведь это же реальный шанс. Именно что «вернуть обратно»!
– Ты о чем сейчас? – Я никак не могу понять, что его так возбудило.
– Я понял, как можно использовать Армаду, чтобы попытаться все исправить.
– Она действительно может выполнять желания? – интересуется Чекист.
– Знаешь, откровенно говоря, Стражи имеют представление об Армаде ничуть не больше других. Да, мы видели ее, когда представлялись. Да, были внутри. Но и только. Никакого знакомства, в человеческом понимании, не было. Это… словами рассказать сложно. У нас была какая-то ментальная связь…
– Что ж, вы охраняли не пойми что, не пойми зачем? – спрашивает Чекист.
– Не пойми зачем – это вы сейчас к ней идете. Как придурки. А мы прекрасно представляли зачем. Чтобы такие, как ты, не добрались до пульта управления Землей, понял? Нам не разъясняли задачи, с нами не проводили разъяснительную работу. Мы просто поняли, что здесь – центр. Сердце. Центральный процессор всей системы мироздания. Если до него кто-то доберется – всем хана. И мы защищали.
– Отстреливали сталкеров?
– Что Армаде сталкеры! Ты сам со своим другом убедился, что, даже если доберешься до АЭС, дальше не пройдешь. Мы пытались помешать серьезным дядям. Вот у них были и средства, и возможности не только разрушить защиту, но и воздействовать на саму Армаду. Последствия вы сами видели…
– Это из-за их экспериментов возникла Зона? – спрашиваю я.
– Именно. В тот, первый раз им тоже удалось достать Армаду. И они попытались взять на себя управление… Это как дать компьютер первобытному человеку: он будет лупить каменным молотком по клавиатуре и с любопытством наблюдать, как меняются циферки на мониторе. Научникам удалось «лупануть молотком» только один раз. Потом рванул реактор. Но этого хватило, чтобы появилась Зона. Говоря современным языком, они вызвали сбой в программе, изменили настройки мироздания. Возникла искаженная реальность, где привычные законы физики работали с ошибками… Само пространство в Зоне изменило свою структуру. Кстати, реактор рванул именно из-за этого. Но они, как видите, не испугались. Оправились, зализали раны, вооружились молотком покрупнее – и во второй раз лупанули поточнее, от всей души.
– А что ж вы их не остановили? – спрашивает Чапай.
– Надо было раньше, понимаешь? А мы начали только после Катастрофы. Время уже было упущено. Вот если бы вмешаться с самого начала. Когда только был создан «Спецпроект».
– Кто?
– «Спецпроект». Что-то типа закрытого НИИ. По изучению чернобыльского аномального образования.
– Зоны?
– Тогда еще Зоны и в помине не было. «Спецпроект» возник в конце сороковых. Когда наши обнаружили тут секретную лабораторию «Туле». Слыхали о таком?
– Оккультное общество в фашистской Германии, – говорит Чапай.
– Они первые нашли Армаду. Не знаю, как. Но лишь только немцы оккупировали эту территорию, здесь был развернут проект под названием «Колокол».
– Слышал я об этом проекте, – кивает Чапай.
– Он вообще специалист по «фашистской» теме, – хвалится другом Чекист.
– И что ты слышал о «Колоколе», специалист? – Хирург с иронией глядит на сталкера.
– Ну, всякое… – тянет Чапай неуверенно. – Что опыты с антигравитацией проводили и так далее. Много было версий.
– Чушь! Никакой антигравитацией они не занимались. И никаких летающих тарелок не строили. Во всех этих версиях единственное здравое зерно – что это немецкий проект. И все.
Хирург прикуривает новую сигарету от окурка и продолжает:
– Фашисты хотели пробить брешь в защитном поле Армады. Но у них тогда не получилось, мощности не хватило. А наши додумались построить атомную станцию. И наконец-то запустили установку на полную мощность…
– Откуда ты все это знаешь? – задает вопрос Чапай.
– Не вы одни любите лазать по лабораториям, – отвечает Хирург со странной интонацией.
– Так это ты тогда был? – таращит глаза Чекист.
Они с Чапаем переглядываются и внезапно начинают хохотать. Хирург несколько секунд пытается сдержаться, потом присоединяется к ним: смеется он неумело, как-то подвывая, – видно, что человек давно этим не занимался.
– Неужели мы тебя даже не зацепили? – отсмеявшись, спрашивает Чекист.
– Как не зацепили?! Неделю кровью харкал. Ты знаешь, сколько весили те ящики?
Они снова смеются. Я непонимающе перевожу взгляд с одного на другого.
– Оказывается, это мы с ним в Х17, в лаборатории, встретились, – поясняет мне Чапай. – Решили, что мутант какой-то. Потом только Чекист сомнениями поделился: говорит, очень этот мутант на человека был похож, зря мы на него стеллаж опрокинули.
– Х17 – это та лаборатория, немецкая? – спрашиваю Хирурга.
– Да, та самая, – кивает он. – Она практически не повреждена осталась. Только сам «колокол» разрушился. Все архивы, все документы уцелели.
– Мы тоже за ними лезли, – говорит Чекист. – Между прочим, за эти файлы столько бабла обещали, что я планировал после этой ходки со сталкерством завязывать. Там, за периметром, вокруг этой лаборатории такой кипеш был! Они туда полгода пробивались, чуть ли не роту военсталов положили…
– А вы-то как в Х17 забрались? Все же заблокировано, тоннели разрушены.
– Не ты один любишь пользоваться пространственными разломами, – копируя интонацию Хирурга, отвечает Чапай.
– Умно, – кивает Хирург. – Молодцы. Думаю, за сходную цену вы бы и Армаду им принесли, да?
Чапай не выдерживает вгляда Хирурга, отворачивается.
– Ладно, – переводит тему тот. – Им по большому счету эта лаборатория на хрен не сдалась. Они чисто за режим секретности переживали. Вдруг американцы доберутся и первыми мир разрушат? Это же какой удар по престижу страны! Поэтому пришлось форсированными темпами сооружать четыре новые установки…
– По граням Армады, – вставляет Чапай.
– Точно.
– А вы им мешали? – спрашиваю я.
– А то! – самодовольно кивает Хирург. – Еще как. Вначале, конечно, мелким вредительством занимались. Но потом, когда архивы изучили, стало понятно, куда бить. И били… Считай, те двадцать лет, что после аварии прошли, – это только благодаря Стражам. Без нашей «помощи» они бы на второй год управились…
– Слушай, а неужели Армада не могла сама себя защитить? – спрашиваю я.
– Не знаю, – пожимает плечами Хирург. – Она, по-моему, вообще не мыслит такими категориями: защита-нападение. Я думаю, что само понятие «мыслить» к ней неприменимо. Она действительно больше напоминает механизм, компьютер.
– Ну а все эти мутанты, аномалии?
– Это все дрянь, мусор. – Хирург отмахивается. – Сбой программы. Побочный эффект.
– Но вас-то она как-то позвала.
– И снова не согласен, – качает головой Хирург и, пожевав губами, добавляет: – Мне кажется, это мы сами себя позвали.
– Как это? – удивляется Чапай.
– А вот так! – Хирург снова злится, начинает буквально выплевывать слова. – Тебе, может быть, не понять, но есть такое иррациональное чувство: совесть. Вот ты, умный человек, приехал в Зону, огляделся и что подумал? Что эти чудесные камешки, артефакты – они стоят много денег, и поэтому надо их таскать барыгам, а все остальное тебя не касается, правильно? А я, дурак, посмотрел на Зону и понял совсем другое: что это последнее предупреждение. Что уже дальше некуда – мы подобрались к самой черте. И следующий шаг будет последним. Даже не шаг, а так – полшажочка всего осталось…
Хирург хватает бутыль, расплескивая, наливает себе одному, залпом выпивает и даже не морщится. Потом закуривает и уже спокойным тоном заканчивает:
– И Армада этот настрой мой почувствовала. Поэтому и стал возможен контакт. Продолжая аналогию с компьютером: система обнаружила устройство, работающее на нужной частоте, и процессор дал команду подключить его к себе.
– Значит, мы теперь тоже на нужной частоте, – заявляю я.
– Может быть, – соглашается Хирург. – Только мне кажется, что если система еще как-то шевелится, то главный процессор сгорел.
– Ты уверен, что она свернула к «Сатурну»? – шепчет Чапай.
– Уверен.
– Я туда не пойду!
Он нервно дергает головой и замирает на месте. Я тоже останавливаюсь. По краям дороги тихо шелестят темные кроны деревьев. Внизу белеет полоска моста. Над головой искрятся звезды. Тропинку, ведущую через рощу, почти не видно, но я угадываю ее начало по узкой проплешине в придорожных кустах.
– Чапай, не очкуй! – прошу я по-доброму.
– Это называется здравый смысл! – огрызается он.
– Не льсти себе. У того, кто пошел в Зону ночью, по определению не может быть здравого смысла.
– На «Сатурн» даже не сунусь! – упорствует Чапай. – Я там был, понял? Я их сжигал! Я видел, что это такое!
– Я сейчас пойду. Вместе с амулетом. А ты можешь остаться. Без амулета.
Чапай смотрит назад, в темноту. Блок ПНВ загораживает верхнюю половину лица, но я вижу как кривится его рот.
– Сука! – шипит Чапай и толкает меня на тропинку.
Зона дарила киношникам много сюжетов. Преимущественно для ужастиков. У сталкеров эти фильмы пользовались особой популярностью. Правда, смотрели мы их как комедии. И все натужные попытки прославленных режиссеров передать ужасы Зоны вызывали только улыбку. Потому что реальность – та, которая рядом, на расстоянии вытянутой руки, – намного проще. Эта простота как раз и есть основная составляющая подлинного страха.
Но пару лет назад в Зоне произошла история, которая как будто была придумана в Голливуде. Начало классическое: по Сети проносится экстренное сообщение от сталкера по имени Кочегар. Он пишет, что зашел на базу у завода «Сатурн» и обнаружил, что народ валяется где попало, кругом кровавая блевотина, вроде живы, но не могут даже пошевелиться. Типа – какая-то эпидемия. На уточняющие вопросы ничего внятного ответить не может. Потом от него поступает сигнал SOS. Потом он перестает выходить на связь.
Постепенно убеждаемся, что это не шутка: на «Сатурне» обитает довольно много народу, сталкеры пытаются связаться со своими знакомыми – никто не откликается. Сообщение быстро обрастает тревожными комментариями. Общество собирает отряд, человек в двадцать. Слово «эпидемия», употребленное Кочегаром, вносит существенную коррективу: на «Сатурн» идут только те, у кого костюмы с замкнутой системой дыхания.
Сам завод необитаем, база находится в здании бывшей водонапорной станции. Это хорошее место: прочные стены, обширные подвалы, и, главное, оборудование еще работает – на базе всегда есть чистая вода: на «Сатурн» ходит мыться вся Зона.
Отряд подходит к базе – двухэтажному зданию, огороженному крепким бетонным забором. Рядом торчит водонапорная башня, по форме напоминающая гранату времен Второй мировой. Ворота чуть приоткрыты. Сталкеры острожно заходят за периметр. Двор пуст. Идут внутрь. Уже в коридоре за дверью натыкаются на тела. Несколько сталкеров лежат на полу, головой в кровавых лужицах. Возле одного тела – Кочегар, он вяло шевелится, пытаясь подняться на руках. Изо рта вытекает багровая слизь. Говорить он не может, только слабо жестикулирует.
Степаныч, давний напарник Кочегара, подбегает на помощь товарищу, хочет его поднять, но тут же с криком отдергивает руку. В перчатке, прямо посреди ладони, зияет дыра, как от пули. Степаныч некоторое время недоуменно рассматривает перчатку, потом вдруг сгибается пополам. Судорожно откидывает колпак шлема – его тошнит. Рука шевелится, будто нащупывает кого-то из товарищей. Но сталкеры мгновенно сориентировались: отошли подальше, ощетинились стволами. Степаныча тошнит не переставая. Вдруг непереваренные остатки завтрака окрашиваются в красный цвет. А потом из его рта на пол валятся несколько покрытых кровавой слизью червяков. Червяки похожи на опарышей, только крупнее. Побарахтавшись в блевотине, опарыши синхронно ползут в сторону людей…
В общем, база на «Сатурне» была выжжена огнеметами, а потом взорвана. О произошедшем было сообщено по всем каналам. История получила такой резонанс, что даже вояки подогнали несколько вертолетов и долгое время поливали развалины какой-то химической гадостью.
Знающие люди высказали предположение, что зараза пришла именно через ту воду, которой база так гордилась. Был наложен запрет на посещение окрестностей «Сатурна». И надо сказать, его признали даже ученые – а это о чем-то да говорит: научная публика в плане поизучать чего-нибудь непонятное совершенно невменяема.
И вот сейчас мы идем по еле заметной звериной тропке туда, где не ступала нога человека без малого два года. Я прекрасно понимаю Чапая: он был в группе, которая огнеметами уничтожала еще живых, но уже насквозь проеденных червями людей.
Мы выныриваем из перелеска на вершину холма. Внизу, в широкой пологой чаше, плещется натекший со склонов туман. В гуще тумана невнятно чернеют угловатые заводские постройки, среди которых возвышается главный корпус «Сатурна», напоминающий своей покатой крышей буханку хлеба. Сверху переливаются звезды. На восточном крае горизонта уже имеется намек на далекий рассвет.
Останки погибшей базы виднеются совсем рядом, метрах в двухстах: светлое пятно голой, выжженной и насквозь протравленной земли. В центре пятна контуры забора окружают груду битого кирпича.
– Нам не туда, – успокаиваю я Чапая.
– А куда?
Голос у напарника поник до шепота. Он не может оторвать взгляд от развалин. Даже перестал реагировать на тихий шорох за спиной, хотя, насколько я понимаю, наша свита никуда не делась. Пальцем указываю направление. Начинаем осторожно спускаться.
Чем ниже, тем холоднее. И вот уже мелкие капли начинают оседать на металле ствола, на одежде. Сзади по-прежнему доносится вкрадчивый шум. На открытом пространстве намного светлее – обернувшись, я вполне явственно различаю мерно качающиеся тени.
Взобравшись на небольшой пригорок, оказываемся на бетонке – дорога тянется вдоль глухого забора, опоясывая территорию завода по периметру. Справа я наконец-то различаю знакомый силуэт. Ускоряемся, быстро догоняем ее. Вовремя: она тут же сворачивает в пролом.
Мы оказываемся на ровной посыпанной гравием площадке, ограниченной с двух сторон длинными одноэтажными постройками – гаражами. Гаражи идут перпендикулярно забору, через равные промежутки в кирпичных стенах располагаются раздвижные ворота. На черных листах железа белеют номера. Прямо посреди площадки, метрах в двадцати от нас, на земле темнеет большое пятно, внутри которого медленно плавают чуть заметные багровые пятна. Аномалия. И хоть от краев пятна до стен вполне приличное расстояние, но там не пройти – жар чувствуется даже здесь.
К счастью, дальше идти не нужно: она замирает, едва отойдя от забора. Мы встаем сзади, в трех шагах. В наступившей тишине слышно, как чуть потрескивает раскаленный щебень. Со стороны громады цеха летит монотонный звон – ветер играет полуоторванным листом жести.
И тут мы вскидываем стволы. Потому что слева, из щели приоткрытых ворот, на улицу выходит человек. Он совершенно черный и очень крупный. По излому контуров я понимаю, что одет он в бронекостюм такого же типа, что у нашего Чекиста.
Постояв секунду, будто прислушиваясь, человек идет к нам. На голове его нет шлема, длинные волосы чуть колышутся при ходьбе. Я предполагаю, что он подойдет к ней, но человек направляется именно к нам. Я собираюсь сделать шаг, но Чапай, не глядя, отгораживает меня рукой.
И сам идет навстречу Стратегу. Она безучастно стоит в стороне, даже не повернувшись к ним. Чапай замирает напротив Стража. Их разделяет не больше полуметра. Стратег почти на голову выше сталкера. Его лицо белеет в свете звезд, но в глазницах скопилась чернота – кажется, что он надел солнцезащитные очки. Я не вижу его глаз, но Чапай сейчас смотрит прямо в них – потому что у него ПНВ.
Это продолжается несколько секунд, потом Стратег неловким движением снимает с шеи цепочку с амулетом и опускает в подставленную ладонь Чапая.
Чапай возвращается ко мне. А Стратег, повернувшись, медленно уходит вдоль гаражей. По мере его приближения пятно аномалии начинает наливаться багровым. Вокруг становится светлее. Чапай поднимает ПНВ. Бывший Страж идет, мерно печатая шаг. По гравию начинают бегать беспокойные хвостики пламени, подошвы ощущают еле заметную вибрацию. Волосы Стратега шевелятся от жара, потом вспыхивают. На миг его экипировка проступает во всех подробностях – я машинально отмечаю, что это действительно тактический комплекс «Голиаф», как у Чекиста. А потом его фигуру с головы до ног охватывает пламя. Стратег делает еще один шаг и замирает посреди аномалии.
Я вижу ее бледный профиль, запыленные кеды. К краю длинного свитера прицепилось несколько репьев. Она смотрит прямо перед собой. Стратег горит факелом. Отблески мечутся по земле, по кирпичу. Наконец сочленения бронекостюма подламываются, и он валится вперед. Сразу становится темнее. Мы молча наблюдаем, как плавится броня, как оседает, словно сдувается, массивная фигура посреди аномалии. Спустя минуту на раскаленной земле остается только тусклый багровый контур человека. Ночь снова надвигается со всех сторон.
Мы стоим еще какое-то время. Потом Чапай, коротко рассмотрев амулет, прячет его в поясной контейнер, достает сигарету.
– Ольга, – зову я негромко. – Ольга, пошли домой!
Чапай резко поворачивается ко мне, и я читаю в его подсвеченных зажигалкой глазах так же ясно, как если бы он говорил словами.
Хирург снова поднимается, идет к сейфу. Чекист нервничает – еще бы, этот амулет должен достаться ему.
– Лови, – кричит Хирург.
Маленький кристалл искрой летит к нам через всю комнату. Чекист ловко перехватывает его над моей головой и, даже не взглянув, быстро прячет в контейнер.
– В общем, так! – Хирург снова присаживается напротив нас. – Единственный шанс все вернуть – это самим вернуться туда, где все началось.
– Чего? – Чапай морщит лоб.
– Фильм «Терминатор» смотрел? Ну вот. Только тебе нужно будет искать не Сару Коннор, а Ганса Кламмера, оберштурмбаннфюрера СС.
– Ты сейчас говоришь про путешествия во времени? – уточняет Чекист.
– А откуда такой недоуменный вид? – недобро улыбается Хирург. – В то, что Армада может исполнять желания, вы верите, а в то, что Армада позволяет путешествовать во времени, – нет. Фантазии не хватает?
– Да нет, я не то чтобы не верю, – мнется Чекист. – Но все это как-то…
Он поворачивается за поддержкой ко мне, потом смотрит на Чапая. А у меня странное чувство: вроде бы предложение Хирурга из области сказок для юношества. Но какое-то интуитивное чувство: Хирург говорит верно, надо слушать. И совсем уж непонятно как, но я ловлю эмоции Чапая – он воспринимает все точно так же.
– Тут не надо верить – не верить. – Хирург опять на что-то злится. – Тут нужно думать мозгом. Время – такая же физическая составляющая нашего мира, как и все другие, которые Армада может изменить. Те же пространственные аномалии, разрывы – они вас не удивляют?
– Это он от неожиданности, не заводись, – миролюбиво просит Чапай.
– То есть Армада может отправить нас в прошлое? – уточняет Чекист.
– Быть может. – Хирург пожимает плечами.
Теперь уже мы все смотрим на него с недоумением.
– Просто это единственный вариант, который приходит мне в голову, – поясняет Хирург. – И он не противоречит тому, что мне известно о возможностях Армады. Впрочем, вы можете пробраться к ней и хором попросить, чтобы она вернула мир во всем мире. В конце концов, вдруг сработает?
– Так, ну ладно, а как через нее в прошлое перемещаться? – деловито спрашивает Чекист.
– И снова не знаю, – спокойно заявляет Хирург. – Это уж ваше дело.
– Ты издеваешься? – вкрадчиво интересуюсь я, переглянувшись с Чапаем.
– Ни в коей мере. Я правда не знаю. И, как уже говорил раньше, вообще считаю, что Армада уничтожена.
– Ты так считаешь, потому что больше не чувствуешь связи с ней, – уверенно заявляю я.
– И что?
– Проблема не в ней, а в тебе. Просто ты давно перестал быть Стражем.
Мне кажется, что Хирург сейчас вскочит, чтобы ударить меня – вернуть должок за прошлый раз. Но глаза его почти сразу тухнут, плечи опадают.
– Может быть, – вяло соглашается он, но тут же вскидывает голову: – Вот у вас и будет возможность проверить.
– А как заходить внутрь? – спрашивает Чекист.
– Это не ваша забота. Предвосхищая второй вопрос: что внутри – тоже не могу сказать. Всегда по-разному. Я чаще всего обнаруживал себя в своей бывшей институтской лаборатории.
– Но добраться-то до нее как? – В голосе Чекиста вибрирует раздражение.
– Ищите в озере. Большая такая пирамида. Двусторонняя. Серая. Она там одна, не ошибетесь. Попадаете внутрь и пытаетесь сформулировать свою просьбу. Вроде все просто…
И снова у меня такое чувство, что за это переживать не нужно: и найдем, и попадем внутрь – без посторонней помощи и наводящих вопросов. Чапай, отмечаю, тоже спокоен: похоже, переглядываться с ним у нас стало традицией.
– Ладно, расскажи хоть о том, что нам надо в прошлом, – предлагаю я. – Только, если можно, по-человечески.
– О, тут я могу вполне конкретно. Проект «Колокол» был начат еще до войны. Когда немцы вычислили местоположение Армады. Как только нужная территория была занята вермахтом – это конец 1941 года – тут же началось строительство подземного центра. Руководил всем этим делом, как я уже говорил, Ганс Кламмер, оберштурмбаннфюрер СС.
– И нам нужно будет его найти и пристрелить? – полуутвердительно говорит Чекист.
– Пристрелить, конечно, нужно, – соглашается Хирург. – Но вряд ли это что-то даст, если лаборатория уцелеет. Так что у вас задачка посложнее, чем у Терминатора. Нужно переубивать весь персонал и разрушить все.
– Ну так а что помешает немцам построить новую лабораторию?
– А вот тут, ребята, самое интересное. – Хирург наклоняется к нам с заговорщицким видом. – Судя по всему, проект «Колокол» проводился втайне от руководства Рейха. Это была внутренняя инициатива Туле. А может быть даже – Кламмер разрабатывал эту тему самостоятельно, для себя. Хотел единолично владеть Армадой. Во всяком случае, никаких следов проекта в немецких архивах обнаружено не было, это я точно знаю. Наши начали работу по «Колоколу» только после того, как наткнулись на лабораторию Кламмера. А наткнулись они случайно.
– С трудом верится, – говорит Чапай. – Как можно было скрыть такой проект от руководства Рейха? Немцы все-таки. У них порядок.
– Да элементарно! – усмехается Хирург. – Напели Гиммлеру какую-нибудь ересь вроде поисков Шамбалы, и все. Там и не под такие дела финансирование выделялось. Бабла-то у них в начале войны было немерено.
– Так, ну это ладно, это к делу не относится, – заявляет Чапай. – Значит, нам нужно переместиться в прошлое, к фашистам…
– И они нас там благополучно пустят в расход, как красных шпионов, – доканчивает за него Чекист.
– Надо попасть туда после того, как фашистов выбьют, – предлагаю я.
– Есть шанс, что Кламмер уйдет, и вся грязь выплывет где-то в другом месте, – отвечает Хирург. – А паренек этот довольно-таки скользкий. Его КГБ лет двадцать искал. У меня есть по этому поводу целое досье. После 44-го года следы Кламмера навсегда теряются. Но я точно знаю, что на финальной стадии проекта, то есть осенью 1943 года, он находился на объекте. Вот в этот промежуток времени вам и надо целиться. Тогда сможете убить одним выстрелом двух зайцев.
– Интересная задачка… – хмурится Чапай.
Я тоже представил себе, как это: оказаться в 1943 году за линией фронта…
– Ну чего приуныли? – весело спрашивает Хирург.
– Я немецкого не знаю, – бурчит Чекист.
– Такая же фигня, – соглашается Чапай.
– А я, между прочим, отлично балакаю по-ихнему, – хвалюсь я. – Потому что родился и вырос в Восточной Германии.
– Что ты там делал? – поворачивается Чекист.
– Папа там служил.
– Армада, она обязательно поможет, – обнадеживает Хирург. – Главное добраться, а там все само собой выстроится в четкий план. Сто раз так было.
– Правда? – Чекист смотрит с надеждой.
– Поверьте бывшему Стражу. Главное, чтобы Армада цела осталась.
Снова пьем – без тостов, без пожеланий. Лица у всех задумчивые. Хирург разглядывает нас вроде бы даже с сочувствием. Чекист дымит сигаретой, Чапай водит пальцем по усам. Лампы под потолком въедливо гудят.
– Ладно. – Чапай поднимается. – Надо над всем этим подумать. Где был вход в лабораторию в сорок третьем?
– Не знаю, – отвечает Хирург. – Наши все перестроили. От старой базы остался только самый нижний этаж, с колоколом. Могу дать координаты, но вряд ли это поможет. Вы там местоположение секстантом вычислять будете? Тем более – сам же там был, видел, что коммуникации растянуты на несколько километров.
– Ну что ж, – вздыхает Чапай. – Будем искать. Пошли.
– Пошли, – соглашается Чекист.
Мы встаем, благодарим Хирурга. Он несколько недоуменно оглядывает нас: видимо, ожидал, что вечер вопросов-ответов продлится несколько дольше. По очереди жмем ему руку, Хирург вяло отвечает. Возле самой двери он не выдерживает:
– Мужики. – Голос у Хирурга хриплый от смущения. – Я… Мне бы со своими повидаться. Стратег и Болт… Где они?
– Нету их, – отвечаю я.
– Но ведь амулеты…
– А амулеты есть.
– Послушай, Глок. Мне нужно с ними поговорить.
– О чем? – вмешивается Чапай. – О том, что ты на все… половой орган положил? Или о том, как, имея возможность что-то исправить, предпочел замкнуться в гордом одиночестве?
– Я не имел возможности ничего исправить, – зло скалится Хирург.
– Возможности появляются тогда, когда есть желание! – наставительно произносит Чекист.
– Короче, Хирург, – говорю я. – Твоих друзей больше нет. А если бы и были, вряд ли бы они захотели с тобой говорить.
– Это не тебе судить! – цедит он. – Мозгов мало, чтобы понять.
– А что тут понимать-то? – пожимаю плечами. – По-моему, с тобой как раз все ясней некуда.
Выходим в коридор. Глаза, раздраженные едким светом люминесцентных ламп, с наслаждением окунаются в полумрак коридора. Здесь намного прохладнее, и воздух на порядок чище.
– Хирург! – окликает Чапай.
– Чего? – бывший Страж с надеждой высовывается в дверь.
– Почему она называется Армада?
Хирург досадливо кривит губы:
– Хрен его знает. Все так называют…
И стальная плита с лязгом захлопывается.
Глава 15
15 октября 1943 года. Позиции 1078-го стрелкового полка
Ветер нарезал круги у нашего костерка, сбивал пламя, выхватывал искры, дергал за гимнастерку. От разлохмаченных берез на холме тянулся шлейф кувыркающихся на лету листьев. Рваные, подсвеченные снизу облака спешили куда-то в сторону немцев. Солнце завалилось за далекую рощу, и его прощальные лучи пятнали все вокруг странными фиолетовыми тонами.
Моя разведрота в полном составе сидела вокруг костра. На треноге чуть покачивался закопченный алюминиевый чайник. Попов изредка наклонялся и подбрасывал в огонь хворост. Чайник сипел, из-под подрагивающей крышки выбивался пар.
– Скоро? – не вытерпел носатый Багдасарян.
– Спокойно, Артурик, – осклабился Попов. – Чай, он тоже порядок любит.
– И все-таки, товарищ лейтенант, я не понимаю, почему мы не можем пойти все? – спросил рядовой Стельмах.
Совсем молодой парень с дымчатым пушком под носом, он смущенно, но в то же время хмуро посмотрел на меня.
– Толик, все уже обсудили, – раздраженно произнес Коваль.
Он сидел напротив, через костер, и отблески пламени коверкали его лицо причудливой игрой света и тени.
– Товарищ сержант, но вы же сами…
– Отставить! – Коваль подпустил в голос металла.
Клименко, расположившийся слева от меня, уныло вздохнул. Рядовой Федотов, немолодой коренастый мужик диковато-цыганского вида, молча курил справа. По-моему, с того момента, как я возглавил роту, он еще не произнес ни слова.
– Ну все, подставляйте емкости! – радостно сообщил Попов.
Он сдернул чайник с треноги, обмотал ручку тряпкой и пошел по кругу, плеская дымящийся отвар в протянутые кружки. Над костром потянулся экзотический цветочный аромат, какой-то совсем не уместный в наших широтах.
Василий Попов был фанатичным любителем чая. Даже обычную пайковую заварку он умудрялся превратить в произведение искусства – смешивал с какими-то травами собственного сбора, отчего она приобретала совершенно фантастический вкус. Но это на самый крайний случай – в основном у него имелись запасы настоящего чая, который он именовал контрабандой. Я сам видел на ящике у его лежанки несколько цветастых жестянок с иностранными надписями. Где их тут можно было достать? А вот Попов как-то доставал и угощал своей заваркой всех, кто попадался под руку. Эти вечерние чаепития – тоже его заслуга, это он ввел традицию, и, как я заметил, к нам на огонек уже начали захаживать бойцы из других отделений.
– Ну что? – требовательно спросил Попов.
Коваль, только что шумно отхлебнувший из кружки, молча оттопырил большой палец. Я попробовал – чай действительно был хорош. С детства пью с сахаром и вот только сейчас осознал, что сахар может испортить вкус заварки. Усевшийся на место Попов поймал мой взгляд, весело кивнул, а потом, усмотрев что-то за моей спиной, расплылся в радостной улыбке.
– Здравия желаю, товарищ военфельдшер! – звонко выкрикнул он.
Я, не оборачиваясь, заподозрил, кому он это. А еще загадал: если предположение верно – значит, у нас все получится. И только потом обернулся.
– Здравствуйте, товарищи бойцы!
Форма сидела на ней очень ладно, высокие яловые сапоги выглядели по-штатски элегантно, на чуть скособоченной пилотке алела звездочка, а над головой неслись клочья облаков.
– Здравствуйте, товарищ лейтенант, – с нажимом произнесла она, и до меня дошло, что я до сих еще не поздоровался.
Но отвечать было уже поздно – налетел, размахивая дымящимся чайником, как кадилом, Попов, увлек за собой, с шутками-прибаутками посадил рядом. И вот она уже отпивает чай из алюминиевой кружки, поглядывая на меня через костер с непонятным выражением лица. Пламя заполоскалось на ветру, осветило ее лицо, искрами загорелись глаза и контрастно выступили пухлые малиновые губы. А за световым кругом клубились сиреневые осенние сумерки.
– Товарищ лейтенант, вы знаете, что я имею полное право вас наказать? – сказала она строгим голосом.
– Каким это образом, Елена Сергеевна? – насупился я, стараясь сдержать дурацкую улыбку.
– Самым прямым!
– За что это вы нашего славного командира? – Попов склонился к ней, подлил чаю и будто по рассеянности забыл отодвинуться.
– За систематическое нарушение обязательств, – ответила она мне.
– Ничего я не нарушал!
– Вам было велено ежедневно являться на осмотр. У вас сотрясение мозга. Забыли?
– Как я могу это забыть. – Дурацкая усмешка все-таки прорвалась.
– Почему тогда уже четвертый день я вас не вижу? – Она все еще держала строгость.
– Виноват, исправлюсь! – глуповато пошутил я.
– Как бы уже поздно не было! – вздохнула она и наконец-то улыбнулась, но улыбка эта была холодновата.
Сухо треснуло полено в костре, сноп искр выстрелил в сторону Коваля, ветер подхватил угольки и утащил в сумерки. В прорехе облаков уже мигала яркая звезда.
– Завтра в двенадцать постарайтесь быть, – сказала она официальным тоном. – Потому что вечером наш госпиталь передислоцируют.
– А нам что, врачей не надо? – встрепенулся Коваль.
– У вас будут другие. Возможно, получше, – ответила она и, с размаху всучив Попову кружку, поднялась. – Так что – желаю удачи, товарищи разведчики!
Бойцы нестройно попрощались, и она быстрой, решительной походкой ушла от костра. Я оглядел ребят: все они смотрели ей вслед, только Попов, морщась, тряс ошпаренные кипятком руки. Чтобы скрыть смущение, я достал папиросу, прикурил от щепки.
– Догоняй, дурак! – донесся тихий бас.
Сказать это мог только Федотов, но солдат сидел с равнодушным лицом, меланхолично отхлебывал чай. Я крепко затянулся, а потом, приняв решение, сорвался с места.
Она стояла на пригорке. Прямо под тем дубом, на котором мы с Нурбаевым случайно повесили немецкого «языка». Дерево уже почти совсем облетело, и голые, резко изогнутые ветки темнели на фоне догорающего неба, как трещины.
Ветер пластами загибал сухую траву, уходящую по косогору туда, где чернел изгиб реки. Где-то далеко-далеко работала артиллерия, до нас долетали только мягкие, похожие на гром перекаты.
Она стояла ко мне спиной, прядь волос трепыхалась, как паутинка, над самым ухом. Я сбавил темп, подошел почти буднично. Встал рядом, мельком оценив ее лицо: спокойное, даже равнодушное.
– Подумал, что это неважно? – спросила она, не повернувшись
– Не знаю. – Напряженность куда-то спала, я говорил свободно.
– Всегда боялась упустить свой случай.
– А почему ты уверена, что это он?
– Я должна была встретится с ним здесь. На этом самом месте.
– Здесь?
– Здесь. Под дубом. Я местная, из Ельска. Бабушка рассказывала, что этот дуб посадил ее отец.
– Лена, я даже не знаю, вернусь ли завтра.
Она повернулась с легкой снисходительной улыбкой:
– А ты пообещай.
Сдернула с головы пилотку, густая копна волос хлынула вниз и, подхваченная ветром, со всего размаху хлестнула меня по лицу…
Я выбрался к нашему блиндажу, когда традиционная ночная перестрелка подходила к концу. Над лесом еще стояло эхо разрывов, но артиллерия уже смолкла. Винтовочный треск тоже пошел на убыль.
Присев на бревно возле остывшего костра, я поворошил веточкой золу, раскопал яркий уголек, выбросил к ногам, подцепил кончиком папиросы, прикурил.
– С возвращеньицем! – язвительно поздравил из темноты голос Коваля.
Прищурившись, разглядел над темным провалом входа его голову.
– Не серчай, сержант, – попросил я миролюбиво. – Самое время собираться. Пока дойдем, они как раз угомонятся.
– Ну-ну, – протянул Коваль, но уже без раздражения. – Ладно. Через десять минут выходим.
Он нырнул в блиндаж, и вскоре оттуда донеслось сонное мычание вперемешку с гневным шепотом. Потом наружу, поеживаясь от холода, выбралась невысокая фигура. Я узнал Нурбаева.
– Здравия желай, командира! – прошипел он и визгливо зевнул.
Следом за ним из блиндажа выскочил Попов, причем у меня создалось впечатление, что ускорение его телу было придано искусственно. Последним вылез Коваль, сопровождаемый тихим металлическим перезвоном. Он сбросил на землю наши шмотки, сверху положил автоматы и с хрустом потянулся.
– Товарищ сержант! – донесся от входа обидчивый шепот.
– Спать, я сказал! – прошипел Коваль, быстро обернувшись.
– Что такое? – насторожился я.
– Рядовой Стельмах категорически не согласен с утвержденным составом диверсионной группы, – отрапортовал сержант.
– Рядового Стельмаха в профилактических целях необходимо высечь офицерским ремнем, – продолжил «рапорт» Попов.
Дверь в блиндаж со стуком захлопнулась. Я прислушался: на позициях все почти затихло, только из-за реки с методичностью дятла стрелял одиночными какой-то особо неуемный представитель арийской расы. Над речной низиной плавно снижались две желтые ракеты.
– Готовность пять минут, – приказал я.
– А как же чайку попить! – обиделся Попов.
– Спать меньше надо, – посоветовал Коваль.
А через пять минут Попов уже споро двигался во главе отряда, обходя наши позиции по опушке леса. Ветер все еще лютовал, с разбегу набрасывался на деревья, вырывал клочья листьев. Облака ушли, звезды поблескивали с морозной остротой, и я был благодарен Ковалю, захватившему из блиндажа мой ватник.
Тропинка стала забирать влево, одновременно спускаясь под уклон. Со стороны поля донесся шум работающего мотора, но саму машину, как ни вглядывался, я разглядеть не смог. А потом мы нырнули под сень деревьев, и все посторонние звуки стихли, только ветер продолжал резвиться по верхам да тихо шуршали листья под ногами.
– Мамай, смени, не вижу ни хрена, – негромко попросил в темноте Попов.
– Что ж ты, Одесса? – подковырнул Коваль.
Я, признаться, тоже не видел дальше собственной руки – двигался, ориентируясь больше на звуки. Возглавивший колонну Нурбаев ускорил темп.
– Держись за меня, – негромко предложил Коваль.
И я с благодарностью уцепился за автоматный ремень на его спине. Так шли минут двадцать. В какой-то момент листья под ногами перестали шуршать, а сама земля стала мягче, начала пружинить под ногами. Это значит, мы вошли в сосновый бор, догадался я. И точно: впереди показался еле заметный просвет, и вскоре мы остановились на обочине дороги, ведущей к разбитому мосту. Я смог различить лица товарищей.
– Перекур? – обернулся ко мне Коваль.
– Давай.
Спустившись в придорожную канаву, разобрали папиросы из моей пачки. Некурящий Нурбаев остался на стреме. Прикурив, я откинулся на склон, пахнущий смолистой хвоей. Здесь было тепло, и я поелозил, устраиваясь поудобнее. Посмотрел на часы: без пяти три. Нормально идем, даже с опережением графика.
Рядом курил, пряча папиросу в горсти, Попов, и всякий раз, когда он затягивался, из темноты выглядывал острый кончик его носа. Коваль лежал у самого верха канавы, прислушиваясь к ночному лесу. Нурбаев застыл посреди дороги, вытянув голову вперед, как будто увидел там что-то интересное.
– Готовы? – обернулся к нам Коваль. – Пошли.
Мы выбрались на шоссе и быстро двинулись в строну реки. Вскоре начался уклон, заметно похолодало. Когда впереди показалась опушка, Нурбаев спрыгнул с дороги в канаву, Попов нырнул вслед за ним, а мы с Ковалем соскочили в противоположную сторону.
Стараясь не шуметь, мы с сержантом дошли до невысокого обрыва. Внизу поблескивала река, деревья подходили к самому краю. На фоне черной воды белели осколки рухнувших плит моста и высились уцелевшие столбы опор.
Мы постояли пару минут, вслушиваясь в тихое журчание реки, и я уже собрался выйти на дорогу, когда Коваль с силой пригнул меня вниз.
– Что? – одними губами спросил я.
Но он не ответил, только предостерегающе растопырил пятерню. Время шло, а мы все стояли в полуприсядку за жидкими кустами на самом краю обрыва. Но вдруг я услышал: тихий плеск и злой шепот – возле самого нашего берега. Я даже разобрал одно слово: Scheiße[9]. Немцы! Коваль показал мне пальцем на землю, а сам осторожно подкрался к дороге. Я присел и чуть сдвинулся в сторону – чтобы видеть оборванный край шоссе. Обзор портил толстый ствол, я собрался подвинуться еще, но так и замер с приподнятой ногой: над обрывом показался черный шар – человеческая голова.
Немец замер, прислушиваясь. А потом внезапно прыгнул – и вот он уже сидит на корточках у края. Огляделся, наклонился и потянул за руку второго.
Но выбраться им не дали – Коваль бесшумно сорвался с места, с другой обочины тоже метнулся черный сгусток. Ребятам не хватило буквально доли секунды. Поднятый наверх немец успел броситься под ноги сержанту, и они, звеня металлом, покатились по шоссе. Над обрывом затанцевали две тени. Я рванул на помощь – как раз вовремя: отбросив Коваля, фашист дернул из-за спины автомат. Но не успел – с сочным хрустом моя финка вошла во вражескую шею по самую рукоятку. И тут же от реки раздался глухой удар.
Коваль вскочил. Рядом уже маячил тяжело дышащий Попов. Убитый мной фашист в последний раз дернулся и затих. Мы синхронно посмотрели вперед – там одиноко чернел силуэт Нурбаева.
– Где? – прохрипел Коваль.
– Вниз летел! – пожаловался ефрейтор. – Насавсем.
Мы подошли и заглянули за край. Немец лежал на обломке плиты в позе морской звезды, руки-ноги слабо шевелились. На белый бетон из-под тела, медленно расширяясь, вытекала черная лужица крови.
– Желез штыр проткнул, – пояснил Нурбаев.
– Разведчики, мать вашу! – похвалил Коваль.
– Их только двое было? – спросил Попов.
– Вот именно! – Сержант сплюнул и махнул Попову: – Помоги.
Они подтащили к обрыву тело фашиста, по-быстрому обыскали. Я брезгливо вытащил свой нож из шеи трупа, вытер о его одежду. Коваль тем временем сложил в кучу автомат, пистолет и пару запасных магазинов, а потом они вместе с Нурбаевым сбросили тело в реку. Раздался негромкий всплеск – до воды было не больше трех метров.
– Иди обшмонай своего и столкни в воду, – приказал сержант Нурбаеву. – А мы пока перекурим.
– Как думаешь, кто это был? – спросил я, когда мы снова расположились в канаве.
– Наши коллеги с той стороны, – предположил Коваль. – Может, за языком шли.
– Старик рассказывал, они нос боятся ночью с позиций показать.
– Эти, видимо, не побоялись. У них чувствовалась подготовка.
– Я вот думаю: а не навел ли их наш дед? Мы же ему сказали, что сегодня пойдем. И он знал, где будем переправляться.
– Вряд ли, – подумав, ответил Коваль. – Маловато двоих для засады. И вообще на засаду не похоже.
– Да, пожалуй…
Вернувшийся Нурбаев высыпал нам под ноги горку оружия. Сержант небрежно накрыл трофеи несколькими сорванными ветками. Хлебнули горячего чая из поповской фляги и полезли преодолевать водную преграду.
Рухнувшие перекрытия моста в принципе создавали вполне сносную переправу. При определенной сноровке можно было перебраться на тот берег, даже не замочив ног. Но сноровка нужна была недюжинная: ночью, да по осклизлому, заросшему тиной бетону, да через путаницу ржавых арматурных прутьев…
Но, в общем, кое-как перебрались. Я, правда, чуть не сорвался на середине, зачерпнул сапогом ледяной водицы, но Нурбаев вовремя подстраховал за воротник.
Выбравшись, тут же нырнули в чахлый ельник. Отбежали меров на пятьсот, и только потом остановились отдышаться. Я скинул сапог, отжал и перемотал портянку.
Ветер почти стих. В наступившей тишине каждый шорох казался непривычно громким. Где-то совсем рядом ухала сова, и снова грохотала артиллерия за горизонтом.
Коваль встал во главе отряда и пошагал по еле заметной тропинке. Лесок был совсем редким, видимость более-менее сносной – двигались почти бегом. Вскоре деревья закончились, и мы оказались перед невысокой насыпью железной дороги. Я посмотрел на часы: половина четвертого.
Еще минут пятнадцать пробирались вдоль путей, не выходя из тени деревьев. Потом впереди показались постройки станции «Янов». Сбавили темп, крадучись подошли ближе. Остановились метрах в ста.
– Давай! – Коваль толкнул Нурбаева.
Ефрейтор сбросил ватник и перемахнул на ту сторону железки. Я принялся разглядывать темные строения. Все тут осталось так же, как и было позавчера. Только вагоны исчезли – паровоз одиноко притулился к пакгаузу. Из темноты вынырнул Нурбаев.
– Чисто! – выдохнул он, с зябкой расторопностью кутаясь в телогрейку.
– Пошли! – махнул Коваль.
Вслед за Нурбаевым мы добрались до заколоченного здания вокзала, пригнувшись, преодолели открытое пространство и юркнули в тень паровоза. «Дежавю», – подумал я, когда оказался возле металлической двери, а Коваль, пригнувшись, спрятался за выступ лестницы.
– Оffen für mich![10] – ударил я по клепаному металлу.
Дверь почти тут же распахнулась, и на меня свесилось знакомое лицо. Только это был не Фюрер. Короткая стрижка, пышная щетка усов…
– Gute Nacht![11] – весело пожелал нам беглый лейтенант Андреев.
Глава 16
4 октября 2016 года. Чернобыль
Я знаю это место. Здесь до Взрыва было что-то типа автоматической станции. То ли радиацию мерили, то ли еще какие параметры. Наши ребята подрабатывали, беря у научников задания – менять в аппаратуре аккумуляторы и приносить флешки с полученными замерами.
Станция представляет собой бетонный куб, полузарытый в склон невысокого холма, по типу деревенского погреба. К нему ведет дорога, вымощенная плитами. В передней стене внушительные железные ворота, над воротами еще полметра стали с мелкой перфорацией. С козырька плоской крыши свешиваются густые желтые космы травы.
Чапай отвинчивает круглую стальную крышку на левой створке. Под ней оказывается замочная скважина.
– Откуда у тебя ключ? – интересуюсь без особого интереса.
– Ты что делал перед Взрывом? – спрашивает Чапай, отпирая замок.
– На Янов собирался сходить…
– А мы как раз хотели яйцеголовым помочь, – сообщает Чекист. – Показания отсюда снять.
Створки распахиваются на удивление легко и бесшумно. Я уважительно киваю: сталь в пару пальцев толщиной, с двумя контурами уплотнения. За воротами невысокий бокс, в ограниченное пространство которого втиснут джип – мощная машина с внушительным кенгурятником во всю морду, над бампером топорщится катушка лебедки, на крыше стойка с рядом прожекторов. За джипом в глубине бокса виднеются какие-то стеллажи и лесенка наверх.
Чекист открывает капот, накидывает клемму на контакт, торчащий из клубка изоленты. Я узнаю поделку наших технарей – осколок артефакта и блочок трансформатора. Вечный аккумулятор. Хлопнув капотом, Чекист с трудом втискивает свое закованное в броню тело за руль. Мы отходим в сторону.
На улице становится понятна марка джипа: Hyundai Galloper первого поколения. На фиолетовой двери эмблема коалиционных сил. Отличная машина.
– Иной раз такой рейд задумаем, что пешком никак, – оправдываясь, говорит Чапай. – А на машине туда-обратно за пару часов. И топлива он мало жрет.
Вообще-то, конечно, запрета на частный автотранспорт у нас нет. У нас есть четкое правило: всю солярку, ежели таковая обнаружится, тащить на базу. Ибо дефицит. Но Чапай с Чекистом всегда были себе на уме.
И еще они всегда любили бродить по Зоне. Не ради артефактов, просто в свое удовольствие. А после того, как прекратились выбросы и аномалии перестали менять местоположение… Разве можно устоять перед искушением прокатиться с ветерком?
– Садись вперед, – говорит Чапай. – Я люблю сзади ездить.
Он идет закрывать ворота, а я усаживаюсь на скрипучее сиденье. В салоне пахнет пластиком и кожей – забыто-привычные запахи из прошлой жизни. Вся торпеда усыпана наклейками: полуголые красотки в обнимку с разнообразными порождениями Зоны. В свое время на эти изображения была повальная мода. Перевожу взгляд на магнитолу. Чекист это замечает, подмигивает и толкает внутрь торчащую из приемника кассету. Пара щелчков – и салон, как водой, до краев заливает чистая, пронзительно-мелодичная музыка. Я сразу узнаю: Андрей Гучков, «Дороги Зоны». Пожалуй, самый лучший альбом композитора. Во всяком случае, самый подходящий к нашим реалиям. Чапай сзади хлопает дверью.
– Говорят, Гучков раньше сам был сталкером, – перекрикивает музыку Чекист.
– Несталкер такого бы не написал! – кричу в ответ.
– Погнали, меломаны! – командует Чапай.
И мы с пробуксовкой срываемся с места. Мимо изогнутых, покореженных деревьев, мимо каких-то построек с проваленными крышами… Льется музыка, обдает меня с ног до головы – то ледяная, то обжигающая, – и кажется, что машина подскакивает в такт ритму.
Болотистая низина, жирные черные брызги веером летят в стороны, залп грязи ударяет в лобовое стекло. Лысая поляна, стая собак, терзающих падаль. Взревев, джип форсирует крутой подъем – на миг все впереди заслоняет бугристое серое небо, – и вот мы уже на шоссе.
– Ну что, втопим? – В прищуренных глазах Чекиста пляшут чертики.
– Давай! – радостно реву в ответ.
Ровная, как взлетка, полоса асфальта бьет навылет через всю Зону, до самого горизонта. Та самая дорога, ведущая к АЭС. Только теперь нам в обратную сторону. Ускорение вдавливает в кресло. Придорожные деревья сливаются в бегущий частокол. Дорога вырывается на равнину. Блестит изогнутая лента реки. Мерцает что-то на обочине – серебристо-серое пятно, – цепляет край шоссе, тянет кляксы-щупальца. Не достанет! И гонится за нами какая-то черная, здоровая туша. Чапай опускает окно, высовывается почти по пояс. Ветер радостно врывается в салон, бьет по лицу, треплет за волосы. Треск дробовика почти не слышен. Тварь валится на подломившуюся переднюю лапу, кувырком летит в кювет. И гремит музыка, торжественно, жестко – именно так, наверное, должны звучать эти поля, эти перелески, это низкое серое небо. Грохочет музыка, и торчащая из руин кирпичная труба ритмично раскачивается, будто палочка дирижера.
Мимо проносятся разрушенные постройки блокпоста: на серых стенах густые следы копоти, искореженные взрывом ворота гостеприимно распахнуты в сторону Большой земли: Зона вырвалась на волю! По традиции оттопыриваем в сторону казармы средние пальцы: ее обитатели в свое время попортили нашим много крови, даже само название «41 километр» стало ругательным. Никого из обитателей «сорок первого» давно нет в живых, но в сталкерской среде традиции чтут.
И снова мчимся вперед, но постепенно приходится сбавлять скорость, лавировать – начинают попадаться брошенные посреди дороги машины. Поначалу преимущественно военные, но, когда среди растительности появляются приземистые дачные домики, встречается все больше гражданского транспорта. Чапай просит уменьшить громкость.
– Ты знаешь, куда ехать? – спрашивает он меня.
– Примерно. Я там один раз был, когда снарягу покупал, чтобы в Припять, в речку, я имею в виду, занырнуть.
– Занырнул? – косится Чекист.
– Занырнул. И неплохо хабара набрал.
– Повезло.
– Я, между прочим, дипломированный дайвер.
– Какой-нибудь сом-мутант откусит тебе ползадницы, и никакие дипломы не спасут.
– Скоро тебе придется о своей заднице беспокоиться, – зловеще предупреждаю я, и Чекист, нахмурившись, сосредотачивается на дороге.
– Думаешь, снаряга сохранилась? – спрашивает Чапай.
– Да что ей будет-то, – пожимаю плечами. – Главное, чтобы из баллонов воздух не вышел. Набить их заново у нас скорее всего не выйдет. Даже если компрессор заведется, фильтрам давно хана. А с таким давлением, если без фильтров – закачаем дерьма и копыта откинем.
– Большое давление в баллонах?
– От двухсот атмосфер.
– Ого!
Дорога сворачивает на широкую магистраль, здесь снова можно разогнаться. Едем молча, разглядывая пейзажи. Вдоль шоссе тянутся вымершие поселки: разноцветные дома выглядят обитаемыми, но буйно разросшиеся сады выдают правду. Потом появляются многоэтажки, АЗС, магазины. Растительность слева расступается – внизу, под крутым склоном, блестит широкая гладь реки. Впереди встает арка моста, а за ней в пасмурной дымке виднеются городские окраины. Чекист открывает бардачок, на ощупь достает карту.
– На, показывай, – говорит он мне.
– Да я ж не знаю там названия улиц, – начинаю я оправдываться. – Я туда вообще на метро ездил.
– Ну метро-то как называется, помнишь? – спрашивает сзади Чапай. – Вот от него плясать и будем.
– Говорят, в киевском метро живут люди, – сообщает Чекист. – Они спрятались там от Взрыва, а потом приспособились и даже плодиться начали.
– Брехня! – отмахивается Чапай. – Они бы давно померли.
– У тебя про кого не спросишь – все померли! – огрызается Чекист. – Один ты выжил, как кактус.
– Ты что, в Городе ни разу не был? – набрасывается на него Чапай. – Мы с тобой в метро не пытались спуститься?
– Ну мало ли… – Чекист сникает.
– Ищи станцию. – Чапай раздраженно пихает меня и откидывается назад.
Мы въезжаем на мост, тут почти совсем нет брошенных машин. По бокам с гулом проносятся решетчатые опоры. Далеко внизу спокойно катит свои воды Днепр. Город надвигается, становится четче – есть в этом что-то зловещее. Ломаная, угловатая масса построек постепенно дробится на отдельные здания, среди которых виднеются трубы теплостанций и раскидистые конструкции ЛЭП. Массив пронизан прямыми трещинами магистралей. И даже отсюда видно, что весь Город имеет монотонно-серый окрас, как будто накрыт саваном.
Машин на дорогах становится больше. Но они постепенно теряют свой цвет. Вообще все вокруг медленно тускнеет, гаснет. Кажется, что мы смотрим закат на быстрой перемотке. Освещенность на самом деле не убывает, это обман зрения – просто все вокруг плавно становится серым.
И вот уже под колесами мягко шуршит пепел, и тянутся вдоль дороги дома с черными воронками окон. На перекрестках, у светофоров, толпятся ряды шершавых от пепла автомобилей. Это выглядит жутко, если представить, почему так получилось: Взрыв пронесся над городом, уничтожил людей, а машины так и остались стоять, ожидая зеленого сигнала. Моторы работали, пока не кончился бензин… Чекист объезжает автомобильные пробки по тротуарам.
– Где-то здесь, – сверившись с картой, говорю я.
Выбравшись на площадь, мы сбавляем ход. В центре высится какая-то стела на гигантском гранитном фундаменте. Возле нее замер шатун – молодой парень в черной спортивной куртке и рваных джинсах. В руке зажат грязный полиэтиленовый пакет, из пакета капает что-то бурое. Он стоит, слегка наклонившись вбок, голова поворачивается за машиной, как локатор. Мы медленно едем по кругу, рассматривая многочисленные бесцветные вывески.
– Вот! – Чапай тычет пальцем в стеклянный павильон с характерной буквой «М» на крыше.
– Точно, оно! – выкрикиваю я облегченно. – Теперь давай вон туда, до светофора, потом направо. Там будет длинный дом, магазин на первом этаже.
Мы сворачиваем в переулок. Тут полно машин, пару раз даже приходится сдвигать их с дороги кенгурятником. Чекист недовольно сопит – переживает за джип.
– Стой! – командую я, заметив знакомую витрину.
Подруливаем прямо ко входу. Вылезаем. С наслаждением разминаю затекшую спину, параллельно сканируя местность. Чекист тоже внимательно оглядывается по сторонам. Амулеты отгоняют нечисть, но кто знает, действуют ли они на фантомов… Эти твари появились уже после Катастрофы. И я, признаться, их очень боюсь – после того, как они на моих глазах убили Бура. Совсем недавно было высказано предположение, что они реагируют на тепло, как комары. Таким образом, запрет ездить в город на машинах наконец-то получил свое теоретическое обоснование. И получается, что разогретый движок нашего джипа для них сейчас как маяк для потерявшихся моряков.
Чапай, видимо, разделяет мои опасения. Задумчиво потеребив ус, он лезет в багажник, достает термитную шашку.
– Прикройте!
С дробовиком наперевес, поглядывая в пустые глазницы окон, он доходит до перекрестка и, запалив термитку, швыряет ее внутрь газетного киоска. Убедившись, что огонь разгорается, возвращается к нам.
– Пошли?
Двери магазина заперты, но Чекист, достав монтировку, практически без усилий взламывает стеклянную створку. Заходим внутрь. Здесь светло и относительно немного пыли. Все еще чувствуется еле заметный запах дайверской снаряги. Посреди широкого зала тянутся две длинные вешалки с гидрокостюмами и прочими шмотками. Дальняя стена тоже увешана нужными вещами. Но – все по порядку. Нужно начинать с главного.
– Постой на стреме, – прошу Чапая.
Мы с Чекистом заходим за прилавок и спускаемся в подвал. Пробую выключатель – а вдруг? Но нет, чуда не случилось – зажигаем фонари. Половину узкой, выложенной кафелем комнаты занимает компрессор. Вдоль стены стоят баллоны, часть из них соединена в спарки. Беру манометр, начинаю проверять.
– Ну как? – спрашивает Чекист, с интересом разглядывая конструкцию компрессора.
– Ты знаешь, на удивление хорошо!
И действительно, ни один баллон за это время не стравил больше пятидесяти атмосфер. Попалась, правда, парочка пустых, но, наверное, их просто не успели набить. Выбираю три спарки, выволакиваю к центру.
– Вот это бери, тащи наверх.
– Ох ты! – выдыхает Чекист, подняв было все разом.
Он отставляет одну спарку, перехватывает две поудобнее и, сухо похрустывая кевларовыми сочленениями, уходит на лестницу. Кряхтя, волоку свою ношу.
– Нормально? – интересуется от входа Чапай.
– Более чем. Думал, будет значительно хуже.
Мы вытаскиваем баллоны на улицу, ставим возле багажника.
– На сколько этого хватит? – спрашивает Чапай.
– Зависит от глубины.
– А какая там глубина?
– Откуда ж я знаю-то? Но если придется уходить ниже сорока метров – боюсь, ничем хорошим не закончится.
– Почему это? – настораживается Чекист.
Чапай красноречивым взглядом поддерживает вопрос.
– На воздухе опускаться будем, – поясняю.
И вижу: не понимают. Ждут продолжения. Ну что ж, придется пояснять:
– В воздухе содержится азот, помните из школьного курса? Чем ниже будем опускаться, тем больше будем его вдыхать.
– Не понял сейчас. – Чекист хлопает глазами.
– На каждые десять метров глубины давление увеличивается на одну атмосферу. Соответственно, регулятор на баллоне будет повышать давление подачи, чтобы ты мог вдохнуть. На сорока метрах ты будешь вдыхать в четыре раза больше воздуха, чем на поверхности. Понял? Объем будет тот же, а концентрация, парциальное давление в легких – в четыре раза больше! При таком раскладе азот уже токсичен. Ты получишь то, что называется азотный наркоз, или глубинная болезнь. Что-то наподобие опьянения. И начнешь чудить. Мы все начнем чудить. Чем ниже – тем хуже.
– Как чудить? – спрашивает Чапай.
– В зависимости от характера. Ты, наверное, полезешь исследовать глубины. А Чекист, к примеру, станет петь песни и плясать.
– С чего это мне плясать? – обижается Чекист. – У меня психика стойкая.
– Я однажды видел, как довольно опытный товарищ выплюнул регулятор и попытался поговорить с проплывающей мимо рыбой.
– И как этого избежать? – спрашивает Чапай.
– А никак. Ну помимо того, чтобы всплыть. Существуют… существовали смеси специальные. На инертных газах. Гелии, к примеру. На «тримиксе» мы бы и за сотню метров без проблем опустились. Правда, всплывать пришлось бы долго…
– Почему?
– Так, хватит на сегодня теории дайвинга, – отмахиваюсь я от Чекиста. – Так до вечера проторчим. Грузи спарки в машину, и будем…
Тут я осекаюсь: в окне дома напротив стоит человек! Ребята мгновенно разворачиваются, подхватывая стволы.
– Четвертый этаж, пятое слева.
– Вижу!
Дом – серая панельная многоэтажка. Со стороны улицы пристроен магазин «Продукты». По центру два ряда балконов. С угла крыши до самой земли свешивается толстый пучок оборванных проводов. Чекист прикладывается к прицелу СВД.
– Шатун.
– На нас смотрит? – спрашивает Чапай.
– Прямо на меня, – передернувшись, говорит Чекист и отставляет ствол.
Я оглядываю улицу. Пустынно и тихо, только потрескивает, чадя копотью, подожженный киоск.
Вместе с Чапаем направляемся к вешалке с гидрокостюмами. Под слоем пыли не видно лейблов фирм-производителей. Впрочем, это неважно: погружаться нам всего один раз…
– Ищи потолще, хотя бы пятерку, лучше семь миллиметров, – инструктирую Чапая. – Смотри этикетки у ворота. У меня размер «L», у тебя, наверное, «М», этому бугаю бери «ХХХL».
Оставляю товарища копаться в пыльных шмотках, иду выбирать регуляторы, потом жилеты-компенсаторы. Под стеклом прилавка выставлены подводные компьютеры, третий по счету оказывается рабочим. Цепляю на руку – пригодится. Прихватываю несколько фонарей: попробуем реанимировать аккумуляторы от прикуривателя. На случай, если не получится, бросаю в рюкзак целую упаковку ХИСов, химических светильников.
– Чего дальше? – подходит Чекист.
– Вот эти жилеты бери и регуляторы. Там на стенде видишь грузы? Большие свинцовые пряжки. Тоже возьми, штучек десять-двенадцать.
Чапай несет охапку гидрокостюмов. За прошедшее время резина стала колом – кажется, что он тащит пачку расплющенных манекенов.
– Кидай в машину и выбирай маски. Такие, чтобы обзор получше был. И трубки возьми на всякий случай.
Наконец нахожу, что искал: гермомешки. Выгребаю из ящика все – семь или восемь штук, вручаю Чекисту. Выхожу на середину торгового зала, соображаю: все ли взяли? Баллоны, регуляторы, жилеты, маски-трубки, грузы-пояса… Ласты!
По-быстрому выбираем ласты, кому какие нравятся. До кучи хватаю шлемы. Теперь вроде все.
На улице накрапывает мелкий дождик. Силуэт шатуна все еще маячит в окне. Киоск уже догорает – изогнутые рожки пламени бьют из-под покоробившейся, исходящей паром крыши. И то ли это струится нагретый воздух, то ли уже пожаловали фантомы – какая-то муть мотается вокруг закопченной коробки.
– Едем?
– Едем.
Чекист заводит мотор, муть у киоска вздрагивает, темнеет. Поздно, твари! Выбросив из-под колес фонтаны серого пепла, с визгом разворачиваемся. Возвращаться по своим следам плохая примета – по прямой пролетаем перекресток, уходим на параллельную улицу. Здесь практически нет машин, можно разогнаться. Несемся мимо пустых домов, вдоль покосившихся фонарных столбов. Серые кирпичные коробки то подступают совсем близко, грозя сдавить нас, то, словно испугавшись чего-то, отскакивают, выпуская джип на простор безлюдной площади. Памятники, колодцы подземных переходов, облетевшие аллеи бульваров. Пасмурное небо почти попадает в тон засыпанного пеплом Города. Но вдруг впереди мелькает яркое пятно: на перекрестке, над грудой столкнувшихся машин, на тросе висит светофор и как ни в чем не бывало мигает желтым светом. Это выглядит тревожно. А потом Чекист резко бьет по тормозам – звякнув набитым багажником, джип замирает посреди улицы.
На тротуаре толпятся люди. Много, человек десять. Мужчины, женщины, одеты по-разному, один, судя по остаткам экипировки, явный сталкер. Все грязные и оборванные.
– Опять шатуны! – шепчет Чекист.
– Однако мы у них популярны, – нервно шутит Чапай.
– Давай-ка объедем, – предлагаю я.
Чекист врубает первую скорость и медленно, будто боясь спровоцировать толпу, заворачивает на бульвар. В это время шатун-сталкер поднимает вверх правую руку с растопыренными пальцами. Жест настолько характерен, что ошибиться невозможно – нежить желает нам доброй дороги. Чекист не выдерживает, выжимает газ до упора. Перекресток в момент скрывают деревья.
И вот, наконец, мы вырываемся к набережной Днепра. Мост совсем рядом, мы ошиблись примерно на километр. У широкой пристани, грустно склонив головы, стоит частокол кранов, похожих на скелеты жирафов. Широкая баржа, до краев забитая штабелями шпал, невозмутимо покачивается на натянутых швартовах.
По плавно загибающейся эстакаде выруливаем на мост.
– Куда сейчас?
Чапай смотрит на часы, потом на меня. Я тоже сверяюсь со своим новоприобретенным компьютером. Начало второго.
– На завтра отложим, – предлагаю я. – Не успеем до темноты.
– Давай к Паутинычу, – говорит Чапай.
Чекист вдавливает педаль – машина с ревом несется прочь от Города.
Глава 17
16 октября 1943 года. Чернобыль
– Вот такие дела, Леша! – сказал Андреев. – Хочешь верь, хочешь нет.
Они с Ковалем выжидательно воззрились на меня. А я не знал, что отвечать. Точнее – просто не хотел отвечать. Я смотрел на пустой поселок, замерший под звездным небом, и пытался представить себе, как это: совершенно пустая земля. Миллиарды людей, уничтоженные в один миг…
После этого напророченная победа в войне уже не казалась такой важной.
– Да уж… – неопределенно выдохнул я и полез за папиросами.
Мы сидели на выступе фундамента под окном. Одноэтажная бревенчатая изба стояла на пригорке у дороги и представляла собой прекрасный наблюдательный пункт. Дорога проходила под самым забором, а дальше чернели на фоне светлеющего неба разномастные коробки домов. Ровные ряды пирамидальных тополей отмечали расположение улиц.
Чернобыль был мертв. Мне довелось повидать много населенных пунктов, по которым прошлась война, – и разбитых, и сохранившихся в относительной целости. Но пока там, пусть даже в подвалах или погребах, оставались люди, поселение продолжало жить. Это чувство было иррациональным, но я всегда мог отличить покинутые поселки от обитаемых. Чернобыль был мертв абсолютно и давно.
– Ты не хочешь ничего спросить? – поинтересовался Андреев.
– Нет.
– Но ты нам хоть веришь? – Коваль слегка толкнул меня в плечо.
– Верю.
– Почему?
Вместо ответа я достал из кармана гимнастерки кристалл-амулет и предъявил им на раскрытой ладони. Последовала продолжительная пауза.
– Я тебе говорил, что не мог его потерять! – прошипел Андреев в сторону Коваля. – Где ты его взял?
– У тебя из кармана спер.
– А еще опер! – укорил Коваль.
И они оба засмеялись, причем в смехе слышалось заметное облегчение.
– «Опер», кстати, хорошее погоняло, – отметил Коваль, успокоившись.
– Подходящее, – согласился Андреев.
– Слушайте, у вас там какая-то воровская структура, что ли? – спросил я. – Все кличками щеголяют?
– А то! – подтвердил Коваль. – У нас же Зона!
– Как только фантазии хватает придумывать.
– По этому поводу есть анекдот: после вчерашней перестрелки на Агропроме освободились погоняла «Везунчик» и «Счастливчик».
– Теперь я понял, почему на тебе артефакт не сработал, – сообщил Андреев. – Если я его засунул в тот же карман, куда ты амулет заныкал…
– Артефакты – это предметы, способные воздействовать на организм? – уточнил я.
– В том числе. И на организм, и на физику пространства.
Рассказать им про дневник Глока? – задался я вопросом. Нет, обожду пока. Скорее всего, они даже и не подозревают, что он вел дневник. И уж точно не смогут ответить на вопрос: что там было на вырванной последней странице?
Я перехватил амулет пальцами, покрутил: черная половина кристаллика терялась в ночи, зато прозрачная искрилась в тон звездам на горизонте. Внезапно темнота под окном у самого фундамента слегка поменяла цвет. Вначале подумал – показалось, но нет, там явственно наливалось фиолетовым размытое пятно, контурами напоминающее гриб. Послышался хруст, будто трескалось стекло.
Коваль с Андреевым обернулись на звук. И разом вздрогнули – я почувствовал, как колыхнулся воздух. «Твою мать!» – со свистом выплюнул кто-то из них. Интуитивно я понял, что шевелиться нельзя.
Так мы и застыли – в нелепых позах, с дымящимися папиросами. А призрачный гриб клубился перед нами, постепенно становясь все четче. По его поверхности забегали еле видные серебристые искорки. Фиолетовый цвет становился гуще, светлее, теперь уже можно было различить, что внутри гриба колышется то ли дым, то ли какая-то пленка. Освещенные тлеющим мерцанием, стали видны растрескавшиеся бревна сруба.
И тут окно над нами распахнулось, наружу высунулась всклокоченная голова Нурбаева.
– Киш-киш, зелен шайтан! – сказал он и выплеснул ведро с картофельными очистками прямо на гриб.
Раздался тихий хлопок, и фиолетовый пузырь, разлетевшись на лоскуты, исчез. Ефрейтор сморкнулся и захлопнул окно. Мы молча обменялись взглядами и синхронно затянулись. Коваль шумно выдохнул и закашлялся. Андреев поднялся, ощупал носком сапога место, где исчез гриб.
– Знаешь… – сказал он, помолчав, – мы их чем только не пробовали завалить. Однажды даже из ПТРК влупили. А оказывается, надо было водой обливать.
– Чем влупили? – начал я, но потом спохватился: – А где ты их видел? Что это такое?
– Фантом называется, – пояснил Андреев. – В городах водится. Пока выявили, несколько человек потеряли. Ты лишний раз не хватайся за амулет, они, видимо, на это реагируют.
– Значит, группа Кламмера уже добралась до Армады? – предположил я. – Если полезли твари.
– Слушай, Опер, откуда ты все это знаешь? – Коваль не выдержав, вскочил и встал напротив меня.
– У меня дневник Глока, – все-таки решил признаться я. – Почерк, конечно, ужасный. Но многое я разобрал.
– Точно, – вспомнил Андреев. – Он постоянно что-то записывал. Глок же бывший журналист.
– Если бы не Глок, мы бы не смогли все это провернуть, – сказал Коваль. – Он всю историю раскрутил. Он привел к Армаде.
– И он нашел лабораторию Кламмера, – вставил Андреев.
– А почему он был в фашистской форме?
– Глок отлично знал немецкий язык. Оформился у оккупационных властей как фольксдойче. Его без проблем взяли в вермахт.
– Не то что мы, – пожаловался Коваль. – Чуть не засыпались. Если бы не парочка полезных артефактов… А Глок молодец. Был. Но даже после смерти нам помог. Ты сам видел.
– Видел. – Я поежился. – Жутковатое зрелище. Это из-за амулета так?
– Точно, – ответил Андреев. – Страж просто так не уходит. Пока не закончит дело. Или не передаст его другому.
– А из чего убили Глока, ты выяснил?
– И да и нет. Я тут за ними следил все эти дни. Видел у охранения Кламмера какие-то стволы, наподобие винтовок, но с очень толстым стволом. Видимо, на основе артефактов собрали. Лупят, скажу я вам… Они там внизу что-то взрывают, наверное, прорубаются к Армаде. И твари сразу из всех щелей лезут. Вот охрана их с вышек, как в кино, косит.
Когда мы ходили осматривать вход в лабораторию, я видел эти вышки: две мощные бетонные треноги со стальными коробками наверху. Одна располагалась на холме, над аркой въезда, другая чуть сбоку от входа прикрывала грузовой дебаркадер. Под козырьком тоннеля, в бронелисте ворот, тоже имелось несколько наглухо задраенных амбразур.
Я достал папиросу и закурил. На секунду вспышка осветила лица товарищей, приставленные к фундаменту автоматы, заросшую жесткой травой землю.
Горизонт постепенно светлел – над лесом обозначилась подрумяненная снизу полоска перистых облаков. На этом фоне Чернобыль выглядел еще более мрачно. Интересно, почему Андреев уверен, что мутировавшие твари сюда не сунутся?
– Тот, кто солдат высасывает, тоже из этих… из ваших? – спросил я, невольно понизив голос.
– Точно. – Коваль снова присел рядом. – Это, брат, такая тварь, что всем тварям тварь. У нее еще невидимый режим есть. И не заметишь, пока она тебя не прихватит.
– А мне вот интересно, как вы в своем оперативном отделе все это обосновали? – заинтересовался вдруг лейтенант Андреев, присаживаясь с другой стороны. – Задачка-то непростая. Или вы там все дневник Глока за чистую монету приняли?
– Нет, конечно. Шеф… Полковник Мощин – он серьезно дневник не воспринял. Решил, что парень был писатель-фантаст, навроде Алексея Толстого. Он вообще, сдается мне, и не читал толком. У него зрение плохое. А у Глока такие каракули.
– А ты с ним не делился своими мыслями?
– Нет.
– Почему?
Действительно, почему… И в какой момент я сам понял, что все, описанное Глоком, правда? Сложно сейчас сказать. Наверное, просто количество переросло в качество. И шевелящийся труп в морге, и сухое тело бойца, и две человекоподобные твари, выходящие из леса… А еще был маленький черно-белый кристаллик, пирамидка. Я постоянно ощущал ее присутствие. Она словно разговаривала со мной, но не словами, а эмоциями, какими-то еле различимыми, но интуитивно понятными импульсами. И все это было настолько личным, что рассказывать кому-либо я просто не мог. Даже шефу.
– Официально принятая версия такая, – сообщил я, чтобы закрыть тему. – Здесь у фрицев секретная зоологическая лаборатория. Проводят опыты над животными. Крупными обезьянами преимущественно. Выводят вид, который можно использовать в боевых действиях. Почему именно тут? Потому что именно тут присутствует какой-то мутагенный фактор, о чем свидетельствуют нападения на людей, имевшие место еще до войны. Сержант Минаев поехал в центр, за специалистами-зоологами. Мне поручен сбор оперативной информации. Сегодняшняя наша задача, поставленная руководством, – выяснить местоположение лаборатории. По возможности установить количество персонала, а также численность и вооружение охраны. По итогам рейда будет поставлен вопрос о войсковой операции.
– Леша, мы должны завалить их сами! – строго сказал Андреев.
– Знаю.
– И сделать это без помощи твоего руководства, понимаешь?
– Понимаю.
– Никто не должен знать, что тут нарыли фашисты и как этим можно воспользоваться.
– Согласен.
– Какой хороший человек! – похвалил Коваль и выхватил у меня окурок, чтобы прикурить свою папиросу.
Снова отворилось окно. Выглянул Нурбаев, пригласил нас к столу. Сам он выпрыгнул на улицу, караулить, а мы двинулись в обход, к крыльцу. Вошли в дом, на ощупь, точнее – ориентируясь на аппетитный запах, пробрались на кухню.
Небольшая комнатка была освещена только горящими в печке дровами. На столе в широкой тарелке высилась большая горка картошки, по бокам тускло поблескивали открытые банки тушенки. У занавешенного тряпкой окна на длинной лавке развалился Попов с дымящейся кружкой в руках.
– Прошу к столу, командиры. – Он сделал пригласительный жест.
Я уселся на колченогий табурет, руками набрал в миску обжигающей картошки и вздрогнул – на уступе печки кто-то сидел. И тут же выдохнул – это была всего лишь детская игрушка: большой лохматый мишка привалился к трубе, дурашливо растопырив лапы.
Но я смотрел на него и не мог оторваться. Вначале даже не осознавал, что со мной. Как заклинило, и все. А потом дошло: просто я сопоставил все факты, и в голове сложилась картина.
Лейтенант Андреев жил в Чернобыле почти неделю. По его утверждению, поселок был совершенно необитаем. Да я и сам это чувствовал. Можно было предположить, что всех жителей угнали на работы в Германию. Но против этой версии говорило то, что вещи переселенцев остались нетронутыми. Андреев рассказал – в некоторых домах на столах стояли тарелки с высохшими остатками еды. Он же уверил, что твари сюда никогда не захаживают. Боятся. И теперь я знаю кого: вот этой призрачной фиолетовой мерзости, поднявшейся перед нами из-под земли. Фантом – обитатель выжженных городов.
Именно так обстоят дела в мире Глока. Именно это он описывал в своем дневнике. Я смотрел на брошенного мишку, и мне чудился рядом с ним силуэт исчезнувшего ребенка. Следом ни к селу ни к городу выплыла военврач Леночка с ее глупой верой в счастье, которое она должна была встретить под дубом. А потом снова вспомнил дневник Глока, точнее – все ту же вырванную страницу. Сейчас я особо остро ощутил, что написанное на ней имеет для меня жизненную важность.
– Что случилось, Опер?
Андреев смотрел на меня поверх тарелки. Я обнаружил, что все еще сижу, уставившись на детскую игрушку.
– Неужели невкусно? – обеспокоился Попов.
– Вкусно.
Я поднялся из-за стола и, сориентировавшись, добрался до комнаты с окном, выходящим на дорогу. Выпрыгнул наружу, уселся рядом с Нурбаевым.
Заря робко взбиралась по небу, золотя чешуйки облаков. Звезды постепенно гасли, только у самого края горизонта наперекор приближающемуся солнцу ярко сияла крупная точка. Немного посветлело – стало видно поломанные штакетины забора метрах в трех перед нами. В облетевшем саду робко чирикнула какая-то птица. Я предложил Нурбаеву папиросу, закурил сам.
– Скажи, Мамай, а за что ты так немцев ненавидишь?
– Не над об этом говорит, командира, – попросил Нурбаев. – Плох разговор.
– Ну не надо так не надо, – вздохнул я. – Тогда помолчим.
И мы продолжили наблюдать за разгорающимся утром. Из-за угла дома вышли ребята, ни слова не говоря, уселись с нами. Было полседьмого. Примерно через полтора часа по этой дороге проедут две машины, сопровождаемые бронетранспортером. В машинах будут специалисты во главе с оберштурмбаннфюрером СС Гансом Кламмером. В броневике – десять человек охраны. Нужно заминировать дорогу. Коваль специально для этого захватил в рейд взрывчатку. Но займемся мы этим, только когда совсем рассветет. И поэтому сейчас можно спокойно покурить.
Глава 18
5 октября 2016 года. Чернобыль
Хмурое, сырое утро – под стать настроению. Жаль, конечно, что напоследок не удастся погреться на солнышке. Очень я люблю осеннюю Зону, с ее расцветками и запахами. Но сейчас все краски смыла мелкая дождевая пыль, носящаяся в воздухе.
Я сажусь на крыльцо, закуриваю. Из открытой двери доносятся звуки: гремит чашками Паутиныч, бухают тяжелые шаги Чекиста. На улицу робко вытягивается легкий аромат кофе.
– Не кисни. Вернемся – еще позагораем! – Чапай хлопает по плечу и усаживается рядом.
Курим, разглядывая мокрый сад. Ярко-красные шары яблок на облезлых ветках выглядят нарисованными. На остатках заборной сетки висят гирлянды мутных капель. Из-за дома торчит зад джипа, щедро заляпанный рыжими брызгами. Бочка у крыльца опять переполнена, блестит влажным пузатым боком.
– Слушай! – спохватывается Чапай. – А как мы снарягу-то переправим? Она же вся промокнет!
– Вспомнил! – усмехаюсь с вялым самодовольством. – Я специально герметичные мешки из магазина прихватил.
– Орел! – Чапай уважительно толкает в бок. – Пошли кофейку глотнем. Паутиныч расщедрился.
Чапай бросает окурок в лужу и уходит. Когда я возвращаюсь в дом, все уже расположились за столом. Почти все – она по-прежнему недвижно сидит в своей комнате на кровати. Сегодня она в белой блузке и таких же белоснежных джинсах. Видимо, Паутиныч приодел ради проводов.
Старик воспринял наш поход с большим воодушевлением. Вот и сейчас восседает, как на именинах: веселый, румяный, из зарослей бороды радостно поблескивают остатки зубов.
– Давай, давай, Глок! – резво машет он мне. – Присаживайся. В такое знобкое утро чашка кофе – самое оно. Вернетесь, налью чего покрепче.
– Ты думаешь, у нас получится? – уныло спрашивает Чекист.
– Знаешь, парень, достаточно того, что у вас – теоретически – может получиться. Это, поверь мне, уже так много, что я бы сам побежал в ту лужу нырять… Был бы помоложе лет эдак на сорок.
– И если получится, не будет этого Взрыва?
– Если совсем получится, не будет Зоны, – со смешком заявляет Паутиныч.
Пьем кофе, Паутиныч продолжает балагурить, пытается поднять настроение. Безуспешно – слишком много висит на душе.
– Пора, – полувопросительно говорит Чапай.
– Пора, – соглашаюсь я, взглянув на часы.
– А может, все-таки налить? Для бодрости духа? – робко предлагает Паутиныч.
– Когда вернемся, нальешь, – мрачно отвечает Чекист.
Товарищи поднимаются из-за стола, я сижу, поглядывая в сторону комнаты. Чапай замечает это.
– Мы пойдем машину прогреем, – говорит он и толкает в бок напарника.
Они берут шмотки и выходят на улицу. Я выпиваю последний глоток из чашки, на зубах остаются кофейные крошки. Иду к ней. Присаживаюсь на корточки. Ее глаза прикрыты круглыми солнцезащитными очками, на стеклах переливаются голографические картинки: черепа с костями. Не знаю, где Паутиныч нашел эти очки, но они подходят идеально – и по форме, и по содержанию, очень идут к ее бледному, узкому лицу, делая его каким-то пронзительно-благородным. И позволяют мне спокойно рассмотреть ее напоследок. Тонкие ноздри еле заметно подрагивают при выдохе, губы чуть приоткрыты, за ними белеют выпуклые пластинки зубов. Густые черные волосы, слегка спутанные, достают до пояса, челка прикрывает брови. В ушах сережки, маленькие золотые колечки, за левую сережку зацепилась прядь, повисла петлей над плечом.
Я долго смотрю на нее. Тревожит мысль: надо что-то сказать. Но ничего на ум не приходит. За окном взревывает мотор, хрустят ветки – ребята разворачиваются. Осторожно накрываю ее ладонь своею. Никакой реакции. Я пожимаю прохладные тонкие пальцы и поднимаюсь.
Паутиныч сидит за столом, цедит кофе, но по каким-то неуловимым признакам я понимаю: он наблюдал за нами, только что отвернулся. Шнурую берцы, подхватываю свой рюкзак.
– Дай-ка мне адресок твоей внучки, – прошу, подходя к столу.
– Зачем?
Паутиныч с удивлением смотрит на меня, но спустя секунду удивление в его глазах тухнет. Вижу: понял. И мне почему-то кажется, что понял он даже слишком много – от этого становится неловко.
– Ельск, улица Ленина, 15, – говорит Паутиныч после долгой паузы. – Не забыл, как зовут?
– Не забыл.
– Ну смотри! – Паутиныч грозит кривым пальцем. – Она будет ждать.
И тут настает его черед смущаться: старик быстро поднимается и идет к вешалке. Поздно – я успеваю заметить, как на морщинистую щеку срывается слеза.
Товарищи стоят у работающего джипа, курят. Ворота распахнуты, за воротами колышется дождь. Подходим вместе с Паутинычем, он кутается в брезентовый плащ. Прощаемся молча. Усаживаемся в машину. Паутиныч поднимает раскрытую ладонь:
– Доброй дороги!
Мы трогаемся. Я выдерживаю минуту, потом оборачиваюсь: старика уже скрыла туманная морось.
Окна быстро запотевают, печка не справляется. Мы опускаем стекла. Звуки становятся острее: хлюпанье, треск, натужный рев мотора – джип пробирается через заболоченную низину. Когда-то здесь шла грунтовка, но теперь от нее осталось одно название.
Сворачиваем на проселок. По сторонам тянутся покосившиеся, почерневшие от времени и непогоды срубы. Окна заколочены крест-накрест, в шифере крыш сквозные проломы, сквозь дыры глядит серое небо. Придорожные ветлы тянут ветки к самой земле, мы едем как сквозь праздничный серпантин. На лобовое стекло липнут узкие, похожие на пиявок листья, дворники безжалостно разбрасывают их в стороны.
Впереди показывается шоссе, я узнаю его по высокой насыпи. До шоссе метров сто. Но эти метры – сплошная вода. Даже ряска плавает и торчат пучки камышей. Чекист притормаживает.
– Давай попробуем! – предлагает Чапай, просунувшись между нашими сиденьями.
– Вытаскивать ты будешь? – бурчит Чекист.
– Тут неглубоко, – предполагаю я без всяких на то оснований.
– Для дайверов, может, и неглубоко, – хмуро шутит водитель. – Ладно, попробуем.
Медленно въезжаем в лужу. Мы с Чапаем перегибаемся через двери наружу. Вода потихоньку поднимается, доходит до ступиц, начинает лизать пороги. Я нервно заглядываю под ноги – пока сухо. Вода все выше…
– А, на хрен! – не выдерживает Чекист и вжимает педаль в пол.
Мы еле успеваем убраться внутрь. Мощные буро-зеленые волны бьют из-под днища, будто крылья вырастают по бокам. На полном ходу взлетаем по склону и еле успеваем затормозить на той стороне шоссе.
– Поняли?! – задиристо выкрикивает Чекист.
Он сдает назад, выравнивает машину – и вот мы уже мчимся в сторону озера.
Ветер, полный мелкого дождя, бьет прямо в лицо. Щурясь, я смотрю на проплывающие мимо пейзажи, знакомые до оскомины, но все еще не приевшиеся. Вон на холме торчат черные перекрестья стропил – Горелый Хутор, одна сплошная аномалия. Я там нашел свой первый стоящий артефакт. Чуть дальше – опора ЛЭП, закрученная, как штопор. Под ней гнездятся сразу две аномалии: «разрядник» и «гравиконцентрат» – если бросить болт, на бетонном основании вздыбятся спиральные молнии, похожие на пружины матраса. Две человеческие фигуры на дальнем пригорке замерли в настороженных позах: серые комбезы, открытые шлемы – кто-то из наших. Я выставляю в окно растопыренную пятерню.
А вот и мост, по которому мы с Чекистом шли совсем недавно. Под разрывом отбойника, прямо посреди реки, высится груда ржавого металла: на гнутых ребрах кузова полощутся гнилые лоскуты тента, торчит из воды морда «ЗИЛа», напоминая притаившегося крокодила, рядом высится зад БМП, почти вертикально вошедшего в дно. Кормовые люки нараспашку – левый вскрыл я, пока ребята шмонали грузовики, и, помню, мне тогда досталось три почти нестреляных «абакана»…
По левую сторону открывается котлован с постройками завода «Сатурн». Мы с Чапаем высматриваем те самые гаражи. Вон они, правее котельной. Мне даже кажется, что я вижу огненную аномалию…
– Что приуныли, стражи! – Чекист разглядывает нас в зеркало заднего вида. – Может, музыку врубим?
– Не надо, – морщится Чапай.
Въезжаем в лес. Дорога завалена плотным ковром слежавшейся листвы – словно кто-то раскатал по асфальту рулон камуфляжной ткани. Здесь заметно темнее, как будто уже наступил вечер. Смотрю на время – начало десятого утра. На обочине, съехав задними колесами в кювет, замер военный «КамАЗ» с КУНГом, на ржавом металле кабины многочисленные пулевые отверстия.
– Это уже после Взрыва было, – оглянувшись на «КамАЗ», говорит Чапай.
– Зверье! – безапелляционно заявляет Чекист.
Лес кончается внезапно – и перед нами расстилается озеро. Дорога уходит прямо в воду, легкие волны суетливо напрыгивают на асфальт, оставляя мокрые разводы. Чекист останавливается.
Мы вылезаем из машины, я подхожу к самой кромке воды. Волна мягко лижет носок берца. Под водой можно разглядеть растрескавшийся асфальт с двойной линией разметки. Это хорошо, значит, Озеро более-менее прозрачное… Противоположного берега не видно – над свинцовой гладью носятся похожие на вату клочья тумана, напоминая пар над кипящим котлом. Низко висит небо, такое же серое, сонное и угрюмое, как озеро. Пахнет тиной. По сторонам от нас – тоже туман, в нем теряются заросшие лесом берега.
Там, в глубине озера, скрывается Армада. Армада… Центр мироздания. Пульт управления миром. Монотонно-серая поверхность чуть рябит от ветра. Отсюда ударила волна, уничтожившая цивилизацию… Клубится туман, плещется волна в вымоинах глинистого берега. Тихо и тоскливо. А если в озере ничего нет? Что тогда?
Чапай с Чекистом подходят, застывают рядом. Долго вглядываемся в белесую муть.
– Однако, холодно! – высказывается Чапай.
– Внутри Армады согреешься, – обещает Чекист.
– Пошли собираться, – говорю я решительно, хотя решительности этой нисколько не ощущаю.
Основные вещи упакованы в гермомешки. Получилось не так и много: стволы, кое-какие шмотки, армейские рационы питания, сигареты. Отдельно уложены патроны – Чапай набрал экспансивных 9-мм, заявив, что под «шмайсер» они подойдут без проблем.
Я скидываю комбез, быстро облачаюсь в гидрокостюм, тяну за хлястик спинной «молнии». Неопрен упруго стягивает кожу, сразу становится теплее. У ребят все получается значительно медленнее. Чекист – тот вообще принимается уверять, что ему подсунули не его размер. Помогаю сначала Чапаю, потом мы вместе натягиваем костюм на матерящегося Чекиста. Упаковываем снарягу в оставшиеся гермомешки.
– Возьми вон булыжник, брось в мешок, – советую Чекисту.
Бронелисты его «Голиафа» топорщатся из-под ткани, не давая возможности стравить воздух как следует. Чекист послушно берет камень и кладет внутрь.
Босые ноги мерзнут, мы снова надеваем берцы. Потом подтаскиваем баллоны к самой воде.
– Покурите пока, – предлагаю я.
– А ты пока сплаваешь на разведку? – шутит Чекист.
– Хорошая идея, – подхватывает Чапай. – Мы как раз ужин сварганим.
– Поздно, ребята, – отвечаю в тон. – На полном ходу спрыгивать – шею можно сломать. Курите, я все подготовлю.
Проще собрать все самому, чем объяснять. К тому же так оно будет надежнее. Замачиваю в воде жилеты, навешиваю на баллоны. Ставлю регуляторы, подсоединяю шланги. Когда откручиваю вентиль на манифольде Чапая, раздается резкий свист. Травит шланг. Иду за запасным регулятором.
– Так, Ихтиандры, идите-ка сюда!
Они подходят, опасливо косясь на снарягу. Спарки стоят в ряд, похожие на какие-то фантастические приспособления для реактивного полета.
– Я вам вчера рассказывал, как продуваться. Не забыли? Молодцы. Сейчас пойдем на трубках, отплывем подальше, ближе к центру, там будем опускаться. Уйдем где-то на метр, и остановка – продуваем уши. Пока не покажете мне «Ок», дальше опускаться не будем. Потом останавливаемся на трех метрах. Снова продуваемся. Понятно? Берите ремни, вешайте грузы. Тебе штуки три, тебе – пять. Контейнеры с артефактами спереди, грузы сзади, под жилетами.
Видно – мужики нервничают. Ну да ничего. Я тоже нервничаю. Тащить под воду двоих неподготовленных товарищей, да еще и не пойми куда… Но вариантов нет. При помощи Чапая вешаю акваланг на Чекиста, затягиваю ремни.
– Не забыл – как?
Вместо ответа Чекист подхватывает шланг инфлятора, вдавливает кнопку. Жилет с шипением надувается до тех пор, пока за спиной с хлопком не срабатывает клапан. Молодец. Вместе с Чекистом снаряжаем Чапая. Потом они помогают облачиться мне. По спине стекают струйки пота, костюм липнет к разогретой коже. Тяжесть спарки заставляет наклоняться вперед. Раздаю напарникам фонари и химические трубки. По два на брата. Должно хватить. Переобуваемся в ласты.
– Вроде все.
– А усы не будут маске мешать? – спрашивает Чапай.
– Сбрей, – говорю я серьезно.
– Обойдешься.
– Ну тогда пошли.
– Покурим на дорожку. – Жалкая улыбка кривит раскрасневшееся лицо Чекиста.
Он, неуклюже задирая ласты, идет к машине, где на капоте осталась пачка сигарет и зажигалка. Садимся на асфальт у самой воды, закуриваем. С неба сыплется дождевая пыль, оседает на лицо, смешиваясь с потом. Тихо плещется вода, затекая на ласт. Настраиваю на компьютере таймер. Все? Все! Electa una via, non datur recursus ad alteram[12].
– Пошли!
Тяжело, помогая друг другу, поднимаемся. Раскачав, кидаем подальше связку гермомешков – они с громким плеском уходят на дно, веревка на моей руке натягивается, тянет вперед. Уступая ей, шагаю в озеро. Вода холодом впивается в открытую кожу ступней, обхватывает лодыжки, поднимается все выше, доходит до пояса. Я плюю в маску, растираю слюну по стеклу, споласкиваю. Совсем рядом покачивается на волнах окурок. Как знать, может быть, это был мой последний перекур…
– Готовы? – бросаю вопрос за спину.
– Всегда готовы! – прилетает ответ Чекиста.
– Поплыли!
Глава 19
16 октября 1943 года. Чернобыль
Взрыв был красив и элегантен: красные всплески огня в обрамлении черных хлопьев земли. На секунду над подоконником вынырнула скошенная бронированная морда «Ханомага», будто из любопытства заглянула. Вместе с ней прилетел грохот – и с корнем вынес оконные рамы. Я отпрянул в коридор, но кусок стекла все же полоснул по лбу, на глаза закапало горячим.
Я рванул в окно, хрустя осколками, выпрыгнул. Периферийным зрением уловил, как из соседних окон вылетают товарищи. С крыши свалился Чапай – это он привел в действие фугас, чуть не задел меня сапогом по носу, рванул вперед.
Забора больше не было. Придорожных кустов тоже. Была разбросанная взрывом земля. Был дымящийся броневик, осевший мордой в глубокую воронку. И тлеющая легковушка с оторванным багажником. И густые облака вонючего дыма, висящие над землей, как миниатюрные грозовые тучи. И только что поднявшееся над горизонтом солнце – по-утреннему яркое, свежее – протыкало эти тучи желтыми лезвиями лучей.
Головная машина, совсем целая, соскочила в кювет – и сейчас оттуда лезли фашисты с короткими толстыми трубами в руках. Треснул воздух у самого уха – я мимоходом осознал, что немец метил именно в меня. Резанул очередью, не целясь, и он упал, схватившись за живот. Еле видный сквозь дым Андреев взбирался по наклоненной крыше броневика с двумя гранатами в руке. Коваль катился по дороге, то ли чтобы уйти от выстрела, то ли раненый. В чреве «Ханомага» басовито прогудели взрывы, все его металлическое тело судорожно дернулось, а из раскрытого люка вырвался багровый заусенец огня. С переднего сиденья разбитого «Опеля» стрелял выживший фашист, гильзы, поблескивая, сыпались в пыль. А рядом со мной, упав на одно колено, садил из двух пистолетов рядовой Попов…
А потом все разом успокоилось. В наступившей тишине пушечным выстрелом громыхнула лопнувшая шина. Я вытер кровь, стекающую по левой брови, и огляделся.
Броневик торчал кормой к небу, перебитая гусеница обвисла на катках, из распахнутых люков валил черный дым. В воронке, куда он съехал мордой, осторожно разгоралось пламя. «Опель» с практически оторванной кормой застыл поперек дороги, на распотрошенную спинку заднего сиденья свешивалась припорошенная пылью рука, по запястью стекал яркий кровавый ручеек.
А рядом, уткнувшись лицом в траву, будто хотел спрятаться от встающего солнца, лежал ефрейтор Нурбаев. И по самой его позе, по неудобно подвернутым ногам я понял, что он мертв. К убитому подбежал Попов, а я, заметив, что Коваль с Андреевым суетятся у головной машины, поспешил им на помощь.
Роскошный кремовый «БМВ» практически не пострадал от взрыва. Если бы не разбитые стекла и россыпь пулевых отверстий на дверях – можно было хоть на выставку: хромированные детали горели огнем, а лакированные изгибы масляно лоснились.
Андреев вытаскивал из салона слабо постанывающего немца. Я заметил на сером кителе в районе плеча кровавое пятно. Коваль подтаскивал к машине еще одного – из тех, кто успел выскочить.
– У тебя только этот живой? – спросил Андреев, прислоняя своего немца к колесу рядом со вторым.
– Только этот, – развел руками Коваль.
– Ну ничего страшного. Зато у меня сам Кламмер.
Я внимательно оглядел человека, ради которого все затевалось. Маленький, толстенький, с приглаженными русыми волосами – он походил на благообразного школьного учителя, и даже форма СС не мешала этому сходству. Тонкие губы немца кривились от боли, а на кончике круглого носа, тонувшего в пухлых щеках, жалобно дрожала капля крови.
– Мамай убит! – мрачно сообщил подошедший Попов.
Коваль замер на секунду, потом выдохнул и полез за папиросами. Андреев посмотрел в ту сторону.
– Давай-ка, Одесса, быстро затуши огонь! – скомандовал он.
– Дык как…
– Как хочешь. Ищи огнетушители, брезент, лопаты. Должны быть. Быстро, пока дым не заметили с берега. Быстро!
Попов убежал, а мы обступили привалившихся к машине фашистов. Андреев пнул Кламмера по ноге. Немец вздрогнул, открыл заполненные страхом глаза. И я понял, что все это время он притворялся.
– Опер, ты же по-ихнему шпрехаешь? – спросил Андреев.
– Немного.
– Спроси у него, где ключ.
– Gib mir den Schlüssel, Klammer![13]
– Ich verstehe nicht…[14] – простонал немец.
Андреев с размаху влепил ему сапогом под ребра – Кламмер, взвизгнув, согнулся и задергался всем телом, как в припадке.
– Schlüssel![15] – повторил я, когда немец затих.
Кламмер заелозил пухлыми ручками по животу, нащупал на ремне кожаную сумочку и проворно вытащил из нее широкую стальную пластину с разнокалиберными дырочками.
– Молодец! – похвалил Андреев. – Теперь нужно узнать код от двери. Чекист, приведи своего в чувство.
Второй немец, носатый блондин с оттопыренными ушами, тут же открыл глаза.
– Как же они любят дохлыми притворяться! – пожаловался Коваль.
– Sie kennen den Türcode?[16] – спросил я, переключившись на второго немца.
– Ja! Ja! – с готовностью заторопился тот. – Dreiundvierzig, achtundneunzig, fünfundfünfzig[17].
– Сорок три, девяносто восемь, пятьдесят пять, – перевел я.
– Зер гут! – кивнул Андреев.
Он достал пистолет и выстрелил немцу в лоб. Затылок фашиста смачно впечатался в дверь машины, оставив там вмятину, тело завалилось на Кламмера, тот проворно отодвинулся.
– А теперь послушаем правильный ответ, – спокойно произнес Андреев, переводя ствол на трясущегося Кламмера.
Фашист непроизвольно выставил перед собой ладони, буквально прикипев взглядом к блестящему «парабеллуму».
– Türcode![18] – рявкнул я.
– Aber, aber… Meier sagte die Wahrheit! Ich schwöre dir![19]
– Говорит, что тот правду сказал.
– Ну и хорошо! – покладисто согласился Андреев. – С вами приятно вести дело, герр Кламмер.
Лейтенант огляделся по сторонам, заметил одну из коротких винтовок с толстым стволом, которыми были вооружены немцы, подобрал.
– Ты спрашивал, чем убили Глока? – спросил Андреев меня. – Вот этой вот штукой.
Мы с Ковалем заинтересованно склонились над оружием. Из привычного в нем был только деревянный приклад и спусковой крючок. Вместо ствола что-то наподобие трубы телескопа с оптическим прицелом и выпуклой линзой на конце. Ни затвора, ни магазина… Слева на металлической поверхности трубы имелись два колесика, как у радиоприемника.
– А откуда они артефакты для этих своих пушек берут? – спросил Коваль.
– А ты походи по поселку, полюбопытствуй! – посоветовал Андреев. – Я только на одной главной улице несколько «разрядников» обнаружил. Когда эти черти под землей что-то взрывают, аномалии как грибы растут.
Мы снова обернулись к Кламмеру. Андреев взвесил ружье на руке, покрутил колесики – и пожал плечами.
– Господин Кламмер, – обратился он к немцу. – Наш друг Глок очень просил передать вам дырку в спине. Поэтому предлагаю встать и бежать. Опер, переведи, пожалуйста.
Я перевел. Андреев сопроводил мои слова жестом – дернул стволом снизу вверх и указал им на дорогу. Кламмер все понял. На трясущихся ногах он поднялся, попробовал что-то сказать, но лейтенант угрожающе перехватил телескоп. Тогда немец развернулся и, постоянно оглядываясь, засеменил в сторону поселка. Он все увеличивал темп и, когда отошел метров на пятьдесят, не выдержал – побежал. Андреев приставил оружие к плечу, прицелился и нажал на спуск. Раздался тихий свист, Кламмер кубарем прокатился по дороге, взбивая клубы пыли, и затих мешковатым кулем на обочине. Лейтенант обернулся к нам.
– Вытри лоб, – посоветовал он мне.
И, закинув телескоп на плечо, пошагал к Попову. Я посмотрел на Коваля.
– Хорошая пушка, – сказал он. – Надо будет…
Речь его прервал грохот – взорвался бензобак так и не потушенного Поповым броневика.
Ефрейтора Нурбаева похоронили в саду за домом. Трава здесь была усыпана крупными румяными яблоками. Андреев пустил по кругу фляжку, мы все сделали по обжигающему глотку спирта. И закусили яблоками с земли. Попов, подчиняясь непонятному импульсу, положил одно яблоко на свежий могильный холмик.
А потом загрузились в кламмеровский «БМВ» и покатили к лаборатории. Можно было пройти пешком – вход располагался рядом, на окраине села, – но уж больно хороша была машина.
Коваль лихо затормозил на площадке перед воротами, автомобиль понесло юзом и развернуло параллельно входу. Мы вышли наружу, и я с любопытством осмотрел это место при свете дня.
Вход в лабораторию находился на западном склоне небольшого холма. Арка тоннеля поднималась на высоту около четырех метров. Проход перекрывал гладкий металлический щит, выкрашенный в серо-зеленый цвет. На уровне плеч в металле виднелись задраенные отверстия – бойницы. Возле крайней бойницы поблескивала прямоугольная панель: прорезь для ключа и четыре ряда кнопок.
Ворота, судя по всему, отъезжали вправо, потому что слева в склоне холма была сделана глубокая бетонированная ниша – Андреев упоминал, что немцы загоняли туда броневик охранения. С другой стороны тоннеля, оканчиваясь кряжистой трехногой вышкой, подходили железнодорожные пути. Возле путей высилась ржавая разгрузочная платформа с пандусами по краям. Еще одна вышка раскорячилась на холме, прямо над аркой входа.
– Будет весело, если фашисты соврали насчет кода, – произнес над самым ухом Коваль.
Я оглянулся: Андреев уже стоял возле замка, задумчиво водя пальцем по усам.
– Надо было Кламмера с собой взять, – поделился я мыслью. – Мало ли…
– А если есть какой-то другой код? – спросил Коваль. – Который, к примеру, что-то там активизирует или включает сигнализацию?
И тут я заметил, что сержант не просто стоит рядом, а держит ворота под прицелом боевого фашистского телескопа. Этих телескопов оказалось всего три, но один был разбит пулей – Коваль с Андреевым забрали себе два целых. Я на чудо-пушку и не претендовал: предпочитаю пользоваться тем оружием, принцип работы которого понимаю. Перехватив «MP38», я навел его на Андреева. Попов стоял у машины и тоже держал автомат в боевом положении.
Андреев всунул перфорированную пластину в прорезь, набрал комбинацию цифр. В толще металла что-то звякнуло, и створка поползла вправо.
С этой лабораторией было связано столько непонятного и таинственного, что я был несколько разочарован: за воротами открылось обычное помещение со штабелями деревянных ящиков вдоль стен. Проход вел вглубь метров на десять и упирался в решетчатую коробку лифта. Вот и все.
Андреев осторожно двинулся по проходу. Мы подтянулись ближе. Я обратил внимание, что со сводчатого потолка свешиваются три жестяных плафона с мощными лампами. Лейтенант тем временем дошел до шахты лифта и, распахнув решетчатую дверь, потрогал носком сапога платформу.
– Ну чего? – крикнул Коваль.
Андреев, не ответив, пошел обратно, по дороге внимательно оглядывая ящики с рядами буквенно-цифровых обозначений. А я почувствовал радость – мои предположения оказались верны: слева от прохода, чуть особняком, стояли грубо сколоченные коробки с надписью: Granatfüllung[20]. Коробок только в первом ряду было двадцать штук – по пять в штабеле. А сколько еще за ними? Если предположить, что все они заполнены…
– Надо спускаться, – сказал подошедший Андреев.
– Вон те ящики видишь? – Я ткнул пальцем.
– Ну?
– Это мелинит. Пикриновая кислота. Взрывчатка.
– Ой-вей! – произнес Попов.
– Это еще мягко сказано! Тут его столько, что хватит и на нас, и на весь Чернобыль.
– Ну что ж, – ничуть не расстроился Андреев. – Я же говорил, они тут постоянно что-то взрывали. И снаружи – там дальше, за холмом, у них специальная площадка, и внутри, под землей. Как раз пригодится, чтобы лабораторию похоронить. И все равно – надо спускаться. Ты, Одесса, остаешься на стреме. Мы сейчас ворота закроем. Сиди, карауль. Если что заметишь – дай знать.
– Каким образом? В шахту лифта кричать?
– Как-нибудь, – отмахнулся Андреев. – На самом деле это больше для перестраховки. Насколько я понимаю, им запрещено приближаться к лаборатории, когда Кламмер там опыты проводит. Так что сюда никто не сунется. Понял?
– Так точно, – с сомнением ответил Попов.
– Готовы? – повернулся Андреев к нам.
– Всегда готовы! – отозвался Коваль и грустно усмехнулся. – То под воду, то под землю…
С внутренней стороны ворот имелась поворотная скоба, выкрашенная в красный цвет. Андреев дернул ее – створка с тихим металлическим скрежетом поехала по направляющим. Я наблюдал, как темная тень медленно стирает полукруг солнечного света на бетонном полу. Ворота встали на свое место, лязгнули невидимые засовы. Мы оказались в замкнутом пространстве, освещенном синеватым светом.
Пока Коваль с Поповым разбирались с задвижками амбразур, я вслед за Андреевым пошел к лифту. Внутри огороженной сеткой шахты, на уровне пола, располагалась металлическая площадка – полтора на полтора метра – с низкими поручнями по периметру. На левом поручне была закреплена жестяная коробочка с двумя кнопками. По бокам шахты из пола поднимались массивные полукруги маховиков с тросами. В задней стенке имелась ниша с металлической лестницей, ведущей вниз.
Я робко поставил ногу на настил. Осторожно перенес вес. Встал обеими ногами. Слегка подпрыгнул – пол еле заметно закачался из стороны в сторону. Андреев встал рядом. Потом мы вместе заглянули в пролет лестницы: судя по гирлянде ламп, висящих на стене, шахта уходила довольно-таки глубоко, метров на тридцать – точно.
– Едем? – спросил Коваль, заходя на платформу.
– А хрен ли делать? – ответил Андреев.
Он нажал кнопку на поручне. Где-то внизу натужно взвыл мотор, и лифт начал медленно опускаться. Попов наблюдал за нами от ворот, его напряженное лицо было окрашено живым светом, падающим из открытого прямоугольника амбразуры.
– Всегда бы так в лаборатории спускаться! – сказал Коваль.
– Это точно! – с чувством отозвался Андреев.
Мимо проплывали измазанные белесыми потеками бетонные стены шахты. Лампы висели через каждые полтора метра. Светлый прямоугольник над головой становился все меньше. На двадцать третьей лампе спуск прекратился, я опустил голову: перед нами находился невысокий, скупо освещенный тоннель.
– Ага! – торжествующе воскликнул Коваль. – Вот и аномалия!
Он имел в виду странное образование у стены тоннеля: сине-фиолетовую светящуюся дымку, полукруглой лужей растекшуюся на полу. По поверхности лужи с тихим треском бегали ветвистые молнии, иногда взбегая по стене до самого потолка.
– Слабенькая, – пренебрежительно произнес Андреев.
– На нас хватит, – возразил Коваль. – Постойте здесь.
Он осторожно приблизился к аномалии, снял с пояса флягу, полил на пол, а потом, отойдя подальше, плеснул водой так, чтобы получилась линия от электрической лужи до водяной.
Треснуло, коридор осветила яркая синяя вспышка, я на секунду ослеп, но перед этим успел увидеть, как аномалия по водяной дорожке перебежала на лужу воды и втянулась в пол. Запахло озоном.
– Давайте! – махнул Коваль.
Мы прошли по коридору не меньше ста метров, прежде чем показался черный провал выхода. Увидев его, Коваль предостерегающе поднял руку. Мы с Андреевым замерли на месте, а сержант, бесшумно ступая, по стенке прошел дальше и заглянул за угол. Потом, не оборачиваясь, сделал призывный жест.
Мы осторожно приблизились. Коридор обрывался в темноту – висящая на стене лампа освещала только небольшую часть металлической площадки с ограждением по краю. Я полез было за спичками, но Андреев перехватил мою руку.
– Вон выключатель. – Он показал на спрятанный в нише стены рубильник.
Коваль тут же опустил ручку. С громким хлопком где-то вверху вспыхнули яркие прожекторы. Я невольно зажмурился, а когда открыл глаза – замер, усиленно моргая.
В огромном круглом зале на толстенных металлических тросах висела какая-то здоровенная расширяющаяся книзу конструкция. Мне видна была только верхняя ее часть, с литыми крюками для крепления тросов. Забыв про осторожность, я сделал несколько шагов к краю площадки и оглядел помещение.
Металлический балкон опоясывал зал по периметру. Через равные промежутки на него выходили двери – три, пять… семь двустворчатых дверей с похожими на корабельные иллюминаторы окошками.
Висящая в центре зала штуковина походила формой на грушу и тянулась почти до самого пола – то есть имела не меньше десяти метров в высоту. Груша была отлита из темно-серого, напоминающего свинец металла, на поверхности различались какие-то наплывы и неровности. Пол зала, заметно вогнутый, покрывала сетка, выполненная из толстой золотистой проволоки.
– А знаешь, Чапай, – радостно сообщил Коваль, – я ведь помню это место!
– Значит, нашли! – удовлетворенно произнес Андреев.
Глава 20
5 октября 2016 года. Чернобыль
В ушах еле слышно шумит кровь. Вокруг не видно ничего – фонарь практически бесполезен: четко оформленный луч света с трудом протыкает темноту, вязнет в зеленоватой мути уже на втором метре. Так что я больше подсвечиваю ребятам – чтобы не боялись. Приятное ощущение невесомости подпорчено тянущей запястье веревкой – я тяну за собой мешки с нашей снарягой.
Мы погружаемся практически вертикально. Чапай с Чекистом вяло барахтаются справа, чуть выше. У них закономерные проблемы с плавучестью: то спускают воздух из компенсаторов, то снова поддувают. Я периодически дергаю их за ласты, корректирую положение. Дышат они весьма неэкономно, но, надо надеяться, воздуха в баллонах хватит.
Резко холодает. Я смотрю на глубиномер – 12 метров. Парни предупреждены про термоклин, но все равно заметно, что занервничали. «Ок» – показываю сведенные кольцом пальцы – без паники!
На табло компьютера лениво сменяются цифры – 15, 16, 17… Сколько еще погружаться – вопрос. Я сверяюсь с компасом. Хотя какая разница, где здесь север? Либо Армада под нами, либо – хрен ее знает, в какой стороне. Третьего не дано.
Прежде чем погрузиться, мы проплыли по поверхности озера где-то метров триста. Берег скрылся в тумане, и более точно оценить расстояние стало невозможно. Очень хочется надеяться, что мы угадали с серединой. Потому что найти Армаду в такой мути можно, только если на нее наткнуться. И амулеты молчат. Мой, во всяком случае, никак не реагирует на происходящее – лишь слегка покалывает грудь, прижатый к коже гидрокостюмом.
20 метров, 21, 22… Опускаемся все ниже. Мы под водой уже почти десять минут. Правда, большее время барахтались у самой поверхности – напарники осваивались со снарягой и учились «продуваться».
Вдох-выдох – клокочет воздух. Колышется мутная пустота. Вокруг ничего и никого. Чекист не выдерживает, врубает свой фонарь. Луч у него широкий, рассеянный, он отражается от зеленоватой взвеси, вокруг нас становится заметно светлее. Жестом показываю, чтобы выключил – надо экономить. Помедлив, Чекист подчиняется.
Но темнее не становится. Я непонимающе верчу головой. Такое ощущение, что свет фонаря задержался вокруг нас, растворившись в воде. Но нет – освещение идет снизу. 34 метра!
А потом я судорожно бью ластами – и буквально взлетаю вверх. Потому что мне кажется, что вода исчезла! Глупая мысль, но тем не менее: я внезапно выпал из непроглядной мути в абсолютную пустоту.
Друзья крутятся вокруг меня, я вижу сквозь стекла их масок панически вытаращенные глаза. Надо успокоиться. Показываю, чтобы зависли на месте и ждали. Вроде бы поняли.
Снимаю веревку от мешков, передаю Чапаю. Показываю, чтобы включил свой фонарь. Начинаю осторожно погружаться. 35, 36… И вот оно! Резкий переход – от непроглядной болотной жижи к кристально чистой воде. Эту границу можно потрогать. Я провожу по ней рукой – облачко грязи медленно вытягивается вслед за ладонью.
Но тут же я забываю обо всем. Потому что вижу внизу ЕЕ! Армаду! Огромная пирамида парит подо мной в толще воды.
Шершавая каменная поверхность, серая, с желтым отливом. Вроде бы от нее исходит это зеленоватое свечение, но, может быть, светится вода вокруг.
Ребра заметно темнее граней. Трудно оценить высоту пирамиды, но сторона основания точно не меньше ста метров длиной. И вершина нацелена как будто точно на меня. На самом деле Армада чуть сбоку. Можно видеть уходящую в глубину нижнюю часть октаэдра. А там, далеко-далеко внизу, ровно под острием вершины, клубится чернота. Я не столько понимаю, сколько чувствую: у этой черной дыры нет дна.
Хочу подняться наверх, чтобы позвать товарищей. Но выясняется, что они уже рядом – не смогли удержать глубину. Оба уставились на Армаду, позабыв про все. Чапай отпустил веревку от гермомешков, она медленно втягивается в мутную стену.
Срываюсь с места, хватаю за петлю на конце веревки. Чапай с Чекистом меня просто игнорируют. Они даже не замечают, что плавно опускаются к Армаде. Руки-ноги разбросаны в стороны – со стороны они напоминают каких-то дурацких лягушек.
Цепляю веревку на руку и гребу обратно, вниз. Машинально смотрю на компьютер: глубина – 32 метра и продолжает уменьшаться. Вспоминается шутливое определение дайвинга: погружение с запланированным возвращением на поверхность. Если не учитывать этот нюанс, то тургеневскую Муму тоже можно причислять к дайверам. Интересно, выберемся ли мы обратно? Подозреваю, что если и выберемся, то явно не традиционным способом.
Догоняю друзей, дергаю за ласты. Чувствую, как оба вздрагивают от неожиданности, быстро оборачиваются. Глаза у обоих, по-моему, уже вылезли за контуры масок.
Чекист тычет пальцем в сторону Армады. Спасибо, друг, без тебя бы я ее не заметил! Показываю: плывем дальше. Привязываю на руку Чапаю веревку от мешков и несколькими ударами ласт вырываюсь вперед. 28 метров, 27… Что бы это значило?
Армада висит в толще кристально чистой воды. Она похожа на гигантскую елочную игрушку. И я только сейчас замечаю – вокруг стоит какой-то низкий, на самой границе восприятия, гул. Будто работает очень мощный электроприбор.
Серая поверхность одновременно напоминает камень и металл. Мы уже совсем близко. Теперь я могу рассмотреть замысловатые геометрические узоры, покрывающие грани. Сквозь кажущуюся хаотичность в этих рисунках пробивается некая трудноуловимая с близкого расстояния система.
Мы все ближе. Глубина – 10 метров. Видимо, у поверхности Армады будет ноль. Интересно, где здесь вход? Амулет на груди наливается нестерпимым жаром. Внезапно я понимаю, как попасть внутрь…
Глава 21
16 октября 1943 года. Чернобыль
Солнце уходило к лесу, но все еще заметно припекало. Уютно пахло угольным дымом и креозотом – эти запахи напоминали о счастливом времени летних каникул, когда мы всем детдомом выезжали в пионерлагерь. У платформы стоял паровоз, в его разогретом нутре что-то клокотало и щелкало, как в только что снятом с огня чайнике. Под платформой, где земля не была залита бетоном, торчали густые метелки желтой травы, и меня так и подмывало поджечь эту пересушенную солому, чтобы вспомнить еще один детский запах.
Я развалился на постеленной телогрейке в тени вышки. Все тело ныло от усталости, но усталость эта была правильная – под такую усталость как нельзя лучше идет перекур. Рядом, свесив ноги с края платформы, сидел Попов. Он был непривычно серьезен и без этой своей радостной улыбки совершенно не походил на себя. Солдат коротко и быстро затягивался, украдкой поглядывая на меня. Я подловил один из таких его взглядов, и ему ничего не осталось, как вступить в разговор.
– Товарищ лейтенант, но ведь взрывателей нету! – с жалобными нотками в голосе сообщил он.
– Нету! – беспечно согласился я.
– А зачем вы меня тогда за паровозом посылали?
– Дык паровоз-то, Вася, тут самое главное!
– Но взрывателей же нету!
– При чем тут взрыватели? Ты подумай, какой богатый будет взрыв!
– Как при чем? Я вам скажу по секрету, как родному: кому-то ведь надо этот взрыв создать!
– Это вопрос интересный, но не ключевой! Ты согласен, что шанс слишком хорош, чтобы его упускать?
– Я могу галопом сбегать до наших, принести нужные детонаторы. Чтобы рвануло от удара. Или еще как… Саперы знают. Они подскажут.
– Не пойдет, Василий. Сейчас уже почти четыре. Пока туда-сюда – до ночи не управишься. А когда Кламмер не вернется, они тревогу поднимут. И тогда до гансов не доберешься.
– Я быстро бегаю…
– Да нет, не вариант! Но ты все равно беги. Надо наших предупредить, чтобы не растерялись, когда рванет. Добили бы эту сволочь.
Попов ничего не ответил, только проводил взглядом Андреева, как раз вынырнувшего из темноты тоннеля на залитую солнцем площадку. Вслед за лейтенантом, пятясь, появился Коваль, он тянул катушку с полевкой – провод плавной синусоидой ложился на землю. Сержант присел на корточки и принялся крепить провод к клеммам динамо-машины.
А идея моя была проста, как все гениальное. После того как мы от всей души заминировали подземную лабораторию, у нас имелось еще тридцать шесть ящиков взрывчатки. Помимо взрывчатки у нас имелся паровоз. Причем не просто паровоз – а именно тот паровоз, который прекрасно знаком засевшим на берегу Припяти немцам. Если загрузить в него взрывчатку, подвести поближе к фашистам и взорвать – все их позиции накроются медным тазом. Ну может быть, не все, однако же большая часть – точно. Так чего тут думать?
Коваль привел возражения практического толка: он справедливо указывал на отсутствие дистанционных детонаторов – то есть для того, чтобы взорвать паровоз, требовалось, как он выразился, «личное присутствие». Попросту говоря: нужен был человек, который подаст ток на детонатор.
А лейтенант Андреев – тот был категорически против самой идеи. Вот и сейчас, дождавшись, пока Коваль закончит с проводом, он сказал ему пару слов, и они вместе двинулись к нам с Поповым. Лейтенант по пути махнул рукой старику-машинисту – и Фюрер, спрыгнув из кабины на платформу, затопал по железу, нелепый в своем меховом зипуне на таком солнце. Попов нервно прикурил еще одну папиросу, а я спокойно откинулся на телогрейке, подложил руки под голову и, высмотрев высоко в небе двух еле видных ласточек, принялся следить за их полетом.
Шаги приблизились и стихли. Я смотрел в небо. Чиркнула спичка, и потянуло ужасным махорочным перегаром – Фюрер засмолил свою козью ножку. Потом еще спичка – это, надо полагать, прикурили наши гости из будущего. Ласточки продолжали нарезать плавные круги.
– Послушай, Леша, – нарушил молчание Андреев. – Оно тебе надо?
– Оно всем надо! – заявил я. – Всему прогрессивному человечеству.
– Это ничего не изменит.
– То есть как это? – От неожиданности я забыл играть в безмятежность и повернулся к ним.
Коваль с Андреевым стояли против солнца, старик сидел на платформе рядом с Поповым, держа в руках самокрутку совершенно негуманных размеров.
Вонь ее перекрыла даже густой запах паровозного угля.
– Скинуть целый немецкий полк с позиций – это, по-твоему, ничего не изменит? – переспросил я.
– Как ты собираешься это устроить? – угрюмо спросил Коваль. – Сам на паровозе поедешь?
– Меня, хлопцы, сейчас вот что интересует, – подал голос дед. – Вы мой паровоз в расход пустить собрались, так? А разрешения спросили?
– Дедушка старый, ему все равно, – напомнил Коваль слова частушки.
Старик по-лошадиному мотнул головой, хмыкнул в бороду что-то невнятное и окутался таким облаком дыма, что Попов даже закашлялся. А мне стало жалко деда. Я представил, какие чувства он должен испытывать к машине, на которой проработал всю жизнь.
– Поймите, ребята, ведь у нас сейчас есть практически стопроцентная возможность уничтожить этих гадов! – сказал я напористо.
– Я тебе уже говорил, – ответил Андреев. – Это все мелочи на фоне того, что будет. Ты понимаешь меня?
– Все складывается из мелочей. Но вот ты сейчас уйдешь, а фашисты продолжат убивать наших.
– А наши фашистов. Это война, Опер. Что ты хочешь?
– Я хочу, чтобы ни одной сволочи не осталось, понимаешь?
– А толку? Всех укатает Армада, национальность не спросит. Не согласен?
– Согласен, – кивнул я. – Но с оговорками. Ты же русский вроде?
– И чего? – Лейтенант непонимающе посмотрел на меня.
– Это я так, уточняю. Мало ли… Хочу тебе историю рассказать, для ясности. Будешь слушать?
– Ну давай, – дернул бровью Андреев.
– Спасибо. Итак. Мы когда на фронт ехали, меня у Вязичей осколком задело. Повадился, понимаешь, немец бомбить переправу… Но да не в этом дело. В госпитале покантовался, то-се, выписался и – к нашим, на перекладных. Вдоль недавней войны. Много насмотрелся, много наслушался. И колодцы, заваленные трупами, видел, и все такое прочее. И вот как-то дорогу пришлось уточнять у дивчины одной. Молодая такая, знаешь, в самом соку, глаза громадные, на пол-лица – только их и видно, потому что в платок кутается. И говорила невнятно, неразборчиво, еле разобрал. Присмотрелся: рот порван до ушей – шрамы, как узоры, на все щеки, вот она платком и прикрывается, стыдится… Это, значит, первая оговорка. Понял?
– Понял, – кивнул Андреев, слушавший очень внимательно.
– Молодец, – похвалил я. – Тогда слушай вторую оговорку. Постучался, значит, я в хату, передохнуть. Отворила старушка – такая вся сгорбленная, старая, подслеповатая. Впустила. Сижу на лавке, у стола. Хозяйка кипятка принесла, я разложился с харчами своими, приглашаю вместе пообедать. Бабка отказывается, но из-за занавески достает девчонку малую, лет, наверное, пять-шесть, не больше – и ко мне толкает. Я ей кусок сахару протягиваю, она берет и говорит: «Данке». И приседает так культурно на своих тощих ножках. «Данке», понимаешь? И поэтому сейчас мне ответь: откуда ты взял такую глупость, что все это мелочи?
Андреев посмотрел на меня, посмотрел – да и отвел глаза. Но тут я наткнулся на красное лицо Коваля, и оно мне очень сейчас понравилось: злое, жесткое, и во взгляде та самая – правильная – интонация, которую я не раз подмечал у самых разных людей, солдат и командиров, попутчиков, что двигались вместе с нами через отбитые у немцев украинские деревни. А старик Фюрер сидел, сгорбившись, рассматривал свои стоптанные сапоги, и даже про самокрутку забыл.
– Ну а ты, дедушка, – окликнул я его, – по-прежнему веришь в хороших немцев?
– Верю, – пробормотал он себе в бороду.
– Подскажи тогда, как их от одноплеменных зверей отличить, – весело предложил я. – А то, не ровен час, не удержимся – всех перестреляем. Перед потомками стыдно будет.
И тут он догадался посмотреть на меня – внимательно и долго. И я, наконец, увидел, что в глазах его отображается понимание. Кивнув старику, я снова откинулся на спину и попытался найти своих ласточек. Но небо опустело.
– Покажи мне, как работает твоя адская машина! – услышал я голос деда.
– Ты о чем, Фюрер? – не понял Коваль.
– Как взрывчатку взрывать?
– Зачем тебе? – Коваль все еще не врубался.
– Я паровоз поведу!
Возникла долгая пауза. Наступившую тишину сломали раскаты артиллерии, долетевшие с берега. Я посмотрел на часы: ровно четыре. Немцы, как всегда, соблюдают точность. Ничего, будет вам вечером сюрприз!
– Ты хорошо подумал? – услышал я голос Андреева.
– Дедушка старый, ему все равно, – ответил старик.
Глава 22
5 октября 2016 года. Чернобыль
Мы сидим на полу, в тоннеле, высеченном в скале. Во всяком случае, создается такое впечатление. Проход сужается к потолку, до которого метра четыре. Стены – серый камень, очень похож на кремний, но с многочисленными вкраплениями мельчайших блесток, которые весело посверкивают в свете костерка.
С одной стороны тоннель уходит в темноту, с другой – перекрыт белесой, чуть колышущейся пеленой: то ли дым, то ли густая паутина.
В центре разложена походная печка. Таблетки сухого горючего горят ровно, облизывая дно котелка. Чекист периодически наклоняется, зачерпывает ложкой, пробует, качает головой. Рядом на отполированном полу стоят вскрытые консервные банки.
– А откуда ты знаешь, что там? – Чапай мотнул головой в сторону пелены.
– Но ты ведь тоже знаешь, – поддел я его.
– Да… странноватое ощущение, – признался Чапай. – Я даже знаю, какая там сейчас погода.
– Сейчас там ночь, – говорит Чекист. – Летняя ночь. Тепло. И ветер. Слышно, как за лесом рвутся бомбы… Слышите?
В коридоре тихо, но мы понимаем, что он имеет в виду: я и сам сейчас слышу грохот далеких разрывов. Лето 1943 года – оно совсем рядом, в двух шагах.
– Всю жизнь мечтал накопить столько денег, чтобы о них не надо было думать, – сказал Чапай. – Купить дом, пожить спокойно… В Швейцарии, например. Самое интересное, что перед самым Взрывом я проверял свои счета. У меня накопилось что-то около миллиона евро.
– Буржуй! – осудил Чекист.
– А у тебя сколько было? – засмеялся Чапай.
– Да уж поменьше!
– Ну а все-таки?
– Ну… тысяч восемьсот где-то.
На самом деле ничего необычного в таких цифрах не было. Я знал сталкеров, которые зарабатывали и побольше. У меня самого имелась на черный день пара сотен тысяч. Что уж говорить про таких удачливых бродяг, как Чапай с Чекистом? Но я был уверен – никакие швейцарские домики не смогли бы удержать их от возвращения в Зону. Не той категории люди, чтобы жить спокойно. Да и сама Зона никогда не отпустит сталкера.
Впрочем, это все лирика. Нет уже давно никакой Швейцарии… И тут я снова посмотрел на клубящийся туман: а ведь за ним все это есть! И Швейцария, и СССР. Там тот самый мир, которого мы лишились. И на фоне наших знаний война с Германией сейчас выглядит мелкой детской заварушкой. Она пройдет. И будет еще семьдесят лет нормальной жизни. Остаться там! – выскочила шальная мысль. Но сразу же вспомнились ее глаза, спрятанные за круглыми очками с голографическими черепами.
– Если все получится, будет тебе еще твоя Швейцария!
Я произнес это уверенно, но, если честно, никакой уверенности не чувствовал.
– Если все получится, Зоны не будет, – возразил Чапай. – А если Зоны не будет, значит, не будет и моих миллионов. Я же их на артефактах сделал.
– Парадокс! – глубокомысленно произнес Чекист. – По этому поводу предлагаю пожрать перед дорогой.
Мы лезем за тарелками. Чекист накладывает дымящиеся макароны, щедро приправленные тушенкой. Едим в молчании.
А ведь мы нашли ее! – осенило внезапно. Армаду! Буквально день назад я и подумать об этом не решался, чтобы не сглазить. Армада казалась пределом мечтаний, смыслом всей жизни. И вот сейчас сижу как ни в чем не бывало перед порталом, открытым в прошлое, и давлюсь горячими макаронами. Было в этом что-то от образа крутого героя американского боевика, который спокойно закуривает, прежде чем подпалить фитиль атомной бомбы. Только жрать макароны перед подвигом – это уж как-то слишком по-русски.
Звякнуло – это Чекист поставил пустую тарелку на пол. Я с любопытством наблюдал, как он пытается опереться о стену, чтобы спокойно покурить. Стена была наклонена к проходу, и позы у Чекиста получались очень неудобные. Ничего не выйдет – сам уже безуспешно пробовал приложиться. Наконец товарищу надоело, он отодвинулся и разлегся прямо на полу, подперев голову рукой. Чапай потянулся к его пачке, вынул две сигареты – себе и мне. Обернулся и на секунду замер, уперевшись взглядом в клубящийся туман.
– Связались мы с тобой, Глок… – покачал головой Чапай.
– Это да! – согласился Чекист.
– Никто вас не заставлял! – напомнил я.
– Не заставлял… – ворчливо передразнил Чапай.
Мы снова замолчали. Говорить было не о чем – сидели и курили. Но вот Чапай щелчком отправил окурок в тоннель – он упрыгал в темноту, разбрасывая искры.
– Пошли! – решительно скомандовал Чапай.
Мы с Чекистом нехотя поднялись, затянулись по последнему разу и зашвырнули окурки следом за чапаевским.
– Убирать не будем? – спросил Чекист про печку, котелок и тарелки.
– Не надо, – махнул Чапай. – Вернемся, горячего поедим. Пошли спасать мир!
Мы подхватили свои рюкзаки и развернулись к белесой завесе. Она казалась тонкой, почти прозрачной. Нужно было решаться. Набрав в грудь воздуха, я подступил к самой границе колышущегося тумана.
– Как ее хоть зовут? – спросил мне в спину Чекист.
Не ответив, я шагнул вперед…
Глава 23
16 октября 1943 года. Чернобыль
Край солнца провалился за кромку горизонта. И будто бы по команде слева от него в небо взметнулся клочковатый гриб разрыва. Потом донесся грохот – оглушительный, несмотря на большое расстояние.
Лейтенант Андреев достал свою флягу и второй раз за этот бесконечный день пустил ее по кругу. Горячий спиртовой ком оцарапал горло, мягко опустился в желудок. Я прикурил, закашлялся, вытер заслезившиеся глаза. И увидел, что Андреев, он же Чапай, в упор рассматривает меня сквозь дым.
– С вами пойду, – говорю я ему.
– Мы знаем, – отвечает он.
– Надо проверить, получилось ли. Да и вообще…
– Проверить, кстати, можно сразу. Хирург предупреждал, что на обратном пути через временной канал мы должны встретить сами себя. Это будет означать, что мы возвращаемся в измененную реальность.
– Почему это? – удивляюсь я.
– Мы шли из того мира, где катастрофа. А будем возвращаться в другой, который создали своими действиями. Поэтому должно образоваться два параллельных канала…
Со стороны реки прилетает раскатистый грохот канонады. Мы одновременно поворачиваем головы. С холма открывается прекрасный вид: тонущий в осенних садах поселок, поле, еле видная щетка деревьев на берегу… Из общей канвы выбивается только разросшееся на полгоризонта облако взрыва.
Ну что ж – значит, Попов добрался. Это хорошо. Значит, с этим делом тоже разобрались.
Я смотрю, как с кончика папиросы тянется похожая на паутину нить дыма. А перед глазами проплывает лицо полковника Мощина, шефа, человека, вытащившего меня с улицы, воспитавшего, фактически усыновившего. И сидит за своим столом, в углу кабинета, Сан Саныч, смотрит очень серьезно, как всегда, когда готовится сказать что-то банально-глубокомысленное. А потом понеслись воспоминания, легкие, как этот сигаретный дым: солнечный день в сквере, радуга над Москва-рекой, наполненная запахами столовая с облупившейся штукатуркой, елка, торчащая из сугроба, ряды бритых детских голов на торжественной линейке, плац, полный солдат… Промелькнули и исчезли. Осталось только одно: ее лицо, склонившееся надо мной на фоне звездного неба.
– Обещания надо выполнять, – заявляю я.
– Не понял? – переспрашивает Чекист.
– Неважно.
– Скажи мне, Опер. – Чапай глядит исподлобья, поглаживая пальцем усы. – А ты ведь это давно придумал, да?
– Ты о чем? – уточняю я, хотя уже догадался.
– Ну, паровоз заминировать и к немцам отправить.
– Давно, – соглашаюсь я. – Практически сразу, как узнал, что он к их позициям ходит.
– Ну да, – тянет Чапай. – Военная хитрость…
– А что?
– Уверен, что имел право посылать старика?
– Уверен, – киваю я. – Потому что, откажись он, я сам повел бы этот паровоз. Понимаешь?
– Понимаю, – помедлив, отвечает Чапай. – Мне кажется, что за эти пару месяцев я вообще начал вас понимать…
– А я другого не понимаю, – сообщает Чекист. – После всего, что тут… Объясни мне, Опер, как мы могли страну просрать?
– Они не просрали, – отвечает Чапай. – Они в этом году на границу СССР выйдут, а там и до Берлина недалеко. Это мы просрали…
Закат еще дотлевает на небе, но внизу уже растекаются сумерки. Темный силуэт Чекиста выделяется на фоне светлой бетонной площадки. Он пятится к нам, взбирается на пригорок, разматывая на ходу катушку с проводом.
– Надо отойти чуть в сторону, – прикинув расстояние до ворот, говорит он.
Мы шагаем по высокой шуршащей траве. В душистом воздухе витает еле ощутимый пороховой привкус. Далекая канонада затихла, и вместе с ночью на землю опустилась тишина.
Перед нами расстилается уходящая в темноту степь. Чекист останавливается, но забывшийся Чапай идет и идет вперед, цепляя ладонями изогнутые метелки ковыля.
– Эй! – окликает его напарник.
Чапай возвращается к нам. Отсюда не видно входа в тоннель, заметен только изгиб холма с торчащей на нем треногой. Не глядя, Чекист соединяет клеммы. Спустя пару секунд земля под ногами содрогается. Со стороны тоннеля прилетает протяжный грохот, сверкает багровый отблеск. Я вижу, как медленно заваливается набок вышка, да и сам холм вроде бы неспешно оседает, будто сдувается. Грохот плавно, нехотя, замолкает.
Прямо перед нами, в гуще травы, вдруг возникает еле заметное свечение. Оно быстро наливается жаром – пятно света растекается во все стороны, как лужа. Чекист отскакивает, Чапай дергает меня за собой. Вовремя – в следующее мгновение сухая трава вспыхивает, и почти сразу из центра пламенной лужи в небо выстреливает острый факел огня.
– Что это? – кричу я, перекрывая рев пламени.
– Аномалия! – кричит в ответ Чекист.
Лицо его освещают кровавые блики. Он смотрит на меня тревожно, но в то же время с какой-то детской радостью.
– Ну что, валим? – раздается крик Чапая.
– А за снарягой заходить не будем?
– Брось! Надо будет, новую справим. Но надеюсь, не понадобится.
– Ну пошли! – соглашается Чекист и дергает меня за плечо.
Мы идем по ночному полю. Вверху переливаются звезды. Внизу мечутся какие-то тени. Пару раз мне вроде бы мерещится высокий человекоподобный силуэт. Но я не уверен – слишком темно.
Рядом шагают напарники. Шуршит трава под сапогами, с чуть слышным треском рвутся стебли. Куда идем и сколько еще идти – я не знаю, но чувствую, что так надо. Амулет в руке наливается теплом, сквозь сжатые пальцы пробивается мягкий розовый свет. Замечаю, что правый кулак Чекиста тоже наполнен огнем.
Поворачиваюсь к Чапаю и внезапно обнаруживаю, что за ним уже нет ночной степи – там клубится какой-то темный дым. Я невольно замедляю шаг, но крепкая рука Чекиста подпирает меня в спину, не позволяет снизить темп.
Светлеет – свет идет со всех сторон. Кажется, начинает светиться сам этот туман. И вот мы уже движемся внутри дымного тоннеля. Стенки его подвижны, они волнуются, текут, переливаются, и эти завихрения сопровождаются сухим электрическим треском.
Со всех сторон туман. И под ногами уже нет травы – мы движемся по идеально ровной поверхности. Уши закладывает, как при наборе высоты. Воет ветер, но воздух совершенно неподвижен…
И вдруг впереди появляются они. Три фигуры будто бы проступают сквозь туман. Я вижу, как всем телом вздрагивает Чекист, как Чапай вскидывает руку в приветствии, но тут же одергивает сам себя. Они оборачиваются ко мне – в глазах восторг. Получилось! Получилось… Но я не чувствую по этому поводу никаких эмоций.
Они идут на нас. И мы идем на них. Они экипированы очень странно: шлемы, будто отлитые из бакелита, что-то типа подогнанных под фигуры телогреек с серыми пластинами на груди, узкие штаны заправлены в высокие шнурованные ботинки… Видимо, там, в будущем, так выглядит форма солдат. Они двигаются быстро, но не спешат.
Я узнаю Глока. Хоть видел только его труп. Молодое худощавое лицо – очень правильное, четко очерченное: такие лица рисуют комсомольцам на агитационных плакатах… «Не вмешивайся, не пытайся поменять», – звучит в голове голос Чапая. Мы равняемся. Они тоже видят нас, но, разумеется, тоже знают правила игры. Глок осматривает пространство за нами, переводит взгляд на меня.
Чапай с Чекистом из прошлого скупо кивают нам и отходят. Мои спутники отвечают таким же экономным кивком. И тоже идут дальше, замирают поодаль. Мы с Глоком стоим, разделенные только еле заметной дымной преградой. Мы понимаем друг друга без слов. Крутится дым, завивается вокруг, скрадывает контуры тех, кто нас ждет…
Так мы и стоим. Трое с той стороны, трое с этой. Сквозит туман над головой, потрескивает. Мы молчим. О чем говорить? Рассматриваем друг друга. То ли секунду, то ли неделю. Время относительно. Стоит Чапай – усатый, кряжистый, веселые морщинки в углах глаз. Стоит Чекист – грудь колесом, румяные щеки и массивный подбородок с ямочкой. И Глок, совсем не похожий на себя мертвого: с умным, подвижным взглядом. За какую-то долю секунды он все понял – я прочитал это в его глазах.
Я медленно распускаю петлю вещмешка, достаю потрепанный дневник. Узнаешь? Глок, помедлив секунду, вытаскивает из ранца свой дневник, такой же, как и у меня. Открывает на последней странице, быстро пишет что-то и, вырвав лист, протягивает мне. Проходя через разделяющую нас дымку, бумага съеживается, желтеет, ветшает. Осторожно беру листок. Глок кивает, поднимает руку с растопыренными пальцами. Губы его шевелятся.
– Доброй дороги! – говорю я, повторив жест.
А потом мы уходим. И они уходят. В противоположные стороны. Они туда, где осенью 1943 года по реке Припять расположился фронт. А мы…
Прямо посреди пути матовой спиралью завивается большая туманная воронка. В нее ныряет Чапай. Следом исчезает Чекист. Я остаюсь один.
Перед тем как шагнуть в мерцающую белизну, осторожно разворачиваю пожелтевший от старости листок, который протянул мне Глок. На нем всего одна выцветшая строчка, написанная знакомым почерком: «Ельск, ул. Ленина, 15. Ольга».
Примечания
1
Мир ищет лжи, так пусть его обманывают (лат.).
(обратно)2
Думающий человек не мочится против ветра (лат.).
(обратно)3
Открывай! (нем.).
(обратно)4
Кто знал бы Гектора, если бы Троя была счастливой? (лат.).
(обратно)5
Да, конечно (нем.).
(обратно)6
Фашистские свиньи! Всем конец! (нем.)
(обратно)7
Учите русский, болваны, в аду все надписи на нем! (нем.)
(обратно)8
Это неправда! (нем.)
(обратно)9
Дерьмо! (нем.)
(обратно)10
Открывай! (нем.)
(обратно)11
Доброй ночи!! (нем.)
(обратно)12
Избравшему один путь, не разрешается пойти по другому (лат.).
(обратно)13
Дайте мне ключ, Кламмер! (нем.)
(обратно)14
Я не понимаю (нем.).
(обратно)15
Ключ! (нем.)
(обратно)16
Вы знаете код двери? (нем.).
(обратно)17
Да! да! Сорок три, девяносто восемь, пятьдесят пять (нем.).
(обратно)18
Код! (нем.)
(обратно)19
Но, но… Мейер сказал правду. Клянусь вам! (нем.)
(обратно)20
Взрывчатка (нем.).
(обратно)






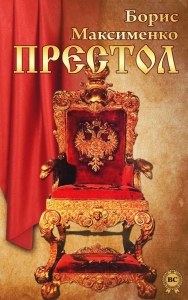

Комментарии к книге «Эхо войны», Дмитрий Викторович Заваров
Всего 0 комментариев